Нейл Оливер
Повелитель теней
Посвящается Труди, Эви, Арчи и Тедди – моим спутникам.
Люблю вас всей душой и всегда
Пролог
Темнота заключила его в свои объятия – так, как заключают в объятия своего возлюбленного. Видение горящего факела, погасшего несколько секунд назад, плыло перед ним, став сначала желтым, а затем голубым, на мгновение напомнив о тех языках пламени, которые устремились в него с купола собора Святой Софии. Не зная, на кого он может натолкнуться там, внизу, Джон Грант решил сделать своим союзником темноту и подождал, пока перед его глазами не осталось ничего, кроме непроглядной тьмы.
Тишина в подземелье действовала угнетающе. Он задержал дыхание и напряженно вслушался. Тишина давила на него с боков и наваливалась сверху. Он представлял собой угрозу ее владычеству, поскольку мог издать какой-нибудь звук, тем самым разорвав безмолвие. Лишь темнота крепко удерживала и оберегала его.
Он потянулся правой рукой в сторону, пока кончики его пальцев не коснулись прохладной стены туннеля. Затем согнулся, став чем-то похожим на складной нож, сложенный наполовину, и сделал один шаг вперед по узкому туннелю. Второй шаг, третий – и остановился.
Вместо камня его пальцы ощутили пустоту. Он, получается, дошел до поворота – поворота направо. Сместившись в сторону настолько, чтобы его пальцы опять коснулись стены, он снова медленно пошел вперед. Иногда его волосы чиркали по неровной поверхности потолка туннеля, и тогда он резко пригибался – как ребенок, пытающийся уклониться от удара.
В левой руке, которой он владел лучше, чем правой, Джон Грант держал нож с изогнутым, как коготь тигра, лезвием. Опыт подсказал ему, что в туннелях орудовать мечом очень неудобно, – это оружие скорее мешает одолеть противника, чем помогает. Продвигаясь вперед в темноте, юноша не производил ни малейшего шума: очень осторожно нащупывая пол, он как бы парил над ним, а не шел по нему. Дышал он широко раскрытым ртом, но тоже абсолютно бесшумно. Стараясь держать глаза закрытыми, он максимально активизировал свое сознание и отправил его вперед, в простирающуюся перед ним пустоту.
Пройдя с десяток ярдов
[1] после поворота, он вдруг резко остановился, повинуясь интуиции, которой доверял. Правда, порой интуиция проявляла себя довольно слабо, но на этот раз подсказала ему, что темнота вокруг теперь какая-то другая – еще недавно вполне спокойная, она вдруг стала неровной и возбужденной. То были своего рода волны зыби, похожие на те, которые образуются, когда в воду бросают камень и она начинает расходиться кругами. Волны накатились на его лицо и грудь, и он почувствовал биение встревоженного сердца.
Здесь, в туннеле, находился кто-то еще. Кто-то такой, кто пытался вести себя очень тихо, но при этом нарушал спокойствие уже одним своим присутствием… Он улыбнулся. Сжимая нож в левой руке, он стремительно протянул вперед правую, и его пальцы, коснувшись мужского лица, ощутили холодный пот и колкую щетину на подбородке. Тишину нарушил звук вдоха: он как бы разорвал ее надвое.
Он сделал шаг вперед и уловил кисловатый запах чьего-то выдоха. Его рука, державшая нож, пришла в движение сама по себе…
Бородач
[2] неспешно летает кругами в небе над Константинополем. Потоки теплого воздуха устремляются вверх от построенных из белого известняка зданий, нагретых жарким летним солнцем, и хищная птица, удерживаемая в вышине этими потоками, описывает все более широкие круги. Не упуская из виду ни малейшего движения, она внимательно следит за своей тенью – малюсеньким черным крестиком, скользящим по крышам домов.
В тысяче футов
[3] ниже ее находится собор Святой Софии, похожий на курицу-наседку, окруженную немощными цыплятами.
Бородача, по-видимому, привлекла форма купола, и он начал снижаться к нему по спирали. По мере того как он приближается к собору, давайте приблизимся к нему и мы.
Под этим куполом, внутри собора, какая-то убитая горем девочка карабкается через балюстраду, окружающую галерею второго этажа. Лучи солнечного света, проникающие внутрь храма через высокие окна, освещают ее стройное тело, так что со стороны кажется, будто она светится. Тень – ее собственная тень, которая в два раза больше самой девочки, – поднимается на расположенной позади нее стене. Ее длинные каштановые волосы блестят, как ядра конского каштана, а по ее высоким скулам текут, оставляя переливающийся след, две слезы.
Ее зовут Ямина, что означает «подходящая», «правильная», и ей двенадцать лет от роду. За цоколем имеются две ступеньки, ведущие вниз. На нижней ступеньке – вторая балюстрада. Эта балюстрада сделана из резного дерева и имеет четыре фута в высоту. Девочка медленно и осторожно забирается на ее верхнюю часть, ширина которой составляет всего лишь четыре дюйма
[4]. Разведя руки в стороны, чтобы удержать равновесие, она выпрямляется и устремляет свой взгляд на пространство, простирающееся ниже ступней. Балансируя, она смотрит на склонивших головы людей, которые стоят в ста футах ниже нее и оплакивают смерть ее матери.
Девочка, сама того не осознавая, начинает разглаживать обеими руками тяжелую материю своего платья. Ну да, принцесса ведь должна выглядеть как можно лучше.
Ямина – сирота, но очень скоро – вообще-то, всего лишь через несколько мгновений – она воссоединится с человеком, которого любит больше, чем кого-либо другого на всем белом свете. Ей только нужно решиться сделать смелый шаг – и они снова будут вместе.
Хотя ее старательно обучали христианскому вероучению, самоубийство отнюдь не кажется девочке грехом, ведь она хочет оказаться рядом со своей матерью, услышать ее голос и почувствовать приятный запах ее длинных русых волос…
Однако когда настал решающий момент, когда Ямина живо представила себе, как сейчас будет падать с большой высоты на каменный пол, она передумала. Сердце и голова девочки все еще были наполнены удушающим туманом грусти, но сквозь этот туман уже пробился тонюсенький лучик света. Она не смогла толком понять, что это за лучик, но благодаря ему у нее в мозгу наступило некоторое просветление. Ямина осознала, что, несмотря на ее желание оказаться рядом с матерью в потустороннем мире, она совсем не хочет умирать, – точно так же, как не хотела умирать ее мать, оставив своего единственного ребенка одного в этом мире.
Она почувствовала, что страх перед падением на каменные плиты, которые находятся на много десятков футов ниже, оказался сильнее ее горя, захлестнувшего все ее существо. Уставившись на галерею, расположенную как раз напротив, девочка глубоко и шумно вздохнула.
И тут вдруг неожиданно раздавшийся крик какой-то женщины заставил Ямину потерять равновесие и рухнуть вниз. Шумный вздох, донесшийся откуда-то сверху и явно не соответствующий общей обстановке, привлек внимание этой женщины. Взглянув вверх, она увидела, что на балюстраде стоит, балансируя, девочка в роскошном наряде, и невольно вскрикнула, поднеся руку ко рту.
Верующие, вырванные из своих размышлений этим неожиданным возгласом, обратили свой взор на женщину, издавшую его, а затем посмотрели туда, куда в этот момент смотрела она. И поэтому, когда Ямина, размахивая руками, полетела вниз, все внимание уже было обращено на нее.
Принц Константин заметил эту девочку чуть раньше вскрикнувшей женщины. Он занимался тем, что разглядывал парящие в лучах солнечного света пылинки, пытаясь тем самым отвлечься от горестного события (к нему оно не имело прямого отношения, но все же это было горе), когда его внимание вдруг привлекло какое-то неожиданное движение там, наверху, на галерее.
Он стоял в конце ряда людей, присутствующих на похоронах, и девочка оказалась почти над ним, чуть-чуть правее. Ее довольно странное поведение вызвало у него растерянность, и он, наблюдая, как она нерешительно забирается на балюстраду, ничего не сказал и не предпринял. Все это показалось ему сценой из какого-то сна, в котором невозможно на что-то повлиять.
Но едва раздался испуганный крик женщины и Ямина, потеряв равновесие, полетела вниз, Константин тут же вернулся в реальный мир.
Вместо того чтобы сразу рухнуть, эта девочка как бы подпрыгнула от испуга вверх, а потому ее тело, устремившись в сторону поблескивающего мраморного пола, находилось в строго вертикальном положении. Все собравшиеся ахнули, увидев, как она падает с высоты, размахивая руками. При этом она попала в широкую полосу света и посеребренная ткань ее платья засверкала на солнце. Все, кто стоял внизу, замерли. Сотни пар глаз широко раскрылись от удивления. Время текло так медленно, что секунда казалась целой вечностью.
Все словно окаменели – все, кроме Константина. Он машинально сместился правее, в сторону от остальных людей, чтобы оказаться как раз под падающей девочкой. С запрокинутой головой, с развевающимися волосами, похожими в это мгновение на водоросли в абсолютно спокойном море, она совершала хаотические движения, безуспешно пытаясь найти в пространстве что-нибудь такое, что могло бы замедлить падение. При этом подол ее платья и нижние юбки задрались, обнажив длинные худенькие ноги, которые поневоле были выставлены всем напоказ.
Впоследствии станут говорить, что произошло чудо, что сама Дева Мария протянула руку и спасла этого ребенка. Возможно, ее раздувшееся платье тоже сыграло определенную роль, существенно снизив скорость падения. Однако в конечном счете спасением своей жизни в данной ситуации она была обязана принцу Константину.
Ничуть не думая о том, чем это может закончиться, он протянул свои тонкие руки навстречу летящей девочке, чтобы не дать ей упасть на безжалостные каменные плиты собора. Солнце светило, платье девочки поблескивало, верующие затаили дыхание, наблюдая за действиями юного наследника престола Византийской империи.
Никто из тех, кто стал свидетелем данного инцидента, никогда его не забудет (а многие впоследствии с трудом будут верить в то, что они видели это собственными глазами). Но это и в самом деле произошло: сверкающий ангел падал на землю, а худенький подросток, протянув к ангелу руки, схватил его и, будучи не в силах моментально и полностью остановить стремительное движение, тут же рухнул вместе с ним на землю, как мешок с бельем.
Часть первая
Бадр
1
Шотландия, 1444 год
Джон Грант исчез – то есть сделал то, что и намеревался сделать. Улегшись на спину посреди высокой травы и цветов на лугу, он стал невидимым для всех, кроме птиц. Он наблюдал, как черный силуэт медленно описывает круги на фоне голубого неба. Цветочные головки на длинных стебельках – желтые и розовые – то нагибались, то выпрямлялись по прихоти легкого ветерка, который, казалось, подобным образом развлекался. Птица изменила маршрут полета и пропала из поля зрения Джона Гранта, и ему не осталось ничего другого, кроме как глазеть на бездонное небо. Поскольку смотреть уже было не на что, он расслабился, позволяя пустоте заполнить его.
Всегда существовали люди, ощущающие вращение Земли и ее движение вокруг Солнца. В то время как абсолютное большинство является жертвой иллюзии (иллюзии того, что мир неподвижен), единицы воспринимают мир именно таким, какой он есть на самом деле. Джон Грант ощущал, как окружающая его земля движется, как она перемещается слева направо относительно неба. Он также чувствовал ее полет в безграничной темноте. Лежа в постели ночью, он прислушивался к гулу и шелесту этого огромного шара, непрерывно вращающегося вокруг своей оси.
Если проанализировать, каким образом движется в пространстве Земля, то становится непонятно, почему это движение ощущают лишь немногие, а остальные пребывают в блаженном неведении. Земля вращается со скоростью одной тысячи миль
[5] в час, то есть быстрее вылетающей из ствола винтовки пули. Чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца приблизительно за триста шестьдесят пять дней, она мчится в космическом вакууме со скоростью шестидесяти семи тысяч миль в час. Солнечная система, крохотной частичкой которой является Земля, примостилась на краю огромного вращающегося водоворота, называемого галактикой. Один полный оборот вокруг сияющего центра галактики Солнечная система делает за двести двадцать пять миллионов лет, и с тех пор, как пять миллиардов лет тому назад возник наш мир, данная грандиозная одиссея совершалась менее двадцати раз.
В этот день 1444 года Джону Гранту вот уже несколько недель как исполнилось двенадцать лет – ничтожный отрезок по сравнению с тем временем, за которое совершает свое путешествие Земля вокруг центра галактики, но довольно долгий для мальчика, чувствующего головокружительную скачку планеты через пространство и время.
Он был довольно высоким для своего возраста и очень худым. Его мать приходила в отчаяние из-за того, что, как бы много он ни ел – а это была вся еда, которую она вообще могла ему дать, – он оставался тоненьким, как хворостинка. Ей хотелось, чтобы он был потолще, чтобы между ним и окружающим его миром было побольше плоти.
А еще он был светловолосым и кареглазым. Его глаза были не просто карими, а еще и с золотистыми крапинками, и поэтому иногда казалось, что в его глазах поблескивают малюсенькие солнышки. Смотреть на него было приятно. Кроме того, мальчик был быстрым – он быстро соображал и быстро двигался. Некоторые замечали, что, когда Джон идет, он делает это совершенно бесшумно.
Его худоба и хрупкость тревожили сердце матери. Иногда он казался ей тонюсенькой тростинкой, которая в любой момент может сломаться даже от еле заметного ветерка. Если бы он был горшком с супом, она добавила бы в него муки, чтобы сделать этот суп погуще. Днем она видела изящество его телосложения и принимала ее за хрупкость. Ночью, будучи не в силах заснуть, она размышляла над тем, как это ей до сего момента удалось сберечь его живым и здоровым. Женщина со страхом думала о различных опасностях, которые будут угрожать ему в ближайшие дни, недели и годы. Она всегда опасалась, что внезапный порыв ветра может унести его прочь – так, как он уносит опушенные семена одуванчика из его корзинки.
Если бы она знала его тайну – то, что ее сын способен чувствовать движение окружающего его безграничного пространства, цепляющегося за одежду, как цепляется ветер за листья на вершине кроны дерева, – ей, наверное, уже никогда не суждено было бы спокойно заснуть. Однако Джон Грант не мог выразить словами то, что он чувствовал, а потому его тайна оставалась нераскрытой. Возможно, он понимал, что другие люди в любом случае не поймут его ощущений, и потому не пытался рассказать о них.
Юный Джон Грант, конечно же, не знал ничего ни о планетах, ни о звездах, ни о галактиках, а уже тем более о скорости летящих пуль. Да и откуда он мог бы узнать об этом? У него не было возможности дать какое-то вразумительное объяснение тому, что он чувствовал, впрочем, как и ни у кого из живущих в 1444 году людей, которые не могли знать об этом правды. Земле придется сделать полный оборот вокруг Солнца еще больше ста раз, прежде чем Николай Коперник выяснит, что все мы являемся невольниками Солнца, а Солнце – невольником Вселенной.
Хотя Джон Грант и заметил, что птица неожиданно изменила маршрут своего полета, он не обратил на это особого внимания. Однако когда полдюжины других птиц, попавших в его поле зрения, пронеслись в том же направлении, что и та, первая птица, он, невольно заинтересовавшись этим и отвлекшись от восприятия движения окружающего его мира, приподнялся и осмотрелся по сторонам. Раньше из группы деревьев, находившихся в нескольких сотнях ярдов справа от него, доносилось пение птиц. Теперь эти птицы умолкли. Те из них, которые никуда не полетели, похоже, затаились и прислушались.
От затвердевшего на солнце грунта исходили какие-то колебания, которые донеслись до него в виде неясных пока звуков. Это еще не было вибрацией: просто в ушах слегка зазвенело, – но ощущения были вполне отчетливыми. Мальчик поднялся на ноги. Чувство тревоги еще не охватило его, но все органы чувств напряглись. Джон Грант инстинктивно повернулся, чтобы ему был виден его дом – длинное низкое строение со стенами сухой каменной кладки и крышей из дерна. Из печной трубы вяло поднимался вверх белый дымок. Эта картина должна была бы подействовать на него успокаивающе, но из-за усиливающейся напряженности в его груди она, наоборот, встревожила его. Ему вдруг подумалось, что его дом… спит, пребывая в неведении, а потому является уязвимым.
Уязвимым по отношению к чему? Этого Джон Грант не знал. У него появилось ощущение, которое он называл (для себя и только для себя) «толчком» и которое сопровождалось слабым металлическим привкусом во рту. Сомнения и страх вызвали у него растерянность, волоски на коже встали дыбом, а «толчок», внеся определенную ясность, заставил побежать равномерной рысцой вниз по склону холма к дому. Пробежав сотню ярдов, Джон Грант остановился. Вибрация под его ступнями теперь была еще более отчетливой, а ее источник находился позади него – где-то далеко за теми деревьями, где умолкли недавно галдевшие птицы. Он, Джон Грант, находился сейчас между этим источником и своим домом и представлял собой хотя и хлипкий, но все же барьер, защищающий дом. Утешившись этой мыслью, мальчик снова побежал вниз по склону.
2
Хокшоу
Приятели называли его Медведем. Настоящее имя этого человека – Бадр, что означает «полнолуние», – звучало слишком уж непривычно для них, и поэтому они заменили его на нечто такое, что казалось им более подходящим. Во-первых, он был очень крупным – его рост превышал шесть футов, а по ширине плеч едва ли не равнялся двери в цитадели крепости. Во-вторых, кожа у него была темнее, чем у тех людей, среди которых он теперь жил, и по своему оттенку напоминала дубленую шкуру. Его волосы и борода, длинные и косматые, были черными, как ночное небо. Глаза у него тоже были черными – такими, как у птицы, – и, казалось, не упускали ни единого луча света. На его скулах и около глаз виднелись скопления пятнышек темного цвета размером чуть больше веснушек. Черный платок, повязанный вокруг головы, не позволял волосам падать на глаза.
Он появился здесь, среди этих людей, несколько недель назад – приехал по разбитой дороге к крепости Джардин на боевом коне, который был таким же черным, как и волосы Бадра. Седло и прочая сбруя имели незнакомый для шотландцев вид, однако наиболее странным казался им сам этот человек. Люди, трудившиеся на полях, прекращали работу и, выпрямив ноющие спины, старались получше рассмотреть проезжавшего мимо незнакомца, чтобы потом навсегда запомнить этот эпизод из своей жизни. Длинная кривая сабля у него на боку приковывала к себе очарованные взгляды. Бадр же, зная, что на него таращатся, все время смотрел прямо перед собой. И это, похоже, не было проявлением высокомерия: он просто вел себя как человек, которому есть над чем поразмыслить, а потому не обращал внимания на окружающих.
Этот всадник находился все еще в сотнях ярдов от частокола, огораживающего дом-башню, когда раздались звуки железных болтов, вытаскиваемых из гнезд. Тяжелые деревянные створки ворот распахнулись. Из-за частокола появились трое мужчин, сидящих на лохматых малорослых лошадках. Они привычно выстроились в виде наконечника стрелы и пустили лошадей легким галопом.
Бадр с равнодушным видом наблюдал за приближающимися к нему всадниками. Тот из них, кто скакал впереди, натянул поводья и остановил свою лошадь почти прямо перед ним, а два его спутника, пришпорив лошадей и слегка разъехавшись в стороны, обогнули Бадра каждый со своей стороны и расположились позади него справа и слева. Их предводитель привстал в стременах, чтобы как-то компенсировать низкий рост своей лошади, но это не помогло ему. Более того, создавалось впечатление, что не только незнакомец, но и его лошадь – по всей вероятности, дорогой боевой конь – смотрит на него сверху вниз.
– Что тебе здесь нужно? – спросил он.
Черный конь остановился – как бы сам по себе, – и Бадр окинул пристальным взглядом заговорившего с ним мужчину.
– Я проделал очень долгий путь, – ответил Бадр. – Говорят, что в этом поселении живет могущественный господин. Я хотел бы предложить ему свои услуги.
Шотландец усмехнулся и поочередно посмотрел на своих спутников. Те кивнули ему. Они были моложе его, имели меньше жизненного опыта и легче верили словам чужаков. А вот их предводитель был менее доверчивым и вел себя настороженно.
– Меня зовут Армстронг, – сказал он Бадру. – Я отведу тебя к господину. Тебя примут радушно, но учти, гости моего хозяина должны сдавать свое оружие, поэтому тебе придется отдать саблю.
Армстронг положил правую ладонь на рукоять меча. Он существенно уступал незнакомцу в росте и телосложении, но вознамерился твердо стоять на своем. Он смотрел на чужака невероятно зелеными глазами не моргая, хотя солнце находилось за мавром и светило ему, Армстронгу, прямо в лицо. Незнакомец, очень крупный, крепкого сложения, держался достойно. Хорошо вооруженный, он излучал ту самоуверенность, которая приобретается вместе с жизненным опытом. С таким следовало обращаться осторожнее. Впрочем, что-то в поведении чужака вызывало доверие. Абсолютно все – от его тона до манеры сидеть в седле – свидетельствовало о том, что ему нет нужды заниматься самоутверждением. Армстронг, опытный воин и уважаемый среди своих соплеменников человек, пожил на белом свете достаточно долго, чтобы оценить любую ситуацию. Он сумел выжить в стычках, в которых ему довелось поучаствовать, и приобрел кое-какие навыки, позволяющие «раскусить» того или иного человека. Судя по всему, этот черноволосый великан пока что не собирался причинять им никакого вреда. Более того, он мог стать могучим союзником того, кто сумеет добиться от него преданности. По крайней мере местному господину наверняка будет интересно познакомиться с таким человеком.
Бадр Хасан кивнул и спешился. Несмотря на чрезмерную массу тела, его движения благодаря крепким мускулам и упругим сухожилиям были ловкими и быстрыми. Он соскочил с коня на дорогу почти бесшумно. Одной рукой он потянулся – как это делает девушка – назад, чтобы высвободить длинные волосы из-под воротника плаща, и направился к Армстронгу, расстегивая пряжку на перевязи своей сабли.
К тому моменту, когда Бадр подошел к оставшемуся сидеть на коне шотландцу, он уже обмотал кожаную перевязь вокруг ножен, имеющих форму полумесяца. Он протянул саблю Армстронгу с небрежным видом – так, как будто отдавал ее навсегда и без малейших сожалений.
– Твой господин – благоразумный человек, – произнес он, расплываясь в улыбке и показывая при этом удивительно белые зубы. – В течение всего того времени, которое я проведу под его крышей, моя сабля будет послушна ему.
– Да будет так, – сказал шотландец.
Взяв кривую саблю, которая весила столько, сколько примерно весит ребенок, и положив ее поперек шеи пони, Армстронг натянул поводья, заставив лошадь повернуться в сторону имеющихся в частоколе ворот. Не произнося больше ни слова и не оглядываясь, он поскакал к дому. Бадр, сев на своего коня, последовал за ним. Позади Бадра, на почтительном расстоянии от него, скакали два спутника Армстронга. Бадр задумался, пытаясь оценить действия мужчины, с которым он только что разговаривал. Он почувствовал в его манере вести себя самоуверенность и кое-что еще. Бадр был человеком опытным и знал, какой эффект производит его внешность на большинство людей – как мужчин, так и женщин… А вот этот Армстронг выдержал его взгляд и разговаривал с ним смело и уверенно, как человек, который отдает себе отчет в своих способностях и возможностях, а также не забывает о собственном статусе. Кто бы ни командовал таким человеком – даже если это был лишь кто-то один, – он наверняка представлял собой господина, с которым ему, Бадру Хасану, хотелось бы встретиться.
Крепость, в которую они сейчас направлялись, называлась Хокшоу. Ей дали это название так давно, что никто уже и не помнил, когда именно это произошло. Она являлась резиденцией семейного клана Джардин на протяжении четырех поколений. Родоначальником клана был француз, которого звали Гийом дю Жардон и который прибыл сюда из Нормандии. Сейчас здесь заправлял его правнук, сэр Роберт. Именно по его приказу и под его наблюдением на скалистом выступе, расположенном на изгибе реки Туид, и было построено мрачное трехэтажное здание, которое возвышалось над окружающей его местностью.
С наружной стороны частокола располагались группками дома некоторых из приверженцев сэра Роберта. Над этими невысокими строениями, возведенными из бревен и дерна, поднимались к небу тоненькие струйки дыма. Из дверей нескольких домов появились женщины – низкорослые и сухопарые, как гончие собаки. Пригибаясь под каменной перемычкой двери и не обращая внимания на вышедших вслед за ними тощих дворняжек, они таращились на незнакомца и сопровождавших его местных мужчин, которые двигались к дому-башне.
Стараясь сохранять непринужденный вид, Бадр смотрел по сторонам, разглядывая Хокшоу. Унылому квадратному зданию в центре явно недоставало изящества, но оно тем не менее было впечатляющим строением. Все в нем – от толщины стен до немногочисленных низких и узких окон и амбразур – свидетельствовало о том, что здесь заботились о своей обороноспособности. На первом этаже не имелось дверного проема – тяжелая деревянная лестница вела к узкому главному входу, расположенному на высоте дюжины футов с левой стороны здания. Если нападающие прорвутся через частокол и вознамерятся взять штурмом само здание, эту лестницу можно будет быстренько затащить внутрь, и тогда непрошеные гости вряд ли сумеют проникнуть в дом – это станет просто невозможно. Самое же замечательное заключалось в том, что здание располагалось на возвышенном месте, и это обстоятельство давало обитателям укрепления преимущество по высоте. К тому же благодаря светло-серой каменистой породе, которой здесь имелось в избытке, они наверняка почти полностью были обеспечены строительным материалом.
– Оставь своего коня Донни, – сказал Армстронг, взглянув через плечо на Бадра и показав ему на более молодого из двух мужчин, едущих вслед за ними. – А сам иди со мной в дом. Узнаем, может ли наш господин уделить тебе время.
С этими словами Армстронг оставил незнакомца позади себя и, ударив каблуками по бокам лошади, проскакал на ней рысью последние несколько десятков ярдов, отделявших его от лестницы. Бадр проводил взглядом шотландца, отметив про себя, как тот легко спрыгнул с лошади, и подошел к дому-башне.
– Джейми! – крикнул Армстронг, поднеся одну ладонь ко рту и сложив ее так, чтобы его голос звучал громче.
Несколько мгновений спустя в дверном проеме появилась голова с рыжеватыми волосами.
– Что я могу для вас сделать, господин? – спросил рыжеволосый.
Было непонятно, являлось ли в данном случае употребление слова «господин» проявлением особого уважения или же это было просто шутливое обращение к своей ровне.
Армстронг поднялся на несколько ступенек по лестнице и стал говорить так тихо, что Бадр уже не мог разобрать его слов. После обмена репликами тот, кого звали Джейми, исчез внутри здания. Бадр принюхался и в окружающем его пространстве уловил запах лошадей и запах раскаленного железа, которое куют. Он глубоко вдохнул.
Армстронг продолжал стоять на лестнице, время от времени поглядывая на незнакомца. Бадр услышал, как кто-то кашлянул, и медленно повернулся на каблуках. Мужчина, которого звали Донни, низкорослый и худосочный, с безвольным подбородком и бледно-голубыми глазами под копной огненно-рыжих волос, уже, по-видимому, передал коней в конюшню (которую не было видно с того места, где стоял Бадр) и вернулся. Бадру было трудно угадывать возраст мужчин и женщин, которых он встречал на Шотландской низменности. Многие из них казались настолько физически изможденными – измученными теми или иными лишениями, которые им приходилось переносить, и неизменно суровым климатом, – что вся их жизнь в зрелом возрасте была похожа на очень долгую старость. Судя по манере поведения, Донни был еще молодым, хотя на его лице застыла маска усталости и истощения.
Рядом с ним молча стоял третий из шотландцев, сопровождавших Бадра. Он был повыше ростом и покрепче телосложением, с темными волосами, а на лице его сразу же привлекал к себе внимание шрам, огибавший его правый глаз и тянувшийся дальше вниз по щеке. Шрам этот напоминал вопросительный знак. Оба шотландца стояли на почтительном расстоянии, упершись ладонями в бедра и расставив ноги на ширине плеч. Но опущенный взгляд свидетельствовал о том, что их самоуверенный вид не более чем показуха. Они, скорее всего, чувствовали себя неловко. Если бы Бадр вдруг повел себя несоответствующим образом, вряд ли они смогли бы ему как-то воспрепятствовать.
Бадр предпочел бы сохранять молчание и далее, но Донни не выдержал и заговорил с ним.
– А откуда ты вообще здесь взялся, большой человек? – спросил Донни, приподнимаясь на цыпочки в отчаянной попытке стать хоть чуть-чуть выше ростом.
Бадр неожиданно растерялся. Во время своих поездок по этому длинному острову он усвоил достаточно много из языка, на котором говорят англичане, однако диалект, который доминировал здесь, в стране шотландцев, был для него непостижимым. Поэтому вместо ответа Бадр медленно покачал головой и постарался придать лицу недоуменное выражение, которое, как он надеялся, покажет, что он настроен дружественно и что попросту не понял, о чем его спросили.
Донни недовольно хмыкнул и, приподняв брови, посмотрел на своего товарища. Затем сделал еще одну попытку.
– Откуда… ты… взялся? – Он показал костлявым пальцем на Бадра и для пущей выразительности кивнул.
Бадр, снова ничего не поняв, улыбнулся. К счастью, он вдруг услышал крик, донесшийся со стороны дома-башни, и, радуясь поводу уклониться от разговора, повернулся к лестнице и стоящему на ней Армстронгу.
– Сэр Роберт сейчас собирается поехать куда-то верхом! – крикнул Армстронг. – Он поговорит с тобой, когда спустится сюда.
– А это, черт возьми, кто еще такой, а?
Бадр не понял смысла этих слов, но правильно различил тон, которым они были произнесены. Он повернулся, чтобы посмотреть, кто их произнес, и увидел перед собой незнакомое лицо, которое при этом находилось примерно на такой же высоте от земли, как и его собственное.
– Ну так что? – продолжал спрашивать мужчина.
Этот вопрос, произнесенный таким же агрессивным тоном, как и предыдущий, был обращен, похоже, не только к Бадру, но и к двум стоящим неподалеку от него шотландцам.
– Он только что свалился на наши головы неизвестно откуда, Уилл, – пояснил Донни, голос которого звучал приветливо и примирительно, – видимо, он привык говорить таким тоном, исходя из опыта общения с этим раздражительным человеком. – Мы заметили его на дороге за частоколом и привели сюда. Армстронгу все об этом известно. Он там, в доме.
– Да, он там, в доме, – сказал Уилл, глядя не на Донни, а на Бадра. – А почему этот огромный и уродливый ублюдок молчит? Он сам что-нибудь может сказать? Или он способен только стоять и отбрасывать от себя тень?
Донни нервно засмеялся, а вместе с ним засмеялся и его товарищ, у которого на лице был шрам в виде вопросительного знака.
Мавр проигнорировал и это оскорбление, и тон, которым оно было произнесено.
– Меня зовут Бадр Хасан, – сказал он. – Я долго путешествовал и уже устал от этого. Я остался бы здесь на некоторое время – на несколько дней, на неделю или, может быть, на две, если мне позволит ваш господин.
Уилл нарочито медленно и с саркастическим видом кивнул.
– Ты молодец, – похвалил он.
От него пахло каким-то крепким напитком, а такие напитки никогда не способствовали проявлению положительных качеств характера Уилла Кеннеди. Впрочем, если у Уилла Кеннеди и имелись подобные качества, то он тщательно скрывал их на протяжении всей своей жизни.
Он почти не уступал Бадру в росте, но отнюдь не в крепости телосложения. Он был худым, как жердина, с почти впалой грудной клеткой. Поскольку на протяжении многих лет ему приходилось наклоняться – для того, чтобы приблизить свое злобное лицо к носам тех, с кем он намеревался поругаться или подраться, – Кеннеди в конце концов стал сутулым. Несмотря на свирепое выражение, застывшее на его длинном худощавом лице, этот мужчина с бледно-голубыми глазами был довольно симпатичным. Он носил бороду, в которой, как и в его темных волосах, уже появилась проседь.
Едва Бадр посмотрел на Уилла, как ему на ум тут же пришло слово «змея». В худом теле этого человека, похожем на кусок высушенного, очень жесткого мяса, чувствовалась затаившаяся пружинистая сила. А еще со стороны казалось, что он способен действовать так же быстро, как жалит гадюка.
Бадр снова удивился той среде, в которой вырос его давнишний друг Патрик и в которой все еще жили его женщина и ребенок. Встречи с агрессивно настроенными людьми – такими, как вот этот Уилл, аж брызжущий ядом, – напоминали ему о бесчисленных опасностях, которые поджидали его везде, где бы он ни путешествовал. Хотя он еще даже в глаза не видел ближайших родственников Патрика и уж тем более не жил рядом с ними, у него появилось неудержимое желание найти их и позаботиться об их благополучии.
В воздухе чувствовалась напряженность, но она исходила не от Бадра. Напряженность эта возникла среди шотландцев: они нетерпеливо ждали, кто же первым сделает какое-нибудь движение, кто первым заговорит.
В то время как Бадр и Уилл все еще оценивали друг друга, стараясь понять, что их может ожидать от этого знакомства, в верхней части лестницы незаметно для всех появился хозяин крепости. Посмотрев вниз, на Армстронга, сэр Роберт отметил про себя, что его человек внимательно наблюдает за тем, что происходит на склоне холма неподалеку от дома-башни. Проследив за взглядом Армстронга и увидев незнакомца, сэр Роберт хмыкнул. Даже с приличного расстояния Бадр производил довольно сильное впечатление своей внешностью, отличающейся во всем от внешности окружающих его людей. А еще сэр Роберт, конечно же, узнал Уилла Кеннеди – злонамеренного и задиристого, но при этом бесстрашного и ловко владеющего ножом и мечом. Стоящие друг против друга иноземец и Кеннеди показались сэру Роберту похожими на полную луну и полумесяц. Услышав, как кто-то хмыкнул, Армстронг посмотрел вверх, хотя сэр Роберт даже не сомневался, что он заметил его присутствие еще раньше.
– Чертов Кеннеди, – пробурчал Армстронг, однако его недовольство было скорее показным, чем искренним. – Если нет никаких проблем, он тут же создает их сам. Мне нужно туда пойти.
– Подожди-ка немного, – удержал его сэр Роберт. – Давай лучше посмотрим, за кого наш гость принимает местных жителей.
Не зная, что за ним наблюдают с лестницы, Уилл Кеннеди продолжал вести себя вызывающе. Он был одет в шерстяной плащ, накинутый поверх шерстяных штанов и старинной кожаной куртки без рукавов, сплошь покрытой пятнами. Эта куртка с толстой шерстяной подкладкой давала носившему ее человеку надежду на то, что она хоть в какой-то степени защитит его от ударов мечом и кинжалом. Она была плотно застегнута на узкой груди Уилла с помощью четырех кожаных петель, накинутых на четыре продолговатые деревянные пуговицы. Подойдя к громадному иноземцу поближе и оказавшись на расстоянии вытянутой руки от него, он аккуратно отвел в сторону левую полу своего плаща. На боку у него висел грозный нож с длинным лезвием, рукоятка которого торчала вперед под таким углом, чтобы его можно было быстро и без труда выхватить правой рукой. Уилл с напускным недоумением посмотрел на это оружие, как будто никак не ожидал увидеть его на своем боку, а затем перевел взгляд на Бадра, уставившись ему прямо в глаза.
– А вот теперь поосторожнее, – спокойно произнес Бадр.
– Поосторожнее? – переспросил Кеннеди и, прищурив свои голубые глаза, выпустил из руки полу плаща, чтобы она снова скрыла собой нож.
Бадр, не сказав больше ни слова, сделал полшага в сторону забияки. На кратчайшее мгновение мужчины коснулись друг друга – грудь к груди, – прежде чем Бадр, вновь отступив назад, вернулся туда, где только что стоял. Эти его движения показались всем окружающим, в том числе Армстронгу и сэру Роберту, первыми движениями какого-то танца. Он совершил их не более чем за секунду, но на лице Уилла появилось выражение растерянности. Никто, даже женщины, не позволяли себе прижиматься к нему так смело и так плотно без его согласия. У него теперь был такой вид, как будто кто-то дал ему пощечину.
Воцарившееся молчание было прервано удивленным возгласом рыжеволосого Донни, лицо которого залилось краской. Кеннеди резко повернул голову туда, откуда донесся этот звук, и, увидев, что Донни с ошеломленным видом таращится на землю между его, Уилла, ног, обутых в тяжелые сапоги, тоже посмотрел туда. На высохшей грязи лежали четыре продолговатые деревянные пуговицы вместе с их кожаными петлями. Он машинально поднял обе руки к своей куртке и обнаружил, что она распахнута. Там, где только что находились пуговицы, теперь остались четыре торчащих кожаных кончика, срез на которых был таким аккуратным, что их торцы бросались в глаза своим ярко-белым цветом.
– Ножи – штука опасная, – сказал Бадр. – Лучше их избегать.
Если у Бадра Хасана и имелся свой собственный нож – а похоже, что имелся, – то все равно никто не увидел его ни в тот день, ни в последующие за ним.
3
Бадр расположился к огню так близко, насколько это было возможно, но при этом не позволял языкам пламени касаться его. В противовес всему тому, чем он восхищался и даже наслаждался в этой северной стране, у него вызывал неприятие местный холодный климат. Прошла уже не одна неделя с того момента, когда он прибыл к воротам крепости Джардин, и получалось, что так или иначе ему довелось пожить в Англии и Шотландии во все времена года – как приятные для него, так и совсем неприятные. Человеку, выросшему в далекой южной стране, выжженной солнцем, было трудно вынести дождь и ветер, которые не прекращаются на протяжении многих дней, не говоря уже о холоде, который приходилось терпеть здесь зимой. Сейчас было лето – хотя и позднее лето, но все же лето, – однако вечерами становилось намного холоднее, чем ему хотелось бы.
Неуклонное стремление Бадра проводить ночь поближе к очагу стало предметом для насмешек и шуточек среди других людей. Во время трапез в большом зале он всегда старался занять крайнее место на скамье – то есть как раз рядом с очагом. При этом в течение вечера он не раз пересаживался с одной стороны стола на другую, чтобы оба его бока получали одинаковое количество тепла. Не менее важной, чем приемы пищи, для него была возможность погреть свое тело и насладиться теплом, исходящим от языков пламени, пляшущих вокруг потрескивающих и шипящих сосновых поленьев.
Ангус Армстронг – человек, который первым встретил Бадра при его приближении к Хокшоу, – сидел в стороне на темном деревянном стуле, который за много лет так потерся и отполировался, что теперь поблескивал, как поверхность глубокого водоема. Армстронг, напрягая ноги, покачивался вперед-назад, слегка прикасаясь при этом затылком к стене. Наблюдая за иноземцем, он заметил в его глазах блеск и расценил это если не как злонамеренность, то как озорство. Он спокойно выжидал.
– Хороша ли красная кровь в твоих венах, старый Медведь? – крикнул Джейми Дуглас с другого конца стола. – Или же это просто вода, причем вода холодная?
Насмешка Джейми явно не была злой, и Бадр это знал, но на лице мавра появилось такое выражение, как будто слова парня оскорбили и возмутили его. Он пробыл среди жителей Шотландской низменности достаточно долго, чтобы изучить природу их юмора. По крайней мере он быстро сообразил, что шотландские мужчины зачастую принимались насмешничать, чтобы высмеять или спровоцировать друг друга. Обитатели этого укрепленного поселения зачастую шутили в надежде прослыть остроумными, а еще потому, что они, подтрунивая над ним, пытались заставить Бадра выйти из себя и прибегнуть к силе. Если человек хотел, чтобы ему позволяли над кем-то насмехаться, он должен был сначала продемонстрировать, что сам способен выдержать насмешки над собой. Крупное тело Бадра в сочетании с очевидной недюжинной силой делали его похожим на спящего великана из сказки, и вероятность того, что рано или поздно Медведя можно спровоцировать на применение силы, превращали его в объект для насмешек номер один.
Бадр замер, склонив голову над тарелкой с тушеной олениной (здешний климат, возможно, был ему не по душе, но он готов был признать, что местная еда немного компенсировала испытываемые им от этого климата неудобства). Он вдруг стал похож на фигурку, вырезанную из высушенной на воздухе древесины. Он даже перестал жевать. С другого конца стола снова послышался голос осмелевшего Джейми.
– Ты похож на большую старую охотничью собаку, греющую свои кости у очага! – крикнул Джейми, пихая сидящих слева и справа от него товарищей и наклоняясь вперед над столом в сторону Бадра, силуэт которого на фоне света, исходящего от пляшущих языков пламени, казался гигантским.
На самом деле такое поведение было довольно дерзким. Бадр был в два раза старше Джейми и в два раза шире его. Любое физическое столкновение с этим гигантом наверняка закончилось бы для худощавого Джейми печально.
– Тогда остерегайся моих зубов, юноша, – спокойно сказал Бадр, не отводя взгляда от своей еды.
В следующее мгновение он зарычал. Это был прием, который Бадр освоил еще в детстве и затем довел его до совершенства. Впрочем, среди этих людей он применял его в первый раз, и эффект от него был ошеломительным. То был звук первобытный, животный, и пока Бадр рычал, все человеческое в нем, казалось, то ли улетучилось куда-то далеко, то ли спряталось в глубине него, то ли вообще навсегда исчезло. Мужчины, сидящие за столом, почувствовали, как вдоль хребта у них побежали ледяные мурашки, как будто кто-то с молниеносной скоростью провел очень холодными ногтями от шеи до поясницы и обратно, а на каждом квадратном дюйме кожи волосы встали дыбом.
Мужчины замерли. Это произошло со всеми, кроме Ангуса Армстронга, который, будучи от природы весьма проницательным, по внешним признакам быстро сообразил, что к чему, и потому продолжал спокойно покачиваться вперед-назад. Всем остальным шотландцам, сидящим за столом, показалось, что охвативший их страх, вытеснив воздух, заполнил собой все помещение. Звуки рычания, утробные, почти первобытные, заставили их затаиться в напряженном ожидании. Не шевелясь и даже не поднимая головы, Бадр вновь рыкнул – еще громче и еще более угрожающе. Выждав несколько мгновений, он начал медленно подниматься, а потом оттолкнулся от стола с такой силой, что скамья с полудюжиной сидящих на ней взрослых мужчин отодвинулась вместе с ним. Раздался скрип древесины, трущейся о камень. Высвободив себе место, Бадр отошел на пару шагов от скамьи и повернулся к Джейми, по-прежнему сидящему среди своих товарищей. Никто из них не решился встретиться с Бадром взглядом. Каждый сидел неподвижно и ждал, молясь о том, чтобы назревающая буря обошла его стороной. Бадр зарычал в третий раз. Он стоял, слегка наклонившись вперед и умышленно не выпрямляясь в полный рост, чтобы казаться еще шире и мощнее. Мужчины, замершие в ожидании, казалось, превратились в камень. Многие даже перестали дышать. Похоже, начало происходить то, на что они с такой настойчивостью нарывались. Бадр стал медленно приближаться к Джейми. Сейчас он и вправду был похож на медведя.
К Джейми наконец-то вернулся дар речи. Сейчас этот парень казался еще более щуплым, чем был прежде. Он как бы втянулся внутрь собственного тела. Его лицо вдруг посерело, и он с трудом выдавил из себя:
– Да ладно тебе, Медведь… Я просто пошутил… Я не… не хотел тебя обидеть…
Его голос стал тоненьким, как у ребенка.
Бадр скривил губы в усмешке, и рычание мгновенно прекратилось. На несколько секунд воцарилось молчание. Время капало с подпорных балок крыши, как холодная вода.
– А я и не обиделся! – рявкнул Бадр, да так, что все сидевшие за столом подпрыгнули и уставились на мавра, напряженно ожидая, что же он скажет дальше. – Вот я и подловил тебя, юноша! – И Бадр разразился веселым смехом.
Пока Медведь разыгрывал эту сцену и держал всех в напряжении, время, казалось, остановилось, но теперь мир снова ожил и пришел в движение. Смех Бадра и вызванный его весельем спад напряженности были такими внезапными, что некоторые из присутствующих в зале мужчин почувствовали облегчение. Шумно выдохнув, все стали хлопать ладонями по столу и смеяться вместе с гигантом, который вдруг резко изменился и стал совершенно безобидным. Мужчины, пытаясь скрыть недавнее замешательство, делали вид, будто они имеют отношение к этой шутке.
Что касается Бадра, то он, по-прежнему стоя в легком наклоне, вдруг бросился вперед, к Джейми, и, заключив его в свои железные объятия, поднял со скамьи, как маленького ребенка. Затем он поставил его на пол, но так небрежно, что юноша едва не рухнул на пол спиной, и одной рукой взъерошил его светлые волосы. Джейми тяжело вздохнул, чувствуя огромное облегчение и глупо улыбаясь от радостного осознания, что ему удалось остаться живым и невредимым. Армстронг спокойно наблюдал за происходящим. В его глазах отразились языки пламени, когда он перестал раскачиваться и передние ножки стула твердо уперлись в пол.
Атмосфера в помещении изменилась, как будто набежавшая было грозовая туча исчезла и небо просветлело. Еда и питье снова стали главным объектом внимания, и люди, окружающие Бадра, опять оживились, сосредоточив свое внимание на угощении, стоящем перед ними.
Слух о том,
что произошло во время трапезы за этим столом, очень быстро разнесся по всей крепости. Сэр Роберт Джардин, являющийся хозяином дома, а также дядей и опекуном юного Джейми, узрел в этом инциденте только то, что его подопечный оказался в центре всеобщего внимания. Удовлетворившись тем, что это была не более чем своего рода забавная игра, он предпочел промолчать и ничего не сказал. Несмотря на то что о мотивации поступка гиганта оставалось только догадываться, последний по-прежнему представлял собой определенную ценность. Его присутствие в вооруженных отрядах, которые патрулировали границы владений сэра Роберта, добавляло веса Джардину в глазах его соседей. Спокойствие и взвешенность действий и поступков иноземца передавались молодым воинам, и они, выполняя свои обязанности, чувствовали себя намного увереннее.
Повернувшись к человеку, сидящему справа от него, сэр Роберт сказал:
– Я не был бы без… Напомни мне, как они теперь называют Хасана? Он один почти равен целому вооруженному отряду.
– Медведь, – пробормотал в ответ мертвенно-бледный мужчина, который занимал место рядом с хозяином. Низко склонившись над тарелкой, он чем-то был похож на нахохлившуюся ворону. – Они называют его Медведем, господин.
Произнося это прозвище во второй раз, он с насмешливым видом медленно покачал головой. Затем он бросил взгляд на своего господина, который теперь представлял собой лишь тень от того симпатичного человека, каким он был много лет назад. Да, всего лишь тень.
– Ты не испытываешь симпатии к нашему гостю, Дейви? – спросил сэр Роберт, и его тонкие губы скривились, изображая некое подобие улыбки.
– У вас нет необходимости в том, чтобы я испытывал к нему симпатию, – ни к нему, ни к кому-либо еще, господин, – последовал ответ. – Я не доверяю иноземцам, особенно таким смуглым и таким громадным, как Бадр Хасан. Впускать кого-то подобных размеров в свой дом – это все равно что впускать в него быка… если вам интересно мое мнение.
– Меня интересует не столько цвет его кожи, сколько сила его руки, держащей меч, – сказал сэр Роберт. – Что касается быка, то этот чужеземец ведет себя как джентльмен. За все то время, которое он находится среди нас, я не слышал из его уст ни одного грубого слова. Говорят, что он ни разу не повышал голоса – как на мужчин, так и на женщин.
Произнося эти слова, сэр Роберт то и дело окидывал взглядом помещение и тех, кто наслаждался его гостеприимством. Глаза сэра Роберта не знали усталости. Являясь по своему происхождению и менталитету жителем приграничного района между Шотландией и Англией, он жил небольшими войнами – то нападал на своих соседей, то оборонялся от них. Национальная принадлежность – шотландцы, англичане – не имела никакого значения для такого грабителя, как он. Его миром были собственные владения, которые он ревностно оберегал и забота о которых была для него превыше всех других обязанностей. Он жил так, как считал нужным, не признавая никакой власти, кроме своей. Здесь, где королевство шотландцев граничило с королевством англичан, повсюду виднелись незажившие раны и зазубренные концы поломанных костей, оставленные бесчисленными кровавыми междоусобицами, длившимися на протяжении многих лет. До монархов отсюда было далеко, их власть в этих местах была слабой, и те люди, которые проживали в оспариваемых пограничных районах, понимали, что ждать помощи и защиты от королей бесполезно. Именно по этой причине местное население обращалось за помощью к таким сильным личностям, как сэр Роберт Джардин, который мог решить те или иные вопросы личной безопасности, игнорируя при этом закон и порядок.
– Девять недель, – медленно произнес Дейви. – Он находится здесь вот уже девять недель. Как бы там ни было, про любых животных можно сказать, что они выглядят довольно симпатичными, если находятся за пределами дома и если смотреть на них издалека. И гораздо менее симпатичными, если они устраиваются у хозяйского очага.
– Моего очага, Дейви, – заметил сэр Роберт. – Моего.
Дейви Кеннеди, управляющий конюшнями сэра Роберта Джардина и являющийся старшим братом Уилла – того самого Уилла, который похвалялся своим ножом, но остался без пуговиц, – перевел взгляд на свою тарелку.
– А о Гранте нет известий? – спросил сэр Роберт, подбирая остатки пищи последним ломтиком хлеба. Он облизал губы, вспомнив, как когда-то он прикасался ими к гораздо более сладкой плоти.
Его последняя реплика была скорее утверждением, а не вопросом, но Дейви почувствовал недовольство своего господина, сквозившее в каждом из произнесенных им слов.
– Вот уже несколько лет о его местонахождении ходят одни лишь слухи, – сказал он. – Я сомневаюсь, что он находится в нашей стране. Для него не найдется ни одной безопасной постели на сотню миль вокруг Хокшоу. Никогда уже больше не найдется. Он с этим смирился. Патрик Грант покинул эти края и никогда больше сюда не вернется.
Сэр Роберт дожевал остатки еды и, взяв чашу, стал медленно пить самое лучшее вино, какое только нашлось у его соплеменников. Однако при этом он ощущал во рту вкус крови и желчи.
– Почему же тогда так неспокойно на моей земле, а? – спросил он. – Кто терроризирует ее жителей? Кто сжигает их дома и забирает скот?
Он повернулся к Кеннеди и впился в его лицо таким обжигающим взглядом, что тот невольно заерзал на стуле.
– Его сучка здесь, – сказал сэр Роберт и добавил, двигая языком туда-сюда, чтобы очистить зубы от полупережеванной пищи: – И его отпрыск тоже. Поэтому Грант наверняка вернется сюда. А если и не вернется, то рано или поздно пришлет за ними кого-то вместо себя.
– Более вероятно, что он уже валяется мертвый в какой-нибудь канаве, – возразил Дейви Кеннеди. – И на этом все закончилось.
– Это было бы для меня таким разочарованием, какого я не смог бы вынести, – заявил сэр Роберт. – Если я не затяну петлю на шее Патрика Гранта собственными руками, мне не лежать спокойно в могиле.
Он сделал еще один глоток вина, прежде чем возобновить разговор.
– Продолжай наблюдать за его семьей, – сказал сэр Роберт. – Она – ключ к этому замку, приманка в ловушке. Не сомневаюсь, что придет день, когда я увижу, как все они болтаются на виселице. Помяни мои слова – их всех повесят за то, что он сделал мне.
4
Если принять во внимание все то, что впоследствии произошло в этот день, то начался он для обитателей Хокшоу уж слишком спокойно. Ночью поступили сообщения о неприятностях на южных границах – кто-то угнал скот, напал на жилища и поджег их. Туда надлежало отправить вооруженный отряд, чтобы оценить причиненный вред и заставить других людей заняться его устранением.
Сэр Роберт Джардин считал, что он сам себе господин, а потому организовывал патрулирование своих земель так, как считал нужным. Люди, которых он собирал вокруг себя для этой цели, были связаны с ним либо кровными узами, либо серебряными монетами из его кошелька, но полностью он не доверял никому из них, даже своим родственникам. Он анализировал ситуацию каждый день и вносил коррективы только в тех случаях, если был уверен в их необходимости.
Прежде чем пойти отдыхать в спальню, расположенную на верхнем этаже дома-башни, он поручил Дейви Кеннеди подобрать отряд по собственному усмотрению и отправиться во главе этого отряда в район, из которого пришло сообщение о неприятностях. На рассвете, когда бледное солнце начало подниматься на небе, Дейви Кеннеди вместе с отрядом, состоящим из дюжины всадников, выехал через ворота частокола, окружающего Хокшоу. Разговор у мужчин не клеился: каждый замкнулся в себе, держась по возможности подальше от остальных и от утренней прохлады.
Дейви внутренне негодовал: отправиться куда-то во главе такого заурядного патруля – это, как ему казалось, было ниже его достоинства. Впрочем, для его господина было весьма характерно принимать подобные решения. Если бы сэра Роберта упрекнули в этом – хотя кто посмел бы? – он сказал бы в ответ, что считает очень важным, чтобы даже самые высокопоставленные из его людей сохраняли способность в любой момент вступить в бой и чтобы у них имелся свежий опыт непосредственного общения с жителями и перемещения по его владениям.
Какая польза землевладельцу от человека, который отдалился от повседневных реалий, связанных с вооруженной борьбой и необходимостью никогда не терять бдительности? Поэтому сэр Роберт настаивал (а Дейви Кеннеди, вопреки своему недовольству, понимал и даже поддерживал подобный подход – по крайней мере, в принципе), что титул отнюдь не освобождает от необходимости несения патрульной службы. Даже сам сэр Роберт не гнушался время от времени лично проехаться по границам собственных владений, чтобы в очередной раз обозначить рубежи и укрепить власть уже одним только своим появлением в том или ином месте.
Однако раннее утро есть раннее утро, и Дейви, которому с каждым прошедшим годом все больше и больше нравилось нежиться по утрам в постели, пребывал в мрачном расположении духа. Он немного отвел душу, настояв на том, чтобы его задиристый брат поехал вместе с ним, и сейчас, посмотрев через плечо назад, на хвост вереницы всадников, увидел, что Уилл, такой же мрачный и молчаливый, как и он, ехал позади всех, отставая от них на несколько корпусов коней. Дейви продолжал смотреть на своего брата, пока они не встретились взглядом. Движением головы Дейви показал Уиллу, чтобы тот занял место рядом с ним во главе отряда. Когда они поехали рядом, Дейви долго смотрел на брата, окидывая его внимательным взглядом с головы до ног.
– Ну что, тебе нравится то, что ты видишь, да? – пробурчал Уилл, не отрывая глаз от гривы своего пони.
– Да, это замечательно, что ты рядом, брат, – спокойно произнес Дейви. – Никто никогда не спутает тебя с лучом солнечного света.
– Если, кроме всякой ерунды, тебе сказать нечего, то я предпочел бы помолчать, – заявил Уилл, глядя прямо перед собой.
Несколько минут они ехали молча.
– Я поеду вперед, Дейви, – наконец сказал Уилл. – Посмотрю на месте, что там и как.
– А зачем, если мы все туда едем? – спросил Дейви, снова встречаясь с братом взглядом. – Это не в твоем стиле – пытаться что-то сделать за кого-то другого.
– Мне нравится быть одному, – невозмутимо ответил Уилл. Его лицо казалось бесстрастным. Затем он вдруг саркастически улыбнулся и добавил: – Может, это поднимет мне настроение.
– Эта поездка вряд ли кому-то из нас по душе, – сказал Дейви. – Но надо понимать ее цель. Она заключается в том, чтобы продемонстрировать нашу готовность к действию. Мы должны показать, что будем реагировать на любое вторжение в наши земли.
– А что, теперь это уже
наши земли, да? – усмехнулся Уилл.
Он ударил шпорами в бока своей лошади, и та, дернувшись от боли и неожиданности, вырвалась вперед из вереницы всадников…
К тому времени, когда Дейви Кеннеди и остальные всадники прибыли на ферму Хендерсона, с которой в прошедшую ночь пришло тревожное сообщение, там не наблюдалось даже признаков жизни и царил самый настоящий хаос. Хотя соломенная крыша главного здания осталась большей частью целой, создавалось впечатление, что ее недавно пытались поджечь. Вся она была мокрой, что являлось явным свидетельством того, что ее поливали водой, чтобы потушить огонь, но при этом было заметно, что по-настоящему она почти и не горела. Как бы там ни было, значительная часть соломы слегка просела внутрь дома под своим собственным весом. Какие-то пожитки семьи Хендерсонов, фермеров-арендаторов, плативших сэру Роберту за право влачить на этом участке земли жалкое существование, были разбросаны возле входной двери. Разбитая глиняная посуда, изорванная одежда, обломки мебели – все это свидетельствовало о набеге. Однако, несмотря на признаки насилия и разрушения, кругом не было видно ни души. Скот тоже пропал – его, по всей вероятности, угнали те, кто явился сюда в прошедшую ночь. Что касается Хендерсонов, то они, скорее всего, нашли пристанище – и утешение – у кого-то из своих соседей.
– Уилл! – крикнул Дейви Кеннеди. – Покажись!
В ответ – тишина. Вообще ни единого звука.
– Посмотрите там, внутри, – приказал Дейви, обращаясь к Джейми Дугласу и еще одному из всадников, Донни Уэйру.
Эти двое соскочили со своих лошадей и направились к входной двери. Дверной проем был низким, не более пяти футов в высоту, и обоим мужчинам пришлось на ходу пригнуться, чтобы проникнуть в почерневшее нутро дома.
Несколько мгновений спустя из дверного проема появился Донни. Его обычно румяные щеки были белыми, как брюхо рыбы. Не говоря ни слова, он посмотрел долгим пристальным взглядом на Дейви Кеннеди, а затем снова исчез внутри дома.
Кеннеди торопливо спешился и побежал к входной двери. Неправильно оценив в спешке высоту дверного проема, он сильно ударился головой о перемычку двери, так что его люди, не только увидев это, но и услышав, сочувственно поморщились.
Когда его глаза привыкли к царящему внутри дома полумраку, он увидел Джейми, склонившегося над его братом Уиллом. Уилл Кеннеди лежал в углу разграбленного дома. Его глаза были широко раскрыты, а горло перерезано от уха до уха. Лицо мертвого Уилла покрывали синяки – свидетельство того, что, прежде чем перерезать ему горло, его очень сильно избили.
Дейви, ничего не говоря, медленно подошел к телу брата. Услышав, как он приближается, Джейми, который держал в своих руках холодную правую руку Уилла, обернулся и посмотрел на него.
– Видишь? – спросил он, приподнимая окровавленную руку с разбитыми суставами и показывая ее Дейви. – Затеял драку.
– Да, – ответил Дейви. – Я уверен, что ее затеял именно он.
Тем временем выскочивший из дома наружу Донни Уэйр уже рассказывал остальным всадникам взволнованным шепотом о том, что произошло.
– Хотелось бы мне встретиться с человеком, который сумел одолеть Уилла Кеннеди, – произнес один из них. И, сделав паузу, добавил: – А может, и не захотелось бы.
Из дома появился Дейви, а вслед за ним – Джейми Дуглас, старательно вытиравший руки о свои штаны.
– Донни Уэйр и ты, Джейми, – сказал Дейви, – раз это вы нашли моего брата, то сообщите о его смерти в Хокшоу. А все остальные поедут со мной. По коням!
Он плюнул на землю, а затем подошел к своей лошади и проворно вскочил в седло. Сопровождавшие его мужчины тоже сели на своих лошадей. Дейви Кеннеди тронулся в путь первым. У него еще будет время позаботиться о том, чтобы с телом брата обошлись так, как положено. Сейчас же ему лучше поехать в другое место, и он направил свою лошадь к изрытой колеями дороге, по которой они ехали, чтобы попасть на ферму Хендерсона. Его спутники, опустив головы и поглядывая украдкой друг на друга, последовали за ним. Когда они выехали на дорогу, Кеннеди, ударив пятками свою лошадь, пустил ее в галоп.
5
Джон Грант уловил вибрацию от скачущих галопом лошадей еще до того, как услышал стук их копыт. Даже пустившись бежать что есть духу домой, он ощущал содрогание земли подошвами своих босых ног, которыми шлепал по траве. «Толчок» сейчас был очень настойчивым – как рассердившийся родитель, который ругает своего ребенка. Когда мальчик уже почти добежал до дома, он вдруг почувствовал необходимость остановиться и, оглянувшись, посмотрел на склон холма и деревья, растущие там, вдалеке. Теперь, когда он стоял неподвижно – пусть даже с колотящимся сердцем, – сотрясение земли, от которого его кожу покалывало как иголками, стало четко различимым. Сконцентрировав все внимание на этом «толчке», он смог сориентироваться и понять, в какой именно стороне находится источник ощущаемой им вибрации. Он уже смотрел точно в том направлении, когда наконец услышал стук копыт приближающихся лошадей. Всего лишь несколько мгновений спустя группа всадников появилась на вершине холма и устремилась вниз по склону, прямиком к его дому. Они теперь находились примерно в четверти мили от Джона Гранта. Увидев мальчика, первый из всадников начал бить пятками в бока своей лошади, заставляя ее скакать еще быстрее. Сочтя это еще одним плохим предзнаменованием, Джон Грант повернулся и снова побежал к своему дому.
– Мама! – крикнул он, преодолев последние десять ярдов. – Сюда едут какие-то люди!
Он влетел в дом и бросился к матери, которая разводила огонь в очаге, собираясь вскипятить воду. Услышав встревоженный голос сына и удивившись той стремительности, с которой он ворвался в ее «владения», она бросила почерневшую веточку, которую держала в руках, и повернулась к нему. Джесси Грант была высокой, с длинными руками и ногами – то есть такой же, как ее сын. Ее лицо было скорее симпатичным, чем красивым, и привлекательной для мужчин ее делала не внешность, а манера держать себя – спокойно и уравновешенно.
Она увидела на вспотевшем лице мальчугана выражение тревоги и выпрямилась.
– Почему ты такой перепуганный, сынок? – спросила женщина, хотя по его поведению уже поняла все, что ей было необходимо знать.
Если он испытывал страх, то, значит, на это имелись серьезные причины. Она устремилась ему навстречу, ненадолго заключила сына в объятия, а затем, увлекая его за собой, вышла из дома, пригнувшись на ходу в низком дверном проеме.
Джон Грант вышел вслед за матерью и встал рядом с ней – встал так, чтобы они слегка касались друг друга. Всадники, сбавив скорость, перешли на рысь. Когда они наконец подъехали к матери и сыну, скакавший во главе отряда мужчина остановил свою лошадь и спешился.
– Добрый день, господин Кеннеди, – сказала Джесси. – Что привело вас к моему дому… да еще и с таким большим количеством друзей?
Показная беззаботность и душевность женщины были достаточно правдоподобными для того, чтобы убедить в ее искренности приехавших сюда людей – по крайней мере большинство из них, – но Джон Грант почувствовал, как малюсенькие волоски на ее руке, той руке, которая касалась его собственной, встали дыбом. Хотя материнская ладонь в данный момент была спрятана под фартуком, напрягшиеся сухожилия на ее предплечье подсказали ему, что ладонь эта сжалась в кулак.
Дейви Кеннеди улыбнулся, но ничего не сказал.
Он подошел к женщине довольно близко – настолько близко, что смог положить свою тяжелую руку на плечо Джона Гранта и отстранить его от матери.
– Отец мальчика так до сих пор и не появился? – спросил он.
Джон Грант, который по своему росту не доходил Дейви Кеннеди даже до плеча, посмотрел мужчине прямо в глаза.
Дейви грубо схватил мальчика за подбородок и повернул его голову сначала в одну сторону, а затем в другую, словно бы прицениваясь, на что этот юнец может быть способен.
– А он превращается в симпатичного парня, да?
Произнеся эти слова, Дейви оглянулся на своих людей. Те поняли шутку и услужливо засмеялись.
Джон Грант дернул подбородком, высвобождаясь из руки Дейви Кеннеди, и опять встал так, чтобы слегка касаться матери.
Все, что было связано с появлением здесь Дейви Кеннеди, излучало угрозу – как статическое напряжение, которое ощущается в воздухе перед грозой. Джону Гранту, от природы наделенному остротой чувств, стало немного тошно, и он, сам того не осознавая, отступил от этого человека на несколько шагов, как будто пытался удалиться от источника дурного запаха.
Дейви Кеннеди повернулся к своим людям и сделал несколько шагов в их сторону.
– Прошедшей ночью было совершено нападение на ферму Томаса Хендерсона, госпожа Грант, – сказал Дейви, поначалу стоя спиной к Джесси и Джону, а затем делая оборот на каблуках и снова поворачиваясь лицом к женщине и ее сыну.
– Почему вы сообщаете об этом мне? – спросила Джесси.
– Хм… Кое-что из того, что мы там увидели, напомнило мне о некоторых из делишек твоего мужа, – ответил он, снова подходя к Джесси и Джону.
Джесси вздохнула и, прежде чем что-то сказать в ответ, в течение нескольких мгновений смотрела вниз, на землю между своими ступнями. Какие бы грехи ни числились за Патриком Грантом (а их за ним числилось немало), он не был ни забиякой, ни грабителем.
Жене куда-то запропастившегося мужа не нужно искать проблемы – они находят ее сами. Она была для этого мальчика и матерью, и отцом бульшую часть прожитой им до сего дня жизни. Почти все это время она воспринимала его как Божий дар и благодарила Бога за то, что он у нее есть. Однако в моменты, подобные вот этому, ей очень хотелось, чтобы ее защищал мужчина, и она мысленно обругала Патрика Гранта, где бы тот сейчас ни находился.
Во время этой паузы в разговоре Джон Грант почувствовал, что неподалеку находится кто-то еще. Волоски на его шее вздыбились, по всему телу пошли легкие мурашки – как будто кто-то стал проводить холодным ногтем по его коже. Кем бы ни был этот кто-то, он не мог находиться внутри их дома: Джон видел, что мать была дома одна. Если этот кто-то находился не в доме, значит, он находился позади него. Джон почувствовал «толчок» и повернул голову, но не увидел никого и ничего. Тем не менее поблизости кто-то был. Джон знал это точно.
– Как вам прекрасно известно, Дейви Кеннеди, мой муж отсутствует здесь уже много лет, почти столько же, сколько этому мальчику, – наконец сказала Джесси. – Почему вы пытаетесь свалить на него вину за все невзгоды, случающиеся во владениях клана Джардин, я понять не могу.
Джесси посмотрела на своего сына и улыбнулась ему. От ее нежного взгляда и улыбки Джону показалось, что они здесь вдвоем с матерью, – и больше никого. Его тревожные ощущения тут же угасли, успокоились, как успокаивается вода в реке, когда выглядывает солнце и утихает ветер.
Дейви Кеннеди вплотную подошел к Джесси и изо всей силы стукнул ее кулаком по голове. Она рухнула наземь, как срубленное дерево. Женщина не потеряла сознания, но все внутри нее пришло в смятение, в ушах загудело.
Джон Грант бросился на Дейви Кеннеди и даже сумел хорошенько врезать ему по носу, так что брызнула кровь. Дейви машинально отмахнулся, нанеся мальчику хлесткий удар по лицу тыльной частью ладони и сбив его с ног. Затем он стал вытирать кровь со своего лица.
– Утащите эту сучку отсюда к ее очагу и сделайте с ней все, что захотите, – сказал он, глядя сверху вниз на лежащих на земле Джесси и Джона. – И если она так и не скажет, где все это время прячется ее ублюдок муж, то делайте это снова и снова, пока она не вспомнит.
Всадники поспрыгивали со своих лошадей. Получив неожиданное предложение поразвлечься, они тут же устремились к Джесси. В конце концов, их товарища Уилла Кеннеди убили и кто они такие, чтобы подвергать сомнению решения его горюющего брата по части поимки убийцы?
Оставив мальчика лежать на земле, они схватили Джесси и быстро потащили ее в дом. Их руки грубо вцепились в ее одежду и стали задирать на ней юбки. Вскоре раздался глуповатый смех одного из них и послышался стон женщины, находящейся в полусознательном состоянии.
Джон Грант, все еще толком не придя в себя от полученного удара, перевернулся на живот и попытался было подняться на колени, но Дейви Кеннеди тут же ударил его ногой в живот. Это был не очень сильный удар, цель которого заключалась лишь в том, чтобы унизить и заставить подчиниться. Тем не менее от этого удара у Джона Гранта перехватило дыхание и он опять рухнул наземь.
Но тут вдруг мальчик увидел огромную тень, выскользнувшую из-за угла дома. Какой-то мужчина рванулся к Дейви Кеннеди и, схватив его за шею, легко приподнял над землей.
Звуки, вырвавшиеся из сжатого горла Дейви, были хриплыми и еле слышными, но все же различимыми:
– Ты…
Хруст, заставивший Дейви замолчать навеки, был громче его последнего слова. Со своей только что сломанной шеей он рухнул наземь, как падают наземь внутренности из вспоротого живота животного.
Все еще не успев отдышаться и поэтому не в силах произнести хотя бы слово, Джон Грант увидел, как убивший Дейви Кеннеди гигант устремился в дверной проем, вытащив перед этим из-за пояса длинную кривую саблю. Сабля эта уже была испачкана постепенно засыхающей кровью, пролитой, видимо, совсем недавно… Что произошло дальше, Джон Грант уже не увидел и не услышал: его сознание погасло.
6
На последней миле обратного пути в Хокшоу Донни Уэйру не терпелось прокричать всем о смерти Уилла Кеннеди. Как всякой избиваемой собаке, ему частенько приходилось громко скулить. Этой жестокой рукой, скорой на расправу, зачастую была рука Уилла Кеннеди, и желание поскорее поделиться поразительной новостью о позорной смерти его назойливого мучителя бурлило в груди Донни, как пробившийся из-под земли родник. Донни и его спутник скакали галопом, и, когда они достигли Хокшоу, окруженного частоколом, их лошади покрылись пятнами пота и тяжело дышали. Часовой, увидев, как они торопятся, поспешно открыл для них ворота.
– Попридержи пока свой язык, Донни. Мы должны первым делом рассказать обо всем сэру Роберту, – предупредил товарища Джейми Дуглас, который, будучи моложе Донни, был явно умнее его. За время их скачки в Хокшоу он говорил об этом несколько раз, повторяя эти слова снова и снова, словно молитву. – Кое-кого ждет суровая расплата, – прошипел он, когда они проезжали, не сбавляя скорости, через ворота. – Если из-за тебя сэр Роберт узнает о происшедшем последним, то тебе, возможно, тоже придется поплатиться.
– Где мой дядя? – крикнул Джейми группе воинов, стоящих возле дома-башни.
Он и Донни резко остановили своих лошадей и торопливо спешились, выпрыгнув из седел. Не успел кто-то что-то ответить, как Донни увидел cэра Роберта, который появился из единственного и хорошо защищенного входа в дом. Донни схватил Джейми за плечо и взглядом показал ему на сэра Роберта.
Джейми, в свою очередь, схватил неуклюжую лапу Донни и сбросил ее со своего плеча, встретившись при этом глазами с сэром Робертом. Явно почувствовав что-то недоброе, хозяин дома с вопрошающим видом приподнял подбородок и уставился на тяжело дышащих Джейми и Донни.
– А где Кеннеди и все остальные? – холодно спросил он. Его лицо было мрачным, как небо, покрытое грозовыми тучами.
– Господин Кеннеди отправил нас вперед, сэр, – сказал Джейми, продолжая смотреть ему прямо в глаза, хотя его мучило почти непреодолимое желание опустить взгляд в землю. Несмотря на то что сэр Роберт Джардин приходился Джейми дядей, парень всегда побаивался его, потому что он был человеком, которому трудно было чем-то угодить и которого старались не сердить. – Уилл мертв, сэр. Его убили.
Сэр Роберт удивленно заморгал, но постарался не выдавать своих эмоций. Джейми знал своего дядю достаточно хорошо, чтобы понимать, что внешняя невозмутимость этого человека отнюдь не отражает истинное состояние его души.
– Расскажи мне обо всем, – спокойно произнес сэр Роберт, подходя к своему племяннику.
Все остальные продолжали молча наблюдать за ним, стараясь не двигаться и тем самым не привлекать к себе внимание в такой момент.
– Господин Кеннеди отправил сегодня утром Уилла вперед нас на ферму Хендерсона, – начал свой рассказ Джейми. Он прокашлялся и сглотнул, а затем продолжил: – Когда мы тоже прибыли туда, там не было никаких признаков… жизни. На ферме царил беспорядок, дом, похоже, пытались поджечь, повсюду валялись разбросанные вещи.
– А Уилл Кеннеди? – спросил сэр Роберт.
– Поначалу Уилла нигде не было видно, – ответил Джейми. – Дейви сказал нам… – Он покосился на Донни. – Господин Кеннеди велел мне и Донни проверить дом внутри. Так мы и сделали. И нашли в доме Уилла… одного. И мертвого. У него было перерезано горло. Ему почти отрезали голову.
Когда он сообщил эту жуткую подробность, Донни Уэйр невольно щелкнул языком и с осуждающим видом покачал головой. Джейми уставился на него, а сэр Роберт слегка повернул голову в его сторону, что тут же поставило Донни на место: он в страхе прижал ладонь ко рту, жестом показывая, что не издаст больше ни звука.
Сэр Роберт несколько мгновений стоял молча, а затем перевел взгляд со своего племянника на Донни и остальных людей, которые по-прежнему стояли в полном молчании. Некоторые из них придвинулись поближе, чтобы лучше слышать, но при этом остерегались вставить хотя бы слово и не раскрывали рта.
– По коням! – приказал сэр Роберт, голос которого прозвучал громко и четко. – Наш Уилл Кеннеди мертв. Его убил тот, кто осмелился стать моим врагом.
Решительно произнесенные слова сэра Роберта пронеслись по внутреннему двору подобно порыву ветра. Люди переглядывались и шепотом обменивались короткими фразами, которые, сливаясь, превращались в возбужденный гул.
Какая-то черная птица, сидящая на самой высокой точке каменной кладки дома-башни, резко вскрикнула, а затем, расправив крылья, взлетела, словно намереваясь разнести новость по всей округе. Прежде чем она успела вновь взмахнуть крыльями, ее пронзила тонкая длинная стрела, древко которой было изготовлено из ясеня, наконечник – из блестящей стали, а оперение – из серых гусиных перьев. Кто-то издал удивленный возглас, и все, посмотрев вверх, увидели, как взлетевшая в небо ворона превратилась во что-то наподобие связки черных лоскутьев, нанизанных на тоненькую палочку. Безжизненное тело птицы шлепнулось на землю в нескольких футах от фундамента дома-башни. Какая-то грязная собака тут же засеменила к нему, чтобы посмотреть, а что это за пожива вдруг свалилась с неба.
Все присутствующие, в том числе сэр Роберт, уже в следующее мгновение стали искать глазами того, кто выпустил стрелу, хотя каждый в Хокшоу знал, кто мог так метко стрелять из лука. Здесь имелся только один такой человек, и им был Ангус Армстронг. Он подошел к остальным, небрежно держа в левой руке большой лук, изготовленный из красного тиса.
– Мы отправляемся на охоту? – спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Всем было понятно, что ответить на этот вопрос следует сэру Роберту.
– Да, господин Армстронг, нам в самом деле предстоит охота, – сказал тот. – Мы поедем разыскивать остатки нашего патруля. Могу заверить всех уже сейчас: я непременно выясню, что там произошло, еще до наступления темноты.
Он и его помощники начали выкрикивать распоряжения. Все, придя в себя после столь ошеломительной новости, стали готовиться к отъезду, причем не куда-нибудь, а на войну. Насильственная смерть отнюдь не была редкостью в этих постоянно оспариваемых землях, но сэр Роберт Джардин из Хокшоу славился своей чрезвычайной мстительностью – даже по понятиям тех времен. Он воспринимал любое нападение на его людей как нападение лично на него. Кроме того, для этого господина немаловажное значение имел тот факт, кто именно из его людей подвергся нападению. Уилла Кеннеди ненавидели и боялись очень многие из живших в Хокшоу и рядом с ним людей, но никому из взрослых даже в голову не приходило, что еще при его жизни настанет день, когда кто-то одолеет этого забияку в схватке.
– Где мавр? – спросил сэр Роберт, направляясь к конюшням.
Ангус Армстронг, вытащив стрелу из тела вороны, теперь тоже шел к конюшням вместе с Джейми Дугласом и несколькими другими людьми вслед за своим господином. Никто из них не смог сразу же ответить на вопрос сэра Роберта.
– Где Бадр Хасан? Где он? – вновь спросил сэр Роберт, в голосе которого на сей раз звучало раздражение.
– Его здесь нет, – сказал Армстронг.
Именно он первым из всех обитателей Хокшоу встретился с иноземцем-великаном, когда тот появился на дороге, ведущей в крепость, более двух месяцев назад. Приведя его тогда на территорию, огороженную частоколом, Армстронг с тех пор чувствовал на себе ответственность за то, где находится и чем занимается этот чужак. Хотя Медведь, как стали называть его в округе, довольно быстро добился уважения и даже симпатии со стороны местных обитателей, Армстронг все же не ленился потихоньку наблюдать за всеми перемещениями иноземца.
Сэр Роберт, остановившись, резко повернулся к Армстронгу, которого он ценил больше всех остальных своих людей и к мнению которого старался прислушиваться, особенно когда возникали какие-нибудь конфликты.
– Его здесь нет, мой господин, – повторил Армстронг. – Вообще-то, я не видел его со вчерашнего дня и могу с уверенностью сказать, что прошедшую ночь он провел не в Хокшоу.
Бадр Хасан взял себе за привычку самостоятельно покидать Хокшоу и возвращаться назад, когда ему вздумается. Если же кто-то задавал ему по этому поводу какие-то вопросы, он объяснял свое поведение любопытством.
– Я здесь чужак, и в незнакомой для меня стране многое хочется увидеть и узнать, – говорил Бадр.
Сэру Роберту, конечно, докладывали о том, как ведет себя Бадр Хасан, но он был согласен держать мавра на очень длинном поводке, а потому мирился с его самовольными отлучками. Он считал, что Бадр, появляясь то там, то сям на землях клана Джардин, тем самым служит утверждению его, сэра Роберта, вездесущей власти в здешних местах.
Армстронгу было очень неприятно осознавать, что он понятия не имеет, где сейчас может находиться Хасан. Лично он, Армстронг, не совершал никаких оплошностей, но… но его мучила мысль о том, что отсутствие Медведя в сложившейся ситуации было не просто совпадением. Впервые за долгое время у него возникло ощущение, что его – как бы правильно выразиться?.. – перехитрили. Он решил, что не допустит этого, тем более дважды за один день.
Сэр Роберт продолжал неподвижно стоять, и Армстронгу вдруг показалось, что он читает мысли своего господина… такие же, как и у него самого.
После довольно продолжительной паузы сэр Роберт, так ничего и не сказав, повернулся и пошел к конюшням – еще быстрее, чем раньше. Один из конюхов как обычно уже держал наготове жеребца, высокого, широкогрудого боевого коня, и сэр Роберт проворно вскочил в седло, желая как можно быстрее отправиться в путь. Конь, вздрогнув от неожиданности, встал на дыбы, но сэр Роберт без особого труда заставил негодующее животное подчиниться. Затем он повернул коня, и тот поскакал легким галопом к воротам в частоколе.
Мысли сэра Роберта переключились на вчерашний вечер и на разговор с Дейви Кеннеди, а затем ему вспомнился Патрик Грант. Вместе с мыслями о Гранте пришли и воспоминания об одной женщине. Образы обоих этих людей в его памяти были расплывчатыми – как портреты, висящие на стене, на которую падает слишком много солнечного света. Перед тем как он сел на свою лошадь, у него в голове не имелось ни малейшего представления о том, где в его владениях начинать поиски врага. Теперь же, сам толком не зная почему, он прокричал, куда они поедут. Первым делом его отряд отправится к дому человека, когда-то причинившего зло ему и его наследникам, лишив их возможности получить богатство, на которое рассчитывал сэр Роберт и которое уже почти было в его руках.
7
Джону Гранту снилось, что он то ли летит высоко в небе, то ли плывет в глубокой воде. Как бы там ни было, он чувствовал себя невесомым и грациозным, паря, изгибаясь и ныряя в среде, не оказывающей ему ни малейшего сопротивления. Ему это поначалу нравилось, но затем вдруг стало очень неприятно: он внезапно почувствовал сильное головокружение, поскольку мир – по крайней мере мир в его голове – стал вращаться все быстрее и быстрее. Он чувствовал, как содержимое его живота переходит то в одну сторону, то в другую. Он закрыл глаза, когда ощущение полета, поначалу такое прекрасное и удивительное, превратилось в ощущение стремительного падения. Он падал с большой высоты и быстро приближался к земле. С трудом сдерживая тошноту, Джон открыл рот, чтобы закричать…
Когда Джон Грант пришел в сознание, он почувствовал себя беспомощным и слабым – таким, каким бывает едва не утонувший человек, только что выбравшийся из бурного потока. Он лежал на спине, и его голова покоилась на чем-то приятно мягком. Мир, как ему казалось, все еще вращался, но это было не знакомое ему свистящее вращение окружающего мира вокруг своей оси, к восприятию которого он уже давно привык, а ужасно напряженное вращение. Открыв глаза, мальчик увидел не свою мать и даже не бескрайнее небо над головой, а огромное темнокожее лицо, которое, казалось, вращается на большой скорости вокруг своего собственного черепа.
Он сделал резкий вдох и почувствовал, что вращение начало замедляться. Он попытался подняться, опираясь на локти, но сильная боль в голове заставила его зажмуриться и рухнуть обратно на траву. Его взяли за плечи чьи-то сильные руки, а когда он открыл глаза во второй раз – точнее, не открыл, а лишь чуть-чуть приоткрыл, – крупное темное лицо казалось почти неподвижным.
– Ну же, привстань и сядь, – ласково произнес темнокожий незнакомец.
– А где моя мать? – спросил Джон Грант, сразу же все вспомнив. – Где она?..
– С ней все будет хорошо. Она спит. Это для нее сейчас самое лучшее.
– Так они… Они ее…
– Они ее не тронули, – сказал Бадр Хасан. – Она сейчас лежит в своей постели. Думаю, она получила довольно сильный удар по голове.
Джон Грант поднял руку к лицу и нащупал корочку засохшей крови.
– Где они? – спросил он.
– Они тоже пребывают в покое, – ответил Бадр. – Но только в более глубоком покое, чем тот, которым наслаждается сейчас твоя мать.
– Ты их…
– Да, малыш, – сказал мавр. – Я отправил их туда, где они предстанут перед судом.
– Ты их убил? – продолжал расспрашивать Джон Грант.
Бадр в ответ лишь кивнул и с небрежным видом пожал плечами.
– Внутри вашего дома так тесно, что одному человеку не так уж трудно справиться со многими. Ведь они все как бы собрались в одну кучу, да? – Он потянулся за своей кривой саблей, вытащил ее и показал Джону Гранту. – Мой верный друг находился рядом со мной, и поэтому все закончилось хорошо. – Он позволил себе мрачно усмехнуться.
Несмотря на то что Джон Грант был поражен услышанным и головокружение по-прежнему вызывало не сильную, но тошнотворную боль где-то у него внутри, он почувствовал приближение матери. Повернув голову к дому, мальчик увидел, что она стоит в дверном проеме, прислонившись к его краю. Заметив, что ее сын лежит на земле, а возле него опустился на колени огромный незнакомец, она закричала:
– Сейчас же отойди от него!
Джесси бросилась было к ним, но после всего лишь пары шагов ноги отказали ей и она рухнула на землю.
Бадр Хасан тут же подбежал к ней.
– Я вам друг, – коротко сказал он.
Она попыталась встать, но смогла подняться только на колени.
Тем не менее Джесси не оставляла своих попыток ударить его, однако когда ее кулаки достигли цели, ущерба от них было не больше, чем от двух капель дождя. Бадр присел на корточки возле женщины и, легко поймав ее руки, прижал их к ее бокам. Она посмотрела ему в лицо, и спокойное выражение его глаз постепенно заставило ее расслабиться. Она обмякла и позволила незнакомцу помочь ей подняться с земли.
Джон Грант уже стоял на ногах, хотя еще не очень твердо. Слегка разведя руки в
стороны, он поковылял к матери. Собравшись вместе, эти трое стали похожи на какое-то невероятное трио. Вздохнув, Бадр отошел чуть в сторону от матери и ее ребенка, и те обнялись.
– Кто ты? – стоя спиной к иноземцу-великану, спросила Джесси, которая все еще прижимала к себе сына.
– Я – тот, кто доставляет всем неприятности, – ответил Бадр, глядя себе под ноги. – Но я прибыл сюда, чтобы погасить один долг.
Джесси повернулась и молча посмотрела на него. В ее взгляде читался немой вопрос.
– Ты жена Патрика Гранта? – спросил он. – А этот мальчик – его сын?
– Патрик? Тебе что-то известно о Патрике? – воскликнула она, недоверчиво уставившись на гиганта.
Бадр долго ничего не отвечал – достаточно долго, чтобы в душе у Джесси появились тоненькие ростки страха.
– Патрик Грант мертв, – наконец сказал он, заставляя себя взглянуть Джесси в глаза.
Джесси, зашатавшись, отступила на шаг. Бадру показалось, что она сейчас снова упадет, но женщина устояла на ногах и потянулась назад рукой к своему сыну. Не найдя его, она обернулась, чтобы посмотреть, куда он подевался. Но Джона Гранта нигде не было видно.
– Джон! – воскликнула она. Мысли в ее голове лихорадочно метались, путаясь и вызывая странные звуки, похожие на журчание воды, и она подумала, что может сейчас упасть в обморок. – Джон!
Из-за дома донесся какой-то крик. Джесси резко повернулась, но Бадр Хасан оказался проворнее: он обошел ее, сделав два гигантских шага, и забежал за дом еще до того, как она успела сдвинуться с места. Приподняв обеими руками подол своей юбки, женщина неуверенной походкой последовала за мавром и, обогнув здание, едва не натолкнулась на его широченную спину. За гигантом стоял Джон Грант – стоял неподвижно, как столб, опустив руки вдоль тела. Он таращился на нескольких мертвых людей, аккуратно разложенных на земле головами впритык к задней стене дома. Так складывают у стены нарубленные дрова.
– Мы не можем здесь оставаться, – сказал Бадр.
Его голос донесся до Джесси словно через зияющую пропасть – пропасть между привычным для нее прошлым и туманным будущим.
– Они овладели бы тобой… все они, – глухо произнес он.
Джесси не могла оторвать взгляд от окровавленных тел Дейви Кеннеди и всех остальных. Было невозможно представить, что в этих пустых, изрезанных оболочках еще недавно теплилась жизнь. Из-за полного отсутствия каких-либо признаков жизни, которой их насильно лишили, со стороны казалось, что они были мертвыми всегда… Джон Грант устал смотреть на мертвецов и, повернувшись к матери, спрятал свое лицо у нее на груди.
– А после того, как эти подонки овладели бы тобой, они убили бы тебя, – продолжил Бадр и добавил: – И мальчика тоже. В этом я даже не сомневаюсь.
– Мой отец мертв, – произнес Джон Грант, голос которого прозвучал на удивление спокойно.
Это было утверждение, а не вопрос.
– Патрик Грант спас мне жизнь, – сказал Бадр. – Я сделаю то же самое по отношению к его семье. Вы должны пойти со мной, вы оба.
Джесси посмотрела на него через плечо.
– А куда мы можем пойти? – спросила она.
– Как можно дальше от этого места, – ответил Бадр.
8
Джону Гранту казалось, что отныне сон уже никогда не придет к нему. Лежа на спине и глядя на небо, густо усеянное звездами, он чувствовал, что не сможет заснуть, как бы ему этого ни хотелось. Ему было тяжело даже закрыть глаза. Он попытался извлечь из памяти образ своего отца, но вспомнил его внешность лишь в самых общих чертах, почти как тень.
Он всегда был уверен в том, что знает, как выглядит отец (и что он узнал бы его, если бы тот вдруг появился перед ним), однако отцовские черты, не говоря уже о его мимике, улыбке или сдвинутых бровях, представлялись мальчику очень расплывчато. Джон осознавал, что ему сейчас следует горевать по поводу этой утраты, тосковать и плакать. Однако единственным чувством, которое он сейчас испытывал, была тревога. Душу его заполнила мучительная пустота, из-за чего ему казалось, что он забыл что-то важное. Правда в данном случае заключалась в том, что представление о внешнем облике отца основывалось не на собственных воспоминаниях Джона, а на воспоминаниях его матери.
Патрик Грант присутствовал в его жизни эпизодически, да и то лишь тогда, когда он, Джон, был очень маленьким и просто не мог что-то запомнить. Образ, который возникал перед его внутренним взором при воспоминании об отце, состоял из отрывочных деталей, о которых говорила мать, причем таких деталей было совсем немного. В общем, Джон своего отца толком не помнил и не знал. О чем он помнил наверняка, так это о чужой поношенной одежде, которую ему приходилось носить, и об объедках, которые он доедал после других людей, набивавших себе животы, когда они с матерью голодали, – объедках, которые, как бы там ни было, являлись для него большой ценностью.
Ночь была теплой и тихой. Стояла гробовая тишина, отчего создавалось впечатление, будто Вселенная замерла в ожидании того, что вот-вот произойдет. Он медленно повернул голову и разглядел силуэт Бадра Хасана, который был немного темнее даже ночного мрака. Бадр сидел, прислонившись к одиноко стоящему дереву, чуть поодаль от того места, где расположились на земле рядом друг с другом Джон Грант и его мать. Затем Джон Грант перевел взгляд на свернувшуюся калачиком Джесси, которая лежала к нему спиной. Ему не было видно, спит она или нет, но лежала она абсолютно неподвижно.
Бадр заставил их отправиться вместе с ним на юг, и они ехали верхом в течение многих часов, в том числе довольно долго после того, как стемнело. Он разрешил им зайти в их дом буквально на несколько минут – только для того, чтобы прихватить с собой одежду и немного еды. Потом он выбрал для них двух пони из числа тех, на которых приехали к их дому теперь уже мертвые воины. Остальных пони он отогнал прочь, громко крича на них, хлопая в ладоши и ударяя по крупу ту из лошадей, которая оказывалась ближе других к нему. Лошади вскоре исчезли из виду, а вместе с ними исчезли и остатки той жизни, которой Джон Грант жил до появления этого великана.
Хасан, можно сказать, не усадил, а почти швырнул его в седло, а затем, уже аккуратнее, помог забраться на лошадь Джесси. После этого они в течение многих часов ехали с утомительной скоростью. Ехать им было еще труднее по той причине, что мавр приказал держаться в стороне от любых дорог и даже тропинок.
«Люди сэра Роберта очень скоро отправятся за нами в погоню, – пояснил он перед тем, как они тронулись в путь. – Расстояние, которое отделяет нас от вашего дома, теперь, пожалуй, является нашим единственным другом – чем больше миль, тем лучше».
И он поехал, увлекая их за собой, по возвышенностям, с которых можно было далеко видеть во всех направлениях и тем самым иметь возможность держаться подальше от тех, кто мог их заметить и рассказать о них другим людям.
«Чем меньше людей увидят нас в первые несколько дней, тем безопаснее для нас», – сказал мавр.
Что бы ни говорил Бадр, Джон Грант в ответ всегда кивал в знак согласия. Что касается Джесси, то она постоянно озиралась по сторонам, всматриваясь в окружающую их местность. Выражение ее лица было таким же унылым, как и холмы, мимо которых они проезжали. После того, как они вынужденно покинули дом, она почти все время молчала.
Когда Джон Грант оказался немного впереди своих спутников и не мог услышать их разговор, Бадр попытался поговорить с Джесси.
– Мне все известно об этом мальчике, – спокойно произнес он.
Джесси продолжала смотреть прямо перед собой.
– Что именно? – спросила она.
– Я был близким другом Патрика, – сказал он. – В течение многих лет. Мы с ним много разговаривали, и я хорошо знал его.
Это не было прямым ответом на ее вопрос, но Джесси тем не менее поняла смысл этого ответа.
– Джон – это все, что у меня есть, – сказала она.
– А ты – все, что есть у него, – кивнув, заметил Бадр. – Я это знаю. Я только хочу заверить тебя, что сделаю все возможное для вас обоих. Честно говоря, я надеялся, что, когда приеду сюда, у тебя все будет в порядке и что… что о тебе уже есть кому заботиться.
– Ты имеешь в виду другого мужчину? – Она задала этот вопрос отнюдь не резким тоном – наоборот, в ее голосе впервые прозвучала насмешка. – Я так не думала.
Она повернулась к Бадру и посмотрела на него. Внезапно смутившись, мавр отвел взгляд в сторону.
– Я не ожидал, что, когда приеду сюда, вам обоим будет угрожать серьезная опасность, – продолжил он. – И теперь ясно, что мое присутствие здесь, как и мои действия, принесли больше вреда, чем пользы. Я ведь приехал только для того, чтобы убедиться, что вы живы и здоровы – как того хотел Патрик, – но вместо этого я принес вам неприятности.
Джесси кивнула.
– Мы до сегодняшнего дня были одни, – сказала она. – Но Джардин и его люди все время нависали над нами тенью. Так что неприятности у нас все равно рано или поздно начались бы. Я рада, что ты приехал сюда… чтобы разделить с нами эти проблемы.
Бадр покосился на ее профиль и увидел, что она гордо приподняла подбородок.
– Должен признаться, что я, вообще-то, не готовился к тому, чтобы кого-то спасать, – пробормотал он. – Кроме того, что я собираюсь найти какое-то пристанище на сегодняшнюю ночь и постараюсь отъехать с вами подальше от логова Джардина завтра, у меня… у меня пока нет никакого плана действий.
Джесси Грант ничего не сказала в ответ, а лишь ударила свою лошадь в бока пятками и, пустив ее рысью, догнала сына.
Небо было безоблачным, и луна, еще не совсем полная, пожимала, казалось, одним плечом, глядя сверху на них. Долгие летние сумерки дали их глазам возможность постепенно привыкнуть к сгущающейся темноте, а свет миллиона звезд, которые зажглись на небе, слегка разбавил эту темноту.
Когда беглецы спустились с гребня высокого холма в широкую долину, на пути у них возникли какие-то огромные фигуры. Бадр, встревожившись, натянул поводья своего большого черного боевого коня, и пока он, напрягая зрение, пытался рассмотреть, что же появилось перед ними, Джон Грант первым понял, что это такое: то был круг из установленных вертикально продолговатых камней. Если бы возле них находился кто-то живой, «толчок» предупредил бы его чуть раньше, но этого не произошло.
– Я уже видел нечто подобное, – сказал Бадр, когда Джон Грант объяснил ему, что это такое. – Камни стоят на торце. Их установили какие-то древние люди с какой-то магической целью. По крайней мере мне так об этом рассказывали.
– А мне рассказывали, что мой отец говорил, будто люди, которые жили здесь до нас, испытывали необходимость отслеживать движение звезд, а также Солнца и Луны, – заявил Джон Грант.
– Астрономы, – пробормотал Бадр, кивнув.
– Аст… – попробовал повторить Джон Грант, но ему не удалось воспроизвести это слово целиком.
– Астрономы, – медленно произнес Бадр. – Астрономия – это наука о том, как расположены звезды.
Он внимательно посмотрел на мальчика, пытаясь по выражению его лица убедиться в том, что тот его понял.
– Это греческое слово, – пояснил Бадр.
– Греческое? – спросил Джон Грант.
На этот раз он по крайней мере смог повторить слово, произнесенное мавром.
– Раз уж я спас твою жизнь, то теперь мне, похоже, необходимо спасти еще и твою душу, – заявил Бадр. – Считай, что с этого момента начинается твое обучение. Оно позволит нам интересно коротать время.
Бадр усадил Джона Гранта и его мать возле этих больших камней, почти в их тени. Он сказал, что это вполне подходящее место для того, чтобы провести здесь ночь, и что духи древних, возможно, присмотрят за ними в оставшиеся несколько часов темного времени суток. Несмотря на то что Джон Грант ничего не сказал в ответ, он был доволен выбором места для ночлега. Он знал (а вот мавр, по всей вероятности, об этом не имел понятия), что к стоящим вертикально продолговатым камням вроде этих большинство местных жителей относились подозрительно. Поговаривали, будто эти камни когда-то давно были свидетелями зверств, человеческих жертвоприношений, колдовства и тому подобного и поэтому подходить к ним отваживались только самые смелые или самые бесшабашные люди. Джон Грант подумал, что уж здесь-то они с матерью и их спутник точно будут в безопасности.
Лежа в темноте и чувствуя, что его мысли крутятся, как вылетающий из кувшина джинн, Джон выпростал руки из-под одеяла и прижал ладони к прохладной траве. Затем он растопырил пальцы и стал ждать. Спустя какое-то время мальчик ощутил вибрацию, вызываемую вращением мира. Впрочем, он не только ощущал ее, но и слышал. Ее звуки были ниже, чем самый низкий звук собственного дыхания и биения сердца Джона Гранта, и напоминали гул ветра в кронах далеких деревьев. Они действовали на него успокаивающе, напоминая о том, что, какие бы проблемы ни возникали у него, Джона Гранта, мир неизменно вращается и движется вперед в темноте Вселенной, – так должно быть и так всегда будет. Джон Грант постепенно расслабился и полностью отдался своим ощущениям. В первую очередь то было ощущение движения окружающего его мира к звездам, настолько всеохватывающее и мощное, что все другие ощущения по сравнению с ним отметались прочь, как сухие листья.
Голос матери вернул его к реальности.
– Почему Дейви Кеннеди и все прочие явились к моему дому? – спросила она, обращаясь к мавру.
Повисло довольно продолжительное молчание, ибо Бадру пришлось задуматься над вопросом женщины.
– Тебе следовало бы спросить его брата, – наконец ответил мавр.
– Уилла Кеннеди, эту змею? – Джесси нахмурилась. – Что он натворил на этот раз?
Бадр, услышав слово «змея», одобрительно кивнул.
– Я провел в Хокшоу достаточно времени, чтобы разобраться, что к чему, – сказал он. – Уилл и несколько его прихвостней… пытались сдирать с арендаторов вроде Томаса Хендерсона еще одну или две дополнительные монеты каждый месяц. Если арендаторы соглашались на это, их дома и детей оставляли в покое.
– У людей и так почти ничего нет, – заметила Джесси. – Почему у таких мерзавцев, как Кеннеди, всегда находятся идеи, из-за которых жизнь других людей становится еще тяжелее?
– Вообще-то, у Уилла Кеннеди уже больше нет никаких идей, – мрачно усмехнулся Бадр. – Его шайка позапрошлой ночью попыталась поджечь ферму Хендерсона. Они выгнали с фермы ее обитателей за то, что те сначала пообещали платить, но потом отказались.
– А ты? – Джесси с любопытством посмотрела на мавра.
– Я встретил его там вчера утром, – ответил Бадр. – Возможно, он хотел замести следы. А может, намеревался еще как-нибудь напакостить. Разумеется, он никак не ожидал встретить меня. Мы с ним поговорили.
– А-а… Понятно, – кивнув, произнесла Джесси.
– Я думаю, что у Дейви не было какой-либо конкретной причины для того, чтобы привести свой отряд к твоему дому, – сказал он. – Ты и твой сын были всего лишь…
– Мы были всего лишь теми, на ком он мог сорвать зло, – перебила женщина, не дав мавру договорить. И с горечью в голосе добавила: – Джардин и его приятели не нуждались в особых основаниях для того, чтобы обидеть меня и моего сына.
Последовало молчание, во время которого Джон Грант полностью сконцентрировался на вращении окружающего мира, наслаждаясь тем, что ему не нужно при этом ни о чем думать.
– Что произошло с моим мужем? – вдруг спросила Джесси, и Джон Грант вернулся из пустоты к реальной жизни.
Бадр зашевелился в темноте и повернулся к лежащей Джесси.
– Твой муж спас мне жизнь, – ответил он. – Какие-то люди пришли убить меня… И убили бы… – Он прокашлялся и потер руками лицо. – Я спал – меня свалила лихорадка. Они заперли дверь моей спальни снаружи и подожгли дом. Они, я думаю, использовали какую-то дьявольскую смесь, чтобы огонь разгорелся как можно быстрее. Дым одурманил меня и сделал мой сон еще крепче.
– А Патрик? – спросила Джесси.
– Он находился на чердаке прямо надо мной. Мои враги об этом не знали. Он пробил отверстие в полу, который был для меня потолком, и смог разбудить меня. Когда я проснулся, моя одежда уже загорелась и он пытался потушить огонь на мне. Чтобы спасти свою жизнь, мы с ним выпрыгнули из окна. Прыгнули на балкон соседнего здания, который был ниже нашего окна.
– Так что же произошло с Патриком потом? – спросила Джесси. В ее голосе не чувствовалось никаких эмоций. – Почему вышло так, что ты сейчас находишься здесь, а его нет?
– Твой муж заставил меня прыгнуть первым. При этом он толкнул меня в спину, и, думаю, именно это позволило мне допрыгнуть до балкона. Но я все же приземлился на балкон очень неудачно и сильно ударился. Из-за этого удара… а также из-за ожогов и лихорадки… я потерял сознание.
Джон Грант услышал, как Бадр снова зашевелился.
– Когда я пришел в себя, Патрика Гранта рядом со мной не было. Я находился на балконе один, а кругом бушевал огонь. Он охватывал одно здание за другим. Я слышал, как кричали люди, как кто-то плакал. Я с трудом поднялся и стал звать Патрика.
Бадр сделал паузу и уставился на свои руки.
– Я посмотрел вниз, на переулок, и… и увидел, что он лежит там. Он не допрыгнул до балкона… Или допрыгнул, но не удержался и рухнул вниз.
Бадр тяжело вздохнул и пожал плечами.
Последовало долгое молчание, нарушить которое никто не решался.
– Я не смог прийти ему на помощь так, как он пришел на помощь мне, – наконец сказал Бадр. – Не смог ни помочь ему перепрыгнуть, ни поймать его, когда он падал.
– Он был мертв, – глухо произнесла Джесси.
Джон Грант попытался уловить в голосе матери горечь утраты, но ее не было. Джесси просто констатировала факт.
– Он не был мертв, – сказал Бадр. – Тогда еще не был. Я спустился вниз и обнаружил, что он еще жив.
– Ты отнес его туда, где ему кто-нибудь смог бы помочь? – спросил Джон Грант.
Он тут же почувствовал, что его мать и Бадр повернулись и посмотрели на него с таким видом, как будто они совсем забыли, что рядом есть еще кто-то, и лишь сейчас вспомнили, что Джон Грант тоже находится здесь.
– Ты попросил кого-нибудь помочь? – повторил он свой вопрос.
– К сожалению, уже ничего нельзя было сделать, – спокойно ответил Бадр. – Патрик умирал и успел только рассказать мне, где найти тебя.
Джон Грант почувствовал, как к его лицу прихлынула горячая кровь.
– Он сказал мне, где найти тебя, – продолжал Бадр, обращаясь к мальчику. – И спросил меня, смогу ли я это сделать. Найти тебя и, если будет такая необходимость, позаботиться о тебе.
– А он попросил тебя сделать то же самое по отношению ко мне? – поинтересовалась Джесси.
– Да, – кивнул Бадр и, вздохнув, замолчал.
– А почему Патрик находился рядом с тобой? – продолжала расспрашивать Джесси.
– Он мой друг, – просто ответил Бадр. – Он был моим другом.
Джон Грант почувствовал в голосе мавра не только грусть, но и теплоту.
– Где это произошло? – спросила Джесси после небольшой паузы. – Где все это произошло?
– В Вечном Городе, – сказал Бадр таким тоном, как будто этот ответ был очевидным – или, по крайней мере, известным лично ей.
– В Лондоне? – неуверенно предположила Джесси.
– Лондон – это какая-то сточная канава, – сказал Бадр. – Единственное, что там есть вечного, так это зловоние. Давай не будем говорить о Лондоне.
Джесси и ее сын дальше ехали молча, ожидая, что их спаситель перестанет говорить загадками и расскажет им все понятным языком.
–
А’
удху Биллах, – пробормотал мавр. –
Ищу спасения у Аллаха. Да уж, Патрик Грант держал свою семью в невежестве. Я сочувствую тебе, женщина, и тебе, малыш.
После небольшой паузы он вновь заговорил:
– Патрик Грант и я были вместе в Риме. Именно там, в Вечном Городе, живет Святейший Отец
[6].
Прежде чем Джесси успела подумать, о чем бы еще спросить Бадра по поводу обстоятельств гибели ее мужа, Джон вдруг откинул свое тонкое одеяло и сел. Услышав в темноте звуки его движений и почувствовав, что настроение мальчика резко изменилось, Бадр встал и сделал несколько шагов по направлению к нему.
– Там кто-то есть, – сказал Джон Грант.
Кожа у него под одеждой неприятно зачесалась – так, как будто на ней появились волдыри.
– Где? – прошептал Бадр.
По спине мальчика пробежали мурашки, когда он уловил тихий шорох большой кривой сабли, которую мавр вытащил из покрытых мехом ножен.
– Точно не знаю. Пока еще достаточно далеко, – ответил мальчик. – Больше одного человека. И лошади.
Бадр сел на корточки возле Джона Гранта и разглядел при тусклом лунном свете, в какую сторону смотрит мальчик. Затем Бадр встал и пошел в этом направлении вниз по склону холма. Его внезапный уход заставил и мать, и сына почувствовать себя ужасно одинокими и беспомощными. Они придвинулись поближе друг к другу. Джесси попыталась заставить себя сосредоточиться, чтобы услышать или увидеть хоть что-нибудь. Джон Грант успокаивал себя тем, что внутренний голос вроде бы подсказывал ему, что бояться сейчас некого и нечего. Тем не менее мальчик прижался к матери, наслаждаясь ее близостью и теплом ее дыхания на его щеке. Время тянулось мучительно долго. Они оба молчали.
Наконец Джон Грант уловил какое-то движение в ранее неподвижном воздухе, но не почувствовал в этом движении никакой угрозы. Он глубоко и с облегчением вздохнул. Когда некоторое время спустя рядом с ними внезапно появился Бадр, Джесси едва не вскрикнула от неожиданности. Быстро и почти неслышно подскочив к ним, Бадр аккуратно зажал ладонью рот Джесси еще до того, как она успела издать хотя бы один звук.
– Ты был прав, юноша, – спокойно произнес он. В его голосе чувствовалось и восхищение, и неверие. Бадр был опытным воином и научился выживать даже в самых трудных ситуациях. Он полагался на свои ощущения и интуицию больше, чем на саблю или коня, однако ничего не заметил, а этот мальчик предупредил его, что на них – пока еще издалека – надвигается какая-то опасность. – Они едут в сторону юга в полумиле от нас по склону. Движутся параллельно нашему маршруту по долине, которая находится ниже плато, на котором мы сейчас находимся. Они – это сэр Роберт Джардин и около двух десятков человек. Сбруя их лошадей не производит вообще никакого шума. Они, по-видимому, обернули металлические части кусками ткани, чтобы заглушить все звуки. Я подобрался к ним достаточно близко, чтобы послушать их разговоры.
– И о чем они говорили? – спросила Джесси.
Бадр в течение нескольких мгновений молчал, а затем с неохотой ответил:
– Просто они наведались в твой дом и нашли там своих товарищей. Я знал, что они отправятся в погоню за нами, но я не думал, что они решатся ехать даже ночью.
Он опустил свою тяжелую ладонь на плечо мальчика.
– Как ты узнал, что сэр Роберт и все остальные находятся поблизости? – спросил он. – Чем они себя выдали?
Положив руки на колени, Джон Грант молча разглядывал свои пальцы.
– Ну так что? – настойчиво произнес Бадр.
– Я просто… Я просто знал, что они там, – сказал Джон Грант. – Я всегда знаю, что ко мне приближаются какие-то люди… еще до того, как вижу их.
– Да, такое бывало и раньше, – кивнул Бадр. Он говорил спокойно и уверенно. Джон Грант посмотрел на расплывчатое в темноте лицо мавра, на котором выделялись блестящие при свете звезд глаза. – Когда я вчера ждал позади твоего дома подходящего момента, чтобы напасть на тех людей, я мог видеть тебя и твою мать, хотя вы оба стояли ко мне спиной. Я не шевелился и не производил ни малейшего шума – я это точно знаю, – но ты тем не менее повернулся и посмотрел туда, где я прятался. Если бы я не пригнул голову и не скрылся полностью за домом, ты посмотрел бы мне прямо в глаза.
Джон Грант почувствовал, что лицо мавра расплылось в улыбке. Теперь в лунном свете звезд блеснули и его крупные белые зубы.
– Как ты узнал, что я там?
Прежде чем мальчик ответил, его ладони невольно сжались в кулаки. Никто раньше не замечал этих его способностей и уж тем более не задавал таких вопросов. Даже Джесси, его мать. Однако и ситуация, и собеседник вполне располагали к тому, чтобы поговорить на запретную прежде тему.
– Мне подсказал «толчок», – сказал мальчик.
–
«Толчок»? – переспросила Джесси. В голосе матери впервые с того момента, как они покинули свой дом, появились эмоции. – «Толчок»…
подсказал тебе? О Боже Всемогущий, о чем ты говоришь? Что это еще за «толчок»?
Джон Грант почувствовал, как к его щекам прихлынула кровь. Неодобрительные интонации в голосе матери задели его даже больше, чем любой нагоняй. Кроме того, мальчик понял, что она обижена: получалось ведь, что он от нее что-то скрывал.
Бадр предпочел промолчать, тем самым позволив послушному сыну Джесси осознать весомость заданного матерью вопроса и заставить его дать вразумительный ответ.
– Я так называю то, когда я… знаю что-то такое, чего я… ну, чего я не могу увидеть или услышать, – немного растерянно пояснил мальчик.
– «Толчок»? – снова спросила Джесси, по-видимому так и не сумев понять смысл того, что она сейчас услышала.
– Ну, это такое ощущение, как будто воздух… Не знаю, как и сказать… Воздух, наверное, становится более густым… и движется в моем направлении, – с трудом выдавливая из себя слова, продолжал Джон Грант. – Мне при этом кажется, что меня кто-то толкает… Оттуда, где находится что-то такое, чего я не могу видеть…
– Или слышать, – закончил Бадр, придя на помощь мальчику.
Что бы ни побудило Джона Гранта рассказать об особенностях восприятия им окружающего мира, перенесенные за прошедший день потрясения – избиение, страх, вид лежащих на земле трупов – вдруг перестали давить на его психику. Он подумал, что сказал уже достаточно много, и решил, что о вращении мира и звуках, вызываемых этим вращением, не будет даже упоминать.
– Как много сегодня сюрпризов! – воскликнула Джесси, причем громче, чем хотела бы, и они все трое вздрогнули.
Джесси поднялась и стала крутиться на месте, давая тем самым выход накопившимся эмоциям и шипя, как закипающий чайник.
– Мой уже давно отсутствующий муж погиб, причем погиб в Риме, далеко-далеко отсюда, – выпалила она. – Меня чуть было не изнасиловали в собственном доме. Затем я пустилась в бега со своим ребенком и великаном, который, спасая меня, убил больше людей, чем когда-либо собиралось вместе у меня за столом.
Женщина плюхнулась на землю и обхватила руками голову, а затем стала бормотать таким тихим голосом, что ее сын и Бадр едва расслышали,
что она говорит.
– А теперь мой сын заявляет, что он обладает колдовскими способностями… что он
чувствует людей.
– Я не чувствую людей, – возразил Джон Грант. Он уже жалел, что рассказал кое-что о своем даре. – Я сказал, что чувствую «толчок», когда кто-то или что-то приближается ко мне.
Все трое замолчали, каждый думал о своем. Где-то неподалеку залаял лис, но никто из ночных животных не ответил ему.
– Почему именно сейчас? – спросила Джесси. – Мы с моим сыном жили вдвоем бульшую часть его жизни. Почему ты явился сюда, к нам, именно сейчас?
Бадр вздохнул.
– Я чувствовал, что время меня подгоняет, – сказал он.
Джесси, фыркнув, закивала.
– Я немало постранствовал по свету. Я сделал очень много чего, но…
– Но?.. – нетерпеливо произнесла Джесси.
– Но я был эгоистичным.
– Как это?
– Все схватки, в которых я участвовал, все жизни, которые я отнял… – Вздохнув, Бадр замолчал. Его, похоже, охватили сомнения, и он пытался разобраться в своих путающихся мыслях. – Все это было ради самого меня, – наконец сказал он. – Я пренебрегал нуждами других людей. Людей, которым следовало помогать, о которых я должен был заботиться. Я все время поворачивался к ним спиной. Во всяком случае, я никогда не делал достаточно много того, что считается правильным.
Он вновь замолчал. Джесси, в свою очередь, не стала настаивать на продолжении этого тяжелого разговора. Несколько минут спустя Джон Грант прошептал в темноту:
– Я снова чувствую это… откуда-то из-за камней.
Мальчик тут же разозлился на самого себя. Пока взрослые разговаривали друг с другом, его кожа опять неприятно зачесалась, подсказывая ему, что к ним приближается кто-то невидимый. Однако недавнее признание заставило Джона Гранта испытать стыд, и он впервые в жизни предпочел проигнорировать свои тревожные ощущения.
Мавр прижал указательный палец ко рту, требуя тишины, и пополз по траве, пока не оказался за одним из громадных камней. Затем он привстал и очень медленно высунул голову из-за края камня, так чтобы можно было видеть внутреннюю часть каменного круга – пространство, освещенное светом луны и звезд. На этом пространстве никого не было.
Джесси – против собственной воли и вопреки жесту Бадра, призывавшему соблюдать полную тишину, – поднялась и направилась к сыну. Услышав звуки ее движений, а точнее, шуршание одежды, Бадр резко повернулся и в результате неожиданно потерял равновесие, шлепнувшись между двумя камнями. Джон Грант, который тут же почувствовал какую-то опасность (сейчас его ощущения были даже более сильными, чем при «толчке»), вскочил на ноги и потянулся к матери.
В тот момент, когда искусный лучник Ангус Армстронг отпустил натянутую тетиву своего смертоносного лука, они все трое были очень уязвимыми.
9
– Я не могла бы любить тебя сильнее, – сказала Джесси Грант.
Глаза женщины были закрыты, и слова эти она произнесла так тихо, что, казалось, он не столько услышал, сколько прочел их по ее потрескавшимся, как высохший пергамент, губам. Джон Грант, стоя на коленях, наклонился и прижался лицом к щеке матери. Кожа Джесси, холодная и липкая на ощупь, в лунном свете приобрела серебристо-голубой оттенок. Хуже того, мальчик отметил про себя, что с трудом узнает свою мать сквозь ту завесу боли и страдания, которая теперь разделяла их.
Они трое – Джесси, ее сын и Бадр Хасан – сейчас находились в погребальной комнате какой-то древней могилы. Стрела Армстронга попала в Джесси и пронзила ее насквозь чуть выше тазовых костей. Бадр в мгновение ока определил, откуда прилетела стрела: ее выпустил человек, стоящий за дальним краем каменного круга. Пренебрегая собственной безопасностью, мавр бросился бежать по направлению к лучнику, но тот успел исчезнуть в темноте.
Бадр вернулся минутой позже. Гнев и разочарование нарастали в нем, как заряд статического электричества. Мальчик сидел на земле и поддерживал голову матери, покоящуюся у него на коленях. Когда Бадр увидел, как Джесси пронзила стрела, он сразу понял, что эту женщину уже не спасти. Но он никак не ожидал, что мальчик оставит ее лежать там, где она упала. Они унесли ее прочь от круга из камней, пытаясь найти какое-нибудь место, которое было бы более надежным убежищем, и случайно наткнулись на эту могилу. Сначала внимание Бадра привлекло что-то такое, что он принял за кусты утесника, – низкая темная выпуклость над поверхностью земли, которую едва было видно в темноте и которая находилась неподалеку от того места, где была поражена стрелой Джесси. Мавр подумал, что там, возможно, есть какая-нибудь впадина, где они будут прятаться до тех пор, пока эта женщина не умрет.
Кусты утесника там и в самом деле имелись, но в их зарослях скрывался вход в состоящую из огромных каменных глыб могилу. Аккуратно поставленные вертикально камни и перемычки образовывали лаз, ведущий к почти квадратной комнате, в которой вполне помещались все трое и еще оставалось довольно много места. Крыша представляла собой пару здоровенных каменных плит, которые когда-то разместили впритык друг к другу, но тысячелетия, прошедшие с тех пор, как давно ушедшие из жизни земледельцы возвели это сооружение, раздвинули эти плиты, и теперь комната была частично открыта для ночного неба и залита лунным светом. Бадр первым забрался в лаз, а потом, повернувшись, потащил за собой раненую Джесси. Джон Грант полез за ними на четвереньках, стараясь при этом поддерживать ноги матери. Несмотря на их усилия, Джесси стонала от нестерпимой боли, поскольку при движении древко стрелы изгибалось и поворачивалось внутри ее тела.
Потолок погребальной комнаты был выше потолка лаза, но все равно он был довольно низким. Бадр и Джон Грант уложили Джесси между собой и сели возле нее каждый со своей стороны. Джон Грант старательно расправил одежду матери и проследил, чтобы ее ноги лежали вместе и были должным образом прикрыты. Удовлетворившись хотя бы тем, что честь Джесси осталась нетронутой, он занялся ее волосами – стал убирать пряди с ее лица.
Когда он уже почти закончил, она вдруг заговорила с ним.
– Я не могла бы любить тебя сильнее, – слабым голосом произнесла Джесси.
– Я тоже тебя люблю, мама, – ответил мальчик, уткнувшись лицом между ее шеей и плечом. – Ты нужна мне… Я…
Он запнулся и сел на корточки, чтобы лучше видеть ее лицо. Затем он стал качаться вперед и назад, как молящийся грешник.
– Не покидай меня. Пожалуйста… – прошептал он.
Бадр Хасан, великан и воин, больше привыкший причинять вред, чем устранять последствия вреда, нанесенного кем-то другим, неуверенно протянул руку вперед. Он впервые в жизни засомневался, не зная, куда же ему ее положить, и поэтому на несколько мгновений его рука зависла в воздухе, прежде чем мавр осторожно коснулся ею плеча мальчика. Джон Грант был худощавым, даже хрупким, и Бадр с состраданием подумал, что этот мальчик очень скоро останется один на белом свете. Джон Грант оторвал взгляд от лица матери и посмотрел на Бадра. Мавр, встретившись с ним взглядом, увидел в его глазах страх. Хуже того, он услышал беззвучный крик о помощи.
– Оставь ее, сынок, – сказал он. – Я не ахти какой лекарь и такие раны, как у нее, исцелить не смогу. Кроме того, я уверен, что их не сможет исцелить никто.
Бадр отметил про себя, что в этот миг мальчик осунулся и как бы уменьшился в размерах, но, несмотря на все душевные страдания, он, похоже, понял, что ему сейчас говорят правду.
Бадр засунул руку в мешочек, висевший у него на ремне. Порывшись в нем, он достал маленькую стеклянную бутылочку, облаченную в кожу. Затем он вытащил из нее пробку и, приподняв одной рукой голову Джесси, помог ей сделать несколько глотков из бутылочки.
– Вкус у настойки плохой, горький, – сказал он ей, – но она поможет ослабить боль.
Он положил ее голову обратно на пол и увидел, что она облизывает губы, чтобы не потерять ни одной капли.
– Я не могла бы любить тебя сильнее, – снова сказала Джесси. Ее тихий голос звучал спокойно.
Они оба посмотрели на нее. Бадр почувствовал себя здесь лишним. Однако он был уверен в том, что Армстронг вскоре вернется с остальными воинами, и понимал, что они сейчас должны затаиться в этой комнате, чтобы их никто не увидел, и поэтому решил не оставлять мать и сына наедине друг с другом и не выбираться наружу даже на короткое время. Глаза Джесси были открыты, и она в этот момент больше походила на себя прежнюю – такую, какой она была еще совсем недавно. Джон Грант аккуратно положил свою руку на одну из ее тазовых костей – настолько близко от стрелы, насколько ему хватило решимости. Он почувствовал, как мать пытается собраться с силами и снова стать такой, какой он ее всегда знал, хотя она и осознавала, что жизнь соскальзывает с ее тела, как поношенная, разорванная одежда. Джон Грант благодаря ее силе воли, проникающей через его пальцы в тело, почувствовал попытки Джесси собраться, чтобы стать прежней, пусть даже ненадолго.
– Я знаю это, мама, – сказал он.
Он почувствовал потребность сглотнуть, но у него вдруг появилось болезненное ощущение, как будто его горло мгновенно заросло каким-то колючим и непроходимым кустарником. Он коснулся руки матери и крепко сжал ее в своих ладонях – так, как это делает тонущий человек.
– Останься со мной, – умоляюще произнес он. – Пожалуйста, останься со мной.
Она повернула голову, стараясь смотреть ему прямо в лицо. Ее глаза, очень темные, с расширенными зрачками, казалось, излучали огромную силу и притягивали его. Джесси попыталась приподнять голову над сухим земляным полом комнаты, но слабость, сковавшая тело, не позволила женщине сделать это. Она быстро заморгала в надежде подавить свою агонию.
– Ты мой сын, – сказала Джесси.
Ее рука, ужасно холодная, только что безжизненно лежавшая в его ладонях, вдруг шевельнулась, и он почувствовал, как ее пальцы сжимают его руку. Наверное, мать хотела, чтобы он понял что-то такое, чего она не находила в себе сил сказать ему.
– Я знаю, мама, – тихо произнес Джон Грант.
Ему хотелось, чтобы она знала, что он всегда чувствовал ее любовь. Он взял руку матери и прижался лицом к ее ладони. Знакомый запах ее кожи воспринимался им как запах его жизни, запах его мира.
– Мама… Мама, – сказал он, с жадностью вслушиваясь в звучание этого слова. – Я не мог бы быть еще более любимым.
Рука Джесси вдруг ослабла и стала тяжелой, и он бережно положил ее вдоль неподвижного тела. Когда мальчик посмотрел в ее глаза, он понял, что она уже ушла от него, – ушла навсегда. Именно в этот момент что-то мерцающее и похожее на дым – или, пожалуй, на марево над костром – поднялось из ее тела, замерло на мгновение в воздухе и исчезло.
Джон Грант раскрыл рот от удивления и посмотрел на мавра.
– Ты видел? – спросил он. Его глаза заволокло слезами, а голос стал хриплым и отрывистым. – Ты
видел?
Бадр с недоумевающим видом пожал плечами и покачал головой.
– Видел
что? – спросил он.
Джон Грант понял, что лишь ему одному выпала возможность наблюдать это видение. Он снова повернулся к матери и обнаружил, что смотрит теперь на какое-то подобие того человека, которого он любил. Мальчик ахнул и быстро поднес руку ко рту: его поразили столь резкая перемена и внезапно возникшее ощущение, что матери больше нет. Ее запах он все еще чувствовал, ибо запах каким-то образом пережил ее, и Джон Грант сделал глубокий вдох – необычайно глубокий вдох – и не стал делать выдох, как будто он собирался сохранить его в своей груди навсегда.
Он не смог сдержать слез и, опустив подбородок на грудь, зарыдал, содрогаясь всем телом. Бадр, отнюдь не искушенный в искусстве утешения убитых горем мальчиков, придвинулся к нему на коленях. Его волосы при этом задевали одну из плит, образующих потолок комнаты, и он чувствовал себя неуклюжим медведем, забравшимся в маловатую для него пещеру. Несмотря на свой огромный жизненный опыт и приобретенную житейскую мудрость, Бадр растерялся и не смог подобрать подходящих слов. Он подумал, что ему, наверное, нужно обнять мальчика, но не стал этого делать. В результате ему не оставалось ничего другого, кроме как беспомощно ждать, пока волны горя не перестанут вздыматься вокруг них обоих.
В какой-то момент мальчик вдруг перестал плакать, как будто у него перехватило дыхание. Он напрягся, и Бадр это почувствовал.
– Они движутся сюда, – сказал Джон Грант.
Бадр снова поднес палец к своим губам. Затем он медленно, в полном молчании придвинулся к лазу и полез по нему. Из лаза была видна часть каменного круга – точнее говоря, лаз выходил прямо на эти камни. Поначалу мавр не увидел никого. Каменные часовые, освещенные лунным сиянием, стояли сами по себе, однако Бадр даже не подумал усомниться в словах мальчика. Он услышал позади себя какой-то шорох и, оглянувшись, увидел, что Джон Грант торопливо ползет к нему. Когда мальчик остановился позади него, Бадр протянул руку назад и положил на его колено, чтобы не позволить ему ползти дальше.
Несмотря на то что Бадр, сидя на корточках, вроде бы хорошо удерживал равновесие, он едва не провалился в глубину лаза. Удерживая свою руку на ноге мальчика, мавр отчаянно пытался восстановить равновесие, но какая-то сила будто толкала его огромное тело. Но это было еще не все. Там, где окружающий мир был только что вполне устойчивым, теперь вдруг ощущалось какое-то непонятное вращательное движение, увлекающее его вниз. Бадр чувствовал себя так, как будто пытался удерживать равновесие, стоя на бревне, плывущем по реке. Будучи не в силах с этим справиться и растерявшись (ему показалось, что началось какое-то землетрясение), он убрал ладонь с колена мальчика и развел руки, чтобы побыстрее упереться ими в стены лаза.
Как только его рука перестала прикасаться к мальчику, эти странные ощущения исчезли: окружающий мир снова стал неподвижным, а его, Бадра, положение в нем – устойчивым. Мавр с ужасом посмотрел на Джона Гранта. Мальчик встретился с ним взглядом и, кивнув едва ли не с сочувствующим видом, повернулся и пополз обратно в погребальную комнату.
Несколько мгновений спустя, еще полностью не придя в себя, Бадр услышал, а точнее, почувствовал приближение скачущих галопом лошадей. А чуть позже эти лошади появились из расположенной неподалеку низины. Впереди скакали сэр Роберт Джардин и Ангус Армстронг. Обогнув по периметру круг из камней, всадники направились к его центру и собрались там все вместе. Бадр услышал, как Джардин выкрикнул какие-то распоряжения, и хотя на таком расстоянии он не смог разобрать слов, смысл их был понятен. Всадники разъехались во всех направлениях и начали осматривать близлежащую местность. Они продвигались все дальше и дальше, периодически останавливая своих лошадей и наклоняясь то вправо, то влево к земле в попытке найти на ней какие-нибудь следы.
Внезапно послышался какой-то крик. Бадр сразу узнал голос Джейми Дугласа. Тот вернулся к кругу из камней с тремя лошадьми – жеребцом Бадра и двумя пони, на которых недавно ехали Джесси и Джон Грант.
Бадр рассчитывал снова найти этих лошадей на рассвете, но если этой ночью будут пойманы только животные, а не они сами, то он и мальчик вполне смогут считать себя счастливчиками. Пару раз какие-то всадники проезжали довольно близко к кустам утесника. Один из них даже потрудился слезть с коня и несколько раз рубанул по колючим веткам мечом, но ни он, ни кто-либо другой так и не заметил посреди колючих зарослей низкий земляной могильный холм и каменную могилу в нем.
Армстронг подъехал легким галопом к Джейми, и они обменялись несколькими фразами. Бадр подумал, что преследователей наверняка очень воодушевил тот факт, что они нашли лошадей, и поморщился. Лошади являлись для беглецов не только средством передвижения, но и везли на себе еду и все их пожитки. Теперь они будут вынуждены идти пешком, а из имущества у них осталась только одежда да оружие Бадра.
Армстронг сунул два пальца в рот и издал
короткий резкий свист. Всадники быстро собрались вокруг него, и после обмена несколькими фразами и жестами все участники облавы выстроились в длинную линию с Армстронгом и Джардином по центру, а потом поехали вниз по склону. Вскоре они исчезли в ночной темноте.
– Они думают, что догонят нас, – прошептал себе под нос Бадр и, развернувшись, пополз обратно в погребальную комнату.
Джон Грант лежал рядом с матерью, касаясь головой ее головы и обхватив одной рукой ее грудь. Когда мальчик услышал, что Бадр возвращается, он быстро сел и, несмотря на охватившее его горе, почувствовав себя неловко.
– Мы можем вытащить стрелу? – спросил он.
Бадр, ничего не ответив, подполз к Джесси и прикоснулся к стальному наконечнику. Джон Грант внимательно наблюдал за ним, но все равно не заметил, каким образом в руке великана появился нож. Мальчик увидел лишь, как блеснул металл, после чего нож исчез, а Бадр уже держал в руке наконечник, аккуратно отделив его от ясеневого древка стрелы. В течение нескольких мгновений мавр разглядывал наконечник, оценивая форму, а затем отбросил его в сторону. После этого, осторожно поворачивая древко, он стал тянуть за тот конец, на котором имелось оперение, и потихоньку вытащил его из тела Джесси.
Джон Грант тяжело вздохнул. Он, видимо, почувствовал облегчение, когда мавр вытащил эту штуку из тела матери, пусть даже она и была уже мертва. Довольный тем, что его просьба выполнена и что оскверняющий тело матери предмет извлечен, мальчик снова лег рядом с Джесси. Желание прикасаться к ней было таким сильным, что он, несмотря на присутствие мавра, который мог наблюдать за ним, перестал стесняться и начал ласково гладить волосы над ее ухом.
Бадр отполз в темноту в противоположную часть комнаты. Там он прислонился к стене и вытянул ноги прямо перед собой. Оттуда он мог наблюдать и оставаться при этом невидимым. Он наблюдал за мальчиком, который расположился рядом с матерью, как будто собирался спать, и уткнулся лицом между ее шеей и плечом. Спустя какое-то время Джон Грант открыл один глаз и, хотя было очень темно, уставился прямо в лицо Бадра. Мавр на мгновение почувствовал, что его волосы встали дыбом.
– Теперь ты знаешь, каково это, – сказал мальчик. – Каково быть таким, как я.
Бадр ничего не ответил и только кивнул, вспомнив о тех странных ощущениях, которые охватили его в лазе, когда он коснулся рукой колена мальчика. Сейчас он не мог сказать, видит ли Джон Грант его лицо в темноте.
– Я раньше никогда и никому не позволял прикасаться ко мне в момент, когда я чувствую «толчок». Я не знал, что будет, если кто-то прикоснется ко мне в этот миг… Ты первый, кто… кто тоже почувствовал
это.
Бадр кивнул в темноту и закрыл глаза.
Он вообще-то не собирался спать, но уснул, а проснувшись, увидел, что серебристо-голубоватое сияние луны уже сменилось солнечным светом раннего утра. Мальчик все еще спал. Он, похоже, так и не изменил положения тела. Бадр решил рискнуть и, не став пробираться по лазу, высунул голову в отверстие между каменными плитами, образующими крышу. Как он и ожидал, признаков того, что поблизости находятся какие-то люди, не было. Армстронг и его люди наверняка безрезультатно ищут их где-то в другом месте, возможно, на расстоянии многих миль отсюда.
Когда Бадр опустил голову и окинул взглядом погребальную комнату, он заметил кости: на полу возле стен беспорядочно валялись длинные кости, ребра и обломки, в которых мавр легко узнал части черепов.
Джон Грант, потревоженный движениями Бадра, открыл глаза. В течение какого-то времени мальчик никак не мог понять, где он сейчас находится и что с ним произошло, – похоже, он еще пока не проснулся. Но затем он посмотрел на тело своей матери, и вся горькая правда хлынула на него, как вода во время паводка. Он повернулся к Бадру и увидел, что тот держит на своей большой ладони челюстную кость человека, на которой, как какие-нибудь деформированные жемчужины, поблескивают зубы. Он разинул от удивления и ужаса рот, а потом, когда его глаза привыкли к дневному свету, заметил и все остальные кости, валяющиеся вдоль четырех стен комнаты, словно прибитые течением к берегу ветки, почему-то побелевшие. Неожиданно почувствовав себя грязным, мальчик встал, наклонился, чтобы отряхнуть свою одежду, и только потом выпрямился во весь рост. По чистой случайности его голова угодила как раз в отверстие между каменными плитами, образующими крышу, и это уберегло Джона Гранта от удара об одну из них. Осознав, что он теперь стал видимым для всех затаившихся где-то рядом хищников, мальчик поспешно пригнулся.
– Они уже давно уехали отсюда, – сказал Бадр. – Надеюсь, наши преследователи находятся сейчас за много миль от нас. Может, вернулись в Хокшоу и зализывают свои раны.
Джон Грант сел на пол, подтянул колени и положил на них голову. Отвращение, которое он только что испытывал при виде высохших человеческих костей, сменилось непреодолимой тоской.
Бадр, понимая, что им пора уходить отсюда, ласково погладил мальчика по волосам.
– Давай теперь позаботимся о ней, – сказал он.
Мысль о том, что его мать придется оставить в этом уединенном месте, среди костей каких-то древних людей, вызвала у Джона Гранта негодование. Но потом Бадр заявил, что, пожалуй, нет лучше места, чтобы обрести вечный покой, чем среди похожих на тебя людей.
– Это кости таких же людей, как и вы, – сказал он. – Они жили и умерли давным-давно, это верно, но, несомненно, жили в здешних местах и занимались земледелием, как и вы… Как и твоя мать.
Джон Грант, задумавшись, перестал возражать и повернулся к телу своей матери.
– Она так не спала, – сказал он. – Никогда не спала на спине.
Они бережно перевернули Джесси на левый бок. Прошло лишь несколько часов после того, как она умерла, и трупное окоченение еще не наступило, а потому Джон Грант смог придать телу матери знакомую ему с детства позу. Сложенные ладони Джесси он засунул под ее подбородок, а длинные волосы распустил по плечам и до самой талии.
Затем Бадр и Джон Грант выбрались наружу, и мавр нарубил своей кривой саблей ветвей утесника, все еще покрытых блеклыми желтыми цветами, похожими по своей форме на малюсенькие шелковые тапочки. Затащить огромные охапки этих веток в могилу было не так-то просто, но, когда это было сделано, Бадр перебрался из погребальной комнаты в лаз, чтобы оставить мать и сына наедине.
Джон Грант опустился на колени рядом с матерью. На мгновение ему показалось, что он – взрослый, а она – его ребенок и что он, как отец, просто пришел убедиться, что его дочь спокойно спит. Однако это длилось всего лишь один коротенький миг, после чего он вновь вернулся к суровой реальности. Мальчик наклонился и ласково поцеловал ее в щеку. Затем он сделал это еще раз, и еще…
– Ты всегда будешь со мной, мама, – сказал он. – Я обещаю.
Джон Грант начал аккуратно укладывать слой за слоем ветви утесника на ее тело и рядом с ним. Бадр принялся помогать ему, и вскоре женщина полностью исчезла из виду. К тому времени, когда они закончили, погребальная комната была уже почти вся заполнена пахучими колючими ветвями. Бадр и Джон Грант вылезли через лаз наружу.
– Ее никто не потревожит, – глухо произнес Бадр. – Колючки отпугнут непрошеных гостей, даже самых любопытных.
Джон Грант кивнул. Его лицо при этом ничего не выражало.
– Пошли, – сказал Бадр. – Нам нужно идти. Солнце уже взошло, а на закате, когда оно исчезнет за горизонтом, мы оставим это место уже далеко позади себя. Я клянусь тебе.
– Я остался бы здесь навсегда, – сказал Джон Грант.
Бадр повернулся к мальчику и увидел, что тот пристально смотрит на вход в могилу, ставшую теперь могилой его матери.
– Она в своей жизни занималась тем, что оберегала тебя, – сказал Бадр. – Теперь этим должен заняться я. Я не подведу ее мертвую… как я подвел ее живую.
Джон Грант молчал.
– Пошли, – повторил Бадр. – Прямо сейчас. Наша первая задача состоит в том, чтобы спуститься с этого пустынного холма и найти двух лошадей. Я намереваюсь покинуть эти места вместе с тобой, но ходить пешком – это не для меня.
Он пошел вниз по склону, уже не глядя на мальчика. Мысленно насчитав сотню шагов, мавр позволил себе украдкой посмотреть назад и увидел, как Джон Грант поднес руку к губам, поцеловал кончики пальцев, а затем прижал ладонь к одному из камней, образующих вход в могилу. После этого мальчик повернулся и побежал к мавру, не оглядываясь.
10
В течение всего дня Джон Грант не проронил ни слова. Бадр Хасан, все еще чувствуя себя не в своей тарелке после тех ощущений, которые ему довелось испытать, когда он прикоснулся к Джону Гранту во время «толчка», был этому даже рад. Последние лучи солнца уже растворялись в наступающей темноте, когда они вдвоем спустились по крутому склону холма и вышли на широкую, плоскую равнину. Параллельно основанию холма текла река – черная и блестящая, как нефть. Ее журчание было похоже на тихий шепот. Возле реки в почти отвесной скале виднелся низенький вход в какую-то пещеру. Бадр решил, что лучшего убежища им не найти.
– Мы сможем позволить себе сегодня вечером развести костер, – сказал он. – Если только найдем хворост. Причем сухой хворост.
В течение следующего часа они занимались тем, что подготавливали место для ночлега – искали хворост и разводили костер, убирали камни в пещере, где Бадр предложил улечься спать, носили ветки папоротника-орляка и разные листья, чтобы использовать их в качестве подстилки. Им было совсем нечего есть, и мысль о том, что на следующий день нужно будет умудриться раздобыть где-то еды, серьезно беспокоила мавра. Однако, взглянув на мальчика, он вспомнил, что, кроме пустых желудков, в окружающем его мире есть пустоты, которые мясом и напитками не заполнишь.
Пещера была низкой и вообще небольшой по размерам – скорее просто углубление в скале, чем пещера, – и, когда темнота стала кромешной, звезды на небе показались особенно яркими.
Сомневаясь в том, что мальчику сейчас захочется отвечать на какие-либо вопросы, и надеясь как-то отвлечь его и самого себя от горя, которое было таким огромным и тяжелым, что казалось осязаемым, Бадр начал разглагольствовать.
– В небе существует отнюдь не один только тип маленьких светил, – сказал он.
Джон Грант ничего не ответил, но Бадр почувствовал, что мальчик, который сидел, скрестив ноги, у костра и таращился на языки пламени, слушает его внимательно.
– Еще давным-давно греческие астрономы заметили, что большинство звезд всегда находятся в одном и том же месте, однако некоторые из них непрерывно движутся по небосклону. Ученые назвали их планетами. Это слово означает «странники».
Он сделал паузу, чтобы добавить хвороста в огонь. Искры устремились от костра вверх и затанцевали в воздухе, как будто они были живыми существами.
– Кроме того, люди, увидев, что звезды образуют своего рода узоры, имеющие различную форму, назвали их созвездиями. А позже возникло много историй, объясняющих, откуда взялись эти созвездия… Это истории про животных, охотников и богов.
– Моя мать говорила мне, что умершие праведники прорываются сквозь завесу ночи на своем пути к небесам, – сказал Джон Грант. – Светящиеся точечки – это отблески лучезарного сияния небес, которые видно сквозь дырочки, проделанные праведниками.
Слова мальчика застали Бадра врасплох: он не знал, что и сказать в ответ. А Джон Грант по-прежнему сидел, уставившись на языки пламени.
– Как ты думаешь, моя мать туда попала? – спросил он. – Я имею в виду небеса.
Бадр глубоко вздохнул и, выдержав паузу, мягко произнес:
– Надеюсь, что попала, Джон Грант. Если уж твоя мать не заслужила того, чтобы попасть на небеса, то у нас и вовсе нет никакой надежды оказаться там.
– Значит, сегодня вечером на небе должна появиться еще одна звезда, – сказал Джон Грант и перевел взгляд с костра на ночную темноту, простирающуюся за пределами пещеры.
– Да, должна появиться, – согласился Бадр. – Еще как должна.
На следующее утро погода была ясной и солнечной. Бадр, проснувшись, увидел, что лежит на боку, упершись спиной в стену пещеры. Он посмотрел на мальчика: тот лежал возле дымящихся углей костра совершенно неподвижно, но его глаза были открыты. Бадр подумал, что Джон Грант, возможно, вообще не спал. Затем, увидев, что небо было голубым и безоблачным, он решил попытаться поднять настроение если не мальчику, то хотя бы самому себе. Им следовало снова отправляться в путь, и мавр встал и начал потягиваться, чувствуя при этом, что его мускулы и кости уже не те, какими они были много лет назад. Он медленно покрутил головой, чиркая при этом бородой по груди, а потом, запрокинув голову, стал смотреть в потолок пещеры. Он повторял эти движения снова и снова то в одну сторону, то в другую, все время прислушиваясь к похрустыванию где-то глубоко в его шее. Этот хруст был похож на звуки, которые издает деревянное колесо, едущее по гравию. Наконец Бадр прекратил свои упражнения и потер лицо обеими ладонями. Вдруг почувствовав себя грязным и вонючим, он быстрым шагом спустился к реке и начал снимать одежду.
Джон Грант, все еще лежа неподвижно и не горя желанием пошевелить хотя бы пальцем, все же повернул голову к выходу из пещеры и стал смотреть на раздевающегося мавра. Он не помнил, чтобы когда-либо раньше видел голое мужское тело, а уж тем более тело темнокожего мужчины. Впрочем, хотя кожа на спине и ногах Бадра была очень темной, Джон Грант разглядел отчетливые светлые пятна на плечах и ногах ниже колен. Это были явные следы от ожогов, которые уже зажили, но кожа в этих местах теперь казалась сильно натянутой и не такой эластичной, как кожа вокруг них. Мальчик вспомнил рассказ Бадра о том, при каких обстоятельствах погиб его, Джона, отец, как Патрик Грант вытаскивал Бадра из горящей постели в объятом пламенем доме.
Мавр зашел в реку так, чтобы темная вода доходила ему до подмышек, а затем слегка наклонился вперед и поплыл. Он ударял при этом ногами по воде, и эти удары были сильными и размеренными. Джон Грант увидел, как мавр поплыл к противоположному берегу, находившемуся на расстоянии в несколько десятков ярдов. Течение пыталось унести мужчину вниз по реке, но по самоуверенному поведению мавра в воде было видно, что его это не волнует. Добравшись до мелководья, он повернулся и поплыл обратно. Прежде чем он добрался до берега, течение унесло его за пределы поля зрения Джона Гранта, и у мальчика мелькнула тревожная мысль: а что он будет делать, если уже больше никогда не увидит своего опекуна? Несколько минут спустя он услышал звуки тяжелого дыхания, а потом увидел Бадра, который появился возле своей одежды, оставленной им на берегу. Мавр взял свой плащ, кое-как вытерся им и стал одеваться.
Вернувшись в пещеру, он присел на корточки возле почти угасшего костра, пытаясь понять, нельзя ли заставить его разгореться снова. Увидев ярко-красные точки среди серой и черной золы, он наклонился и, приблизив лицо к ним, принялся тихонько дуть. Джон Грант по-прежнему лежал неподвижно и наблюдал за Бадром. Усилия мавра наконец-то были вознаграждены: из остатков костра появился ярко-оранжевый язычок пламени, резво взметнувшийся вверх. Бадр стал аккуратно класть маленькие веточки вокруг заплясавшего огня и при этом продолжал осторожно дуть на них.
– Я слышал, будто никто из тех, кого по-настоящему любили, не пропадает навсегда, – сказал он, глядя на костер, а не на мальчика. – И что если те, кто любил их, время от времени дуют на красные угольки, то память о них возвращается и согревает живых.
– Откуда ты знаешь так много обо всем? – спросил Джон Грант.
Бадр улыбнулся и покачал головой. В этот момент он был похож на большую собаку, которая отряхивается и от которой разлетаются во все стороны капельки воды.
– Я получил образование, мой мальчик, – ответил он.
– Я не твой мальчик.
Бадр продолжал разводить огонь, медленно подкладывая ветки в костер, от которого уже исходило тепло. Мавр потер руки, держа их над пламенем.
– Да, не мой, и я этого не забываю, – сказал он. – Тем не менее позаботиться о тебе – это мой долг. Я даю тебе слово. Ты не мой, но ответственность за тебя лежит на мне.
Джон Грант наконец-то зашевелился, встал и отошел от костра.
Прошло несколько минут, в течение которых Бадр о чем-то думал, неотрывно глядя на пламя, а Джон Грант тем временем наблюдал за маленькими водоворотами и завихрениями, то появляющимися на гладкой черной поверхности реки, то вдруг исчезающими.
– Ты почувствовал «толчок», не так ли? – наконец спросил мальчик. – Когда ты прикоснулся ко мне… как раз перед тем, как всадники вернулись… Ты его почувствовал, да?
Бадр посмотрел на мальчика, но тот все еще стоял к нему спиной.
– Мне показалось, что я… пьяный, – ответил мавр. Он с трудом подыскивал слова, которыми можно было бы описать возникшее у него тогда ощущение. – Или что я падаю. Было какое-то давление… Как течение той реки, в которой я только что плавал. Я чувствовал, что меня может унести куда-то в сторону.
– Что ты сказал вчера вечером о звездах, которые движутся по небу?.. – Джон Грант повернулся и пристально посмотрел на Бадра. – Ты назвал их «планетами», то есть «странниками», да?
Бадр кивнул.
– Ну так вот, я думаю, что есть еще одна планета и что мы живем на ней.
– Мои учителя говорили, что движутся небеса, – сказал Бадр. – Они говорили, что только мы пребываем в неподвижности, а все остальное движется вокруг нас.
– А я тебе говорю, что мы тоже движемся, – возразил Джон Грант. – Я чувствую это. Да и ты это почувствовал.
Бадр перевел взгляд на костер, пошевелил горящие ветки палочкой и посмотрел на ее почерневший, обуглившийся в пламени кончик.
– Хочешь есть? – спросил он.
Джон Грант пожал плечами.
– А я хочу, – сказал Бадр. – И теперь тебе придется принять решение.
Джон Грант внимательно посмотрел на мавра.
– Я пойду на поиски еды, – сказал Бадр, вставая и выпрямляясь во весь рост. – Но если я уйду, то уже не вернусь. Мне здесь надоело. Тут есть костер и что-то вроде укрытия. Если ты хочешь остаться, я не буду заставлять тебя уйти отсюда.
Взгляд мальчика стал угрюмым.
– Честно говоря, я предпочел бы, чтобы ты пошел со мной, – продолжал Бадр. – Тебе уже довелось частично увидеть мир таким, каков он есть. Впрочем, возможно, тебе пришлось познать даже слишком много для такого юнца, как ты. Я хотел бы попросить тебя пойти со мной, чтобы у меня была возможность выполнить обещание, которое я дал твоему отцу.
Джон Грант прошел мимо Бадра в глубину пещеры и сел, прислонившись к стене.
Бадр, не проронив больше ни слова, пошел к реке, а потом, повернувшись, зашагал вдоль берега. Он по привычке отсчитал сто шагов и только после этого позволил себе обернуться и посмотреть через плечо на мальчика. Джон Грант шел вслед за ним. Даже не шел, а бежал, мчась на всех парах. Он очень быстро догнал мавра, и тот удивился тому, как хорошо этот мальчуган умеет бегать. Кроме того, он заметил, что Джон Грант почти беззвучно касался ступнями твердого грунта.
– А ты, должен признать, неплохо бегаешь, – с улыбкой произнес Бадр.
Джон Грант ничего не сказал в ответ, но Бадр отметил про себя, что мальчик ничуть не запыхался и дышал довольно легко. Этот внезапный стремительный бег, похоже, оказался для него пустячным делом.
– Возможно, тебя немного утешит то, что я тоже утратил свою мать в детстве. Причем я был моложе, чем ты сейчас.
Они шли в течение нескольких минут молча, прежде чем мальчик отреагировал на слова мавра.
– Она умерла? – спросил он.
– Нет, – сказал Бадр. – Но ее тем не менее отняли у меня, а точнее, меня отняли у нее. Я ее больше никогда не видел, и у меня сейчас нет ни малейшего представления, жива она или уже нет.
Джон Грант помолчал, размышляя над услышанным, а потом спросил:
– А что произошло?
Бадр фыркнул, как будто собирался рассмеяться.
– С чего начать? – сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к мальчику. – Мой отец говорил, что наша семья когда-то прибыла из страны, которая называется Аль-Магриб-аль-Акса.
Бадр улыбнулся, с выражением произнеся эти слова, и его белые зубы блеснули. Он бросил взгляд на мальчика и хохотнул, увидев на его лице недоуменное выражение.
– Я не удивлен тому, что ты не знаешь ничего о мире, в котором мы живем здесь, внизу, – сказал он. – Такой, как ты… – Бадр посмотрел вверх, на небо, и воздел руки, словно хотел помолиться. – Такой, как ты, интересуется скорее небесами, которые расположены там, вверху!.. А название «Аль-Магриб-аль-Акса», то есть название страны моих праотцев, можно перевести на твой язык как «Дальний Запад».
Он снова посмотрел на мальчика, но не увидел на его лице того, что можно было бы назвать пониманием. Зато он увидел любопытство – источник тяги к знаниям, и охотно продолжил свой рассказ.
– Некоторым из твоих соплеменников – тем, которые получили хоть какое-то образование, – может быть известно название «Марокко», – заявил он. – И поэтому именно это название я попрошу тебя запомнить. Повтори его, пожалуйста.
Джон Грант прокашлялся, но ничего не сказал.
– Марокко, – повторил Бадр.
– Марокко, – произнес вслед за ним Джон Грант, невольно наслаждаясь звучанием этого слова.
– Хорошо, – похвалил его Бадр. – Считай, что твое обучение начинается заново.
– Так что же произошло с твоей матерью? – спросил Джон Грант.
– Я еще расскажу об этом, обещаю тебе, – сказал Бадр. – Итак, мой отец говорил, что наши предки прибыли давным-давно из…
– Из Марокко.
– Именно так. Прекрасно. Мои предки прибыли из Марокко, то есть с Запада, и нашли для себя новый дом на Востоке. Возможно, мои предки были торговцами… Возможно, они были моряками… А может, воинами. Про это уже никто не помнит… Тебе следует знать, что ты живешь на краю мира, Джон Грант. В этом мире есть многое, на что можно посмотреть. И я покажу тебе это. Ты узнаешь, что в
центре мира есть мощная точка притяжения и люди притягиваются туда из всех других мест. Такие люди, как ты, как я, как все остальные. Все подряд.
– Так что же произошло с твоей матерью? – не унимался Джон Грант.
– Я жил со своими родителями и тремя младшими сестрами в деревне, находившейся в стране, название которой – Македония.
– Македония, – повторил Джон Грант.
– В Македонии хорошо, да, – сказал Бадр. – Мы были христианами, как и ты, но в эту страну пришла другая вера. Вера могущественная и голодная.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Джон Грант. – Что значит голодная?
– Твой народ поклоняется Иисусу и его матери Марии, – продолжал Бадр. – Но в мире есть и другие народы. Мои предки жили недалеко от людей, которые поклонялись другому человеку. Этого человека звали Мухаммед, он жил и умер восемьсот лет назад. Людей, которые следуют советам Мухаммеда на пути к Богу и в рай, называют мусульманами.
– Но ты сказал, что они голодные, – напомнил Джон Грант.
– Да, голодные, – кивнул Бадр, – но жаждут они не еды, а земель… и людей. У приверженцев этой веры – она называется «ислам», что означает «подчинение Богу», – есть обычай отнимать детей у христиан и делать из них мусульман, а заодно и воинов, которые могли бы сражаться на их стороне.
Джон Грант слушал эту историю точно так же, как он когда-то слушал сказки своей матери, которые она рассказывала ему перед сном.
– Однажды мусульманские воины нагрянули в мою деревню и забрали меня – вырвали прямо из рук моего отца, – сказал Бадр. – Они забрали из моей деревни всех маленьких мальчиков, связали нас длинной веревкой и увели прочь от нашей прежней жизни.
– И они научили тебя сражаться? Сделали из тебя воина?
– Они научили меня всему. Но в первую очередь они сделали меня мусульманином – заставили поклясться своей жизнью, что я буду следовать заветам одного лишь Мухаммеда. Они отдали меня в другую семью, и там меня вырастили как своего собственного сына.
– И ты никогда не приезжал домой?
– Не приезжал до тех пор, пока не стал взрослым человеком. И воином. Они называли меня тогда янычаром.
– Янычаром?
– Это означает «новый воин». Они называли нас янычарами и заставляли воевать на их стороне.
– А когда ты приехал домой?
– Когда я приехал домой, моя деревня исчезла. Остались одни только развалины.
– А что произошло с твоими родителями и сестрами?
Бадр покачал головой.
– Они тоже исчезли, – ответил он и пожал плечами. – Просто исчезли.
Некоторое время путники молчали и слышалось только журчание реки, вдоль которой они шли.
– Я хотел бы стать янычаром, – вдруг сказал Джон Грант. – Я хотел бы стать янычаром и убить человека, который убил мою мать.
– Я могу научить тебя сражаться, – отозвался мавр, которого слова мальчика, казалось, нисколько не удивили. – Но сначала…
Он, посмотрев на Джона Гранта, улыбнулся, а затем показал куда-то вперед.
– Что сначала? – спросил мальчик.
– Сначала мы поедим.
Они приближались к крутому повороту реки. За ним, в нескольких минутах пути, над рощицей белых кленов в безоблачное небо поднималась струйка белого дыма.
– Раньше твои соплеменники были гостеприимными по отношению ко мне, – сказал Бадр. – Посмотрим, будут ли они такими и сейчас.
С этими словами он побежал легкой трусцой. Джон Грант с легкостью последовал за ним.
11
На Востоке, 1448 год
Страсть исчезла у Джона Гранта так бесследно, как будто она никогда и не возникала. Вместо стремления прижаться к этой женщине и войти в нее он почувствовал желание отодвинуться от нее подальше, что он и сделал. Они были теперь уже не такими, как раньше. По крайней мере она стала для него совсем другой. И он знал, что вскоре его показное равнодушие изменит все и для нее тоже.
Он лежал на спине с открытыми глазами, рассматривая эту маленькую комнату. Несколько минут назад – и несколько часов до этого – его разум был занят только мыслями о том, как бы найти себе женщину. Он нашел ее и стал домогаться ее с тем рвением, с которым его научили воевать. На какое-то время важным стало только то, что имело отношение к ней. Теперь же, несмотря на то что его кожа все еще была влажной от ее пота, мысли Джона Гранта были направлены на что угодно,
кроме нее.
Его оружие находилось рядом с постелью – вместе с его одеждой и кошельком. Он потянулся левой рукой к дощатому полу и, нащупав маленький кожаный мешочек, перетянутый бечевкой, взвесил его на руке и с удовольствием отметил, что монет в нем еще немало. Умелым и опытным наемникам платили хорошо, и последние пару лет деньги к нему и Бадру Хасану текли рекой.
Стены комнаты были грубо оштукатурены и побелены. Здесь, кроме кровати, имелась и другая мебель. У стены стояли два стула с сиденьями из грубой материи, украшенной вышивкой. Значительную часть помещения занимал стол, который когда-то был очень даже добротным, но это было много лет – и трапез – назад. Джон Грант подумал, что такой стол лучше бы подошел для таверны, находящейся этажом ниже.
А вот кровать, на которой они лежали, несомненно, была удобной: набитый перьями матрас оказался таким же приятно пухлым, как и женщина, лежащая сейчас рядом с ним, Джоном Грантом. Лунное сияние, с трудом проникавшее в комнату через сводчатое окно, вкупе с огнем, горевшим в очаге, расположенном в углу, освещали небольшое помещение. Возле очага лежала стопка дров, и он собрался было встать и подбросить одно или два полена в затухающий огонь, но затем решил не делать ничего, что могло быть воспринято как желание остаться здесь подольше.
Джон украдкой покосился на объект своей быстротечной страсти. В течение нескольких минут эта женщина лежала, тяжело дыша, в такой позе, в которой он ее оставил, – с вытянутыми вдоль тела руками и широко разведенными ногами. Ее колени были приподняты на несколько дюймов над матрасом, и без его тела, лежащего на ней, она казалась чем-то неполным и даже нелепым. А еще создавалось впечатление, что их танец уже закончился, но она не обращала внимания на то, что партнер отстранился и отошел в сторону. Сама их интимная близость – или, по крайней мере, необходимость в ней, которая привела его в эту комнату, – теперь вызывала у Джона противоречивые чувства и заставляла задуматься. Ее груди, так сильно привлекавшие его всего лишь несколько минут назад, теперь вызывали у него неприятие: они как бы сдулись и расползлись каждая к своей подмышке. Тем не менее эта женщина все равно была красивой и еще достаточно молодой, чтобы вести себя с некоторым гонором.
Его внимание, однако, привлекла при их первой встрече прежде всего ее улыбка, с которой она сновала между столами таверны, расположенной под комнатой, где они сейчас лежали. Женщина с присущей ей сноровкой разносила бокалы с вином и кружки с пивом и весело обменивалась шуточками с посетителями. Она была хорошо сложена и имела весьма соблазнительные округлые формы и длинные ноги, а симпатичное личико делало ее вдвойне привлекательной – это все равно как если бы у добротного дома имелся в придачу полный плодовых деревьев сад.
Ему было жаль – жаль и ее, и, может быть, самого себя. То, что он так сильно возжелал ее, теперь казалось ему невероятным. Она, захихикав, свела ноги вместе и потянулась за покрывалом, чтобы накинуть его на их голые тела. Почувствовав неожиданно возникшее охлаждение, она, похоже, решила попытаться сохранить хоть сколько-то тепла. Джон Грант ничего не сказал, но, когда она прильнула к нему и положила свою голову с растрепавшимися волосами ему на грудь, он обхватил ее рукой за плечи. Она нравилась ему раньше – и она нравилась ему сейчас. Все еще нравилась. И Джону Гранту не хотелось оскорблять ее чувства, но необходимость в интимной близости уже прошла.
– Что тут можно хорошего поесть? – спросил он у нее там, в таверне.
Его голод усиливался еще и тем, что он выпил свою дневную норму крепкого красного вина на голодный желудок. Она уже начала поворачиваться к нему спиной, когда эти слова слетели с его губ. В тот момент он таращился на ее колыхающиеся бедра и ягодицы, и она замерла, а потом повернулась к нему лицом. Она вообще-то уже обратила на него внимание, а потому знала,
что увидит, когда будет отвечать на его вопрос. «Хорошенький» – именно это слово пришло ей на ум, когда она впервые увидела его, и именно это слово вертелось у нее на языке, когда она обдумывала свой ответ.
– Здесь все хорошее, – сказала она, держа руку на округлом бедре. – Все, что ты пожелаешь. И всего полно.
Она снова отвернулась и стала обходить потертые столы, за которыми сидели многочисленные посетители.
«Хорошенький», – опять подумала она и криво усмехнулась.
Она была не первой, кому приходило в голову это слово при виде Джона Гранта. Оно приходило в голову и женщинам, и мужчинам. Некоторые девушки и женщины считали его внешность женоподобной и быстренько переключались на поиски кого-то более похожего на мужчину. Те, кто одобрительно относился к его внешности – внешности, которая отражала и в чем-то дополняла их собственную привлекательность, – часто чувствовали, что никак не могут им насытиться (хотя он насыщался ими довольно быстро).
Бадр Хасан шлепнул под столом своей огромной ладонью по ляжке Джона Гранта и затем сдавил ее пальцами чуть выше колена – сдавил так, что нога молодого человека, вздрогнув, резко выпрямилась. Его колено при этом так сильно стукнуло по столешнице снизу, что только что наполненный стакан опрокинулся. Все его содержимое пролилось Джону Гранту на ноги, тут же пропитав его штаны до кожи. Джон Грант охнул и недовольно поморщился. Пустой стакан шлепнулся на пол и разбился.
Услышав звон, женщина обернулась и вновь увидела это хорошенькое лицо. Джон Грант, глядя в ее широко раскрытые глаза, покачал головой и поднял руки в знак того, что извиняется. Ей, похоже, хотелось улыбнуться ему, но вместо этого она бросила на него сердитый взгляд и направилась к их столу.
Джон Грант пристально посмотрел на Бадра, но тот уже вроде бы увлекся разговором с каким-то человеком, сидящим справа от него. Женщина подошла к Джону Гранту, и он невольно обратил внимание на исходящий от нее запах – довольно резкий, с сильным привкусом соли. Да, от нее пахло солью, и она показалась ему морским бризом, который привлекает и завораживает. Джон Грант почувствовал, что между его ног, несмотря на пролитое холодное вино, возникло напряжение. Он украдкой посмотрел вниз и незаметно прикрыл ладонями место, где его штаны приподнялись, в надежде, что она ничего не увидит.
– Не страшно, – игриво произнесла женщина.
Бадр расхохотался, поняв шутку еще до того, как ее смысл дошел до Джона Гранта. Юноше захотелось ее, причем захотелось очень сильно. Его привлекало в ней все – и плавные очертания фигуры, и резкий запах, и кривая усмешка на хорошеньком личике…
Время текло час за часом, и ими было выпито немало крепких напитков. Джон Грант и эта женщина стали обмениваться откровенными томными взглядами. Они как бы невзначай касались друг друга, когда оказывались рядом, протискиваясь между столами, и в течение всего долгого вечера он снова и снова брал у нее вино. А затем взял и ее саму.
Но это было уже позади. Теперь кончики его пальцев слегка касались ее груди, и он, глядя на эту грудь, видел темные, цвета баклажана, растяжки, расходящиеся веером от соска. Она положила одну ногу на него, и он впервые почувствовал, как колются вставшие дыбом волоски на ее голенях. Возможно, она с должным вниманием относилась к своей внешности, но после того, как их соитие закончилось, недостатки ее облика стали для него более заметными, а потому отвлекали его внимание, которое раньше было всецело обращено на ее пышные формы и на то, как вздымалась и опускалась ее грудь, когда она смеялась.
Теперь ему казалось, что ее кожа вовсе не пахнет морем, а просто путом – пахнет так сейчас и пахла так раньше. Когда он прижимался лицом к ее шее и терся своим телом о ее тело, ее кудри, выглядевшие такими привлекательными в освещенной свечами таверне и так сильно дурманящие его, пахли вообще-то жиром, на котором готовят еду. Когда она прерывисто дышала, прильнув лицом к его груди, у нее изо рта пахло плохим вином…
Она тихо захихикала, выказывая свое удовольствие, и его тело невольно напряглось в ответ на ее раскованность по отношению к нему, почти незнакомому ей человеку.
– Быстро… но не слишком быстро, – прошептала она и снова захихикала.
Это было правдой, и он это знал. Джон Грант едва не покраснел, но тотчас утешился второй частью ее реплики и нежностью, которая чувствовалась в ее хихиканье и свидетельствовала о том, что интимная близость с ним была ей приятна.
И хотя теперь она была уже прошедшим эпизодом его жизни, о котором он будет вспоминать лишь изредка, ему все еще было не все равно,
что она про него думает. Вопреки своему намерению вести себя сдержанно, он покрепче обнял ее за плечи и прижался лицом к ее макушке. «Всего лишь женщина… Да, просто женщина», – подумал он и поцеловал ее кудри.
Осознав, что его губы только что пошевелились, он на мгновение задумался, а не произнес ли он эти слова вслух. Но настроение женщины не изменилось, и он успокоился. Джон Грант всегда переживал по поводу того, что все эти женщины и девушки о нем думают, но не настолько сильно, чтобы спросить их об этом или побыть подольше рядом с какой-нибудь из них. Он решил, что уйдет, как только она заснет или как только погаснет огонь, – что произойдет быстрее.
Ему вдруг вспомнилась мать. Память о ней была для него словно преданная собака, которая всегда находилась рядом. А еще ему вспомнились ее могила, цветы утесника, стрела и Ангус Армстронг. С момента смерти его матери прошли уже годы, но этот искусный лучник про них, похоже, не забыл. Джон Грант уже превратился из мальчика в мужчину, а Бадр Хасан учил и опекал его как мог, однако ни время, ни расстояние, ни что-либо другое не могли заставить их врага успокоиться.
Женщина задремала, и ее сознание теперь плыло, как лодка-плоскодонка, отвязавшаяся от пристани. Джон Грант слушал ее дыхание, глубокое и спокойное, и ему хотелось плюнуть на все и тоже уснуть.
Однако ему не давали покоя мысли об Ангусе Армстронге. Джон Грант мысленно представлял его себе таким, каким он был в ту ночь, и молился Богу, чтобы побыстрее настал день, когда он лично выпустит кишки этому меткому лучнику.
Он уже не раз удивлялся тому, какой далекой была его нынешняя жизнь от той жизни, на которую он когда-то рассчитывал. Он был похож на семя, упавшее с какого-то высокого дерева и унесенное ветром далеко прочь. Бросив взгляд на спящую женщину, он затем перевел его на балки комнаты, которая находилась над таверной в стране, абсолютно не похожей на его родину, и с грустью покачал головой, словно не веря самому себе.
Он был сыном фермера и лишь совсем недавно превратился из подростка в мужчину. Ему изначально было суждено вести нелегкую, но спокойную жизнь земледельца. Он посмотрел на свои руки, растопырил пальцы и подумал, что его коже уже следовало бы огрубеть и потемнеть от земледельческого труда, то есть стать такой, какая была на руках, которые когда-то ухаживали за ним и ласкали его.
Джон Грант стал рассматривать свои ногти, неровные и короткие, и вспомнил, как выглядели упрямые полумесяцы ногтей на других пальцах, которые ласково гладили его спутавшиеся волосы и счищали остатки еды, размазавшейся и засохшей у него на щеках.
Он вспомнил нежное прикосновение ладони, руководимой совсем иной любовью, – той, которой он был лишен вот уже много лет. Он попытался вспомнить прикосновение, которое когда-то казалось ему даже более знакомым, чем его собственное, и на несколько мгновений ему до боли захотелось, чтобы эти измученные тяжелой работой руки дотронулись до него еще раз, взъерошили его волосы или легли на плечи, предвещая материнский поцелуй.
Когда-то ему казалось невообразимым удалиться от материнского дома на расстояние в час ходьбы. И вот он стал воином, его руки обагрены кровью, а тот дом и та темная могила, в которой покоятся кости Джесси, находятся за полмира отсюда.
Вместо того чтобы выращивать зерно и разводить скот, то есть заниматься тем, на чем основана жизнь людей, он стал нести смерть. Как и у Бадра, его оружием были меч и нож, и эти двое мужчин зарабатывали себе на жизнь тем, что отправляли на тот свет души своих противников, участвуя в войнах, которые затевали не они сами. Они были наемниками – наемными убийцами, ставшими мастерами в этом деле. Несмотря на юный возраст, Джон Грант обладал рано развившимися у него способностями воина, восхищавшими не только его наставника, но и многих других людей.
Эта ночь, в которой главными стали красное вино и доступная женщина, была всего лишь небольшой передышкой на пути к еще одной авантюре. Уже совсем скоро их единственная забота будет состоять в том, чтобы уцелеть и заработать побольше денег. Они не имели собственного дома, ибо все время перемещались по окровавленному лицу континента, участвуя в разных вооруженных конфликтах, вспыхивающих с завидным постоянством то тут, то там.
Скоро они окажутся рядом с воинами-христианами в войске венгерского полководца Яноша Хуньяди. Великий замысел Хуньяди, на который им двоим вообще-то было наплевать, заключался в том, чтобы нанести поражение османскому султану Мураду II. Ну что ж, пусть повезет этому полководцу, если его замысел и в самом деле можно будет реализовать, а они при любом результате этой затеи наполнят свои кошельки серебром и золотом.
У Джона Гранта, наверное, возникало желание оплакивать одну непрожитую жизнь и другую, прерванную, но его глаза оставались сухими, как будто их высушивал дым, поднимающийся от костра в полевом лагере.
12
Косово поле, Приштина, месяц спустя
Джон Грант осознал,
чему суждено произойти, как только его глаза встретились с глазами этой красивой незнакомки. Вокруг была толкотня, люди сновали туда-сюда, но что-то в выражении лица этой девушки заставило его взгляд остановиться именно на нем и сразу все понять. Между ними тут же возникла невидимая связь – взаимопонимание, достигнутое за одно мгновение.
Сердце Джона, и так уже бьющееся ускоренно от охватившего его предвкушения, заколотилось еще сильнее. Хотя их разделяла толпа, они оба почти перестали замечать всех остальных людей, находившихся на рыночной площади. Большинство из них уже разделились на пары (пусть они танцуют свои собственные танцы). Те, кто остался в одиночестве, теперь скучали и, усевшись где-нибудь в сторонке, никого теперь не интересовали.
Джону Гранту показалось, что они идут вместе по глубокой воде: движения были медленными, звуки, похожие на какое-то странное эхо, – приглушенными и доносившимися как бы издалека. Приближающееся к нему лицо всецело завладело его вниманием: угловатые линии, смягченные и приукрашенные темными миндалевидными глазами. В них было полно света и жизни, но также чего-то тяжелого и эгоистичного. Возможно, жестокости. Такие лица и глаза нравились Джону Гранту больше всего, и на его пути их встречалось не так уж мало.
Мгновение за мгновением, шаг за шагом – и они, повинуясь ритму танца, постепенно приближались друг к другу. Он смотрел только на нее, а она – только на него.
Бадр Хасан мог только наблюдать за процессом ухаживания, происходящим у него на глазах. В какой-то степени его впечатляла ловкость Джона Гранта, но он все же относился к такого рода качеству неодобрительно, причем его негативное отношение усиливалось по мере того, как текли годы. Он вырастил Джона Гранта как собственного сына и, как любой хороший отец, радовался успехам своего питомца. А еще, по правде говоря, он удивлялся тому, как Джон Грант быстро взрослеет. Но если раньше Бадр радовался и поражался, наблюдая за ним, то теперь все чаще сомневался в том, хорошо ли это. Когда-то он решил сделать из Джона Гранта воина и добился в этом немалых успехов. Однако Джон Грант, став воином, стал еще и наемным убийцей, а это уже совсем другое дело. Мавр хотя и не очень-то радел за спасение чьих-либо душ, но все же задавался вопросом, а осталось ли в Джоне Гранте хоть что-то от того подростка, каким он угодил в руки к нему, Бадру.
Мальчик, которого он когда-то встретил, был очень чувствительным по отношению ко всем приливам и течениям в океане жизни. Но шли годы, и в сердце этого подростка
появилась пустота – такая, как будто его сердце порвали, причем уже давно.
На тех, кто встречал этого мальчика – а затем уже юношу, – большое впечатление производило присущее ему обаяние. Мужчины завидовали его таланту по части общения с женщинами, а женщины замечали в нем нечто большее, ценили что-то еще. Однако при всей нежности, которую вроде бы излучали глаза Джона Гранта, в них чувствовалась пустота. Самые сообразительные догадывались, что с ним что-то не так. Для самых лучших из них, самых добрых, – все было понятно. Если он раскрывал перед кем-нибудь свою душу, то она оказывалась похожей на комнату, которая выглядела странной не из-за того, что в ней имелось, а из-за того, чего в ней не хватало.
Комната эта поначалу могла показаться уютной, но заглянувший в нее гость быстро понимал, что на самом деле это обманчивое впечатление. Там и сям на стенах пестрели отметины, оставшиеся от содранных обоев. Предметы мебели имелись не в полном комплекте, а окна были не со всеми стеклами – вместо отсутствующих стекол были вставлены покрашенные дощечки. В общем, много чего не хватало, а поэтому общий вид был не очень-то приятным.
Кое-что Джон Грант утратил еще тогда, когда был совсем юным. В комнате имелся очаг, но в нем не было огня. Там стояли свечи в подсвечниках, но они не горели, а потому от них не исходил ободряющий свет. С того момента, как его мать ушла из его жизни – ушла навсегда, – Джон Грант подсознательно пытался найти ее, но не находил.
Этот мальчик, рано потерявший мать и со временем ставший мужчиной, до сих пор страдал от утраты самого близкого человека.
Бадру тоже было неприятно вспоминать о кончине Джесси Грант, но он в большей степени переживал не за себя, а за этого парня. Впрочем, выработавшаяся у Джона Гранта черствость кое в чем принесла ему пользу. Точнее, она принесла пользу им обоим.
Джон Грант по-прежнему обладал удивительной способностью чувствовать присутствие людей за пределами своего поля зрения. Бадр поначалу опасался, сможет ли мальчик приспособиться к жизни, в которой будут фигурировать не только он, его мать и их дом. Однако в условиях отсутствия матери сердце мальчика стало холодным как сталь, а вокруг него образовалась прочная защитная оболочка.
Не умея делать ничего другого, кроме как сражаться, Медведь сделал из своего подопечного юнца воина – такого, каким был он сам. Поскольку ни он, ни Джон Грант не чувствовали привязанности к какому-либо знамени или какому-либо человеку – не считая, разумеется, их отношения друг к другу, – они сражались исключительно за деньги. Учитывая, что Бадр был искусным воином, а Джон Грант стал воином экстраординарным, жизнь у них была довольно неплохой, хотя и нелегкой. Выигрывая в большинстве случаев и проигрывая лишь иногда, они извлекали из каждой своей авантюры деньги тем или иным способом. Однако в настоящее время сердце Бадра болело не из-за денег и репутации.
Будучи довольно сильно занятым собственными делами, он все же находил время, чтобы присматривать за своим подопечным. И когда он мог понаблюдать за действиями Джона Гранта, его неизменно восхищали изящество и эффективность этих действий…
Расстояние между Джоном Грантом и новым объектом его внимания сокращалось, и Бадр в конце концов отвел взгляд в сторону – отчасти для того, чтобы не мешать этим двоим, а отчасти руководствуясь необходимостью направить свое внимание туда, где в нем было гораздо больше потребности.
Прекрасное лицо девушки открыто выражало ее намерения. Мягкие волнообразные движения обещали много – может быть, даже слишком много. Прием Джона Гранта был всегда одним и тем же и всегда срабатывал. Он напустил на себя беззащитный вид – эдакий мужчина с распахнутым сердцем. Любой сторонний наблюдатель сказал бы, что он очень уязвим. Выражение его юношеского лица было таким же открытым, как и его объятия.
Они оба ощущали потребность – настоятельную потребность сблизиться, – но Джон Грант неожиданно остановился и замер. Можно было только догадываться, от чего вдруг заблестели эти большие карие глаза, смотрящие на него, – от похоти или любви, – однако же заблестели они очень ярко.
Джон Грант чувствовал заряд жизненной силы приближающейся к нему девушки, чувствовал прикосновение ее взгляда к его лицу и открытой коже рук. Оценивая ее фигуру и читая в глазах ее намерения, он как будто решал, куда ему в первую очередь положить свои руки.
Наконец агония предвкушения закончилась и они посмотрели друг на друга раскованным – абсолютно раскованным – взглядом. Перестав изображать из себя статую и как бы ожив, Джон Грант неожиданно сделал шаг назад. Его партнерша тут же пришла в смятение и явно растерялась. Может, произошла какая-то ошибка, может, она чего-то не поняла и теперь ее ждут только стыд и замешательство?
И тут вдруг окружающая Джона Гранта умиротворенность сменилась шумом уже приближающегося к своему концу сражения. Сражение это переместилось с поля битвы в близлежащий город, на его улицы, улочки, переулки, в его дома и сюда, на многолюдную рыночную площадь. Мечи заплясали там, где имелось свободное место, однако в давке последних минут в ход пошли ножи, кулаки и даже зубы.
Керамбит
[7] представлял собой нож, имеющий форму, похожую на коготь тигра. Его клинок был изогнут так, что казался частью какой-то дуги. Его можно было спрятать где-нибудь в одежде или под ней, у самого тела, и внезапно достать, когда возникнет необходимость пустить кому-нибудь кровь. Его привезли из Азии, где было хорошо известно о повадках и приемах тигра. Указательный палец руки засовывался в отверстие в конце рукояти, а все остальные пальцы крепко сжимали эту рукоять. В схватках такой нож использовался в том случае, когда два тела оказывались друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Удары наносились чаще всего снизу вверх, но таким резким движением, каким наносит удар лапой кошка.
Джон Грант, прикончив очередного противника, сцепился со следующим. Его левая рука, держащая грозный клинок, оказалась зажатой как раз между ними, однако ему не понадобилось делать большого усилия, чтобы высвободить ее. Острое легкое лезвие разрезало одежду, кожу и мышцы. Лицо этого воина, симпатичное и блестящее от пота, находилось в этот момент вплотную к лицу Джона Гранта, и он почувствовал его горячую кожу и липкий пот. Джон Грант слегка отстранился, чтобы получше рассмотреть его, а затем отступил на шаг, резко поднял руку с ножом и, вонзив лезвие на глубину одного дюйма, резанул блестящим, как серебро, металлом по открытой коже шеи. Острая боль от укола ножом в живот заставила воина откинуть голову назад, а потому кожа на его шее оказалась туго натянутой, и резать ее было легко. Он не смог даже вскрикнуть, и темно-красная кровь хлынула из длинного – от уха до уха – пореза, который постепенно увеличивался.
Бадр с помощью кривой сабли расправился со своим противником, и, когда безжизненное тело рухнуло на вымощенную булыжником площадь, он успел бросить еще один взгляд на более элегантное проявление воинского мастерства. Неподалеку от него, посреди ужасов ожесточенной рукопашной схватки, в которой терпящие поражение христиане изо всех сил пытались сдержать наседающих врагов-мусульман, он увидел последние моменты одновременно и жестокого, и красивого действа.
Джон Грант отступил на шаг от своего противника и – как потом был готов поклясться Бадр – слегка поклонился ему. Да, его голова и в самом деле наклонилась вперед на дюйм или два, когда уже умирающий воин упал на колени, а затем плюхнулся на бок. Удовлетворенный, но еще не пресытившийся, Джон Грант повернулся и стал искать взглядом кого-нибудь еще. Бадр закрыл глаза.
Когда он открыл их снова, он увидел, что Джон Грант бежит к нему.
– Здесь нам больше делать нечего! – крикнул юноша, подбегая к своему старшему другу. – Сегодня удача на их стороне. Нам сейчас лучше всего убраться отсюда.
Бадр хлопнул юношу по плечу и притянул к своей груди. Обняв его по-отцовски, он увлек Джона Гранта за собой в какой-то переулок, ведущий прочь от площади. Джон Грант не заметил, что на глазах у мавра выступили слезы.
– Ты прав, – согласился Бадр и потер рукой лицо. – Эти османы на подъеме, скажу я тебе. Хуньяди и его венгры выкладывались полностью, и не один раз, но все без толку. Мусульмане Мурада уж очень прыткие. К тому же их слишком много. Благодаря их амбициям мы могли бы стать богатыми. Я полагаю, парень, что пришло время переметнуться на другую сторону.
Джон Грант засмеялся горьким смехом, пока они бежали, перепрыгивая через трупы и проскакивая через разломанные двери и дыры в остатках сооруженных кое-как баррикад.
– Бог… Аллах… Какое значение имеет то или иное имя для таких людей, как мы? – сказал он.
13
Где-то в державе турок, шесть месяцев спустя
Сражение началось вскоре после рассвета, и теперь мавр осматривался по сторонам, глядя на множество убитых людей, которые лежали вповалку на поле боя. Не всех их прикончил он, однако и ему удалось отправить на тот свет нескольких противников. Воздух был тяжелым от пролитой крови, запах которой напоминал запах железа, и вонючих испарений, исходящих от исколотых и рассеченных на части тел.
Для Бадра Хасана и Джона Гранта изменилось все и одновременно не изменилось ничего. На волнах отлива – отлива со стороны сил и воинов Христовых – они позволили себе приплыть на службу к османам.
Сделать это было нетрудно. Бадр говорил на арабском языке, и все в нем – от цвета его кожи до стиля одежды – свидетельствовало о том, что он скорее станет воевать за турок, чем за кого-либо другого. То, что его спутник был намного меньше по своей комплекции и намного светлее по цвету кожи и волос, теряло всякое значение после того, как молодой человек показывал своим потенциальным работодателям, как ловко он умеет обращаться с керамбитом.
Утреннее солнце стояло еще довольно низко в небе, но в воздухе уже появилось марево от летней жары. Прошло не более часа, когда все стало ясно. Войско христианского императора утратило боеспособность. В нем почти не было дисциплины, и те воины, которые все еще могли сражаться, убегали с поля боя, преследуемые победителями. Кое-где благодаря решительности отдельных военачальников возникали очаги сопротивления, и именно перед группой таких отчаянных людей сейчас оказались Бадр и Джон Грант.
В пылу сражения Бадр ненадолго потерял из виду своего подопечного, но во время коротенькой передышки, окинув взглядом поле боя, он все же увидел его. Правда, теперь Джона Гранта вряд ли можно было назвать учеником. В этот момент юноша вступил в поединок с широкоплечим, облаченным в доспехи великаном, явно намеревающимся разрубить своего противника на множество кусочков. Будучи выше ростом и тяжелее Джона Гранта, этот громадный крестоносец ловко орудовал двуручным палашом, как орудует своим ножом мясник.
Несмотря на преимущество в комплекции, он сильно устал и уже почти выдохся, а потому легкому Джону Гранту без особого труда удавалось уклоняться от его неуклюжих ударов. Окончательно выбившись из сил, этот верзила слегка наклонил бычью голову и, опустив оружие, оперся на него.
Джон Грант, проворно устремившись вперед, использовал энергию своего движущегося тела, чтобы вложить как можно больше силы в удар, которым он отсек голову великана от его ссутулившихся плеч. Голова отлетела в сторону, а массивное обезглавленное тело начало оседать на землю. На какое-то мгновение его падение, причем довольно комично, задержал палаш: кончик клинка вонзился в песок, а рукоять уперлась в живот гиганта, приняв на себя вес падающего мертвого тела. Затем громадный крестоносец медленно завалился на бок и в конце концов шлепнулся на землю с глухим ударом.
От Бадра не укрылось, что за этим поединком наблюдает не только он. Другие воины-крестоносцы, увидев кончину своего могучего боевого соратника, тут же пали духом. Христианские вояки уже даже привыкли к тому, что они часто терпят поражения на Востоке, а потому те немногие из них, кто еще пытался оказывать сопротивление, решили, что им ничего тут не добиться, и побежали прочь с поля боя, усеянного телами мертвых и умирающих товарищей.
Некоторые из них убегали с оружием в руках, а некоторые бросали свое оружие, полагая, что так будет легче. Общее отступление, довольно хаотичное, могло вскоре превратиться в беспорядочное бегство, ибо каждый воин, пытаясь оценить свои шансы на выживание, действовал по собственному разумению, уже никому не подчиняясь. Бадр, наблюдая за тем, как последние из христиан, преследуемые отрядами султана, в страхе бегут прочь, вдруг заметил птицу.
Впрочем, заметить бородача довольно легко – размах крыльев в десять футов и длинный узкий хвост делают его силуэт хорошо различимым на фоне голубого неба. Бадр, засмотревшись на птицу, вспомнил, что его соплеменники называют ее
хума и верят в то, что такие птицы никогда не садятся на землю. Бадр, однако, много раз видел, что еще как садятся – а особенно на поле боя, залитое кровью убитых людей. Птицы эти любят не столько мясо, сколько кости, которые они выдирают из мышц и сухожилий, а затем взлетают с ними высоко в небо и бросают их с высоты на скалы, чтобы кости от удара о камень разлетелись на куски. После этого бородачи спускаются по спирали на скалы и лакомятся окровавленным костным мозгом и даже молочно-белыми обломками костей.
У Бадра не было времени на всякие глупости вроде наблюдения за бесконечным полетом хищной птицы, но он, будучи мнительным, верил в существовавшую у его соплеменников легенду о том, что если на человека упадет тень, которую отбрасывает
хума, то он когда-нибудь сядет на трон и станет царем.
А потому Бадр замер как парализованный, когда увидел, что эта птица начинает снижаться, причем не так, как обычно, то есть по спирали, а камнем вниз – подобно соколу, увидевшему добычу. Аккуратно сложив крылья и растопырив когтистые лапы, бородач молнией устремился с небес к земле. По мере того как он снижался, окраска его оперения становилась все более отчетливой – голубовато-серые крылья и хвост, рыжевато-коричневые грудь и голова, темно-красные круги вокруг глаз.
Когда уже казалось, что птица вот-вот ударится о землю и уйдет в песчаный грунт, как какой-нибудь метеорит, бородач вдруг резко расправил крылья, сложил ноги и, описав красивую дугу, полетел над полем боя на высоте всего лишь нескольких ярдов.
В тот момент, когда траектория его полета снова начала удаляться от земли, он с силой замахал крыльями, так что на какой-то миг его тело словно застыло в воздухе.
Это продолжалось всего мгновение, такое коротенькое, что только Бадр Хасан успел заметить, как тень птицы, словно черная накидка, легла на спину Джона Гранта. Бадр ахнул, и у него от волнения, вызванного этим видением, перехватило дыхание. Он, и только он, увидел, как на его приемного сына легла тень в форме креста.
Мавр почувствовал, как к горлу подступил горячий комок, а в глазах запекло от навернувшихся слез. Волоски на его шее и руках встали дыбом, и он задался мыслью, а не раздастся ли сейчас гром и не сверкнет ли молния – не раньше, а позже раската грома.
Внезапно ему показалось, что воздух задрожал и зазвенел. Глубоко вдохнув, Бадр собрался было позвать Джона Гранта, чтобы рассказать о том, что ему довелось увидеть, но в этот момент он почувствовал сильный удар в спину. Делая выдох, мавр услышал свист собственного дыхания и, посмотрев вниз, заметил, что из нижней части его живота, ближе к бедру, торчит широкий наконечник стрелы, насаженный на длинное тонкое древко.
Он не ощутил никакой боли и никакого страха. Вместо этого его охватило всеобъемлющее чувство, которым дышала каждая его клеточка, – отцовская любовь к Джону Гранту. Снова сделав вдох и наполнив легкие живительным воздухом, Бадр, ни на миг не сводя взгляда с Джона Гранта, выкрикнул имя своего подопечного. Его голос был подобен рыку раненого медведя.
Джон Грант резко повернул голову – а вместе с ним повернули головы и отступающие крестоносцы. Впрочем, никто, кроме юноши, не удивился тому, что все они при этом увидели. Джон Грант бросился к другу, даже не заметив торчащую из его тела стрелу.
Бадр, опустившись на колени, сумел удержать в таком положении равновесие. Он легонько прикоснулся рукой к древку стрелы и ощутил, что оно подрагивает. Возможно, это было вызвано его собственным дыханием. Мавра приятно удивило, что он все еще может хорошо соображать. Джон Грант подбежал к старшему товарищу, опустился перед ним на корточки и только тут увидел стрелу. Он потянулся рукой к наконечнику, но не успел коснуться стрелы, потому что его внимание вдруг привлекло какое-то движение далеко позади раненого Бадра. Всмотревшись, он узнал человека, которого ему когда-то доводилось видеть очень часто. Даже слишком часто.
По направлению к ним изо всех сил бежал Ангус Армстронг. Он пытался на бегу приложить к тетиве своего большого лука наконечник еще одной стрелы, но, прежде чем сумел сделать это, споткнулся и в полный рост шлепнулся наземь. Одной рукой Ангус Армстронг слегка смягчил свое падение, но другая его рука была занята: она сжимала лук. Чуть было не стукнувшись головой о большой камень, он распластался на песчаном грунте. Армстронгу посчастливилось не пораниться, но один конец его лука застрял в трещине этого камня.
Когда Армстронг оказался на земле и услышал какой-то треск, он поначалу подумал, что это треснула какая-то из его костей, и едва не взвыл от досады. Однако в действительности, как он осознал парой мгновений позже, то был звук его разламывающегося на две равные части лука.
Еще до того, как Армстронг споткнулся и упал, Джон Грант вскочил на ноги и бросился бежать навстречу своему врагу – человеку, который охотился за ними и преследовал его и Бадра уже много лет.
Джон Грант понимал, что жизнь их обоих – его и Бадра – зависит от того, добежит ли он до Армстронга раньше, чем тот успеет выпустить еще одну стрелу. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь этот искусный лучник валялся на земле, в пыли, но уже в следующее мгновение мог подняться, чтобы оказать ему сопротивление.
Джон Грант помчался еще быстрее, про себя отметив, в каком выгодном положении по отношению к своему врагу он сейчас оказался. Но прежде чем он успел добежать до упавшего на землю Армстронга, тот уже поднялся на четвереньки. Джон Грант, который бежал на большой скорости, попытался ударить своего противника ногой по лицу, но его нога, вместо того чтобы столкнуться с плотью и костями, лишь рассекла воздух.
Армстронг всегда был ловким и быстрым, и за долю секунды до того, как Джон Грант смог бы нанести ему сильнейший удар ногой, заставив потерять сознание, он резко перевернулся и, сдвинувшись вправо, избежал этого удара.
Промахнувшись, Джон Грант едва не стал хвататься за воздух в отчаянной попытке остановиться, однако инерция удара заставила его пробежать несколько шагов вперед, оставив врага у себя за спиной. Армстронг тем временем смог подняться на ноги, и к тому моменту, когда Джон Грант остановился и повернулся к нему лицом, он уже держал в правой руке нож, а в левой – стрелу со смертоносным наконечником.
Что ж, поединок обещал быть захватывающим. Подобное противостояние всегда было по вкусу Джону Гранту. Бадр уже давно научил его сражаться мечом, топором и обычным ножом, но особенно мастерски Джон владел керамбитом с его изогнутым клинком. Можно сказать, он орудовал им, как никто другой.
Мавра удивляло, почему его воспитаннику так нравится это небольшое по размерам оружие, и он пришел к выводу, что Джона Гранта привлекала возможность схлестнуться с противником вплотную. Ни одно оружие, кроме керамбита, не позволяло сойтись с врагом настолько близко. Совершенное убийство должно оставлять у порядочного человека ощущение того, что он запачкался, стал каким-то нечистым. Если у противника нужно было отнять жизнь и тем самым лишить его вообще всего, что у него только имелось, то некоторым людям казалось, что будет правильным совершить такое действие, находясь от него лишь на расстоянии вытянутой руки. Бадр Хасан, сам прекрасно владевший керамбитом, восхищался тем, насколько мастерски научился орудовать этим ножом его ученик, и теперь, после нескольких лет тренировок и сотен реальных поединков, даже он побоялся бы сойтись в схватке на керамбитах с молодым шотландцем.
Джон Грант приблизился к Армстронгу небрежной походкой. Его плечи были расправлены, расслабленные руки висели вдоль тела. Он знал, что сумеет достать керамбит с молниеносной быстротой: этот нож появится в его левой руке в тот момент, когда это потребуется. Самое главное заключалось в том, чтобы не дать противнику даже на мгновение увидеть это оружие. Враг должен только почувствовать его своим телом. Так когда-то говорил Джону Гранту Бадр.
Прислушиваясь к биению своего сердца, Джон Грант неторопливо обошел вокруг Ангуса Армстронга. Он хотел, чтобы его дыхание снова стало спокойным. Но тут вдруг он услышал, что Бадр снова выкрикнул его имя. Уловив в голосе раненого мавра нечто иное, отчаянное и настойчивое, Джон Грант не стал ввязываться в схватку с Армстронгом и побежал к своему другу.
14
Опиум ослабил мучившую Бадра боль, и теперь он стал прислушиваться к собственному дыханию. Он лежал на боку в полумраке какой-то пещеры. Прямо перед ним полоска солнечного света разрывала этот полумрак и освещала кусочек пола. Бадр приподнял руку и тут же почувствовал острую боль, которая заставила его глухо застонать. Тем не менее он превозмог боль и решительно протянул руку вперед, стараясь, чтобы она попала в полоску света.
– Лежи спокойно, Бадр, – сказал Джон Грант.
Он только что вернулся от входа в пещеру, где он постоял минуту-другую, чтобы убедиться, что они здесь одни и что никто из крестоносцев не пошел вслед за ними. На поле боя уже вовсю копошились и сновали туда-сюда животные и птицы, питающиеся падалью.
Джону Гранту пришлось немало потрудиться, чтобы доставить Бадра сюда с того места, где он рухнул наземь. Помогло то, что, несмотря на стрелу, торчащую у него из живота, мавр усилием воли заставил себя встать и пойти, пусть очень медленно и опираясь едва ли не всем весом на плечо спутника. Джон Грант за свою пока еще недолгую жизнь видел много ран, нанесенных всеми видами метательного, колющего и рубящего оружия. Ему доводилось видеть рассеченные надвое – от лба до подбородка – лица, отрубленные головы, продырявленные груди, вспоротые животы с вывалившимися на землю внутренностями, рваные раны на руках и ногах с торчащими из них острыми обломками костей…
Он и сам нанес немало таких ран за прошедшие годы, и не только таких. Однако при виде стрелы, насквозь пронзившей тело Бадра Хасана, его охватил такой ужас, какого он не испытывал с того далекого дня, когда увидел лежащие возле его дома тела убитых воинов. Те мертвецы показались ему тогда какими-то ненастоящими, похожими на сломанные игрушки, однако их тела, обагренные кровью – и уже засохшей, и пока еще свежей, – то и дело возникали перед его мысленным взором на протяжении многих последующих недель. Эти окровавленные мертвецы иногда появлялись в его снах, и он просыпался в холодном поту, с трудом подавляя приступ тошноты.
Впрочем, все это осталось в далеком прошлом, а род их с Бадром занятий закалил его и сделал более черствым. Однако сейчас, при виде страданий Бадра, от его закалки и черствости не осталось и следа.
Покидая поле боя, которое представляло собой большую равнину, они направились к скале, находившейся на ее краю. Враг появился на вершине этой скалы незадолго до сражения, и Джон Грант, наблюдая за ним, заметил в скале несколько довольно больших и совсем маленьких пещер. Яркий солнечный свет усиливал страдания Бадра, и поэтому Джон Грант первым делом попытался найти для него какое-нибудь тенистое и прохладное место. Пройдя несколько десятков ярдов с черепашьей скоростью, то и дело спотыкаясь при этом на неровной и усеянной камнями местности, отделяющей их от скалы, Бадр вдруг опустился на колени, как будто его ноги превратились в веревки. Его тело при этом так сильно тряхнуло, что стрела завибрировала и он невольно вскрикнул от боли. Страдание, которое слышалось в этом крике, казалось, проникло и в Джона Гранта – юноше стало так плохо, что его едва не стошнило.
Стрела пронзила тело Бадра таким образом, что он теперь мог лежать только на боку, и Джон Грант увидел, как его спутник медленно сгибается к земле, чтобы прилечь.
– Нет, Бадр, – сказал Джон Грант, подхватив мавра под мышки и изо всех сил пытаясь снова поставить его на ноги. – Мы не можем останавливаться здесь.
Если раньше они продвигались вперед медленно, то теперь вообще почти топтались на месте. Джон Грант из последних сил тащил мавра, но через каждые несколько ярдов ему приходилось останавливаться. Каждый раз, когда он это делал, ему не оставалось ничего другого, кроме как принимать вес тела уже почти потерявшего сознание Бадра на себя и при этом стараться не задеть оперенный конец стрелы. Позади них, на камнях и в пыли, словно мокрый след улитки, оставалась темная неровная полоска крови, свидетельствующая о тяжести раны и очень медленной скорости движения.
Солнце стояло в небе уже высоко, когда они наконец-то добрались до желанной тени, падающей от скалы. Вход в ближайшую пещеру был узким, как слегка приоткрытый рот, однако за ним находилось довольно большое свободное пространство. Откуда-то из высокой точки в потолке пещеры лениво стекала струйка воды, которая собиралась в небольшом углублении, а затем устремлялась к входу в пещеру и вытекала через него наружу. Когда Джон Грант затаскивал Бадра вовнутрь, кровь мавра стала смешиваться с текущей водой и окрасила ее в розовый цвет, бросающийся в глаза на фоне светлого пола пещеры.
Нужно было получше спрятаться от любопытных и недружелюбных взглядов, но когда Джон Грант остановился и, задумавшись, опустил Бадра возле текущей по полу струйки воды, мавр впервые заговорил за тот час, который потребовался им, чтобы добраться до этого убежища.
– Нет, не в темноте, – сказал он. – Не заставляй меня лежать в темноте. Я хочу видеть тебя, когда мы разговариваем.
В верхней части пещеры виднелась узкая полоска солнечного света, которая образовывала на полу золотистое пятно. Этот свет проникал в пещеру через трещину, проходившую, видимо, через вершину скалы. Именно через нее в пещеру попадала и вода, собирающаяся в небольшом углублении и затем вытекающая из нее по узкому желобку, который тянулся к входу в пещеру.
Джон Грант затащил Бадра в глубину пещеры, где благодаря полумраку было прохладно, но в то же время имелось место, куда падал дневной свет. Наличие воды делало убежище почти идеальным, но Джон Грант надеялся, что оно послужит им только для того, чтобы перекусить и переночевать.
Бадру хотелось лечь на правый бок, чтобы быть лицом поближе к солнечному свету. Когда он занял такое положение, юноша постарался создать ему хотя бы минимум комфорта: он приподнял голову раненого друга и подсунул под нее свернутый плащ, а руки и ноги мавра расположил так, чтобы ему было удобнее лежать.
Больше всего ему хотелось как-то разобраться со стрелой, однако опыт обращения с подобными ранами подсказывал ему, что они очень опасные. Если вытащить стрелу, то это может усилить кровотечение и нанести еще больший вред. Мысль о том, что рана окажется смертельной, не давала ему покоя, и Джону Гранту никак не удавалось отогнать ее прочь. Мысль эта настойчиво билась в его мозгу, как гриф, который кружит над потенциальной добычей. Как бы там ни было, до тех пор, пока он не придумает, каким образом можно помочь Медведю (если это вообще возможно), придется лежать здесь, в пещере.
Страдания исходили от мавра, будто жар от костра, и взор Джона Гранта затуманивался от слез, подступавших к его глазам, когда он смотрел, как мучается его друг.
Из сумки, висящей у него на бедре, он достал стеклянную бутылочку, облаченную в кожу, на которой виднелись потертые и кое-где порванные стежки. Здесь, в пещере, она была дороже золота и бриллиантов, и Джон Грант вытащил из нее пробку с осторожностью, граничащей с благоговением. Тихий звук извлекаемой из бутылки пробки заставил Бадра вздохнуть.
–
Afyon[8], – сказал он, переходя в своей агонии на язык мусульман.
Джон Грант подполз к Бадру на коленях и, наклонившись, приподнял одной рукой его большую темную голову. Держа в другой руке бутылочку с настойкой опиума, он влил немного темной жидкости в рот мавра. Довольный тем, что влил ровно столько, сколько следовало, он снова положил голову Бадра на свернутый плащ и пристроился рядом – так близко от него, что можно было слышать дыхание раненого и время от времени ласково поглаживать его плечо.
Ему вдруг пришло в голову, что он впервые в жизни видит своего друга беспомощным и что ему, возможно, уже ничем нельзя помочь. Джона Гранта охватил такой ужас, который едва не сломил его волю. Перед мысленным взором юноши внезапно предстали события, происшедшие давным-давно в стране, в которой он родился. Бадр куда-то исчез из его поля зрения, и он увидел перед собой Джесси, свою мать. Ее лицо было освещено не полоской солнечного света, а серебристо-голубоватым сиянием луны.
Он вскочил на ноги и быстро пошел к входу в пещеру, чтобы вдохнуть свежего воздуха.
Несколько минут он смотрел на голубое небо затуманенными от слез глазами, а потом перевел взгляд на птиц и собак, копошащихся на поле боя среди мертвых и почти мертвых людей.
«Сколько еще воинов погибнет до конца сегодняшнего дня?» – подумал он.
Джон Грант окинул взглядом простирающуюся перед ним местность, пытаясь сконцентрировать свое внимание. Вспомнив о совсем недавних событиях, он уже в который раз мысленно упрекнул себя в том, что не вступил в схватку с Ангусом Армстронгом. Его ненавистный враг еще никогда не был таким досягаемым и уязвимым. Наконец-то наступил момент поквитаться с ним, но… крик Бадра, в котором слышались тревога и боль, заставил юношу отвернуться и убежать, не тронув Ангуса Армстронга.
Необходимость помочь своему другу лишила его возможности прикончить человека, который причинил ему так много боли. Где же теперь находится этот подонок? Возможно, он уже далеко – зализывает свои раны и строит новые коварные планы. А может, он сейчас наблюдает за ним, Джоном Грантом, из какого-нибудь укромного места и взвешивает свои шансы.
Джон Грант сомневался, что без своего лука Армстронг решится подобраться близко к ним – и уж тем более попытаться на них напасть. В ближнем бою Армстронг хотя и был, наверное, довольно опасным противником, но он вряд ли мог сравниться с ним, учеником Бадра. Оставшись без своего лука, Армстронг, скорее всего, принял благоразумное решение – дал деру с поля боя, а потому даже понятия не имеет, где они с Бадром сейчас прячутся.
На протяжении прошедших лет Джон Грант начал подозревать, что Армстронг желал чего-то большего, чем их смерти: возможно, он стремился к тому, чтобы обстоятельства позволили кому-то из них остаться в живых, но при этом оказаться в его руках… Джон Грант с такой силой сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев, и пошел назад, в пещеру.
Дыхание Бадра стало более глубоким и легким. Хрипота и вызывающая ее боль были ослаблены наркотиком, а потому состояние раненого казалось не таким угрожающим. Джон Грант заметил, что мавр, протянув руку в полоску солнечного света, внимательно рассматривает ладонь. Увидев, что его молодой друг вернулся, он поднял на него взгляд и спросил:
– Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, каким образом
afyon попал в руки людей?
Джон Грант покачал головой и сел, скрестив ноги, так близко к Бадру, что его спина почти касалась груди мавра. Юноше было легче слушать его – и вообще находиться рядом с ним, – если он не видел его перекосившееся от страданий лицо. Облегчение, которое почувствовал Бадр – пусть даже оно будет недолгим, – уничтожило барьер между ними, воссоздав прежнюю невидимую связь. Джону Гранту уже не требовалось нащупывать пульс мавра, потому что он мог чувствовать неровное биение сердца великана через вибрацию, передающуюся по воздуху и воздействующую на его собственную кожу.
– Когда-то давным-давно, когда мир был намного моложе, далеко на востоке жил на берегах большой священной реки один святой человек, – начал свой рассказ Бадр.
Джон Грант предпочел бы, чтобы Бадр просто лежал и молча отдыхал, а не тратил свои силы на какие-то там рассказы, однако останавливать мавра не стал.
– Святой человек жил в своей маленькой хижине, сделанной из камыша и травы, вместе с маленькой коричневой мышью. Мышь была проворной, очень быстрой и озорной. Она всегда бегала туда-сюда и искала крошки. Как это обычно бывает, мышь очень сильно боялась более крупных животных, которые хотели съесть ее, и как-то раз она попросила святого человека превратить ее в кошку. Святой человек улыбнулся и, поразмыслив, сделал то, о чем его попросила мышь. И вот вместо мыши, стоящей перед ним на задних лапках, появилась холеная белая кошка, которая, как и мышь, облизывала свои усы… Все было хорошо в течение нескольких дней, пока кошка не осознала, что теперь она привлекает внимание собак, которые время от время рыскали вокруг дома святого человека, пытаясь чем-нибудь поживиться. Поскольку святой человек ел очень мало, остатков пищи возле его хижины почти не было, но собаки тем не менее прибегали к ней. Не находя никаких объедков, они начали подумывать о том, а не убить ли им и не съесть ли эту белую кошку.
Бадр сделал паузу и улыбнулся своему молодому другу. Джон Грант в этот момент смотрел на свои ладони, лежащие на коленях. Вслушиваясь в произносимые им слова, Бадр задавался вопросом, а не рассказывал ли он эту историю Джону Гранту раньше, причем не единожды. Однако ритм этого повествования действовал на него успокаивающе, и он продолжил свой рассказ – не только ради Джона Гранта, но и ради самого себя.
– Поэтому вскоре кошка попросила хозяина превратить ее в собаку, чтобы она могла дать отпор ее новоявленным врагам. Святой человек выполнил и эту просьбу. Когда новизна ощущений от пребывания в шкуре собаки прошла, она сначала уговорила святого человека превратить ее в большую дикую свинью, а затем – в могучую слониху. Немного времени спустя, не удовлетворившись судьбой слонихи, которой приходилось выполнять тяжелую работу, она попросила превратить ее в обезьяну. В общем, каждый раз, когда святой человек выполнял ее просьбу, она находила причины для следующего превращения. В конце концов она попросила превратить ее в красивую девушку, чтобы она могла найти какого-нибудь богача и выйти за него замуж. Святой человек снова выполнил ее просьбу, и эта девушка, получившая имя Постомони, очень быстро нашла себе царя, который сразу же влюбился в нее и женился на ней, сделав ее своей царицей. И все вроде было хорошо, но как-то раз Постомони, которая никогда не пребывала ни в одном из своих обликов достаточно долго для того, чтобы научиться выживать, споткнулась, идя по внутреннему двору дворца, упала в колодец и утонула. Царь пришел в отчаяние и призвал к себе святого человека. «Не горюй, – сказал тот, когда царь, рыдая, рассказал ему о случившемся. – Постомони начала свою жизнь мышью. Я превратил ее в кошку, затем в собаку, затем в большую дикую свинью, затем в слониху, а затем в обезьяну и, наконец, в красивую девушку, которая стала твоей женой и царицей. Теперь я сделаю ее бессмертной. Пусть ее тело остается там, где оно сейчас лежит. Заполни колодец до самого верха землей, и через некоторое время из этой земли появится растение, выросшее из ее плоти и костей. Это растение будут называть “посто”, то есть мак, и из него ты будешь получать густой сок». Царь утер слезы рукавом своего одеяния и спросил, какая польза для него может быть от этого сока. Святой человек объяснил, что все люди будут приходить, чтобы попробовать сок. Попробовав его один раз, они станут желать его так сильно, как царь желал Постомони. «Каждый, кто будет пить сок, который называется
«afyon», обнаружит в себе характеры всех тех животных. Он будет проворным и озорным, как мышь; он станет лакать молоко, как кошка; он будет бросаться на других животных, как собака; он будет диким, как кабан; он станет могучим, как слон; он будет непристойным в своем поведении, как обезьяна. Наконец, он будет надменным и властолюбивым, как царица».
Это повествование утомило Бадра: оно забирало у него силы подобно тому, как извлекается опиум из недозрелых коробочек мака.
–
Afyon, – сказал мавр, и Джон Грант поднес к его губам бутылочку.
– Почему именно сейчас, Бадр? – спросил он. – Почему ты рассказал мне это именно сейчас, в этом месте?
Мавр некоторое время молчал, давая возможность темной горькой жидкости стечь по его горлу.
– Я думал о женщинах, которых знал.
Джон Грант заерзал, разминая мышцы и суставы, которые затекли, пока он сидел неподвижно и слушал рассказ мавра.
– Ну и что? – спросил он.
– У меня когда-то был ребенок, – сказал Бадр. – Дочь.
Джон Грант широко раскрыл от удивления глаза. Он первым делом подумал, что этот великан, наверное, бредит.
– И где она теперь? – спросил он.
Бадр ответил не сразу. Его взгляд был устремлен к полоске солнечного света, и он улыбался чему-то, что видел там.
– Твой отец сделал меня твоим опекуном, – сказал он. – И я считаю себя счастливейшим из людей. Я хотел бы попросить тебя позаботиться о моей дочери, если в этом возникнет необходимость. Позаботиться о том, чтобы она была в безопасности.
– Но где я найду ее? – спросил Джон Грант.
Ему показалось, что он играет сейчас в детскую игру, в которой дети воображают себя какими-то другими людьми.
– В центре мира, – сказал Бадр. Его голос был сухим, как опавшие осенью листья. – В Великом Городе Константинополе. Да простит меня Господь… Я даже не знаю ее имени, но ее мать звали Изабелла… Изабелла Критовул… Иззи.
Когда Бадр умолк, Джон Грант стал внимательно рассматривать своего старшего друга, стараясь запомнить мельчайшие черточки его внешнего облика.
Дочь? Утраченная любовь? Еще одна жизнь – или жизни? Ему показалось, что время ускользает от него, как ускользает песок через узенькое отверстие в песочных часах, – и вместе с ним от него ускользнет правда.
– Почему ты провел эти годы со мной? – спросил он. – Почему ты здесь, на войне, а не дома?
Последовала еще одна пауза. Бадр поморщился от боли, меняя положение тела для того, чтобы побольше капелек живительной жидкости попали к нему в желудок. Наркотик уже достиг его мозга, словно нахлынувшая теплая волна.
– Константинополь никогда не был моим домом, – наконец сказал он. – Он был мне домом не больше, чем эта пещера.
Он хотел было засмеяться, однако звуки, которые сорвались с его губ, скорее были похожи на рычание.
– Что стало с твоим ребенком? – продолжал расспрашивать Джон Грант. – И что стало с Изабеллой?
Бадр медленно и глубоко вздохнул.
– Она тоже не была моей, – после довольно продолжительного молчания ответил он. – Я нуждался в ней… Я нуждался в них…
– Тогда почему ты жил без них? – не скрывая своего удивления, произнес Джон Грант. – Как… как ты мог жить без… без своей плоти и крови?
– Как бы долго и сильно мы ни любили человека, нам никогда не узнать его по-настоящему, не узнать в полной мере, – сказал Бадр.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Джон Грант.
Сознание Бадра уже плыло, словно судно, дрейфующее в океане.
– Я думал о твоей матери, – наконец сказал он.
– Почему?
Джону Гранту не терпелось узнать что-нибудь еще об Иззи и дочери мавра, но ответы Бадра, не всегда понятные, уводили обоих то в одну, то в другую сторону. Мысли раненого мавра мерцали, как северное сияние, и поэтому не оставалось ничего другого, кроме как следовать за ними, куда бы они ни вели.
– Я имею в виду, что Джесси Грант представляла собой нечто большее, чем могло показаться с первого взгляда… – глухо произнес Бадр.
Он почувствовал, как еще одна теплая волна, поднявшись из груди и проследовав мимо подбородка, накрыла его голову. Эта волна смыла следующую мысль еще до того, как та была озвучена. Затем, потеряв свою силу, волна отступила, возвращая ясность сознания. Это все произошло за несколько секунд, но ему показалось, что прошел целый час.
Джон Грант снова обратил внимание на биение, которое отдавалось на его скулах и кончиках пальцев. Оно было более быстрым и сильным, чем раньше. Охватившее юношу беспокойство помешало ему осознать, что это было вовсе не неровное биение одного удрученного сердца, – это смешивались биения двух сердец.
15
– Джесси Грант была твоей матерью, но не только ею, – сказал Бадр Хасан. – Она была женщиной, которую любил твой отец. Она была женщиной, которая любила тебя и которая вырастила тебя.
– Я все это знаю, – вздохнул Джон Грант.
Он заметил, что от охватившего его неясного чувства тревоги у него по коже забегали мурашки. А спустя мгновение юноше показалось, что на него надвигается какая-то серьезная опасность и что земля под ним вибрирует. Впервые за долгое время он ощутил вращение Земли и почти полностью переключил свое внимание на него.
– Она любила и растила тебя, – сказал Бадр. – Но родила тебя не она.
Джон Грант молчал, по-прежнему ощущая вращение мира и свое место в нем.
– Жизнь тебе дала не Джесси Грант, – выдавил из себя Бадр. – Это сделала дру…
Ангус Армстронг лежал на вершине скалы возле трещины, через которую в пещеру попадали солнечный свет и вода. Он подполз к этой трещине настолько близко, насколько у него хватило смелости. Он старался вести себя очень тихо и даже задерживал дыхание, чтобы слышать голоса Джона Гранта и Бадра Хасана, звучание которых причудливо изменялось из-за того, что они доносились через эту трещину.
Рассказ Медведя о каких-то там мышах и девушках вызвал у него недоумение и навеял скуку, однако он мгновенно сосредоточился и весь обратился в слух, когда услышал про давным-давно потерянную дочь мавра. Армстронг тут же мысленно выделил эту ценную, словно поблескивающий самородок, подробность и присоединил ее в своей памяти к тем сведениям, которые позволяли ему не сбиваться со следа. Если бы он разоткровенничался с самим собой, то ему
пришлось бы признать, что его привлекала, доставляя удовольствие, эта своеобразная охота – преследование, длившееся уже многие годы.
Убить – это дело одного мгновения, а вот преследование может продолжаться хоть всю жизнь.
Еще больше интереса вызвал у него рассказ про Джесси Грант. Он уже не в первый раз вспомнил ту далекую ночь, когда его стрела, предназначенная для мавра, угодила в женщину. Стрела эта была последней в его колчане, и, если бы она попала, как было задумано, в Бадра Хасана, он затем смог бы поразвлечься с той женщиной и ее сыном.
Однако случилось иначе, потому что мавр сумел определить траекторию полета стрелы и догадался, что он, Ангус Армстронг, находится позади круга из камней. Великан побежал по направлению к нему с такой скоростью, которую трудно было ожидать от столь большого и грузного человека (и это едва не привело Армстронга в полное замешательство).
В такой ситуации ему оставалось только одно – повернуться и броситься наутек, что он и сделал. Разыскав своего коня, которого он оставил привязанным к одинокому дереву и силуэт которого был довольно отчетливо виден на фоне ночного неба, Армстронг проворно вскочил на него одним большим прыжком и поскакал туда, где должны были находиться его товарищи.
Вспоминая сейчас об этом, он улыбнулся. Армстронга позабавила мысль о той панике, которая охватила его при виде бегущего к нему Медведя. Теперь же этот старый монстр, смертельно раненный, лежал в пещере и даже не подозревал, что находится как раз под Армстронгом.
Когда Армстронг и прочие участники охоты на беглецов вернулись в ту ночь к кругу из камней, они не нашли никого и ничего – даже тела убитой им женщины. Было ясно, что Медведь и мальчик унесли Джесси Грант с собой, и Армстронг уже в который раз сильно удивился – удивился тому, как это им удалось исчезнуть так быстро и бесследно.
Его вывел из задумчивости голос Джона Гранта.
– Нет, моей матерью была Джесси, Медведь, – сказал он. – Это все опиум… Ты от него бредишь.
Много футов ниже того места, где лежал Армстронг, Джон Грант положил ладони на гладкую каменную поверхность пола пещеры слева и справа от себя. Вибрация была слабой, но очевидной – подрагивание мира, вращающегося вокруг своей оси. Джон Грант, как ему казалось, набирался сил от этого вращения, дожидаясь, когда Бадр заговорит снова.
Мавр постепенно слабел, и его сознание то затуманивалось, то прояснялось, покачиваясь туда-сюда, как тростник на реке, но только река эта была из опиума.
– Ну да, она была твоей матерью, – сказал он. – Конечно, была. Материнство – это занятие, длящееся многие годы. И конца ему не бывает.
– Что ты такое говоришь, а? – спросил Джон Грант.
Он не смотрел на Бадра – его взгляд был направлен в темноту. Планета под ним мчалась в пространстве с невообразимой скоростью.
– Ты родился на белый свет не из утробы Джесси Грант, – сказал Бадр. – Тебя родила другая женщина. Но она отказалась от своего ребенка еще до того, как его отняли от груди.
Джон Грант молчал.
– По сравнению с целой жизнью, посвященной любви к ребенку, родить ребенка – задача более легкая, – настойчиво продолжал Бадр. – Очень важная, соглашусь я с тобой, но все же более легкая.
Он плыл по своей реке из опиума, то приподнимаясь, то опускаясь. Джон Грант по-прежнему слушал молча.
– Разве ты не помнишь? – спросил Бадр. – Разве ты не помнишь,
что она сказала тебе в ту ночь, когда умерла?
– «Я не могла бы любить тебя сильнее», – ответил Джон Грант. За прошедшие годы он вспоминал эти слова, наверное, тысячу раз.
– «Я не могла бы любить тебя сильнее…» – повторил Бадр Хасан.
Смысл этих слов вдруг показался Джону Гранту уже иным, и он почувствовал, как к его лицу прихлынула кровь. Не хотела ли сказать Джесси: «Я не могла бы любить тебя сильнее…
даже если бы ты был моим собственным ребенком?»
Мысль о том, что это вполне может быть правдой, промчалась по закоулкам его рассудка, как проворная крыса, и он ощутил в своей душе пустоту.
– Кто же тогда? – спросил он. – Кто дал мне жизнь?
– Женщина, которая дала тебе жизнь, была… великой любовью твоего отца, – ответил Бадр. – Мне очень жаль, что приходится рассказывать тебе это, но ты должен знать. Эту женщину он спас от смерти – так, как он когда-то спас от смерти и меня.
– Но кем она была? – спросил Джон Грант. – И где она сейчас?
– Моя сумка… – Еле заметным жестом Бадр показал на свои вещи, лежащие рядом с ним: кривая сабля в ножнах, плащ и кожаная сумка.
Джон Грант, встав на четвереньки, потянулся рукой к сумке.
– Загляни в нее.
За все годы пребывания рядом с Бадром Хасаном Джону Гранту никогда не доводилось рыться в его немногочисленных пожитках. Когда он развязывал сейчас тесемки и открывал сумку, ему показалось, что он прикасается к чему-то сокровенному.
– Завернуто в голубое, – сказал Бадр.
Джон Грант заглянул внутрь сумки. Рядом с несколькими маленькими книгами в обложках из темной кожи и свертками различной формы из темной хлопковой ткани, в которых лежали позвякивающие монеты и пузырьки с какими-то жидкостями, он увидел квадратный сверток светло-голубого цвета.
– Только аккуратно, – предупредил Бадр. – Было бы жалко разбить ее сейчас.
Ткань была очень тонкой. «Наверное, шелк», – подумал Джон Грант. Начав развязывать сверток, он понял, что это изящный женский платок. Заинтригованный, он мельком посмотрел на Бадра и стал разворачивать платок. Внутри он обнаружил морскую раковину размером с его ладонь.
– Знаешь, что это? – спросил Бадр.
Джон Грант осторожно, как какую-нибудь священную реликвию, стал крутить раковину, рассматривая ее.
– Это раковина гребешка
[9], – сказал он громче, чем хотел. Странность и неожиданность происходящего сейчас едва ли не вызвали у него разочарование.
– Она принадлежала твоей матери, – пояснил Бадр. – Не Джесси, а той женщине, которая тебя родила.
Джон Грант внезапно почувствовал пустоту – как будто он смотрел в пустое пространство и пространство это находилось внутри него.
– Почему она находится у тебя? – спросил он.
– Твой отец хотел, чтобы я сохранил ее для тебя, – ответил Бадр. – Что я и сделал. Он не сказал мне, в какой именно момент мне следует отдать ее тебе, но, похоже, этот момент наступил.
Мавр кашлянул и поморщился от боли, которую вызвал у него кашель.
Высоко над ними, там, откуда светило солнце и текла вода, Ангус Армстронг подполз еще ближе к трещине. Он с большим трудом различал слова мавра и Джона Гранта, доносившиеся из пещеры, а потому то и дело задерживал дыхание, стараясь запоминать самое важное, отбирая его из потока слов, как отбирают рыбешку покрупнее из мелюзги, пойманной сетью на мелководье.
Однако при упоминании раковины гребешка, столь необычного предмета, когда-то хранившегося у Патрика Гранта и имевшего какое-то особенное значение, Армстронг совсем забыл об осторожности.
Сейчас, наверное, великан собирался сообщить что-то важное о ней, о той женщине…
В своем отчаянном стремлении услышать продолжение рассказа поотчетливее и не упустить уже ни одной рыбешки, Армстронг переместился вперед и на мгновение закрыл трещину верхней частью туловища.
От этого движения эффект в пещере был моментальным. Пока Бадр, медленно дыша, лежал и молчал, а Джон Грант пытался понять только что услышанное, полоска солнечного света между ними внезапно исчезла. Она исчезла на какую-то долю секунды, не больше, но этого оказалось достаточно, чтобы Джон Грант понял кое-что очень важное: они с Бадром были здесь не одни.
Хмыкнув от гнева и разочарования, юноша резко вскочил. Промелькнувшая в голове мысль о том, что это Армстронг, почти не вызывала сомнений. А кто же еще? Осознав, что их преследователь снова пошел по их следам и находится сейчас где-то над ними, Джон Грант наконец-таки понял причину аритмичных ударов сердца, которые он чувствовал раньше и чувствует до сих пор.
Это были удары сердца Бадра – медленные и сильные, как всегда. Но были ведь и еще какие-то удары. Он понял,
что это за удары, и мысленно обругал себя за то, что догадался об этом лишь сейчас. То, что он принял за биение одного удрученного сердца, сердца раненого человека, в действительности было биением сердец двух людей.
Несмотря на ранение, Бадр машинально привстал и попытался подняться, чтобы пойти вместе со своим подопечным, как он частенько делал это раньше. Однако мышцы изменили ему, и он, громко охнув, шлепнулся наземь. Джон Грант встревоженно посмотрел на него, но тут же решил, что сидеть рядом со своим другом – это для него сейчас не самое срочное занятие.
Отложив в сторону раковину и платок, в который она была завернута, он бросился к выходу из пещеры. Юноша бежал, едва касаясь ногами пола пещеры, и со стороны могло показаться, что он не бежит, а летит. Выскочив из полумрака на яркий солнечный свет, он невольно зажмурился. Несколько мгновений спустя, когда его глаза привыкли к дневному свету, Джон Грант повернулся и, окинув внимательным взглядом возвышающуюся перед ним скалу, сразу же заметил на ее вершине какой-то темный силуэт. На фоне ослепительно синего неба фигура мужчины казалась не более чем тенью, однако Джон Грант наверняка знал, кто притаился там.
Это был, конечно же, Ангус Армстронг, который всегда оказывался неподалеку от них, как будто они были связаны с ним прочной невидимой нитью.
И тут вдруг тень изменила свою форму. Армстронг передвинул, а точнее, перекатил что-то к краю обрыва, и Джон Грант за имевшуюся у него долю секунды едва успел осознать, что в лучах солнечного света к нему летит камень диаметром с колесо телеги. Джон Грант отскочил вправо, и камень, шлепнувшись наземь с оглушающим грохотом, но не причинив никакого вреда, разлетелся на множество кусков. К тому моменту, когда Джон Грант отвел взгляд от этих кусков и снова посмотрел вверх, силуэт на вершине скалы уже исчез.
Ситуация была безнадежной, и Джон Грант это понимал. Не было смысла в том, чтобы оставлять Бадра на довольно долгое время, тем самым подвергая его серьезному риску, и огибать бегом скалу, чтобы пытаться найти более пологий подъем на вершину. Еще менее привлекательной казалась мысль о том, чтобы попробовать забраться на скалу прямо здесь, ибо на каждом дюйме такого подъема он был бы очень уязвимым для нападения на него сверху. Юноша тяжело вздохнул, понимая, что ему нужно успокоиться и заставить себя думать более рассудительно. Отступив в относительно безопасное место у входа в пещеру, он сосредоточился, обдумывая различные варианты своих последующих действий. По прошествии нескольких минут Джон Грант вернулся к изначальной оценке сложившейся ситуации: оставшись без своего большого лука, из которого он умел стрелять очень хорошо, Ангус Армстронг, скорее всего, будет уклоняться от схватки с ним лицом к лицу.
Тем временем Армстронг вовсю бежал прочь от скалы и пещеры, прочь от Джона Гранта. У него, в отличие от юноши, не было никаких сомнений насчет того, что ему делать дальше. Он знал, куда бежать и за чем бежать – за наградой. За обещанной ему наградой.
Сэр Роберт будет доволен. Очень доволен.
Лежащий в пещере Бадр плыл по реке из опиума и воспоминаний. Его глаза были открыты, и полоска солнечного света, падающего с потолка пещеры, мерцала и поблескивала перед ним, словно водопад из полированного золота, то изгибаясь, как заплетенные в косы волосы девочки, то раздуваясь, как парус корабля. Внутри нее – и на фоне нее – он видел различные эпизоды из своей жизни. Находясь в полубессознательном состоянии, он периодически терял чувство времени (и не только его) – или же это время теряло Бадра, позволяя ему перемещаться в нем, во времени, туда, куда ему захочется. Иногда время удлинялось так, что в считаные секунды умещались целые вереницы событий…
«Ты глупец, Бадр», – сказал Патрик Грант откуда-то из глубины прошедших лет.
Бадр улыбнулся в ответ на вспышку эмоций своего старого друга, неизменно стремящегося оберегать и защищать его. Он впервые заметил, как сильно сын похож на своего отца. Карие глаза с золотистыми крапинками.
«Если ты останешься с ней, ты умрешь, – сказал Патрик. – На самом деле все довольно просто, Бадр. Ее отец позаботится об этом».
На него нахлынула волна сожаления. Теперь он понял, что его безрассудство и упрямство спровоцировали события, которые привели к смерти Патрика.
«И если ты не хочешь думать о собственной безопасности, подумай о ней, – продолжал говорить Патрик. – Изабелла будет жить, но ее жизнь будет навсегда испорчена. В глазах ее родственников
она, Изабелла, будет испорченной».
Патрик повернулся спиной к своему другу. Плечи мужчины подрагивали от охвативших его чувств – досады и разочарования.
Бадр вспомнил о том, что ласковое прозвище Иззи, которое он дал ей, показалось его другу слишком… легкомысленным. «Она ведь принадлежит к монаршей семье, – говорил он. – Или почти принадлежит». Эта девушка вполне могла заявить, что по линии своей матери является родственницей правивших ранее императоров. И она действительно принадлежала к родне монарха, хотя и дальней. Ее отец, тот еще интриган, был сановником императорского двора. Поговаривали, будто скоро его сделают
месазоном – самым главным из сановников императора, которому доверяют больше остальных и которого могут вызвать к себе в любое время суток.
Имя «Иззи» казалось Патрику уж слишком легковесным для такой девушки, как она.
Стоя у входа в пещеру, Джон Грант различил в бормотании мавра кое-какие слова, вызвавшие у него любопытство.
–
Меса… – произнес он. – Как ты сказал?
–
Месазон, – поправил его Бадр. – Посредник.
Опять вернувшись в далекое прошлое, мавр услышал голос старого друга.
«Такие люди, как они, очень серьезно относятся к своей родословной и происхождению. Никому из них не нужен щенок от сучки, которую поимел какой-то приблудный пес, – сказал Патрик и, повернувшись лицом к Бадру, добавил: – А ты, приятель, и есть тот самый приблудный пес».
Патрик опустил подбородок на грудь и прикрыл глаза, как будто бы ожидая удара. Однако Бадр всего лишь расхохотался, да так громко и раскатисто, что его собеседник вздрогнул от неожиданности…
Теперь, лежа на холодном каменном полу пещеры, Бадр вспомнил об этом эпизоде и снова засмеялся – засмеялся над взволнованностью его друга и его решимостью добиться своего.
– Что случилось, Бадр? – спросил Джон Грант, который уже зашел вглубь пещеры и уселся возле раненого. Как и прежде, юноша повернулся к нему спиной и положил руку на его плечо.
– Он был смелым, – сказал Бадр. – Более смелым, чем я.
Мавр, похоже, уже забыл про то, что произошло совсем недавно, хотя видел, как его молодой друг опрометью бросился из их убежища и как валун, скатившийся с вершины скалы, с грохотом упал неподалеку от входа в пещеру.
– Кто? – спросил Джон Грант.
– Твой отец. Он не боялся никого. Никого и ничего.
Джон Грант ласково похлопал Бадра по плечу.
– Уж лучше бы он боялся, – сказал он.
– Ты думаешь, это спасло бы его? – вскинулся Бадр. – Лично я в этом не уверен.
– Возможно, если бы отец боялся кого-то или что-то, он вернулся бы домой, к моей матери. И ко мне.
Бадр ничего не сказал в ответ. Он уставился прямо перед собой на золотистую полоску света, зачарованный тем, как она – так ему казалось – пульсирует и дышит.
– Расскажи мне о той его женщине, – попросил Джон Грант. – Расскажи мне о моей матери.
Однако Бадр видел сейчас не Джона Гранта, а Патрика…
И находился он сейчас совсем в другом месте и совсем в другое время.
Патрик Грант сидел на стене, опоясывающей гавань в Ла-Корунье – портовом городе на берегу Атлантического океана в Галисии, и его ноги свисали над водой. В руках он держал раковину гребешка, завернутую в небесно-голубой платок.
– Не думаю, что когда-то увижу ее снова, – сказал он, кончиками пальцев поглаживая тонкую ткань.
Бадр пристроился рядом с Патриком, нависая над ним своим огромным туловищем, и для стороннего наблюдателя они могли показаться отцом и сыном.
Они сидели настолько близко друг к другу, что их тела почти соприкасались, и, когда Бадр задел Патрика локтем, тот, значительно уступая ему в комплекции, потерял равновесие и едва не свалился в воду.
– Поосторожней, ты, громадина, – проворчал Патрик.
– Прости, прости, – поспешил сказать Бадр и поднял обе руки вверх в знак того, что извиняется. – Я часто забываю о своей силе, особенно когда вокруг меня находятся немощные люди.
Патрик, несмотря на охватившую его грусть, невольно улыбнулся.
– Сейчас я покажу тебе немощных людей, – заявил он и толкнул Бадра плечом. А затем, усмехнувшись, добавил: – Правда, это все равно что толкать закрытую на засов дверь.
Бадр нахмурился. Он уже давно освоил английский язык, но речевые обороты этого шотландца зачастую ставили его в тупик.
Была весна 1432 года, и Патрик Грант собирался сесть на корабль, отправляющийся в Шотландию. То есть к нему домой.
Они с Бадром казались сейчас очень разными людьми, причем во многих отношениях. Патрик не только сильно отличался от мавра своим телосложением, но и пребывал в ином статусе: у него был ребенок – маленький мальчик всего лишь трех месяцев от роду. Запеленатый, он сейчас лежал в корзине.
– А вот, кстати, и немощные люди, – сказал Бадр, кивнув в сторону младенца. – Каким образом ты намереваешься доставить его домой?
– На борту будет находиться семья – торговцы, обменивающие шотландскую шерсть на оливковое масло, – ответил Патрик. – Жена в этой семье кормит грудью собственного малыша, который родился на месяц раньше срока. Она согласилась протянуть моему сыну руку помощи, а точнее, титьку.
Бадр засмеялся и покачал головой, сочувствуя другу, оказавшемуся в такой нелегкой ситуации.
Патрик, взглянув на мавра, продолжал:
– Я буду оплачивать все ее хлопоты. Если нам придется по пути сойти на берег, чтобы найти другую кормилицу, мы сделаем это. Время у меня есть, а матери для мальчика – нет. Кроме того, я узнал, что у экипажа на борту есть козы. В общем, с голода он так или иначе не умрет. Он станет сосать и смоченную в молоке тряпку, если сильно захочет есть.
Бадр хлопнул Патрика по спине своей тяжелой рукой.
– А ты, приятель, изменился, – усмехнувшись, произнес он. – Превратился из воина в отца.
Патрик, не обращая внимания на иронию, прозвучавшую в голосе товарища, потянулся к корзине и, ласково покачав ее, сказал:
– Воин – это он, мой малыш.
– Ему придется им стать, – уточнил Бадр. – Без матери-то.
– У него есть я, – упрямо произнес Патрик. – И со временем я обязательно найду для него мать.
– Не понимаю, как могла его собственная мать отказаться от него? – спросил Бадр. – Что это за женщина, если она способна бросить своего отпрыска?
Младенец в корзине зашевелился и вскрикнул высоким плаксивым голосом, заставив обоих мужчин вздрогнуть.
Патрик повернулся к корзине, положил платок с раковиной среди пеленок и взял ребенка на руки.
– А есть он захочет, это уж точно, – сказал Бадр.
Он встал и протянул руки к ребенку. Патрик передал ему младенца, который в ручищах темнокожего великана казался таким маленьким, что невольно вызывал умиление. Патрик тоже поднялся и, забрав сына у Бадра, слегка покачал его. Младенец перестал плакать, на него, видимо, подействовали успокаивающие движения.
– Ее сердце разбито, – вернулся к прерванному разговору Патрик. – Оно было разбито еще до того, как я оказался возле нее. Я думал, что смогу это исправить. Да будет судьей мне Господь – я не был назойливым. Я оставлял ее одну, когда мог, и приходил к ней только тогда, когда мое сердце требовало этого. В конце концов я подумал… Ну, я подумал, что наш малыш поставит все на свои места.
– Но этого не произошло, – заметил Бадр.
– Да, этого не произошло, – согласился Патрик. – Не произошло. Я думаю, что ей кажется… Нет, я думаю, что она
полагает, что у нее нет права.
– Нет права на что? – спросил Бадр.
– Теперь уже на многое. На счастье… На любовь… На жизнь… – Патрик пожал плечами. – Из всех людей, которых я когда-либо встречал, она – единственный человек, который считает, что ее собственная жизнь ей не принадлежит.
– Жаль, что меня тогда не было с тобой, – сказал Бадр и уточнил: – Во Франции, на войне против англичан.
Патрик Грант кивнул и, невесело усмехнувшись, произнес:
– Я не всегда нуждался в том, чтобы ты держал меня за руку.
– Но мне, возможно, удалось бы вытащить тебя из… из всего этого, – сказал Бадр.
– Я нисколько не сомневаюсь в том, что ты способен ради меня на многое. Я знаю, что ты не пожалел бы себя, Бадр, но даже такой человек, как ты, вряд ли смог бы защитить меня от…
– От чего? – спросил Бадр.
Патрик, прежде чем ответить, посмотрел ему прямо в глаза.
– От любви, – коротко ответил он.
Друзья не привыкли обсуждать подобные вещи, и откровенные слова, произнесенные сейчас Патриком, заставили их замолчать – так, как заставляет замолчать двух близких людей неожиданно подсевший к ним незнакомец.
Бадр негромко кашлянул, чтобы нарушить затянувшееся молчание.
– Я любил ее, – сказал Патрик. – И я сомневаюсь, что твое умение сражаться уберегло бы меня от такого рода ран.
Бадр вздохнул и крепко обнял Патрика за плечи.
– Но если эта женщина, как ты утверждаешь, верит в милосердного Бога, то почему тогда она думает, что Ему непременно хочется сделать ее несчастной и одинокой? – спросил он. – Как она может полагать, что Бог хочет, чтобы ребенок, который является ее плотью и кровью, рос без материнской любви?
Патрик Грант, держа младенца в одной руке, пошел к сходням, ведущим на борт корабля, пришвартованного к стене гавани. Корабль этот, представляющий собой трехмачтовую каракку
[10] с треугольными парусами и называющийся «Фувальда», скрипел и стонал, покачиваясь на воде. Он был похож на привязанного гигантского зверя. Среди прочих людей на палубе возле бизань-мачты
[11] стояла молодая женщина, полненькая, с рыжеватыми волосами. Она слегка повернулась, глядя на Патрика и его сына. Бадр, наклонившись, взял корзину, предназначенную для младенца, и пошел вслед за другом.
– Он не будет расти без матери, – уверенно произнес Патрик. – Я тебе обещаю. Я обещаю это
ему – обещаю здесь и сейчас…
Видение прервалось. Бадр очнулся и осознал, что находится в пещере. Он отвел взгляд от полоски солнечного света и посмотрел на профиль Джона Гранта.
– Расскажи мне о моей матери, – снова попросил Джон Грант. Для него прошло лишь несколько мгновений, в течение которых Бадр пару раз вдохнул и что-то пробормотал.
– Я думаю, она была заблудшей душой, – сказал Бадр, стараясь держаться за настоящее.
Джон Грант посмотрел сверху вниз на своего друга. Его охватило настойчивое желание узнать от Бадра побольше. Но он видел, что этот человек потихоньку отдаляется, уплывая прочь, – как корабль, у которого развязались швартовы. Время от времени он, казалось, был совсем близко, но затем снова уплывал далеко-далеко, увлекаемый темным течением.
Мавр лежал в лужице крови, которая вытекала из его раны губительной струйкой и которую Джон Грант был не в состоянии остановить.
– Я хочу пить, – тихо произнес Бадр.
Джон Грант потянулся за бутылкой с водой, стоявшей рядом с ним. Вода, которая попадала в пещеру сверху и, заполняя небольшое углубление, вытекала наружу, была вполне пригодна для питья. Джон Грант приподнял голову мавра, поднес бутылку к его губам и влил немножко воды ему в рот. Бадр смог проглотить эту воду и не закашляться, а потому Джон Грант влил в его рот еще немного воды.
– Тебе не следует пить слишком много, Медведь, – заметил юноша, убирая бутылку от губ великана.
– А что это изменит? – прошептал Бадр, и Джон Грант позволил ему сделать еще несколько глотков.
На этот раз грудь Бадра вдруг напряглась и он, задрожав всем телом, зашелся в мучительном кашле. Джон Грант просунул руку под голову мавра и повернул его лицом вниз, опасаясь, что он может задохнуться. Бадр сплюнул, чтобы очистить рот. Плевок этот представлял собой темную кровь, смешанную с водой. Бадр уставился на него, и его взор затуманился.
– Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил… сотворил человека из сгустка…
[12] – пробормотал он.
– Что? – спросил Джон Грант, ласково гладя длинные темные волосы мавра, но тот не ответил и, снова обретя покой, уплыл далеко-далеко…
В это мгновение Бадр опять стал маленьким мальчиком, который сидел с другими такими же мальчиками за деревянным столом, заваленным книгами. Мальчики изучали слово Божье – как и должны были делать все новообращенные мусульмане. Они заучивали наизусть на арабском языке Коран, что означает «чтение вслух».
Бородатый мужчина, голова которого была обмотана длинной белой материей, произносил коротенькие отрывки из Корана один за другим. Бадр и остальные мальчики старательно повторяли их, опасаясь, как бы их не наказали.
– Читай! И Господь твой щедрейший, который… научил человека тому, чего он не знал, – сказал юный Бадр своим тоненьким ребячьим голоском.
Он держал голову слегка наклоненной, чтобы не встречаться взглядом со своим строгим учителем.
Когда же он все-таки поднял голову, перед ним было лицо Иззи. Она говорила ему, что любит его.
– Ну же, поцелуй меня, – сказала она.
Ее длинные волосы цвета меда свободно лежали на плечах. Он сделал шаг к ней и запустил пальцы в этот водопад волос. Затем он обхватил ладонями ее голову, прижал девушку к себе и почувствовал, какая она хрупкая, – словно фигурка, сделанная из стекла. Получится ли у него обеспечить Иззи безопасность, если одним лишь прикосновением своей руки он может случайно навредить ей.
– Поцелуй меня, – уже требовательнее произнесла она, опуская веки. Ее нежные губы слегка приоткрылись, и он разглядел края белых зубов.
Поцеловав ее, он притянул Иззи к себе, как будто хотел сделать девушку частью себя.
Когда Бадр открыл глаза, перед ним был только сгусток крови, который он сплюнул на пол пещеры.
– Раковина гребешка, – сказал он. Его голос был слабым, еле различимым.
Джон Грант совсем забыл об этом подарке на память и стал искать его глазами. Раковина лежала на его плаще, куда он положил ее, прежде чем броситься на поиски Ангуса Армстронга. Юноша протянул руку и поднял раковину вместе с платком. Усевшись рядом с Бадром, он провел пальцем по краю раковины. Она была на ощупь старой, сухой и хрупкой.
– Ты знаешь, что она означает? – спросил Бадр.
– Означает? – Джон Грант пожал плечами. – Нет.
Бадр снова закашлялся, но скорее от разочарования, чем от боли.
– Я никогда не рассчитывал на то, что у меня будет время дать тебе надлежащее образование, – сказал он. – И, похоже, я был прав.
Он пристально смотрел на юношу, снова и снова поражаясь тому, насколько тот похож на своего отца.
– Раковина гребешка является символом… – мавр на пару мгновений замолчал, чтобы сделать вдох, – гробницы святого Иакова в Галисии. Паломники уносят оттуда такие раковины в память о совершенном ими путешествии.
– И эта раковина принадлежала моей матери? – спросил Джон Грант.
– Туда твой отец отвез твою мать, – сказал Бадр. – После того как он спас ей жизнь, Патрик повез ее к гробнице в надежде, что там она будет в безопасности. Увез ее подальше.
– Подальше от чего? – спросил Джон Грант. – И от кого?
Бадр посмотрел в глаза молодого человека и улыбнулся.
– Подальше от всего мира, – ответил он. – Подальше от Роберта Джардина, Ангуса Армстронга и всех остальных. Я предпочел бы, чтобы ты услышал когда-нибудь все это от нее самой.
– А откуда они знают о ней? – спросил Джон Грант. – Какое им до нее дело? И почему ты не рассказывал мне всего этого до сего момента?
Бадр вздохнул, а затем снова закашлялся.
– Я думал, что у меня еще будет на это время, – наконец сказал он после долгого и мучительного кашля.
Он глубоко вздохнул. При этом раздался хрип, от которого Джону Гранту стало страшно…
А Бадр теперь шел рука об руку с Иззи. Ему не нужно было смотреть на нее, чтобы знать, что это именно она. Вполне хватало и прикосновения ее руки. Они шли по направлению к заходящему солнцу, а перед ними прыгал мальчик лет восьми-девяти. Бадру не нужно было видеть его лицо, чтобы знать, что это Джон Грант.
Это происходило в момент, которого никогда не было, и в месте, в котором он никогда не бывал. Видение о том, чего не было, но что могло бы произойти. Он почувствовал, что его глаза защипало от слез, и часто заморгал, чтобы согнать пелену с глаз.
– Мой сын, – сказал он.
Джон Грант придвинулся к мавру и расположился так, чтобы голова Бадра лежала у него на коленях. Вытерев слезы с лица Бадра, он откинулся назад и смежил веки, чтобы сдержаться и не заплакать от собственного горя.
Нащупав вслепую платок, он стал пропускать тонкую материю между своими пальцами.
Вдруг он ощутил, как его пальцев коснулось что-то твердое. Посмотрев вниз, он увидел, что один кончик платка был продет в золотое кольцо и завязан в узел. Немного повозившись с узлом, Джон Грант развязал его, и кольцо упало на его ладонь. Оно было маленьким, скорее всего, его сделали для женского пальца, а не для мужского.
– Оно уникальное, – сказал Бадр. – Как и женщина, для которой его сделали.
Джон Грант посмотрел на Бадра сквозь отверстие кольца.
– Его изготовили по заказу твоего отца, – продолжал Бадр. – Он хотел подарить его твоей матери. На память.
Джон Грант зажал кольцо между большим и указательным пальцами и поднес его ближе к глазам. Кольцо было изготовлено в форме узкого пояса, расстегнутая пряжка которого символизировала подчинение. На внутренней стороне кольца имелась надпись, слова которой он смог прочесть, но не смог понять.
–
No tengo mas que darte, – медленно произнес он.
– Мне больше нечего тебе дать, – перевел Бадр.
Часть вторая
Ленья
16
Галисия, 1452 год
«Ленья!.. Ленья!..»
Звуки ее имени, повторяемого снова и снова, доносились с внутреннего двора одного из домов, расположенных внизу, в долине.
«Ленья!.. Ленья!..»
Это слово, словно дым, добралось до нее сквозь листья и ветви лесных деревьев. Оно было еле слышным, но она все же сумела различить его. Это было ее монашеское имя, которое на местном диалекте означало «дрова». Поскольку именно она занималась заготовкой хвороста и дров для их очагов, это слово сочли вполне подходящим для ее нового имени. Мысль об этом вызывала у нее улыбку.
Она сидела на большом пне, оставшемся от сосны, упавшей много лет назад, в центре поляны, которая в общем-то была результатом ее труда. Женщина, прислушиваясь к голосу девочки, выкрикивающей ее имя, посмотрела на топор, который лежал у ее ног, и вдруг осознала, что отдыхает так долго, что уже даже замерзла. От прохлады умирающего дня ее руки покрылись гусиной кожей. Она потерла ладони и, пытаясь заставить кровь течь быстрее, встала и начала притопывать.
Любой незнакомый человек, который наткнулся бы на нее здесь, вполне мог бы принять ее за мужчину. Ее волосы были темными, почти черными, и хотя в них уже появилось немало серебристой седины, они оставались такими же густыми и непокорными, как и раньше.
Она всегда подстригала свои блестящие кудри, похожие на руно новорожденного ягненка, сама, причем довольно коротко. И если кто-то вдруг проявлял любопытство по поводу ее прически, что, впрочем, случалось редко, она или ничего не отвечала, или же объясняла, что длинные волосы являются помехой для того, кто с утра до вечера работает в лесу, используя топоры, молотки и клинья.
Она была довольно высокой для женщины, и хотя ее телосложение отличалось стройностью и изящностью, годы тяжелого труда укрепили мышцы и сделали спину более широкой. На тыльной стороне ее ладоней и на предплечьях отчетливо проступали вены, а на руках выше локтя и плечах бросались в глаза упругие сухожилия и крепкие мускулы.
Ее движения тоже были не такими, как у женщины. За годы работы топором и молотком она приучилась двигаться с самоуверенностью, присущей скорее мужчине, чем женщине. Ее умение обращаться с этими орудиями впечатляло: она так искусно использовала в работе вес стали и длину топорища, что стороннему наблюдателю могло показаться, что она вообще не прилагает никаких усилий.
Однако самым «мужским» в ее облике – по крайней мере, если смотреть издалека – была одежда. Она всегда предпочитала штаны юбкам, и ее рубахи и плащи из грубой ткани или шерсти были почти такие же, какие обычно носят мужчины. Она заправляла штанины в высокие, до колен, кожаные сапоги, к подошвам которых на пятке и носке были прикреплены стальные пластинки. Сапоги эти были довольно поношенными, но при этом ухоженными, как и все ее немногочисленные вещи.
Несмотря на то что многолетняя рубка леса довольно сильно отразилась на ее внешности, она все еще была привлекательной. Ей уже исполнилось сорок лет, но взгляды окружающих людей останавливались на ней даже чаще, чем в дни ее молодости. Когда она улыбалась или смеялась, ее возраст, казалось, сокращался вдвое. Цвет ее лица был темным – отчасти из-за того, что она на протяжении многих лет проводила значительное время на открытом воздухе, причем в любую погоду, – и на фоне темной кожи ее бледно-голубые глаза становились еще более удивительными. Кожа ее рук тоже была темной, и поэтому, когда она раздевалась, чтобы искупаться, контраст с молочно-белым цветом ее узкого в талии туловища и длинных ног заставлял ее саму морщиться и сокрушенно качать головой. Такого же белого цвета были и многочисленные шрамы, которые покрывали ее руки и которые не загорали даже от яркого солнца.
«Ленья!..»
Ее часто просто громко звали, а не ходили разыскивать среди деревьев на холмах с крутыми склонами, однако сейчас она уловила в зовущем ее голосе что-то необычное. В нем чувствовалось нетерпение. Ощущение холода из ее тела уже ушло. Она повернула голову в ту сторону, откуда ее звали, и взяла в правую руку топор. Еще ни разу за многие годы, проведенные в лесу, эта женщина не чувствовала необходимости иметь при себе оружие, но сейчас она действовала машинально, повинуясь выработанным рефлексам.
Уже направившись в ту сторону, откуда доносился звавший ее голос, она переложила топор в левую руку, которой владела лучше, чем правой. При необходимости она могла искусно орудовать топором любой рукой, однако более сильной и ловкой была все-таки левая. Она подняла топор так, что вес металлического лезвия заставил топорище легко соскользнуть вниз, и уже в следующее мгновение холодная сталь уперлась в ее большой и указательный пальцы. Ощутив тяжесть, твердость и надежность металла, женщина почувствовала себя увереннее.
Тот, кто ее так настойчиво звал (а звала ее, похоже, Осана – одна из молоденьких послушниц), теперь почему-то замолчал.
В лесу воцарилась тишина – тишина неестественная. Не пели птицы, не жужжали насекомые. Все живые существа, казалось, затаили дыхание.
Внезапно раздался еле слышный шорох: видимо, кто-то неосторожно наступил на сухую веточку позади нее. Этот звук моментально активизировал рефлексы, выработавшиеся когда-то давным-давно в ее мускулах: пригнувшись, она резко повернулась и махнула топором по длинной дуге параллельно земле. В тот миг, когда хорошо наточенное лезвие топора встретилось со сталью клинка меча, она увидела своего противника. У нее в голове молниеносно мелькнула мысль: ну как она могла допустить, чтобы он подобрался к ней так близко?
Лицо стоящего перед ней мужчины перекосилось от удивления, когда он осознал, что его меч, который он держал перед собой, продвигаясь между деревьями к этой женщине, выскочил из руки и, вращаясь, отлетел в сторону – влево от него. Пару мгновений спустя меч тяжело плюхнулся на землю и исчез в коричневых сосновых иголках, покрывающих землю толстым ковром.
Женщина, конечно, не могла знать, что он вообще-то не собирался ни убивать ее, ни ранить. Его задача и задача его товарищей заключалась лишь в том, чтобы найти ее и схватить. Более того, если бы они причинили ей какие-либо телесные повреждения, их, возможно, самих бы убили по распоряжению господина. А тут вдруг ситуация резко изменилась, и над ним неожиданно нависла угроза физического насилия. Он посмотрел женщине прямо в глаза и, проворно отступив на шаг, вытянул руки перед собой, жестом показывая, что признает себя побежденным.
– Кто ты? – спросила она с невозмутимым видом. Не отрывая от незнакомца взгляда своих бледно-голубых глаз, она шагнула чуть в сторону, чтобы обойти мужчину по широкому кругу. – И что ты хочешь?
Чего бы он ни хотел и кем бы он ни был, мужчина предпочел промолчать. Он просто стоял, не делая никаких движений. Однако при этом он случайно бросил взгляд поверх ее левого плеча, явно увидев что-то позади нее, и это выдало его товарища. Он сразу же осознал свою ошибку и оскалился в гримасе, когда она обернулась, чтобы посмотреть, кто там у нее за спиной.
А был там второй мужчина – постарше и покрупнее, чем первый, но ухитряющийся не наступать на сухие веточки. Он находился примерно в дюжине шагов от нее, но как только она заметила его, он тут же перестал приближаться к ней – по-видимому, ему вовсе не хотелось оказаться там, где она сможет достать его топором.
Снова воцарилась абсолютная тишина. Создавалось впечатление, что никто из них не дышал, не моргал и даже пальцем не шевелил. А затем мир вдруг как бы ожил, легкий ветерок зашевелил кроны деревьев. Женщина, усмехнувшись, переместила обе ладони к основанию топорища, замахнулась и, резко повернувшись, бросила топор в того из противников, который был помоложе.
Он действительно был молодым и потому довольно проворным, но в данном случае проворства ему явно не хватило. В тот момент, когда женщина еще только делала замах и повернулась, она успела заметить, что он вознамерился отскочить влево, и, учтя это, очень точно бросила топор. Тяжелое и очень острое лезвие ударило ее противника в голову как раз над правым ухом. Два фунта
[13] стали, направленные хорошо натренированными мышцами и усиленные кинетической энергией, обеспечиваемой почти четырьмя футами вращающегося в полете ясеневого топорища, легко прорубили череп, как какой-нибудь арбуз. Мужчина, повалившись, умер еще до того, как его туловище коснулось земли.
Даже не сомневаясь в том, чем закончится этот ее бросок, она, едва топор полетел к цели, резко повернулась в сторону второго противника и, наклонившись, запустила обе руки в широкие голенища своих сапог. Когда она выпрямилась и продолжила движение к другому противнику, в обеих ее руках было по длинному ножу. Она уже уловила исходящую от мужчины вонь – как у животного, – свидетельство того, что он не менял и не стирал свою одежду несколько недель или даже месяцев. А еще, пожалуй, от него пахло охватившим его страхом.
Этот мужчина, бросив испуганный взгляд в сторону своего поверженного товарища, снова посмотрел на женщину, на которую только что охотился. Их предупреждали, что она неплохо владеет оружием и может дать отпор, но он никак не ожидал столкнуться с тем, что ему довелось увидеть только что здесь, среди деревьев. Она пригнулась и бросилась к нему, как охотничья собака, без каких-либо видимых колебаний и тем более без страха, который он привык видеть на лицах людей, преследуемых им. Он поспешно отступил назад и поднял правую руку, которой сжимал рукоять меча, а левую отвел в сторону для равновесия.
Если бы третий мужчина играл честно, она заметила бы и его тоже и занялась бы им через несколько секунд. Но в отличие от своих товарищей, которые обычно действовали напрямик, причем, как правило, довольно эффективно, он был своего рода хищником, нападающим из засады. Пока двое других мужчин приближались к женщине, он спрятался в густой поросли у основания здоровенной сосны. Он укрылся так хорошо и вел себя так тихо, что, когда он вскочил на ноги, женщина уже прошла мимо него, полностью сконцентрировав свое внимание на втором из своих противников. Однако даже в такой ситуации она все же заметила его присутствие и уже поворачивалась к нему, когда он попытался нанести ей удар налитой свинцом дубинкой по виску. За мгновение до того, как удар достиг цели, она сделала резкое движение левой рукой назад и вниз. Она успела ощутить, как ее клинок пронзает его правую ногу повыше колена, однако свет в ее голубых глазах погас еще до того, как он взвыл от боли.
17
Когда Ленья пришла в сознание, было уже темно. Она лежала на боку. Ее руки были связаны у нее за спиной – запястья стянули чем-то вроде кожаных ремней. Чуть выше лодыжек были связаны и ее ноги. Она не имела ни малейшего понятия, где сейчас находится, и, пытаясь привести свои мысли в порядок, стала смотреть на костер, горящий в нескольких ярдах от нее.
Ее лицо согревало тепло, исходящее от пламени, а вот спине было холодно, и она закоченела. Но хуже всех неудобств была мучительная боль в голове. Она вспомнила об ударе, который повалил ее на землю, и тут же в памяти восстановилась картина происшедшего недавно события. Она спокойно воспроизвела ее перед своим внутренним взором, анализируя свои действия и допущенные ошибки. Сосредоточив взгляд на пляшущем пламени, Ленья погрузилась в размышления, ни на что больше не отвлекаясь.
– Ну, как у тебя дела с твоей раной?
Эти слова произнес мужчина, говорящий на языке, который она когда-то знала, но уже даже забыла, что говорила на нем.
– Плоховато, – последовал ответ. – Эта сучка хорошо меня пырнула.
– Все еще течет кровь?
– Нет… Кровотечение, слава Богу, прекратилось. Но рану нужно бы перевязать покрепче.
– Сможешь ехать верхом?
– Ехать верхом я точно смогу, даже если это меня доконает. Он сказал, что нужно двигаться по маршруту паломников на восток. Не знаю, что ты там себе думаешь, но я скорее бы умер в пути, чем не встретился с ним.
Пока она слушала этот разговор, ее глаза привыкли к темноте. Тот мужчина, которого она уже видела (второго – еще нет), находился по другую сторону костра и ухаживал за тремя лошадьми, привязанными к одной сосне.
Она
удивилась, услышав язык, на котором разговаривали эти двое, потому что английский язык, вообще-то, не часто можно было услышать в Галисии и даже здесь, поблизости от Сантьяго-де-Компостела, где сплошь и рядом встречались паломники едва ли не со всего мира. Но еще больше ее поразил их акцент. Те, кто ее схватил и связал, были шотландцами. Медленно, так чтобы они не заметили, что она уже пришла в себя, Ленья прогнула ноющую спину и потянулась руками к пяткам. Одновременно она сильно напрягла ноги и, рискуя довести себя до судороги в икрах, попыталась коснуться ладонями ступней и тем самым придать своему телу форму буквы «О».
– Нам нужно было бы похоронить Тома.
– А как бы мы это сделали? Земля здесь твердая, как железо. Ты что, стал бы рыть могилу своим мечом?
– Нет, не стал бы. Но в любом случае речь ведь идет о нашем Томе, сыне моей сестры. Мне следовало бы позаботиться о нем. По меньшей мере как-то обрядить
[14] его и прикрыть чем-нибудь.
– Нам нужно было заставить сделать это
ее. А теперь забудь об этом. Нам не оставалось ничего другого, кроме как бросить его. Ты что, хотел подождать, пока местные жители, может мужчины, не начнут искать нас?.. А они наверняка начали поиски после того, как нашли тех женщин и девушек, причем монашек…
Не последовало никакого ответа – раздались только звуки, похожие на шарканье ступней.
– На твоем месте я бы поменьше переживал о бедняге Томе и побольше о своей собственной бессмертной душе!
Он засмеялся, и этот его циничный смех перерос в приступ кашля. Покашляв в течение нескольких секунд, он громко сплюнул.
– Ты когда-нибудь видел нечто подобное – я имею в виду то, как она орудовала топором, а?
Услышав, что разговор зашел о ней, Ленья невольно напряглась.
Второй мужчина фыркнул, попытавшись тем самым выразить презрение, но это не показалось убедительным ни его собеседнику, ни ему самому.
– Да ладно тебе! – пробурчал он. – Когда она вытащила свои ножи… Боже милостивый, если бы ты не врезал ей хорошенько по голове, то… то я не знаю, чем бы все закончилось…
– Она бы заколола тебя, как родившегося весной ягненка, – вот что бы она сделала.
– Да, отрицать не стану. Наверняка так и было бы…
На несколько секунд воцарилось молчание, и Ленья закрыла глаза, изнемогая от мучительной боли в голове.
– А кто она вообще?
– Перестань меня об этом спрашивать! Мне никто никогда не говорил этого. Все, что я знаю, и все, что должен знать ты, так это то, что она принадлежит сэру Роберту Джардину. Могу тебя заверить, он имеет на нее право.
Ее глаза снова раскрылись – и раскрылись широко. Ей вдруг стало очень холодно, как будто костер неожиданно погас и подул сильный северный ветер.
Джардин. Сэр Роберт Джардин. Она вспомнила о том, как когда-то уже лежала связанная по рукам и ногам, будучи его пленницей. Его лицо предстало перед ее мысленным взором так отчетливо, словно он сейчас находился здесь и лежал на ней, прижимаясь своим лицом к ее лицу, так что его зловонное дыхание проникало ей в нос и, казалось, прилипало к ее коже и волосам, обволакивая ее всю. Прожитые годы будто улетучились, как унесенные ветром листья, опавшие с деревьев.
Когда-то давным-давно сэр Роберт сделал из нее своего рода шахматную фигурку, которую собирался двигать по доске, чтобы в конце концов обменять ее на что-то такое, о чем он мечтал. Роберт Джардин… Но если он добрался сейчас до
нее, то что же стало с Патриком Грантом? Она ведь тогда улизнула –
они тогда улизнули, – а потом она, можно сказать, повернулась спиной ко всему этому. Она зарделась при мысли о том, что прожила полжизни, отказывая себе почти во всем только ради того, чтобы быть в безопасности. Теперь же эта жертва, на которую она пошла, показалась ей бессмысленной и непристойной. Она пожертвовала всем в надежде на то, что спрячется от мира, – и вот этот мир снова рядом с ней. Выходит, что все ее жертвы не дали никакого результата. Эти люди как будто сделали большой надрез в тонком занавесе, отделявшем прошлое от настоящего, и она опять стала пленницей Джардина. Неужели ничего не изменилось и все снова стало таким, каким оно было раньше?
Она осторожно выдохнула, когда кончики ее пальцев коснулись обутых в сапоги ног. Сделав еще одно усилие, Ленья развела основания ладоней так, чтобы край стальной пластины, прикрепленной к подошве сапога на носке, уперся в кожаные путы, которыми были связаны ее руки. От напряжения, которое она испытывала в столь неудобном положении, ее мышцы и суставы едва не раскалились, и Ленья с силой стиснула зубы на несколько секунд, чтобы сконцентрироваться. Затем она еле заметными движениями стала тереть кожу о сталь.
–
Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum: et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen servo Malchus.
Ее голос прозвучал довольно зычно в ночной тишине – громче, чем она хотела, – но Ленья отчетливо услышала, как оба мужчины, находящиеся по другую сторону костра, повернулись в ее сторону.
Один из них так и остался стоять возле лошадей, а второй – тот, который свалил ее с ног ударом дубинки, – начал медленно обходить костер. Она услышала едва различимый шепот его клинка, когда он вытаскивал меч из кожаных ножен. Направляясь к ней, он сильно прихрамывал и использовал этот меч как трость. Он остановился, когда подошел к ней почти вплотную.
– Что ты сказала? – спросил мужчина. Он стоял так близко, что носки его сапог почти касались ее живота.
Глядя не на него, а на пламя костра, она повторила на латинском языке цитату из Евангелия от Иоанна:
–
Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum: et percussit pontificis servum, et abscidit auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen servo Malchus.
Он пнул ее в грудь носком сапога.
– И что это значит?
Она вздохнула, а затем произнесла эту цитату по-английски:
– Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
Он уставился на нее, не зная, что и сказать.
– Как его звали? – спросила она. – Как звали того болвана, которому я раскроила череп?
Вдруг все поняв – осознав, что она издевается над ним и его мертвым товарищем, – он бросил свирепый взгляд на пленницу, лежащую у его ног.
– Черт бы тебя побрал! – в ярости рявкнул он, перенося вес своего тела на меч, чтобы левой ногой врезать этой женщине посильнее. Так наподдать, чтобы она аж подскочила в воздух.
Однако когда его левая нога, которую делали неуклюжей боль и слабость ноги правой, начала движение вперед, женщина вдруг резко выставила перед собой обе руки, только что находившиеся у нее за спиной. На ее запястьях болтались остатки разрезанных пут. Из-за холода и долгого пребывания в неудобной позе она была не такой быстрой, как ей сейчас хотелось бы быть, но тем не менее она сумела парировать удар даже в лежачем положении.
Пытавшийся ударить ее мужчина ахнул от удивления и, зашатавшись, едва не упал. Пленница вскочила на ноги. Ее лодыжки по-прежнему были крепко связаны, но она смогла удержать равновесие. Мужчина тоже выпрямился – настолько, насколько позволила ему его рана. Он все еще держал в руке меч, но, когда повернулся к ней лицом, она ударила его по горлу левой рукой, совершив при этом очень быстрое движение, как жалящая змея. Его кадык просел под туго натянутой кожей между ее большим и указательным пальцами, и мужчина тяжело рухнул наземь. Его дыхательное горло было заблокировано сломанным кадыком.
Те несколько мгновений, в которые все это произошло, дали второму мужчине возможность сориентироваться в ситуации и принять решение. Вначале он буквально остолбенел, ошеломленный неожиданным развитием событий, а затем с диким ревом, в котором одновременно чувствовались и ярость, и страх, бросился к ней прямо через пламя костра. Кончики его длинных волос вспыхнули вместе с нитками, свисающими с его потертой куртки.
До того, как он успел подскочить к пленнице, она проворно присела, подобрала упавший на землю меч и разрезала им путы на своих лодыжках. Затем, крепко сжав рукоять меча обеими руками, она резко выставила его прямо перед собой, так что пытавшийся напасть на нее мужчина буквально нанизался на клинок своим телом. В силу его немалого веса и большой скорости, с которой он двигался, меч пронзил его насквозь на всю длину клинка и уперся в его туловище своим эфесом. Посеревшее от боли лицо с широко раскрытыми и тут же начавшими тускнеть глазами на секунду-другую уткнулось в ее лицо, и она ощутила прикосновение колючей щетины. Затем она опустила его вместе с мечом, и его обмякшее тело, соскользнув с клинка, безжизненно шлепнулось на землю, как мертворожденный теленок.
– Ого! – раздался позади нее мужской голос. – А ты прыткая, в этом тебе не откажешь…
Она повернулась вокруг своей оси – элегантно, как танцовщица, – и выставила меч острием в сторону того, кто произнес эти слова. Этот мужчина, зеленоглазый и довольно симпатичный, был на вид примерно одного возраста с ней. Его голова была так же тщательно выбрита, как и подбородок, и на ее гладкой поверхности плясали отблески света, исходящего от пламени костра.
«Огонь доберется до нас где угодно», – подумала Ленья.
Однако из всего того, что она заметила в этом мужчине в самый первый миг, больше всего ее внимание привлек хищный стальной наконечник его стрелы. Мужчина находился на расстоянии всего лишь четырех шагов от нее и целился прямо ей в лицо, с силой натянув тетиву лука, изготовленного из добротного красного тиса.
– Пожалуйста, брось меч, подружка, – процедил он сквозь зубы. – У меня осталось мало стрел. Стрелы с широким наконечником – такие, как вот эта, – вообще-то предназначены для того, чтобы валить тяжелых лошадей. Их чертовски трудно вытаскивать из лиц покойников. Впрочем, учитывая отсутствие дальности, она скорее всего пройдет насквозь и упадет где-то среди вон тех деревьев. В любом из этих случаев меня ждут хлопоты, и мне хотелось бы избавить себя от них.
Она сделала то, что он от нее потребовал: наклонилась и положила тяжелый меч на землю. Еще трое мужчин – все они были моложе первого – вынырнули из темноты слева и справа от нее.
Один из них осторожно приблизился и, наклонившись, быстро поднял меч с земли, а затем отошел на почтительное расстояние. Никому из этих шотландцев никогда раньше не приходилось испытывать страх перед женщиной, по крайней мере с той поры, когда они стали достаточно взрослыми, чтобы игнорировать гнев матерей, а потому все они сейчас чувствовали себя очень неловко.
А внушающая им страх женщина смотрела лучнику прямо в глаза. Он перестал натягивать тетиву и опустил свой лук, держа его перед собой, однако она заметила, что он все еще готов применить свое оружие: задний кончик по-прежнему находился на тетиве.
– Я тут ни для кого не подружка, – сказала она.
18
Издалека небольшая вереница всадников могла показаться одной из многочисленных групп паломников, направляющихся на восток после посещения гробницы святого Иакова. В Галисии было принято говорить о
«O Camino de Santiago», то есть «Пути святого Иакова», однако в действительности к этой гробнице вело множество дорог. Эти дороги были подобны желобкам на раковине гребешка: маршрутов много, но конечный пункт – один.
Присмотревшись повнимательнее, сторонний наблюдатель мог, однако, заметить, что поводья лошади, находящейся в самом центре этой вереницы из пяти всадников, находились не в руках того, кто на ней ехал, а были привязаны к двум веревкам, которые держал мужчина, следующий непосредственно за ней. Более того, руки сидевшей на этой лошади женщины были связаны у нее за спиной.
Ее, впрочем, не очень беспокоило подобное неудобство. Она вообще не обращала на него почти никакого внимания. Погрузившись в размышления, Ленья пыталась связать те крупицы информации, которые она извлекла из разговоров схвативших ее мужчин.
Имени Роберта Джардина она не слышала уже давным-давно, едва ли не половину прожитой жизни, и надеялась не услышать его больше никогда. Даже сама мысль об этом человеке была для нее достаточно неприятной, а то, что они говорили о ней, своей пленнице, как о его собственности, вызывало у нее тошнотворные ощущения. Более того, из-за этого она даже чувствовала себя не взрослой женщиной, а беззащитным ребенком.
Их манера обращения с ней однозначно свидетельствовала о том, что этих людей подробно проинструктировали относительно ее способностей. Однако никто из них пока еще ничем не выдал того, что он что-либо знает – или догадывается – о ее прошлом.
Трое из сопровождавших Ленью мужчин не представляли для нее большой опасности. Она успела придумать несколько вариантов своих дальнейших действий, и во всех планах, которые родились в ее голове, эта троица была не более чем статическим препятствием – так, просто незначительное неудобство. А вот четвертый, тот, который держал в руке веревку, привязанную к поводьям ее лошади, был совсем другим. Хотя Ленья не встречала подобных ему людей уже лет двадцать, она сразу отметила про себя знакомую ей манеру поведения. Этот человек обладал природным умом, а его самоуверенность была результатом большого жизненного опыта. То, как он двигался и говорил, напоминало Ленье ее саму. А еще он явно отличался от своих товарищей в обращении с ней, их пленницей. В его поведении не чувствовалось даже намека на злобу или ехидство по отношению к Ленье. Он, похоже, не испытывал никакой необходимости в том, чтобы демонстрировать свою силу и значимость перед оказавшейся в его в руках пленницей и причинять ей страдания.
Как бы там ни было, этот шотландец обращался с ней учтиво. По-видимому, у него не было и малейшей потребности заниматься самоутверждением и что-то кому-то доказывать. Именно поэтому его следовало опасаться.
Вопреки самой себе и тому затруднительному положению, в котором она оказалась, Ленья была вынуждена признать, что ей нравится снова слышать английский язык с шотландским акцентом. Этот акцент напомнил женщине о Патрике Гранте, и ей даже стало казаться, что он где-то рядом. Она удивилась, поймав себя на мысли, что ей приятно вспоминать о нем.
Судя по тому, что разговор между этими людьми протекал, то ослабевая, то вдруг вновь накаляясь, можно было подумать, что они о чем-то спорят, – таким задиристым и агрессивным порой был их тон. Однако жизненный опыт подсказывал Ленье, что шотландцы, разговаривая, забавляются тем, что поочередно подтрунивают друг над другом.
Она смотрела прямо перед собой, поверх головы своей лошади, и делала вид, что их болтовня ей совсем не интересна. Внезапно ее спутники начали смеяться, и звуки их смеха стали накатываться на нее, как вздымающаяся и затем отступающая волна.
– А где мы встретимся с его светлостью? – донесся до нее голос мужчины, который был помоложе остальных и ехал впереди нее. Насколько она поняла, этого парня звали Джейми. Его голос больше всего напоминал ей о Патрике.
– Не думай об этом, – сказал их главарь, едущий позади Леньи. – Думай только о том, что необходимо сделать сегодня.
– Боже мой, он всегда ведет себя подобным образом, – послышался еще один молодой голос. – Вы даже представить себе не можете, каково это – ехать рядом с таким вот человеком. Он все время о чем-то спрашивает, вопрос за вопросом, как какой-то болтливый ребенок.
После этих слов раздался фыркающий смех четвертого из этой группы шотландцев. Он ехал последним и, как заметила Ленья, предпочитал помалкивать. Она даже подумала, что этот человек, наверное, отличается умом. Во всяком случае, он был внимательным слушателем.
На некоторое время воцарилось молчание. Всадники продвигались вперед с довольно большой скоростью, и было очевидно, что они хотят побыстрее прибыть в какой-то пункт назначения. Их главарь, по-прежнему державший в руке веревку, привязанную к поводьям лошади Леньи, заставил своего коня сместиться немного в сторону и, увеличив скорость, оказался рядом с Леньей.
Он поступал так время от времени еще с того момента, как они тронулись в путь. Рассматривая женщину, он пытался завязать с ней разговор и при этом вел себя так, как будто ее присутствие очаровывало его. Сейчас, находясь рядом с ней, он минуту-другую ничего не говорил, но Ленья чувствовала, что он опять разглядывает ее.
Она тоже все время украдкой посматривала на него. Это началось в тот самый миг, когда она увидела его впервые, – увидела, как он целится из лука прямо ей в лицо. Она до сих пор не услышала его имени. Никто из сопровождавших ее шотландцев не называл его по имени, и у Леньи возникло подозрение, что им приказали не делать этого, по крайней мере при ней. Ей стало интересно почему.
– Одинокую жизнь ты выбрала для себя, – после довольно продолжительной паузы произнес мужчина.
Ленья, ничего не ответив, по-прежнему смотрела вперед. Она вообще вела себя в последнее время настороженно, стараясь придать своему лицу равнодушное и почти отрешенное выражение.
– А ведь ты человек, способный на… на многое, – добавил он.
Внимательно слушая его, она ничем не выдала своей заинтересованности, хотя и задумалась над его словами. «Способная на многое» – так сказал он про нее. По всей вероятности, это была ключевая фраза, полная скрытого смысла.
– И ты наверняка могла бы сделать многое, – продолжал он.
Она почувствовала на себе его пристальный взгляд и глубоко вздохнула. Этот ее вздох уже сам по себе был своего рода ответом.
– Я скучаю по дождю, – сказала Ленья.
Зеленоглазый мужчина, сам того не желая, удивленно – хотя и еле заметно – хмыкнул. Он пытался спровоцировать ее на разговор вот уже три дня – и все время безуспешно. Ее неожиданная реплика застала его врасплох.
– По дождю? – спросил он.
– На том острове, – ответила женщина, все еще глядя прямо перед собой, а не на него.
Эти слова и этот язык казались ей непривычными и странными. Она редко с кем-либо разговаривала, а если и разговаривала, то на галисийском языке. Именно поэтому она сейчас говорила медленно, как будто вспоминая вкус, который был знаком ей в далеком детстве.
– Там дождь шел, казалось, каждый день. Поначалу я это ненавидела, но затем мне это даже стало нравиться. А вот здесь дождь идет не так часто, и я по нему скучаю.
Она сделала паузу, ожидая его реакции, чтобы по ней попытаться определить, понятны ли ему ее реплики. Если понятны, значит, он кое-что знает о ее прошлом.
– Айлей, – сказал он. Это было утверждение, а не вопрос, и она снова вздохнула.
Он, возможно, затем спросил ее о чем-то, но Ленья уже не слушала его. Она, как и раньше, смотрела прямо перед собой, между ушами ее лошади. Покачиваясь на ней, она позволила годам улетучиться – так, как улетают прочь сухие листья на ветру, – и увидела вокруг себя не реальный мир, а то, что происходило с ней в двенадцатилетнем возрасте в большом и величественном доме Александра Макдональда, правителя Островов…
Они тогда приехали в Финлагган на острове Айлей верхом. Ее отец, как обычно, находился рядом с ней на своем черном боевом коне по кличке Минюи.
–
Se tenir droit, maintenant[15], – сказал он. –
Garder tes talons vers le bas[16].
Она едва не заснула в седле. Ее веки норовили сомкнуться из-за усталости, которую вызвало у нее это бесконечно долгое, как ей казалось, путешествие, но голос отца заставил ее очнуться. Пытаясь вернуться из полусонного состояния к реалиям окружающего ее мира, она сделала глубокий вдох и прислушалась к его наставлениям. Было холодно (Ну почему здесь все время так холодно?), и хотя дождь прекратился, воздух вокруг был таким сырым, что ее одежда и волосы стали влажными.
Несмотря на бесконечно долгое путешествие, различные неудобства и тоску по родине, она никак не выказывала своего недовольства. Ее отец, однако, чувствовал терзавшее дочь беспокойство. Она не задавала никаких вопросов, но он тем не менее давал ответы.
– Очень важно то, что ты приехала сюда, – сказал он. – Ты имеешь больше значения, чем я.
Его голос стелился, как туман.
Она посмотрела на него и улыбнулась. Она любила его и верила ему. Он знал это, и знание это ранило его сердце.
– Я думаю, что в целом мире нет второго такого человека, как ты, – мягко произнес он.
– А я думаю, что в мире нет второго такого человека, как ты, – моментально ответила она, и по выражению ее глаз было видно, что она говорит серьезно.
Он тяжело сглотнул. Ему было легче, когда он мог обращаться с ней, как с ребенком, – давал ей наставления и бранил ее, если она вела себя не так, как подобает.
– Эти люди дороги мне, – сказал он. – Они будут любить тебя так, как они любили меня, и ты почувствуешь это. Обещаю тебе.
Белый туман цеплялся, словно дым, к вереску и утеснику, стелившимся по обеим сторонам дороги, и когда она посмотрела вперед, на дома Финлаггана, то увидела, что стены и соломенные крыши построек тоже окутаны туманом. Все это навевало тоску, которая, казалось, просачивалась сквозь влажную одежду в ее плоть и кости.
–
Et mettre un sourire sur ton visage[17], – добавил он.
Их путешествие – по земле и по морю – длилось несколько недель. Она теперь находилась безнадежно далеко от своего дома, и ощущение тоски в груди – тоски по матери, братьям и сестрам, по привычным пейзажам, запахам и прочим ощущениям – уже воспринималось то ли как боль, то ли как голод. Как бы там ни было, она еще раньше знала, что есть что-то такое, чего она желала и в чем нуждалась. Но она также понимала, что не может получить этого сейчас, как и не получит в ближайшее время.
Из сводчатого входа самого большого из показавшихся впереди зданий появилась группа людей. Она насчитала больше десятка мужчин и женщин, которые направились им навстречу. Их здесь ждали – вот и все, что она пока знала.
– Жак! – крикнул высокий, крепкого сложения мужчина, который шел во главе группы.
Узнав ее отца, он резко ускорил шаг. Наблюдая за процессией, она в очередной раз удивилась стилю одежды, которую носили люди, живущие в этой части мира. Все они – высокие и низенькие, толстые и худые – закутывались тем или иным способом во что-то вроде длинного шерстяного пледа, который укрывал их от шеи до колен. Плед этот, сложенный таким образом, чтобы получалось много складок, перебрасывался через одно плечо и стягивался ремнем или просто веревкой на талии. Когда погода ухудшалась и начинал идти дождь – а такое случалось частенько, – некоторые из складок можно было использовать в качестве капюшона. Те из них, кто мог себе это позволить, носили под пледом широкую рубаху, но каждый мужчина – и богатый, и бедный – был вооружен мечом и ножом. В здешних местах люди, похоже, были готовы вступить в схватку в любой момент.
– Дуглас! – воскликнул отец, когда узнавший его мужчина подошел к ним.
Мужчина протянул руку, похожую на могучую медвежью лапу, и крепко обнял ее отца, обхватив его торс.
– Я очень рад, что наконец-то вижу тебя здесь, – сказал громадный шотландец, похлопывая ее отца рукой по спине, да так сильно, что она даже испугалась, как бы он его не покалечил. Если бы он при этом не улыбался – и если бы не улыбался ее отец, – то из-за странного, какого-то ворчливого звучания слов, которыми обменивались эти двое, она подумала бы, что они о чем-то спорят.
– А я очень рад, что нахожусь здесь, поверь мне, Дуглас, – ответил ее отец.
Она посмотрела на него с удивлением: ей все еще было непривычно, что он так легко говорит на этом незнакомом языке. С того момента, когда они несколько дней назад прибыли в Шотландию, он общался с местными жителями без каких-либо затруднений, и она смотрела на него при этом с затаенным от страха дыханием – так, как будто он вдруг стал совсем другим человеком. У нее уже не в первый раз возникала мысль, что ей, наверное, предстоит узнать о своем собственном отце еще очень многое.
Он спрыгнул с коня и снова обнялся с громадным шотландцем, который оказался выше его на целую голову. Они долго похлопывали друг друга по спине, а затем слегка отстранились, чтобы получше разглядеть один другого.
После приветствий громадный шотландец, которого, выходит, звали Дуглас, повернулся и окинул ее внимательным взглядом.
– Она красивая, Жак, – сказал он, улыбаясь. – Так что ты молодец!
– Она похожа на свою мать, очень даже похожа, – отозвался ее отец и тоже посмотрел на нее. При этом на его лице появилось незнакомое ей выражение, как будто он видел ее впервые в жизни. Она почувствовала, что краснеет от такого внимания к ней со стороны мужчин.
– Он здесь? – спросил Жак.
– Еще нет, – ответил Дуглас. – Но не переживай, он приедет. Приедет скоро.
– Бедняжка совсем измучилась!
Эти слова произнесла одна из подошедших к ним женщин. Она была худой, как борзая, с тоненькими руками и ногами. Ее длинные черные волосы были заплетены в косы и доходили ей до середины спины. Ее лицо было довольно симпатичным. Улыбнувшись, она подошла поближе и протянула к ней руки.
– Жанна?
Похоже, она хотела помочь девочке слезть с лошади. Ее отец в знак одобрения кивнул.
–
C’
est bien, Jeanne[18], – сказал он.
Она привстала в стременах и перекинула ногу через спину лошади, приготовившись спрыгнуть на землю. В следующее мгновение она почувствовала, как руки этой женщины схватили ее за талию, чтобы помочь, и с благодарностью посмотрела на нее. Когда Жанна коснулась ступнями земли, ее ноги, вялые, как распутавшиеся нитки, подкосились и она на какой-то миг даже испугалась, что рухнет сейчас на влажную землю. Однако эта худая женщина оказалась более сильной, чем можно было предположить по ее виду. Взяв девочку под руки, она помогла ей удержать равновесие и не отпускала до тех пор, пока маленькая гостья не почувствовала себя уверенно.
Затем женщина заговорила с ней, и хотя она не поняла ни одного слова, в интонации произносимых ею фраз однозначно чувствовались забота и симпатия. Женщина с укоризной посмотрела на обоих мужчин и приподняла свои черные брови, так что на ее лбу появились морщины.
– Нам следует получше позаботиться о ней, – сказала она. – Нет смысла утомлять ее еще до того, как все начнется.
Девочка вдруг почувствовала какую-то тяжесть, которая стала давить ей на плечи, и подумала, что сейчас, наверное, упадет на мягкую землю, прямо там, где стоит. Ее отец говорил, что она была избрана для того, чтобы вести к свободе и к Богу. Он говорил, что она посадит короля на трон и станет за него сражаться. Уже одна только мысль обо всем этом – и о непостижимой грандиозности всего этого – вызывала у нее желание лечь и заснуть на целый год.
Слова, произносимые вокруг нее, были ей в абсолютном большинстве незнакомы, и она раскрыла рот от удивления, увидев, что оба мужчины вдруг сконфузились и даже как будто оробели.
Все, кто встречал их, разделились на две группы: мужчины остались возле лошадей, а женщины окружили ее со всех сторон и повели в сторону сводчатого входа, из которого они появились вместе с мужчинами несколько минут назад.
Она почувствовала запах сырости, исходящий от шерстяных платьев и накидок женщин, и этот запах в последующем всегда ассоциировался у нее со святилищем. Ковыляя в центре этой группы женщин, она ощущала прикосновение их рук к ее плечам, вслушивалась в их голоса. А они произносили какие-то подбадривающие слова и вели ее к большому зданию…
Ленью вернул к реальной действительности – к тому, что она оказалась в руках каких-то мужчин, схвативших и связавших ее, – еще один вопрос, заданный их безымянным главарем, который был, по ее мнению, уж слишком назойливым. Наверняка он спрашивал ее о чем-то еще, когда она погрузилась в воспоминания о прошлом, но только этому вопросу удалось пробиться сквозь завесу из воспоминаний, которую она натянула вокруг себя.
К тому моменту, когда он повторил этот вопрос, она уже снова была Леньей.
– Ты расскажешь мне, как выглядят ангелы? – спросил он.
19
Ленья сконцентрировалась на хрусте, который она скорее чувствовала, чем слышала в своем правом плече. Женщина пока не ощущала боли, но знала, что рано или поздно она появится. Один из тех, кто помоложе, – тот, которого звали Джейми, – что-то нашептал их главарю о ее путах. Его, похоже, намного больше, чем всех остальных, напугало мастерство, с которым она избавилась от своих пут и расправилась с тремя его товарищами три ночи назад, и он несколько раз заявлял, что неразумно и недостаточно, с точки зрения безопасности, связывать ей только руки.
Его заявления, возможно, были бы проигнорированы их главарем, если бы она внезапно не стала снова играть в молчанку. Она ведь позволила этому чрезмерно любопытному человеку почувствовать, что он в конце концов пробился через ее оборонительные сооружения и что она расскажет ему о своей жизни. Поэтому, когда она снова укрылась за каменной стеной молчания, это, похоже, задело его за живое.
Именно поэтому, думала она, он согласился на то, чтобы ее связали покрепче. Они сделали остановку и дополнительно связали ее руки еще одной веревкой, так чтобы локти оказались притянутыми друг к другу у середины ее спины. В такой позе она стала чем-то похожа на курицу, которую подготовили к насаживанию на вертел. Кроме того, что это сильно ограничило ее движения, существенно снижая вероятность совершения побега, она еще и чувствовала себя наказанной за то, что не захотела разговаривать с главарем.
Через какое-то время Ленья заметила, что ее спутников, похоже, стало смущать то, что она едет в таком неудобном положении. Даже Джейми, больше других настаивавший на том, чтобы связать ее как следует, почему-то стал угрюмым. Они перестали разговаривать, и теперь вместо их болтовни она слышала лишь позвякивание металлических частей сбруи да хруст в своем плече.
Позволив рассудку обратиться к тому далекому моменту, когда она получила это ранение, Ленья снова услышала вокруг себя шум сражения и увидела свой конный эскорт из бравых шотландцев, пытающихся ее защитить…
Это происходило в 1429 году. Она была тогда той девой, появление которой предсказывали французские прорицатели. Англичане наседали. Их король Генрих настойчиво требовал для себя трон и земли Франции. Однако теперь среди французов появилась дева из Домреми, которая стала во главе войска и уже одним своим присутствием заставила воинов уверовать в правоту своего дела.
Она сидела на белом боевом коне, спина которого была такой широкой, что ей приходилось сильно напрягать мышцы бедер, чтобы усидеть на нем верхом. Стрелы, выпускаемые английскими лучниками из их больших луков, падали с неба черным дождем, и только благодаря щитам, которые выставили вокруг нее и над ней храбрецы из ее шотландской гвардии, она оставалась невредимой. Она находилась в центре плотно затянутого защитного узла, за пределами которого люди и животные падали и умирали.
– Держитесь вместе! – раздался голос Хью Мори, ее адъютанта, светлобородого крепыша. – Держитесь ближе друг к другу!
Она была облачена в чужие доспехи и не имела при себе никакого оружия, кроме своего мужества. Вместо меча она держала в руке большое развернутое знамя, трепетавшее высоко над ее головой. Именно под этим знаменем – и только под этим знаменем – стали собираться силы французов в эти тяжелые, смутные времена. Она окинула взглядом знамя, полотнище которого развевалось на ветру. Знамя это было ослепительно-белым, с вышитыми на нем золотыми лилиями и в два раза превышало по своей длине рост взрослого мужчины. Возле его древка, которое она крепко держала в своей руке, защищенной латной перчаткой, виднелось изображение Иисуса Христа. Облаченный в голубые одежды Христос держал у себя на коленях мир и был окружен ангелами.
Они ехали верхом быстро, почти галопом, и знамя хлопало под порывами ветра. Несмотря на смерть и прочие опасности, витающие в воздухе, крики и стоны людей, ее сердце подскакивало в груди – подскакивало почти до горла – и билось, как крылья пойманной птицы. Победа была почти у них в руках. Несмотря на большие потери среди ее людей, англичане уже давали слабину под их натиском, и она почувствовала себя облеченной милостью Божьей.
И поэтому, когда стрела, выпущенная откуда-то сзади нее, проскочила между поднятых щитов и угодила в промежуток между верхним краем ее лат и шлемом, она сначала подумала, что в нее ударила молния: энергия небес вдруг случайно вырвалась на свободу. Ей показалось, что ее обожгло огнем, и затем она услышала крик одного из сопровождающих ее всадников.
«В нее попали! – заорал он. – В нашу госпожу попали!»
Она по-прежнему крепко сжимала древко знамени левой рукой, но ее правая рука, держащая поводья лошади, вдруг стала слабой, как лапка новорожденного котенка. Она выпустила поводья и почувствовала, что соскальзывает вбок, в промежуток между своим конем и конем всадника, который заметил, что в нее угодила стрела.
«Нет!» – крикнул все тот же шотландец, и плотно затянутый защитный узел начал терять свою форму, поскольку окружающие ее воины стали предпринимать отчаянные попытки подхватить ее, или поводья ее коня, или и то, и другое. Сила тяжести сыграла в конце концов решающую роль, и, несмотря на все усилия эскорта, направленные на то, чтобы удержать ее в седле и увезти в безопасное место, она соскользнула и упала наземь, оказавшись посреди множества конских копыт. Последнее, что она услышала, прежде чем все вокруг нее погрузилось в темноту, был неприятный хруст в плече, пронзенном стрелой, которая теперь торчала из сустава…
Ленья удивилась тому, как хорошо она все это помнит, тогда как ощущение острой боли, которую ей довелось испытать, она напрочь забыла. Она могла без каких-либо усилий воскресить в памяти движения, звуки и даже запахи той битвы, но вот от мучительной боли в ее памяти не осталось и следа. То, что она чувствовала сейчас, будучи связанной, словно какая-то курица, было всего лишь унижением и недомоганием от усталости. Недомогание женщины среднего возраста. И хотя она пожертвовала бы парой своих зубов ради того, чтобы помассировать правое плечо хотя бы одной рукой, это все равно не имело большого значения. Все ее внимание сейчас привлек удар грома, раздавшийся прямо над ней. Он привлек и внимание ее спутников. Воздух, казалось, зашипел, и во рту у нее появился едкий привкус.
– Будет буря, – сказал Джейми, в ушах которого все еще звенело от раската грома.
– Ты уверен? – спросил другой молодой человек, откликавшийся, насколько она смогла заметить, на имя Шуг.
Все остальные засмеялись, в том числе и их главарь. Удар грома как бы разрядил напряженную атмосферу и приподнял им настроение, а потому возвращение к сарказмам в разговоре пришлось всем по вкусу. Однако второй удар грома заставил мужчин невольно пригнуться, и все они стали оглядываться по сторонам, удивляясь силе этого звука.
Небо заметно потемнело. И хотя они ехали в уже сгущающихся сумерках, теперь стало совсем темно. Ехать в темноте, да еще под ливнем Ленье совсем не хотелось, однако она постаралась не выдавать этого своего нежелания ни случайным движением, ни даже взглядом. Любой видимый признак того, что она испытывает какое-либо неудобство, мог спровоцировать главаря продлить ее мучения – например, под предлогом необходимости преодолеть большую часть расстояния, которое отделяло их от пункта назначения.
Она позволила себе облегченно вздохнуть, когда услышала его голос.
– Найдите впереди какое-нибудь убежище, – сказал он. – И побыстрее.
20
Кристе Фуэнтес не спалось. Она, как обычно, помолилась, прежде чем лечь в кровать рядом со своей младшей сестрой. Чаще всего она спала, свернувшись вокруг маленькой Анны и уткнувшись носом в темные кудри этой пятилетней девочки. Однако в эту ночь сон все никак не приходил, и она лежала на боку, прислушиваясь к ритмичному дыханию сестры, которое чем-то напоминало храп.
Родители уже спали в своей кровати с пологом на четырех столбиках, стоящей рядом с кроватью детей и обтянутой вокруг белым полотном. Эта комната – единственная спальня в их жилом доме на ферме – была маленькой, и только полотно отделяло ночью родителей от детей. Криста привыкла к тихим стонам и шумному, прерывистому дыханию отца, которые иногда доносились из-за этого полотна и сопровождались поскрипыванием кровати.
Однако сегодня родители вели себя тихо, и Криста задумалась о причине своей бессонницы. Боль, появившаяся утром внизу живота, нарастала в течение всего дня. Сначала она была похожа на легкий позыв посетить отхожее место, но вскоре после полудня, когда еще оставалось выполнить много работы по дому, боль превратилась в спазм, отчего стало казаться, что где-то внутри ее тела застрял чей-то крепко сжатый кулак.
На нее накатилась еще одна волна боли, и она, медленно выдохнув, зажмурилась и подтянула колени к груди. Ей было почти одиннадцать лет от роду, и она была очень хорошей девочкой. В отличие от очень многих детей, живущих на близлежащих фермах, Криста никогда не болела. Она не болела ни одного дня, когда другие дети заболевали то одной болезнью, то другой, и о ее исключительно крепком здоровье немало говорили. Поэтому болезненные ощущения в животе были не только неприятными, но и очень непривычными для нее. В течение дня она не раз собиралась сказать об этом маме, но подходящий для этого момент так и не наступил.
Она прикоснулась пальцами к маленькому серебряному крестику, висящему на тоненьком кожаном ремешке на ее шее, и задумалась, а не рассердилась ли на нее за что-то Дева Мария и не наложила ли она на нее небесную кару. После нескольких минут напряженных размышлений девочка отбросила эту мысль и, покачав головой, подтянула колени почти к самому подбородку.
Снова решив, что ей все-таки следует сходить в отхожее место, она неуклюже перевернулась на другой бок и опустила ступни на пол, выстланный тростником. Сумев выпрямиться только наполовину, она дошла до двери, держась за животик одной рукой и выставив другую вперед, чтобы не стукнуться обо что-нибудь в темноте.
Оказавшись вскоре на огороде, расположенном позади их дома, девочка почувствовала, что спазм начинает проходить, и, облегченно вздохнув, выпрямилась и одернула свою ночную рубашку. Несмотря на поздний час, было еще тепло, даже слишком тепло. Воздух показался ей таким же застоявшимся, каким он был в спальне, – из-за этого Кристе не верилось, что она находится снаружи дома, а не внутри него. Девочка вспомнила слова отца, который говорил, что так всегда бывает перед грозой.
Посмотрев на небо, она увидела полумесяц, а затем и самую большую из всех грозовых туч, которые она когда-либо видела. Казалось, эта огромная туча закрыла половину неба и вот-вот затмит собой тонкий серпик луны.
Рука девочки снова потянулась к маленькому крестику на шее.
«Отче наш, сущий на небесах! – пробормотала она. – Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя…»
Внезапно спазм вернулся, причем еще более сильный, чем раньше, и Криста упала на колени, схватившись за животик обеими руками.
«…да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
Когда ей уже показалось, что она сейчас не выдержит страданий и закричит, волна боли снова отступила. Тяжело дыша, она пошла, пошатываясь, вперед. Идя поначалу неуверенным шагом, она даже не задумывалась над тем, куда идет. Затем, постепенно ускоряя шаг, Криста вышла с огорода и направилась на дорогу, пролегающую за их забором. Дорога эта вела вниз по склону холма в деревню, а вверх по склону – на вершину холма, где, возможно, сейчас дул освежающий ветерок.
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, – шептала она, сжимая в кулачке крестик с такой силой, что металл глубоко впился краями в ее плоть. – И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого… Аминь».
Наслаждаясь тем, что боль снова отступила, но опасаясь при этом, что она скоро вернется, Криста торопливо шла вверх по крутому склону холма. Дойдя почти до его вершины, она сильно запыхалась и остановилась, чтобы перевести дух. Когда она выпрямилась, все еще тяжело дыша, то увидела перед собой четкие очертания скалистой вершины холма, похожей на груду грубых плит, неуклюже наваленных друг на друга каким-то древним гигантом. Ощутив на своем лице ветерок, она пошла дальше, полагая, что чем выше заберется, тем лучше будет себя чувствовать. Несколько капель благословенного дождя упало на ее плечи, и она уже поднимала лицо к небу, когда вдруг прямо над ней раздался удар грома.
Удивившись свирепости громового раската, сотрясшего воздух где-то над ее головой, она выставила руки так, как это делает священник, призывающий свою паству помолиться. Ночную тишину разорвал еще один удар грома, который был громче первого и который раздался еще ближе.
21
Айлей, Западные острова Шотландии, 1424 год
Кроме всего прочего – да и прежде всего, – они приехали сюда, чтобы встретиться со старцем из клана Дьюар. Отец Леньи говорил, что слово «дьюар» означает то ли «странник», то ли «паломник».
Из того, что еще несколько недель назад казалось ей бессмысленным лепетом, она теперь уже могла понимать отдельные слова и даже целые фразы. Она соображала быстро – ее отец всегда говорил это, – и язык шотландцев, который поначалу был ей совсем непонятным и который назывался гаэльским, наконец-таки начал приобретать для нее какой-то смысл.
Она уже осознала, что ей придется упражняться в умении владеть оружием и сражаться, ибо жить ей предстояло среди людей весьма воинственных. Впрочем, несмотря на свой юный возраст и принадлежность к женскому полу, она уже изрядно преуспела в этом деле. Планировалось, что когда-нибудь в будущем она станет чем-то большим, чем обычный пехотинец, однако от этого будущего ее отделяли годы. А пока что ей предстояло пройти различные проверки. Если какую-либо из них она не пройдет, то ее пребывание на острове вряд ли будет долгим.
Финлагган, расположенный на острове Айлей, который находился неподалеку от западного побережья Шотландии, являлся домом для человека по имени Макдональд и его клана. Она как-то спросила своего отца, действительно ли этот человек король острова.
– Своего рода, – ответил отец. – Некоторые из его людей называют его
Righ Innse Gall, что на их языке означает «король островов». Другие же – думаю, и сам Макдональд – отдают предпочтение титулу Dominus Insularum, что на языке римлян означает
«правитель островов».
Он начал тихонько петь какую-то торжественную песню:
Do Mhac Domnhaill na ndearc mall
Mo an tiodhlagudh na dtugam,
An corn gemadh aisgidh oir,
A n-aisgthir orm ’n-a onoir.
Ce a-ta I n-aisgidh mar budh eadh
Agam o onchoin Gaoidheal,
Ni liom do-chuaidh an cornsa:
Fuair da choinn mo chumonnsa.
Макдональду с величественными глазами
Предназначен тот дар, который я сейчас даю,
Он ценнее этой чаши, хотя она из золота
И является ответом на то, что преподносится мне.
Хотя эта чаша досталась мне как бы даром
От волка из числа гэлов
[19],
Мне так не кажется, поскольку
Он получил в ответ мою любовь.
Закончив петь, он улыбнулся дочери, протянул руку и легонько похлопал ее по колену своей грубой ладонью.
– Моя любовь, – сказал он.
Они сидели вдвоем – отец и дочь – в изящно обставленной комнате, расположенной в трехэтажном каменном доме-башне. В одной стене имелся огромный, почерневший от дыма камин, в котором горела, потрескивая, целая груда сосновых поленьев. На трех остальных стенах висели большие гобелены, на которых были изображены сцены охоты: мужчины, скачущие верхом в окружении худых и косматых длинноногих собак, похожих, как ей показалось, на волков. Сиденье у окна, на котором они расположились, было заполнено конским волосом и обито мягкой тканью голубого, как летнее небо, и золотого, как солнце, цветов. Несмотря на жаркое пламя в камине, ей казалось, что в комнате холодно, и она зябко поеживалась.
– Если этот правитель такой важный, то почему здесь нет никаких оборонительных сооружений – ни крепостных стен, ни частоколов, чтобы его защитить? – спросила она.
То, что она сказала, было правдой: в Финлаггане имелось несколько красивых зданий, возведенных и украшенных искусными мастерами, но ни одно из них, судя по всему, не строилось с целью обеспечения обороны.
– Александр Макдональд в этом не нуждается, – ответил отец. – Тут ему ничто не угрожает. В его распоряжении имеется более сотни боевых кораблей и десять тысяч воинов. Я бы сказал, что он и в самом деле мог бы называть себя королем, если бы хотел.
Она, узнав о столь впечатляющих фактах, согласно кивнула. Тут вдруг послышались звуки шагов какого-то грузного человека, приближающегося по коридору к ним, и в дверном проеме появился Дуглас, как всегда завернувшийся в большой шерстяной плед, стянутый на талии ремнем. Хотя она никогда не говорила об этом даже своему отцу, ей казалось, что он похож на большую незаправленную кровать.
– Пора, – сказал Дуглас. – Пора идти к старцу из клана Дьюар.
Отец и дочь встали и, не проронив ни слова, поспешно вышли из комнаты вслед за грузной фигурой Дугласа. Эти двое мужчин когда-то сражались плечом к плечу – вот и все, что она знала про их дружбу.
Они спустились по каменным ступенькам узкой спиральной лестницы, на которой у нее закружилась голова, и, пройдя через небольшую дверь в полукруглой внешней стене башни, оказались на внутреннем дворе, выложенном серыми плитами. Во влажном воздухе висел дым, поднимающийся от многих очагов. Несколько собак, таких же, каких она видела на гобеленах, украшающих стены здешних домов, бегали по двору в поисках объедков. Когда одна из них пробежала так близко, что можно было дотянуться до нее рукой, она заметила, что от собачьей шерсти, как и от всего остального, исходит запах сырости и дыма. Множество мужчин и женщин ходили взад-вперед или же, собравшись кучками, тихо о чем-то беседовали. Но когда она, остановившись, стала глубоко вдыхать холодный воздух, надеясь подавить головокружение, все взоры обратились на нее и воцарилось молчание.
Мужчина, который затем подошел к ним, был тоже укутан в плед, но плед этот был красивее, чем у великана Дугласа. Его длинные волосы, когда-то черные, стали большей частью серебристо-серыми и свободно ниспадали на плечи. Бородатый и симпатичный, он вполне располагал к себе, но, как и некоторые другие шотландцы, показался ей чем-то похожим на тех волкообразных охотничьих собак, которые бегали по двору.
Это был Александр Макдональд, Александр с острова Айлей, правитель Островов.
Насколько она смогла заметить, ее отец уже не один раз разговаривал с этим человеком с того момента, как они приехали сюда. Ей пришла в голову мысль, что, наверное, у отца и Макдональда тоже имеется какое-то общее прошлое, возможно связанное с участием в сражениях.
– Посмотрим, что скажет о тебе старец из клана Дьюар, – произнес Макдональд.
Он остановился в нескольких шагах от нее и протянул руку. Она, толком не зная, что ей сейчас следует делать, робко шагнула к нему, собираясь взять его за руку. Но уже в следующее мгновение выяснилось, что она неправильно поняла его намерения: он всего лишь показал вытянутой рукой на дверь маленького здания – часовни, расположенной на дальней стороне внутреннего двора. Она перевела взгляд на своего отца, и тот, улыбнувшись, кивнул, тем самым давая ей понять, что все в порядке и что нужно идти в часовню.
Внутри этого маленького каменного здания было темно: там горели только два светильника, стоявшие на каменном алтаре. Их оранжевое пламя обеспечивало лишь очень тусклое освещение, а потому она задержалась в дверном проходе, дожидаясь, когда ее глаза привыкнут к полумраку. На коленях перед алтарем, молясь, стоял сутулый человек, облаченный в темные шерстяные одежды. Услышав, как она зашла, этот человек тяжело поднялся с колен и повернулся к ней.
Это был пожилой мужчина с длинным худым и очень морщинистым лицом, голубыми водянистыми, как тающий лед, глазами и такими тонкими руками и ногами, что они казались не толще веревки, обвязанной вокруг его талии. В правой руке он держал высокий посох с загнутым верхним концом, который напоминал пастушью палку. Но он был позолоченным и искусно украшенным и слегка поблескивал в тусклом свете, исходящем от светильников. Выражение лица этого человека было добрым. Сделав шаг навстречу, он заговорил с ней на ее родном языке.
– Подойди, – сказал он. – Присядь рядом со мной и дай мне посмотреть на тебя.
Они подошли вдвоем к деревянной скамье, которая стояла у одной из стен часовни и была единственным имеющимся здесь предметом мебели. Она, подождав, когда старец сядет, села рядом с ним – на таком расстоянии, которое сочла почтительным. Он стал смотреть на нее и смотрел, как ей показалось, целую вечность, но она почему-то не чувствовала себя неуютно под его немигающим взглядом.
– Мне рассказывали, что ты разговаривала с ангелами, – мягко произнес он.
Она покраснела и отвернулась от него.
– Разговаривать с ангелами – дело нешуточное, – продолжал старец. – Ты и в самом деле с ними разговаривала?
У нее закололо в сердце при воспоминании о том,
что она видела дома, в саду отца. У нее запершило в горле, а в уголках глаз появились слезы, которые затем потекли по ее щекам. Этот внезапный наплыв эмоций удивил и ошеломил ее, и она ничего не ответила старцу, а всего лишь кивнула и аккуратно положила ладони себе на колени, как учила ее мать.
– Почему же ты плачешь? – спросил он.
– Потому что… я…
Ее голос дрогнул, и она замолчала.
– Продолжай, дитя, – сказал он.
– Я… не думаю, что когда-нибудь увижу их снова, – дрожащим от волнения голосом ответила она. – И я скучаю по ним.
Она вдруг испугалась, что он спросит ее о том, о чем спрашивали все остальные, – как выглядят ангелы. Она боялась этого вопроса, потому что, по правде говоря, она совершенно не помнила, как они выглядят. Все, что осталось в ее памяти, не считая их слов, так это свет и исходящий от них запах, напоминавший запах свежего воздуха после грозы. Она подняла руки к лицу, как будто могла уловить на них остатки этого запаха. Однако от них пахло только дымом, исходящим от очага, и холодом. Она вытерла мокрые от слез щеки и нос, из которого начало капать. Ей сейчас оставалось только жалеть о том, что она забыла взять с собой носовой платок.
Она думала, что неизбежно последуют другие вопросы и что их будет много. Общение с ангелами было единственным необыкновенным событием в ее жизни, но при этом пытаться вспомнить подробности было все равно что пытаться вспомнить форму света или описать ощущения, которые переживает человек, когда его любят.
Однако старец не спрашивал больше ни о чем, а просто сидел рядом с ней и смотрел на ее профиль. Соленая слеза доползла до кончика ее носа и упала на тыльную сторону ее ладони.
– Архангел Михаил сказал мне, что я буду сражаться за принца и сделаю его королем, – произнесла она.
Эти слова сами по себе сорвались у нее с губ и удивили ее не меньше, чем старца. Она посмотрела снизу вверх на его лицо и увидела, что он улыбнулся. Его голова склонилась набок, и на мгновение ей показалось, что он похож на старую охотничью собаку, в которой вдруг проснулось любопытство.
Этот старец из клана Дьюар, а точнее, его ветви Койгерах, был хранителем посоха святого Филлана, прибывшего сюда из Ирландии семь веков назад и исцелявшего больных. Когда волк убил вола, помогавшего святому Филлану строить церковь, тот поговорил с животным и открыл ему глаза на то, как неправильно он, волк, себя ведет, а затем заставил его работать вместо вола в качестве тяглового животного.
Старец неотрывно смотрел на девочку, думая о том, что сказала бы она, если бы могла читать его мысли. Его вера была более древней, изначальной, возникшей намного раньше, чем вера римлян и их Папы Римского. Он нес на себе древнее бремя и за долгие годы, проведенные в скитаниях среди соплеменников, узнал очень многое. Сейчас его соплеменники привели эту девочку к нему, чтобы потом он высказал им свое мнение о ней. Они считали, что только он один может узнать,
что на нее снизошло – благодать или сумасшествие.
Но он не знал этого и не мог узнать. Он молился каждый день своей жизни о том, чтобы услышать слова Господа, но так до сих пор и не услышал их. Ни одного раза. Он знавал голод, холод и одиночество. Ему не раз приходилось видеть бесконечно длинную дорогу, простирающуюся перед ним. Он искал благословения для новорожденных и Царствия небесного для мертвых. Он смотрел на эту девочку и видел перед собой только заплаканное лицо ребенка. Он чувствовал невероятную усталость и желание снять с себя свое тяжелое бремя, а потом просто присесть у костра. Но он также чувствовал, как священный воздух, витавший над ним и наполнявший часовню, давит на его голову и плечи, отягощенные прожитыми годами.
– А как вышло, что ты научилась владеть оружием и сражаться? – спросил он. – Ты ведь всего лишь девочка.
Его вопрос удивил ее, и она на несколько мгновений задумалась, пытаясь понять, в какую ловушку он хочет заманить ее. Она так и не поняла, в какую, и, несмотря на его ласковый взгляд, осталась настороженной.
– Мой отец возглавлял местное ополчение в нашей деревне, – сказала она после паузы и, пожав плечами, добавила: – Я всегда находилась возле мужчин, которые учились владеть оружием. И я смотрела, как они орудуют мечами…
Старец снова окинул ее внимательным взглядом и на этот раз отметил про себя, что ее плечи уж слишком широкие для девочки и что держится она довольно самоуверенно: во всяком случае в выражении ее лица теперь не было даже намека на робость.
– Говорят, что ты владеешь оружием… с большим мастерством, – сказал он.
Она опять пожала плечами, и ей вдруг пришло в голову, что ее действия могут показаться заранее отрепетированными.
– У меня это получается само по себе, – скромно произнесла она. – Мой отец говорит, что орудия сами выполняют работу за человека, если только позволять им это делать.
Девочка закрыла глаза и вспомнила тот день, когда она в огороде вырывала сорняки среди кустов помидоров. Она тогда внезапно почувствовала сладкий, очень приятный запах и сделала несколько глубоких вдохов. А потом, оглядевшись по сторонам, увидела их – Михаила, Маргариту и Екатерину. Они были прекрасными – вот это она помнила хорошо, – и, когда она подняла руку в знак приветствия, воздух между ней и ними задрожал и как бы поплыл кругами, словно вокруг нее был не воздух, а вода, поверхность которой она невольно потревожила. Девочка попыталась вспомнить, как звучали их голоса, но это звучание полностью исчезло из ее памяти.
– Исчезло и вернулось к Богу, – грустно сказала она.
Она вовсе не собиралась произносить эти слова вслух, а потому покраснела и прижала ладони к своему рту.
– Не надо так стыдиться, дитя. – Протянув руку, старец слегка прикоснулся к ее руке и негромко проговорил: – Посиди здесь со мной немного. Лишь ты и я – прежде чем я отдам тебя обратно им.
Спустя какое-то время они встали и медленно направились к выходу из часовни, за которой ее ждал тусклый свет пасмурного дня. Старец пропустил девочку вперед и пошел с почтительным видом чуть позади нее. Когда она появилась одна в дверном проеме, во дворе на несколько мгновений воцарилась тишина, а затем раздались радостные крики.
22
Дорога резко пошла вверх, и им пришлось с силой бить своих лошадей пятками в бока, чтобы заставить их двигаться вперед. Воздух вокруг был густым и тяжелым, и Ленье показалось, что даже время приостановилось, – оно текло очень медленно, как патока. Джейми, Шуг и третий из молодых людей – тот, кто в основном помалкивал и чьего имени она еще не слышала, – оказались более прыткими и уехали далеко вперед, стремясь побыстрее выбраться на высокое место. В нескольких сотнях ярдов от них Ленья заметила скалистую вершину холма, очертания которой вырисовывались на фоне огромной грозовой тучи. В лунном свете она поначалу приняла ее за какое-то разрушенное здание, но затем поняла, что ошиблась.
С неба начали падать отдельные капли, явно предвещая ливень, и скалы на вершине холма были единственным местом, где они могли бы найти хоть какое-то убежище. Главарь шотландцев с силой стеганул веревками по крупу лошади Леньи, и животное, заржав от негодования, резко рванулось вперед.
Ленья едва не повалилась назад в своем седле, но сумела удержаться в вертикальном положении, крепко сжав коленями спину лошади и заставив себя сильно напрячь мышцы живота. Горя желанием добраться до скал еще до того, как начнется настоящая гроза, главарь шотландцев стал ударять свою лошадь пятками в бока, и вскоре он оказался сначала рядом с Леньей, а затем и немного впереди нее. Он все еще держал в руках веревки, привязанные к поводьям лошади Леньи, но уже не наблюдал за ней так внимательно, как раньше.
В течение последних двух часов Ленья думала только о своей старой боевой ране и почти ни о чем больше. Наконечник стрелы при этом ранении прошел через ее плечо насквозь, и древко застряло под правой ключицей. Лекарь впоследствии перекусил древко стрелы большими кусачками и вытащил стрелу из раны. Потекла кровь, и было больно, но это было несравнимо с той умопомрачительной болью, которую она испытала, когда ей ставили на место вывихнутое плечо. Ей засунули в рот кусок толстой кожи, чтобы она впилась в него зубами, и, когда костоправ дернул ее руку и вернул сустав на место с хрустом, похожим на звук резко задвинутого ящика стола, она перекусила зубами кожу на две половинки.
Впоследствии соотечественники стали называть ее героиней Орлеана и предвестницей полной победы над захватчиками.
Воодушевленные видом знамени, которое держала в руке эта дева, французы все больше теснили англичан, пока те не убежали из своих траншей и редутов и пока осада не была снята. Она была чем-то чистым, чем-то достойным уважения. Она появилась из ниоткуда на войне запятнавших себя людей и в грязной политике, словно только что выкованный и остро наточенный клинок. В том, что она является искусным воином, никто не сомневался. Все ее соратники в то или иное время видели, как она вступает в бой, прорывая стену из щитов, и как враги падают под ударами ее меча наземь, словно скошенная пшеница. Но у нее имелось и кое-что еще – сила ангелов в руках и ногах и слово Бога на языке.
Хью Мори затащил ее на своего коня и проскакал галопом через городские ворота. За стенами города, с которого была снята осада, ее раны обработали, руку и плечо перевязали, а время сделало почти все то, что требовалось ей для восстановления. Сустав, однако, навсегда деформировался, и хотя мышцы, сухожилия и связки приспособились к их новому местоположению, они могли немного… смещаться.
Годы, проведенные в работе с топором и молотком в лесу, наделили ее новой силой, но сустав все равно время от времени смещался. Она заметила это совершенно случайно, когда пыталась переместить груду бревен. Оказалось, что то, что когда-то было вывихнутым, можно было ухитриться вернуть в положение, в котором оно находилось раньше. Выясняя затем из любопытства, какие движения нужно совершить для того, чтобы переместить сустав из нормального положения в вывихнутое и обратно, она обнаружила, что движения эти доставляют немалую боль. Однако боль можно стерпеть, а вот унижения и душевные муки – нет.
Когда по предложению Джейми ее решили связать получше, именно он это и сделал. Но, несмотря на его старания стянуть узлы потуже, умением их завязывать он, похоже, не отличался. По мере того как она приподнималась и опускалась в седле, ее руки снова и снова надавливали на веревки и узлы, удерживающие их. Поначалу она не замечала этого, сосредоточившись на размышлениях о Патрике Гранте, Роберте Джардине и намерениях схватившей ее маленькой группы, имени главаря которой она до сих пор не знала. Но спустя какое-то время она обратила внимание на довольно отчетливое ощущение: путы сдавливали ее руки и плечи уже не так сильно, как прежде. Они, правда, ослабли не настолько, чтобы она могла высвободить руки, но все же ослабли. Ей теперь только нужно было как-то воспользоваться сложившейся ситуацией.
Когда ее лошадь, напрягаясь, стала продвигаться вверх по крутому склону, Ленья изо всех сил изогнула правое плечо. Преодолевая сопротивление веревок, которыми были связаны руки у нее за спиной, она почувствовала, как сустав, причиняя ей немалую боль, смещается со своего места. Когда же ее рука пошла вниз, вниз пошли и путы, стягивающие ее руки возле локтей. Лошади продолжали двигаться по склону, и главарю шотландцев не оставалось ничего иного, как сосредоточить почти все свое внимание на том, куда направляется его лошадь, а Ленья тем временем, не переставая двигать руками, постепенно сдвинула ослабшие путы вниз по своим предплечьям к запястьям и ладоням. Прекрасно понимая,
что должно произойти дальше, она вытащила левую ступню из стремени и перекинула ногу через спину лошади. Затем, вытащив из стремени и правую ступню, она спрыгнула на землю. Приземляясь, она позволила инерции швырнуть ее вперед и ударилась о твердую поверхность своим вывихнутым плечом, при этом невольно охнув, когда сустав от удара встал на прежнее место.
Почувствовав какое-то хаотическое движение позади себя и услышав звуки падения, Ангус Армстронг оглянулся и увидел, что плененная им женщина лежит на склоне холма. Ее лошадь продолжала двигаться вперед без нее. Он потянул за поводья и своей, и этой лошади, чтобы заставить животных остановиться. Спустя мгновение он спешился и побежал назад, решив, что нет никакой опасности в том, чтобы приблизиться к безоружной, со связанными руками женщине, которая лежит, уткнувшись лицом в траву.
Подбежав к ней, он перевернул ее на спину. Глаза пленницы были открыты, и хотя она выглядела ошеломленной, каких-либо повреждений, которые могли быть при падении, он не заметил. Он помог ей подняться на колени. Ее руки по-прежнему были у нее за спиной.
Они оба стояли на коленях, повернувшись лицом к вершине холма, когда сверкнувшая молния осветила небо и вокруг стало светло как днем. Они увидели, что вдалеке от них, на гранитном выступе вершины холма, стоит маленькая хрупкая фигурка, облаченная в ослепительно-белую длинную рубаху. Лицо этого человечка было обращено к небесам, а руки подняты так, как их поднимают во время молитвы.
23
Криста ощутила еще один спазм, но не такой сильный, как раньше. Когда он ослаб, кулак внутри ее тела разжался и она почувствовала, как между ногами потекло что-то теплое. Темноту, которая окутывала и скрывала ее, разорвала вспышка ослепительно-яркого света. Этот свет мерцал и пульсировал, его интенсивность усилилась и затем ослабла. И тут вдруг третий раскат грома, еще более сильный, прокатился над окружавшим ее миром, словно проявление гнева рассердившегося Бога. Она, ослепленная молнией, заморгала, а потом, снова ощутив, что между ног у нее что-то течет, посмотрела вниз и увидела, что передняя часть ее ночной рубашки потемнела от крови. Кровь растеклась лужицей вокруг ее ступней. Криста, вытянув шею, стала разглядывать внутреннюю сторону своих бедер и увидела кровь и на них тоже.
Стоя на коленях на склоне холма, Ленья смотрела на эту фигурку, которая, казалось, светилась изнутри. На мгновение она почувствовала, что ее сердце наполняется любовью, которая, как она думала, покинула ее уже давным-давно и навсегда.
Шел дождь, ее сердце билось быстро-быстро, и, наблюдая это видение, она вдруг заметила, что эта фигурка… тоже смотрит на нее. Ленья с восторгом осознала, что снова стала девушкой, – той девушкой, которой она когда-то была, девушкой, которая привела войско к победе и которая стояла рядом с дофином
[20], держа его за руку за несколько мгновений до того, как он сделал шаг вперед, опустился на колени и на его голову возложили корону.
Молния, сверкнув и задержавшись на миг, исчезла. Ослепленная темнотой, но чувствующая внезапный прилив энергии и силы, Ленья вскочила на ноги.
Криста, снова оказавшись в темноте, провела руками по ночной рубашке, влажной от ее собственной крови. Это было ее первое женское кровотечение, и она, ничего не зная о том, как и почему это происходит, подумала, что, наверное, уже умирает. Охваченная ужасом, девочка рухнула на колени и, наклонившись вперед, приникла лицом к выступу скалы.
Когда молния сверкнула во второй раз, всего лишь несколько мгновений спустя, на гранитном выступе никого не было. Видение исчезло.
– Ты хотел увидеть ангела, – сказала Ленья, поворачиваясь к главарю шотландцев. – Ну вот, считай, что тебе посчастливилось и ты увидел его.
Она успела заметить недоуменное выражение на лице мужчины, прежде чем, сделав резкое движение головой вперед, ударила его лбом в переносицу. Быстро, словно жалящая змея, она тут же отпрянула и снова нанесла удар лбом в переносицу, причем с еще большей силой.
– Но этот ангел пришел ко
мне, – усмехнувшись, сказала Ленья.
Едва не потеряв сознание, шотландец повалился на бок. Полоса дождя, такого густого, что он был похож на водопад, в мгновение ока накрыла весь склон холма. Поваленный Леньей шотландец застонал от боли. Послышались крики его молодых товарищей. Еще одна вспышка молнии превратила ночь в день, и в тот миг, когда вокруг стало светло, Ленья увидела троицу, спешившуюся у основания скалистой вершины холма. Парни держали поводья своих лошадей и с перепуганным видом оглядывались по сторонам.
Когда снова вся окрестность утонула во мраке, Ленья тяжело опустилась на землю. Боль в плече была довольно сильной, хотя она старалась не обращать на нее внимания. Она просунула руки, все еще связанные в запястьях, под свои ступни, так чтобы ладони оказались не за спиной, а перед животом. Услышав, как поваленный ею мужчина зашевелился, она протянула руку туда, где он лежал. Он почувствовал ее прикосновение и вскрикнул. Затем он попытался подняться, а когда у него не получилось, глубоко вдохнул и заорал:
– Джейми! Сюда, ко мне, быстрее! Она развязала себя!
Увидев, что шотландцу все же удалось встать на колени, Ленья с размаху врезала ему обеими ладонями, сведенными вместе, – со всей силой, с какой она научилась махать топором в лесах. Он показался ей похожим на ствол дерева, когда ее огрубелая от тяжелой работы рука ударила его по челюсти и она услышала какой-то хруст, как будто одна из костей его лица сместилась со своего места. Он рухнул наземь. Ленья ощупала его пояс и нашла нож. Проворно вытащив его, она села на землю, зажала рукоятку ножа между своих пяток и стала с нажимом водить веревками, стягивающими ее запястья, вдоль торчащего лезвия ножа. Довольно быстро перерезав веревки, она высвободила руки и смогла переключить свое внимание на людей, которые бежали по направлению к ней из темноты.
Ленья решила убить лежащего возле нее мужчину – резануть по вене на шее его собственным ножом и тем самым заставить умереть от кровотечения, – но, вспомнив о недавнем видении, она не стала этого делать. Она подумала, что легко могла бы справиться и с остальными мужчинами, которые сейчас искали ее на поливаемом дождем склоне холма, и ее натренированные мышцы машинально напряглись, готовясь выполнить привычную для них работу. Но она отбросила эту мысль, причем по той же самой причине.
Ленья заметила пурпурно-красное пятно на белом одеянии ангела и моментально поняла смысл этого послания. На ее обратном пути к Богу предстояло пролить кровь, но не этих четырех человек. Ей надлежало принести в жертву себя саму – только так и не иначе. Она знала это, знала давным-давно, знала всегда.
Когда Ленья пошла прочь, выискивая себе путь среди неровностей холма, над ней сверкнула молния и раздался раскат грома. Самое главное для нее сейчас заключалось в том, чтобы исчезнуть из поля зрения своих преследователей, и она, не сбавляя хода, низко пригнулась, так что одна ее рука стала чиркать по влажной траве склона, уходящего резко вверх позади нее. Она услышала донесшийся издалека крик и догадалась, что один из мужчин нашел главаря. Послышались другие крики: они искали и находили друг друга в темноте. Поскольку их голоса становились все глуше и глуше, она поняла, что постепенно удаляется от этих людей. Теперь их разделяли выпуклости холма. Дождь лил как из ведра, словно вдруг пролились все ее слезы, которые она сдерживала на протяжении многих лет. В какой-то момент Ленья поняла, что она и в самом деле плачет, и принялась тереть тыльной стороной ладони свои глаза и нос, хотя и понимала, что это бессмысленно.
Она почувствовала гнев и отвращение, когда вдруг осознала, что она оплакивает – по крайней мере частично – саму себя. Она также оплакивала своего отважного защитника Хью Мори, убитого давным-давно в своей постели: ему перерезали горло от уха до уха по приказу Роберта Джардина. Никто не смог предугадать предательства этого человека, даже она, слышавшая слово Бога. По приказу Джардина убили и других людей; он позаботился о том, чтобы два десятка его соотечественников были умерщвлены в одну ночь. Он рассчитывал, что, расправившись с ее шотландской гвардией, сможет схватить ее и затем передать врагам в обмен на деньги и земли.
Когда его приспешники приехали за ней в Компьень, они были облачены в одежду такого же цвета, как и у бургундцев, союзников англичан. В действительности же они были шотландцами-предателями, бывшими пограничными грабителями из Хокшоу и иудами, у которых в кошельках лежали монеты, заплаченные им Джардином за их услуги. Они надели чужую одежду и предали своих французских хозяев. Жизнь и смерть девы, которую их наняли защищать и которая представляла собой огромнейшую ценность, теперь зависела от этих мерзавцев, а их шотландский господин потирал в предвкушении руки, уверенный, что она принесет ему целое состояние…
Дождь прекратился – вернее, Ленья внезапно оказалась за пределами полосы дождя. Позади нее и выше почти вертикальная стена черноты, которая была темнее ночного неба, поднималась куда-то в бесконечность. В нависающей над ней огромной туче время от времени сверкали молнии, которые, казалось, символизировали собою жизнь, и то с одной, то с другой стороны доносились раскаты грома.
Впрочем, грозовая туча уже двигалась прочь от нее. Ленья шла вниз по склону, чувствуя, что воздух становится более холодным. Путь перед ней освещала луна. Оказавшись у основания холма, женщина остановилась и посмотрела на звезды, чтобы убедиться, что она все еще движется на восток, а затем пошла дальше. Ее одежда насквозь промокла, и, несмотря на испытываемое ею физическое напряжение, ей становилось холодно. Ее руки покрылись гусиной кожей, волоски на них встали дыбом, и она начала дрожать. Вывихнутое плечо болело, и она невольно задалась мыслью, встал ли сустав на свое обычное место или нет.
Спустя какое-то время она вышла к хорошо утоптанной людьми и животными дороге и с надеждой подумала, что это, возможно, та самая дорога, по которой похитители куда-то везли ее и которая наверняка приведет ее в какой-нибудь населенный пункт, пусть даже и маленький.
Она едва не столкнулась с лошадьми, заметив их лишь в последний момент. Они стояли посреди дороги вплотную друг к другу и преграждали ей путь. Когда она приблизилась, крайняя из них отпрянула в сторону, и Ленья узнала в серой кобыле ту самую лошадь, на которой ее везли. Рядом с ней стоял черный мерин с четырьмя белыми носками, на котором ехал главарь группы. На Ленью нахлынула волна радости и облегчения. Она обратила свой взор на небеса и шепотом поблагодарила Провидение.
Тихонечко шикая на лошадей, она медленно, чтобы не напугать, приближалась к ним. Потом, стараясь быть предельно осторожной, Ленья протянула руку и схватила поводья, которые висели под мордой кобылы. После этого она схватила за поводья мерина и, заставив его и кобылу встать так, как ей требовалось, привязала поводья мерина к длинным веревкам, которые позволяли главарю шотландцев управлять ее лошадью. Ласково поглаживая шею кобылы и все время шикая, она сунула одну ступню в стремя и забралась в седло. Ее плечо при этом отчаянно заныло, и она невольно поморщилась. Затем, усевшись поудобнее, Ленья повернула лошадь на восток.
Возможность ехать верхом обеспечивала ей не только скорость передвижения, но и свободу, в которой она сейчас очень даже нуждалась. Если сэр Роберт Джардин находится где-то впереди и в ожидании расположился возле маршрута паломников (возможно, с Патриком Грантом в качестве пленника), то будет лучше, если она найдет его до того, как он найдет ее, причем при обстоятельствах, на которые она могла повлиять. Ударив кобылу несколько раз пятками в бока, Ленья заставила ее бежать рысью, чтобы как можно больше увеличить расстояние между ней и теми, от кого она удрала.
Она не сомневалась, что главарь банды достаточно сильно пострадал от ее рук и вряд ли сможет пуститься за ней в погоню этой ночью, а к утру она будет от них уже далеко-далеко. Однако восторг, вызванный событиями последнего часа, вскоре поутих, адреналин, который привел ее тело в боевое состояние, угомонился, и теперь Ленья чувствовала себя не лучшим образом – усталость повисла на ее плечах, как мокрая шаль. Все ощущения притупились. Она понимала, что ей скоро потребуется отдых. Очень скоро.
Поэтому не было ничего удивительного в том, что она не заметила в темноте третью лошадь и сидящего на ней всадника.
Наблюдая за ней, этот всадник вспомнил о Бадре Хасане, похороненном в неглубокой могиле в темной пещере далеко на востоке, и задался вопросом, а сколько любимых им людей он оставит в таких могилах, прежде чем умрет сам.
У него ушла целая вечность на то, чтобы выдолбить могилу, в которую могло бы поместиться громадное тело Бадра, и, когда он наконец справился с этим, в его душе все перевернулось. Он вдруг почувствовал, что у него не поднимается рука забросать своего старого друга камнями и пыльной землей. Вспомнив о том, как они похоронили Джесси Грант в безымянной могиле под грудой камней на склоне холма в нескольких милях от дома его детства, он нашел неподалеку от пещеры, возле ручейка, медленно вытекающего из нее, участок земли, заросший белыми цветами на длинном стебле. Он подумал, что это, наверное, лилии, и принялся рвать их охапками и относить к могиле. Нарвав их достаточно много, он стал укрывать ими тело Бадра, стараясь как можно дольше оставлять лицо мавра открытым.
В конце концов он начал класть цветы – но уже без стебля, а то и просто лепестки – на лицо Бадра, пока мавр не оказался полностью покрыт ими. Пещера наполнилась их сильным запахом. Он посмотрел на свою одежду и увидел, что к ней прилипли частички золотой пыльцы, образовав рисунок, похожий на паутину.
«Я надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой еще встретимся», – мысленно произнес он и, повернувшись, вышел из пещеры.
После этого он отправился в путь, двигаясь все время на запад. Прошло несколько недель, пока он не оказался на маршруте паломников, ведущем из южной Франции в Галисию, к гробнице Святого Иакова.
Слова Бадра, сказанные им в пещере, были теперь его постоянными спутниками и заставляли его неустанно двигаться вперед.
У Медведя имелась дочь! Ей, наверное, сейчас столько же лет, сколько и ему, или примерно столько же. Уже одна только мысль об этом едва не заставила его засмеяться – а может, заплакать. А еще у мавра-великана была утраченная любовь – Изабелла. Что с ней сталось?
Вопреки этим навязчивым мыслям и желанием побывать в Константинополе, который находился далеко на востоке, его неудержимо влекло на запад, в сторону великой любви Патрика Гранта. Его, Джона Гранта, вырастила Джесси Грант, которая любила своего приемного сына и заботилась о нем. Она и погибла из-за того, что любила его, но там, на западе, находилась женщина, подарившая ему жизнь. Его настоящая мать.
В силу ощущений, которые, кроме него самого, были знакомы и понятны лишь тем, кто чувствовал вращение мира, его движение в пустой темноте и «толчки» со стороны других людей, он испытывал непоколебимую уверенность, что найдет ее жизненный путь и пересечет его.
Его лошадь уже почти выбилась из сил после нелегкого путешествия, и он замыслил подобраться к стоявшим на дороге кобыле и мерину, чтобы присвоить их себе, как вдруг «толчок» предупредил его о том, что к ним приближается кто-то другой. Увидев появившуюся из темноты фигуру в заляпанных грязью штанах, тяжелых сапогах и с короткими волосами, он в первый миг предположил, что имеет дело с мужчиной. Лишь после того, как он присмотрелся к движениям незнакомца – в частности, заметил, каким образом тот уселся в седло, – Джон Грант сообразил, что это вообще-то женщина, которая, похоже, решила завладеть неожиданно подвернувшейся добычей.
Прячась в темноте у дороги, он наблюдал за тем, как она подгоняла сбрую, чтобы черный мерин был вынужден бежать позади другой лошади. По всей видимости, она умела обращаться с лошадьми, однако не это, а ее поведение в целом заставило его выпрямиться в седле и наблюдать за ней еще внимательнее.
Она явно от кого-то сбежала – и, судя по всему, при экстремальных обстоятельствах. С ее запястий свисали короткие обрывки веревок – свидетельство того, что она недавно была связана, а опущенное правое плечо позволяло предположить, что на нем имелась какая-то рана. Кроме того, на ее лбу виднелась свежая кровь. Подготавливая лошадей, она то и дело поглядывала в ту сторону, откуда недавно явилась. Тем не менее, несмотря на то что женщине, похоже, угрожала какая-то опасность и за ней, наверное, кто-то гнался, в ее поведении не чувствовалось ни малейших признаков суеты или страха. Если беглянка и столкнулась недавно с каким-то серьезным жизненным испытанием, то испытание это она, похоже, прошла успешно и теперь занималась исключительно тем, что старалась извлечь из этой своей победы побольше выгоды.
После того как она уселась на серую кобылу и поехала по направлению на восток, интерес к ней у Джона Гранта резко усилился. «Толчок», который он почувствовал перед появлением этой особы, просто предупредил его, как всегда, что к нему кто-то приближается. Однако сейчас, когда она с двумя лошадьми растворилась в темноте, его охватило какое-то абсолютно новое для него ощущение, которое заставило поехать за ней. У него сложилось впечатление, что их связывает какая-то невидимая веревка и что эта веревка тянет его за ней. Он улыбнулся неожиданному ощущению и своей неспособности сопротивляться ему. В голову пришла мысль, что он, как и тот черный мерин, так же вынужден следовать за незнакомкой. В следующее мгновение он почувствовал неприятный озноб и, передернув плечами, прошептал: «Я слышу тебя, старый Медведь».
Он ехал вслед за этой женщиной, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы она находилась в темноте за пределами его поля зрения и, соответственно, не смогла бы, оглянувшись, увидеть его. Время от времени он слышал топот копыт, фырканье лошадей или позвякивание металлических деталей их уздечек, когда они трясли головами. Он также все время чувствовал присутствие этой женщины и казался самому себе лисом, идущим ночью по следу самки.
Заметив впереди на дороге какое-то движение, он приостановился и, вглядевшись, различил крестец серой кобылы, как бы нехотя бегущей трусцой при тусклом свете полумесяца. У него была лишь доля секунды на то, чтобы затем увидеть, что на этой лошади нет всадника, прежде чем из темноты слева от него вынырнула темная фигура. Стремительно вскочив к нему на лошадь, эта фигура резко пихнула его в грудь своими крепкими руками, да так, что он кубарем вылетел из седла и упал спиной на мягкий грунт дороги. Тот, кто только что вышиб его из седла, спрыгнул с лошади и приземлился рядом с ним, так что одна его ступня оказалась справа от головы Джона Гранта, а вторая – слева. Затем напавший надавил коленом ему на горло и на миг замер.
Джон Грант посмотрел в лицо незнакомца и увидел, что это женщина. Она замахнулась левой рукой, намереваясь, по-видимому, ударить его по голове. Повинуясь инстинкту, он поднял руку с растопыренными пальцами, чтобы попытаться отразить удар.
Напавшая на него женщина до сего момента действовала молча, а ее ловкие, быстрые движения чем-то напоминали стремительное течение горного ручья среди камней. Но тут вдруг она застыла на месте, уставившись на его поднятую руку. Убрав затем колено с его горла и выпрямившись, она сделала пару шагов назад, так чтобы он не смог до нее дотянуться, и перевела взгляд с его руки на лицо. Взгляд незнакомки показался ему физически осязаемым, как будто она ощупывала его скулы и подбородок кончиками своих пальцев.
–
Où avez-vous trouvez зa?[21] – спросила она, перейдя от охватившего ее смущения на язык своего детства.
Джон Грант, будучи участником многих сражений на полях Франции, имел достаточно времени и возможностей, чтобы научиться понимать язык французов, а потому он без труда понял заданный сейчас вопрос. Однако в результате падения с лошади у него вышибло воздух из легких, и он не мог издать даже каких-либо звуков в ответ. Воцарилась тишина, которая длилась до тех пор, пока он наконец сумел сделать очень большой вдох. Воздух при этом, казалось, ударился в нижний край его легких, отразился от них и снова вылетел наружу. Джон Грант, приподнявшись, тяжело сел и, задыхаясь, так сильно закашлялся, что едва не подавился слюной. Он все еще опасался, что эта невероятно сильная и ловкая женщина снова нападет на него, и протянул к ней руку, показывая общепринятым жестом, что он сдается, а сам тем временем пытался побыстрее прийти в себя. Случайно обратив внимание на свою руку, он увидел кольцо – то самое кольцо, что было привязано к платку, в который была завернута раковина гребешка.
И раковину, и платок он оставил рядом с Бадром Хасаном, спрятав их в складках его плаща. Они теперь лежали вместе с ним в могиле. Кольцо же он взял с собой и надел его, хотя и не без труда, на мизинец левой руки.
Он перевел взгляд на лицо женщины и увидел, что она не сводит глаз с маленького кольца.
–
Où avez-vous trouvez зa? – снова спросила она.
От волнения, охватившего Джона Гранта, по его спине пробежал холодок и он ощутил дрожь во всем теле. Он наконец понял, что она имела в виду кольцо, которое, судя по всему, вызвало у нее немалый интерес: она смотрела на него так, как коршун смотрит на мышь. Эта женщина, которой удалось перехитрить Джона Гранта, как никому и никогда прежде, женщина, у которой он только что оказался в полной зависимости, теперь почему-то стояла как парализованная и таращилась на маленькое золотое кольцо.
–
C’
était un cadeau de mon pиre[22], – сказал он.
За все те годы, которые Джон Грант провел рядом с мавром, он никогда не воспринимал его как своего отца и уж тем более не называл его так. Это слово само собой сорвалось с его губ, и он почувствовал, как внутри него поднялась волна грусти.
Женщина, явно пораженная услышанным, попятилась и, не останавливаясь, продолжала отступать, уже почти исчезнув в темноте рядом с дорогой.
Мысль об отце заставила его вспомнить и о своей матери. Джесси Грант лежала мертвая в каменной могиле, и его сейчас отделяли от нее не только огромное расстояние, но и половина прожитой им жизни. По его спине снова пробежал холодок, и он, невольно вздрогнув, закрыл глаза и попытался унять участившееся дыхание. По словам Бадра, это кольцо было уникальным. А еще мавр сказал, что оно может иметь большое значение только для одного человека – того, для которого было сделано.
Перед самой своей смертью Бадр сообщил ему нечто важное, и впоследствии это заставило его, Джона Гранта, отправиться в дальний путь. Будучи смертельно раненным и находясь под воздействием опиума, мавр, сознание которого то затуманивалось, то на какое-то время прояснялось, сообщил своему юному подопечному о существовании двух ранее неизвестных Джону Гранту женщинах. Речь шла о дочери Бадра, которую мавр не видел уже очень давно и о которой он попросил позаботиться, и о родной матери юноши – женщине, которая родила Джона Гранта.
– Как тебя зовут? – спросил Джон Грант на своем родном шотландском языке.
Женщина резко остановилась, оказавшись в этот момент как бы на границе между светом и тьмой, что делало ее похожей на призрака, находящегося в промежутке между живыми и мертвыми. Незнакомка ничего не ответила, но тот факт, что она остановилась и даже повернула к нему голову, убедили его в том, что она поняла заданный им вопрос.
– Твое имя, – настойчиво произнес Джон Грант, предприняв еще одну попытку. В его голосе снова зазвучали присущие ему сила и уверенность. – Назови мне свое имя.
Вместо того чтобы ответить на его вопрос, она медленно
пошла вокруг него против часовой стрелки – как хищник, который пытается определить, а не исходит ли от его потенциальной жертвы какая-нибудь опасность.
– Я знаю, что ты понимаешь меня, – наблюдая за ней, сказал он.
– Твое лицо… – глухо произнесла она, не реагируя на его слова.
– Моя мать иногда говорила, что у меня лицо моего отца.
Продолжая сидеть на земле, он ощущал, как холодная влага постепенно пропитывает штаны на его ягодицах и задней части ног. Однако ему показалось, что воздух между ними стал потрескивать от напряжения, и он испугался, что если встанет сейчас, то разрушит какие-то чары и она безвозвратно исчезнет в ночной темноте.
– Иногда говорила? – переспросила она.
– Моя мать умерла, – пояснил он. – По крайней мере я так думал.
Она продолжала ходить по кругу, ни на мгновение не отводя от юноши своего пристального взгляда.
– И твои глаза…
Он нерешительно улыбнулся.
– Они тоже, я думаю, такие же, как у моего отца.
– Ты шотландец, – сказала она.
– Да, – с готовностью подтвердил он. – Я шотландец. Так же, как и…
– Как и твой отец, – перебила его женщина. – Шотландец, – повторила она.
– Ты, наверное, уже встречала таких, как я, да? – спросил он.
Он всмотрелся в ее лицо и несколько растерялся, потому что не смог понять застывшее на нем выражение. Впрочем, как ему показалось, эта странная женщина испытывала сейчас смешанные чувства, в том числе грусть. Что-то в ее поведении заставило его покраснеть – как будто он был объектом насмешки, смысла которой не мог постичь.
– На маршруте паломников можно увидеть кого угодно, – сказала она. – Франков, англичан, африканцев… даже шотландцев. Всякие люди наведываются к гробнице святого Иакова.
Внезапно он почувствовал, что очарован этой женщиной – очарован ее внешностью, ее голосом. Рассматривая незнакомку, он попытался определить, сколько ей лет, но отказался от своей затеи, потому что у него не получалось это сделать. Ее одежда и сапоги были явно мужскими, как, впрочем, и некоторые ее движения. Когда незнакомка на какое-то время останавливалась, она производила впечатление человека, очень прочно стоящего на ногах, самоуверенного и неодолимого. Тем не менее в ней было много женского. Ее высокие, четко очерченные скулы делали ее похожей на хищную птицу, да и выражение лица у нее было хищным, однако черные волосы, кое-где уже подернутые серебристой сединой, были коротко подстрижены, как у мальчика. На ее длинной худой шее проступали сухожилия и мышцы, но все же это была женская шея.
Однако больше всего его ошеломил – и, казалось, проник глубоко внутрь него – ее пристальный взгляд. Он испытывал едва ли не болезненные ощущения, когда смотрел в ее бледно-голубые, как небо в полдень, глаза. На ее висках виднелись тонюсенькие морщинки, в которые набилась дорожная пыль. Он заметил, что женщина не моргала и почти все время смотрела на него немигающим взором. Ни одна девушка и ни одна женщина никогда не смотрели на него подобным образом. Он осознал, что его оценивают, как его иногда оценивали противники. В ее поведении не чувствовалось ни тени уважения к нему, ни намека на женские уловки. На него смотрел тот, кто был ему равен, а может, и превосходил его.
Будучи воином, привыкшим сражаться, он почувствовал, что все его рефлексы пришли в боевую готовность. Мысль о том, что эта женщина может одолеть его, показалась ему смешной, и он попытался отогнать ее.
– Как тебя зовут? – снова спросил он.
Она холодно улыбнулась.
– У твоих соотечественников-шотландцев когда-то имелось для меня имя, – сказала она.
Он посмотрел ей прямо в глаза.
– Они называли меня Джинни Черная, – добавила она.
Он прибыл сюда, чтобы разыскать женщину, которую его отец любил больше всего, женщину, которая дала ему жизнь. Он совершил длинное и трудное путешествие, надеясь найти ее здесь раньше, чем ее найдут люди, являющиеся врагами для них обоих. Он доверился своему чутью, которое подсказывало ему, что если она все еще жива, то он обязательно отыщет ее.
Чего он, однако, аж никак не ожидал, так это того, что она явится к нему прямо на дороге.
– Никто никогда не говорил мне твоего имени, – сказал он. – Но я не сомневался, что узнаю свою родную мать, когда встречу ее.
24
Кем бы она ни была сейчас и кем бы она ни была раньше, эти его слова заставили ее почувствовать себя сломанной, а затем воссозданной, словно заново выкованный клинок.
«Свою родную мать», – сказал он.
Эти слова, снова и снова звучавшие в ее мозгу, затуманивали ее мысли и заполняли душу.
«Мать…»
Он больше ничего не говорил, дав ей возможность осознать услышанное. А она, оглушенная и пораженная, чувствовала себя так, как будто ее ударили в солнечное сплетение.
Еще до того, как юноша произнес эти слова, она увидела на его пальце маленькое золотое кольцо. Она видела это кольцо когда-то давно и знала,
что это за кольцо. Однако именно от последнего заявления этого парня у нее перехватило дыхание.
Маленькое золотое кольцо когда-то принадлежало Патрику Гранту, и вот теперь перед ней находится его сын. Перед ней находится
ее сын.
Внезапно у нее появилось ощущение оторванности от реальности, оторванности от времени. Увидев это кольцо, Ленья вспомнила о том времени, когда она была молодой. Впрочем, уже в следующее мгновение она, глядя на этого парня, подумала о том, что постепенно стареет.
– Кто охотится за тобой, Джинни Черная? – спросил он, когда они сели на лошадей и поехали по дороге. Он был уверен, что знает ответ, но что-то в глубине души толкало его на то, чтобы она сама рассказала ему обо всем.
Они неторопливо ехали в ночной темноте – два всадника и три лошади. Поначалу они оба молчали и держались отчужденно, как бы не веря в то, что и в самом деле встретились, и оставляя без ответа множество так и не заданных вопросов. Однако после нескольких часов молчания в голове Джона Гранта постепенно стало нарастать давление, из-за которого у него заложило уши и появилось ощущение, что он находится глубоко под водой. Не став искушать судьбу, юноша заговорил, причем так внезапно и так громко, что она аж дернулась в седле, как будто он неожиданно ударил ее.
– Я предпочла бы, чтобы ты называл меня Леньей, – сказала она, не отвечая на его вопрос.
Ее слова, ее голос, казалось, отражались эхом в его голове – отражались так, что он воспринимал их как биение крыльев птицы об оконное стекло.
– Когда ты подошла к этим лошадям, я подумал, что ты похожа на путника в пустыне, который набрел на оазис, – сказал он. – Ты совсем недавно избавилась от пут на своих руках и явно от кого-то убежала. От кого?
Опустив подбородок на грудь, женщина молчала, размышляя о том,
что она может позволить себе рассказать ему. Ее мысли, касающиеся объяснения всему этому, были похожи на груду песка, которую ей теперь требовалось разбросать и в которой каждое слово было не более чем одной песчинкой.
– От одного из твоих соотечественников, – после довольно продолжительной паузы ответила она. – Он, кстати, был соседом твоей матери и твоего отца.
Упоминание о родителях заставило его на время замолчать. Мысль о мужчине и женщине, живущих вместе под одной крышей, по соседству с такими же, как они, людьми и занятых какими-то повседневными хлопотами, неожиданно наполнила его грустью.
Он в любом случае считал для себя мучительным – и даже невозможным – вспоминать свою жизнь в Шотландии – жизнь, которая была у него до того, как появился Бадр Хасан и как за ним, Джоном Грантом, началась охота, которая, как ему иногда казалось, длилась уже целую вечность. Хуже всего было то, что реальное присутствие рядом с ним Джинни Черной все больше укреплялось в его сознании. Вместо того чтобы просто принять эту реальность такой, какая она есть, и принять в свою жизнь эту женщину, он снова стал ее настороженно расспрашивать.
– Соседом? – спросил он. – Что ты имеешь в виду? Кто это?
Ленья тяжело вздохнула. Она еще даже не начала свой рассказ, а уже чувствовала себя уставшей.
– То, что произошло с тобой… То, что произошло со мной… То, что произошло с твоей матерью, твоим отцом и со многими другими людьми…
Она замолчала, обдумывая дальнейший ход своего повествования и мысленным взором окидывая свое непростое прошлое, – так паломник всматривается в тропу на местности, которую он уже наполовину забыл. Джон Грант, которому показалось, что эти ее незаконченные фразы беспомощно повисли в воздухе, с нетерпением ждал продолжения.
– Все, что произошло со всеми нами, дело рук человека, которого зовут Роберт Джардин, – наконец вымолвила Ленья. Она ехала по дороге впереди своего спутника и сейчас, впервые оглянувшись, внимательно посмотрела на него через плечо. – Тебе известно это имя?
Он улыбнулся ей. Заметив на его губах улыбку, она невольно пожала плечами, потому что не смогла бы даже предположить ее причину.
– О да, – ответил Джон Грант. – Я помню это имя очень хорошо. Сэр Роберт был нашим землевладельцем. Ему принадлежала земля, на которой мы с моей матерью жили, и наш дом тоже. Как сказала бы ты, он был нашим хозяином.
– Хозяином, – задумчиво повторила она. – Да, он и в самом деле был хозяином.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Джон Грант.
– А то, что он считал своей собственностью таких людей, как твоя мать и твой отец… и как я.
– А что нужно сэру Роберту Джардину от тебя здесь и сейчас?
– Как ты зарабатываешь себе на жизнь? – вдруг спросила она.
Этот вопрос, не имеющий никакого отношения к их разговору, застал его врасплох. На какое-то мгновение ему показалось, что он и сам не знает ответа на него.
– Нам платят за то, чтобы мы сражались, – ответил Джон Грант после небольшой паузы. Он уже в который раз забыл о том, что время, когда рядом с ним находился Бадр Хасан, ушло в прошлое, и теперь, вспомнив об этом, почувствовал острую боль в сердце. – Я – воин, – продолжал он, – и если ты в состоянии платить мне, я буду сражаться за тебя.
Ленья улыбнулась.
– Я пока что никого не нанимаю, – заметила она.
Джон Грант покраснел.
– Я не имел в виду… Я не предлагал свои услуги. Я говорил гипотетически.
–
Гипотетически, – произнесла она так, как будто собралась достать клинок из ножен.
Он уловил насмешку в ее голосе и тут же почувствовал вспыхнувший внутри него огонек негодования. Решив не дать этому огоньку разгореться, он попытался вернуть разговор в прежнее русло.
– Почему ты спросила меня о том, на что я живу? – поинтересовался он.
В течение бесконечно долгой паузы его спутница, казалось, собиралась с мыслями и ничего не говорила в ответ, и он стал прислушиваться к ритмическому стуку конских копыт.
– Мне трудно поверить в то, что ты существуешь, – наконец произнесла она. – Я пытаюсь сделать так, чтобы ты стал для меня реальным.
Джон Грант почувствовал, как кровь снова прихлынула к его щекам. В ходе этого непростого разговора юноша видел большей частью ее затылок, а не лицо, но оно при этом представало перед его мысленным взором – представало на фоне темноты… Ему припомнилось,
как она смотрела на его ладонь, а точнее, на маленькое золотое кольцо, надетое на мизинец. Вспомнив о ее бледно-голубых глазах, он заморгал, чтобы не дать им заворожить его.
– Сэр Роберт Джардин здесь, – сказал он.
Ее реакция была мгновенной, и ему показалось, что она отреагировала еще до того, как он произнес эту фразу полностью. Лошадь, на которой она сидела, развернулась так быстро, как будто это животное было продолжением ее собственного тела и подчинялось непосредственно ее мыслям. Не успел он и глазом моргнуть, как она оказалась рядом с ним и, наклонившись к нему со своего седла, приблизила лицо к его лицу – настолько, что их лица едва не коснулись друг друга.
– Ты играешь со мной? – спросила она.
Она произнесла эти слова шепотом, но у него вдруг возникло ощущение, которое было ему абсолютно чуждо, – Джон Грант почувствовал страх. Он как будто превратился в маленького мальчика, которого напугали неожиданные для него резкие действия этой женщины. Он ощутил ее горячий запах, похожий на запах каких-то пряностей.
– Нет, – сказал он. – Я не играю. Клянусь, что не играю. Сэр Роберт Джардин находится здесь, на этой дороге.
– Где? – коротко спросила она.
Ее глаза вспыхнули, зрачки расширились.
– В половине дня езды верхом отсюда, возле этой дороги, – последовал ответ.
Она впилась взглядом в его лицо, пытаясь понять, говорит ли он ей правду.
Джон Грант вспомнил, как вчера, когда он ехал в сторону Сантьяго-де-Компостела, «толчок» предупредил его о том, что впереди на дороге находятся какие-то люди. Армстронг охотился за ним уже несколько лет, и он, Джон Грант, знал, что этот человек может появиться в самый неподходящий момент. К тому же он помнил рассказ Бадра о том, что искусного лучника и его господина связывают с этой женщиной какие-то давние события, поэтому сейчас был гораздо более настороженным, чем обычно.
– Я съехал с дороги и нашел возвышенное место возле нее, – стал рассказывать он. – Вскоре я заметил их – а если не их, то по крайней мере их лошадей. Они были привязаны у какого-то амбара, находящегося неподалеку от дороги и скрытого от проезжающих по ней людей сосновой рощицей. Мне стало интересно, а потому я слез с коня, спустился вниз по склону и подкрался к амбару с его тыльной стороны. Через открытое окно я насчитал дюжину людей, собравшихся вокруг костра. Некоторые из них, по-видимому, нашли время сходить на охоту, и на самодельном вертеле над углями поджаривалась туша лани. Возле стены лежала большая куча дров, и там же валялись одеяла и другие пожитки. Все было похоже на то, что они там чего-то ждут вот уже несколько дней, если не дольше. Но при этом они совсем не были похожи на паломников. Разумеется, всем путешественникам приходится иметь при себе оружие для самообороны, но эти мужчины носили свои мечи так, что у меня возникло подозрение, что они больше привыкли сражаться, чем молиться.
– А Джардин? – спросила Ленья.
– Я увидел для себя вполне достаточно, – сказал он. – Мне, конечно же, не хотелось привлекать к себе внимание, и я уже собирался пойти прочь, когда один из них заговорил. Он был шотландцем.
– Сэр Роберт? – снова спросила Ленья.
– Нет. Но кем бы он ни был, он произнес имя своего господина. Он сказал: «Сколько еще времени мы можем ждать их, сэр Роберт? Разве мы здесь неуязвимы?»
Ленья резко выпрямилась в седле.
– И что тот ответил?
– Для меня стало примечательным не то,
что он сказал, а то,
как он это сделал, – произнес Джон Грант. – Меня удивила его надменность.
– Так что же он сказал? – В голосе Леньи звучало нетерпение.
– Он сказал: «Я не чувствую себя уязвимым, и у меня нет времени на тех, кто чувствует себя таковым. Где бы я ни находился и на какой бы земле я ни стоял, до тех пор, пока я стою на этой земле, она является землей Джардина».
Ленья, осознав серьезность ситуации, замерла. Ее лошадь, похоже, почувствовала напряженность всадницы и тоже стала абсолютно неподвижной, как будто ее высекли из мрамора.
– Я вспомнил его голос, – сказал Джон Грант. – Прошло уже немало лет, но… но я узнал, кто это такой.
Ленья молчала.
– А ты ведь, получается, ехала по направлению к нему, когда мы… когда мы встретились, – сказал он.
Он почувствовал, как охвативший его страх улетучивается и к нему возвращается свойственное ему самообладание.
– Так кто же гонится за нами по этой дороге, Ленья? Кто связал тебе руки? Кто охотится за тобой?
Какое-то время Ленья ничего не отвечала, и Джон Грант совершенно явственно, почти физически ощутил напряженность ее мыслей. Она настолько сконцентрировалась, что эта концентрация стала исходить от нее волнами.
– Я не знаю имени человека, который меня схватил, – наконец сказала она. – Но у него был при себе большой лук.
Джон Грант вздохнул.
– Шотландец? – уточнил он.
Он и сам знал ответ на этот вопрос, но почему-то почувствовал необходимость его задать.
Ленья кивнула.
– Они все шотландцы, – сказала она. – Такое впечатление, что твои соотечественники здесь повсюду. Я начинаю думать, что они устроили какое-то нашествие.
Женщина нахмурилась, потому что эта шутка показалась неудачной даже ей самой.
– Этого лучника зовут Ангус Армстронг, – сообщил Джон Грант.
– Ты знаешь его? – спросила она.
– Я знаю его уже много лет, – сказал он. – Этот человек убивает людей, которых я люблю.
Ленью отнюдь не ранили слова парня. Да и как они могли ее ранить? Однако упоминание о любви и собственное ощущение того, что она лишена этой любви, затронули где-то в глубине души что-то такое, о чем она уже позабыла. Она тут же одернула себя, не позволяя поддаться чувствам и эмоциям, – в такой-то момент!
– Мне очень хотелось бы снова увидеть Ангуса Армстронга, – сказал Джон Грант.
Ленья внимательно посмотрела на него, и он невольно поежился: этот пронзительный взгляд вызвал у него дрожь – казалось, кончиками своих пальцев она слегка прикоснулась к его внутренностям. Юноша едва сдержался, чтобы не отпрянуть в сторону.
– А мне очень хотелось бы возобновить свое знакомство с сэром Робертом Джардином, – сказала она. – Просто ради памяти о былых временах.
Сэру Роберту Джардину снилось, что он идет по широким побеленным коридорам большого дома – громадного особняка или даже дворца. По обеим сторонам этих коридоров имелось множество дверей, и он, открывая одну за другой, заглядывал внутрь каждой комнаты. Все эти комнаты были обставлены по-разному: одни – скромно, другие – роскошно. Он вроде бы что-то искал, но никак не мог вспомнить, что именно. Однако же он был уверен в том, что узнает предмет своих поисков, как только увидит его, а потому осматривал каждое помещение очень и очень внимательно. Этот сон, казалось, продолжался бесконечно долго, и он испытывал постоянно нарастающее чувство разочарования. Он уже даже не шел, а почти бежал по коридорам – из одного в другой – и хватался за все дверные ручки, попадающиеся ему на пути. Занятие это становилось утомительным, потому что открывать каждую последующую дверь было все труднее и труднее, чем предыдущую, и он уже чувствовал в руках усталость, едва не переходящую в спазмы. По мере того как росло его разочарование и усиливалась боль в мышцах, представление о том, что он ищет, ускользало от него все дальше и дальше – он словно бы опускался в глубокую воду.
Прошедший день был неплохим. Это был один из многих дней, которые миновали с тех пор, когда в Хокшоу пришло сообщение, отправленное Ангусом Армстронгом. Судя по содержанию сообщения, у Армстронга появилась реальная возможность схватить эту женщину. Как выяснилось, все это время она скрывалась у монахинь – монахинь! – в монастыре, который находится неподалеку от гробницы святого Иакова.
Последним препятствием было расстояние – расстояние, отделяющее охотника от его добычи. Однако Ангус Армстронг был опытным путешественником, и он достаточно точно указал время и место их встречи. Он сообщил, что прибудет вместе с этой женщиной где-то в середине сентября. И вот прошло уже несколько недель с того момента, как сэр Роберт и его люди, отобранные им для выполнения этой задачи, отправились в путь из его шотландских владений. Из этих нескольких недель десять дней они находятся здесь, возле маршрута паломников неподалеку от границы между Францией и Испанией.
Он уже сгорал от нетерпения и едва сдерживался, скрывая свою тревогу. Роберта Джардина успокаивало лишь то, что за все прошедшие годы службы Армстронг еще ни разу не разочаровывал его. Неуклонное стремление этого человека во что бы то ни стало выполнить задание, доверенное ему господином, было просто удивительным. Нет сомнений, что уже очень скоро эта женщина достанется ему, сэру Роберту. Она представляла собой большую ценность тогда, много лет назад, а сейчас вообще стала бесценной. От предвкушения всего того,
что она может означать для него и
что она все еще может сделать для его блага, у сэра Роберта даже кружилась голова.
И тут вдруг его совершенно неожиданно охватил страх. Сделав глубокий вдох, он широко раскрыл глаза и… проснулся. Его возвращение в мир реальности было таким быстрым и таким полным, что ему показалось, будто он в своей жизни вообще никогда не спал. Он лежал на спине на одеялах, разложенных на постели из сухих листьев папоротника, которые один из его людей собрал для него днем. Как и подобало господину, он расположился ближе всех к костру, разведенному в центре амбара. Его люди устроились на ночлег вдоль стен амбара, на довольно большом расстоянии от него. Поэтому, насколько это было возможно на широком пространстве в пределах четырех стен, сэр Роберт пребывал в одиночестве.
Впрочем, сейчас он не замечал ничего – ни тепла, все еще исходящего от затухающего костра, ни мягкости самодельной постели. Его внимание было целиком и полностью сосредоточено на лице женщины, находившемся в шести дюймах от его собственного лица, и на острие ножа, которое она засунула между его губ и зубов и которое слегка впилось в мягкое нёбо, отчего по нему потекли капельки крови.
Он не шевелился, опасаясь, что даже малейшее движение может привести к тому, что все остальное лезвие пронзит его нёбо и пойдет дальше, к его мозгу. Женщина эта сидела на нем верхом, упираясь ступнями в земляной пол и придавливая ими его руки. Он слышал чье-то глубокое дыхание и даже храп – явное свидетельство того, что все его люди спокойно спали.
Человек, которому поручили охранять своих спящих товарищей, был привязан к стволу одной из сосен, росших между амбаром и дорогой, по которой путешествовали паломники. Получив по затылку рукояткой меча, он сначала валялся без сознания на земле у входа в амбар с кляпом во рту, а чуть позже, просто ради забавы, Джон Грант подтащил этого оглушенного воина к дереву, прижал лицом к шершавой коре, обвел руки и ноги горе-часового вокруг ствола, как будто он обнимает ствол по-медвежьи, и крепко связал его. Джону Гранту очень хотелось бы посмотреть на ошеломленные и, может быть, ехидные лица товарищей этого воина, когда те обнаружат его в таком положении, но они с Леньей будут в этот момент, конечно же, уже далеко.
При тусклом, слегка мерцающем свете, исходящем от затухающего огня, сэр Роберт Джардин узнал женщину, сидящую на нем. Чувствуя тяжелый вкус собственной крови, напоминающий вкус железа, он осознал, что смотрит в лицо Жанне д’Арк.
Когда-то давным-давно она была его пленницей. Он собирался обменять ее на такие богатства и земли, о которых раньше и мечтать не смел, ибо они превосходили даже его воображение (а уж у него-то воображение было хоть куда). Однако ее у него украли и увезли далеко-далеко, причем сделал это один из его людей, и тем самым его, сэра Роберта, можно сказать, разорил. А еще сэр Роберт все последующие годы чувствовал себя униженным и опозоренным. И вот теперь, двадцать два года спустя, эта женщина сидит на его груди. Он мысленно взмолился в надежде услышать сейчас звук натягиваемой тетивы большого лука, но мысль о том, что знаменитый лучник придет ему на выручку, тут же была отброшена: если эта женщина смогла добраться до него, сэра Роберта, и угрожает ему, то, по-видимому, его верного слуги уже нет в живых.
– Мне жаль, что я разбудила тебя, Бобби, – еле слышно прошептала она. – Но поскольку ты приехал сюда издалека и проделал большой путь, то с моей стороны было бы невежливо не поздороваться с тобой.
Она мрачно улыбнулась, и ее улыбка напомнила ему о событиях, которые произошли давным-давно и далеко отсюда. Сэр Роберт молчал, понимая, что она не даст ему ничего сказать, и только часто моргал от охватившего его изумления. Женщина легонько водила ножом из стороны в сторону, наслаждаясь тем, как лезвие царапает эмаль зубов. Запах изо рта у сэра Роберта был очень неприятным, кислым, но она вполне могла вынести его столько времени, сколько намеревалась общаться с этим человеком.
– Ты заслуживаешь того, чтобы умереть прямо сейчас, Бобби, – сказала она. – Мы все, конечно же, заслуживаем смерти. Но мне кажется, что твоя смерть явно подзадержалась.
Он заерзал под ней, как будто прозвучавшая из ее уст угроза заставила его как-то отреагировать, пусть даже без какого-либо смысла и без какой-либо надежды. Откуда-то из глубины его горла вырвался тихий звук.
– А ну-ка, тихо, – сурово произнесла женщина и слегка надавила на лезвие ножа, как бы подтверждая серьезность своих намерений.
Закрыв от боли глаза, он ощутил, как по горлу потекло уже больше крови, и начал опасаться, что может захлебнуться.
– Ты украл мою жизнь, – продолжала она. – Тебе поручили охранять и защищать меня. Тебе платили за это. А ты меня предал.
Она уставилась на него, отметив про себя, что годы, прошедшие после их последней встречи, забрали у него бульшую часть волос и испещрили морщинами кожу. Его зубы – те, которые у него еще оставались, – пожелтели и были изъедены. Однако, несмотря на приближающуюся старость, глаза сэра Роберта оставались такими же блестящими и ясными, какими она их помнила. Это были глаза хищника, способные с одного взгляда оценить силу или слабость добычи.
– Мне следовало бы забрать твою жизнь сейчас, – сказала она. – Мне очень хочется убить тебя. Это было бы так легко для нас обоих. Еще пару дюймов – и дело сделано.
Он снова заерзал, его глаза раскрылись еще шире.
– Но я недавно кое о чем узнала. Мне кое-что показали и… и, я полагаю, мне кое-что пообещали.
Ее лицо казалось ему красивым, и, вопреки самому себе, вопреки боли и угрожающей ему опасности, он почувствовал, как его яички наливаются тяжестью, а член твердеет. Она улыбнулась – так, как будто почувствовала охватывающее его сексуальное возбуждение. А может, она просто кровожадно оскалилась.
– Я забрала жизни у многих мужчин, – сказала она. – Благодаря тебе на моих руках есть кровь и одной девушки. Я испачкана кровью, Бобби. Маленькая часть ее – это кровь невинная, но вся остальная – совсем иная кровь. И от меня воняет этой кровью.
Сэр Роберт затаил дыхание. А женщина, выдержав паузу, облизала пересохшие губы и сказала:
– У меня было… видение.
Произнося эту последнюю фразу, она смотрела уже не на него, а на затухающий костер.
– Мне напомнили о крови девственницы – свежей, как новая жизнь, – продолжала она. – Я увидела, что есть кровь, которая течет, кровь, которую мне проливать не дано. Мне пообещали такую смерть, которую я заслужила. Меня сейчас интересует именно эта смерть, а не твоя.
Он почувствовал, что она изменила положение своего тела, – слегка наклонилась вперед. Затем она, похоже, потянулась своей правой рукой себе за спину.
– Я не убью тебя сегодня ночью, Бобби, – сказала она. – Но мне очень хочется подарить тебе кое-что. И пусть это станет моим последним подарком.
С этими словами она быстро убрала нож, поднесла свою правую ладонь к его лицу и размазала пригоршню своего собственного плотного и теплого кала по его рту и носу. Мгновением позже она основанием левой ладони закрыла ему рот и затем ударом по голове оглушила его.
25
– Тебе следовало бы убить его, – сказал Джон Грант.
Они скакали во весь опор уже больше часа. Бока и морды их лошадей были покрыты белой пеной. У них ушел весь предыдущий день на то, чтобы добраться до амбара, а затем им пришлось ждать до глубокой ночи, прежде чем они, оглушив часового, проникли в амбар. Покинув его некоторое время спустя, они воспользовались прохладой оставшейся части ночи для того, чтобы уехать как можно дальше от Джардина и его людей. Над вершинами невысоких холмов, вытянувшихся длинной вереницей далеко впереди них, уже забрезжил рассвет. За этими холмами смутно виднелось море, почти сливающееся с небом.
– Его время придет, – сказала Ленья.
– Осмелюсь заметить, что наверняка придет, – кивнул Джон Грант. – Но я предпочел бы, чтобы его время пришло раньше моего. Ты говоришь мне, что он является виновником всех наших бед и несчастий, – продолжал он. – Ты говоришь, что мы и такие, как мы, были вынуждены изменить свою жизнь, причем в худшую сторону, из-за алчности и мстительности Роберта Джардина. Однако в тот момент, когда
его жизнь оказывается в твоих руках, ты позволяешь ему остаться в живых.
Он натянул поводья и заставил свою лошадь бежать помедленнее, но Ленья не успела отреагировать на это. Невольно обогнав его, она была вынуждена повернуть назад, чтобы затем снова поехать с ним рядом. Они все еще не приспособились друг к другу и чувствовали некоторую неловкость, которую обычно испытывают абсолютно незнакомые люди, вынужденные стать партнерами по танцу. Он начал всматриваться в горизонт, стараясь заметить какие-нибудь ориентиры на местности и выяснить, в правильном ли направлении они едут.
– Роберт Джардин получит по заслугам, – после паузы произнесла Ленья. – Но покаран он будет не мной и не тобой. Мы не могли судить его в том месте и в то время. Теперь я знаю,
что мне должно делать. А отбирать жизни у тех, кто навредил мне, – это совсем не то, чем я собираюсь заниматься.
Он покачал головой. Она почувствовала его неспособность понять ее, но подумала, что ей не следует давать ему каких-либо дополнительных разъяснений. Прошло уже очень много времени с тех пор, когда она пыталась заставить других людей уразуметь волю ангелов. Она решила изменить ход своего разговора с Джоном Грантом.
– А не расскажешь ли ты мне теперь, куда ты вообще направляешься? – спросила она.
Он обратил внимание на то, что она сказала «ты», а не «мы», и задался вопросом, станет ли она принимать участие в том, что он задумал, или не станет. Возможно, ее интерес к его намерениям был до сего момента продиктован всего лишь ее любопытством, которое она утоляла, вынашивая тем временем собственные планы. Что касается его самого, то он, пытаясь разобраться в нахлынувшем на него потоке эмоций и идей, точно знал, что ему хотелось бы побыть некоторое время с ней.
– Мой отец когда-нибудь упоминал имена людей, с которыми он был близок? – спросил он.
Ударив лошадь пятками в бока, Джон Грант заставил ее рвануться вперед. Ленья поступила так же. Если ему и ей лишь с трудом удавалось находить общий для них обоих ритм, то у лошадей такой проблемы не было, и, когда лошади поскакали рядом рысью, он мысленно поблагодарил этих животных за то, что они так легко находят взаимопонимание.
– Я думаю, что он, находясь рядом со мной, предпочитал оставлять ту часть своей жизни где-то в стороне. Правда, наши встречи случались не очень часто, – сказала она. – И единственным, о ком он упоминал при мне, был Хасан. Я знаю, что они были друзьями, хотя Патрик никогда мне об этом не говорил.
Он вздрагивал каждый раз, когда она произносила это имя. Ему как-то не верилось в то, что Патрик Грант был близок с этой женщиной, а она – близка с ним и что они сделали его, Джона Гранта, а затем расстались. Несмотря на то, что бульшая часть его существа принимала правду такой, какая она есть, другая, меньшая, все же тянулась к матери, которую он знал. Хотя Джесси умерла и была похоронена много лет назад, его чувства к ней не угасли, он по-прежнему помнил и любил ее. Все те сведения, которые он узнал о своей настоящей матери и о связанных с ней событиях, повлиявших на жизнь его отца, бременем давили на мозг, снова и снова заставляя мысленно возвращаться к ним.
Некоторое время они ехали молча. Их лошади дружно покачивали головами в такт движению, подчиняясь стадному чувству, свойственному животным, тогда как третья лошадь, привязанная длинной веревкой к задней части седла Джона Гранта, трусила сзади. Ленья чувствовала себя бродяжкой, у которой нет ни семьи, ни дома, но это не смущало ее и тем более не вызывало чувства неприкаянности. Поток событий унес ее довольно далеко от последнего места жительства, где она прожила последние двадцать с лишним лет, но вернуться туда Ленье не очень-то хотелось. Могло ведь случиться так, что поток этот вскоре ослабнет и она по воле судьбы вернется в монастырь у гробницы, а может, он понесет ее дальше. Она не знала, что ее ждет, да и не могла знать. Находиться рядом с этим юношей – вот что сейчас волновало Ленью и было наиболее сильным ее желанием. Ее тянуло к нему, и она ничего не могла с этим поделать.
– Мой отец спас Бадру Хасану жизнь, – сказал Джон Грант. – А Бадр, в свою очередь, спас жизнь мне, причем не один раз.
Она покосилась на него и увидела, что он, произнося это имя, улыбнулся.
– Ты едешь сейчас на встречу с ним? – поинтересовалась она.
– Бадр мертв, – глухо произнес он. – Его убил Ангус Армстронг.
Вспомнив о человеке, который недавно схватил ее и от которого ей удалось сбежать, она задумалась. Перед ее мысленным взором возникла стрела со стальным наконечником, направленная ей в лицо. В этот момент Ленья впервые задалась вопросом, сколько же вреда он причинил другим людям.
– Как ты меня нашел? – спросила она.
Джон Грант смерил женщину взглядом с головы до ног, и Ленье на мгновение показалось, что он сомневается, стоит ли говорить ей об этом.
– Бадр рассказал мне, где тебя искать, – помедлив, сообщил он. – Когда мой друг лежал и умирал, истекая кровью из-за торчавшей в его теле стрелы Армстронга, он рассказал мне о… о тебе.
– Как долго ты сюда ехал?
Юноша хмыкнул, издав то ли смешок, то ли вздох.
– Какое-то время, – ответил он и пожал плечами. – Но время, если честно, у меня есть, а вот близких людей – нету.
У Леньи возникло такое ощущение, как будто внутри нее заворочался какой-то маленький зверек. Все эти годы она пыталась забыть свое прошлое. Теперь ей казалось, что все ее многолетние усилия, направленные на это, привели лишь к тому, что она, отправившись куда-то длинной окольной дорогой, в результате вернулась в то место, с которого начала свой путь. Она отвернулась от своего сына-младенца, но по прошествии многих лет они снова оказались рядом.
– Как он узнал обо мне? – спросила она.
Джон Грант пожал плечами.
– Ну, давай вообразим себе, что, возможно, мой отец рассказал Бадру Хасану, что ты – моя мать, – спокойно произнес юноша. – А Бадр умудрился этого не забыть.
Повернув голову, она внимательно посмотрела на него, но Джон Грант в этот момент глядел прямо перед собой – в сторону холмов и солнца.
Когда он снова заговорил, его голос звучал бесстрастно, в нем не чувствовалось никаких эмоций.
– Бадр сказал мне, что Патрик любил тебя, что ты была женщиной, которой он… отдал бы предпочтение.
Она отвела от него взгляд и посмотрела на свои ладони, покоящиеся на луке седла ее лошади.
– Я не спрашивал его, а он не вдавался в подробности, но тем не менее сделал для себя вывод, что ты не захотела провести свою жизнь с ним… и со мной.
Вновь взглянув на него, она увидела блеск солнечного света, отраженного от тоненького золотого кольца, надетого на мизинец его левой руки. Ленья уже заметила, что он левша, и по какой-то причине, на которую она почти не обратила внимания и по поводу которой не стала задумываться, ей понравилось, что парень надел это колечко именно на левую, более развитую руку…
«Тебе это совсем не нужно, да? – когда-то спросил ее Патрик и с горечью добавил: – Тебе не нужен ни я, ни наш сын».
Она тогда увидела на лице Патрика слезы и машинально протянула руку, чтобы вытереть их, но он отпрянул в сторону, не дав ей прикоснуться к нему.
Слова – любые подходящие случаю слова, которые, наверное, смогли бы помочь, – в тот момент почему-то не пришли ей в голову, и она не смогла сказать ничего стоящего. Она только чувствовала внутри себя пустоту, чувствовала себя засохшим деревом, которое внутри уже пустое, но все еще не падает.
Патрик стоял в дверном проеме ее домика, который по сути был пристройкой к главному зданию монастыря. Он, казалось, колебался, не зная, остаться ему или же уйти. В руках он держал их ребенка, завернутого в куски ткани из белого хлопка и бледно-голубого шелка. Патрик смотрел на спокойно спящего малыша и, несмотря на свое горе, внутренне радовался тому, какое красивое у его сынишки лицо. К тому моменту, когда он поднял взгляд, она стащила со своего пальца кольцо. Оно было его первым и единственным подарком ей, и она уже не раз задумывалась над смыслом выгравированной на нем надписи:
«No tengo mas que darte». «Мне больше нечего тебе дать».
Даже когда она прочла надпись в первый раз, она показалась ей предзнаменованием горя и вызвала у нее дурные предчувствия. Возможно, он, вопреки всем своим надеждам на лучшее, всегда осознавал, что их пребывание рядом друг с другом не может быть долгим.
Она попыталась запихнуть кольцо в его свободную ладонь, но он тут же сжал ее в кулак, тем самым как бы выражая напоследок свой протест.
«Пожалуйста, возьми его, – сказала она. – Я не могу носить его. Я не могу… вынести этого». Ей мучительно больно было смотреть на его обиженное лицо, и она мысленно обругала себя, удивляясь тому, почему Бог счел необходимым забрать у нее сердце.
Так и не взяв кольцо, Патрик вновь посмотрел на их спящего сына. Она отогнула край бледно-голубой материи – вообще-то это был платок, который когда-то давно ей подарила мать, – и, просунув его кончик сквозь кольцо, быстренько завязала узел. Подняв взгляд на Патрика, который, не скрывая горечи, наблюдал за ее действиями, она невольно потупилась.
– Тебе и в самом деле это совсем не нужно, – сказал он и пошел прочь, не оглядываясь…
Тихий голос Джона Гранта вырвал ее из воспоминаний. И Ленье почему-то показалось, что, пока она молча вспоминала и размышляла, он читал ее мысли.
– Ты расскажешь мне о моем отце? – спросил он, и его голос, по крайней мере в ее ушах, прозвучал как-то по-детски.
– А если расскажу, ты тогда скажешь мне, куда мы направляемся?
– Да, – кивнул он в знак согласия и улыбнулся. – Тогда скажу.
И она приступила к рассказу о Патрике Гранте, решив поведать его сыну все, что ей было известно о нем. Ей пришлось начать с кое-каких эпизодов из собственной жизни, ибо, как она догадалась по какой-то неведомой причине, юноше также было интересно услышать хоть что-нибудь о ней самой. То, что она решилась рассказать свою историю, было более приемлемым для них обоих, чем разговор, состоящий из вопросов и ответов, и, поскольку их лошади скакали рысью, а они сами при этом то приподнимались, то опускались в своих седлах, это задавало и соответствующий ритм повествованию – ритм, который действовал на них успокаивающе.
– Я тоже была воином, – начала она. – Я уверена, что тебя это удивляет. Подумать только – девушка на поле боя! Но это было моим… моим призванием. Думаю, именно так ты мог бы назвать это. Сколько себя помню, я всегда хорошо умела драться. У меня было три старших брата, и они, конечно же, во время своих игр частенько устраивали потасовки. Я принимала участие в их играх и, несмотря на то что была младше и ниже их ростом, вскоре нашла способы побеждать их, причем побеждать довольно легко. Поначалу их даже забавляло, что младшая сестра представляет собой довольно сильного для них противника и что им приходится воспринимать ее всерьез, когда она нападает на них с деревянным мечом или копьем и валит их на землю, но новизна подобной ситуации прошла быстрее, чем проходили синяки, поэтому со временем они попросту перестали включать меня в свои игры. Когда я пожаловалась матери, они сказали ей, что не хотят со мной играть, потому что боятся, что я могу пораниться. Однако мой отец, который, как я давно заметила, наблюдал за этими играми, знал правду. Во время наших детских баталий я никогда не злилась и не жаждала насилия, чего мои братья не понимали. А вот отец понимал. Это было просто… чем-то таким, что я могла делать, причем лучше, чем они, и лучше, чем кто-либо другой. Но именно это и не нравилось мальчишкам. Их задевал тот факт, что мне не нужно было тренироваться, чтобы добиться успеха, и что мне не требовалось долго раздумывать перед тем, как предпринять то или иное действие.
– А твой отец, – спросил Джон Грант, – он был воином?
Ленья замолчала, и Джон Грант тут же пожалел, что перебил ее.
– Мой отец был Жаком д’Арк, – после паузы сказала она, возвращаясь к своему рассказу. – Я была юной, когда мы покинули наш дом, и это правда, когда я говорю тебе, что я никогда не знала о нем столько, сколько мне хотелось бы знать. Я помню, что люди в деревне называли его сержантом и что он занимался в том числе и тем, что учил их оборонять наши дома, если возникнет такая необходимость. Для меня все это было очень давно, к тому же в течение многих лет я стремилась к тому, чтобы забыть, а не помнить свое прошлое. Лишь позже я узнала, что мой отец и в самом деле когда-то был воином, и очень даже неплохим – храбрым и верным. Еще до того, как я стала сражаться с англичанами, мой отец тоже сражался с ними, причем вместе с шотландцами. Мне даже кажется, что у моей родни такая судьба – сражаться плечом к плечу с твоими соотечественниками. Я знаю, что он участвовал в обороне Мелёна – окруженного крепостной стеной города на одном из островов на реке Сена. Там, конечно же, имелся французский гарнизон, но было также много шотландцев, выступивших не только против английского короля Генриха, но и против своего собственного – так называемого короля Якова из рода Стюартов. Этот Яков был не более чем марионеткой в руках Генриха и слушался его, как преданная собака. Шотландскими воинами командовал шотландский аристократ, которого звали Олбани. Они почитали связи, которые объединяли твой народ с моим, гораздо дольше, чем может прожить на белом свете любой
soi-disant[23] король. Английский король Генрих, как и многие другие подобные ему люди, полагал, что Франция принадлежит ему, и он пересек пролив Ла-Манш со своими ордами, чтобы попытаться это доказать. Двадцать тысяч англичан осадили Мелён. Французских и шотландских воинов насчитывалось в этом городе менее одной тысячи, но они сумели продержаться в течение полугода, сражаясь и на стенах, и в туннелях, которые английские саперы прорыли под ними. Когда все закончилось – ну, то есть когда защитники уже не могли больше сражаться, а жители города были вынуждены питаться крысами, пожиравшими валяющихся на улицах мертвецов, – Генрих приказал посадить коменданта гарнизона в железную клетку и держать его в ней всю оставшуюся жизнь. Что касается твоих соотечественников, то
большинство из них были схвачены и повешены на городских стенах в назидание всем остальным. Лишь немногим из них удалось выжить и вернуться к себе домой. Мой отец никогда не забывал их. Он всегда называл их своими друзьями после этих событий. Вот почему, решив, что мои… мои воинские способности следует проверить и развить, он повез меня к своим товарищам на твою родину. Кем я стала тогда… и что я представляю собой сейчас – это результат постижения мною не французского боевого искусства, а боевого искусства твоих земляков-шотландцев. Меня обучали те же шотландцы, которые когда-то сражались рядом с моим отцом. И когда я отправилась домой, чтобы выступить против английских захватчиков, многие из шотландцев поехали со мной и стали моими телохранителями. Для моего отца было очень важно, чтобы во время этой миссии меня сопровождали и охраняли именно такие люди. Они же находились рядом со мной и в тот момент, когда я поклялась нашему принцу, что добьюсь его восхождения на трон.
– Но зачем было возлагать такую тяжкую ношу на плечи девушки? – спросил Джон Грант. – Даже если ты умела хорошо сражаться – а в этом у меня нет никаких сомнений, – как ты, девушка, могла повлиять на ход той войны?
Она выдержала взгляд юноши, в котором читалось недоумение. Пристально глядя в его карие глаза с золотистыми крапинками, она вдруг почувствовала себя какой-то глупой – именно такое чувство возникало у нее всегда, когда она пыталась объяснить что-то такое, чего сама не могла толком понять.
– Мой отец привез меня в Шотландию, чтобы я попрактиковалась там в своем… моем искусстве, – сказала она. – Это является очевидным.
– А дальше?.. – спросил он. – Я знаю, что тебе нужно рассказать мне что-то еще.
– Но он также хотел… или, лучше сказать,
нуждался в соответствующих заверениях и подтверждениях со стороны тех людей, которым он привык доверять больше, чем кому-либо другому.
– Подтверждениях чего?
Джон Грант вдруг почувствовал «толчок» – не со стороны какого-то человека, которого он пока еще не видел, а со стороны Леньи. Он отпрянул от нее, и ее глаза широко раскрылись, когда она заметила, что он дернулся в сторону, как будто на него напал какой-то невидимый враг. Она протянула к нему руку, но он жестом показал, что не следует беспокоиться.
– Ничего страшного, – сказал он. – Я думаю, нам, пожалуй, следовало бы поискать себе какой-нибудь еды. Мне нужно отдохнуть и чего-нибудь поесть – только и всего.
Поерзав в седле, Джон Грант глубоко вздохнул, стараясь собраться с мыслями.
– Итак, что твой отец хотел выяснить? В каких подтверждениях он нуждался? – снова спросил юноша.
– Что я не была сумасшедшей, – ответила она.
Он ничего не сказал, а просто поднял брови.
Она сделала глубокий вдох, словно пыталась вдохнуть в себя решимость не утаить от него правду, к каким бы последствиям это ни привело.
– Я сражаюсь так, как я сражаюсь… и побеждаю так, как я побеждаю… потому что я сражаюсь по воле Божьей.
Она посмотрела на него и увидела, что его взгляд обращен не на нее, а вдаль, в сторону линии горизонта и холмов.
Джон Грант задумался над ее словами и в своих размышлениях обратил внимание на гул мира, вращающегося вокруг своей оси, словно гигантская юла. Он сконцентрировался на ощущении полета планеты в темном вакууме. Он снова ощутил «толчок» – на сей раз со стороны этой женщины, которая родила его на белый свет и затем отвернулась от него.
Она не могла знать – а он решил, что пока не будет ей рассказывать (если вообще когда-нибудь расскажет), – про такое необыкновенное явление своей жизни, как «толчки». Она не могла знать этого, но тем не менее поведала свою правду как раз тому, кто понимает, каково это – знать что-то такое, чего никто больше не знает, и слышать что-то такое, чего больше никто не слышит.
Он посмотрел на нее и кивнул.
Она не поняла, что означает этот кивок, и не успела дать ему оценку, потому что Джон Грант задал очередной вопрос.
– Если ты подчиняешься воле Божьей, то что же тогда тебе было нужно от моего отца? – спросил он.
Она почувствовала, как годы замелькали перед ее глазами, словно страницы книги, оставленной открытой и перелистываемой теперь ветром.
Она собралась было что-то сказать, но не успела произнести даже слова, потому что черный мерин, привязанный длинными веревками к седлу лошади Джона Гранта, громко заржал от пронзившей его боли, встал на дыбы и тяжело завалился набок.
Встревоженное ржание мерина вызвало панику у лошади Джона Гранта, которая встала на дыбы и едва не сбросила наездника. Однако Джон Грант успел отреагировать, поднявшись в стременах, и чудом не опрокинулся назад и не шлепнулся на землю. Справившись с лошадью и заставив ее успокоиться, он подъехал к упавшему мерину. Тот пытался подняться, но у него ничего не получалось. В следующее мгновение Джон Грант понял почему: из правой задней ноги животного торчало древко стрелы.
Учитывая опасность ситуации, Джон Грант действовал быстро и ловко, однако его спутница оказалась проворнее. Выхватив из-за пояса нож Ангуса Армстронга – тот самый, с помощью которого она заставила лежать молча сэра Роберта Джардина, – она направила свою лошадь к лежавшему мерину и, приблизившись к раненому животному, разрезала длинную веревку, которой тот был привязан к седлу Джона Гранта.
– Скачи! – крикнула она и с размаху ударила свою лошадь ладонью по крестцу. Когда они пустили своих лошадей галопом, Джон Грант оглянулся, отчаянно пытаясь увидеть того, кто на них напал. Он был уверен, что это Армстронг, и в его груди вспыхнул гнев.
– Я не вижу его! – крикнул он.
– Просто скачи! – крикнула она в ответ.
Джон Грант ощутил удар в правую ступню и, посмотрев вниз, увидел вторую стрелу, торчащую из каблука его сапога. Ее наконечник, впившийся в деревянную часть каблука, не причинил ему никакого вреда.
– Что-то он сегодня не меткий! – крикнул он Ленье. – Я раньше никогда не слышал, чтобы этот ублюдок промахнулся хотя бы раз, не говоря уже про два раза.
– Скачи, скачи, – ответила Ленья. – Я подозреваю, что мои прощальные подарки как-то повлияли на его способности.
– Жаль, что ты не довела дело до конца, – сказал юноша, наклонившись вперед. Стараясь держать голову пониже, он правой рукой дотянулся до торчавшей из каблука стрелы и отломал древко, оставив лишь ее наконечник. – Твоя жалость по отношению к нашим врагам приведет нас к погибели.
Ленья, ничего не сказав, лишь поморщилась. Она понимала, что Джон Грант, возможно, прав, и обругала себя за свое решение оставить того лучника в живых. Впрочем, уже в следующее мгновение Ленья вспомнила про ангела, которого видела на скалистой вершине холма, и устыдилась возникших у нее сомнений.
Тем временем Джон Грант, то и дело оглядываясь, наконец-таки заметил, где находятся те, кто на них напал. Их было четверо, и они расположились возле огромного гранитного валуна с подветренной стороны холма, мимо которого он и Ленья проскакали несколько минут назад. Трое из них сидели на лошадях, а один стоял рядом с ними, но, похоже, тоже собирался сесть в седло. Они с Леньей находились уже на пределе дальности стрельбы из лука, но это смертоносное оружие было видно весьма отчетливо: оно висело на спине того, кто направлялся сейчас к своей лошади.
Джон Грант и Ленья скакали во весь опор по короткому участку ровной местности, пока дорога не пошла вверх по крутому склону холма. Джон Грант опасался, что они скоро снова могут оказаться в пределах видимости для стрельбы, и понукал свою лошадь двигаться как можно быстрее. При этом он то и дело призывал Ленью подгонять и ее лошадь тоже. Она, однако, не нуждалась в таких призывах ни от него, ни от кого-либо другого.
Местность снова стала ровной, и они смогли увеличить скорость. Крутой подъем, виднеющийся впереди, мог оказаться для их лошадей уж слишком тяжелым препятствием, а потому они повернули вправо и, обогнув холм по периметру, заехали в узкую расселину между двумя холмами.
Чувствуя облегчение, оттого что оказались сейчас вне зоны прямой видимости Армстронга, они затем поскакали галопом, чтобы увеличить расстояние между ними и их преследователями, и одновременно обдумывая, каким образом можно совсем оторваться от них или же хотя бы спрятаться в надежном укрытии. Они ехали по очень узкой долине, которая все время изгибалась и петляла, пока вдруг не увидели перед собой почти вертикальную скалу, полностью преградившую им путь.
– Нет! – в отчаянии крикнул Джон Грант, поворачивая свою лошадь то в одну сторону, то в другую и выискивая какую-нибудь подходящую для них тропу. Склоны, огибавшие долину слева и справа, тоже были очень крутыми, а повернуть назад означало бы направиться прямехонько к Армстронгу и его спутникам.
– Это тупик, – сказала Ленья.
Джон Грант, не проронив ни слова в ответ, спрыгнул с лошади и побежал к преградившей им путь скале. Присев на корточки, он со смешанным чувством надежды и ужаса увидел, что почти на уровне земли в скале есть дыра шириной немногим больше ширины его плеч. Поначалу она показалась ему больше похожей на нору какого-то животного, чем на отверстие, через которое может пролезть человек, но юноша все же лег на землю и стал всматриваться в ее темную глубину.
– Что ты делаешь? – крикнула Ленья. – У нас нет на это времени.
Однако он проигнорировал ее реплику и засунул голову в отверстие. Стараясь не думать о том, в каком опасном положении они сейчас оказались, он сделал глубокий вдох и принюхался. Воздух в отверстии был свежий. В следующее мгновение он ощутил на своем лице легкий ветерок. Дуновение было еле заметным, но Джон Грант не сомневался в своих ощущениях. Где-то в глубине свежий воздух нашел путь, по которому добрался до него, и если это в самом деле так, то, возможно, и они с Леньей смогут воспользоваться этим путем.
Ленья, потеряв терпение, соскочила с седла и присела на корточки позади него. Посмотрев, куда он засунул голову, она наконец увидела это отверстие в скале.
– Это несерьезно, – сказала она, догадавшись о его задумке и придя от нее едва ли не в ужас.
– Поверь мне, – произнес Джон Грант, обернувшись к ней. Он протянул руку и положил ладонь на плечо женщины. – Ты должна мне верить. У нас нет времени. Совсем нет.
– Ну как тебе вообще пришло в голову пытаться лезть в эту… эту дыру? – крикнула она. – Пролезть в нее не так-то просто даже собаке!
– В том-то и дело, – ответил Джон Грант. – Они не полезут в нее вслед за нами. У них не хватит смелости.
Она сделала глубокий вдох и затем шумно, почти со свистом выдохнула.
– Но ты же не знаешь, куда этот лаз ведет, – настаивала на своем Ленья. – Он, возможно, вообще никуда не ведет.
Юноша покачал головой.
– Я чувствую свежий воздух, – сказал он. – Это не просто отверстие – это туннель, по которому можно куда-то пролезть. Я в этом уверен. Из него дует ветер. Он дует откуда-то… с другой стороны.
– Уж лучше я вступлю с ними в схватку, – упрямо заявила Ленья. Опустившись затем на колени, она заглянула в отверстие, но не увидела в его глубине ничего, кроме темноты.
– Нам нельзя вступать с ними в схватку в подобных условиях, – возразил Джон Грант. – Мы не сумеем здесь друг друга защитить. Армстронг пристрелит меня из лука, а потом увезет тебя. Увезет к Джардину.
Она на пару мгновений опустила подбородок себе на грудь, а затем посмотрела ему прямо в глаза. Она знала, что он прав.
– Да будет так, – сказала она.
Он кивнул ей и, отвернувшись от нее, полез в узкое отверстие. Увидев, какие усилия требуются даже для того, чтобы забраться в это отверстие, она почувствовала внутри себя неприятный холодок.
Как только Джон Грант заполз в отверстие по пояс, ему самому показалось, что его затея – не более чем безумие, и его охватил страх. Однако что-то подсказывало ему, что уже слишком поздно паниковать и что для паники в сложившейся ситуации
нет места. Единственная их надежда на спасение заключалась в этом узком отверстии, которое в древние времена либо пробила вода, либо оно возникло в результате смещения пластов земли.
Кроме того, в глубине души он верил, что это отверстие в скале куда-то выведет их, пусть даже им придется изрядно помучиться, прежде чем они пролезут по всему туннелю. Он прикоснулся к каменной стенке отверстия и ощутил едва уловимую вибрацию, вызываемую вращением мира. Темнота спрячет их обоих и убережет их. Армстронг и его люди не решатся полезть в это отверстие вслед за ними. Этот охотник всего лишь наслаждался процессом преследования, тогда как они боролись за свою свободу и даже жизнь. У Армстронга имелись различные варианты и время, а у них ни других вариантов, ни времени сейчас уже не было.
Решившись на нечто невообразимое, они вызовут у своих врагов замешательство. Они исчезнут, как бы переместившись в какой-то другой мир.
Стараясь дышать неглубоко – словно бы пытаясь сократить свои собственные размеры до минимума, – Джон Грант полез еще глубже, изо всех сил концентрируясь на потоке воздуха, движущегося ему навстречу и подбадривающего его. Он мысленно цеплялся за этот поток, как за веревку. Он позволил легкому ветерку приобрести в его воображении форму и цвет и увидел, как воздух течет по направлению к нему и мимо него, принося с собой надежду на завершение их борьбы и на вознаграждение за их смелость…
Только когда он полностью исчез в отверстии – то есть когда его как бы поглотили земля и темнота, – Ленья обернулась и в последний раз посмотрела на лошадей. Те невозмутимо щипали жесткую траву и даже не подозревали об опасности, угрожающей их недавним всадникам. Она подошла к серой кобыле и потрепала ее по холке, с удовольствием вдыхая исходящий от нее теплый и такой знакомый запах, а затем опустилась на колени перед отверстием. Ей пришлось лечь на живот, чтобы пролезть в это отверстие. Она услышала, как где-то впереди, в полной темноте, ползет и ругается себе под нос ее спутник. Ее сердце встревоженно заколотилось, и она, выдохнув, полезла в жуткое узкое отверстие.
В промежутках между своими собственными движениями Джон Грант стал прислушиваться к тому, как позади его, тяжело дыша и стараясь за что-то цепляться, ползет Ленья. Ему пришло в голову, что если сдерживаемый ужас способен производить какие-то звуки, то тогда это звуки скребущих в темноте рук и ног.
Напряженность ситуации угрожала вызвать у него панику – ему то и дело казалось, что он вот-вот почувствует каменную стену не только слева и справа, но и прямо перед собой. Существовала реальная вероятность того, что поток воздуха, ставший для них единственной надеждой на спасение, попадал сюда через какое-нибудь маленькое отверстие, пролезть через которое человеку попросту невозможно. Могло получиться так, что они окажутся в ловушке, как какие-нибудь крысы. В этом случае им придется признать, они ползут к своей собственной могиле. Панический страх едва не завладел им, сделав его врагом собственное тело. Ему вдруг показалось, что он раздувается, заполняя все пространство вокруг себя и застревая, как пробка в горлышке бутылки. Он почувствовал, как его грудь расширяется, когда он пытается сделать очень глубокий вдох. В какой-то момент Джон Грант все-таки сумел взять себя в руки и, снова сосредоточившись на потоке воздуха, стал мысленно повторять, что поток этот постепенно усиливается.
Он заставил себя доверять своим инстинктам и всецело сконцентрироваться на своих движениях. Этот туннель в скале время от времени менял направление, иногда начиная подниматься вверх, иногда – опускаться вниз. В отчаянном стремлении держать под контролем свое психическое состояние, Джон Грант попытался представить себе форму этого туннеля и даже стал молиться о том, чтобы он расширился в какую-нибудь тускло освещенную пещеру, в которой они смогли бы осмотреться по сторонам, взглянуть друг на друга и тем самым напомнить себе, что они все еще существуют в этом мире. Однако никаких пещер на его пути не оказалось. Время от времени Джон Грант вынужден был ползти на боку и даже на спине, чтобы как-то продвигаться вперед.
Ползти лицом вверх, иногда случайно чиркая при этом носом об потолок туннеля, было хуже всего. Ощущение, что весь мир навалился на него сверху, едва не заставляло его думать о том, что они с Леньей обречены, и тогда он с еще большим рвением начинал отталкиваться пятками от выступов в стенках туннеля, пока не оказывался в более широком его участке, позволяющем ему снова перевернуться на живот.
К счастью, время от времени попадались еще более широкие участки, где можно было запросто изменить положение тела и вообще почувствовать себя более свободно, но затем туннель неизменно суживался снова, и Джон Грант приходил в ужас, когда одновременно и с боков, и снизу, и сверху его одежда чиркала по стенкам туннеля. Джону Гранту казалось, что каменная масса, нависшая над ним, движется, пытаясь раздавить его, словно подошва гигантского башмака. Почти полная безнадежность ситуации, в которой оказались они с Леньей, снова и снова угрожала сломить его дух. Впрочем, его физическое состояние было ничем не лучше состояния его духа: он очень устал, в висках ломило, язык набух, во рту ощущалась сухость. Услышав, как Ленья, ползущая позади него, издала какой-то звук, похожий на всхлипывание, он остановился и позвал ее по имени, радуясь тому, что у него появилась возможность хоть как-то отвлечься.
– Продолжай ползти вперед, – сказала она.
Ее голос был приглушенным, как будто доносился откуда-то издалека. Вскоре он почувствовал, как ее голова ткнулась в подошвы его сапог, и услышал, как она охнула. Ее близость к нему в пространстве подействовала на него удручающе: он живо представил себе, как они оказались в тупике и стали пытаться выкарабкаться из него, пихая друг друга и уже задыхаясь от нехватки воздуха…
– Продолжай ползти вперед, – снова сказала она.
В ее голосе прозвучала бульшая настойчивость, чем раньше, и он продвинулся вперед, чтобы высвободить место для нее. И тут
это произошло. Пытаясь отталкиваться от стенок туннеля ногами, чтобы перемещаться вперед, он вдруг почувствовал, что его плечи сдавило с обеих сторон. Туннель сузился еще больше, и он, Джон Грант, в нем застрял. Он попытался отползти назад за счет силы рук, но у него ничего не получилось. Да, он застрял и не мог сдвинуться ни вперед, ни назад. Не желая верить в это и пыхтя от натуги, юноша сделал несколько резких движений вперед и назад – безрезультатно. Ему показалось, что весь мир сжался до такой степени, что от него остался только вот этот малюсенький кусочек пространства. Время стало течь мучительно долго: секунды превратились в вечность. Он вскрикнул и замер.
– Джон, – позвала Ленья.
Она впервые назвала его по имени. Ему показалось, что ее слова донеслись до него откуда-то издалека.
– Джон, – снова позвала она. – Поговори со мной.
Он отчаянно пытался взять себя в руки. Его самообладание трепыхалось и угасало, как пламя свечи, умирающее в ночной темноте.
– Назови мое имя, – попросила она.
Ее слова доносились до него, словно сквозь воду.
– Ленья, – сказал он.
– Нет, Джон Грант, назови мое настоящее имя.
Его лицо уперлось в каменный пол туннеля. У него возникло такое ощущение, как будто он тонет.
– Жанна, – произнес он и почувствовал, что пламя встрепенулось и засветило ярче – так, словно на него подул легкий ветерок.
– Я верю тебе, Джон, – сказала она. – Я верю в то, что благодаря тебе мы выкарабкаемся отсюда.
Он вслушивался в ее голос и звуки своего собственного дыхания. Почувствовав, что женщина прикоснулась ладонями к его лодыжкам, он дернул ногами, но она крепко ухватилась за него. И тут вдруг – с такой силой, какой он от нее не ожидал, – она потянула его назад. Ей удалось оттащить его не более чем на дюйм, но этого оказалось вполне достаточно. Его плечи высвободились, и он смог согнуть руки и изменить положение тела.
– Продолжай ползти вперед, Джон, – сказала она.
Он сделал глубокий вдох и попытался ухватиться кончиками пальцев за выступы в стенках туннеля. У него это получилось, и он, слегка подергав ногами, продвинулся немножечко вперед. Сделав еще один вдох, он снова подергал ногами, и снова… С безграничным облегчением он почувствовал, что его плечи при таком положении тела относительно стенок туннеля не уперлись в них и не застряли, а значит, он смог преодолеть узкое место туннеля. Воспрянув духом, он пополз вперед, энергично работая руками и ногами, пока его талия, колени и ступни не прошли через узкое место туннеля, в котором он едва не застрял.
При этом он сильно вспотел. Соленый пот заливал глаза, вызывая жжение, но он продолжал двигаться по туннелю, решив уже больше не останавливаться. А еще ему стало очень жарко. Несмотря на поток прохладного воздуха, движущийся навстречу ему, у него возникло ощущение, что он находится внутри какого-то существа и что это существо проглотило его живьем. Чтобы не впасть в панику и не закричать от страха, юноша начал считать свои движения, тем самым измеряя свой путь вперед. Счет перевалил уже за сто, когда он вдруг почувствовал, что в туннеле стало просторнее. Если раньше его бока чиркали по стенам туннеля, а спина – по его потолку (к тому же ему казалось, что и пол туннеля неприятно давит на него снизу), то теперь слева и справа от него появилось довольно много свободного пространства. В результате он испытал неожиданное ощущение свободы и ему захотелось радостно рассмеяться.
То, что было узким туннелем, стало невысокой, но широкой полостью, и, разведя руки в стороны, он не смог достать пальцами до каменных стенок. Потолок был все еще низким, однако слева и справа от него стало очень просторно, и он почувствовал облегчение и снова обрел надежду. В то же время он старался быть настороже и не очень-то поддаваться новым эмоциям, ибо опасался, как бы эйфория не стала причиной для совершения роковых ошибок. Поэтому Джон Грант велел себе успокоиться и неторопливо поразмыслить. Поток встречного воздуха заметно усилился, и он стал дышать глубже, наслаждаясь прохладой и надеждой, которую давал ему этот поток.
Усиление воздушного потока было косвенным подтверждением того, что он был прав и что им с Леньей удастся спастись. От переполнившей его радости он улыбнулся и с облегчением вздохнул. И тут он услышал прерывистое дыхание Леньи, появившейся в расширенной части туннеля.
– Не отставай от меня, – сказал он. – Держись поближе ко мне.
Она ничего не ответила, но он обратил внимание на то, что ее дыхание стало менее напряженным.
Пол туннеля стал подниматься под небольшим углом вверх, и Джон Грант пополз вперед, хватаясь за выступы пола руками и еще сильнее, чем раньше, отталкиваясь от этих выступов носками своих сапог. Только когда туннель стал строго горизонтальным, Джон Грант вдруг осознал, что его веки плотно сомкнуты.
Открыв глаза, юноша испытал невероятный восторг – он увидел тыльную часть своих ладоней! Хотя видно было очень плохо – как ночью при самых первых проблесках рассвета, – наличие даже такого скудного освещения наполнило его радостью, и он удвоил свои усилия. Пол туннеля вдруг резко пошел вниз, и он увидел впереди треугольник золотистого дневного света. Начав ползти с еще большим рвением, он крикнул Ленье:
– Ты видишь? Впереди свет!
– Продолжай ползти вперед, – только и сказала она.
Внезапно он осознал, что эти ее слова на протяжении всего времени, пока они продвигались по туннелю, были своего рода заклинанием, позволяющим ей сосредоточиваться на своих усилиях и не терять присутствия духа.
Туннель снова сузился, но зато потолок его стал выше, и благодаря тому, что свободное пространство над ним увеличилось, Джон Грант смог подняться на колени. Вскоре треугольник света заполнился яркой голубизной неба, и Джон Грант, облегченно вздохнув, пополз к нему.
Он подобрался к выходу из туннеля на коленях, словно кающийся грешник, и оказался на выступе почти отвесной скалы, возвышающейся над широким ущельем, по которому далеко внизу течет широкая коричневая река. Расположившись на этом выступе, он стал чем-то похож на еще не умеющего летать птенца, сидящего в гнезде. Юноша сделал глубокий вдох, радуясь солнечному свету и безграничному свободному пространству. Задрав голову и посмотрев вверх, он увидел довольно гладкую скалу и понял, что забраться на ее вершину попросту невозможно. Выступ, на котором он сидел, по своей ширине был не больше его роста. Услышав, как позади него ползет Ленья, он повернулся к ней и сказал:
– Осторожно.
Она вылезла из туннеля на выступ скалы и сделала то же самое, что только что сделал он, – посмотрела сначала вниз, на реку, а затем вверх. После этого она отодвинулась назад и прислонилась спиной к скалистой стене рядом с отверстием. Джон Грант сидел молча. В его голове появился какой-то тихий рычащий звук, похожий на шум течения горной реки. Он смежил веки и стал глубоко дышать, мысленно благодаря небеса и радуясь тому, что вокруг него теперь так много свободного пространства.
Прошло некоторое время, прежде чем он почувствовал, что может открыть глаза. Усевшись поудобнее, он стал разглядывать противоположную стену каньона.
– Почему ты делаешь это? – спросила она. – Почему ты приехал сюда и стал меня разыскивать?
Он продолжал смотреть на скалистую стену, а точнее, на какие-то растения и маленькие деревья, которые, цепляясь за ее поверхность, создают жизнь там, где почти ничего нет, кроме камня.
– Я потерял слишком много близких людей, – ответил он.
– Мы едва не потеряли здесь еще двоих, – усмехнувшись, заметила она.
Он засмеялся, но это был горький смех.
– Я знал, что мы сможем выбраться на эту сторону скалы, – после паузы произнес он. – И я был прав, не так ли?
– Тебя можно счесть храбрецом уже за то, что ты попытался это сделать, – похвалила она его и добавила: – Вряд ли я решилась бы пойти на такое, если бы была одна.
– Как выяснилось, я тоже не сумел бы сделать это один.
Она увидела, что он стал играть с кольцом на своем пальце, медленно поворачивая его то в одну сторону, то в другую.
– Но если бы ты не приехал сюда и не стал бы искать меня, ты никогда бы не оказался в этом месте. – Она вздохнула, вспомнив, с каким трудом они преодолели этот путь.
Он кивнул.
– Знаешь, мне нужно помнить о том, что кое-кто из тех людей, с кем я был близок и кого я помню, не были мне родными, – сказал он.
– Они любили тебя. Они отдали свои жизни ради тебя.
– Их жизни у них забрали, а это не одно и то же.
– Почему ты приехал сюда и стал искать меня? – снова спросила она.
– А разве я мог поступить иначе?
Она покраснела и прикоснулась к своему разгоряченному лицу.
– Мы чужие друг для друга, – глухо произнесла она.
– Я тоже проводил свою жизнь с чужими для меня людьми, – сказал он. – Я любил Джесси Грант. Я любил Бадра Хасана. Но они не были моими родными людьми.
– Говорить так – неучтиво, – с укоризной в голосе произнесла она. – Они не были обязаны любить тебя. Но они осознанно любили тебя, а это еще более ценный дар.
Он пристально посмотрел на нее, и, когда их взгляды встретились, она увидела в его глазах вопрос.
– Ты все еще не рассказала мне о моем отце, – напомнил он. – О Патрике Гранте.
– Ты говорил, что он спас жизнь Бадру Хасану.
Юноша кивнул.
– Ну так вот, перед этим он спас жизнь мне.
– Расскажи об этом, – попросил Джон Грант.
– Сначала скажи мне, куда ты направляешься, – потребовала она.
Его плечи опустились, и он с унылым видом произнес:
– Мне нужно рассчитаться с кое-какими долгами. В Константинополе… живет одна девушка.
– Ты ее любишь? – спросила Ленья.
Задавая этот вопрос, она испытала довольно неприятное ощущение – как будто внутри нее то скручивался, то раскручивался хвост змеи.
– Люблю ее? Да я с ней даже не знаком!
– Тогда кто она?
– Она – его дочь, – сказал он. – Дочь Бадра Хасана. Ее мать звали Изабелла. Он попросил меня найти ее. И позаботиться о ней.
– Чтобы добраться отсюда до Константинополя, нужно проехать аж половину мира, – заметила Ленья. – Каким образом ты собираешься туда попасть? У тебя теперь нет даже лошади.
– Я путешествую налегке. Мне нужно всего лишь добраться вдоль этой реки до моря и затем найти в каком-нибудь порту судно, которое направляется на Восток и капитану которого нужен еще один матрос.
Юноша посмотрел ей в глаза, но по тому выражению, которое он в них увидел, он не смог понять, как она отнеслась к его словам.
– Я рассказал тебе о том, куда я направляюсь, – сказал он. – Теперь ты должна рассказать мне о моем… моем отце.
Не проронив ни слова в ответ, Ленья встала, сделала шаг вперед и прыгнула в пропасть. Джон Грант, охнув, вскочил в надежде удержать ее. При этом едва не потерял равновесия и сам не рухнул в пропасть. Устояв на ногах, он тяжело опустился на корточки. К тому моменту, когда он это сделал, до него донесся всплеск, и юноша, склонившись над пропастью, увидел появившуюся на поверхности воды голову. Ленья посмотрела на Джона Гранта, сидящего на каменном выступе, подняла обе руки из воды и поманила его к себе.
– Я следовала за
тобой! – крикнула она, и ее голос эхом отразился от стен каньона.
Он встал и посмотрел вниз, на текущую воду.
– А теперь ты последуй за
мной, и я расскажу тебе то, что ты хочешь знать!
Река уже отнесла ее немного в сторону, и произнесенные ею слова были заглушены шумом бурного течения. Однако Джон Грант все-таки услышал их.
Он сделал три шага назад – пока не почувствовал каменную стену позади себя, – а затем бросился вперед и прыгнул в пустоту.
Ленья посмотрела вверх в тот момент, когда он оторвался от каменного выступа, и на один миг, перед тем, как началось падение, ей показалось, что он застыл в воздухе, – как насекомое в пузырьке воздуха внутри куска янтаря. Эта картинка останется в ее памяти до конца ее дней: юноша, парящий в пространстве между небом и землей.
Но чаще всего она будет вспоминать о том, как он всецело отдался ощущению полета, который длился лишь пару мгновений, пока тело летит еще не вертикально вниз, а почти горизонтально. Его голова была откинута назад, и он смотрел не вниз, в мрачную глубину, а вверх, в бесконечность.
Его руки были разведены в стороны, и поэтому он чем-то напоминал распятого Христа, охваченного экстазом агонии… Эта пара мгновений промелькнула, и Джон Грант полетел вертикально вниз.
Часть третья
Осада
26
Константинополь, 1453 год
– Расскажи мне об этом толстом турке и о том, как он утопил того несчастного младенца.
– Это был не младенец. Ему было два года от роду. Этот маленький черноволосый мальчик уже умел ходить и говорить.
–
Почти два года от роду – так ты мне всегда говорил. Для меня это все еще младенец.
Она устроилась рядом с ним на постели и, затаив дыхание, словно ребенок в ожидании сказки, приготовилась слушать.
И он начал рассказывать… Начал так, как начинал всегда:
– Что-то из этого наверняка является правдой, а что-то вполне может быть и вымыслом, но это все, что мне известно…
Его пальцы стали проворно двигаться в темноте – и какой-то черный силуэт замельтешил по голубому небу, нарисованному на потолке над их головами. Тень, изображающая данный персонаж, могла показаться комической: необычайно толстая, с тыквообразной головой и с огромным тюрбаном на ней.
Слушательница зашипела при виде злодея и придвинулась поближе к рассказчику.
Имея в своем распоряжении лишь бумажные фигурки, собственные ловкие руки и прямоугольные металлические и стеклянные зеркала, он стал талантливым иллюзионистом. Его персонажи-тени появлялись и исчезали, танцевали и сражались, летали и бегали. В темноте комнаты его искалеченное тело не было преградой для этого искусства, и в течение всего времени, пока фигурки двигались и жили, подчиняясь исключительно его воле, он был своего рода маленьким богом, полновластным повелителем создаваемых им теней. Эта комната стала для них их собственным миром – миром, разделенным на свет и тьму, на реальные формы и тени.
– Али-бей, мужчина средних лет, был лидером для людей, которые находились рядом с ним. На своей родине он был бы тем, кто распоряжается и подчиняет окружающих своей воле. Однако теперь он редко испытывал чувство собственного превосходства. Он утрачивал его так же неумолимо, как его лысеющий череп постепенно терял волосы в тех количествах, которые не могли не вызывать тревоги. Чувство собственного достоинства покидало этого человека подобно тому, как сползает мертвая кожа со змеи.
Фигурка Али-бея тут же была заменена на тень змеи, сбрасывающей кожу и становящейся еще длиннее и толще.
Слушательница зарылась чуть поглубже в постельное белье, убаюканная знакомыми словами и едва не загипнотизированная взаимодействием его голоса, света и тьмы. Звуки города вокруг них казались доносящимися откуда-то издалека и не имеющими никакого значения по сравнению с тем, что происходило здесь, в пахнущем жасмином полумраке его спальни.
– Прожив уже явно больше половины своей жизни, Али-бей чувствовал, что она не удалась. Являясь сыном вождей, он когда-то уверовал в то, что ему суждено прославиться.
Тень толстяка Али-бея взлетела ввысь, вдруг приняв уродливые формы и повиснув над толпой из малюсеньких фигурок.
– В его любимом сне он парил над своими соотечественниками, и им приходилось задирать голову, чтобы его увидеть.
Слушательница приложила руки в виде чашки ко рту и презрительно шикнула.
– Здесь же, среди великолепия дворца в Эдирне, стремительно шагая мимо элегантных внутренних дворов и квадратных площадок, он был всего лишь одним из слуг султана.
Толстый силуэт Али-бея неожиданно трансформировался в силуэт молодого человека, стройного и сильного, а тени менее значительных людей упали к его ногам.
– В своей молодости он прославился как борец, и его сила и проворство еще не совсем покинули его. Даже будучи теперь толстым, как свинья, он двигался с грациозностью женщины. Однако если раньше плечи были самой широкой частью его тела, то теперь окружность его талии превысила по своей длине окружность груди.
Слушательница должным образом освистала покидающего сцену молодого борца, растолстевшее подобие которого осталось на сцене и проводило его взглядом.
– Наконец он подошел к двойным дверям гарема.
Пара дверей-теней раскрылась, и в них появилась фигура, в которой чувствовалось напыщенное самолюбие.
– Неожиданно путь толстяку преградил евнух по имени Кадир. «Что тебе нужно здесь, Али-бей?» – спросил евнух.
Голос у евнуха получился очень высоким, почти визгливым. Его тень была такой же толстой, как и тень Али-бея, но при этом мускулистой и с бритой головой – гладкой, как яйцо. Его фигура на мгновение увеличилась в размерах, тогда как фигура Али-бея переместилась куда-то в сторону.
– Али-бей еще даже не успел пройти через дверь, а тон голоса евнуха уже был раздраженным. Какая здесь, в помещениях, предназначенных для женщин, будет атмосфера, когда он закончит то, ради чего он сюда пришел? Кадир, в обязанности которого входило следить за всем, что происходит в гареме, произнес имя Али-бея как какое-то оскорбление. Евнух был настоящим верзилой – на полголовы выше Али-бея. Он медленно сложил руки на своей груди.
«Тук-тук-тук» – стук ногтя о деревянную раму кровати изобразил шаги Кадира по выложенному плиткой полу.
Тени слились воедино – слились как-то забавно, – а затем разошлись: Али-бей оттолкнул Кадира и пошел дальше.
– Вместо того чтобы что-то ответить, Али-бей прибег к еще не полностью утраченным им навыкам борца, которым он когда-то был, и, схватив своего противника, отбросил его в сторону. Кадир хотя и был евнухом, но пользовался уважением на протяжении половины своей жизни, и здесь, на подконтрольной ему территории, подобная наглость была просто невообразимой. Толстяк тем не менее уже прошел мимо него и стал заглядывать в дверные проемы и коридоры, ведущие во всех направлениях. Он вдруг повернулся к евнуху. «Где Маленький Ахмет?» – спросил он, тяжело дыша после недавней схватки. «Тебе здесь нечего делать, Али-бей», – ответил евнух. Его гнев нарастал, и он был готов снова броситься на толстяка. «Мне позвать стражников, чтобы они выволокли тебя отсюда на твоем толстом животе?» – не унимался евнух. «Я здесь по поручению султана, – заявил Али-бей. – Мать мальчика находится в тронном зале, ее привели туда по приказу Его Величества, и он отправил меня забрать этого ребенка. Где Маленький Ахмет?» – спросил он в последний раз. Кадир улыбнулся. Заявление о том, что Мехмед якобы отправил этого мужчину – да и любого другого мужчину – забрать ребенка из гарема, было попросту смехотворным. Однако что-то в настырности Али-бея заставило евнуха насторожиться.
Тени слились воедино во второй раз, и вспышка света, созданная с помощью резкого движения запястья иллюзиониста, изобразила то, как сверкнула сталь.
– Когда Кадир встал в позу, которая, как он полагал, изображала неторопливое раздумье, Али-бей быстро шагнул вперед и ударил евнуха чуть ниже грудной клетки. Евнух, отброшенный ударом, едва удержался на ногах. Он поднял руку, чтобы потереть ушибленное место, и почувствовал там какую-то влагу. Посмотрев вниз, он удивился – всего лишь удивился тому, что его рука оказалась вымазанной в крови. Он вскинул голову и посмотрел на Али-бея. И только в этот момент он увидел поблескивающий клинок, который, мелькнув, словно проворная рыбка, исчез в мокрых от пота складках одежды толстяка. Кадиру, конечно, захотелось очень многое сказать Али-бею. Но его рот только открылся и закрылся, причем дважды. «Как у рыбы», – подумал он.
Теперь тень евнуха стояла одна на фоне нарисованного неба, а солнце, луна и звезды перемещались над его головой.
– Он вдруг, причем впервые за долгие годы, вспомнил, как стоял закопанный по самый подбородок под палящим солнцем после того, как священники схватили его и отрезали его член, похожий на маленького морского конька, и его яички, похожие на высушенные плоды. Мучительная агония, которую он испытал, когда в рану была вставлена бамбуковая палочка, уже давно осталась позади, но тепло, исходящее от раскаленного песка, в который его закопали по самую шею, накатывался на него подобно жару из печи пекаря. Кадир, главный евнух и доверенное лицо султанов и их жен, мысленно вернувшийся в то время, когда ему было восемь лет от роду, умер еще до того, как упал на пол, сильно ударившись лицом.
Движущаяся тень, изображающая падение евнуха, была одновременно и трагичной, и грациозной. Аудитория рассказчика – аудитория, состоящая всего из одного человека, – ахнула. Девушка закрыла лицо руками – она всегда так делала в этот момент повествования.
Фигурки-тени не использовались при рассказе об убийстве маленького мальчика – звучали только тихие слова, и показывалось небо с облаками, птицами и безжалостным солнцем в его центре. Приглушенный шум, доносящийся из-за окна – крики торговцев на рынке, стук подкованных копыт на выложенных булыжником улочках, голоса прохожих, – мог восприниматься как горестные стенания и вопли плакальщиков.
– В конце наступил момент, когда – пусть даже ненадолго – тишина и спокойствие сменили неистовство борьбы. Все ощущения исчезли, и Маленький Ахмет как бы завис в тишине и теперь парил в ней. Толстяк ушел, и к Маленькому Ахмету уже никто не прикасался и не заталкивал его под воду. Он плавал на поверхности с разведенными ногами и руками. Он лежал в воде лицом вниз, и его волосы были похожи на отростки какого-то водного растения. Когда он дергался и отбивался, его веки очень плотно сомкнулись, что было еще одним проявлением сопротивления, но боль и страх уже ушли. И хотя его легкие наполнились водой, он не задыхался. Это время уже прошло. Он сейчас существовал в воде подобно тому, как до своего появления на свет существовал в жидкости внутри утробы. Благодаря теплившейся в нем жизни, его память все еще работала. Его угасающие глаза открылись навстречу мерцающему свету, и, всматриваясь в этот свет, он услышал ее голос – чистый, как звучание колокола. Он не мог видеть ее лица – он видел только мерцающий свет, – но ее голос доносился до него со всех сторон. Как только он услышал, что она зовет его по имени, он начал опускаться глубже, медленно погружаясь в теплую неподвижную воду и устремляясь к источнику света и звука. Он не испытывал страха.
В течение некоторого времени рассказчик и слушательница лежали молча, позволяя произнесенным словам занять место в их мозгу, – так, как занимает места прилетевшая на дерево стайка птиц.
– А что с Али-беем? – после паузы спросила слушательница.
– Султан казнил его. Приказал повесить, как тебе прекрасно известно.
– Хотя именно он, Мехмед, приказал убить этого своего маленького единокровного брата, – сказала она.
– Да, именно он, – подтвердил рассказчик, зная, что она любит слушать одно и то же снова и снова. – И разве тебе не кажется, что казнь Али-бея позволила его мечте сбыться: ему ведь удалось посмотреть сверху вниз на своих соотечественников, причем даже на тех, кто был главнее его. Его мечта сбылась, когда он смотрел на их задранные вверх головы, хотя при этом чувствовал, как веревка стягивается вокруг его шеи. Правда, это было последним, что он видел в своей жизни.
– А того малыша и в самом деле называли
Маленький Ахмет? – поинтересовалась она. – От этого все кажется еще более грустным.
– Он был последним сыном, зачатым его отцом. К тому же этот старик был тогда ближе к смерти, чем к жизни. Кроме того, Ахмет родился раньше срока, не издал после родов ни звука и вообще был очень вялым существом. Никто даже не ожидал, что он выживет и не умрет вскоре после рождения.
– Мать, однако, любила его, – произнесла она с тоской в голосе.
– Как бы там ни было, он выжил. И его любили.
– Так вот каков наш враг, – сказала она. – Человек, который способен убить своего собственного единокровного брата, младенца, и все ради того, чтобы обезопасить свое пребывание на троне.
Снова повисло молчание, а затем он сказал:
– Они все так делают. Именно это превращает их в мужчин.
– Ты ошибаешься, – прошептала она. – Именно это превращает их в султанов… и императоров.
Они лежали вдвоем в
темноте – юноша и девушка в темной спальне.
Высокий потолок этой комнаты был залит светом, и казалось, что здесь сосуществуют два мира: мир, в котором всегда день, и мир, в котором всегда ночь, и два времени: прошлое и настоящее.
Мы теперь удаляемся от них – удаляемся в сторону и вверх, – и их комната предстает перед нами как часть построенного из белого камня дворца. Трудно сказать, то ли этот камень белый сам по себе, то ли его делает таким бездушный свет по-зимнему бледного солнца. Мы поднимаемся еще выше, и их город, который когда-то был величайшим городом в мире, предстает перед нами как паутина улиц, улочек и переулков, где теснятся большие и маленькие здания и судьбы.
По мере того как мы поднимаемся еще выше по все более растягивающейся спирали, становится видно место расположения города на местности. Он находится в конце треугольного полуострова, похожего по своей форме на морду и рог носорога. Этот широкий короткий рог выдается далеко в море, и поэтому с обеих сторон его омывает вода. Перешеек полуострова – ну, то есть горло носорога – пересекается от края до края большой белой стеной, похожей то ли на ошейник, то ли на мертвенно-бледный шрам. К этой стене текут неодолимым потоком полчища людей и животных – собранные воедино силы султана Мехмеда II.
Уже апрель, но весна в этом году не торопится, а потому все вокруг такое же, как зимой. Миллион пар топающих копыт и шагающих ног разводят слякоть, которая здесь повсюду, ибо люди устремляются во всех направлениях. Продвижение людей и животных вперед медленное и мучительное. Оно сопровождается криками и стонами путников, жалобным ревом вьючных и тягловых животных.
Сколько бы им ни потребовалось времени и усилий, их наступление на город и его стены не остановится.
27
Если смотреть с большой высоты, она похожа на муравейник, прицепившийся к крутому склону. Белая конструкция, вздымающаяся в небо и окруженная тысячами и тысячами маленьких существ, движущихся по каким-то определенным линиям или же собирающихся кучками. В некоторых местах эти линии переплетаются или же перекрещиваются, и в этом чувствуется какая-то цель и преднамеренность. Ни одного мгновения не тратится впустую по мере того, как они работают без устали в едином порыве, вдохновляемые, по-видимому, одной общей целью.
Снижаясь к земле и к этому мощному объекту, мы видим, что здесь возводится крепость из светлого камня, окруженная массивными стенами. Существа, энергично передвигающиеся во всех направлениях, – это не муравьи, а люди. Перед нами Румелихисар – большая турецкая крепость, выросшая едва ли не так же быстро, как гриб-дождевик после дождя.
С того момента, как чуть больше четырех месяцев назад здесь закипела работа, шум лихорадочного строительства никогда не затихал. Днем люди трудятся под безжалостным солнцем. Каменщики и их подручные готовят известковый раствор; плотники, столяры и кузнецы изготавливают и заостряют свои инструменты; подносчики раствора, чернорабочие и представители пары десятков прочих специальностей тоже трудятся в поте лица.
Османы так сильно горят желанием поднять этот сжатый кулак в небо – и тем самым бросить тень Бога на остатки Византийской империи, – что даже знатные приближенные султана работают не покладая рук рядом с людьми гораздо менее значительными.
Христиане могут лишь наблюдать за ними со стен самого Константинополя, находящегося всего лишь в шести милях от места осуществления этого очередного смелого замысла их врагов-мусульман, и молиться.
С их точки зрения, это настоящее чудовище. Оно растет угрожающе быстро – так, как разрастается раковая опухоль, – и ходят слухи, что там видели даже самого Мехмеда и что якобы он, раздевшись по пояс, укладывал камни голыми руками. Строительство ведется и ночью, но уже при свете целой тысячи костров и ста тысяч светильников.
Как и все его предшественники, султан Мехмед II всю свою жизнь мечтал о Константинополе. Пророк пообещал этот город своим приверженцам давным-давно, и с тех пор это было частью борьбы за распространение ислама и частью мусульманской веры. Мусульмане должны схватить своими руками христианскую шею и, сдавив ее, лишить жизни…
Из окна покоев принца Константина во Влахернском дворце в Константинополе уже можно было видеть вершины трех башен с покрытыми свинцом крышами, которые гордо высятся над новой турецкой крепостью. Ее стены вздымаются вверх почти от самых волн, накатывающихся на берег Босфора, и тянутся от них вверх до гребня холма, находящегося на высоте более шестидесяти ярдов от воды.
Принц лежал в своей постели на множестве подушек, а его наставник Дука стоял возле одного из высоких окон, которое – единственное из всех – не было полностью закрыто шторами. Константин жаловался на яркий солнечный свет, и Дука, осторожничая, позволил лишь узкой полоске этого света проникнуть в комнату. Дука стоял не на полу, а на расположенном возле окна сиденье, чтобы получше рассмотреть через окно то, что находилось вдали от них.
– Как далеко отсюда, по твоему мнению? – спросил Константин.
Дука отвернулся от окна и несколько секунд ничего не отвечал, позволяя своим глазам привыкнуть к царящему в помещении полумраку.
– Не более шести миль, Коста, – сказал он и, снова повернувшись к окну, возобновил свое наблюдение. При этом он то и дело приподнимался на цыпочки. – Я уже размышлял об этом и полагаю, что неверные, похоже, решили построить свою крепость на месте развалин нашей церкви Святого Михаила.
– Прекрасное место, – произнес Константин. – С него открываются красивые виды.
– Именно так, – кивнул Дука. Он был толстым, как какая-нибудь откормленная свинья, и Константин улыбнулся, посмотрев на округлый силуэт своего наставника, похожий на детскую игрушку – юлу.
– Этот султан османов не боится никого и ничего, – продолжил Дука. – Он делает то, что ему заблагорассудится, тогда как твой отец, император… – Его голос дрогнул.
– Не делает ничего, Дука? – спросил Константин. – Именно это ты собирался сказать?
Наставник сделал вид, что не услышал этого вопроса, и промолчал.
– Не забывай, что Константинополь столетие за столетием неизменно отгонял от себя тень кривой мусульманской сабли, – с вызовом произнес Константин. – Почему мой отец стал бы сомневаться в надежности укреплений города сейчас, после того как они прослужили нам надежной защитой на протяжении столь долгого времени?
Дука, ничего не ответив, стал описывать новую крепость.
– Стены в их верхней части равны по своей ширине трем мужчинам, уложенным один за другим голова к ногам, – сказал он. – По высоте они равны восьми мужчинам, стоящим друг у друга на плечах. Башни – еще выше. Это и в самом деле какое-то чудо.
– Я слышал, что и в приготовлении известкового раствора тоже не обошлось без колдовства, – вставил Константин.
Дука повернулся к нему и увидел, что глаза принца расширились, а рот приоткрылся, обнажив поблескивающие зубы.
– Ты меня иногда удивляешь, – сказал наставник, переводя свой взгляд на крепость и щурясь от солнечного света. – Удивляешь тем,
что тебя интересует.
Константин в ответ усмехнулся и продолжил:
– Говорят, что в известковый раствор примешивают баранью кровь. Она приносит силу и удачу.
– В этом вряд ли имеется какое-либо волшебство, – сказал Дука. – Это всего лишь языческие предрассудки – не больше и не меньше. Черт бы их всех побрал.
– А какая конфигурация у этих стен, которые тебя так сильно впечатляют? – спросил Константин. – Я слышал, что в их очертаниях можно различить два переплетающихся имени – имя султана и имя Пророка, которому он служит…
– Для человека, проводящего так много времени в затемненной комнате, ты знаешь уж слишком много всяких досужих домыслов, – ворчливо произнес Дука.
– Бог не позволяет подданным моего отца держать меня в неведении, – сказал Константин.
Дука слез с сиденья, на котором стоял, и подошел к кровати.
– Никогда не обращай внимания на пустую болтовню простонародья, – заявил он, садясь возле принца. – Факты, они еще более зловещие, чем любые фантазии. Султан Мехмед построил эту свою крепость там, где ее можно увидеть с наших стен, – на расстоянии не более шести миль от бухты Золотой Рог. И свое жуткое творение он назвал «Румелихисар», то есть крепость на земле римлян! Ни один капитан не осмеливается проплыть мимо этой османской крепости, не позволив туркам осмотреть его корабль, проверить его груз и взыскать пошлину. На стенах установлены артиллерийские орудия – такие, говорят, большие, что ядра из них долетают до другого берега пролива. Ни один корабль не может прошмыгнуть без разрешения, не подвергая себя при этом серьезному риску.
Теперь, когда глаза Дуки полностью привыкли к полумраку, он заметил, что принц рассматривает лист пергамента, прикрепленный к доске. На этом пергаменте был нарисован план новой крепости и прилегающей к ней территории.
– Ты не можешь не восхититься дерзостью этого человека, – сказал Константин, постукивая пальцем по контурам крепости Румелихисар. – Он построил ее как раз там, где пролив самый узкий, – в Священном Горле.
– Ты слышал, как люди стали называть эту крепость? – спросил Дука.
Константин оторвал взгляд от плана и покачал головой.
– «Боаз Кесен», – сказал его наставник. – «Перерезающая горло».
– О-о, мне это нравится, – усмехнулся Константин. – Звучит воинственно.
Дука, не скрывая своего раздражения, уставился на него.
– А я называю ее опухолью, – произнес он. – Опухолью в Священном Горле.
28
Находящийся в зоне прямой видимости из окна комнаты Константина, но слишком маленький, чтобы его можно было заметить с расстояния в шесть миль, человек, сидящий на красивой белой кобыле, осматривал самый новый символ из его замыслов.
Это был Мехмед, герой всего мира, сын Мурада, султан, сын Султана газиев
[24], повелитель четырех сторон света. Будучи двадцати одного года от роду, он вот уже девять лет был султаном. У его кобылы, которую звали Хайед, что означает «движение», сейчас была течка, и она все никак не могла угомониться под ним. Она поворачивалась то в одну сторону, то в другую и иногда даже вставала на дыбы.
– Да успокойся ты, Хайед! – рявкнул он.
Мехмед был сильным человеком и умелым наездником, и это неподчинение воле султана заставило его улыбнуться. Он пустил в ход свои колени и пятки, чтобы заставить кобылу успокоиться.
Она наконец-таки притихла, и он погладил ее шею, пропуская между пальцами длинные жесткие волосы ее гривы, пахнущие конским потом.
И тут вдруг утреннюю тишину разорвал грохот выстрела. Хайед снова встала на дыбы, и Мехмеду пришлось привстать в стременах и наклониться вперед, к ее шее, чтобы не опрокинуться. Когда кобыла опустилась на все четыре копыта, он повернул голову туда, откуда донесся этот звук. Это громыхнуло одно из его тяжелых артиллерийских орудий, установленных в новой крепости на стене, обращенной к морю. К небу поднялась тонкая струйка дыма, позволяющая определить, откуда был сделан выстрел.
Взглянув на пролив налево от себя, он увидел, почему его артиллеристы открыли огонь. Со стороны Черного моря плыла – так быстро, как только ее могли нести вперед весла, – маленькая легкая галера, похожая отсюда, с высоты этого берега, на какого-то водяного жука. Мехмед насчитал на ней три паруса. Они все были наполнены ветром, дувшим как раз в ту сторону, куда двигалось по проливу это небольшое судно, – в сторону Великого Города.
Галера продолжала идти вперед, и теперь стали доноситься угрожающие крики воинов Мехмеда, предупреждающие ее экипаж о том, что произойдет, если он попытается уклониться от предъявления судна к осмотру и уплаты пошлины. Прогремел еще один выстрел, и на этот раз время предупреждений уже явно прошло: каменное ядро весом почти в полтонны пролетело от носа галеры на расстоянии не больше человеческого роста.
Несколько мгновений спустя еще одно ядро, которое было таким же большим, как и предыдущее, и которое двигалось достаточно медленно для того, чтобы его полет над белыми барашками волн могли увидеть острые глаза Мехмеда, попало в галеру. Ее корпус треснул, как яичная скорлупа, и в образовавшийся проем хлынула морская вода.
Султан с равнодушным видом наблюдал за тем, как поврежденное судно медленно переворачивается вверх дном, а малюсенькие фигурки суетливо подбегают к бортам и прыгают вниз. Оказавшись в воде, они отчаянно пытались доплыть до берега или же хватались за плавающие на поверхности деревянные обломки судна. Не прошло и минуты, как галера ушла на дно, и теперь лишь барахтающиеся в воде люди и плавающие обломки свидетельствовали о том, что она когда-то существовала.
Хайед, как ни странно, успокоилась при виде этой сцены, словно она тоже наблюдала за происходящим на море и решила, что результат вполне соответствует ее собственному настроению. Мехмеду даже пришлось с силой ударить ее каблуками сапог по бокам, чтобы заставить пуститься трусцой вниз по склону к входу в крепость.
Когда он проезжал мимо вооруженных стражников, стоящих на своих постах, те опустили головы, стараясь не встречаться с ним взглядом. Мехмед проскакал, не снижая скорости, через ворота с элегантным сводом в северо-западной башне и поехал по выложенной булыжником главной улочке крепости. Несмотря на то что эта крепость строилась с максимально возможной поспешностью, каменщикам был отдан приказ создать нечто красивое и достойное самого Бога.
Мехмед бросил взгляд за пределы оборонительных сооружений и увидел на противоположной стороне пролива поблескивающую на солнце крепость Анадолухисары, построенную его прадедом, султаном Баязидом, полвека назад. Теперь в результате затеянного уже им самим строительства еще одной крепости получалась пара каменных рук, при помощи которых можно было свернуть неверным шею.
Он стал думать о Баязиде, попытка которого взять осадой Великий Город закончилась поражением, – как впоследствии закончилось поражением и многое другое в его жизни. Мысленно вернувшись к тем временам, когда его прадед отправился со своим войском на битву с монголом Тимуром Хромым, был наголову разбит и провел остаток своей жизни в клетке, которую тащили вслед за собаками победителя, Мехмед сплюнул, тем самым выражая свое презрение к памяти о завоевателе Тимуре. Затем он с силой ударил Хайед каблуками в бока и помчался вперед.
К тому моменту, когда он доехал до стены, обращенной к морю, с небольшого судна, управляемого его людьми, уже вылавливали из воды барахтающихся в ней людей с потопленной галеры. Десятки воинов и облаченных в красивые одежды чиновников наблюдали за этим с высоты оборонительных сооружений, одобрительно хлопая и крича. Они так увлеклись, что не сразу заметили появление султана. Наконец-таки увидев его, они с шумом бросились к нему со всех сторон, чтобы помочь Мехмеду слезть с коня.
Однако султан при их приближении отрицательно покачал головой, а Хайед, все еще пребывая в дурном настроении и капризничая, попятилась от бегущих к ней людей.
– Не надо мне помогать, – сказал Мехмед, легко спрыгивая с лошади и поправляя свою одежду. – Давайте посмотрим, кто самым первым проявил неуважение к нашей власти.
Мехмед решил принять пленников в караульном помещении на первом этаже массивной двенадцатиугольной башни, которая возвышалась над береговой линией в средней части крепостной стены, обращенной к морю. Там он уселся на высокий деревянный табурет. Края его небесно-голубого одеяния касались каменных плит возле его ступней, и поэтому он был похож на птицу со сложенными крыльями, сидящую на жердочке. Его лицо, длинное и худое, с орлиным профилем, а также крючкообразный нос, напоминающий по своей форме клюв, делали его еще более похожим на птицу.
Его приближенные, возможно, побаивались молодого султана, но в то же время не могли не восхищаться его достоинствами. Хотя Мехмед отличался упрямством и вспыльчивостью, он был умным и образованным человеком. Проявляя большой интерес к учебе еще с раннего детства, он овладел несколькими языками, писал стихи и прочел очень много книг. Исторические хроники о походах Александра Македонского он знал едва ли не наизусть. Султан также обладал немалыми познаниями в области истории, географии, точных наук и инженерного искусства.
Рядом с ним сейчас находилась дюжина вооруженных стражников, однако, судя по самоуверенному выражению его лица, он не чувствовал необходимости в подобной защите. Было тихо, и звуки железных оков, чиркающих о каменные плиты, вскоре сообщили о приближении пленников. Мехмед сидел с рассеянным видом, таращась на свет, падающий из окна, расположенного высоко в одной из стен, но он тут же перевел взгляд своих карих глаз на дверь, когда пленники стали заходить в помещение вслед за двумя крепко сложенными и мускулистыми стражниками, держащими в руках кривые сабли.
– Сколько их? – спросил он, глядя на людей в мокрых и помятых одеждах, постепенно заполняющих комнату.
У них были оковы на запястьях и лодыжках, а с одежды капала вода. Среди них был мальчик лет десяти. Пока они выстраивались в шеренгу перед султаном, каменные плиты пола караульного помещения слегка потемнели от капающей с их одежды воды. Эти плиты были красными, и расползающиеся во все стороны лужицы воды на них были похожи на только что пролившееся вино. Или на кровь.
Мехмед стал всматриваться в лица стоящих перед ним людей. Все они были черноволосыми, кроме мальчика, волосы которого имели светлый оттенок. Султан сразу заметил внешнее сходство между ними – как будто в плавание на том судне отправились люди, которые приходились друг другу братьями, отцами и сыновьями.
– Экипаж в составе двадцати пяти человек, Ваше Величество, – сказал чиновник, зашедший в помещение после пленников и затем вставший настолько близко к султану, насколько ему позволила его смелость. – Плюс их капитан.
При упоминании капитана один из пленников, стоящих в середине шеренги, приподнял свой заросший щетиной подбородок. Мехмед заметил это и обратился непосредственно к этому человеку.
– Как тебя зовут? – спросил он.
Мужчина сначала посмотрел султану прямо в глаза, а затем ответил на заданный вопрос.
– Я – капитан Антонио Риццо, Ваше Величество, – сказал он. – Наш родной порт – Венеция. Мы плаваем по этому маршруту много раз каждый год.
На вид ему было лет тридцать. Его темные вьющиеся волосы уже тронула седина, что особенно было заметно на висках. Он не отличался красотой, но его лицо было открытым и по-своему приятным. Мехмед заметил на его запястье тускло поблескивающий серебряный браслет, на шее – серебряный медальон, а на пальце левой руки – серебряное кольцо, и ему вдруг подумалось, что все эти украшения делают этого человека похожим на любовницу. Или на жену.
– Встаньте на колени, – приказал султан.
Риццо бросил растерянный взгляд на своих людей, которые, в свою очередь, уставились на него. Мехмед заметил, что они смотрят на своего капитана с доверием и даже с какой-то теплотой. Они явно намеревались поступить так, как скажет им этот человек.
– На колени! – заорал один из стражников, и все пленники, включая капитана, рухнули на колени, как будто их всех сильно толкнули сзади.
Воцарилась тишина, нарушаемая лишь ударами о каменный пол капель, падающих с мокрой одежды, кончиков носов и волос.
– Тебе известно, что мы запрещаем судам проплывать по этим водам без предварительной уплаты пошлины, – сказал султан.
В его реплике не было вопросительной интонации – он просто сообщил это как факт.
– Да, Ваше Величество, – подтвердил Риццо.
– То есть ты осознанно и открыто бросил нам вызов?
– Мы опаздывали на целую неделю, Ваше Величество, – попытался объяснить капитан. – И везли мы говядину, которая уже начинала портиться. Я намеревался уплатить свой долг на обратном пути.
– Может быть, и намеревался, – согласился султан. – Ну что ж, теперь это мясо хорошо посолено.
Он обратил свой взор на чиновника.
– У нас нет времени ждать, когда нам соизволят уплатить долги, – холодно произнес Мехмед. – Они уплатят его прямо сейчас. А мальчика оставьте.
Чиновник достал из-под мышки тонкую деревянную дощечку и быстренько сделал какую-то запись на прикрепленном к этой дощечке листе пергамента. Мехмеду стало интересно, что же чиновник там написал, но не стал его об этом спрашивать.
– И выставьте этого славного капитана на всеобщее обозрение, – добавил он.
Он поднялся со своего табурета и вышел через дверь. За ним последовали его стражники.
В течение следующего часа все венецианцы были убиты – все, кроме мальчика, чья юность и внешность понравились султану. Это был сын Риццо. Свои светлые волосы он унаследовал от матери. Его разместили в гареме. Риццо посадили на кол, а всех остальных моряков быстренько прикончили мечами. Но прежде чем им отрубили головы, они стали свидетелями расправы над их капитаном, устроенной у всех на виду во внутреннем дворе перед башней. Двое крепко сложенных мужчин заставили Риццо наклониться вперед, связали ему руки за спиной и широко расставили его ноги с помощью деревянной доски, привязанной концами к лодыжкам капитана. Третий мужчина – не такой крепыш, как те двое, но обладающий специальными навыками – засунул в анальное отверстие Риццо заостренный кончик деревянного кола толщиной в его руку. Затем он взял тяжелый деревянный молоток и стал загонять его, как колышек шатра, вглубь брюшной полости венецианца. Риццо был все еще жив и мычал, как брошенный теленок, когда кол подняли в вертикальное положение, и его нижний конец воткнули в заранее подготовленное отверстие между двумя блоками плитняка в крепостной стене. Издалека он мог показаться детской игрушкой, у которой руки и ноги дергаются вверх и вниз, если тянуть за веревочку.
29
Султан не остался смотреть на казнь, он отправился в свою столицу Эдирне, находящуюся в трех днях конной езды на запад от Константинополя. Оставляя за своей спиной «Боаз Кесен» и видя краем глаза, как его свита суетится слева и справа от него на дороге, он улыбнулся, вспомнив о том, как летел огромный каменный шар, ставший роковым для венецианцев и их корабля. Он уже лично видел склад таких каменных ядер, похожих на шарики для какой-то азартной игры, предназначенной для гиганта. Хотя каждое из ядер по своему диаметру и массивности равнялось самому большому дикому кабану, бомбарда
[25] швыряла их через пролив, как какую-нибудь гальку. Ладонь султана машинально сжалась в кулак, когда он подумал о той мощи, которой он теперь обладает. Как от таких ядер разлетаются в щепки деревянные корпуса кораблей, так от них разлетятся на куски и древние каменные стены города, которые оказались неприступными для его предшественников – его отца Мурада, прадеда Баязида и всех остальных.
К концу третьего дня поездки Мехмед и его свита прибыли в Эдирне. Солнце, похожее на медную монету, уже катилось вниз по небосклону, когда он увидел горящие адским огнем печи Орбана. Даже не думая отправляться сразу же во дворец, султан поспешил к толпе людей, непрерывно работающих над тем, чтобы добавлять все новые и новые образцы к его постоянно растущей коллекции огромных бомбард, которые получили название «покорители городов».
Один из бригадиров заметил приближающегося в окружении свиты Мехмеда и громко сообщил об этом суетившимся рядом литейщикам, чернорабочим и другим бригадирам. Все они, тут же прекратив работу, повернулись в сторону султана, опустились на колени и склонили головы. Неподалеку от них стояли два длинных низеньких дивана, на которых сидели и наблюдали за ходом работ доверенные лица султана. Они тоже встали, услышав о приближении Мехмеда, но он помахал рукой в знак того, что его появление здесь не должно отвлекать никого от выполняемой сейчас работы.
«Продолжайте! Продолжайте!» – крикнул он, подъехав к литейной яме, вырытой в специально подготовленном месте неподалеку от городских стен. Когда султан спрыгнул со спины Хайед, все тут же поднялись на ноги, а он поспешно направился к долговязой фигуре Орбана, главного литейщика. Уступая султану в крепости телосложения, Орбан был на целую голову выше Мехмеда, и ему, чтобы поклон был похож на поклон, пришлось наклониться довольно низко.
Мехмеда же сейчас интересовали не знаки почтения со стороны этого человека, а результаты, достигнутые им в работе.
– Ну и как? – спросил султан, глядя широко раскрытыми глазами в сторону литейной ямы.
– Вы решили прибыть сюда очень даже вовремя, Ваше Величество, – сказал Орбан, выпрямляясь и увлекая за собой султана в короткую прогулку вокруг литейной ямы.
Эта яма уже сама по себе была колоссальным творением: ее глубина равнялась совокупному росту пяти высоких мужчин, а ширина – четырех. В ее центре, на уровне поверхности земли, виднелась круглая часть огромного цилиндра, изготовленного из глины, которая была смешана с травой и клочками холста, для того чтобы получалась крепкая литейная форма. Форма эта вообще-то состояла из двух частей, и одна из них находилась внутри другой – как меч в ножнах.
Мехмед увидел внешнюю часть глиняной оболочки, которой с большой тщательностью придали надлежащую форму и которую затем опустили в яму так, чтобы внутрь этой оболочки вошла меньшая по диаметру внутренняя часть литейной формы и чтобы между ними по всей окружности образовался равномерный зазор, подобный зазору из воздуха вокруг пальца в слишком большой для человека перчатке. В это свободное пространство, ширина которого составляла несколько дюймов, будет залита расплавленная медь вместе с расплавленным оловом, которая, остыв, превратится в бомбарду. Вокруг литейной формы было установлено множество громадных бревен, железных прутьев и камней, упирающихся в земляные стенки ямы, с тем чтобы вся конструкция могла выдержать вес бронзы, пока та будет остывать внутри литейной формы.
– Мы сейчас засыплем влажный песок под внешнюю часть литейной формы и вокруг нее, – сообщил Орбан. – Он поглотит часть тепла раскаленного металла и не даст форме треснуть.
Мехмед кивнул. Он слушал Орбана отнюдь не с праздным любопытством. Он активно изучал все, что относится к плавке металла, с того момента, когда Орбан предложил ему свои услуги. Орбан сообщил султану, что освоил данное ремесло в Венгрии – стране, в которой он родился, и признался, что до приезда к нему пытался найти применение своему мастерству в Великом Городе. Однако у императора, который понял важность и нужность того, что мог сделать для него литейщик, не оказалось достаточных средств, чтобы надлежащим образом оплатить предложенные Орбаном услуги. Поэтому Орбан отправился к султану османов.
На Мехмеда этот человек произвел впечатление, и прежде всего своей откровенностью. Сразу же осознав ценность Орбана, султан испытующе посмотрел на него и спросил:
– Это оружие, которое ты, по твоим словам, способен создать, – оно может пробить стены Великого Города?
Орбан кивнул.
– Я в этом уверен, Ваше Величество, – сказал он.
За время, прошедшее с тех пор, Орбан успел изготовить несколько артиллерийских орудий, установленных теперь на стенах крепости «Боаз Кесен». Именно одно из таких орудий и уничтожило недавно корабль венецианцев. Теперь венгр занимался тем, что создавал свой шедевр – самую большую бомбарду в мире.
Мехмед и Орбан наблюдали за тем, как чернорабочие насыпают землю и песок в литейную яму. Они делали это до тех пор, пока не осталось маленькое отверстие, ведущее внутрь самой литейной формы.
Радостно улыбаясь, оттого что все происходит так, как и должно происходить, Орбан заставил подчиненных ему людей переключить свое внимание на две огромные печи, построенные из глиняных кирпичей. Огонь горел в них уже в течение нескольких суток, но рабочие не переставали подкладывать в них древесный уголь, чтобы пламя внутри печей было ярким, как солнце, и чтобы оттуда доносился такой гул, какой, наверное, слышен у входа в ад. Орбан попросил султана не подходить близко, но Мехмед и сам понимал, что ему следует держаться подальше от обжигающего жара.
Его сановники все еще стояли возле двух диванов, ожидая от него каких-нибудь указаний, и он жестом показал им, что они могут присесть. Подойдя к ним, он уселся на трон, установленный на помосте между их диванами, и, обливаясь потом, они стали наблюдать за тем, как у печей трудятся литейщики и истопники.
Люди, облаченные в толстые одежды и похожие на маски головные уборы, скрывавшие все, кроме глаз, тяжелые кожаные рукавицы и башмаки, копошились возле огромных тиглей
[26], установленных по одному в обеих печах. Орудуя длинными, как мачта галеры, деревянными шестами, они помешивали расплавленный металл. Жуткий суп из меди и олова, в который время от времени бросали на счастье золотые и серебряные монеты, бурлил и пузырился. От него поднимался вредоносный дым, и те, кто наблюдал за ним, с большим трудом заставляли себя держать глаза открытыми.
Пока султан в спешке ехал сюда из крепости Румелихисар, Орбан лично руководил подготовкой металла. Вот уже трое суток воздух непрерывно подавался к пламени в печах с помощью воздуходувных мехов силами сменяющих друг друга бригад рабочих. Посмотрев опытным взглядом на бурлящий металл еще разок и удовлетворившись тем, что этот «суп» имеет надлежащий оттенок вишнево-красного цвета, Орбан распорядился начать литье.
Теперь наступил самый опасный и впечатляющий момент всего этого мероприятия, и Мехмед наклонился вперед на своем троне, стараясь защитить лицо ладонями в перчатках настолько, насколько это было возможно, но так, чтобы это не мешало ему следить за процессом. Ему показалось, что его глаза стали сухими, как бумага, и начали болеть.
Литейщики затянули ритмичную песню, взывая к Богу. Взяв длинные шесты с металлическими крюками на конце, они зацепили ими тигли в обеих печах за край и стали осторожно наклонять тигли, пока их жидкое содержимое не потекло по тщательно подготовленным желобам, изготовленным из обожженной глины и ведущим к отверстию, имеющемуся в верхней части литейной формы.
Как только по этим желобам потекли два ярко-красных ручейка, другие рабочие стали бегать взад-вперед вдоль желобов, используя новые длинные шесты для того, чтобы направлять и подталкивать расплавленный металл и изгонять из него пузырьки воздуха, которые могли угодить в литейную форму и привести к появлению слабого места в корпусе отливаемой бомбарды. Все делалось очень тщательно и очень быстро, пока литейная форма не была заполнена целиком и пока излишки расплавленного металла не потекли по поверхности земли, шипя и выбрасывая вверх облачка дыма и пара.
Орбан приказал прекратить литье, и почти тотчас же своего рода пробка, образовавшаяся на вершине литейной формы, начала менять свой цвет и тускнеть, а то, что казалось похожим на движущуюся кровь дракона, стало темным и каким-то безжизненным.
Мехмед, не сумев сдержаться, вскочил со своего трона и побежал к главному литейщику. Почувствовав, а затем увидев приближение султана, Орбан отвернулся от литейной формы и поспешно пошел навстречу Мехмеду, опасаясь, как бы его господин не подошел слишком близко к источнику жара. Мехмед, подбежав к Орбану, ничего не сказал, но по выражению его лица можно было догадаться о том, какой вопрос он не решался задать.
– Я доволен, – сказал Орбан, кивая. – Все идет хорошо.
Мехмед так обрадовался, что, казалось, забыл о том, что он не кто-нибудь, а султан. С мальчишеской горячностью шлепнув главного литейщика по плечу, он затем покачал головой в искреннем восхищении тем, что только что увидел.
– Бог с нами, – сказал он. – Он хочет, чтобы у меня появилось то, что необходимо для осуществления моего замысла.
Орбан склонил голову. Он уже давно приучился выдерживать жар, исходящий от плавильной печи, а вот выдержать пристальный взгляд султана ему было пока не под силу.
Если процесс этого творения был чудом, потрясающим слиянием элементов, то его появление из земли, ставшей для него колыбелью, было довольно невзрачным зрелищем: люди копошились, тягловые животные пыхтели и фыркали. К утру Орбан решил, что металл уже достаточно остыл и что можно откапывать литейную форму. После нескольких часов тяжелого труда под лучами поднимающегося все выше и выше солнца огромная литейная форма была наконец-то полностью откопана. К ее массивному корпусу привязали множество веревок и при помощи лошадей вытащили из ямы наверх, положив рядом на песок.
Султан отбыл во дворец вскоре после завершения процесса литья и там сразу же ушел в свою спальню. Орбан попросил позвать султана, чтобы тот посмотрел на результат недельных усилий после того, как глину литейной формы разбили на куски и удалили как снаружи, так и внутри отлитого артиллерийского орудия. К тому времени, когда Мехмед прибыл вместе со своей свитой, бронзу бомбарды успели натереть так, что она блестела, как золотая. Бомбарда лежала на массивном деревянном настиле, и в ее блеске чувствовалось что-то пугающее. У нее были такие размеры и такой внешний вид, как будто она была изготовлена не людьми, а самим Богом.
Мехмед протянул было руку к ее блестящей поверхности, но его охватило такое благоговение, что он так и не прикоснулся к ней. Он прошелся вдоль всей длины цилиндра и выяснил, что нужно сделать целую дюжину очень больших шагов, чтобы дойти от ее тыльной части до зияющего дула. Заглянув внутрь ствола, он увидел, что туда запросто сможет заползти и перевернуться с одного бока на другой человек его телосложения. Честно говоря, именно это ему и хотелось попробовать, но он вполне обоснованно решил, что это ниже его достоинства.
Султан повернулся к главному литейщику, на лице которого играли блики золотистого света, отражающегося от бронзы.
– Выстрел из этой трубы повалил бы и стены Иерихона
[27], – сказал Орбан.
30
Все еще видя перед своим мысленным взором изготовленную Орбаном бомбарду, Мехмед вернулся во дворец и направился в свои личные покои. Окна в его любимой комнате выходили на три стороны, и все они были открыты, чтобы в помещение попадал свежий воздух.
Мехмед подошел к окну, выходящему на восток, и посмотрел вниз, на внутренний двор. Там на высоком шесте висело и развевалось на ветру искусно изготовленное знамя, в центре которого виднелось изображение заплетенного в косы конского хвоста. Ему вспомнилось, как несколько недель назад он приказал установить здесь это знамя. Когда оно было водружено, все находившиеся поблизости люди возликовали. Их громкий крик, подхваченный внезапно налетевшим ветерком, услышали в разных концах города, и вскоре восторженные голоса жителей слились в единый гул, который прокатился по всем улицам.
Мехмед отошел от окна и с удовольствием опустился на лежащие в центре комнаты подушки. Вновь подул ветерок – на этот раз через окно, выходящее на запад. Он ворвался в комнату и погладил кожу султана. Мехмед представил, как ветерок разносит его распоряжения во все концы государства, словно запах крови.
Уже через несколько минут после водружения этого знамени во все стороны помчались гонцы и глашатаи, разнося весть о том, что султан наконец-то обратил свой взор на самое ценное из всего, что только можно захватить, – Великий Город.
Собираемые по его повелению отряды уже, наверное, приближаются к нему. Из Эдирне он поведет их – и профессиональных воинов, и воодушевленных добровольцев – на Константинополь.
Уже скоро, не позднее чем через час, он снова займется реализацией своего великого замысла и на этот раз не станет отдыхать до тех пор, пока не добьется успеха. Великая бомбарда, самый большой «покоритель городов», была уже готова. Она стала последней частичкой в сложной мозаике, которую он собирал вот уже несколько недель. Когда он снова присоединится к своему войску, он окажется в центре созданного им же самим водоворота. Он станет придавать ему нужную форму и направлять его, будет кормить его, как какое-нибудь живое существо, и выжимать из него как можно больше сил. Он не угомонится, пока не достигнет своей цели или пока не лишится собственной жизни. А пока что – всего лишь несколько минуток – он побудет наедине со своими мыслями. Сам пророк Мухаммед предсказал, что город, созданный Константином, рано или поздно станет домом для людей истинной веры. Мехмед ощутил легкую дрожь и тут же задумался о том, почему он задрожал, – то ли от прохладного ветерка, который подул на него, то ли от осознания воли и милости Бога.
Он знал, что ему не придется использовать принуждение, чтобы собрать возле себя огромное количество людей из всех уголков Анатолии, организовать из них войско и отправить его сражаться за султана. Скорее они явятся сюда так, как приходят гости на свадьбу. Чувство недовольства испытают лишь те, кого оставят дома, сочтя их слишком немощными, слишком старыми или слишком молодыми. Но даже они придут на сборные пункты. Туда придут те мальчишки, которым удастся вырваться из рук своих матерей, и те старики, которые смогут заставить свои старые кости преодолеть многомильное расстояние до сборного пункта, и те калеки, которым будет под силу шагать по каменистым дорогам.
Они прибудут не только потому, что так приказал он, но и из-за возможности отличиться, поскольку город Константинополь, до которого от султанского дворца в Эдирне лишь три дня конной езды в сторону востока, казался правоверным висящим прямо у них перед носом ярко-красным яблоком, самым сладким из всех фруктов. Те, кому посчастливится добраться до него, либо отведают этот плод, либо, сраженные безжалостными клинками неверных, попадут в рай, обещанный только для мучеников.
От этих мыслей Мехмед так разволновался, что его дыхание стало неглубоким и быстрым.
«Их будет так много, как звезд на небе, – пробормотал он. – Мои войска устремятся к стенам Константинополя, словно стальная река».
Он откинулся на подушки, наслаждаясь их мягкостью и прохладой. Как только он выступит в поход, ему придется отказаться от комфортной жизни. Он проведет много недель или, может быть, месяцев – столько времени, сколько понадобится, – в расположении своих войск. Впрочем, несмотря на молодость, ему уже приходилось подолгу находиться среди осаждающего тот или иной город войска и он знал, что его будут окружать вымазанные в грязи и пыли люди, зачастую терзаемые заразными болезнями. Они будут, можно сказать, вариться в собственном соку и терпеть различные тяготы и лишения, пока в конце концов не разрушат стену Феодосия. Только после того, как его стальная река выйдет из берегов и затопит улицы Великого Города, он будет снова наслаждаться комфортом.
Мехмед различил какие-то новые, постепенно усиливающиеся звуки. Поначалу он не обратил на них внимания, решив, что это не более чем обычный шум, доносящийся из других помещений дворца и из находящегося за его стенами города. Однако этот шум неумолимо нарастал, как будто пытаясь протолкнуться на передний план его сознания. Он был немного похож на шум морских волн, ритмично накатывающихся на берег. А еще – на зычный, ухающий рев, который то усиливался, то ослабевал, как бы живя своей собственной жизнью. Султан медленно привстал, уже начиная догадываться. Вдруг все поняв, он вскочил на ноги и снова подошел к открытым окнам. Выглянув наружу, за пределы стен дворца, он увидел людей – сотни, тысячи людей, – а также бесчисленных животных рядом с ними. Его отряды, его люди наконец-то начали прибывать к стенам города. Они приближались к Эдирне походными колоннами. Их знамена развевались на ветру, а трубы издавали пронзительные звуки.
«Началось», – сказал султан, сведя ладони в молитвенном жесте и подняв глаза к небу.
31
Константинополь, апрель 1453 года
Принц Константин полетел высоко над городом, за его стены, а потом над поблескивающими водами Мраморного моря. Прохладный ветерок дул вокруг него и сквозь него, теребя одежду, ероша его волосы и наполняя легкие. Он был свободным, и его переполняла радость от ощущения свободы и бесконечных возможностей. Далеко под ним экипажи выстроившихся в боевой порядок галер отрабатывали свои действия в море. Юркие и быстрые, как морские змеи, они, имитируя нападение, сновали между большими торговыми судами то в одну сторону, то в другую, словно акулы среди дюгоней
[28].
По морю вокруг Константинополя всегда плавало много судов, ибо путешествие по морю было одним из способов попасть туда, в центр мира. Великий Город привлекал к себе непрерывный поток людей. В Константинополь прибывали паломники и торговцы, профессиональные воины и проповедники мира, сумасшедшие и бунтари, нищие и принцы… Они приходили пешком, приезжали верхом на лошадях и ослах, на повозках и на широких спинах слонов, приплывали на кораблях всевозможных размеров и конфигураций. Город, в котором жил он, принц Константин, был неотразимым, и Константин снова восхитился красотой этого города и излучаемой им энергией.
Константин сейчас, конечно же, спал. Сон, в котором он парил в воздухе, был его любимым сном. Он жил полной жизнью, пока длился этот сон, и горевал, когда он заканчивался. Иногда он просыпался постепенно, как бы опускаясь с небес на свою постель, – медленно, словно лист, падающий с дерева в безветренный день. Однако довольно часто его возвращению из сна в реальный мир предшествовало внезапное и умопомрачительное падение головой вниз, к крышам домов, пескам пустыни или увенчанным белыми барашками волнам. Но каким бы ни было его приземление – мягким или твердым, – при каждом возвращении на землю его сердце едва не разрывалось.
Ему также иногда снилось, что он, чувствуя себя невесомым, плывет по подводному миру так, как это делает дельфин или тюлень, или даже лучше их, поскольку он может дышать под водой, втягивая в свои легкие вдох за вдохом животворный кислород и не нуждаясь в том, чтобы возвращаться ради этого к тяжким оковам, которые накладывает на всех живых существ гравитация где-то там, наверху. К сожалению, его сны, в которых он парил высоко в воздухе или плыл в морской глубине, никогда не
длились долго – во всяком случае, достаточно долго.
Его сны о полетах всегда заканчивались тем, что он внезапно терял способность летать и совершал в результате этого падение с огромной высоты. В конце его снов про плавание под водой он вдруг начинал очень быстро, как тяжелый камень, погружаться на еще бульшую глубину. Синяя вода вокруг него превращалась в черную, а затем врывалась в его легкие, распирая их и вообще грудь, пока он не просыпался, тяжело дыша, и не обнаруживал себя снова в плену у реальной действительности, то есть прикованным к кровати своими парализованными ногами.
На сей раз ему приснился сон, какого он раньше еще не видел, и этот сон показался ему самым умопомрачительным из всех. Проведя немало счастливых минут в полете, паря высоко в воздухе, залитом солнечным светом, он вдруг почувствовал, какие тяжелые у него ноги. Вместо того чтобы болтаться в воздухе позади него, они начали сами по себе тянуть его вниз, к земле, как будто его ступни вдруг заключили в свинцовую оболочку. Его движение вперед замедлилось и затем вообще прекратилось. Он теперь падал ногами вниз в море – падал все быстрее и быстрее, глядя уже не на морские волны, а в бескрайнее чистое небо над головой. После нескольких напряженных минут, все время ожидая удара о воду, но не зная точно, когда это произойдет, он вдруг, сильно вздрогнув, проснулся и, тяжело дыша и аж вспотев от волнения, увидел себя среди скомканных простыней.
Дожидаясь, когда его дыхание снова станет спокойным, он сосредоточил внимание на круглом потолке комнаты. Этот потолок по его просьбе когда-то покрасили так, чтобы он был похож на небо, – в лазурно-голубой цвет и с белыми пятнами облаков на нем. Художники также нарисовали кое-где птиц – голубей, скворцов, воробьев и одного белого кречета. Бульшая часть потолка, однако, была выкрашена в голубой цвет. В самом центре было изображено полуденное солнце – золотой диск с завитками огня, тянущимися во все стороны от его края. Это было то небо, которое он любил и пролететь по которому мечтал. Да, он мечтал сбросить оковы, связывающие его с землей, и взмыть вверх, чтобы чувствовать себя невесомым и ничем не связанным.
– Коста?
Он услышал ее мягкий голос, который доносился как бы издалека. Несколько мгновений спустя голос раздался снова:
– Коста! Это я. Ты не спишь?
Это была Ямина. Даже теперь она спрашивала у него разрешение на то, чтобы войти в его комнату.
– Да… да… входи, входи, – сказал он, все еще таращась на потолок.
Девушка открыла дверь не более чем на несколько дюймов и проскользнула в спальню. Тяжелая ткань платья зашуршала, когда она повернулась, чтобы закрыть дверь. Затем она подошла быстрым шагом к его кровати. Сторонний наблюдатель мог бы счесть ее чужачкой, вторгшейся на чужую территорию, однако в действительности Ямина жила во дворце родителей принца Константина в течение вот уже шести лет. Это был теперь единственный имеющийся у нее дом, и ее приняли здесь радушно, но она по-прежнему ходила по комнатам и коридорам с таким видом, как будто жутко боялась, что ее обнаружат здесь стражники.
Она опустилась на колени и взяла его правую руку в свои. Заговорив с ним, она стала гладить его тонкие изящные пальцы.
– Они уже близко, – сказала она.
– Я знаю, – тихо отозвался Константин, посмотрев на ее макушку. Она склонила голову, как будто собиралась молиться. Ямина же, не поднимая взгляда, уставилась на его ладонь. – Им явно нравятся их барабаны.
– И их трубы, – сухо произнесла она и фыркнула. – Думаю, что не ошибусь, если скажу, что они хотят, чтобы у нас не было никаких сомнений относительно их присутствия здесь. И относительно их намерений.
– Я полагаю, ты права, – сказал он и улыбнулся.
Уязвимость бледной кожи ее головы, видной в месте пробора длинных каштановых волос, напомнила ему о ребенке, которым она была, когда он впервые увидел ее, расположившуюся, словно какая-то райская птица, на балюстраде внутри собора Святой Софии несколько лет назад. Именно тогда его прежняя жизнь закончилась и началась новая жизнь. Он протянул свободную руку к ее лицу и погладил по щеке так ласково, как только смог. Она улыбнулась в ответ, и он своими пальцами почувствовал, как изменилось выражение ее лица.
Его подбадривающее прикосновение, похоже, вернуло девушке состояние душевного покоя, в котором она нуждалась, – пусть даже ей доведется пробыть в таком состоянии недолго. Она посмотрела ему в лицо впервые с того момента, как вошла в комнату. В ее поведении по отношению к принцу неизменно чувствовалась робость, хотя она знала, что ему нравится, когда она рядом с ним. Ведь это она, Ямина, когда-то сделала его мир меньше, чем он был до того, и теперь она полностью заполнила этот мир.
Даже с того места, где она встала на колени на покрытом плитками полу возле его кровати, она могла видеть, что его ноги были расположены как-то странно – не на одной линии с его туловищем. И она знала, что он, как всегда, не ощущал этого. Он казался поломанным на две части, как молодое деревце, сломанное надвое бурей. Он и в самом деле был поломанным, и ей всей душой хотелось исцелить его – или, по крайней мере, выпрямить его сейчас (так, как она выпрямляла простыни, на которых он лежал). Однако она понимала, что даже малейшая попытка сделать это уязвила бы то, что еще оставалось в нем от его мужской гордости, а потому оставила его лежать так, как он лежал.
Он лежал, как ее личный Христос, который явился для того, чтобы спасти одну ее, и заплатил очень высокую цену за это свое благодеяние.
– Ты все еще хочешь это провернуть? – спросил он. – Даже теперь, когда эти незваные гости явились к нам? Я имею в виду, что одним только небесам известно, чем мы будем их кормить.
Несмотря на явную легковесность его вопроса, улыбка исчезла с губ Ямины, как исчезает солнечный свет, когда наступает ночь.
– Как ты смеешь спрашивать у меня такое? – сказала она, и из ее глаз вытекли две горячие слезы, как будто он только что ударил ее. Ее взгляд стал свирепым, в нем явно чувствовался вызов, а подбородок был высоко вздернут. – И зачем говорить так? Я не собираюсь ничего
проворачивать. Я просто хочу, чтобы это произошло. – Ее голос задрожал. – А ты разве не хочешь?
Ты разве не хочешь?
Быстрота смены эмоций у Ямины, их появление и исчезновение очаровывала молодого принца и иногда вызывала у него желание громко расхохотаться, но на этот раз внезапная серьезность и сопровождающее ее обиженное выражение лица согнали улыбку и с его губ.
– Я тоже хочу, – сказал он, кивая, и обхватил ее сердцевидное лицо обеими ладонями. Своими большими пальцами он поймал ее слезы, а затем слегка провел кончиками пальцев по линиям ее скул – так, как будто открывал книгу на своей любимой странице. – Я тоже хочу.
Когда он несколько недель назад попросил ее выйти за него замуж, он заранее знал, что она скажет «да». По правде говоря, он уже давно чувствовал, что она принадлежит ему, хотя иногда в глубине души сомневался, является ли дар, который ему пришлось преподнести, благословением или проклятием. Она любила его – он это знал, – но было ли справедливо привязывать ее к нему на всю оставшуюся жизнь?
То, что его отец охотно одобрил их помолвку, удивило его больше всего. После несчастного случая, произошедшего с ним, принцем, он почти не показывался на людях. Его исчезновение из придворной жизни, похоже, было одобрено императором, и поэтому, когда Константин заявил о своем намерении жениться на Ямине, он ожидал, что император по меньшей мере ахнет.
Бракосочетание как бы поставит принца в центр сцены: оно снова привлечет к нему всеобщее внимание. Поэтому он думал, что со стороны Его Величества можно ожидать если не открытого неодобрения, то во всяком случае настороженного отношения, но император поначалу всего лишь выразил удивление, а затем искренне поддержал эту идею.
На губы Ямины вернулась улыбка, сменив собой хмурое выражение на ее лице, – как будто после дождя на небе начало светить солнце. Впрочем, грозовые тучи на этом небе еще оставались. Она легла на кровать и, неожиданно почувствовав себя уставшей, свернулась рядом с ним, как кошка. Положив голову ему на колени, она своим тонким пальцем три раза стукнула по его бедру.
– Расскажи мне какую-нибудь историю, – попросила она. – В качестве компенсации за твой глупый вопрос.
Константин увидел, как кончик ее пальца вдавливается в исхудавшую плоть его парализованной ноги, но не почувствовал этого, а когда она положила свою руку на его ногу, он лишь едва-едва различил теплоту этой руки. Тем не менее он все же ощутил вес ее головы на своих коленях и закрыл глаза, оттого что сердце забилось быстрее. Между его ног внезапно возникло ощущение напряженности и кое-какой потребности, и он едва не застонал, но сумел сдержаться.
Несколько мгновений спустя Константин снова открыл глаза и потянулся руками куда-то за голову. Левой рукой он нащупал свисающие веревочки, каждая из которых была привязана к тому или иному из множества маленьких шкивов и грузов, размещенных над кроватью. Он стал за что-то тихонечко дергать и что-то выравнивать, пока тяжелые шторы и жалюзи не расположились нужным ему образом перед высокими окнами, в результате чего в комнате стало довольно темно. Теперь лишь одна полоска солнечного света проникала в комнату, попадая на вершину деревянного шкафа, стоящего возле кровати. На этом шкафу находился диск из полированной бронзы. Его диаметр составлял четыре дюйма, и он был прикручен к подставке маленькими латунными винтиками. Дергая за определенные веревочки и перекручивая их, принц заставлял этот диск поворачиваться вверх-вниз и вправо-влево, словно выискивающий что-то глаз.
Константин натренированной рукой подергал и покрутил веревочки, пока луч света – тоньше, чем запястье Ямины, – не был пойман бронзовым диском и отражен в потолок. Тотчас же нарисованное небо осветилось так ярко, как в полдень. Это был эффект, который Ямине никогда не надоедал: ей нравилось лежать в полумраке возле кончика перевернутого конуса света, летающие пылинки внутри которого поблескивали, как звезды в небесах.
Из ящика шкафа Константин достал несколько выкрашенных в черный цвет стержней, к концу которых были прикреплены те или иные искусно вырезанные плоские черные фигурки. Среди них имелись императоры и императрицы, цари и царицы, короли и королевы, принцы и принцессы, конные и пешие воины (и одиночные, и выстроенные в шеренги), луна и звезды, башни и крепостные стены, молнии и тучи – в общем, все то, что могло иметь место в его рассказах.
Ямина издала радостный возглас, и, к ее удовольствию, принц начал свой рассказ так, как он начинал всегда:
– Что-то из этого наверняка является правдой, а что-то вполне может быть и вымыслом, но это все, что мне известно…
Он стал размещать первые из фигурок в луче света так, чтобы они отбрасывали свои тени на голубое небо или же перемещались туда-сюда перед нарисованным солнцем с его огненными завитками. Воины наступали и бросались в бой, сражались и погибали, одерживали победу или отступали; лошади скакали то рысью, то галопом; императоры брали себе в жены знатных дам и делали их императрицами, как того требовали правила, а затем заводили себе любовниц, тогда как императрицы тоже подыскивали себе любовников; крепости возводились и разрушались до основания; солнце всходило и садилось; луна то появлялась на небе, то исчезала, а звезды сияли и тускнели – и из-за всего этого проливалось много слез.
– «Пусть тот, кому я мил, пойдет за мной», – проревел Мехмед, султан и повелитель всех турок, – сказал Константин, и Ямина, вскрикнув, спрятала лицо в ладони. – Он стремительно вышел из своей спальни, сбрасывая на ходу свое одеяние из небесно-голубого шелка, отороченное белым мехом песца. Придворные бросились врассыпную, как перепуганные птицы.
Тени снова заплясали по нарисованному небу. Принц и принцесса – искалеченный юноша и девушка, которая волею судьбы сделала его калекой, – лежали вместе в круглой спальне во дворце в огромном городе. Он отправлял свои рассказы высоко в небо, чтобы они летали там так, как летал он сам в своих снах, да и она тоже, словно ангел, могла летать столько, сколько длился тот или иной рассказ.
Иногда действующие персонажи казались всего лишь тенями, но чаще всего, когда тепло его тела и мягкость голоса совместными усилиями завлекали ее в промежуток между бодрствованием и сном, они как бы становились живыми. В таких случаях фигурки наполнялись цветом, трансформировались в плоть и кровь и воспринимались уже как те настоящие мужчины и женщины, которых они изображали.
– «Пусть тот, кому я мил, пойдет за мной!» – повторил Константин, едва не переходя на крик. Тень султана зашагала туда-сюда, и в ответ на его призыв к нему заспешили люди с суровыми лицами. Они выбегали из всех дверей дворца и толпились рядом с ним. В правой руке Мехмед сжимал письмо. Он сжимал его так крепко, что его костяшки пальцев стали белыми. Бедняга, который принес ему это письмо, стоял на коленях в спальне султана, прижавшись лбом к полу и закрыв глаза. Как и все остальные, он не имел ни малейшего понятия о том, какое он принес известие. Его губы беззвучно шевелились: он молился, чтобы это известие не стоило ему жизни. Только когда крики и топот почти стихли, он отважился бросить взгляд сначала налево, а затем направо.
Константин подергал тень гонца из стороны в сторону. Это были изящным образом преувеличенные движения, которые всегда заставляли Ямину хихикать.
– Довольный тем, что остался один, он также отважился глубоко и горестно вздохнуть. – Константин изобразил этот глубокий и горестный вздох, и Ямина захихикала еще громче.
Затем он лег на бок, все еще не распрямляя рук, ног и туловища, и стал поворачивать маленькую фигурку, сделанную из плотной бумаги. Он делал это до тех пор, пока силуэт гонца не сократился до черной линии возле кровати с пологом на четырех столбиках, являющейся сейчас единственным видимым предметом на фоне неба.
Ямина схватила Константина за руку. Хотя это был всего лишь рассказ, во многом основанный на вымысле, она хорошо знала его содержание: султан Мехмед II, узнав о смерти своего отца, стремился как можно быстрее захватить трон. Константин сделал для нее это повествование реальностью, и то, о чем он рассказал ей, было правдой. Крепко вцепившись в его руку, девушка не отпускала ее.
– Какую бы бурю ни вызвал этот гонец, она обошла его стороной, – сообщил Константин, переходя на шепот, – и он никак не пострадал.
Именно таким вот образом – лежа в теплой и душистой темноте спальни ее принца – Ямина изучила историю своего города, Византийской империи и тех, кто подобно туркам Мехмеда пытался причинить ей вред.
– Все те, кто находился в коридорах, вскоре поняли, что Мехмед направляется в конюшни, и некоторые из них стали кричать через окна конюхам, чтобы те готовили лошадей, – громко, чтобы его голос соответствовал волнению и дурным предчувствиям, охватившим его персонажей, произнес Константин.
– Взгляд Мехмеда был направлен вперед, как будто он смотрел на что-то далекое, чего, кроме него, не мог видеть никто.
Константин, взяв свободной рукой маленькое зеркало, поиграл им, чтобы изобразить на мгновение ослепительную вспышку.
– Никто не осмеливался заговорить с ним: все опасались, что он может обругать или наказать за это. Они украдкой поглядывали на него, пытаясь хоть что-нибудь понять по выражению его лица.
– Сколько ему было лет? – спросила Ямина, тем самым развеивая чары, действующие на нее во время повествования Константина. – Сколько ему было лет, когда он узнал, что его отец умер?
– Не больше семнадцати, – ответил Константин, все еще играясь с зеркалом и перемещая тоненькую полоску света туда-сюда по стене.
– Такой молодой, – сказала она. – А почему он так спешил? Ведь в любом случае трон должен был занять именно он.
Константин засмеялся.
– Трон мог занять тот, у кого имелось достаточно храбрости и сил, чтобы захватить власть, – сказал он. – Такие уж порядки у османов. Там, где много сыновей – а ведь в гаремах рождается немало отпрысков султана, – всегда есть повод для борьбы за трон. И каждый из сыновей султана после смерти отца может предъявить свои права на трон.
– Поэтому они умерщвляют даже детей – так, на всякий случай, – сказала она.
– Ты имеешь в виду Маленького Ахмета? Иногда я жалею о том, что рассказал тебе эту сказку.
– Это никакая не сказка, – возразила Ямина. – Что же это за мир, в котором маленький ребенок представляет угрозу для султана?
– Подобная жестокость свойственна не только туркам, – заметил Константин. – Не забывай о моей собственной семье. Многие мои предки избавлялись от своих родственников. Один из них ослепил своего сына и трехлетнего внука только ради того, чтобы они не могли претендовать на трон.
Ямина закрыла глаза и отвернулась от него.
Чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей, Константин вернулся к своей игре теней: два отряда всадников приблизились друг к другу, но остановились, когда между ними еще оставалось почтительное расстояние.
– Огромная орда – и простолюдины, и знать – выехала из столицы государства, чтобы встретить приближающегося Мехмеда. Еще издали увидев Мехмеда и его свиту, они спешились и, держа своих лошадей за поводья, пошли дальше в полном молчании. Новый султан, подъехав к ним, тоже спешился, а вслед за ним спешились и все те, кто его сопровождал.
Константин свел тени так, чтобы они стали похожи на большую толпу.
– Когда они подошли друг к другу, раздался громкий крик – крик траура по скончавшемуся султану, и по всей широкой равнине зазвучали скорбные вопли и причитания. Они прекратились так же внезапно, как и начались, и после этого все мужчины и женщины опустились на колени перед новым султаном и стали его восхвалять.
32
Рим, двадцатью одним годом раньше
Было все еще темно, но рассвет уже приближался. Правое плечо Изабеллы оказалось обнаженным, и она, неглубоко дыша, медленно потянулась к нему левой рукой. Ее кожа была холодной, как у трупа. Что ж, тем лучше. Она не могла рисковать и снова заснуть, а прохлада лишь укрепила ее в намерении встать и уйти.
Откинув в сторону покрывала, она свесила ноги с кровати и, приподнявшись, села. Только после этого, сидя спиной к кровати, она смогла позволить себе посмотреть через плечо на него. Поскольку в комнате было темно, она скорее почувствовала, чем увидела, что Бадр лежит на животе. Его лицо было повернуто от нее, и это было ей на руку. Где-то далеко за пределами этого дома запела какая-то птица, предвещая восход солнца. Робкие звуки ее пения помогли Изабелле решиться оторвать взгляд от своего любовника – что было нелегко, – и она, закрыв глаза, пообещала себе, что больше на него не посмотрит.
Она услышала, как он застонал и пробормотал несколько слов, которых она не разобрала. От него, похоже, исходил жар, который возможен только при болезни. Он вскоре тоже проснется. Ей было очень неприятно покидать его в тот момент, когда ему нездоровилось, но что-то в глубине души подсказывало ей, что сейчас для ухода наступило самое подходящее время.
Она выскользнула из спальни и, не оглядываясь, стала красться по узкому коридору. Из высоких окон, расположенных в верхней части стен, в коридор попадал лишь очень тусклый свет, и когда Изабелла остановилась возле главной двери, чтобы одеться, она лишь с трудом смогла что-то разглядеть. На стене неподалеку от нее имелось зеркало, и она задержалась перед ним на несколько мгновений – ровно настолько, сколько ей потребовалось для того, чтобы убедиться, что у нее вполне приличный вид. Ее длинные темно-русые волосы были распущены и доходили ей до середины спины. У нее сейчас не было времени делать себе какую-либо прическу, и, остановившись только для того, чтобы набросить на плечи накидку, она открыла дверь этого городского дома и вышла в предрассветные сумерки. Черноголовые морские птицы стали громко кричать где-то над крышами домов. В их пронзительных криках чувствовались голод и грусть.
Идя по узкому тротуару, освещенному первыми лучами солнца, она вспомнила кое-что из того, что рассказывала ей Ама. Эта старая женщина, сейчас уже слепая и немощная, когда-то была нянькой Изабеллы. Она заботилась об Изабелле с момента ее рождения. И не столько мать Изабеллы или кто-либо другой, сколько Ама, преисполненная любовью, нянчила девочку и любила ее. Более того, нуждалась в ней. Слыша откуда-то сверху тоскливые крики невидимых ей чаек, Изабелла вспомнила интересные рассказы Амы о душах-близнецах.
Подобные представления были, конечно же, равносильны ереси или же – в лучшем случае – представляли собой языческий вздор. Ама поведала о них Изабелле в числе многих других своих откровений. Ама любила истории, которые она рассказывала, и относилась к ним как к своим близким родственникам, а Изабелле никогда не надоедало их слушать.
Теперь же преклонный возраст забрал у Амы ее истории вместе со многим другим. Женщина, которая была главным персонажем в детстве Изабеллы и навечно осталась во многих ее воспоминаниях, утратила способность что-то вспоминать. Она олицетворяла собой прошлое Изабеллы, но теперь оказалась лишенной доступа в собственное прошлое. Рассказы тоже покинули ее память один за другим – как гости, покидающие вечеринку за полночь, то есть когда уже пришло время уходить. Она теперь пребывала в теплой дымке неразберихи. Все еще живя в доме Изабеллы и при этом почти не отдавая себе отчета, где она находится, Ама теряла связь с текущими реалиями и уже с трудом могла ориентироваться в событиях своей жизни.
Когда Изабелла как-то спросила ее, откуда взялась идея о душах-близнецах, Ама ответила, что рассказы о них пришли с Востока, возможно из Индии. Однако где бы ни находился источник этой идеи, она нравилась Изабелле – и тогда, когда она была маленькой девочкой, и даже сейчас. Вероятно, она не была в этом мире одинокой – или, по крайней мере, будет такой не всегда.
Ама говорила, что бульшую часть своей жизни каждый близнец идет по отдельному пути, не встречаясь со своей другой половиной, однако время от времени в бескрайней Вселенной они должны встретиться – случайно или не случайно, – и результат их встречи будет больше, чем просто сложение двух частей.
Ама также говорила, что, конечно же, в данных случаях похожи только души, а не люди, в которых обитают эти души, а потому физически эти люди вполне могут быть совсем не похожими друг на друга. География и расстояние, созданные в силу случайности рождения, играли свою роль, часто разделяя близнецов. Играл свою роль и пол. Одна душа могла попасть при рождении в мужское тело, а другая – в женское. Иногда души-близнецы даже рождались не совсем в одно и то же время – например, один рождался тогда, когда другой был уже старым, со всей вытекающей отсюда разницей между ними.
– Они могут встретиться как родитель и ребенок, как влюбленные, как враги, как чужестранцы с противоположных концов земли, – говорила Ама, расчесывая темно-русые волосы Изабеллы до тех пор, пока они не начинали блестеть. – Однако порой судьба сводит их друг с другом, и в течение того времени, когда они находятся вместе, должны проявиться какие-то последствия их встречи.
– А у моей души будет близнец? – как-то раз спросила Изабелла, глядя на отражение лица Амы в зеркале.
Ама прикусила губу, задумавшись над тем, а не было ли ошибкой вселять надежду в такое страждущее сердце, как у маленькой Изабеллы. Но было уже слишком поздно. Приманка была проглочена, и крючок оказался крепким.
– Никто не знает этого, милая, – ответила она, улыбнувшись.
Ама была теплой и мягкой, как свежеиспеченный хлеб, и Изабелла откинулась на живот своей няньки, как будто это была подушка. Ама перестала расчесывать Изабеллу и положила ладони на плечи девочки. Придав своему лицу серьезное выражение – как у учителя в классе для занятий, – она тем самым попыталась заставить Изабеллу слушать внимательно и запоминать.
– Но самое главное заключается в том, что… что ты никогда-никогда не должна искать своего близнеца. – Ама выдумывала на ходу правила, которых в действительности не существовало. – Никогда не вбивай себе в голову, что у твоей души есть близнец. Лучше думай обо всем этом как о забавной фантазии. Но если у твоей души и в самом деле есть близнец и… – Ама снова беспомощно скатывалась к этой своей истории, – если вам суждено встретиться, то пусть это произойдет. Однако ты сама не можешь на это повлиять… Даже и не пытайся. Кроме того, – продолжала Ама, наклоняясь и ласково целуя Изабеллу в щеку, – какая мне или тебе нужда в душах-близнецах, если у меня есть ты, а у тебя – я?
Она подмигнула, глядя на отражение их обеих в зеркале. Изабелла ахнула, а ее сердце екнуло от такого предположения.
– Может быть, наши души – близнецы! – воскликнула она. – Твоя и моя!
Ама улыбнулась.
– Может быть, моя милая, – сказала она. – Может быть.
Вернувшись мысленно в настоящее, то есть обратно в раннее утро в Вечном Городе, Изабелла почувствовала, что воспоминание о том разговоре лежит в ее груди огромным камнем. Это было воспоминание о событии, произошедшем очень давно, однако оно казалось ей очень свежим. Оно напоминало ей луч света, который потерял из-за большого расстояния свою фокусировку, но оставался очень ярким.
И если раньше ей нравилась мысль о том, что и у нее, возможно, есть душа-близнец, ее вечный партнер, которого она могла встретить в этой жизни или в какой-нибудь другой, которая ее еще ждет, то сегодня она вызывала у нее грусть.
Изабелла чувствовала, что, возможно, любит мужчину, которого она сейчас покидает, но его душа не была близнецом ее души. В этом она была уверена. Когда они впервые встретились, он сразу привлек к себе ее внимание, но, по правде говоря, они были абсолютно разными людьми (это, по крайней мере, она знала точно), и, следовательно (в этом она нисколько не сомневалась), их души никак не были связаны друг с другом. Она вдруг заметила, что, обдумывая сложившуюся ситуацию, кивает сама себе.
Впрочем, отнюдь не досужие домыслы о душах – связанных друг с другом или не связанных – убедили ее порвать с этим мужчиной раз и навсегда. Она ведь вполне могла оставить его в своей жизни независимо от того, близнец он ей по душе или не близнец. Нет, не безграничные возможности, якобы предоставляемые невидимым миром, убедили ее отвернуться от него. Это произошло в силу однозначного понимания, что если она его не бросит – и если об их отношениях станет известно, – то ее отец погасит жизнь этого человека, как пламя свечи. Она на какое-то время подавит в себе эту тоску, но может дать ей волю тогда, когда все уже будет позади.
– Хватит всего этого, – сказала она вслух.
Затем, вдруг почувствовав угрызения совести, Изабелла покачала головой.
Ее отец снова и снова говорил ей, что она создает проблемы и что за ней необходимо присматривать. И он был прав! Тайные встречи с одним любовником можно было счесть просто опрометчивостью, которую способна проявить девушка, даже если ее всегда держали на коротком поводке. Но вот с двумя любовниками…
Она закрыла рот ладонью, чтобы подавить… Подавить что? Смех? Или стон? Она сама этого толком не поняла, а потому ускорила шаг, чтобы отвлечься от подобных мыслей.
Теперь ей, конечно же, нужно было думать еще об одной душе – о ребенке, развивающемся внутри нее. Новая жизнь. Она позволила себе вообразить, что у ее еще не родившегося ребенка может где-то иметься близнец по душе – спутник, уже появившийся на белый свет и пока еще ни о чем не подозревающий. Она перепугалась, даже пришла в ужас, когда почувствовала, что беременна, но чудо рождения нового человека оттеснило все остальное на задний план.
Ее отец будет потрясен и разгневается – в этом она была абсолютно уверена. Когда отец узнает о ее беременности, он станет орать на нее и говорить непристойности. Он, возможно, обзовет ее шлюхой и скажет, что она опозорила его и навлекла дурную славу на всю его семью. Ему захочется ударить ее – так, как он иногда бил ее мать. Однако Изабелла знала, что, несмотря на желание ударить дочь и явно достаточный повод для этого, он не поднимет на нее руку.
Филипп Критовул был склонен к насилию, но отнюдь не по отношению к ней, Изабелле. Она была его самой ценной собственностью («собственность» в данном случае – очень даже подходящее слово), и он не допустит, чтобы ей был причинен какой-либо вред, даже если из-за ее недавних поступков и их последствий будет опорочена его репутация.
Затем она стала думать о своем приболевшем любовнике, который лежал сейчас в своей кровати. Бадр Хасан был хорошим человеком, и когда-нибудь он станет хорошим отцом. Однако у их отношений не было абсолютно никакой перспективы. Если он попытается занять место рядом с ней, это станет для него смертным приговором и ничем больше.
Ее мысли переключились на друга Бадра, Патрика Гранта, и на то,
что он сказал ей, когда она призналась ему в том, что беременна, и в том, что собирается расстаться с Бадром…
– Бадр любит тебя, и тебе следует рассказать ему об этом, – сказал Патрик. – Он будет хорошим отцом для ребенка и хорошим мужем для тебя.
– Я знаю, что он любит меня, и именно поэтому он не должен ни о чем узнать. Мне необходимо с ним расстаться. Других вариантов нет. И поскольку я должна с ним расстаться и мы не должны больше видеться, нет смысла ему о чем-то рассказывать. Ему и так будет больно, а потому я хочу уберечь его от еще более сильных страданий.
– Это не может быть правильным решением, – возразил Патрик. – Должно иметься еще что-то такое, что я могу сделать.
Она улыбнулась ему и прикоснулась ладонью к его лицу.
– Кроме всего прочего – и это самое важное, – ты его самый лучший друг, – сказала она. – Ты теперь будешь нужен ему как никогда прежде.
Он отвернулся от нее и потихоньку пошел прочь, низко опустив голову, – так, как это делает наказанный ребенок. Она оставила свою руку протянутой к нему, но он не обернулся. В глубине души она была этому даже немножко рада.
Он вообще-то был прав: Бадр наверняка был бы хорошим отцом для ее ребенка и хорошим мужем для нее самой. Но не здесь и не сейчас.
Двое мужчин, спрятавшиеся в темной улочке, подождали, пока Изабелла пропадет из их поля зрения, а затем, выйдя из тени, пересекли улочку…
Полчаса спустя в горящую спальню ворвался Патрик. Он увидел, что пламя разгорелось уже так сильно, что его попросту невозможно было потушить. Опустившись на четвереньки, чтобы уклониться от самого сильного жара, он стал продвигаться вперед и нашел своего друга не взглядом, а на ощупь. Гигант пребывал в бессознательном состоянии и наполовину свалился с кровати. Его одежду уже лизали кое-где языки пламени.
– Проснись! – заорал Патрик и начал тащить к выходу неподвижное тело великана. – Ну же, Бадр! Проснись!
33
Ямина открыла глаза. В комнате было тихо. Рассказ уже закончился. К большому неудовольствию Константина, очень часто происходило именно так: где-то в середине своего повествования, почти всецело увлекшись им, он вдруг замечал, что ее дыхание изменилось. Сколько бы раз она ни говорила ему, что это является своего рода комплиментом – ведь он заставил ее почувствовать себя такой защищенной и расслабленной здесь, на его кровати рядом с ним, что не задремать было почти невозможно, – Константин все равно обижался.
– Пойми, я для тебя своего рода учитель, – говорил он после того, как ему приходилось будить ее, – но у меня не получается удержать внимание класса, состоящего всего из одного ученика.
– Ты для меня не учитель, – возражала она, принимая сидячее положение, разглаживая складки на своей одежде, приводя в порядок прическу и проверяя, нет ли в уголках ее губ слюны. – Учителей у меня полно, но спать рядом с тобой – засыпать рядом с тобой – это мое любимое занятие. Мне нравится лежать здесь, в твоей кровати. Твой голос звучит для меня, как музыка… Он лишает меня сил.
Она делала вид, что теряет сознание, и падала на спину. Он, фыркнув, убирал свои фигурки и контуры и открывал шторы и жалюзи. Солнечный свет, ворвавшись в комнату, разрушал интимную обстановку, как какой-нибудь злодей.
О чем он не упоминал и о чем она старалась никогда не напоминать ему – так это о том, что находиться рядом с ней спящей ему нравилось ничуть не меньше, чем рядом с ней бодрствующей. Ее сонное дыхание втягивало его в себя, как зыбучий песок, и он почти всегда начинал дремать вслед за Яминой. Он чувствовал себя счастливее всего рядом с ней – как в реальном мире, так и в мире снов.
В этот раз, однако, все было как-то по-другому. Когда она проснулась, ее голова покоилась на верхней части его ног, но сейчас почему-то в ее щеку упирался какой-то твердый выступ. Она подняла голову, чтобы посмотреть, проснулся ли Константин, и увидела, что, в отличие от всех предыдущих таких пробуждений, она проснулась раньше его. Глаза ее принца были закрыты, и дышал он медленно и глубоко. Осторожно – очень осторожно – она прикоснулась рукой к твердому выступу под простыней. От выступа этого исходило тепло, и Ямина, заинтригованная странностью данной ситуации, легонько погладила его. Он дернулся при ее прикосновении. Она едва не расхохоталась, но, проникнувшись вдруг ощущением серьезности и важности происходящего, приструнила себя.
Константин имел обыкновение говорить, что он уже наполовину мертвый – мертвый ниже талии. Однако выступ – твердый и упругий – приподнимал сейчас простыню у нижней части его живота и являлся явным признаком жизни.
Ямина в свои восемнадцать лет все еще была девственницей, но так или иначе общалась с юношами: поцелуи, ласковые прикосновения, шаловливые ручки… Она уступала своей покойной матери в росте, но округлые линии, появившиеся в девичьей фигуре по мере ее взросления, в сочетании с острым умом и энергичной манерой поведения стали причиной того, что она начала привлекать внимание юношей довольно рано. Ямина, можно сказать, представляла собой сгусток энергии, воодушевляющий любое общество, в котором она оказывалась, а потому юноши тянулись к ней, принцессе, в призрачной надежде на удачу и лучшую жизнь.
Ее сердце принадлежало Константину – принадлежало ему всегда, – однако в определенных ситуациях она могла позволить себе пофлиртовать и с другими юношами. Она обнималась со своими поклонниками уже достаточно много раз, чтобы научиться понимать, хочет ее юноша или нет. И вот теперь, по прошествии достаточно длительного времени, когда она свыклась с существующим положением вещей, перед ней находилось явное доказательство того, что Константин хочет ее. Его желание можно было сравнить с запоздалым гостем на вечеринке, про которого говорят, что лучше поздно, чем никогда. Однако это ее открытие могло кардинально изменить все, и если об идеальном варианте не могло быть и речи, то, по крайней мере, появлялась надежда, что будет сделано несколько шагов в правильном направлении.
Она импульсивно опустила голову и прикоснулась губами к кончику выступа в нежнейшем из приветственных поцелуев. Выступ снова дернулся, уперся в ее губы как бы по своей собственной воле, и она, к своему удивлению, машинально придвинула лицо к нему навстречу, расслабляя и приоткрывая губы, чтобы почувствовать его весь. А еще она ощутила влагу – и в своем рту, и у себя между ног.
Константин застонал: из глубины его горла вырвался тяжелый, хриплый звук, – и она, тут же испуганно отпрянув и почувствовав, что краснеет, села на постели, свесила ноги с кровати и посмотрела на Константина через плечо. Его глаза были открыты, но ему потребовалось некоторое время, чтобы заметить, что Ямина все еще здесь. Он быстро сдвинул простыни, комкая их, к своему паху и провел рукой по своим густым черным волосам. Она тут же поняла, что такое случилось с ним не впервые, что до сегодняшнего дня он уже испытывал нечто подобное. Она почувствовала дрожь в своей груди и отвела взгляд в сторону.
– Я ведь своего рода учитель, – произнес он со своей обычной интонацией.
Ямина засмеялась – засмеялась уж слишком громко. Константин посмотрел на нее с таким выражением лица, что ей стало жаль его.
– Мне нужно кое-куда сходить, – сказала она и, быстро встав с постели, направилась к двери.
34
Он лежал под скомканными простынями. Они были скомканы слишком сильно, и это не ускользнуло от его внимания. Более того, это бросилось ему в глаза: он ведь двигался в своей постели очень и очень мало и почти не комкал простыней. Если кто и наводил беспорядок в этой постели, так это засыпавшая в ней Ямина. Всегда, когда они спали вместе, он, просыпаясь, обнаруживал хаос, созданный спящей Яминой.
Мысли в его голове тоже скомкались. После шести лет пребывания в плену у своих безжизненных ног надеяться на что-либо большее было попросту опасно. Это создавало угрозу для того мира, который он сотворил из света, тьмы и фигурных теней и затем стал считать
своим миром. У него также имелась Ямина – яркая разноцветная птица, с которой он делил свою клетку. Ее сильная привязанность к нему подрйзала ей крылья – почти так же, как его увечье подрезало крылья ему, – и надежда… надежда могла все это изменить.
Перед ним предстала новая возможность, которая казалась ему своего рода странствующим торговцем, предлагающим товары неизвестного происхождения и сомнительной ценности. Существующее в его жизни положение вещей явно изменилось. На протяжении вот уже нескольких недель у Константина время от времени появлялось между ног кое-какое ощущение. Это ощущение было у него и сейчас, когда он таращился на кое-что твердое, прикрытое скомканным постельным бельем. Его удивляло то, что он даже узнавал это ощущение и понимал,
что оно означает, хотя нижняя часть его тела была парализованной уже немало лет. Однако, несмотря на то что ощущение это было довольно слабым, характер его был вполне понятен.
После недолгих раздумий Константин попытался прогнать эти мысли, как прогоняют недавнего друга, относительно которого возникает подозрение, что он пытается вас одурачить. Повернувшись лицом к окнам, он протянул руки, чтобы ухватиться за веревки и открыть шторы и жалюзи. Когда он это сделал, через окна в комнату проник солнечный свет, и он тут же прищурился, а затем и вовсе закрыл глаза, в глубине души надеясь, что этот свет сожжет его мечты о другой жизни – возможно, лучшей жизни. Его прежней жизни.
Предаваясь мучительным размышлениям, он вдруг заметил, что звуки, доносящиеся из-за оконных стекол, были громче обычного и представляли собой, можно сказать, какофонию. В повседневный городской шум, состоящий из звуков толкотни и топота людей, криков рыночных торговцев, разговоров, ведущихся на паре десятков различных языков, вплетались непривычные диссонирующие нотки. Взволнованные голоса то повышались, то стихали, кто-то задавал вопросы, кого-то в чем-то обвиняя и молясь. К ним примешивались голоса нескольких женщин, оплакивающих какого-то из скончавшихся родственников.
Турки в очередной раз подступили к стенам города, и их появление там чем-то напоминало появление терьера возле гнезда с утятами. Если бы у местных жителей имелась возможность куда-то удрать, они бы удрали. Однако многие из них оказались как бы в ловушке между городскими стенами и морем, а потому они теперь могли только шептаться, голосить, впадать в панику и молиться.
Он знал, что его город уже давно привык к нашествиям потенциальных завоевателей. Будучи прикованным к постели, Константин частенько разглядывал картины и карты, висящие вокруг него на стенах спальни. История Константинополя – со дня его основания и до недавнего времени – была изображена на них в такой последовательности, в которой могут промелькнуть перед глазами умирающего человека события собственной жизни.
Хотя никто не делал этого умышленно – ни художники, написавшие картины и карты, ни учителя, повесившие эти карты и картины, чтобы как-то поразвлечь его, – благодаря им он видел, что город постепенно приходил в упадок. Изображая его тысячелетнюю историю, они наглядно демонстрировали, каким был Константинополь когда-то и каким он стал сейчас. Константин снова закрыл жалюзи, и комната сразу погрузилась в полумрак. В свете, отражающемся от полированного бронзового диска – того самого, который помогал ему создавать игру теней, – Константин стал рассматривать все картины и карты поочередно.
Самым древним было, конечно же, упорядоченное переплетение улиц, созданное еще при Константине Великом. Порядок и твердая власть на восточном рубеже. Западная цивилизация, воссозданная на Востоке. Новому императору и его полководцам казалось, что Рим как столица находится уж слишком далеко от границ империи, и поэтому они построили
Nova Roma – Новый Рим – и перенесли в него столицу.
Принц Константин разглядывал эти картины и карты, выполненные более тысячи лет назад, с восхищением, которое не поубавилось даже после нескольких лет ежедневного лицезрения. Задуманный и созданный как небеса на земле, Новый Рим рос, восхищая и очаровывая всех, кому доводилось его увидеть, и был похож на блестящий белый драгоценный камень, помещенный между двумя сапфирами – бухтой Золотой Рог и Мраморным морем. Жители поначалу считали себя римлянами, живущими в Новом Риме, но вскоре стали называть свой город Константинополем – в честь его основателя и благодетеля.
В последующие столетия в произведениях искусства, создаваемых местными жителями и приезжими, стали раскрываться, причем совершенно непреднамеренно, изъяны бриллианта. Константинополь теперь чем-то походил на некогда красивую женщину, которая, являясь роскошным плодом матери и отца, жила воспоминаниями и пряталась от своего собственного отражения в зеркале.
Как было видно на более поздних картах и картинах, город Константина в значительной степени состоял из пустых пространств – как редкозубая улыбка стареющего рта. Превратившись из мечты в реальность, он когда-то представлял собой место, достойное римских императоров. Улицы, украшенные колоннадами, в которых колонны были выше и толще деревьев; элегантные площади со статуями богов и императоров; величественные здания, при взгляде на которые прохожие робели; трофеи, перевезенные сюда из старого Рима и городов, находящихся между старой и новой столицами; чудеса,
созданные в различных уголках мира и затем ставшие составными частями новорожденного чуда.
Город с самого начала привлекал к себе тех, у кого он вызывал восхищение. Однако то, что когда-то казалось недоступным и недосягаемым, со временем стало жертвой алчных рук… Константин перемещал свет, отражаемый диском, от одного произведения к другому, разглядывая этапы постепенного упадка Константинополя.
За шесть лет, в течение которых молодой принц бульшую часть времени проводил в этой комнате, он стал необычайно чувствительным и моментально реагировал на приближение к нему других людей. Ямина, осторожная, как молодой олень, иногда умудрялась подкрасться к его двери незаметно для принца. Однако в большинстве других случаев ему казалось, что он становится своего рода пауком, а его комната – центром невидимой паутины, которая начинала подрагивать, стоило кому-то приблизиться к ней. Точно такое же подрагивание он почувствовал и сейчас – и сразу же повернул диск так, чтобы полоска света переместилась на закрытую дверь. Услышав шаркающие шаги, он – еще до того, как подошедший к двери человек успел что-то сказать, – крикнул:
– Входи, кем бы ты ни был! Я слышу, как ты дышишь.
Ручка двери повернулась, и дверь открылась внутрь комнаты. Солнечный луч высветил дородную фигуру Дуки – одного из самых доверенных лиц его отца и главного историка империи.
– Мне жаль, если я потревожил тебя, мой молодой принц, – сказал Дука ласковым голосом, наводящим на мысли о тающем сливочном масле, – но я испытываю необходимость поговорить – главным образом, с тобой.
Дука держал одну ладонь у своего лица, защищая глаза от луча света, но Константин узнал его еще до того, как он заговорил.
Осознав, что это его друг, а не враг, Константин повернул диск в сторону, чтобы дать возможность глазам наставника привыкнуть к царящему в комнате полумраку, и направил луч света на картину, на которой были изображены самые тяжелые для города времена – времена, когда он был разграблен и опустошен не какими-нибудь турками-иноверцами, а христианскими воинами, облаченными в одежду с крестом.
Он знал, что за прошедшие одиннадцать с лишним веков город снова и снова оказывался в осаде. От вод бухты Золотой Рог на севере до Мраморного моря на юге тянулась гигантская оборонительная стена. Точнее говоря, стен было целых две: одна находилась позади другой, – а перед ними имелся глубокий, выложенный кирпичами ров с водой. Эти стены простояли по меньшей мере тысячу лет и уже сами по себе были настоящим чудом. Их никому никогда не удавалось проломить.
Константин удерживал луч света на огромной картине, автор которой уже давно был забыт. На ней с душераздирающими подробностями изображалось нашествие христиан-крестоносцев на Константинополь более двух столетий назад, то есть задолго до его рождения, и то опустошение, которому они подвергли город в своей злости и зависти. В поисках добычи крестоносцы метались по всем улицам, улочкам и переулкам, обшаривая все дома – от самых богатых до самых бедных. Жители – мужчины, женщины и дети – подверглись насилию, и большинство из них были изрублены мечами или убиты каким-либо другим жестоким способом. Их тела были сожжены на кострах. Начался пожар, после которого уцелела лишь половина города. Разрушенный, изгаженный, так и не сумевший впоследствии восстановиться полностью, Константинополь навсегда утратил свою красоту, превратившись в уродца с ужасными шрамами и деформированными костями.
– Ты угрюмый парень, Коста, – сказал Дука, подходя к кровати принца и грузно садясь рядом с ним, так что Константин едва не подскочил на своем матрасе.
Глядя на выделенное светом изображение греческих девушек, которые сбились в кучу в тени фасада церкви, имеющей портик, и которых пронзали мечами крестоносцы с обезумевшими лицами и красными от крови руками, он потянулся рукой к юноше и похлопал его ладонью по бедру.
– Ты помнишь слова моего коллеги-историка по поводу разрушения нашего города теми, кого нам надлежало считать раньше нашими братьями во Христе? – спросил Дука.
Константин улыбнулся и откинул голову на сложенные стопкой подушки. Его глаза были открыты, но он позволил миру разделиться на две части – как разрезанный пополам гранат – и, освободившись от искалеченной телесной оболочки, пошел в своем воображении по мощеным улочкам Месы – главной улицы, которая была хребтом построенного римлянами города.
– Подожди, дай я подумаю… – сказал Константин. – Ты имеешь в виду, конечно же, нашего друга Акомината. Никиту Акомината.
– Хорошо. Теперь продолжай, – сказал Дука и, сплетя свои толстые пальцы, положил руки на колени, укрытые роскошной материей его одежды.
Он обучал своего ученика согласно методике Сократа, настаивая на том, что все важные знания нужно запоминать. В то утро, когда они в первый раз встретились в качестве наставника и ученика (Константину тогда было всего лишь восемь лет от роду), Дука начал с того, что дорогой к мудрости является память, и только память. Он также заявил, что, по мнению Сократа, ведение каких-либо записей – это не что иное, как отвлечение внимания от пути к истине.
При этом он процитировал Сократа.
– «Это твое открытие породит забывчивость в душах обучающихся, потому что они не будут использовать свою память, – сказал он мальчику, обрадовавшемуся тому, что ему не придется ничего писать. – Они будут доверять написанным где-то буквам и не будут стараться запомнить. Средство, которое ты открыл, содействует не памяти, а нечетким воспоминаниям, и ты даешь своим ученикам не истину, а лишь подобие истины».
Константин хорошо помнил то, что он выучил наизусть путем многократного повторения.
– «Как мне начать рассказ о делах, совершенных этими нечестивыми людьми?!» – начал цитировать он описание, составленное Акоминатом более двух веков назад, когда память об этих делах была еще теплой, как только что разорванная плоть.
– «Увы, по изображениям, которыми следовало бы восхищаться, топтались ногами!» – с легкостью продолжал принц, шагая в своем воображении по тому городу, который он мысленно представлял себе после изучения карт и рисунков, но которого никогда не видел и не мог видеть в реальной жизни.
Он давно научился использовать свое воображение для хранения получаемых им знаний. Улица, по которой он шел теперь, была заполнена людьми, на ней происходили какие-то события, но при этом царила абсолютная тишина. Константин воспринимал это так, как если бы его опустили головой вниз в глубокую воду.
Жизнь вокруг била ключом: люди оживленно жестикулировали друг перед другом, их губы двигались так, как будто они произносили пылкие речи, мужчины и женщины боролись за свою жизнь и умирали, дети кричали и бегали туда-сюда. Однако при этом принц не слышал никаких звуков, кроме глухого гула в ушах. Он повернул налево, на хорошо знакомую ему боковую улицу, и, ничуть не удивившись, увидел, как изувеченный и залитый кровью праведник, облаченный в грязные одежды и держащий в руках потертую позолоченную чашу, вышел из дверного проема какого-то дома и, оступившись, упал возле сточной канавы. К нему подбежал человек в доспехах – подбежал так, как будто хотел помочь, – но вместо этого он, пихая тело лежащего праведника ногой, столкнул его в сточную канаву. Этот неприятный случай заставил Константина вспомнить и процитировать еще один отрывок из повествования историка.
– «Увы, останки святых мучеников были брошены в места с нечистотами! Затем взору предстало то, о чем услышишь и содрогнешься: божественное тело и кровь Христа была сброшена на землю и разбросана там и сям. Они хватали драгоценные сосуды, бросали себе за пазуху украшения, которые в них хранились, и использовали обломки этих сосудов в качестве кастрюль и чаш для питья…»
Дука зачарованно смотрел на своего ученика, уже не в первый раз испытывая странное ощущение: Константин, казалось, находился сейчас далеко отсюда, совершая прогулку по знакомым местам. Случайные прохожие были освещены тускло, и благодаря этому главные персонажи, по которым он ориентировался – яркие, отчетливые и привлекающие его внимание, – всегда находились в центре наблюдаемых им событий.
Он повернул направо и пошел по улице, параллельной главной улице города, – Месе. С обеих сторон от него возвышались красивые здания, колонны, скульптуры и высокие старинные деревянные двери. Справа от себя он разглядел округлую часть ипподрома, который построили для Константина Великого и на вершине которого красовались четыре огромные удивительные бронзовые лошади, созданные гениальным скульптором Лисиппом. Перед Константином, в конце улицы, высилось ни с чем не сравнимое здание собора Премудрости Божией, также называемого собором Святой Софии. Бледно-голубой купол его крыши, похожий на выпученный глаз, смотрел, не моргая, в небеса прямо над ним и был, как всегда, слеп к страданиям верующих.
– «Невозможно равнодушно слушать и об осквернении великого храма, ибо священный алтарь, состоящий из всевозможных драгоценных материалов и приводивший в восхищение весь мир, был разбит на кусочки, которые затем разделили между собой воины, – как разделили они и все другие священные сокровища, поражающие своим удивительным и безграничным великолепием».
Из основного входа в собор текла невообразимо жуткая река, состоящая из экскрементов людей и животных и несущая в себе как целые трупы мужчин и женщин, так и их части, а также туши животных. Пульсирующий поток грязи обтекал с двух сторон основание большой каменной колонны высотой в сто футов. На ее вершине находилась колоссальная статуя Юстиниана – последнего великого римлянина. Он сидел на могучем коне и был изображен так, как обычно изображают Ахилла, – с блестящим нагрудником и в шлеме, украшенном щетиной в форме петушиного гребня. В левой руке он держал шар, который символизировал то, что тень его руки, руки завоевателя, падает на весь мир.
Константин пошел по направлению к потоку, ничему не удивляясь и ничего не боясь. Среди мусора и трупов виднелись священные мощи, лежащие в ковчегах и оссуариях, представляющих собой золотые сосуды, украшенные драгоценными камнями. Все это нес поток все еще теплой мочи и жидкого кала.
– «Священные сосуды и принадлежности непревзойденного изящества и красоты, изготовленные из редких материалов и чистого серебра, украшенного золотыми деталями, увозились в качестве награбленного добра. Мулов и оседланных лошадей подводили прямо к алтарю храма. Некоторых из тех, кто не смог удержаться на ногах на великолепном и скользком покрытии пола, пронзали клинками, когда они падали, и поэтому священный пол был вымазан в крови и грязи».
Он теперь находился внутри храма и наблюдал за дерущимися воинами, которые, измазываясь в грязи, катались по полу, борясь друг с другом за тот или иной кусок золота или серебра. Из источника потока грязи поднималась легко узнаваемая фигура – Мария, матерь Божья, облаченная в грязные и промокшие одежды, прилипающие к ее коже и подчеркивающие каждый изгиб и каждую выпуклость ее тела. Хотя она сохраняла облик Пречистой Девы Марии, она уже не была чистой. Ее бледно-голубое одеяние было разорвано так, что стали видны груди. Ее ноги тоже были отчетливо видны, и, что самое ужасное, ее уж очень красные губы расплылись в распутной улыбке.
Сцены, мелькающие перед мысленным взором Константина, были весьма яркими и реалистичными. Он уже давно понял, что этого вполне можно достичь, если должным образом стимулировать свою память и свое воображение.
– «Более того, некая шлюха, причастная к совершаемым ими безобразиям, жрица фурий, прислужница демонов, произносящая заклинания, несущая разврат, поносящая Христа, села на трон патриарха, напевая непристойную песню и то и дело вставая и танцуя…»
Снова выйдя на улицу и оставляя оскверненный храм за своей спиной, он пошел обратно домой, сворачивая наугад то в одну, то в другую сторону, но при этом будучи уверенным, что он встретит на своем пути все, что ему необходимо, дабы вспомнить остальные слова давно умершего историка.
В одном из дверных проемов отчаянно боролись мужчина и женщина. Мужчина, облаченный в кольчугу, держал полуголую женщину рукой за горло. Его свободная рука сжимала грозный клинок, острие которого упиралось в ее тело чуть пониже грудной клетки. Юбки несчастной были высоко задраны, и насильник пытался протиснуться между ее ног. Бедра мужчины терлись о бедра женщины, а его разинутый рот прижимался к ее шее. Из ее глаз текли слезы. В других местах вопящих мужей оттаскивали от их жен и уводили прочь или же убивали прямо на глазах ближайших родственников. Дети умоляли пощадить их отцов, плакали и визжали, а матери этих детей рвали на себе одежду и волосы и падали на землю.
– «Никого не обошло горе. В переулках, на улицах и в храмах раздавались причитания, плач, стенания, вопли и стоны мужчин, пронзительные крики женщин. Людей ранили, насиловали, уводили в плен, разлучали с теми, кто был им наиболее близок».
Закончив цитировать, Константин почувствовал, что созданный в его воображении город постепенно исчезает, перемещаясь куда-то за его спину. Перед ним же теперь была его спальня – его неизменная спальня. Увидев самого себя лежащим в постели, а своего наставника – сидящим на ее краю, он закрыл глаза.
– Прекрасно, мой дорогой Коста, – произнес Дука, отвернувшись от картины и посмотрев в глаза своему ученику. – Замечательно.
Минуту-другую спустя принц открыл глаза. Его пристальный взгляд встретился со взглядом старшего друга.
– Турки, которые стали лагерем возле наших стен… Сколько их? – спросил он.
Дука вздохнул и, опустив глаза, уставился на свои колени. После недолгой паузы он снова посмотрел на Константина и сказал:
– Если судить по словам наших наблюдателей, турок около пяти тысяч.
Константин улыбнулся, увидев, как его наставник нахмурился и как у него при этом между бровями появились глубокие складки.
– Но… – сказал Константин, приподнимая подбородок и тем самым задавая немой вопрос.
– Но намного больше находится на пути сюда. Насчет этого нет никаких сомнений.
Константин, ничего не говоря, продолжал смотреть на полное лицо Дуки.
– Намного, намного больше, – повторил наставник. – Мехмед наступает из своей столицы Эдирне вместе со всеми имеющимися в его распоряжении воинами. Те из наших людей, кто уже видел их, говорят, что собранное войско… неисчислимое.
Константин кивнул.
– Я уверен, что на самом деле все так и есть, – сказал он. – Должен признать, что в глубине души я даже немного рад тому, что увижу столь огромное скопление людей собственными глазами.
– У меня нет такого стремления, – сказал Дука. – К сожалению, нам обоим еще до конца недели представится возможность увидеть их во всей их красе.
– Что собрало их вместе? – спросил Константин. – Я уверен, что они настроены очень решительно. Как эти иноверцы называют нашу стену? Костью в горле Аллаха?
– Именно так, мой принц, – подтвердил Дука. – Как это ни печально, он этой костью пока не подавился.
– Да ладно тебе, Дука, – поднимая бровь, сказал Константин. – Разве мы все не библейские люди? Мусульмане, христиане, иудеи – у нас всех один и тот же Отец Небесный, только его называют по-разному.
– Люди бывают разные, – грустно произнес Дука. – Я сомневаюсь, что Аллах хочет нам вреда. Но Мехмед и его охотничьи псы?..
Этот вопрос Дуки остался висеть в воздухе, словно дурной запах.
– Псы? Псы? Да угомонись ты, Дука! Сначала ты желаешь вреда Отцу Небесному, а затем обзываешь его детей.
– Да уж, все – его дети, – сказал Дука. – Под знаменами султана на нас, возможно, движется столько же христиан, сколько и иноверцев. И я допускаю, что наступает самый настоящий конец света.
– Нужно верить, друг мой, – с укоризной произнес Константин и, протянув руку, ласково похлопал ладонью по толстому колену Дуки. – Сейчас пришло время веры. Сколько осад пережил наш город за тысячу лет?
– Более двадцати, – ответил Дука, не поднимая взгляда.
– Двадцать две, – уточнил Константин. – Аллах пытается выплюнуть из своего горла стену Феодосия вот уже тысячу лет. Я не вижу, почему двадцать третья осада должна закончиться не так, как все предыдущие.
Дука спокойно посмотрел на своего ученика.
– Я устремляю свой взор на море и вижу волны, которые никогда не останавливаются, – сказал он. – Я смотрю на наши стены, обращенные к морю, и вижу, что они всегда находятся на одном и том же месте. Османские турки – сыновья и дочери неугомонного народа. Они не любят городб так, как их любим мы. Думаю, они скорее презирают их. Подобно тому, как море постоянно движется и ни на мгновение не замирает, так и турки всегда пребывают в движении. Их сердца испытывают больше всего счастья не в дворцах или на городских улицах, а в пути. Мы оказались преградой у них на пути. Наши стены – это оскорбление всему тому, во что они верят и чем они являются. Волны должны катиться вперед, а стены должны падать.
– Почему же тогда они медлят со своим походом на Константинополь? – спросил принц. – Если наше присутствие здесь настолько отвратительно и неприемлемо для них, то почему они не примчатся сюда галопом?
Дука поднялся с постели принца и подошел к окну. Его внимание привлекла длинная процессия горожан, которые шли, сомкнув ладони в молитвенном жесте и опустив головы, и что-то бормотали. Во главе процессии находилась группа священников, несущих икону Девы Марии в натуральную величину.
– Турки тащат с собой большие… машины, – сказал Дука, продолжая наблюдать за верующими, на лицах которых застыло отчаянное выражение. Он знал, что жители города непрерывно, день и ночь, умоляют небеса вмешаться в происходящее.
– Машины? – спросил Константин. – Какие именно? Катапульты, тараны? Все это уже побывало у наших стен и ни разу не привело к положительному результату. «Кость в горле Аллаха» нельзя ни выплюнуть, ни проглотить.
– У меня не хватает слов для того, чтобы описать эти последние творения, – сказал Дука. – Наши люди в деревнях, расположенных за городскими стенами, – тех деревнях, мимо которых уже проходили эти нечестивые турки, – говорят, что у турок есть большие бомбарды.
– Бомбарды? – спросил Константин, хмурясь. – Но у нас они тоже есть.
– Не такие, Коста… – Дука тяжело вздохнул. – Те, кто уже видел новые бомбарды Мехмеда и остался в живых, говорят, что эти машины равняются по длине высоте жилого дома. Они такие огромные, что внутри них человек может стоять в полный рост…
Дука замолчал, и Константин терпеливо дожидался, когда его наставник заговорит снова.
– Самая большая из них стреляет камнями размером с телегу, везущую сено, на расстоянии более мили, – продолжил Дука. – Я слышал, что их называют «покорителями городов» и что они такие громоздкие, что требуется сто человек и столько же тягловых животных, чтобы переместить их за целый день на милю или две.
– «Покорители городов», – задумчиво повторил Константин. Его лицо вдруг стало мрачным, как небо, на котором сгустились грозовые тучи. – Возможно, пальцы Аллаха в конце концов стали достаточно длинными, чтобы дотянуться до кости и вытащить ее из горла раз и навсегда.
35
В то время как Мехмед и его воины движутся в сторону Константинополя, высоко в небе парит бородач.
Великий Город, отраженный в блестящих золотых глазах птицы, кажется лоскутным одеялом. Окружающие его стены все еще выглядят непоколебимыми, как горный хребет, но они все же поистерлись за долгие годы, как зубы у старика. Построенные более тысячи лет назад, они готовы дать отпор всем, кто попытается преодолеть их. За этими стенами – то в тени старинных зданий, а то и на открытом солнце – горожане живут своей жизнью среди паутины улиц и переулков. Некоторые строения имеют довольно большие размеры, особенно церкви и гробницы, но в общем и целом в городе не меньше пустырей, чем застроенных участков. Константинополь постепенно забывает сам себя.
Город так и не смог полностью восстановиться после сокрушительного опустошения, которому он подвергся, когда его захватили крестоносцы – христианские воины, прибывшие сюда по морю в 1204 году. Это насилие, устроенное, можно сказать, родными братьями, он не сумел перенести безболезненно, и полученные им раны так никогда полностью и не зажили. А теперь у города ко всему прочему начало развиваться старческое слабоумие, которое выливается в отрешенность от мира сего и в рассеянность.
Там, где когда-то были дома и лавочки, улицы и переулки с многочисленными мастерскими и торговыми палатками, в которых люди напряженно работали и добивались чего-то, теперь простираются пустоши, поросшие травой, кустарником и даже деревьями, вытесняющими и уничтожающими то, что было создано руками людей. Самую грустную картину представляет собой огромный ипподром, на котором в прошлые времена проходили состязания возничих и шумели многочисленные зрители. То, что прежде воспринималось как настоящее чудо, теперь постепенно приходит в упадок. Пустые постаменты горюют по утащенным с них большим бронзовым лошадям, отлитым для Александра Македонского. Их когда-то очень давно привезли сюда с какой-то войны в качестве военного трофея, но два с половиной столетия назад они стали добычей мародеров.
Мехмед и его турки, возможно, жаждут завладеть Константинополем так сильно, как никто другой до них, но объектом их вожделения является город, чья некогда идеальная картина постепенно размазывается и становится нечеткой: пятна, возникая одно за другим, затуманивают и портят изображение. Великий Город подобен книге, оставленной открытой в дождь, отчего половина слов оказалась размытой. Некоторые из таких потерь являются следствием небрежности, но многие из них вызваны всего лишь безжалостной деградацией, неизбежно сопровождающей процесс старения, – старения того, кто пожил уже достаточно долго. Даже слишком долго.
Любой город представляет собой мечту, которую разделяют и которую видят во сне его обитатели. И вот теперь блаженный сон Византии заканчивается – и приближается утреннее пробуждение. Город видит во сне, что он молодой и красивый, каким он был когда-то и каким он надеялся быть всегда. Но когда он посмотрит на себя в зеркало при первых лучах дневного света, он увидит, что время его не пощадило.
Там, где когда-то мечта имела глубокий смысл, теперь многие сцены кажутся бессмысленными и непонятными, а потому обреченными на забвение. По всему городу стоят статуи и памятники, названия которых жители уже забыли. Над их поникшими головами, на стенах и украшенных скульптурами портиках с рифлеными колоннами, видны красивые надписи, однако время нанесения этих надписей и их смысл уже тоже всеми забыты.
Мечта, представляющая собой главную истину, которая скрепляла все это подобно тому, как строительный раствор скрепляет кирпичи, превращается в пыль и уносится прочь ветром. Поскольку жители уже больше не помнят того, что в основе существования их города лежали легенды, и теперь даже не интересуются этими легендами, их вытеснили суеверия, слухи, нелепые мифы и страшные сказки, которыми пугают детей.
Предстоящая осада турками-османами во многих отношениях является меньшим из двух зол, ибо Константинополь умирает изнутри.
В поле зрения бородача оказались две части османского войска, пока еще едва заметные, но неумолимо приближающиеся к городу. Мехмед отнюдь не случайно выступил из Эдирне в пятницу. Он выбрал этот священный день мусульманской недели для того, чтобы его воины осознали священный характер этого похода. Он убыл из своей столицы в сопровождении своих священников, шейхов и визирей на гребне волны воинов и животных, которая всем, кто ее видел, казалась растянувшейся от горизонта до горизонта. Громко звучали трубы, повсюду раздавались воинственные и радостные крики людей, выступающих в поход и шагающих по тянущимся вдаль дорогам.
Хотя все это и выглядит впечатляюще (а впереди воинов уже летят ужасные слухи, которые сами по себе могут напугать и заставить обратиться в бегство всех тех, кто не является последователем Пророка), это всего лишь половина войска султана. На каждого пехотинца или кавалериста, отправившегося в поход из Эдирне на западе, приходился один точно такой же воин, прибывший на второй сборный пункт, расположенный на востоке, а именно в городе Бурса в Анатолии. С этого сборного пункта воины тоже отправляются в поход на Великий Город. Константинополь представляет собой своего рода одинокий белый камень, лежащий на пути вихревого водного потока, надвигающегося на него со всех сторон.
Христианский император Константин готов их встретить – по крайней мере настолько, насколько он может быть готов. Он более чем в два раза старше Мехмеда. Он приказал своим чиновникам найти в пределах стен города всех и каждого, кто способен сражаться, и теперь, когда данное задание было выполнено, в списке оказалось менее восьми тысяч имен.
Император поэтому похож на оленя, оказавшегося в отчаянном положении. Он опустил свои рога в сторону подступающих к нему многочисленных хищников, грозно щелкающих зубами. Однако он сражался и раньше, причем много раз, и ему следует возложить свою надежду на стены города и на Бога.
Отчаяние жителей Константинополя усиливается еще и тем, что в приближающемся турецком войске есть христиане, и исчисляются они тысячами. Основу войска султана составляют янычары – профессиональные пешие воины, кавалеристы и артиллеристы. Родившись в христианских семьях, они были еще в детстве уведены в плен и насильно обращены в ислам людьми, главное оружие которых – кривая сабля. В турецком войске имеются также и христиане-наемники, готовые сражаться за кого угодно, лишь бы им платили за это золотом и серебром.
Не только император, но и его подданные возлагают свою надежду на стену и на Бога. Константинополь – это город, задуманный как небеса на земле, а император – помазанник Божий и богоугодный защитник веры. Везде и всюду в городе произносятся молитвы и совершаются религиозные ритуалы. Звонят в колокола, бьют в деревянные гонги и непрерывно носят по улицам святейшие из святых икон, давая верующим надежду. Вот камень из могилы Христа, вот его терновый венец, вот гвозди из его креста. А вот еще кости его апостолов и голова Иоанна Крестителя.
Если на рыночных площадях и в тавернах других городов люди говорят о чем угодно и обсуждают все, что им интересно, то в Константинополе в основном говорят о религии. Каждый человек считает, что воля Бога ему известна лучше, чем его соседу. Они все время пререкаются друг с другом и объявляют еретиком и отступником любого, кто имеет другое мнение или поступает не так, как они. В результате они превращают в своих врагов всех других людей – а особенно своих братьев-христиан, живущих к западу от них. Проклиная своих соседей, они тем самым проклинают себя.
Они обращают свой взор вверх, на небеса, но оттуда на них смотрят только птицы.
Ближе всего к городу – уже, можно сказать, почти в тени его стен – находятся турки, которым поручено транспортировать бомбарды Орбана и которые отправились в путь намного раньше основных сил. Одна лишь Великая Бомбарда требует для своей транспортировки отряды в несколько сотен человек и десятки тягловых животных. Ее ствол укладывается на три повозки, соединенные друг с другом цепями. Ее бронза потускнела, и она уже не блестит так ярко, как раньше, а лишь зловеще поблескивает. Быки стонут, но тянут смертоносный груз, а погонщики помогают им, продвигаясь вперед ярд за ярдом.
Далеко впереди них движутся отряды чернорабочих, плотников и ремесленников, которые прокладывают дорогу и наводят мосты, чтобы провезти по ним Великую Бомбарду и всю остальную артиллерию.
В сторону Константинополя движутся и другие персонажи – менее заметные, но не менее значительные, – и цели у них совсем другие. Особое значение имеют скользящие по поверхности Мраморного моря, словно водяные жуки, три корабля, составляющие одну флотилию. Когда они, изменив направление, входят в бухту Золотой Рог и приближаются к императорской гавани, бородач ненадолго переключает свое внимание на них.
На пределе остроты зрения он умудряется заметить своими удивительными глазами маленькие точки – людей, движущихся на палубе судна, которое плывет первым.
36
Принц Константин был отнюдь не одинок в своей скорби по поводу того, что в результате нашествия крестоносцев в 1204 году все было утрачено. Сердце Византии тогда было разбито, и хотя оно все еще билось, его древний ритм был навсегда нарушен.
Стоя на борту корабля, возглавляющего маленькую флотилию, которая направлялась в сторону императорской гавани Константинополя, Ленья размышляла о тяжелой ситуации, сложившейся в этом городе. Когда она училась боевому искусству, отец как-то рассказал ей грустную историю о Константинополе, и эта история навсегда сохранилась в ее памяти. Будучи ревностным воином Христовым, она чувствовала боль израненного города, как будто ей самой в живот воткнули нож.
Она дышала глубоко, наслаждаясь чистым и свежим морским воздухом, пахнущим солью, и позволяя ему очистить ее мысли от всего того ужаса, который когда-то устроили в Константинополе якобы во имя Христа.
Ей казалось, что с каждым новым вдохом в ее тело снова вселяется сама жизнь. С тех пор как их морское путешествие началось пару недель назад, Ленья впервые почувствовала себя более-менее хорошо. В течение же почти всего предыдущего периода она очень сильно страдала от морской болезни, которая, казалось, проникла во все уголки ее организма. Более двух недель толстопузая каракка беспрестанно болталась на волнах от килевой и бортовой качки. Впрочем, морская болезнь Леньи была ей на руку, ибо у нее появилась возможность не выходить на палубу и не показываться на людях. Стоя сейчас на палубе и наслаждаясь свежим воздухом, она не забывала старательно скрывать нижнюю половину своего лица под большим шейным платком.
Она разглядывала тонкую белую линию, протянувшуюся вдалеке на суше. Это, по-видимому, была стена Константинополя, обращенная к морю. Ее деталей почти не было видно из-за тумана и дымки. Глядя вдаль, Ленья массировала ноющие мышцы живота.
Когда Джон Грант сообщил ей, что ему удалось договориться, чтобы их обоих взяли на борт судна, плывущего в Константинополь, она обрадовалась не меньше юноши. Вымазанный в крови ангел, которого она видела на скалистой вершине холма, напомнил ей своим появлением, кто она такая. Когда сверкнула молния и прогремел гром, она увидела путь, по которому ей нужно идти. Отсрочка ее смерти – смерти мученика – стала для нее почти невыносимым бременем. Она сумела избежать сожжения на костре, но тем не менее позволила утащить себя в настоящий ад. Ее вина давно давила на душу с тяжестью могильной плиты, и все хорошее уже было выдавлено из нее, как сок из яблока. Осталась только кожура.
Но к ней снова явился ангел, и он открыл ей глаза на саму себя, дал силу и стимул помнить, кто она такая и какое у нее предназначение. Ей вернули ее ребенка – сына, от которого она когда-то отказалась, и теперь она пойдет вслед за ним до конца. Он направлялся в Константинополь, надеясь спасти там какую-то девушку. Ленья решила, что поедет туда тоже, чтобы, возможно, спасти там свою душу.
В обмен на то, что их двоих доставят в Константинополь, Джон Грант пообещал, что они примут участие в предстоящей войне. Их судно было одним из трех кораблей, которые везли в Великий Город отряд вооруженных людей, и то, что к ним присоединятся два профессиональных воина, было весьма кстати. Ленье не раз удавалось выдавать себя за мужчину, поэтому надеялась, что и сейчас все получится, если, конечно, никто не станет обращать на нее особого внимания.
Они договорились, что Джон Грант будет вести все переговоры, а она будет помалкивать и делать вид, что у нее угрюмый характер. Она станет во что-то вмешиваться только тогда, когда ему потребуется ее помощь. Поскольку анонимность всегда без особого труда обеспечивалась жестокими и бесчеловечными порядками, существующими на кораблях, перевозящих воинов, ей было нужно всего лишь не выставлять напоказ свое лицо и избегать общения с людьми, находящимися на судне. Случилось так, что по причине морской болезни ее упрятали на нижнюю палубу с несколькими десятками таких же, как она, и поэтому в течение некоторого времени Ленья была всего лишь страдающим беднягой, который, скорчившись, лежал где-то в углу и к которому никто не хотел подходить.
Руководил перевозкой отряда и самим отрядом один генуэзский дворянин, который из собственного кошелька оплачивал все это мероприятие, то есть давал деньги на содержание частного войска из восьми сотен человек, на оружие и перевозку их на судах. Это решение генуэзец принял в ответ на последнее, полное отчаяния обращение, поступившее от самого императора.
Их стремление попасть в Константинополь, похоже, невольно оказалось своего рода реакцией на призывы, которые доходили до самых далеких уголков мира, словно круги на воде пруда, расходящиеся от места падения брошенного в нее камня.
– Бадр был прав, – сказал Джон Грант после своего возвращения из гавани, где он договорился о том, чтобы их взяли на корабль.
– Относительно чего? – спросила Ленья.
– Относительно османов. Несколько лет назад Бадр сказал, что они на подъеме, и мы потом сражались на их стороне далеко не один раз. Но я сомневаюсь, что даже он сумел бы предвидеть, как высоко они смогут подняться.
Ленья кивнула и посмотрела куда-то далеко позади него.
– Их желанию захватить Константинополь столько же лет, сколько их вере, – сказала она. – Их Пророк предсказал, что когда-нибудь этот город угодит к ним в руки. Они с тех пор в это свято верят.
– И время для этого, похоже, пришло, – задумчиво произнес он. – Если ветры этой бури могут пригнать меня туда, куда я хочу попасть, то это замечательно.
Ленья пожала плечами и стала собирать свои немногочисленные пожитки. Небрежное отношение Джона Гранта к опасности, нависшей над христианским городом со стороны мусульманской орды, причинило ей душевную боль, но она ничего не сказала по этому поводу.
Их путешествие с того момента, как они выбрались из наводящей ужас тесноты туннеля, и до того момента, как они оказались внутри каракки, провонявшейся какой-то кислятиной, заняло почти год. Поначалу она вела счет дням, потом – месяцам, пока в конце концов ей это не надоело. Они путешествовали, имея при себе только то, что позволяло им как-то выживать. Те мили, которые отделяли их сейчас от конечного пункта их путешествия, уже не имели никакого значения. Сила, влекущая ее в Константинополь, была уже даже больше, чем сила, влекущая туда Джона Гранта. Впрочем, она предпочитала помалкивать на сей счет.
Она почти все путешествие мучилась от морской болезни, то блюя в деревянное ведро (хотя ее желудок вроде бы был пустым), то попивая солоноватую воду, которая позволяла ей не умереть, и не более того. Эти страдания напоминали ей о путешествии, которое она совершила давным-давно со своим отцом на Западные острова Шотландии, чтобы навестить Макдональда из Айлея. Тогда, будучи маленькой девочкой, она тоже испытывала во время долгого плавания по морю тошноту и недомогание. Однако те мучения казались ей пустячными по сравнению с тем, что ей довелось испытать сейчас, в ее нынешнем возрасте. Она даже готова была молить Бога о смерти, если бы не считала, что в столь тяжелых обстоятельствах, когда на кону стоит так много важного, у нее просто нет права о чем-то просить Всемогущего.
Кроме того, если исключить морскую болезнь, на душе у нее был относительный покой.
– Я не знал, что человек может быть таким бледным, – сказал Джон Грант, придя в очередной раз навестить ее.
Несмотря на испытываемые ею страдания, его внимательность к ней не вызывала у Леньи особой радости, потому что если что-то могло заставить ее почувствовать себя еще хуже, так это присутствие рядом с ней человека – любого человека, – который явно чувствует себя хорошо. Впрочем, она предпочитала об этом не говорить.
– Оставь меня в покое, – сказала она.
Ей хотелось не разговаривать, а слушать, потому что все ее попытки произнести хотя бы несколько слов вызывали в ее больном горле такое ощущение, как будто она глотала горячий песок.
– У меня хорошая новость, – сообщил Джон Грант. – Капитан сказал, что мы будем в Мраморном море ровно через сутки.
– А плохая новость? – спросила она.
– Плохих новостей нет, – усмехнувшись, ответил он. – Джустиниани говорит, что погода наконец-таки меняется в лучшую сторону. Ветер дует нам в спину… или наискось… или нам в бок… или… или туда, куда он, Джустиниани, и куда мы, а особенно ты, хотим, чтобы он дул.
– А ты, я гляжу, большой знаток по части навигации, – с иронией в голосе заметила она.
– Еще какой, – улыбнулся он. – А еще я могу сказать, что мы прибудем в Константинополь не позднее чем через день или два.
Такие разговоры, которые она вела всего лишь несколько часов назад, теперь казались ей чем-то давнишним. Те грозовые тучи, которые собирались над христианской Византийской империей, похоже, взволновали море на тысячу миль вокруг, – но погода, как и предсказывалось, изменилась, и она, Ленья, проснувшись утром, увидела, что море гладкое, как поверхность растительного масла, налитого в плошку, и их корабль пребывает в неподвижности.
Почти мгновенное изменение ее состояния показалось ей почти волшебным, и она мысленно произнесла благодарственную молитву. Она вдруг почувствовала, что может встать на ноги и, более того, вылезти на палубу из тесного зловонного помещения, находящегося под палубой.
Джон Грант, увидев появившуюся из люка Ленью, сразу же подошел к ней. Между ними все еще существовала некоторая отчужденность: они оба вели себя настороженно, будучи не уверены в том, какие намерения могут быть у противоположной стороны. Тем не менее она заметила в его манере поведения что-то такое, что было похоже на сильное желание видеть ее рядом с собой.
– Как поживает твой новый друг? – спросила она.
Джон Грант знал, что она имеет в виду Джованни Джустиниани Лонго – человека, без которого трудно представить не только этот корабль, но и другие суда флотилии.
Находиться рядом с ним было все равно что находиться рядом с жарким пламенем: он источал тепло, но в то же время представлял собой серьезную опасность. Будучи на голову ниже Джона Гранта, Джустиниани обладал довольно развитой мускулатурой. Гладко выбритый, с тонкими чертами лица, полными, почти как у девочки, губами и иссиня-черными волосами, он выглядел довольно привлекательно. Однако больше всего внимания обращали на себя его глаза. Большие, темные, глубоко посаженные под густыми бровями, они светились каким-то внутренним светом, что свидетельствовало об остром уме, а также то ли о грусти, то ли о сожалении. Его одежда, явно дорогая и хорошо скроенная, была, однако, измятой и поношенной. Со стороны казалось, что он никогда не пребывает в состоянии покоя: он всегда ходил туда-сюда среди людей, задавая вопросы, проверяя оснащение или пытаясь разобраться в возникшем споре.
Когда Ленья упомянула его в разговоре с Джоном Грантом, они оба тут же поискали глазами своего нового командира и увидели, что он возится с морской астролябией.
– Он полон энергии, – заметил Джон Грант. – Если мы должны пойти на войну, то это хорошо, что мы пойдем на нее с таким, как он.
Ленья ничего не сказала в ответ. Джон Грант, встревоженный ее молчанием, повернулся и внимательно посмотрел на нее.
– Ты жалеешь о том, что приехала сюда? – спросил он.
Она отрицательно покачала головой. Она ведь говорила ему, что у нее есть свои дела в Константинополе. Впервые она заявила ему об этом, когда они сидели у поспешно разведенного на речном берегу костра и согревались после своего прыжка в воду со скалы, внутри которой они ползли по ужасно узкому туннелю. Он тогда усомнился в правдивости ее слов.
Он уже давно знал, что над Великим Городом нависла страшная угроза: турки серьезно вознамерились уничтожить этот последний оплот христианства на Востоке. Все профессиональные воины знали об этом на протяжении уже нескольких лет, и некоторые из них подтягивались в эти места в надежде на то, что удастся неплохо заработать.
Обе противоборствующие стороны нанимали профессиональных воинов – и христиан, и мусульман, – и мечи наемников стоили теперь очень даже дорого. Джон Грант когда-то вместе с Бадром Хасаном сражался поочередно за обе эти империи, и результат их борьбы его не очень-то волновал. Его единственной мотивацией сейчас было данное им обещание позаботиться о безопасности дочери Бадра. Если для выполнения этой задачи ему нужно встать на сторону христиан, то так тому и быть.
Но, похоже, слухи о тяжелой ситуации, в которой оказался этот город, дошли и до монастыря возле гробницы святого Иакова, в котором скрывалась Ленья. Ей тоже было известно о нависшей над Константинополем опасности, и ее, по-видимому, волновала дальнейшая судьба этого города. Почему и в какой степени она ее волновала, этого Джон Грант пока еще не знал.
Стены города стали видны уже более отчетливо. Они вздымались вверх почти из самого моря, словно волны с белыми барашками. Корабль вдруг приподнялся на неожиданно появившейся большой волне и затем резко опустился вниз. Ленья почувствовала, что внутри нее все переворачивается, и, потянувшись руками вверх, ухватилась за канат, чтобы удержаться на ногах.
– А какие у тебя здесь свои дела, если честно? – спросил Джон Грант. – Почему ты приехала сюда?
От приступа тошноты ей на мгновение стало дурно, к горлу подступил комок, дыхание сбилось, и она, прежде чем ответить, тяжело сглотнула.
– Боюсь, мне нужно благодарить твоего Ангуса Армстронга за то, что я отправилась сюда, – сказала она. – Если бы он не схватил меня, я бы не… Я бы не получила знак свыше. Именно поэтому я сохранила ему жизнь.
– Знак свыше? – удивился Джон Грант.
– Дело в том, что я чересчур долго пряталась, – только и всего, – сказала Ленья. Она провела растопыренными пальцами по своим волосам, поправляя и приглаживая их. – Схватив меня, он… он заставил меня вернуться в обычный мир.
Джон Грант догадался, что она сейчас недоговаривает.
Возможно, очень важного недоговаривает.
– А почему ты находилась именно там, а не где-то еще? – спросил он. – Почему именно возле гробницы святого Иакова?
– Это была идея Патрика Гранта, – сказала она. – Просто он хотел спрятать меня куда-нибудь подальше.
– Подальше от чего?
– Подальше от сэра Роберта Джардина, – ответила она.
– Расскажи мне об этом, – попросил он.
Она почувствовала, что ей становится как-то не по себе. События, о которых они сейчас завели разговор, произошли очень давно, но тлеющие угольки ее воспоминаний вдруг разгорелись с таким жаром, что она не на шутку разволновалась. Почувствовав, что краснеет, Ленья натянула скрывающий нижнюю часть ее лица платок аж до переносицы. Но, несмотря на то что эта история причиняла ей душевную боль, желание рассказать ему о себе оказалось сильнее.
– Когда-то давно, много лет назад, еще в моей молодости, я ходила на войну.
Он поднял брови.
– Я была лучшим воином среди многих, – продолжала она. – Я тренировалась не меньше других, а то и больше. Я была рождена для этого. Я не знаю почему – я только знаю, что это так. Как я тебе уже рассказывала, мой отец позаботился о надлежащей подготовке, и, когда мы вернулись из Шотландии, меня привезли к дофину – человеку, который должен был стать королем.
Слушая рассказ Леньи, Джон Грант смотрел на ее платок – это было легче, чем смотреть ей в глаза.
– Они привели меня в комнату, в которой собралось много людей. Я там никого не знала, ведь я была всего лишь крестьянской девушкой, а эти люди являлись великими деятелями королевства. Едва увидев его, я сразу поняла, что именно он и есть наследник престола.
– Как ты это поняла? – спросил Джон Грант.
– Я тебе уже объясняла, – с укоризной произнесла она. – Бог говорит со мной через ангелов, и я слушаю.
– Бог указал тебе на принца?
Она посмотрела на него с сочувствием, и он пожалел о том, что в его голосе прозвучала неприкрытая насмешка.
– Я высвободила руку из руки своего отца и прошла через всю комнату к принцу и, когда он повернулся ко мне, опустилась перед ним на колени.
– И что произошло?
– Что произошло? Люди ахнули – вот что произошло, – сказала Ленья. – Люди ахнули и стали хлопать в ладоши, а дофин взял меня за руку и помог мне встать.
– И что он сделал с тобой, всего лишь крестьянской девушкой?
Она снисходительно улыбнулась.
– Он назначил меня командовать его войском. Он сказал, что я – орудие Божье и что только я могу избавить его королевство от англичан.
– А мой отец?
– Меня все время сопровождали телохранители – шотландцы. Среди них был сэр Роберт Джардин. Патрик Грант служил ему – и, получается, служил мне.
– Служил тебе?
– После того как мы одержали победу и англичане обратились в бегство, Джардин задумал урвать себе кусок побольше. И он предал меня. Предал всех нас. Он приказал своим людям убить моих телохранителей, схватить меня и отвезти моим врагам. Поскольку я утверждала, что слышала слово Божье, англичане называли меня еретичкой и ведьмой. Они устроили надо мной суд, признали меня виновной и приговорили меня к сожжению на костре. Но в ночь перед казнью Патрик Грант пришел в тюрьму, освободил меня из моей тюремной камеры и увез.
– Ты говоришь так, как будто воспоминания об этом наводят на тебя грусть, – заметил Джон Грант. – А ведь мой отец спас тебя от ужасной смерти.
– Я этого не отрицаю, – сказала она.
– Тогда что же здесь такого грустного? – спросил он.
– Грустно то, что вместо меня умер другой человек, – объяснила Ленья. Произнося эти слова, она, похоже, не отваживалась посмотреть на своего собеседника, а потому глядела, не отрываясь, на море. – Английский военачальник не мог позволить себе так подорвать свою репутацию, – продолжала она, – и поэтому, вместо того чтобы признать, что я сумела сбежать, он приказал своим людям схватить какую-нибудь другую девушку – такую же крестьянку, как я, но только никогда не державшую в руке меча. Ее и постигла моя трагическая участь. Ей подстригли волосы и одели ее так, чтобы она стала похожа на меня, и объявили пришедшей посмотреть на казнь толпе, что это и есть я. Она не причинила никакого вреда – ни им, ни кому-либо еще, – но ее тем не менее привязали к столбу и сожгли на костре.
Джон Грант в течение некоторого времени молча размышлял над тем, что он только что услышал.
– Смерть той девушки не должна тяготить тебя, – наконец сказал он. – В тот момент тебя там не было. Ты не могла знать о том, что произойдет.
– Но я позволила ему забрать меня, – возразила она.
– Что ты имеешь в виду?
– Я боялась, – тихо произнесла Ленья. – Боялась, что сгорю в огне.
– Тогда считай виновным моего отца, – сказал он. – Это ведь он тебя увез.
– Я могла остановить его.
– Кого?
– Я могла остановить твоего отца и принять свою судьбу.
Она посмотрела ему прямо в глаза.
– Я могу остановить кого угодно, – отчеканила она. В ее голосе не чувствовалось ни капельки хвастовства, она просто констатировала факт.
– Ну и что у нас тут?
Этот вопрос задал какой-то мужчина, стоящий у них за спиной. Как и все остальные наемники на борту этого судна, он говорил на тосканском диалекте. И Ленья, и Джон Грант его прекрасно поняли. Они слишком увлеклись своей беседой и не заметили, что он подошел к ним достаточно близко, чтобы услышать этот непростой разговор.
Оба резко обернулись. Джон Грант краем глаза увидел, что Джустиниани тоже услышал прозвучавший вопрос, хотя, скорее всего, его внимание привлек его сердитый тон. Пока они втроем стояли и смотрели друг на друга, другие люди, находящиеся на палубе, почувствовали, что атмосфера вдруг резко изменилась, и один за другим прекратили делать то, чем они занимались. Всем было интересно посмотреть, что сейчас будет происходить.
– Ну и что у нас тут? – повторил свой вопрос мужчина. Он был средних лет, худой и мускулистый. Такое телосложение, видимо, являлось результатом тяжелой работы и еще более тяжелого участия в военных кампаниях. Осознав, что он оказался в центре всеобщего внимания, и обрадовавшись этому, он повысил голос, чтобы было слышно всем.
– Вот у него тут есть подружка, – сказал он, указывая жестом на Джона Гранта.
Затем он попытался схватить пальцами платок, частично скрывавший лицо Леньи, но она проворно отпрянула назад. Раздался смех, кто-то стал свистеть. Зрителям, похоже, хотелось, чтобы обстановка накалилась еще больше. Это путешествие было долгим и нелегким, и поэтому все обрадовались неожиданно возникшей возможности поразвлечься.
Джон Грант бросил взгляд на Джустиниани. Тот, положив на палубу астролябию, наблюдал за происходящим, как показалось юноше, с некоторой озабоченностью. Однако, несмотря на то что ему, похоже, было не все равно, что происходит между этими людьми, его поведение свидетельствовало о том, что он склонен был дать им самим выяснить отношения.
– А ну-ка, давай на тебя посмотрим, – сказал мужчина, и на этот раз сделал резкий шаг вперед с явным намерением схватить Ленью за плечи.
Хотя морская болезнь заметно ослабила как ее мышцы, так и органы чувств, у нее сохранилась удивительная быстрота реакции, позволяющая мгновенно реагировать на самые неожиданные движения противника. Когда мужчина только начал двигаться в ее сторону, она сделала молниеносный шаг, но не от него, а наоборот, к нему, поворачиваясь при этом правым плечом и слегка пригибаясь. Энергия его движения вперед, усиленная качнувшимся кораблем, сыграла скорее в ее пользу, чем в его. Моментально засунув правую руку ему между ног возле промежности, а левой крепко схватив его за горло, Ленья одним грациозным и легким движением перебросила своего противника через колено так, что он, перевернувшись в воздухе, шлепнулся на спину.
Его падение сопровождалось таким громким звуком, что зрители невольно поморщились и стали с сочувствующим видом пожимать плечами, понимая, как сильно он ударился о палубу. Затем Ленья уперлась одним коленом в его шею и выставила нож Ангуса Армстронга, так что его кончик оказался как раз над правым глазом противника.
– А ну-ка, прекратите!
Это раздался голос Джустиниани, который широким шагом шел к ним. К тому моменту, когда он приблизился, Ленья выпрямилась во весь рост.
Она подбросила нож и затем схватила его так, чтобы его лезвие оказалось в ее руке и чтобы можно было протянуть его рукояткой Джустиниани. Тот остановился и уставился на это оружие. Как и все остальные, он не заметил, каким образом в ее руке появился нож. Он слегка поднял руки и покачал головой.
– Нет, нет, – сказал он. – Это явно принадлежит тебе, но ты эту штуку лучше убери.
Ленья проворно засунула нож лезвием вперед в свой правый рукав – и он исчез, как будто его и не было.
Джустиниани вопросительно посмотрел на нее, и она в ответ стащила со своего лица платок. Затем она, не моргая, уставилась ему прямо в глаза, и он выдержал ее взгляд.
– Что ты здесь делаешь, женщина? – спросил он.
Джон Грант открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Джустиниани жестом велел ему молчать.
– Я обманула вас, – сказала Ленья. – Но если вы идете войной на турок, то я обладаю навыками, которые могут быть полезными.
Джустиниани посмотрел на поваленного Леньей воина, который, тяжело дыша, только теперь начал двигаться. Перевернувшись на живот, он с трудом поднялся на четвереньки, таращась на Ленью широко раскрытыми от удивления глазами. Будучи опытным воином, он участвовал во многих битвах и разных опасных переделках. Джустиниани доводилось видеть, как он храбро сражался, не отступая ни на шаг, в ситуациях, когда многие из его товарищей обращались в бегство. А вот эта женщина швырнула его наземь, как какой-нибудь плащ.
– В моих сражениях женщины не участвуют, – холодно произнес Джустиниани.
– Ну и зря, – сказала она. – И как же я вам тогда пригожусь? Мы путешествуем вместе – этот парень и я, – и мы сражаемся вместе.
Она показала взглядом на Джона Гранта, и тот кивнул.
– У меня нет времени разбираться в этом, – заявил Джустиниани. – Через несколько часов мы прибудем в порт, и сражаться я буду там, а не здесь, на этом корабле.
Он показал на Джона Гранта и заговорил непосредственно с ним:
– А вот
ты у меня на службе. И как ты пристроишь свою… своего спутника, это уже твое личное дело.
Он отвернулся, показав при этом широким жестом, что разговор окончен. Перед его мысленным взором снова промелькнула сцена, в которой его воин перевернулся в воздухе и шлепнулся на палубу, как брошенная рыбаком рыба.
Не оборачиваясь, Джустиниани добавил:
– Я только попрошу тебя больше не мутузить никого из моих людей.
В ответ на эту его реплику на палубе послышался смех, а потом зрители начали оживленно обсуждать происшедшее, удивляясь тому, что им только что довелось увидеть.
Воин, с которым так легко справилась Ленья, наконец-то поднялся с палубы и теперь отряхивал одежду и вытирал лицо ладонями.
– Кто ты? – спросил он.
– Я Жанна д’Арк, – ответила она.
37
Поспешно выходя из спальни принца Константина, Ямина чувствовала, как к ее лицу прилила горячая пульсирующая кровь. Каблуки ее туфель громко стучали по каменному полу коридора. Она закрыла одной ладонью щеку, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение. Однако необходимости в этом не было: дворец был почти пустым. Звуки и запахи турецкого войска доносились уже почти из-под самых стен, а потому все, кто только мог, отправились куда-нибудь в более безопасное место.
Даже воздух внутри дворца отдавал чрезмерной сыростью затянувшейся зимы, и в нем чувствовался страх перед надвигающимися событиями. Холод и унизительное зловоние казались своего рода саваном, готовым принять в себя мертвеца… Ямина шла через залы и внутренние дворы, в которых витал запах конца света.
Константинополь был старым – таким старым, что не все уже помнили, когда он появился. Этот город перенес нападения стольких врагов, скольких никто никогда не видел, но при этом загнивал изнутри из-за алчности и небрежения. И вот теперь турки-османы пришли травить привязанного медведя, и их желание делать это казалось неутолимым. Укус за укусом, равнина за равниной, холм за холмом, город за городом – вот так они постепенно захватывали территории империи, пока от нее не остался почти только сам Великий Город.
Ямина знала, что ей следовало бы сконцентрироваться на текущих нуждах Константинополя. Но она была всего лишь молоденькой девушкой, а потому оптимизм и надежда сочетались в ней с растерянностью и страхом. Ее голова была заполнена мыслями о том, что может означать выздоровление принца – пусть даже всего лишь частичное – и к каким изменениям оно может привести в их отношениях. В течение шести лет она знала его только таким, каким он стал в момент их трагической встречи в соборе Святой Софии – сначала юноша, а затем мужчина, но неизменно не чувствующий свои ноги и не обладающий способностью хотя бы пошевелить ими.
Прикованный к постели, он был душой, отделенной от других людей, от других мужчин.
Она ни разу не слышала, чтобы он жаловался, и из-за его стоицизма осознавать его тяжкое положение было еще невыносимее. Несмотря на свое искалеченное состояние, Константин выдерживал на своих плечах тяжелый груз – невеселые реалии своего существования, причем делал это с легкостью. Он всегда подшучивал над самим собой и благодаря этому быстро разряжал тяжелую психологическую атмосферу, которая иногда возникала из-за необдуманных высказываний других людей.
Время от времени Ямина замечала рассеянное выражение на его лице, как будто он позволял себе переноситься в своих мечтах в какое-то место, где ноги слушались его, – но она никогда не просила его поделиться с ней этими его мыслями или рассказать ей о причине своей грусти. А он никогда ей и не рассказывал.
Она не могла вынести слово «калека» и поэтому всегда упрекала тех, кто произносил его в ее присутствии. Но это слово все равно таилось где-то рядом, в тени. Ей с самого начала понравился Константин (а вскоре она в него влюбилась), однако его физический недостаток стоял между ними буквально каждую минуту. Это была его темная сторона, о которой никогда не упоминалось.
Она сделала его калекой – или, в лучшем случае, они нарвались на такой результат вместе. Она вообще-то не просила никого спасать ее, когда падала с высоты, но тем не менее была ему благодарна. Только он – и никто другой – решился и побежал ловить ее с вытянутыми руками, бросая тем самым вызов силе тяжести. Он спас ее, а она повредила ему позвоночник – вот так все и случилось. После этого, когда ее собственная судьба оказалась в подвешенном состоянии (она ведь стала сиротой), Константин удивил всех тем, что настоятельно заявил, что о
ней позаботится
он. Лежа в постели, возле которой врачи сокрушенно качали головой, а его родители горевали над искалеченным сыном (тем более что империи, получается, доставался наследник престола, который был калекой), он позвал к себе ее, Ямину.
Перед лицом всех присутствующих он заявил, что она, Ямина, была послана ему Девой Марией и что, поймав ее на руки, он теперь считает своим долгом держать ее всю оставшуюся жизнь рядом с собой. Отец-император, растроганный словами сына, согласился выполнить это его желание.
Вообще-то, первой тогда заговорила сожительница и верный друг императора Елена. Подойдя к кровати Константина, она молча смотрела на него, и это, казалось, продолжалось бесконечно долго. Она была высокой, и поэтому Константину в его одурманенном состоянии почудилось, что ее лицо парит где-то высоко над ним, причем это красивое смуглое лицо своими чертами чем-то напоминало тонкие и изящные черты мордочки голодной кошки.
Он лежал привязанным к деревянной раме, которую изготовили по распоряжению Леонида, старшего из врачей. Леонид и по возрасту был самым старшим – ему было уже столько лет, что никто при императорском дворе не знал, как давно этот человек родился на белый свет. Леонид объявил, что больше всего надежды на выздоровление принца будет в том случае, если заставить его лежать неподвижно, привязав ремнями и веревками к жесткой конструкции. При таком подходе у его тела будет больше шансов восстановиться до предыдущего состояния.
Наконец Елена потянулась к Константину, по-видимому намереваясь взять его ладонь в свои руки и держать ее так, пока она будет говорить. Однако резкий звук, представлявший собой что-то среднее между шиканьем и цыканьем, остановил ее. Она резко оглянулась, чтобы узнать, кто издал этот звук, и ее темные глаза встретились с глазами Леонида, стоявшего у двери спальни вместе с тремя опечаленными коллегами. Этот звук слетел с его губ как бы сам собой в тот момент, когда он заподозрил, что она собирается поднять руку искалеченного принца или каким-либо образом пошевелить его, и теперь выражение на его лице свидетельствовало о том, что он раскаивается. Елена, смягчившись, улыбнулась старику, а он в ответ с извиняющимся видом скривился.
– Слова принца Константина показывают всем и каждому, какой он юноша… и каким он будет мужчиной, – сказала она.
Затем она замолчала и стала поочередно вглядываться в обеспокоенные лица собравшихся здесь людей. Выражение ее собственного лица, освещенного солнечными лучами через высокие окна, казалось таким праведным, что было трудно выдержать ее взгляд.
По комнате пробежал одобрительный шепот, похожий на ветерок, приносящий облегчение тем, кто находится в душном помещении.
Константин лежал неподвижно. Его взор был затуманенным от боли. Ему дали успокоительные наркотики, но его органы чувств оставались под контролем его рассудка. Он поднял взгляд на любовницу своего отца, напряженно ожидая, что же еще она скажет.
– В венах сироты Ямины течет императорская кровь, доставшаяся ей от ее матери – нашей сестры, похороненной совсем недавно и происходившей из рода Комнинов, того самого рода, представители которого отогнали турок аж до их родины два с половиной столетия назад, – снова заговорила Елена.
Она опять сделала паузу, и на этот раз тихий одобрительный гул, раздавшийся в комнате, стал свидетельством того, что эта женщина понимала настроения собравшихся у постели принца людей.
– Принц Константин воспринял это дитя как подарок, и кто мы такие, чтобы возражать ему после того, как он рисковал своей жизнью и едва не расстался с ней, пытаясь спасти эту девочку? В своей мудрости он принял ее в нашу семью. По правде говоря, она всегда была одной из нас.
Высказав свое мнение, Елена медленно отошла назад и снова встала рядом с императором. Константин Палеолог потянулся к ее руке и сжал ее ладонь в своей. На мгновение показалось, что он меньше стоящей рядом с ним женщины и не настолько значителен, как она, но кто знал, было ли это из-за охватившей его печали или из-за ее бравады перед лицом произошедшего несчастья?
– Да будет так, – сказал император срывающимся от волнения голосом. – Да будет так.
Его темно-голубые глаза заблестели, и он, не произнося больше ни слова, вывел Елену из спальни сына. Вслед за ним ушли все, кроме врачей, которые затем снова собрались у кровати юноши. Расхаживающие возле этой кровати, они были чем-то похожи на воды горной речки, омывающие большой валун, но не способные хотя бы чуть-чуть сдвинуть его с места.
С того дня и того часа Ямина стала де-факто принцессой Византийской империи, и она росла рядом с Константином, став его подругой и его утешением. Елена сдержала свое слово, а вместе с ней сдержал свое слово и император Константин. Ямина взрослела, постепенно превращаясь из девочки в девушку, и неизменно чувствовала их благосклонное отношение к себе. Однако как любой цветок, растущий в тени, она страдала от недостатка света и тепла. Она, можно сказать, понемножку, по чуть-чуть – как домашняя кошка лакает молоко – впитывала в себя тепло и находила большинство из того, в чем она нуждалась, рядом со своим принцем.
Она любила Константина так сильно, что иногда, находясь рядом с ним, чувствовала, как у нее перехватывает дыхание. Однако после того, как по прошествии нескольких лет ее детские потребности сменились потребностями взрослой девушки, уверенность в том, что они никогда не смогут быть вместе как муж и жена, легла зловещей тенью на ее сердце и стала своего рода потоком холодного воздуха, от которого ей становилось зябко.
И тут вдруг произошло вот это! Для нее это было сродни тому, как если бы сквозь разрыв в тучах совершенно неожиданно пробились согревающие золотые лучи солнца. Она почувствовала твердый выступ у Константина между ногами, почувствовала его тепло… Возможно ли возрождение жизни после нескольких долгих лет зимы? Пойдет ли это тепло дальше, вниз по его ногам? И станет ли в этом году запоздалая весна свидетелем того, что он снова сможет ходить?
На такое чудо рассчитывать не приходилось, и она это знала. Ямина закрыла глаза и покачала головой, чтобы отогнать свои мечты. Но, несмотря на все ее усилия заставить себя вернуться в прежний мир, в мир реальности, на ее покрасневшем лице застыла легкая радостная улыбка.
Ямина мало-помалу стала приходить к осознанию того, где она сейчас находится. Девушка вышла из покоев принца в таком смятении, что стала наугад подниматься по каким-то лестницам и бродить по едва знакомой ей части огромного дворцового комплекса. Погрузившись в свои тайные мысли, она случайно удалилась за пределы предназначенной для нее территории, а точнее говоря, оказалась в той части дворца, где хозяйкой была сожительница императора.
Ее резко вернули к реальной действительности звуки голосов, один из которых принадлежал какому-то мужчине, а второй – самой Елене. Елена разговаривала с этим мужчиной на повышенных тонах, и их разговор было слышно в коридоре через приоткрытую дверь, находившуюся в дюжине шагов от Ямины. В этом разговоре упоминалась свадьба, и это заставило ее остановиться и прислушаться.
Девушка подошла к стене и прильнула к ее прохладным камням, прижав одну ладонь ко рту, как будто хотела ослабить звуки своего собственного дыхания, мешающего ей подслушивать.
– Сейчас это стало еще более важным, чем раньше, – говорила Елена. – Речь ведь идет о внешнем приличии… о правильном порядке вещей… о вере!
Ямина так и не смогла распознать мужчину, который разговаривал с Еленой, но кем бы он ни был, его голос показался ей испуганным, а тон подобострастным.
– Конечно, конечно, – ответил он. – Я, конечно же, это понимаю. Вы правы, моя госпожа. Я просто хотел выяснить, по-прежнему ли вы считаете, что это будет самым лучшим использованием вашего времени. Ведь сейчас очень многие хотят, чтобы вы уделили им свое внимание.
– Не пытайтесь мне покровительствовать, – сказала Елена. Она произнесла эти слова спокойным и размеренным голосом, и от этого угроза, которая явно чувствовалась в них, показалась еще более серьезной. – Люди следят за каждым нашим поступком. Тучи, нависшие над городом, – самые черные за всю его историю. Если станет видно, что мы колеблемся… если в каком-либо нашем действии или заявлении почувствуется нерешительность, то… В общем, подумай о последствиях. В нашем городе живут самые суеверные жители на всей Божьей земле. Мы должны относиться к ним как к детям, ибо они ведут себя как дети. Если устроить им какой-нибудь маленький праздник, они станут улыбаться и забудут – по крайней мере на некоторое время – о том, что их ждет за стенами города.
– Конечно, – снова сказал мужчина. – Все будет хорошо.
– Должно
казаться, что все будет хорошо! – воскликнула Елена, резко повысив тон. – Должно казаться, что все будет хорошо, и пока они будут праздновать в связи с бракосочетанием принца и его невесты, мы предпримем те шаги, которые потребуются. Империи нужен хребет, а хребет у Константина поврежден. Он не должен стать тем, кто приведет наше население к гибели. Он не должен стать тем, кто приведет
нас к гибели.
Ямина еще сильнее прижалась к стене – так, как будто хотела пройти сквозь нее и все последующие стены здания и исчезнуть. Выложенная каменными плитами стена была прохладной, но все ее тело горело от жара надвигающейся со стороны Елены опасности. Девушка почувствовала, что ее щеки пылают, а к горлу подступил ком, как будто она попыталась проглотить кусочек стекла, а он застрял. На мгновение ей показалось, что она вот-вот закричит.
Несмотря на то что во всех помещениях дворца было довольно холодно, по ее телу волнами разливалась горячая пульсирующая кровь. Ямину часто охватывало ощущение холода в этих стенах независимо от времени года, но сейчас ей показалось, что от нее самой исходят тепло и свет – свет, из-за которого наверняка ее заметят, как замечают жука-светляка в темной пещере.
О чем был этот разговор? Что затевалось и почему? Елена намеревалась причинить Константину какой-то вред, и это было вполне очевидным! Ямина в одно мгновение – и впервые в жизни – мысленно представила себе жизнь в этом дворце и увидела ее такой, какая она есть. Этот дворец, как, впрочем, и весь город, постоянно погрязал в слухах и интригах. Об этом она знала всегда. Одни придворные оказывались в фаворе, другие – в опале. Одна придворная дама жила с любовником вдвое моложе ее, другая – напивалась допьяна вином к полудню каждого дня… Слухи, сплетни, кривотолки…
Час за часом драматические события и интриги текли, словно бурные речки, впадающие в Мраморное море и вызывающие рябь на его поверхности. Часто проливалась кровь. Кровь виновных или кровь невинных – кто мог это сказать? Чтобы самому как-то выжить, нужно было делать вид, что ты ничего не замечаешь. Ямина старалась тайком замечать как можно больше – и замечала немало. Ей частенько приходилось зажимать себе рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть в тот момент, когда доводилось узнать что-то ужасное. Но теперь Ямина вдруг почувствовала, что какая-то волна, которой она не может противостоять, тащит ее за ноги и грозит унести куда-то далеко. А потому, прижимаясь сейчас к стене, девушка с ужасом думала о том, что в одночасье может потерять все.
Из комнаты, в которой находились Елена и ее собеседник, донеслись звуки каких-то движений. Разговор уже закончился, и послышались шарканье обуви и шелест дорогих одежд. Нельзя было допускать, чтобы ее, Ямину, обнаружили здесь в такой момент. У нее ведь не могло быть никаких дел возле покоев Елены. Даже исключая то обстоятельство, что ее могли заподозрить в подслушивании тайного разговора, не подлежащего разглашению, ей было бы очень трудно объяснить, почему она оказалась здесь. Если же Елена догадается, что она, Ямина, слышала то, о чем сейчас говорилось в комнате… Ух, от одного только этого предположения кровь отхлынула от щек Ямины, а по спине пробежали ледяные мурашки. Ей очень сильно захотелось повернуться и побежать прочь, но что-то в глубине души заставило ее остаться на месте и замереть. Если бы она побежала по выложенному мраморными плитами полу в своих туфлях, стук ее твердых каблуков сразу же услышали бы. Поэтому она по-прежнему стояла, прижавшись к стене, – как цветок, придавленный между страниц книги.
Елена, высокая и смуглая, выскользнула из комнаты, словно призрак. Она на пару мгновений остановилась и замерла, и Ямина отчетливо увидела, что женщина слегка приподняла нос, как будто принюхиваясь к какому-то запаху, витавшему в воздухе. В одной руке она держала трость, верхняя часть которой была выполнена в виде сердца из слоновой кости. Пальцами другой руки она поглаживала это сердце, и девушка на долю секунды представила, как Елена угрожающе поднимает эту трость над головой и, повернувшись, направляется туда, где неподвижно стоит, прижавшись к стене, она, Ямина.
Девушка почувствовала, как маленькая капелька пота медленно потекла по ее позвоночнику к копчику. Ощущение было таким, как будто по ее коже провели кончиком холодного пальца. Она закрыла глаза и представила себе Константина, спящего в своей спальне. Его кровать была окружена людьми, облаченными в плащи с капюшонами и держащими мечи в поднятых руках. Ее охватил такой страх, что она услышала биение собственного сердца. Едва не вскрикнув, Ямина заставила себя прогнать это видение. Когда она открыла глаза, Елены уже нигде не было видно.
Только сейчас Ямина неожиданно почувствовала гудящую пульсацию внутри головы и осознала, что задержала дыхание. Она медленно и с трудом выдохнула, стараясь беззвучно выпускать воздух между губ. Она также с ужасом осознала, что не имеет ни малейшего понятия, в каком направлении пошла Елена. На мгновение она задумалась, насколько вероятно то, что Елена, возможно, увидела ее стоящей здесь, у стены, с закрытыми глазами. Могла ли Елена, узнав, что Ямина подслушала ее разговор, захотеть оставить этот факт подвешенным в воздухе, как сухой лист осенью? Ямина отвергла это предположение как невероятное и покачала головой, чтобы отогнать его от себя. Решив пойти обратно по тому же пути, по которому она едва не набрела на большие неприятности, девушка отвернулась от двери и пошла прочь настолько быстро и настолько бесшумно, насколько это позволяли каменные плиты пола.
Облегчение от того, что ее вроде бы не поймали на месте преступления, было, однако, кратковременным. Организм Ямины только что пережил сильнейшее потрясение, и хотя эти несколько секунд повышенного напряжения были уже позади, чувство безысходного отчаяния осталось. Реалии жизни так давили на ее узкие плечи, что в какой-то момент она почувствовала, что ее колени могут сейчас сами по себе согнуться и она беспомощно рухнет на пол.
Пожалуй, еще труднее, чем эту неприятную новость, ей было осознавать тот факт, что во всем мире, кроме Константина, не было никого, с кем она могла бы поделиться своим горем. Ее когда-то взяли под свою опеку его ближайшие родственники – а значит, и все придворные. Принц, испытывая большие физические и душевные мучения, заявил, что твердо вознамерился заботиться о ней. Однако, несмотря на его покровительство, она была и всегда будет сиротой. Отсутствие рядом с ней матери порождало зияющую пустоту в ее душе, и хотя привязанность к ней Константина перебрасывала мост через эту пустоту, Ямина все равно ощущала ее внутри себя. Она завела знакомства среди девушек и молодых женщин, с которыми ей доводилось пересекаться во дворце, однако всегда испытывала потребность держаться на некоторой дистанции. Отчасти это объяснялось ее преданностью матери – она полагала, что память о матери не потускнеет только в том случае, если между ними не появится какая-нибудь женщина или девушка.
Однако Ямина также осознавала и реалии жизни в позолоченной клетке Влахернского дворца. Тот специфический мир, в котором она жила, был в лучшем случае мельницей слухов, находившейся в постоянном движении. В худшем же случае он был сборищем ядовитых и толстокожих существ, беспрестанно ищущих для себя возможность нанести смертельную рану противникам – и реальным, и воображаемым.
Оставшись без защиты, обычно обеспечиваемой родителями, без взрослых родственников и братьев и сестер, связанных с ней кровными узами, она сразу сообразила, что ее долговременная безопасность во дворце зависит от обдуманности и правильности ее поступков, а также от умения скрывать хотя бы часть своих мыслей. Однако больше всего она, конечно же, зависела от Константина. Это Ямина прекрасно понимала. Он принадлежал ей, а она – ему. В течение всего своего пребывания во дворце она предполагала, что остальные ценят его так же высоко, как она, и осознание того, что кто-то из близких может желать Константину зла, стало для нее громом среди бела дня.
Она мысленно обругала себя за то, чтобы была такой недалекой и наивной. У нее ведь, кроме Константина, никого не было, и поэтому именно ей следовало быть всегда начеку, чтобы заранее заметить надвигающуюся опасность. А она, наоборот, позволила себе расслабиться, отдавшись чувствам, и закрыть глаза на устремления других людей. И вот теперь совсем рядом возникла потенциально смертельная опасность, а она, Ямина, лишь по воле случая узнала правду. Такую правду, как будто бы ей плеснули ледяной водой в лицо.
«Наивное дитя… Наивное дитя!» – ругала она себя.
Она шла обратно по коридорам, чувствуя себя осужденным, которого ведут к месту казни.
– Ямина?
Девушка уже почти зашла на территорию, ходить по которой она имела полное право, и находилась всего лишь в минуте ходьбы от своих собственных покоев, когда ее, словно невидимая рука, настиг раздавшийся сзади голос Елены. Она почувствовала, что к ее щекам опять прилила горячая кровь. Как долго Елена шла за ней? Неужели она хотела выследить ее?
– Со мной все в порядке, моя госпожа, – услышала собственный голос Ямина.
Если это вообще было физически возможно, то ее лицо стало еще более горячим, чем раньше. Она подумала, что ляпнула что-то не то, и эти ее слова обожгли ей губы. Девушка почувствовала внутри себя такой жар, что ей показалось, что она может вспыхнуть ярким пламенем. А еще она ощутила выступившую на лбу испарину и капельки влаги на верхней губе. Скривившись в досаде, она было подняла руку, чтобы вытереть пот рукавом платья, но сумела удержаться от этого. Ей очень хотелось броситься наутек. Она, конечно, по своему возрасту уже стала взрослым человеком, но при этом еще не совсем перестала быть ребенком. Однако самым большим ее желанием в этот момент была возможность оказаться в темноте – прохладной, ласковой темноте, в которой можно оставаться незамеченной.
Елена, наверное, уловила запах пота, который выступил у охваченной волнением Ямины. Девушка где-то читала, что животные могут замечать страх по запаху, то есть с помощью обоняния, и ей сейчас показалось, что и она тоже чувствует свой страх по запаху собственного пота.
– Я рада это слышать, дочка, – сказала Елена.
По выражению ее лица было видно, что странность ответа Ямины не осталась незамеченной.
Елена имела обыкновение – когда это соответствовало ее интересам – разговаривать с Яминой таким тоном, который девушка считала уж слишком ласковым. Между этими двумя представительницами прекрасного пола не было ни кровных, ни прочих родственных связей, и иногда Ямина чувствовала, что сожительница императора использует слово «дочка» не в качестве проявления нежности, а как своего рода уничижительное обращение к ней, Ямине. Оно по меньшей мере подчеркивало сложившийся порядок подчинения – если в этом и в самом деле была какая-то необходимость.
Будучи не в состоянии взять себя в руки и, похоже, вознамерившись отвечать на вопросы еще до того, как их зададут, Ямина услышала свой собственный голос, который звучал так напряженно, как будто она прокладывала воображаемую борозду по все более твердому грунту.
– Уже пора проводить очередной сеанс терапии для принца Константина, – объявила она каким-то официальным тоном. Ее слова, казалось, толкались друг с другом в своем стремлении побыстрее сорваться с ее губ. Она сильно заморгала и представила себе, как они крутятся возле изящных лодыжек Елены, словно изголодавшиеся собачонки. – Он меня, наверное, уже ждет.
Выражение лица Елены смягчилось. Она узрела в реплике Ямины тему разговора, которая могла бы помочь найти общий язык и избежать обострения в разговоре. Преданность Ямины принцу была широко известна при дворе, и никто никогда не считал зазорными любые проявления нежности с ее стороны к этому молодому человеку, который столь эффектно пожертвовал своим собственным благополучием ради того, чтобы спасти ей жизнь.
Какими бы ни были намерения Елены, она руководствовалась выработавшейся у нее привычкой реагировать благосклонно на подобное добросовестное отношение человека к своему долгу, причем даже в том случае, когда не было свидетелей, перед которыми можно было бы попозировать. Ее поступки вполне увязывались с принятой манерой поведения в византийском обществе, в котором все всячески старались демонстрировать христианскую добродетель и благотворительность, тем более что в ситуации, когда враг уже подступил к стенам города и ломится в его ворота, все те, кто оказался запертым в этом городе, почувствовали необходимость поступать так, как того требуют идеалы, какими бы неподходящими они сейчас ни были. Отношения Ямины и принца воспринимались как пример христианского самопожертвования – настоящего самопожертвования, которое вызывало желание совершать аналогичные поступки. Принц Константин спас Ямине жизнь, и она, хотя ее об этом и не просили, предложила в ответ свою жизнь ему.
– Ты и в самом деле любишь его? – спросила Елена.
38
Леониду, старшему придворному врачу, пришла в голову идея, что, раз принц не способен двигать ногами, то пусть другие люди стараются двигать их за него. Леонид лично придумал и порекомендовал процедуру, которую он стал называть «терапией».
Константин находился в абсолютно неподвижном состоянии, словно какая-нибудь статуя на своей раме из дерева и металла, уже очень и очень долго. Такое его состояние, по мнению Леонида, способствовало тому, чтобы его недуг исцелился сам по себе. Представления Леонида об анатомии давали ему основание считать, что попытка принца поймать своего падающего ангела подвергла его молодой организм нагрузке, которую он вынести не смог. Кроме фиолетово-черных кровоподтеков, у Константина не наблюдалось никаких внешних признаков причиненного его телу ущерба, однако тяжелый удар со стороны падающей девочки каким-то образом нарушил связь между верхней и нижней частями его тела, и мозг уже больше не мог управлять ногами.
После нескольких месяцев ожидания самопроизвольного выздоровления Леонид заметил, что конечности юноши начали усыхать. Поразмыслив, врач сделал вывод, что в силу отсутствия физической активности мышцы стали уменьшаться в размерах, а сухожилия – укорачиваться.
На тот случай, если когда-то все-таки наступит день и принц встанет на ноги и вновь сможет двигаться, Леонид вознамерился поддерживать их в подходящем для этого состоянии. Именно поэтому умный и скрупулезный врач занялся разработкой комплекса упражнений для ног, которые позволили бы остановить начавшийся процесс деградации мышц и сухожилий принца. Если Константин не может двигать ногами сам, то их будут двигать вместо него другие люди.
Поначалу это дело поручили придворным врачам, коллегам Леонида. Им приходилось заниматься довольно утомительной работой, требующей много времени и усилий, чтобы принудительно сгибать и разгибать безжизненные ноги принца. В спальне Константина сильно пахло ладаном: пока лекари трудились над его конечностями, несколько молодых священников стояли возле зашторенных окон и нараспев читали молитвы. Их тихие, ровные голоса должны были поддерживать у принца состояние душевного покоя.
Ямина, однако, нашла причины и основания для того, чтобы с самого начала присутствовать на сеансах такой терапии. Поскольку всем пришлось согласиться, что ее присутствие действовало на Константина успокаивающе (оно давало ему не только душевный покой, но и, что более важно, терпение, необходимое для того, чтобы выдержать такую унизительную процедуру), никому не дозволялось ее прогонять.
«Не знаю, как ты, Ямина, – говаривал принц, – но я устаю уже от одного только лицезрения самого себя. Мне не следовало совершать такую многомильную прогулку!»
Несмотря на бездонные запасы юмора, которым обладал Константин, смотреть на него в столь тягостном положении было еще труднее. Ямина старалась улыбаться в ответ на его стоицизм и весьма изощренное умаление собственного достоинства, однако в действительности все это лишь усиливало ее боль и чувство вины.
Уже вскоре она даже стала лично подключаться к применению терапии. Она начинала с того, что наблюдала за процессом из самой дальней от кровати точки, притаившись там, как чувствующая свою вину собачонка, а затем медленно подходила все ближе и ближе, постепенно сужая круг и как бы пытаясь выпросить прощение.
Врачи хмыкали, сердито качали головами и вообще относились неодобрительно к присутствию девочки в такой, можно сказать, сокровенной ситуации, но она не обращала на их недовольство никакого внимания. Для нее имели значение только страдания ее принца, и она упорно игнорировала все попытки врачей убедить ее не подходить близко.
И вот настал день, когда Ямина спросила Константина, не может ли и она ему помочь. Лицо принца было покрыто капельками пота из-за тех манипуляций, которые делались с его ногами, да и всем остальным его худощавым телом, ибо Леонид назначил упражнения также для его рук и плеч. Как всегда, когда она заговаривала с ним, его напряжение сразу заметно ослабло.
Его врачи тут же запротестовали в один голос. Член императорской семьи не должен подвергаться такому вот унижению, не так ли? Но сквозь протестующий гул отчетливо послышался голос Константина.
– Мне бы это понравилось, – заявил он, и Ямина покраснела. – Если ко мне должны прикасаться чьи-то руки, то пусть лучше они будут прохладными и мягкими, то есть такими, как, я думаю, у тебя.
Ямине в это время едва исполнилось тринадцать лет, и эти слова из уст того, кто уже становился мужчиной, показались вполне скандальными даже ей. Шокированные его словами врачи начали ахать и охать, но Константин стал настаивать на своем: нахлынувшая на него со стороны врачей волна удивления и негодования, казалось, придала ему еще больше решительности.
– Пожалуйста, покажите сейчас юной Ямине, как лучше всего заставлять изгибаться эти неподвижные конечности, – сказал он, глядя ей в глаза. Затем, обращаясь непосредственно к врачам, добавил: – Я уверен, что несомненный опыт таких сведущих людей, как вы, лучше использовать где-то в другом месте. Обучите эту девушку всему необходимому, и она, возможно, освободит вас и ваше время от занятия, которое в лучшем случае утомительное, а в худшем – абсолютно бесполезное. Если такую мертвую лошадь, как я, надо стегать, то пусть это делают руки помоложе.
При этом последнем заявлении, которое свидетельствовало о явном признании поражения, на лицо принца легла тень, вызванная то ли упреком самому себе, то ли сожалением. Но он сумел взять себя в руки и отогнал ее прочь, как противную и надоедливую трупную муху. Снова повеселев, Константин с облегчением вздохнул.
– Чему это может навредить? – сказал он, глядя уже не на врачей, а на Ямину.
name=t44>
39
Ямина натянула на себя темноту, как одеяло, позволяя тем самым скрыть ее от находящегося где-то там, выше ее, мира. Она держала у своей груди – ласково, как новорожденного малыша, – несколько пальцевых костей.
– Скажи, что мне делать, Ама, – шепотом попросила она.
Откуда-то из-за стен, в пространстве между которыми находилась эта темнота, доносились пронзительные звуки труб и громкие радостные крики огромного числа людей. Даже здесь, глубоко под дворцом, где фундамент упирался в основание самого мира, было чуть-чуть слышны крики осаждающих город турок, и Ямина еще сильнее сжала находящиеся в ее ладонях тоненькие кости.
– Мама сегодня с тобой, Ама? – спросила она, и хотя ответа, конечно же, не последовало, ей, по крайней мере, стало легче уже от этих слов… «Ама»… «Мама»… Они были ласковыми, теплыми и приятными. Более приятными, чем какие-либо другие из слов, которые она знала.
Она уже рассказала им все то, что говорила Елена. Она всегда рассказывала им все. Страдая от отсутствия близких родственников, от того, что рядом с ней нет теплой плоти любимых людей, Ямина находила для себя утешение в этой коробке костей. У каждого человека есть что-то такое, что он держит в секрете, причем зачастую прежде всего от близких ему людей. Какой бы ни была любовь между двумя людьми, у каждого из них всегда имеются мысли и тайны о самом себе, которые явно не понравились бы противоположной стороне, а потому их помещают в потайную комнату, существующую только в воображении и в памяти. О существовании в рассудке человека подобной комнаты – не говоря уже о ее содержимом – не принято было сообщать ни одной живой душе. Однако то, чего Ямина не смогла бы рассказать матери и няне при их жизни, она вполне могла рассказывать их останкам.
Когда-то очень давно, едва не заблудившись в дворцовых садах, она набрела на пожилого пчеловода, возившегося возле своих ульев. Поначалу она испугалась и буквально задрожала при виде пчел – сотен этих насекомых, – которые летали строго по прямой линии то к своим маленьким домам, то куда-то прочь от них. Их жужжание, впрочем, действовало успокаивающе, как гул находящейся где-то далеко толпы, и вскоре она перестала бояться и позволила пчеловоду, высокому, ссутулившемуся под тяжестью прожитых лет человеку, поделиться с ней кое-какими своими знаниями.
Он рассказал ей, что при обращении с пчелами самое главное заключается в том, чтобы рассказывать им все. На кончик его крючкообразного носа села пчела, но его это, похоже, совсем не испугало. Заметив пчелу, он лишь покосился на нее, а затем снова стал смотреть на Ямину.
Уставившись на насекомое, которое ползло вверх по его носу и затем по его лбу, она спросила, что он имеет в виду под словом «все».
– Именно то и имею в виду, маленькая госпожа, – ответил пчеловод. – Все, что происходит со мной и с каждым членом моей семьи. В общем, все. Их особенно интересуют рождения, бракосочетания и смерти, но я стараюсь сообщать им даже о самых тривиальных событиях.
– А что произойдет, если вы не станете этого делать? – оживившись, спросила Ямина. – Ну, то есть не будете говорить им все.
– Это было бы ужасной ошибкой с моей стороны, – покачав головой, сказал старик. – Пчелы почувствуют, что я от них что-то утаил.
– И что тогда? – не унималась Ямина.
Ничего не ответив, он поднял правую руку, которую держал расслабленной возле своего бока. Между его большим и указательным пальцами сидела пчела, и он протянул руку к Ямине так, чтобы его ладонь вместе с сидящим на ней насекомым оказалась как раз под ее носом. Она присмотрелась и увидела, что жало пчелы воткнулось своим кончиком в плоть старого пчеловода. Ахнув, Ямина потянулась, чтобы сбросить насекомое.
Пчеловод спокойно, не торопясь убрал свою руку в сторону. Пальцем другой руки он начал тихонечко, с предельной осторожностью подталкивать пчелу сбоку. Подчинившись его настойчивому подталкиванию, насекомое начало двигаться, медленно описывая круг против часовой стрелки. Со стороны это выглядело даже забавно: малюсенькие ножки пчелы перемещались наподобие того, как вскидывает ноги шагающий вбок пони. После парочки полных оборотов кончик жала пчелы уже не вдавливался в кожу пчеловода, и на мгновение Ямина увидела, что жало стало закручиваться, как свиной хвостик. Получалось, что подталкивание пальцем помогло пчеле убрать без причинения какого-либо вреда свое оружие.
– Видишь? – спросил старик, переведя взгляд на Ямину. – Если бы кто-то из нас сбросил пчелу с моей руки, ее жало было бы вырвано из туловища. Она была бы сильно поранена и наверняка бы умерла. Дав ей возможность высвободиться, я позволил ей выжить, улететь и… и, конечно же, сделать мне еще больше меда.
Ямина, разинув рот, кивнула, на уровне подсознания оценив, как важно иногда воздерживаться от мгновенных реакций, вызванных нависшей угрозой. Затем она вспомнила свой вопрос и задала его во второй раз.
– Что произошло бы, если бы вы что-то утаили, если бы вы не рассказали им все?
– Ах да, – закивал он. – Они тогда, конечно же, улетели бы от меня. – При этих словах на его старом лице появилось скорбное выражение. Если жало пчелы и доставило ему какое-либо неудобство, он не подал и виду. А вот мысль о том, что он может остаться без пчел, причинила ему душевную боль. – Все они поднялись бы в воздух и покинули бы меня. И больше не вернулись бы. Они построили бы для себя новый дом где-нибудь в другом месте, начали бы все заново с кем-нибудь более внимательным и общительным, и я никогда бы их не увидел.
Запомнив все это, Ямина стала обращаться с хранящимися у нее костями так, как старый пчеловод обращался со своими пчелами. Опасаясь, что воспоминания о ее любимых людях могут покинуть ее, если она не будет оказывать им должного внимания, Ямина стала хранить кости в деревянном ящике, ходить к ним почаще и рассказывать им все. Она ведь потеряла и так уже слишком много, а потому, конечно же, не могла позволить себе потерять еще больше…
Ямина вздохнула, перекатывая кости между пальцами. Затем она поднесла их к своему лицу, закрыла и открыла глаза. Видеть она, правда, здесь ничего не могла, потому что тьма вокруг нее была кромешной, так что на остроту зрения она не рассчитывала. А вот остальным ее органам чувств приходилось напрягаться, чтобы компенсировать отсутствие возможности видеть.
Она сделала глубокий вдох, но не почувствовала, чтобы от костей исходил какой-либо запах разложения. Ама вообще-то ушла из жизни давным-давно: она умерла в тот день, в который родилась Ямина («Господь дает, Господь забирает»). Мать Ямины Изабелла любила говорить, что ей приносит радость осознание того, что два ее любимых человека пожили на белом свете вместе хотя бы чуть-чуть: их жизни пересеклись на мгновение на фоне вечности.
Кости Амы много лет аккуратно хранили и часто теребили в руках, оттого они стали гладкими и сухими. Когда их выставляли на солнечный свет, они в некоторых местах приятно блестели.
«Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, – тихо прошептала Ямина, гладя кости так, как гладят комболои[29]. – Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус».
Она сидела на выложенном каменными плитами полу, прислонившись к стене и вытянув ноги перед собой. Все еще держа кости пальца в левой руке, она потянулась правой рукой к стоящему рядом с ней деревянному ящику. Ей хватило одного лишь прикосновения, чтобы узнать череп Амы. По своей давней привычке она положила ладонь на пустые глазницы, разместив указательный палец над треугольной полостью, которую когда-то занимал нос.
– Я скучаю по вам обеим, – сказала она. – Я обещаю, что возьму вас с собой, если смогу.
Она погладила гладкую холодную лобную кость Амы.
– Я унесу тебя с собой, Ама, – ласково произнесла она и улыбнулась. – А ты унесешь с собой маму – так, как ты делала это когда-то давным-давно.
Минуты текли одна за другой. Прошел уже, наверное, целый час. Сидя в темноте и вспоминая о своей матери и о старой няне, Ямина дышала неглубоко и медленно.
Из внешности своей матери она лучше всего помнила ее длинные темно-русые волосы. Когда Ямина была еще очень маленькой, ее мать частенько наклонялась над ней так, что тяжелый занавес темно-русых кос скрывал ее полностью. Спрятавшись подобным образом вместе со своей дочкой от окружающего мира, Изабелла ласково целовала ее и тихонько терлась своим носом о ее нос… Ямина откинула голову, уперлась затылком в стену и мысленно представила, как материнские косы касаются ее лица. Сложив губы бантиком, девушка замерла в ожидании поцелуя.
Она уснула. В своем сне Ямина увидела, как она недавно разговаривала с Еленой, и вспомнила о едких каплях пота у себя под мышками и сухость во рту.
– Ты и в самом деле любишь его? – спросила Елена.
Произнося эти слова, она потянулась к Ямине своей тростью и, ловко орудуя ее кончиком, отделила длинные пряди каштановых волос девушки от ее влажной от пота шеи. В этом прикосновении было что-то похожее на близость, на ласку, и Ямине на мгновение показалось, что она почувствовала запах этой женщины, сладострастно смешавшийся с ее собственным запахом.
Заданный Еленой вопрос застал ее врасплох. Ситуация была совсем не подходящей для такого вопроса, да и Елена стояла уж слишком близко.
– Ну конечно, люблю, – ответила Ямина. – Ну конечно, я люблю его. Мы ведь должны пожениться!
Свою последнюю фразу она произнесла чрезмерно громко, и искренность ее слов оказалась как бы под сомнением в силу пронзительности голоса.
Елена улыбнулась.
– Брак вряд ли является доказательством любви, – сказала она.
Ямина не стала оспаривать эту очевидную истину и сосредоточилась лишь на том, чтобы как-то суметь выдержать пристальный взгляд Елены. Под ее взглядом она чувствовала себя так же напряженно, как чувствует себя человек, стоящий уж слишком близко к огню.
– Почему ты любишь его? – спросила Елена, наклоняя голову к плечу с таким видом, как будто ответ Ямины действительно имел для нее значение. – Он не может защитить тебя. Он даже не может заняться с тобой любовью.
– Он сильнее меня, – сказала Ямина. – Он сильнее вас.
Она ужаснулась собственной дерзости, но все же не смогла удержаться и продолжала говорить:
– Он уже смог выдержать на своих плечах гораздо более тяжелый груз, чем кто-либо из нас когда-нибудь выносил или будет выносить по воле Божией.
– Разве это любовь? – спросила Елена.
Ямина не знала ответа на этот вопрос и поэтому предпочла промолчать. Елена, видя ее замешательство, заговорила сама:
– Итак, ты восхищаешься им. Мы все им восхищаемся. Может, ты еще и испытываешь к нему жалость?
Ямина почувствовала, как в ее груди закипает гнев, постепенно поднимающийся к горлу. Она осторожно сделала три глубоких вдоха, чтобы подавить этот гнев, – так, как она давила, а затем разглаживала ладонями неровности, образующиеся на ее помятой одежде.
– Он сделал меня лучше, – сказала она спокойно и твердо. – Я люблю его за это. Я стала такой, какой я стала, благодаря Константину – во всех отношениях, – и мне не хотелось бы ничего менять.
Взгляд Елены был таким пронизывающим, что Ямине показалось, что эта женщина физически проникает внутрь ее головы. Девушка снова почувствовала одурманивающий и опьяняющий запах Елены.
– И он может защитить меня, – добавила Ямина. – Он всегда меня защищал.
Елена неожиданно закрыла глаза и подняла подбородок – так, как она это частенько делала. Она, похоже, о чем-то задумалась.
– Я тоже могу его защитить, – сказала Ямина. – Я всегда буду его защищать.
Елена открыла глаза, и – по крайней мере на одно мгновение – у нее на лице появилось такое выражение, как будто она не может понять, где находится. Ямина встретилась с ней взглядом, ожидая увидеть в глазах этой женщины злость и враждебность, но в действительности заметила в них лишь еще один назревающий вопрос. Однако этот вопрос так и не был задан. Не произнеся больше ни слова, Елена повернулась и пошла прочь, перебрасывая свою трость из одной руки в другую, как она имела обыкновение делать…
Ямина, сильно вздрогнув, проснулась. Она не знала, сколько времени проспала, а полное отсутствие света не позволяло ей об этом даже догадаться. Но она не испугалась. Здесь она никогда не испытывала страха. На ее коленях, в складках ее юбок, лежали кости пальцев Амы. Она положила их обратно в ящик – все, кроме одного.
Найдя на ощупь крышку, она закрыла ящик и, встав, поставила его в маленький каменный саркофаг, находящийся неподалеку от того места, где она только что сидела. Довольная тем, что все теперь снова стало таким, каким оно должно быть, девушка повернулась и сделала три уверенных, отработанных шага, в результате которых пальцы ее ног почти уперлись в нижнюю из двенадцати каменных ступенек. Еще до того, как она дошла до верхней из них, Ямина ощутила, как волосы на ее макушке коснулись нижней части деревянного люка. Он был тяжелым, но открывался легко благодаря специальной конструкции петель. За люком находился подвал, расположенный под комнатами, в которых она когда-то жила вместе со своей матерью.
В подвале этом было темно, но свет все же проникал в него кое-где через щели между толстыми сосновыми досками, которые были полом для покоев и одновременно потолком для этого подвала. Ямина быстро подошла к лестнице и взошла по деревянным ступенькам. Наверху находилась лестничная площадка с тяжелой дубовой дверью. Достав из кармана юбки длиннющий ключ, Ямина отперла дверь и осторожно приоткрыла ее.
За этой дверью царила тишина, а потому Ямина распахнула ее пошире, чтобы можно было выглянуть в коридор. Там никого не было – там вообще никогда никого не было, – и она вышла в коридор, потрудившись затем запереть за собой дверь как можно быстрее.
С этой стороны дверь абсолютно ничем не выделялась, и случайные прохожие скорее всего не обратили бы на нее никакого внимания. Снова положив ключ в карман – ключ от царства ее воспоминаний, – Ямина беззвучно прошла по коридору, открыла бульшие по размеру и вообще гораздо более впечатляющие двойные двери и отправилась обратно в свои покои. В одной руке она держала маленькую гладкую кость. Она не смотрела на нее, а просто крепко сжимала ее в ладони. Затем она положила ее в карман рядом с ключом.
Уже пришло время для очередного сеанса терапии, и Ямине нужно было сходить за стулом на колесах, который она прозвала «колесницей». Когда этот стул не использовался, Константин категорически не желал видеть его в своей спальне, и Ямина, дабы он не попадался принцу на глаза, всегда хранила его в своих покоях.
Ради собственной забавы и отчасти в силу своей любви к темноте она закрыла глаза. Сконцентрировавшись на тихом шелесте своих юбок, нижними краями чиркающими по каменным плитам коридора, она продвигалась вперед исключительно по памяти, своевременно делая повороты то налево, то направо. Сделав последний поворот, она насчитала пятнадцать ступенек и, протянув вперед правую руку, безошибочно нашла ручку двери. Только когда Ямина зашла в свои покои и закрыла за собой дверь, она наконец открыла глаза.
Ее покои были залиты ослепительным солнечным светом, и девушка быстро заморгала. Пока ее глаза привыкали к яркому свету, она прошла через комнату к одному из высоких окон и скорее на ощупь, чем с помощью зрения или чего-либо еще, нашла «колесницу». Ухватившись за рукоятки, она плавно повернула ее к двери и покатила в сторону покоев принца.
После нескольких лет такой жизни во дворце, при которой ей все время казалось, что она от кого-то прячется, что она тут посторонний человек и незваный гость, Ямина вдруг почувствовала, что… что у нее есть на что-то право. Направляясь к покоям человека, которого она только что пообещала защищать, девушка впервые с момента смерти своей матери осознала, что ей предстоит сыграть важную роль и что у нее имеется своя задача, ответственная и неотложная. На этот раз на краю пропасти стоял уже Константин, и теперь настала ее очередь спасти его.
Создавая стул на колесах, впоследствии прозванный Яминой «колесницей», Леонид старался придумать что-то такое, что будет выполнять одновременно две функции, которые, по его мнению, имели ключевое значение для исцеления Константина. Хотя старый врач и не позволял себе заявлять об этом открыто, его очень сильно волновало то, что его пациент все время находится в своей спальне, – как закрытый в банке мотылек. Леонид полагал, что постоянное пребывание в каком-либо закрытом помещении, каким бы роскошным оно ни было, лишает человека стимуляции, необходимой для поддержания здравости его рассудка.
Тот факт, что он, Леонид, все никак не может исцелить тело принца, едва не доводил его до отчаяния. Однако он переживал не только за тело, но и за рассудок искалеченного юноши. А позаботиться об этом он, по его мнению, вполне мог.
В конечном счете именно преданность Ямины Константину поспособствовала тому, что к Леониду пришло озарение. Как-то раз, когда очередной из проводимых ею сеансов тренировки и массажа мышц и суставов принца уже подходил к концу, Константин отвел взгляд от своей юной сиделки и увидел Леонида, стоящего молча в дверном проеме. Как долго Леонид наблюдал за ними, принц мог только догадываться, но он заметил в глазах старого врача обеспокоенность.
– Ты должен согласиться, что она прилежная ученица, – сказал Константин, пытаясь поднять врачу настроение и, как всегда, пресечь любые проявления сострадания к нему самому.
Ямина, которая энергично массировала икроножную мышцу правой ноги принца, настолько увлеклась выполняемой ею работой, что, сидя спиной к двери, не заметила, что за ними наблюдают.
Когда она и Константин были одни, физический контакт между ними воспринимался молодыми людьми как естественный и ни капельки не зазорный. Будучи совсем юной, Ямина никогда не чувствовала себя неловко в обществе Константина. В их общении все происходило так, как будто любые возможные барьеры между ними были уничтожены в тот момент, когда их жизни пересеклись внутри просторного собора Святой Софии.
Но, несмотря на все это, неожиданное появление третьего человека, который к тому же незаметно для них наблюдал за ними, заставило ее смутиться, а голос Константина, обращающегося к своему врачу, вынудил ее прекратить процедуру и встать навытяжку подобно юному воину.
Несколько мгновений спустя Ямина позволила себе оглянуться через плечо на того, кто вошел к ним в комнату. Когда девушка увидела, что это Леонид, человек, чей возраст и авторитет заставляли ее нервничать при каждом его появлении, она отошла на пару шагов от кровати и повернулась лицом к стоявшему в дверном проеме врачу.
Леонид, поначалу ничего не говоря, спокойно направился в сторону Константина и Ямины, но при этом все время смотрел на девушку.
– Хм, – наконец еле слышно произнес он.
В ушах Ямины этот звук был сродни тому, с которым муха, залетевшая в комнату и пытающаяся вылететь наружу, бьется об оконное стекло.
– Я уже давно потерял счет милям, которые прошла эта девушка ради меня моими ногами, – пошутил Константин, попытавшись настроить на легкомысленный лад человека, для которого юмор всегда был нежелательным попутчиком.
Ямина вдруг заметила, что она, не отдавая себе отчета, вытирает лоснящиеся от ароматного масла руки о ткань своего платья. Ей ужасно захотелось посмотреть, насколько сильно она измазала одежду, но девушка усилием воли заставила себя не двигаться и сохранять спокойствие.
Леонид упорно молчал, а когда он наконец заговорил, и Ямина, и Константин даже слегка вздрогнули от неожиданности.
– Этого недостаточно, – строго произнес врач.
– Ямина занимается мною каждый день, – почти сердито заметил Константин. – По крайней мере каждый день, когда я позволяю ей это делать.
Старик взмахнул рукой, досадуя на то, что его неправильно поняли.
– Нет, нет, – поспешил сказать он, изо всех сил стараясь говорить более добродушным тоном. – Я говорю не о частоте лечебных процедур.
Ямина случайно встретилась с ним взглядом, когда он произнес эти слова.
– И не об их тщательности, – добавил он, тем самым, по-видимому, похвально отзываясь об усилиях и старании Ямины.
Девушка потупилась, но ей очень понравилось, что этот старый врач, похоже, хвалит ее.
– О чем же тогда? – нетерпеливо спросил Константин. – Она не смогла бы приложить еще больше стараний. Да и я тоже.
Леонид медленно покачал головой и подошел поближе к кровати.
– Нет… Я думаю, что… недостаточно того, чтобы вы делали упражнения, но при этом все время находились здесь, в этой кровати, в этой комнате, день за днем и неделя за неделей, – пояснил он. – Ваши ноги – это не единственное, что усыхает из-за отсутствия стимуляции.
Не сказав больше ни слова, Леонид повернулся и вышел из спальни принца. Его потертые черные одежды развевались позади него, как неухоженные крылья больной вороны.
Ямина облегченно вздохнула и с радостью вернулась к сеансу терапии, переключив свое внимание на левую ногу Константина. При этом она вопросительно посмотрела в глаза принца. Тот, ничего не сказав, лишь пожал плечами.
Месяц спустя врач появился снова, но на этот раз впереди него шел его помощник, который толкал перед собой какой-то странный и очень сложный по конструкции стул на колесах. Во время движения этот стул издавал такие звуки, как будто из плохо закрытого водопроводного крана одна за другой в раковину падали капли воды. Это новое изобретение Леонида было похоже на маленькую повозку, которую могли бы тащить за собой две миниатюрные лошади: из-под сиденья торчало что-то вроде оглобли длиной около ярда. К оглобле с обеих сторон была прикреплена парочка педалей – или стремян, – которые вращались, когда помощник врача толкал стул вперед. Когда он остановился в центре спальни принца, стремена вращаться перестали.
Константин лежал в своей кровати, опершись на подушки и читая книгу. Ямина расположилась на сиденье у окна, наслаждаясь теплотой солнечного света, падающего на ее спину и плечи. Оцепенев на несколько секунд при появлении Леонида с его помощником, который втолкнул в комнату странный стул на колесах, она затем посмотрела на принца. На его лице было такое выражение, какого она раньше никогда не видела, – что-то среднее между изумлением и настороженностью. Однако девушка набралась терпения и стала ждать, что он скажет.
Константин глубоко и шумно вздохнул и выпустил из рук свою книгу, так что она упала на его колени.
– Признаться, я впечатлен, – произнес он. – А теперь объясни мне, что это.
Леонид хлопнул в ладоши, и его помощник тотчас отвернулся от стула и быстро вышел из комнаты.
– Это следующий этап вашего лечения, Ваше Высочество, – сказал Леонид, глядя не на принца, а на свое изобретение.
– Лечения, – с досадой в голосе прошептал Константин. – Ему нет ни конца, ни края.
– Оно закончится, когда вы снова сможете ходить, – твердо заявил врач.
И его слова, и его тон были довольно дерзкими. Несмотря на возраст, опыт и авторитет, которым Леонид пользовался при дворе, он все-таки разговаривал сейчас с тем, кто в социальной иерархии стоял явно выше. Намекнув на то, что он – а не принц – будет определять продолжительность лечения, врач тем самым повел себя едва ли не вызывающе, и его следовало бы одернуть. Но что-то в тоне Леонида – видимо, чувствующееся в нем искреннее стремление исцелить Константина – было подкупающим и, более того, даже трогательным. Этот старик обычно отличался ворчливостью и холодностью, и от проявленного им сейчас твердого намерения принести пользу у Ямины аж перехватило дыхание. Она снова посмотрела на Константина и, увидев в выражении его лица лишь доброжелательность по отношению к этому хорошему врачу, облегченно вздохнула.
– И как мне это поможет? – поинтересовался принц, показывая рукой на стул.
– Это поможет, – уверенно произнес Леонид, став вдруг таким воодушевленным, каким ни Ямина, ни Константин его еще никогда не видели. – Благодаря тому, что будут решаться одновременно две задачи.
– Каким образом? – спросил принц, невольно проникаясь энтузиазмом Леонида.
Врач подошел к своему изобретению и ухватился за две рукоятки, прикрепленные к обеим сторонам спинки стула. Он повернул стул сиденьем в сторону кровати и покатил его к ней. Константин при этом снова увидел, что стремена вращаются в соответствии с движением стула вперед. А еще он заметил замысловатый механизм, установленный позади сиденья и представляющий собой цепляющиеся друг за друга колеса различных размеров. Вокруг ободьев двух колес – большого, находящегося под сиденьем, и маленького, расположенного между стременами, – торчали зубья. Эти зубья вступали в зацепление со звеньями цепи, которая описывала петлю вокруг обоих колес. Каждое ее звено зацеплялось поочередно с одним из зубов и затем переходило к следующему зубу. Еще две цепи соединяли другие маленькие колеса, находящиеся под сиденьем, с маленькими колесами, установленными на каждом из четырех колес, прикрепленных к ножкам стула. Константин с восторгом заметил, что в силу замысловатого взаимодействия между колесами и цепями стремена будут вращаться каждый раз, когда кто-нибудь будет толкать этот стул вперед.
– Недостаточно того, чтобы вы делали какие-то упражнения, но при этом все время находились в своей комнате, – сказал Леонид.
Он снова смотрел не на Константина, а на свое изобретение.
Принц увидел на лице Леонида, который не сводил глаз со стула, редкое для этого старого врача выражение. Никогда прежде Константину не доводилось видеть, чтобы Леонид смотрел на кого-нибудь из знакомых ему людей с такой нежностью.
– Если у человека здоровый рассудок, то и тело у него становится здоровым, – заявил Леонид. – А ваш рассудок лишен нормального питания в силу того, что вы все время находитесь запертым в этих стенах. Вы должны снова начать двигаться. Изменение окружающей обстановки будет полезно для вашего мозга, оно станет тем же самым, чем является хорошая пища для ваших костей и крови.
– То есть ты собираешься заставить меня забраться на этого твоего деревянного коня?
– Прекрасно сказано, – кивнул Леонид, либо не заметив, либо проигнорировав скептическую нотку в голосе Константина. – Именно так – деревянный конь, который увезет вас из этой комнаты туда, в большой мир.
Леонид снова хлопнул в ладоши, и на этот раз в комнату зашли двое крупных мужчин.
– С вашего разрешения мы посадим вас на этот стул, и вы сразу же увидите, какая от этого польза. – Старый врач вопросительно поднял брови, ожидая согласия со стороны принца.
Константин бросил взгляд на Ямину, которая во время всего разговора стояла неподвижно и молчала. В ответ она энергично кивнула. Перспектива увидеть то, как принц покинет пределы своей комнаты, была очень даже захватывающей.
Константин в знак того, что он готов подчиниться врачу, опустил плечи и вздохнул. Во всей этой затее что-то – а именно то, что его будут возить на таком стуле по дворцу, как беспомощного калеку, – показалось ему унизительным. Однако наряду с неуверенностью и сомнениями его охватило и непреодолимое желание сменить окружающую обстановку.
– Ну хорошо, – после небольшой паузы произнес Константин. – Придется мне снова сесть в седло.
У Ямины от волнения разгорелись щеки. Леонид и его два чрезвычайно мускулистых помощника приблизились к кровати. Девушка тоже подошла к ней и, даже не потрудившись попросить разрешения, быстро откинула в сторону простыни, которыми были укрыты ноги Константина. Он был облачен только лишь в белую хлопковую ночную рубашку, и при виде его худобы и почти прозрачной кожи на ногах ниже колена – в сравнении с крупными и крепко сложенными помощниками Леонида – у нее на несколько мгновений больно закололо в сердце. Подавив в себе болезненные ощущения, она отступила назад, чтобы дать помощникам врача возможность подойти вплотную к Константину. Несмотря на грубое телосложение и свирепый вид, они, поднимая Константина с матраса и перемещая его на стул, обращались с ним очень бережно.
Понимая, что принц одет неподобающим образом, Ямина схватила украшенное вышивкой одеяло, лежавшее в изножье кровати, и обернула им плечи Константина таким образом, чтобы его туловище было скрыто и чтобы между его костлявой спиной и деревянной спинкой стула находилось что-то мягкое.
Леонид, действуя с предельной осторожностью, лично приподнял ноги принца и согнул их так, чтобы ступни оказались в стременах. Довольный тем, что все происходит так, как должно происходить, врач вдруг повернулся к Ямине. С того момента, как он зашел в комнату, Леонид только сейчас дал понять, что замечает ее присутствие. Это неожиданное внимание с его стороны сразу же встревожило Ямину, а потому она, удивившись, отступила на шаг назад. Однако на лице Леонида появилась улыбка, и девушка немного успокоилась.
– Ну так что? – спросил он. – Ты покажешь нам, как это работает?
Ямина неуверенно встала за стулом и, взявшись за рукоятки, стала толкать его вперед – сначала медленно, а затем, поняв, что ей будет легче это делать, если она приложит больше силы, увеличила скорость. Подняв голову, она с изумлением увидела, что ноги Константина двигаются: его колени поднимались и опускались в плавном и ритмичном движении. Со стороны казалось, что это он сам собственными усилиями заставляет стул двигаться вперед.
– Видите? – спросил Леонид, глядя на Константина. В его голосе и выражении лица были заметны одновременно и волнение, и самодовольство. – Видите?
Начиная с этого дня Ямина стала почти каждый день возить Константина на этом стуле по дворцу. Они называли это «прогулками». Иногда он был им очень рад, иногда – не очень. Ямине казалось, что Константина раздирают, с одной стороны, желание выбраться за пределы своей комнаты и куда-нибудь поехать, а с другой – неподавляемое чувство унижения от того, что ему приходится зависеть от физических способностей других людей.
Как бы там ни было, он не позволял возить себя на этом стуле никому, кроме Ямины. Понимая, какие чувства испытывает Константин, она устраивала ему «прогулки» только сразу после рассвета или же поздно вечером, чтобы им попадалось навстречу поменьше людей. Хотя придуманные Леонидом упражнения были весьма полезными, Константин испытывал при них определенный психологический дискомфорт, и Ямина старалась уменьшить неприятные ощущения.
Поначалу он вообще терзался сильными сомнениями и настаивал, чтобы она возила его только в большой тронный зал дворца. Распорядившись, чтобы в этом зале никого не было, он чувствовал себя там достаточно спокойно и не испытывал каких-либо неудобств, когда Ямина возила его снова и снова по периметру огромного пустого помещения. Поскольку никто в этом случае не мог видеть, как его ступни совершают бесконечные круговые движения, а колени беспомощно поднимаются и опускаются, он хотя бы на время мог забыть об абсурдности всего этого и полностью переключиться на болтовню с Яминой.
Возможно, именно потому, что их первые «прогулки» проходили подобным образом, без возможности видеть глаза друг друга, они очень быстро привыкли к такому положению дел и чувствовали себя достаточно раскованно в обществе друг друга. Когда они впервые встретились, каждый из них был для второго не более чем человеком, лицо которого он видел лишь мельком. То есть до того момента они были чужаками. Обстоятельства их первой встречи каким-то образом вмиг уничтожили все границы, обычно разделяющие людей. Столкнувшись друг с другом в прямом смысле этого слова – превратившись в мешанину переплетенных рук и ног и перепутавшейся одежды, которую свидетелям происшествия потом пришлось распутывать, – они, казалось, уже никогда больше не расставались, по крайней мере надолго. Какая-то невидимая связь, сильная и неразрывная, оставалась между ними все последующие годы. Их бесчисленные беседы только укрепляли эту связь, делая ее еще более очевидной.
Между ними имелась разница в шесть лет. Когда он поймал ее своими руками, ей было двенадцать лет от роду, а ему – почти девятнадцать. Поначалу такая разница в возрасте казалась широкой пропастью, но постепенно она стала иметь все меньше и меньше значения. В первое время их общения Константин относился к ней как к ребенку (ибо она и была ребенком), а она видела в нем взрослого мужчину. Однако по мере того как дни превращались в недели, недели – в месяцы, а месяцы – в годы, возрастная разница между ними все сокращалась и сокращалась, пока Ямина наконец не осознала, что она для принца уже не просто приятельница. Они путешествовали вместе в темноте неизвестности, и он постепенно понял, что нуждается в ней. Она тоже нуждалась в нем и не могла обходиться без него – не могла и не хотела. Она была для него, как Луна для Земли. Ее лицо всегда было повернуто к нему, и они вместе вращались в вакууме, испытывая зависимость друг от друга и не обращая особого внимания на всех остальных…
Когда во время сегодняшней прогулки он после долгого молчания вдруг заговорил и назвал ее по имени, она от неожиданности даже слегка вздрогнула. Он почти никогда не называл ее по имени, и это удивило ее. Их «прогулки» проходили обычно в полумраке дворцовых коридоров, тускло освещенных лампами. Они проезжали мимо закрытых дверей и частной жизни, которая скрывалась за этими дверьми.
Они часто воображали себе интриги, в которые были вовлечены обитатели дворца – те из сотен людей, кто составлял императорский двор, – и развлекали друг друга причудливыми фантазиями о слухах и скандалах. Сейчас, правда, большинство дворцовых покоев пустовало, поскольку многие из придворных нашли себе пристанище где-то в других местах.
В этот день, однако, Ямина была очень рассеянной с момента своего прихода в покои Константина, и она, сама того не осознавая, привезла его в тронный зал, в котором когда-то давным-давно проходили их первые «прогулки», сопряженные с неловкостью и смущением. Он, разумеется, обратил внимание на ее молчаливость, но не стал ничего говорить по этому поводу. В ее обществе его вполне устраивало и молчание – при условии, что инициатором этого молчания была Ямина.
Они сделали два круга по огромному помещению и начинали уже третий, когда Константин все-таки заговорил.
– Что случилось, Ямина? – тихо спросил он.
Она до сего момента была глубоко погружена в свои собственные заботы и тревоги, и даже тронный зал, который был для нее очень даже знакомым, таил в себе, казалось, невидимые опасности.
Какие тайны скрывались в полумраке, царившем высоко над ними? О чем шептались герои сцен из жизни императоров, изображенные на гобеленах, украшавших стены дворца? Что они знали такого, чего не знала она? Ямина почувствовала, что огромное пустое пространство над ней давит ей на голову и плечи. Ей показалось, что она находится на дне одного из огромных резервуаров, которые обеспечивали жителей города водой.
Поэтому вопрос Константина, который она не сразу расслышала, стал для нее своего рода рукой, резко опустившейся в глубину, чтобы спасти тонущую душу, и Ямина с радостью ухватилась за эту руку. Ее терзала мысль о том, что она знает кое-что такое, чего не знал Константин, и ее сердце обливалось кровью, когда она представляла, как станет рассказывать ему о случайно услышанном ею. В то же время Ямина осознавала, что если она умолчит об этом, то просто задохнется и умрет, – как происходит с человеком, проглотившим персиковую косточку.
Ямина сделала глубокий вдох, как будто долго находилась под водой и наконец-таки вынырнула на поверхность.
– Я сегодня кое-что услышала, Коста, – сказала она…
Мы начинаем подниматься над ними – девушкой и искалеченным юношей – и движемся в сторону царящего под потолком полумрака.
– Что-то из этого наверняка является правдой, а что-то вполне может быть и вымыслом, – говорит она, – но это все, что мне известно…
Мы поднимаемся все выше и выше и уже не слышим ее слов. Ямина и Константин кажутся нам маленькими и продолжают уменьшаться в размерах. Высота и расстояние делают их похожими на детей, которые очень уязвимы без защиты со стороны взрослых.
Ямина, рассказывая, продолжает толкать вперед затейливое устройство, состоящее из колес и цепей. Ноги Константина, как и прежде, продолжают то подниматься, то опускаться, и со стороны кажется, что он часть какой-то игрушки.
40
Когда корабли Джустиниани подплыли ближе к городу, первыми заметили маленькую флотилию те, кто пришел их встречать. Мужчины и женщины в дорогих одеждах стояли длинной вереницей у кромки воды. В центре этой вереницы выделялась высокая фигура мужчины, одетого проще, чем все остальные, – он был облачен в одеяние воина Византии и благодаря этому сразу бросался в глаза. Вьющиеся светло-каштановые волосы, доходившие ему до плеч, казались почти женскими. Впрочем, он был весьма симпатичным – с твердым подбородком, широкими скулами и широким же ртом, тонкими, но красивой формы губами. А его голубые глаза были такого темного оттенка, что казались почти фиолетовыми. Заметив на борту самого первого корабля командующего этой флотилией, он поднял руку в знак приветствия.
– Джустиниани! – крикнул он. – Вы как раз вовремя! Я рад видеть вас больше, чем кого-либо другого!
Генуэзец запрыгнул на планшир[30] корабля, ухватившись при этом за веревочную лестницу, являющуюся частью такелажа[31], и наклонился над водой так низко, как только мог, едва ли не рискуя свалиться в море.
– А где еще я мог бы быть в такое время, Ваше Величество? – крикнул он в ответ. – Я взял с собой всех, кого только смог. Мне, правда, хотелось бы, чтобы их было в десять раз больше.
– Или в сто раз, старый друг, – ответил император Константин. – Или в тысячу.
Когда судно Джустиниани наконец подошло к береговой стене, люди и на борту, и на берегу пришли в движение: они стали бросать друг другу канаты и закреплять их, а потом принялись устанавливать сходни. Желание сойти с беспрестанно покачивающейся палубы на твердую землю после долгого пребывания в море было для большинства находившихся на судне почти непреодолимым, и некоторым командирам пришлось драть глотку, чтобы заставить подчиненных соблюдать порядок, дабы высадка на берег прошла как можно более организованно.
Джон Грант и Ленья отошли в сторону от тех, кто толпился у сходней, желая побыстрее покинуть корабль. Они оба надеялись, что в суматохе высадки на берег о них двоих – уж слишком своеобразных и нежелательных персонажах – все позабудут. Джон Грант был рад возможности оказаться в стороне от внимания других людей еще и по другой причине. Уже давным-давно приучившись поменьше болтать и побольше слушать, он старался не выказывать того, что чувствует. В данный же момент, по правде говоря, у него едва не перехватывало дыхание от волнения и сердце в груди билось так сильно, что он опасался, как бы его биение не услышали стоящие рядом люди.
Подготовленный Бадром, причем очень даже неплохо, Джон Грант уже много раз участвовал в сражениях и умел контролировать радостное волнение, которое охватывает воина накануне предстоящей битвы. Он хорошо знал, что этому чувству нельзя доверять, ибо оно может привести к гибели. Достаточно повидав на поле боя, где люди погибают сотнями, а то и тысячами, Джон Грант, несмотря на молодость, мог рассказать, что происходит с теми, кто позволяет азарту взять над ними верх и начинает пренебрегать опасностями.
Однако ощущения, испытываемые им сейчас, когда город, в котором преобладали бело-золотистые цвета, становился все ближе и ближе, были совсем иными. Всю свою жизнь он чувствовал движение мира, в котором находился. Он чувствовал и его вращение, и его полет сквозь пустоту. Однако он уже давно привык к таким своим способностям и научился относиться к ним спокойно. По правде говоря, Джон Грант чаще всего попросту игнорировал свои ощущения и обращал на них внимание только тогда, когда у него имелось время, чтобы насладиться тем удовольствием, которое они ему доставляли.
Вплоть до сего момента он как бы стоял на бревне, раскачиваемом быстрым и переменчивым течением реки, и его тело при этом самопроизвольно подстраивалось под все движения этого бревна. В результате Джон Грант, руководствуясь инстинктами и приобретенным опытом, чувствовал только равномерный и ровный полет.
А вот того, что происходило сейчас, еще не происходило никогда. Здесь, под стенами Великого Города, обращенными к морю, он явственно ощутил, как мир замедляет свое движение. Оказавшись наедине с самим собой, он сконцентрировался на своем восприятии движения мира и… и обнаружил, что почти не чувствует его. У него возникло ощущение, что бурлящая вода его жизни осталась позади, а впереди была спокойная и гладкая поверхность.
У него едва не закружилась голова и едва не заложило уши, однако эти ощущения были оттеснены в сторону – Джон Грант вдруг почувствовал, что после долгих лет скитаний он приближается к ступице колеса.
– Пойдем!
Эти слова произнесла Ленья. Она взяла его за руку и потянула за собой к сходням. Он тряхнул головой, чтобы отогнать мысли о своих странных ощущениях, и пошел за ней.
Джустиниани сошел на берег первым и теперь шагал навстречу раскрывшему свои объятия императору. Некоторые из присутствующих удивленно ахнули от такого проявления фамильярности, что было грубым нарушением этикета, но ни император, ни генуэзец не обратили на это ни малейшего внимания.
И тут Джон Грант заметил девушку, стоящую возле императора и тоже наблюдающую за тем, как он обнимается с Джустиниани. Все его недавние мысли и почти непреодолимые эмоции сразу отошли в сторону. Он почувствовал себя каким-то другим, обновленным, как будто только что родившимся на белый свет. Внутри него все затрепетало, словно имеющиеся в теле нервные окончания впервые в его жизни подверглись воздействию со стороны окружающей среды. Почувствовав слабость в коленях, он глубоко вдохнул прохладный воздух, чтобы прийти в себя.
Уже один только облик девушки мгновенно наполнил его сердце грустью. Ее лицо имело форму сердца, ее губы были темно-красными, а глаза – черными, как у птицы. Уставившись на нее, он видел, как она приоткрыла рот, как будто собираласьпроизнести какие-то слова, но ничего не сказала. Больше всего прочего ему хотелось услышать ее голос и узнать, о чем она думает в этот момент. Ветер дул в сторону берега, и под тканью платья, плотно облегающей фигуру девушки, вырисовывался каждый выступ ее тела, однако он испытывал отнюдь не обычную похоть. Вместо привычных для него физических потребностей он впервые в жизни ощущал что-то похожее на панику… Ему показалось, что время, которое у него еще имелось, стремительно сокращается.
Его голова наполнилась мыслями, которые ему захотелось изложить ей, лишь ей одной, ибо только она сумела вдохновить его так, что у него внезапно возникли эти умные мысли. Теперь, когда он увидел ее, для него приобрело очень важное значение – пожалуй, даже самое важное – то, что ему следует, не теряя ни минуты, объяснить ей важность и срочность всего этого.
Ленья, почувствовав перемену в настроении своего молодого спутника, поняла, что что-то привлекло его внимание и что он о чем-то напряженно думает. Проследив за его взглядом, устремленным на берег, она тоже заметила эту девушку.
– Что с тобой случилось? – спросила она.
Несмотря на то что вопрос застал его врасплох и он все еще стоял с открытым ртом, продолжая таращиться на очаровавшую его девушку, Джон Грант все-таки услышал Ленью и через несколько секунд повернулся к ней.
– А?.. – растерянно произнес он.
– Ты увидел что-то такое, что тебе понравилось? – спросила она. – Милашку, стоящую в тени императора, но отнюдь не затмеваемую им?
Джон Грант, ничего не сказав в ответ, снова отвернулся от Леньи и стал искать глазами привлекшую его внимание девушку. Однако она уже отошла куда-то в сторону, оказавшись в толпе зевак, и, к разочарованию Джона Гранта, почти пропала из его поля зрения. Теперь он видел только ее макушку и длинные каштановые волосы с пробором по центру.
Постаравшись взять себя в руки, юноша стал наблюдать за Джустиниани, который сейчас говорил с императором.
– Интересные времена, – произнес генуэзец, отстраняясь от императора, чтобы можно было видеть его лицо.
– Да, интересные, – согласно кивнул император, и Джон Грант заметил, как он невесело улыбнулся.
– Я ожидал гораздо более теплого приема от этих ваших турок, – усмехнулся Джустиниани. – Где флот, о котором вы меня предупреждали?
Император Константин обхватил своего друга рукой за плечи и повел его прочь от корабля в сторону ворот, за которыми находился город.
– У них много десятков судов, – сказал он. – Но суда эти – галеры с невысокими бортами, которые перемещаются по воде с помощью весел. Хотя таких судов у них много и движутся они быстро, турки вряд ли осмелятся сойтись с высокобортными кораблями – такими, как у вас, – в открытом бою.
– Значит, у них еще нет преимущества абсолютно во всем, – заметил Джустиниани.
– Нет, – подтвердил император. – По крайней мере пока.
– Вы закрыли доступ в город? – спросил генуэзец.
– Да, уже, – ответил император. – Мы теперь – остров.
Он пошел быстрее и показал рукой в сторону стен, обращенных к суше.
– У нас тут рядом есть лошади, – сказал он. – Поехали побыстрее. Они в любой момент могут предпринять свою первую попытку штурма.
Большинство людей, находившихся на борту первого корабля, сошли вслед за своим командиром на берег. Остальные каракки тоже уже причаливали к берегу. Джон Грант сошел на причал вместе с Леньей, и они вдвоем отправились вслед за всеми остальными в город. Он посмотрел вперед, пытаясь увидеть очаровавшую его девушку, и заметил ее рядом с императором.
– Ну-ну, – сказала Ленья. – Вот так первое впечатление!
Высоко в небе летел невозмутимый, высокомерный бородач, поддерживаемый потоками теплого воздуха и наблюдавший за движениями малюсеньких существ, которые, не обладая способностью летать, суетились сейчас под ним на земле. Он не слышал резких звуков выкрикиваемых приветствий и приказов, но вслушивался в шум сталкивающихся потоков воздуха, которые позволяли ему парить в вышине и разглядывать сверху местность в поисках чего-нибудь такого, что могло представлять для него интерес.
Он только что наблюдал за кораблями, похожими на насекомых, которые движутся по гладкой поверхности пруда. Они теперь, как он заметил, стали неподвижными, и от них потянулась вереница людей, тащивших на спине какие-то тяжести, от которых им приходилось сгибаться и идти медленно. Вереница эта становилась все длиннее и длиннее. Она проникла через отверстие в высоких белых стенах и, причудливо извиваясь, двигалась по мощеным улочкам, ведущим вверх, прочь от воды, в сторону большой площади, выложенной ослепительно-белым плитняком. С большой высоты эти люди, выстроившиеся в длинную живую цепочку, были похожи на муравьев или термитов.
И тут вдруг внимание птицы привлекло нечто совершенно новое.
В поле зрения бородача всегда фигурировали скопления точек – результат взаимодействия протеинов его глаз и дневного света, порождающего свободные облачка электронов, которые беспомощно выстраивались в магнитном поле земли. Подобно душам-близнецам, вечно путешествующим вместе, электроны и магнитное поле чувствовали друг друга. Неразрывные связи удерживали электроны вместе, каким бы ни было расстояние между ними. Эти бесконечно малые частицы были объединены невидимой, но сильной связью, которая происходила из сердца самой Вселенной, и для данной птицы следствием этого объединения было безошибочное чувство направления. Каким бы магическим ни казалось это явление, бородач видел перед собой только неподвижный узор, постоянно находящийся в его поле зрения и всегда показывающий ему, где находится север.
Однако бородач повернул сейчас не на север, а на восток, ибо именно в этом направлении его несравненно зоркие глаза заметили пищу. Он стал снижаться вниз по спирали, приближаясь к своей цели – телу человека. Это было тело Риццо, несчастного капитана венецианского корабля, все еще выставленное на всеобщее обозрение на длинном шесте над зубчатой стеной крепости Румелихисар в качестве предупреждения для всех. Процесс разложения шел уже вовсю, однако тело все еще оставалось целым. Руки и ноги мертвеца тихонько раскачивались на ветру, и со стороны могло показаться, что человек по-прежнему жив.
Бородач постепенно снижался, продолжая кружить, пока не смог сесть на крепостную стену неподалеку от трупа. Птица эта была большой и опасной, а потому ее неожиданное появление отпугнуло ворон и прочих крылатых падальщиков размером поменьше, которые пытались поживиться тем немногим, что оставалось от открытой плоти головы, ладоней и ступней капитана. Бородач остался пировать в гордом одиночестве.
Посмотрев налево и направо и удовлетворившись тем, что поблизости не было ни людей, ни других опасных существ, бородач прыгнул на труп и впился когтями в его бедро. Своим мощным клювом он разорвал плоть и соединительную ткань, хлопая при этом большими крыльями, чтобы удерживаться в воздухе возле трупа. Хлюпнув и затрещав, нога отделилась от остального тела и тяжело упала на землю. Бородач спрыгнул с трупа к ней и снова стал раздирать плоть. В отличие от большинства птиц, питающихся падалью, он не интересовался плотью и поэтому не соизволил съесть даже и кусочка почерневшего гниющего мяса. Он рвал клювом плоть до тех пор, пока ему не удалось высвободить из нее длинную бедренную кость Риццо. Схватив свой серовато-белый трофей когтями, он снова поднялся в небо.
Он летел с торжествующим видом, поднимаясь все выше и выше в ослепительную голубизну неба. Лишь случайно он полетел по направлению на запад – в сторону города, который он рассматривал пару десятков минут назад.
В этот момент его заметила другая птица той же породы, которая стала следить за ним, вознамерившись отнять у него кость. Первая птица сейчас пыталась взлететь повыше над какой-нибудь твердой поверхностью, чтобы затем бросить на нее кость с высоты. Кость при ударе об эту поверхность раскололась бы, и тогда бородач смог бы добраться до находящегося в ней костного мозга – любимой пищи этой породы птиц. В желудке бородачей имелась такая сильная кислота, что он переварил бы даже и саму кость.
Бородач чисто случайно оказался над выложенной белым плитняком площадью, которую он видел совсем недавно. Вереница людей тянулась теперь через эту площадь. Люди несли с собой оружие и прочее имущество, необходимое для того, чтобы сражаться. Решив, что нашел подходящее место, бородач выпустил из когтей кость и несколько секунд спустя стал спускаться по спирали к тому месту, где она должна была упасть.
Именно в этот момент вторая птица – самка бородача, чуть-чуть крупнее первой птицы, – решила предпринять решительные действия. До сего момента она выжидала, кружась в воздухе на несколько десятков ярдов выше первой птицы, пока та не бросила кость. Почувствовав, что подходящий момент настал, она стала стремительно спускаться вниз, делая небольшие круги, напоминавшие в своей совокупности очертания штопора. Кость тем временем все еще летела, переворачиваясь в воздухе, вниз.
Стоя на земле как раз под двумя снижающимися бородачами, Джон Грант, обладающий от природы то ли благословенной, то ли проклятой способностью ощущать приближение пока еще не видимых ему врагов, почувствовал движение в воздухе над своей головой и, даже не успев ничего сообразить, машинально поднял левую руку и поймал падающую бедренную кость еще до того, как увидел ее.
Кто-то в веренице людей громко ахнул, а затем раздалось множество испуганных и удивленных криков. Люди заволновались и стали оглядываться по сторонам, чтобы узнать, что вызвало такую суматоху. Император Константин вместе со многими другими людьми волею случая смотрел как раз туда, где находились птицы. Туда же смотрела и шедшая неподалеку от него девушка, очаровавшая Джона Гранта.
Джон Грант держал вонючую кость высоко над собой, и оба бородача, расставив свои когтистые лапы, попытались в нее вцепиться. На какое-то мгновение, стараясь вырвать друг у друга добычу, они, казалось, слились в единое целое. Император, уставившись на эту сцену, замер. Находившийся рядом с ним Джустиниани, тоже заметивший, что две птицы как бы соединились в одно целое, вскрикнул и опустился на колено.
Некоторые из прибывших с Джустиниани воинов отвели взгляд от Джона Гранта и огромных птиц, махающих крыльями возле кости, которую он держал над своей головой, и увидели своего командира, опустившегося на одно колено и неотрывно смотрящего на бородачей, и замершего рядом с ним императора Византии. И тут они как будто впервые обратили внимание на имперский символ на его груди – двуглавый орел дома Палеологов.
Снова посмотрев на Джона Гранта, люди потрясенно наблюдали за тем, как он выпустил бедренную кость, скользкую от крови, и как птицы, все еще сражаясь за нее, поднялись вместе в небо. Одна из них держала голову повернутой на восток, а вторая – на запад.
Воцарилась напряженная тишина, нарушаемая только звуками бьющихся крыльев, а затем раздался громкий одобрительный рев. Джон Грант, рядом с которым стояла Ленья, отвел взгляд от удаляющихся птиц и увидел добрую тысячу восторженно кричащих людей.
Он смотрел на сияющие от радости лица и, случайно увидев среди них императора, тоже заметил изображение двуглавой птицы на его одежде. При этом его охватило такое волнение, что волоски на его руках и шее встали дыбом. Император протянул руку и жестом подозвал юношу к себе. Джон Грант перевел взгляд на стоявшую рядом с Константином девушку, и их глаза встретились. Однако это продолжалось всего лишь мгновение, ибо в следующую секунду раздался такой оглушительный грохот, что мир, казалось, раскололся на две части.
Все невольно вздрогнули и, пригнувшись, машинально посмотрели в том направлении, откуда донесся этот грохот. Именно в этот момент целая секция городской стены – сооружения, стоявшего здесь так долго, что уже никто и не помнил, когда оно появилось, – рухнула и превратилась в груду камней, от которой поднялось гигантское облако известковой пыли, похожее по своей форме на призрак.
Получалось, что произошло то, чего в принципе не могло произойти, и люди, потрясенные увиденным, стали удивленно кричать, все еще не веря своим глазам. Этой стене – стене Феодосия – ни разу не причинялось никакого ущерба аж со времен землетрясения, которое произошло тысячу лет назад. Тогда стена была разрушена, и все население впоследствии собралось для того, чтобы, работая не покладая рук, восстановить ее. С тех самых пор она стойко выдерживала натиск врагов и времени, представляя собой нечто неизменное в постоянно изменяющейся Вселенной. И вот теперь часть ее развалилась, как будто на нее обрушился гнев Божий.
Несколько мгновений спустя мир сотрясся от второго взрыва, который едва не оглушил всех, кто его слышал, и заставил каждого человека упасть на колени от страха и отчаяния. На этот раз башня, с которой на протяжении многих веков велось наблюдение за сухопутными подступами к городу, обрушилась так, как будто по ней стукнули сверху огромным невидимым кулаком.
Пока люди стояли на коленях и кричали, прогремел третий взрыв, и в этот раз шар размером, наверное, с быка пролетел над стеной и врезался в колокольню церкви, расположенной рядом с площадью. Несколько мгновений можно было созерцать образовавшееся в верхней части одной из стен идеально круглое отверстие, а затем вся конструкция рухнула наземь и поднялось еще одно зловещее облако из пыли и грязи.
– Ко мне! – крикнул император Константин. – Ко мне!
Отвернувшись от Джона Гранта и улетающих в небо удивительных птиц, он побежал в сторону проломов в оборонительных сооружениях города. Все остальные побежали вслед за ним, жаждая побыстрее пролить кровь нечестивых турок.
41
Находясь на расстоянии одной мили от императора и нескольких сотен ярдов от городской стены, Мехмед стоял с раскрытым от испуга ртом рядом со своим главным оружейником. Вокруг них вился дым, оставшийся после выстрелов.
На подготовку к этим первым выстрелам из его артиллерийских орудий ушло несколько недель. Бригады, которым было поручено доставить эти орудия из Эдирне к стенам Константинополя, могли двигаться со скоростью не более одной-двух миль в день. Их продвижение чем-то напоминало лаву из извергающегося вулкана, которая ползет медленно, но которую невозможно остановить. Мехмед время от времени ехал рядом с ними верхом, то подбадривая их, то ругая. Люди и животные стонали от напряжения, которое им приходилось испытывать при транспортировке огромных цилиндров из бронзы и латуни, и когда султан пытался чем-то прельстить или напугать этих людей, ему приходилось орать, чтобы заглушить шум, производимый при передвижении артиллерийских орудий.
Первые из его воинов добрались до стен города за много дней до прибытия артиллерийских орудий, и уже от одного их вида, как докладывали Мехмеду, сердца обитателей Константинополя наполнились страхом. Они знали, что Мехмед, призвав всех желающих взять в руки оружие и поучаствовать в затеянном им походе, собрал войско, насчитывающее не одну сотню тысяч людей, явившихся изо всех уголков его империи.
Большинство из его закаленных бойцов составляли сипахи[32] – выходцы из знатных семей, выросшие в седле и умеющие сражаться с помощью лука со стрелами и копья. Они были его ударной силой и представляли собой достойных потомков кочевников, которые когда-то давным-давно прибыли сюда из пустынных районов и которые так умело владели искусством верховой езды и оружием, что о них слагались легенды. Если пехотинцы шли в атаку единой сплоченной массой в центре поля боя, то кавалеристы располагались полукругом позади и с флангов пехоты. Они подгоняли пехотинцев, наказывали тех из них, кто замешкался, совершали внезапные и молниеносные нападения на неподвижного противника или кружили, неумолимо надвигаясь на него, словно рой пчел.
Воин-сипах занимал в османском обществе примерно такое положение, какое занимал в христианских странах рыцарь-крестоносец, и сражался он, в первую очередь, ради собственной чести. Каждый воин-сипах получал от султана землю и в соответствии с площадью полученной земли должен был оснастить и обучить за свой счет определенное число воинов. Эти воины, получающие от него оружие и доспехи, были обычно его родственниками, и поэтому они сражались не только в силу своего верноподданнического долга перед султаном, но и в силу своей преданности обеспечивающему их родственнику.
Ближе всего к Мехмеду, однако, были его янычары – несколько тысяч отборных пехотинцев, которым доверяли оберегать его собственную жизнь и жизни тех, кем султан дорожил больше всего. Эти профессиональные воины, родившись в христианских семьях, еще в раннем детстве волею случая оказывались в плену у турок и воспитывались ими, как мусульмане. Они жили обособленно от других людей и считались едва ли не святыми в силу их особого предназначения. Они сражались и умирали как отдельная, отличная от всех остальных категория людей.
Впрочем, больше всего ужаса в сердца противников турок вселяло неисчислимое, казалось, множество ретивых добровольцев, которые стремились примкнуть к профессиональным воинам. Да и кто, в общем-то, смог бы выстоять против такой неугомонной массы мужчин и юношей, вооруженных своими обычными орудиями труда и мотивируемых лишь страстным порывом и религиозной верой? Уж, конечно, не жители тех немногих христианских поселений, которые все еще существовали за пределами стен Константинополя. Почти все из тех, кто проживал в городах и деревнях, расположенных на побережье Черного и Мраморного морей, или в пригородах Константинополя, были отправлены на тот свет наступающим авангардом турецкого войска. В живых удалось остаться лишь жителям тех городов, стены которых сумели выдержать натиск турецкой орды. Если такие города оказывали упорное сопротивление, наступающие турецкие отряды теряли к ним интерес и шли дальше в поисках более легкой добычи.
Мехмед рассчитал наступление своего войска так, чтобы гребень этой волны из людей обрушился на стену Феодосия на рассвете Пасхального воскресенья. Султан знал, что христиане, собравшись в своих церквях и у своих гробниц, будут чувствовать себя особенно защищенными в силу начала их самой святой недели года. Что бы ни обрушилось на них в последующие дни, всемогущий Бог и мать Его сына наверняка защитят их за молитвы и религиозное рвение в такое особенное время, разве не так? Тем не менее вопреки всем громогласным воззваниям к самым священным иконам и к самому Богу, восседающему на небесах над ними, вопреки звону сотен колоколов и целым облакам ладана, турки явились к ним на порог как раз в годовщину воскресения Христа. Вместо обещанного Христом спасения жители Константинополя увидели целый город из шатров, разбитых злобными врагами, которые появились здесь в ответ на обращенные к небесам молитвы христиан, – появились так, как за одну ночь появляется из земли превеликое множество ядовитых грибов.
Саперы султана сразу же приступили к работе: они стали очищать территорию перед стеной от всех нежелательных объектов, которые можно было удалить. Здания и заборы, деревья и кусты (а точнее, даже целые фруктовые сады и лесные массивы) пали под их молотками и топорами, чтобы для артиллерийских орудий, когда те прибудут сюда, обеспечить свободное пространство, позволяющее вести стрельбу. В восьмой части мили перед стеной – параллельно ей – турки выкопали огромный ров, который протянулся от бухты Золотой Рог до Мраморного моря. Выкопанные при этом камни и землю они уложили в виде длиннющей насыпи перед рвом, призванной защищать бомбарды Мехмеда, которые имели большую ценность. На вершине этой насыпи они установили сплетенный из ивовых прутьев забор, чтобы укрыть от взгляда противника действия артиллеристов (которые тоже имели немалую ценность, но все же меньшую, чем бомбарды).
На протяжении целого тысячелетия эта стена стояла на участке в четыре мили поперек основания полуострова, на котором располагался Константинополь, и из этого тысячелетия в течение более семисот лет то одни, то другие враги-мусульмане тщательно изучали ее конструкцию. Мехмед и его саперы знали размеры и особенности стены как свои пять пальцев.
Все, кто имел какие-то дела в Константинополе и кто отправлялся в этот город через равнины Фракии, в конце концов наталкивались не на одну, а на целых две стены. Они располагались параллельно друг другу, и между ними находилось пространство, где врага ждала смерть. Те вражеские отряды, которым удалось бы прорваться через первую стену, наверняка были бы уничтожены защитниками, находившимися на второй стене и вооруженными арбалетами и бомбардами, копьями и валунами, кипящим маслом и греческим огнем[33].
Прежде чем добраться до внешней стены, нападающие сначала должны были преодолеть глубокий ров, выложенный кирпичами и представляющий собой настоящую братскую могилу, подготовленную для трупов тех, у кого хватит глупости сделать попытку перебраться через него. В своей совокупности оборонительные сооружения города, обращенные в сторону суши, представляли собой защитный барьер шириной шестьдесят и высотой тридцать метров. В обеих стенах по всей их длине имелись башни общей численностью около двух сотен, что еще больше усиливало позиции вооруженных защитников города, круглосуточно наблюдающих за местностью, находящейся за пределами городских стен.
Также по всей длине стен имелись ворота – и большие, и маленькие. У каждых из них было как минимум одно название, а некоторые заслужили себе даже не одно название, поскольку им довелось стать немыми свидетелями большого числа знаменательных событий из жизни города. Как бы там ни было, и султану, и простым жителям были известны ворота Харисия, которые также называли Кладбищенскими, ворота Красных, также именующиеся Третьими Военными воротами, ворота Ресиос, ворота Святого Романа и Золотые ворота, через которые в лучшие времена императоры заезжали в город со своими трофеями после завоевательных походов. Имелись еще ворота Серебряного Озера, ворота Источника, ворота Деревянного Цирка, Калигарийские ворота и многие другие. Все они сейчас были закрыты для Мехмеда и его соплеменников, а потому некоторые из этих ворот – или же их все – нужно было пробить, прежде чем он, султан, сможет выполнить свое предназначение в жизни.
Когда известие о приближении всадников султана донеслось до города, император Константин тут же приказал закрыть все ворота и никого не впускать. Все мосты через ров поспешно убрали или же уничтожили, а все ворота в городских стенах – закрыли и заперли на засовы.
Все это Мехмед, конечно же, предвидел – и в своих снах, и в реальной жизни. Он также знал, где ему лучше всего искать пути к осуществлению своей мечты. Местность, по которой тянулись стены, не была ровной, и ее холмистость приводила к тому, что некоторые участки оборонительных сооружений оказывались в низинах и затем снова поднимались вверх по склону очередного холма. На возвышенностях, находящихся неподалеку от таких низин, осаждающие город воины могли найти позиции, с которых прекрасно просматривалась не только вся верхняя часть стены, но и территория, укрывающаяся непосредственно за ней. Именно поэтому, несмотря на то что стена Феодосия всегда была непреодолимой, кое-какие надежды пробиться через нее все же имелись, особенно у такого завоевателя, как султан Мехмед, который мечтал покорить Константинополь и тем самым осуществить свою мечту. А тем более сейчас, когда он обладал столь мощным оружием.
На возвышенности перед воротами Святого Романа, которые считались наиболее слабым местом обороны города, Мехмед расположил не только собственные шатры и шатры своих телохранителей, но и наибольшую из бомбард Орбана. С обеих сторон от орудия – самого крупного из всех «покорителей городов» – поместили другие артиллерийские орудия, кажущиеся малышами по сравнению с этим гигантом. Со стороны главная бомбарда казалась чем-то похожей на медведицу, окруженную медвежатами, когти которых были в такой же степени опасными, как и у их матери. Когда начался артиллерийский обстрел города, именно в тени огромной «медведицы» и стоял Мехмед.
Массивный ствол главной бомбарды расположили в вырытом перед стеной рве, на деревянной платформе, которую можно было поднимать и опускать, тем самым изменяя угол вылета ядра, с помощью подставок и клиньев. Артиллеристы засы́пали черный порох в зияющее жерло бомбарды, а затем запихнули в него круглый деревянный пыж, равняющийся по своему диаметру крышке круглого столика и вырезанный так, чтобы он точно соответствовал размерам канала ствола. Этот пыж артиллеристы забили в канал ствола железными прутьями. Затем дошла очередь до ядра – тщательно изготовленного камня круглой формы, который двое крупных мужчин лишь с трудом смогли бы обхватить вместе руками. Как только ядро затолкали в темную глубину канала – так, чтобы оно уперлось в пыж, – вокруг ствола закрепили большие деревянные брусья, закопанные одним концом глубоко в землю и предназначенные для того, чтобы помочь сдержать энергию предстоящего выстрела.
Все отошли на безопасное расстояние – все, кроме тех, кому поручили поднести фитиль к отверстию, просверленному близко к тыльной оконечности этой громадины.
В миле от этой бомбарды, над площадью, выложенной блестящим плитняком, бородачи Джона Гранта стали подниматься в небо, продолжая драться друг с другом за добычу. В это самое время язычок пламени, скользнув внутрь бомбарды, воспламенил огромную массу пороха, находящегося в ее стволе. Звук, который раздался долей секунды позже, был звуком зарождения новой эры, и ее родителем был Мехмед, сын Мурада.
Из дула бомбарды вырвался столб огня, вслед за которым появилось огромное клубящееся облако темного дыма. Из середины этих миазмов выскочило само ядро, и Мехмед зачарованно проследил за тем, как оно описало громадную дугу в воздухе и стукнуло, словно кулак самого Бога, по стене возле ворот Святого Романа.
Результат был подобен землетрясению. Ядро разлетелось на тысячу неровных осколков, которые обрушились каменным дождем на землю и в речку Лик, протекающую под стеной города и являющуюся сейчас там единственным желанным гостем.
Однако это был не единственный выстрел, и отнюдь не одно ядро полетело в сторону городской стены. Каждое из выставленных в линию артиллерийских орудий выстрелило одновременно с самым большим и самым главным из них – именно совместная сила всех выстрелов заставила землю содрогнуться, отчего, казалось, вся стена должна была рухнуть под таким натиском. Вся она, однако, не рухнула, но тем не менее целые секции древней каменной кладки задрожали и обрушились. Кое-какие башни тоже попадали, как срубленные деревья, или же осели, как раненые люди.
– Альхамдулиллах[34], – беззвучно пошевелил губами Мехмед, у которого аж перехватило дыхание от осознания той силы, которую он только что обрушил на своих врагов и вообще на окружающий мир. Он стал мысленно благодарить и восхвалять Аллаха.
Если Мехмед утратил дар речи, то большинство из окружавших его людей – нет, и пока он зачарованно смотрел на разваливавшуюся каменную кладку и поднимающиеся облака пыли, его благодарственная молитва, дружно подхваченная войском, прозвучала над турецкими позициями.
– Вы видите, Ваше Величество? – крикнул Орбан, подпрыгивая от радости при виде тех разрушений, которые вызвали его творения. – Вы видите, я выполнил свое обещание!
Мехмед сделал несколько шагов вперед и, отогнав от себя все мысли об уместности и неуместности, обхватил руками шею своего оружейника и поцеловал его в обе щеки, поросшие колючей щетиной.
На этот раз удивился уже Орбан: он ошеломленно уставился на молодого султана. Его глаза заблестели, как бы отражая сияющее от восторга лицо султана.
– Это воля Бога! – заявил Мехмед, к которому наконец-то вернулся дар речи. – Его воля!
А по ту сторону стены, под Влахернским дворцом, земля содрогнулась, и один мир, похоже, исчез в тот момент, когда появился другой. Даже искалеченный юноша, который не видел ни двуглавой птицы, ни ярких языков пламени, вырвавшихся из стволов сотни бомбард, почувствовал, что порядок вещей изменился.
Артиллерийские орудия султана пустили перед собой волну, от которой вздрогнуло каждое сердце на дюжину миль вокруг. Помимо дрожи и вопреки ей, принц Константин почувствовал кое-что еще – совсем другую вибрацию, которая была древнее и которая волновала юношу и привлекала к себе его внимание больше, чем любое дело рук человеческих.
42
Джон Грант заметно устал, оказавшись в центре всеобщего внимания.
С того момента, как он отличился на площади, поймав упавшую с неба кость, он постоянно чувствовал на себе чьи-то взгляды. Первые день или два ему это даже нравилось, и он держался величественно, следя не только за каждым своим движением, но и за выражением лица.
Чуть позже Ленья сказала юноше, что ему еще придется пожалеть, что он стал главным героем подобного зрелища. И она оказалась права, хотя в глубине души та сцена произвела на нее не меньше впечатления, чем на всех остальных, кто ее видел.
Кстати, в первые секунды после того, как птицы начали подниматься в воздух и полетели прочь от воинов, все еще продолжая драться за обладание добычей, Джону Гранту не довелось насладиться своей внезапной славой. Как только гигантские каменные ядра обрушились на укрепления города, император приказал привести лошадей и поехал в сторону дворца и стены в сопровождении Джустиниани и своих ближайших помощников. Остальные из прибывшего подкрепления отправились дальше по городу там, где у них получалось проехать или пройти. Из ближайших кварталов были доставлены повозки и тележки, с благодарностью принятые от тех, кто предложил их сам, или же взятые силой у тех, кто не очень-то желал с ними расставаться. Оружие и прочее оснащение, привезенные подкреплением, были со всей поспешностью доставлены туда, где в них больше всего нуждались, – на стены, обращенные к суше.
Обстрел, начавшись, продолжался непрерывно, словно рукотворное извержение вулкана. Земля дрожала, в воздухе чувствовался сильный неприятный запах сгоревшего пороха, с неба падали камни – так, как будто уже наступил Судный день.
Сквозь грохот выстрелов пробивались совсем другие звуки – звуки голосов сотен и тысяч людей, кричащих от страха и отчаяния.
А ведь были же предвестники беды! За несколько дней и даже недель до появления турок было замечено немало дурных знамений. До того, как прозвучал громогласный хор бомбард султана Мехмеда, сама земля напрягла свою ноющую спину и устроила толчки под городом, от которых повалились статуи, разбились окна и образовались трещины в стенах.
Даже весна – и та умудрилась разочаровать жителей Константинополя: они в такое время года вполне могли рассчитывать на ясное небо и теплый воздух, но вместо этого над Босфором повис густой туман, а затем выпал снег.
Несмотря на то что Джон Грант оказался преисполнен новым для него ощущением уверенности в правильности своих поступков и утвердился в мысли, что он прибыл в надлежащее место и как раз в надлежащее время, юноша тем не менее чувствовал такой же всепоглощающий страх, что и население города. Жители, которые испытывали необходимость в том, чтобы ясно видеть небеса, почувствовали, что на них, наоборот, упала тень. Отчаянно нуждаясь в глотке чистого, свежего воздуха, люди ощущали себя так, как будто они оказались внутри кастрюли, которую вот-вот накроют крышкой. Джон Грант украдкой поглядывал на Ленью, и выражение ее лица, когда она глазела по сторонам, убеждало его в том, что и она тоже замечает все это.
Больше всего его тревожили бомбарды. Ему вообще-то уже не раз приходилось находиться рядом с подобными хитроумными изобретениями, но тогда они почти не вызывали у него страха. Находясь рядом с Бадром, он часто слышал грохот их выстрелов и видел, как вылетевшие из них ядра ударяют в обстреливаемые укрепления. Мавр, будучи невысокого мнения об этих орудиях, отзывался о бомбардах презрительно, ибо считал, что они просто производят много шума, не более того.
– От них больше неприятностей, чем толку, – сказал он. – Они такие тяжелые, что их очень трудно перемещать… такие громоздкие, что из них почти невозможно прицелиться с приемлемой точностью. По моему мнению, они представляют больше опасности для тех бедняг, которые их обслуживают, чем для тех, по кому из них стреляют.
Джон Грант с этим соглашался и испытывал неизмеримо больше уважения к лучникам – таким, как Ангус Армстронг, – и к воинам, умеющим хорошо орудовать мечом и ножом. Однако эти новые бомбарды Мехмеда и его османов представляли собой нечто совершенно иное. Джон Грант никогда раньше даже и не слышал о таких орудиях, как те, что недавно прибыли к стенам Константинополя. Ему всегда втолковывали, что збмки и города, окруженные каменными стенами, являются неприступными, и он, как и любой другой воин, знал, что кучка толковых воинов, защищенных высокими каменными стенами, может не очень-то бояться сотен и даже тысяч врагов, штурмующих подобные оборонительные сооружения.
Теперь же, насколько он понимал, ситуация изменилась. Он собственными глазами видел, как огромные каменные ядра проходят сквозь здания, – словно иголка сквозь материю. Хуже того, ему довелось стать свидетелем страшного зрелища: как под градом этих ядер обрушились целые секции легендарной стены Константинополя.
Раньше Джон Грант думал, что у него в этом городе будет немало свободного времени. Он осознавал, что едет не куда-нибудь, а на войну, причем в самое ее сердце, однако был уверен, что бояться ему почти нечего. Он доверял своим навыкам и умениям и полагался на свои органы чувств. Ему надлежало найти дочь Бадра, и он не сомневался, что стены Великого Города защитят ее достаточно хорошо, по крайней мере до того момента, когда он найдет ее и познакомится с ней. Теперь же неожиданно для себя он понял, что времени у него не так уж и много, а может быть, и вовсе не осталось.
И сообщил ему об этом не «толчок», а его собственные глаза.
Многие из прибывших в Константинополь генуэзских воинов уже бывали в этом городе раньше и потому отправились уверенной походкой по знакомому маршруту, на котором безопасные причалы бухты Золотой Рог всегда находились к востоку от них и по их правую руку. Они торопились и иногда переходили на легкий бег.
Во всех церквях города постоянно звонили в колокола, и Джон Грант невольно удивился, почему население, оказавшееся в осаде, было больше склонно молиться, чем вставать на защиту своего города с оружием в руках.
– Лучше бы меньше стояли на коленях и больше на ногах с мечами в руках, – сказал он Ленье. – Бадр говорил, что Бог любит воина, и я ему верю.
Идя по улицам Константинополя, они видели невеселую картину постепенного упадка и запустения. Но больше всего Джона Гранта поразило царящее в городе отчаяние. Там и сям виднелись большие здания, которые являлись свидетельством былой славы, но даже в них ощущалась ветхость и заброшенность. Пустыри в Константинополе встречались не реже, чем застроенные участки, и на этих пустырях, заросших буйной растительностью, повсюду виднелись развалины – не желающие исчезать с поверхности земли остатки того, что здесь когда-то было.
Генуэзские командиры сказали, что Джустиниани встретит их снова у Влахернского дворца – резиденции императора и центра всех усилий по обороне города. К тому времени, когда они прибыли ко дворцу, у стен Константинополя уже вовсю развернулись боевые действия. Время должно было показать, решат ли горожане перейти к конкретным действиям, направленным на оборону города, или же предпочтут и дальше взывать к Господу Всемогущему.
Дворец тоже пострадал от обстрела, но уже сам вид этого здания – пострадавшего или не пострадавшего – заставил Джона Гранта раскрыть рот от удивления. За все время своих скитаний он еще никогда не чувствовал себя таким маленьким и таким ничтожным рядом с творением человеческих рук, как сейчас. Каменная кладка Влахернского дворца была такой изящной, что казалось, будто дворец вырос из земли сам по себе, а не был сконструирован и построен простыми смертными.
Джона Гранта вывел из задумчивости мужской голос:
– Эй, ты! Ты пришел сюда сражаться или глазеть по сторонам?
Повернувшись, юноша увидел пожилого мужчину, облаченного в тяжелые доспехи и держащего в руке меч. Позади него стояло с полдюжины других воинов в таком же облачении.
– Сражаться, – коротко ответил Джон Грант.
– Женщина, – сурово произнес воин, указывая на Ленью кончиком своего меча. – Боже милосердный, а она-то тут что делает?
Ленья сделала шаг вперед и заговорила таким спокойным и самоуверенным тоном, что этот мужчина невольно стал слушать ее, причем очень внимательно.
– Именно милосердие Божие и привело меня сюда, – сказала Ленья. – А сражаюсь я лучше, чем любой мужчина. И лучше, чем ты, поверь мне.
За такую дерзость ее, вообще-то, могли бы избить, но никто из стоявших перед ней мужчин даже не попытался этого сделать.
– Нас довольно мало, – сказал командир. – Я приму помощь от любого, кто хочет и способен выполнить свой долг. Просто старайся не попадаться мне на глаза и не путайся у меня под ногами.
С этими словами он повернулся и пошел к каменным ступенькам, ведущим к верхней части внутренней стены, которая тянулась параллельно одной из стен дворца.
– Минотто, – послышался голос из толпы генуэзцев, стоящих ближе к Ленье, чем ей хотелось бы. После случая с бородачами, который произошел на площади, она и Джон Грант привлекали к себе людей так, как мед привлекает ос.
Эти слова, по-видимому, произнес стоявший впереди всех остальных воин средних лет, облаченный в кольчугу такого качества, которое свидетельствовало о зажиточности ее владельца.
– Джироламо Минотто, – снова сказал он. – Венецианский дипломат, но воин по своему призванию. Думаю, он нашел для себя пристанище во дворце.
Ленья пожала плечами и повернулась к ступенькам, по которым только что поднялся Минотто. Джон Грант последовал за ней вместе со всеми остальными воинами. Ему при этом казалось, что за ним идут подхалимы, намеревающиеся у него что-то выпросить.
Вид, открывающийся с вершины крепостной стены, заставлял любого, кто бросал туда взгляд, позабыть обо всех своих прочих мыслях. Все пространство пересеченной местности по ту сторону стены занимал город, в котором постройки были сделаны не из дерева и камня, а из холста и шелка. От Мраморного моря и до поблескивающих вод бухты Золотой Рог не осталось, пожалуй, почти ни одного клочка земли, еще не занятого войском султана. Хотя город этот был лишь временным лагерем, разбитым совсем недавно, в нем чувствовалась такая упорядоченность, как будто он просуществовал уже много месяцев. Конусообразные шатры каждого из боевых подразделений были аккуратно расставлены в определенном порядке вокруг шатра их командира. Секции лагеря следовали одна за другой – палатки за палатками, площадка за площадкой, столб за столбом. Смотреть на какое-нибудь хаотическое скопление было бы, наверное, легче. Ощущение порядка, организованности и неуклонной целеустремленности, возникающее при взгляде на этот лагерь, придавало ему еще более зловещий вид.
На широком расчищенном участке между городом из шатров и внешней стеной Константинополя Джон Грант увидел поспешно вырытый ров, который был похож на огромную рану, – именно там разместились бомбарды султана.
В тот момент, когда он пытался оценить размеры войска, собравшегося у городской стены, как вода паводка собирается перед дамбой, его заметил император. Тот уже некоторое время встревоженно разговаривал с Минотто, слушая мнение венецианца по поводу нанесенного обстрелом ущерба, когда стоявший рядом с ним Джустиниани увидел прибывшее на стену подкрепление и легонько похлопал императора ладонью по руке.
– Человек, призывающий орлов с неба, – сказал император так громко, чтобы все находившиеся неподалеку от него люди услышали его слова.
Джон Грант обреченно опустил голову. Ему отнюдь не хотелось оказываться в центре всеобщего внимания, но именно там он сейчас и оказался.
Император Константин в сопровождении Джустиниани и Минотто медленно пошел по направлению к нему, в знак приветствия выставив руки вперед и в стороны. Он положил ладони на плечи Джона Гранта и затем, повернувшись, обратился к своей свите:
– Задолго до того, как тень ислама легла на землю Персии, обитатели этой страны придумали собственное название для таких орлов, которых призвал с неба наш друг.
Он крепко взял Джона Гранта за плечо – как брата или как сына.
– Они называли их «хума» и утверждали, что уже один только их вид приносит радость и надежду на удачу. Любого, кто заставляет таких посланников небес появляться здесь, мы принимаем у себя с радостью… Ты должен стать нашим талисманом! И я говорю всем вам – любому, кто будет сражаться рядом с этим человеком, скорее всего будет сопутствовать удача.
Император жестом подозвал к себе Джустиниани и тоже взял его за плечо.
– Вам, старый друг, – продолжил он, – тысяча благодарностей за то, что вы привезли этого человека к нам. – Затем император повернулся к Джону Гранту: – А теперь скажи нам, как тебя зовут?
Те, кто смотрел в этот момент на Джона Гранта, казалось, дружно вздохнули, словно бы ожидая услышать что-то такое, о чем они уже знали.
– Я – Джон Грант, – ответил юноша. – Я прибыл сюда, чтобы сражаться за вас и ваших подданных.
– И ты будешь сражаться, Джон Грант, – заверил его император. – Джустиниани, я призываю вас извлечь побольше пользы из этого человека.
Данный спектакль закончился так же быстро, как и начался. Император повернулся и пошел прочь по крепостной стене в сопровождении Минотто и нескольких его помощников.
Джустиниани, оставшись на месте, посмотрел поочередно в глаза каждого человека, как бы взвешивая его душу. В последнюю очередь он посмотрел в глаза Леньи и почувствовал при этом, что его не удивляет ее присутствие здесь. Она выдержала взгляд генуэзца, не выказывая при этом никаких эмоций. И тут вдруг из-заих спин донесся топот многих ног и послышалось бряцанье оружия и доспехов. Джон Грант повернулся и увидел, что остальные генуэзцы – все восемь сотен человек – уже явились на место встречи и теперь выжидающе смотрят на своего командира.
Энергичный Джустиниани, похоже, еще больше взбодрился. Переведя взгляд в сторону, на турецкий лагерь, он несколько мгновений смотрел на расположение противника, а затем медленно провел правой рукой по линии его протяженности. Где-то поблизости раздался грохот, и еще одно ядро ударилось в стену возле ворот Деревянного Цирка, расположенных неподалеку от дворца. На этот раз каменная кладка стены выдержала удар, и ядро не причинило ей никакого ущерба.
– Мы находимся здесь по своей собственной воле! – прокричал Джустиниани. – Мы пришли сюда как свободные люди, которые никому ничем не обязаны. Еще совсем недавно мы находились в безопасности у себя дома, но вот теперь мы стоим здесь – там, где можно нарваться на серьезные неприятности. Лично я предпочитаю находиться именно здесь, и я надеюсь и рассчитываю, что никто из вас не придерживается иного мнения. Я прибыл сюда не ради того, чтобы сражаться за какую-то там империю. Я прибыл сюда не ради того, чтобы сражаться за своего Бога. Я прибыл сюда, чтобы убивать турок, потому что они – мои кровные враги. Я не отступлю от них – и от тех, кто на их стороне, – до тех пор, пока еще могу дышать. Я даю вам только одно обещание: если в этой великой заварухе мне будет суждено погибнуть, то вы, подняв с земли мой труп и начав надевать на него погребальный саван, не найдете ран на моей спине.
Никто ничего не сказал в ответ. Никто даже не пошевелился. Каждый оставался наедине со своими мыслями.
А тем временем на другом участке крепостной стены Минотто шагал рядом с императором Константином.
– Я знаю легенду о хуме, Ваше Величество, – сказал он. – Я обратил внимание, что вы не стали рассказывать ту ее часть, в которой говорится, что если на кого-то упадет тень этой птицы, то этот человек станет правителем – станет им рано или поздно.
Он с вопросительным видом поднял брови.
– Только правители делают правителей, – сурово произнес Константин. Выражение его лица было мрачным, а глаза – холодными. – Поверь мне, когда я говорю тебе это.
43
– Расскажи мне еще о заклинателе птиц, – попросил принц Константин.
На фоне беспрестанного грохота, вызываемого ударами ядер о стены, его тихий голос казался каким-то неестественным. Хладнокровно относясь к нашествию турок и их посягательству на весь тот мир, в котором он жил, принц сконцентрировал внимание на своих ладонях, быстрых и ловких.
– Жаль, что ты не мог увидеть это сам, – сказала она.
Собственный голос, проникая через уши в ее мозг, показался ей хрупким. Хрупкой показалась ей и она сама. У нее даже возникло ощущение, что откуда-то изнутри по ее телу расползаются тонюсенькие трещины и что она может скоро развалиться на тысячу маленьких кусочков.
Несмотря на постоянную опасность, создаваемую обстрелом, который продолжался в течение всего дня и ночи, принц Константин отказался покинуть дворцовые покои. Он сказал, что турки наверняка сосредоточатся на обстреле крепостных стен, и, как выяснилось, был прав.
Хотя турки иногда и выстреливали одно-другое ядро по городским кварталам наугад, чтобы повредить какое-нибудь из зданий или убить кого-нибудь из жителей, которым не повезет оказаться в месте падения ядра, внимание артиллеристов все же фокусировалось на древних крепостных стенах. Влахернский дворец все-таки пострадал – главным образом в первый день, когда артиллеристы проводили пристрелку. Комнаты принца Константина находились в той стороне здания, которая была обращена к городу, а не к стреляющим бомбардам турок, поэтому в них было относительно спокойно. Несколько десятков комнат, коридоров и внутренних двориков, стены которых представляли собой массивную каменную кладку, отделяли его покои от фасада здания, обращенного в сторону османской артиллерии.
Константин заявил, что в любом случае о нем не стоит беспокоиться, ибо он представляет собой бесполезного калеку, не способного сесть на коня и поскакать в атаку или хотя бы поорудовать мечом на крепостных стенах. Эти его слова огорчили Ямину, и, к ее удивлению, никто, кроме нее, даже сам император, не стал возражать принцу.
Она почувствовала, что молчаливое согласие отца с его решением остаться в опасной зоне очень больно укололо принца, но эта обида хранилась где-то в глубине души, и он никогда бы в этом не признался – в том числе и перед ней. Император Константин просто кивнул, когда ему сообщили о твердом намерении его сына остаться в своих покоях. Все более назойливая мысль Ямины о том, что человека, которого она любит, небрежно оставляют плыть в одиночку по бурным водам, лихорадочно билась в ее мозгу, не давая покоя.
Начиная с того момента, как бомбарды прогремели в первый раз, из них стреляли практически непрерывно, и эти орудия чем-то напоминали девушке терзаемых своими хозяевами животных, которые в своей агонии только и делали, что визжали и рычали. Их присутствие у стен Константинополя уже даже стало казаться обыденным явлением, и постоянный грохот выстрелов, за которым следовал шум, производимый при ударе каменных ядер о стены, стал частью повседневной жизни – все равно как очередной приступ хронической болезни. Ямина теперь лишь изредка вспоминала ту свою жизнь, которой она жила до момента, когда это все началось, то есть до того, как она оказалась посреди хаоса с его разрушениями и неизменно усиливающимися страхом и ужасом.
Иногда, правда, обстрел прекращался, но только для того, чтобы дать возможность толпам турецких воинов броситься через открытое пространство к свежим брешам в стенах и попытаться проникнуть через них в город. Ров пока что позволял сдерживать эти самоубийственные попытки, однако вопли турок, бросающихся в атаку, были такими же отвратительными, как и грохот их бомбард. Коста говорил, что это были самые отчаянные из добровольцев султана – крестьяне и им подобные люди, которые бросили свои орудия труда и отправились на войну в надежде разбогатеть или, что было более вероятным, умереть смертью мученика.
Константин, как ни странно, относился ко всему, что сейчас происходило, равнодушно. Его собственный мирок, эдакий пустотелый стеклянный шарик, оставался неповрежденным, хотя находился в самом центре бури. За пределами его покоев и за пределами дворца царила суета: мужчины и женщины бегали туда-сюда, что-то уносили и что-то приносили, дети кричали и плакали… Вокруг дворца раздавались громкие команды и распоряжения, полные тревоги возгласы и крики, сливавшиеся в хаос звуков, а Константин, находившийся едва ли не в эпицентре событий, оставленный почти без присмотра и почти всеми позабытый, проводил свои дни так, как он проводил их в течение последних шести с лишним лет. Его стремление к уединению – и равнодушное отношение к этому уединению со стороны придворных, ряды которых сильно поредели, – действовало на Ямину удручающе.
По утрам он занимался изготовлением новых персонажей для своего театра теней и как-то, задав ей вопрос о заклинателе птиц, пустил в ход свое последнее творение. Его тяга к чему-то хрупкому посреди падающих камней и скрежета металла вызывали у нее желание то ли поцеловать его, то ли ударить – Ямина и сама точно не знала, что именно.
На потолке над ним, являясь результатом взаимодействия вырезанных фигурок и луча солнечного света, отраженного от диска из полированной бронзы, происходило действо: парой орлов в воздух был поднят воин. Принц Константин, манипулируя тонкими стержнями, создавал иллюзию бьющихся крыльев.
– Они его никуда не уносили, – сказала Ямина. – Как я уже не единожды говорила тебе, это он удерживал их возле себя. И это было… великолепно.
Она вздохнула, и от его внимания не ускользнули охватившие ее эмоции.
Каждый раз, когда она вспоминала об этом удивительном эпизоде, у нее появлялось ощущение, что ее сердце начинает биться быстрее. Мысли о том мужчине заставили ее покраснеть, и она с радостью подумала, что это хорошо, что в комнате темно. Она поспешила сменить тему разговора.
– Император еще больше, чем раньше, хочет, чтобы наша свадьба состоялась побыстрее, – сообщила она. – Он даже сказал мне об этом в присутствии того генуэзца – Джустиниани.
– Я знаю, – кивнул Константин. – Дука – и тот вовсю разглагольствует о пышности мероприятий, которые по этому поводу запланированы.
– Так и должно быть, – с улыбкой произнесла Ямина. – В такие времена, как эти, когда люди оказались в сердце тьмы, мы больше всего нуждаемся в свете. Наша свадьба касается уже не только нас, если она вообще когда-нибудь касалась только нас. Наше с тобой соединение в этот момент, как ни в какой другой, станет добрым знаком для всех. Это будет демонстрация веры в лучшее, и люди, возможно, утвердятся в мысли, что все будет хорошо.
– Я восхищаюсь твоим оптимизмом, – сказал он и добавил, слегка улыбнувшись: – В самом деле восхищаюсь.
Она бросила на него сердитый взгляд, будучи неуверенной в его искренности.
– Нет, правда. – Он поднял руки в увещевающем жесте и произнес: – Я восхищаюсь тобой и… и я тебя люблю.
Ямина, растерявшись, молча уставилась на него. Хотя она и понимала, как много для него значит, он редко выражал свои чувства словами. Когда он сказал, что любит ее, она ощутила в своей душе какое-то незнакомое чувство вины.
– Я тоже тебя люблю, – мягко произнесла она. И это было искренне.
Да, она сказала это искренне, но при этом в ее душе нарастала тревога. Она снова – уже, наверное, в сотый раз – подумала о человеке, которого принц называл «заклинателем птиц». Она злилась на саму себя и пребывала в растерянности. До свадьбы оставались считаные дни, и уже очень скоро наступит момент, когда она выйдет замуж за мужчину, которого любит с тех пор, как… с тех пор, как она была всего лишь ребенком. Ей предстоит связать свою дальнейшую жизнь с человеком, который едва не погиб, чтобы спасти ее, Ямину. Она всегда осознавала, насколько тесно переплелись их судьбы, но сейчас в своих мыслях снова и снова возвращалась к заклинателю птиц, вспоминая выражение его лица, когда их глаза встретились, – встретились всего лишь на секунду.
Она с нежностью посмотрела на принца Константина и приказала себе верить в то, что все хорошо. Что все сейчас такое же, каким оно было всегда. И вообще-то даже лучше. Она подумала о том моменте, когда несколько дней назад она проснулась, лежа рядом с ним, и неожиданно для себя обнаружила, что они, наверное, все-таки смогут заниматься любовью и стать родителями. Она любила Косту еще тогда, когда он был, как он сам то и дело повторял, «мертвым ниже своей талии». Если его мертвая половина возвращалась к жизни, то, значит, для них становилось возможным что угодно, в том числе и полноценная жизнь в качестве мужа и жены.
Но почему же тогда, с отчаянием спрашивала она сама себя, ее мысли с завидным постоянством возвращаются к тому незнакомцу, которого она увидела на площади? Их глаза встретились лишь на мгновение, но тем не менее в его взгляде она увидела совсем другой мир. А еще в этот миг она внезапно подумала, что он мог бы увезти ее в этот мир – далеко-далеко отсюда. Почему теперь, когда вдруг появилось так много возможностей, она просыпается ночью и осознает, что только что видела во сне это лицо – лицо, на которое падала тень от бьющихся крыльев и которое приближалось к ней все больше и больше? За мгновение до того, как они должны были прикоснуться друг к другу – ресницы к ресницам, а губы к губам – и… и познать друг друга, она просыпалась вся в поту, тяжело дыша, и обнаруживала, что лежит в темноте одна.
Одиночество заставало ее при этом врасплох и струилось вокруг нее, словно холодная темная вода, забирающая тепло из ее тела.
Она опустила глаза и посмотрела на пол.
– Я скучаю по своей маме, – сказала она, позволяя себе озвучить хотя бы некоторые из своих сокровенных мыслей. – Я вообще скучаю по ней каждый день, но сейчас мне тяжело без нее как никогда раньше.
Ей захотелось, чтобы Коста потянулся к ней, может быть, взял ее за руку и стал держать ее руку в своей, но он лежал в постели неподвижно, глядя на нее с добродушным выражением на своем худощавом лице.
– Жаль, что я не был знаком с твоим отцом, – произнес он.
У нее перехватило дыхание. Хотя Ямина знала, что принцу известно о ее происхождении, они никогда не обсуждали эту тему.
Она молчала, и, чтобы как-то нарушить воцарившуюся тишину, Константин продолжил:
– Я думаю… а точнее, знаю, что смысл моих слов заключается в том, что… что мне и в самом деле хотелось бы, чтобы я был с ним знаком.
– Почему? – Ее голос был хрупким, как у ребенка.
– Потому что я люблю тебя.
Он снова произнес эти слова. Второе объяснение в любви менее чем за минуту!
– …и поскольку я люблю тебя, я испытываю необходимость знать людей, которые… которые сделали тебя. Я был немного знаком с Изабеллой, по крайней мере, достаточно для того, чтобы видеть, что у тебя есть схожего с ней. Но мне хотелось бы, чтобы я… не знаю, как сказать… чтобы я услышал голос твоего отца и, возможно, получил бы представление о том, что заставляло его смеяться, а что злило…
Голос становился все более тихим, как будто его смущало то, что он сейчас говорил.
Ямина невольно задумалась о мужчине, который был ее отцом. Точнее, о мужчине, которого ей сказали считать своим отцом, но который таковым не был. Как не был и мужем ее матери.
– Я рада, что они побыли вместе еще раз, пусть даже и совсем недолго, – сказала Ямина.
Она тут же осознала, что эти слова были продолжением только лишь ее сокровенных мыслей и что ей следует кое-что пояснить, если она хочет, чтобы он ее понял.
– Если бы у вас была возможность хотя бы… хотя бы взглянуть друг на друга, посмотреть друг другу в лицо, – сказал он.
Она вспомнила о лице заклинателя птиц и посмотрела на свои руки, которые она, как всегда, аккуратно положила себе на колени.
Ее мать тоже выражала подобное желание, и не единожды.
После многих лет настойчивых попыток Изабелле удалось передать послание настоящему отцу Ямины. Она написала, что у них родилась дочь. Она очень сильно сожалела (сожалела так, что не описать словами), что утаила от него правду, но теперь она испытывала необходимость в том, чтобы он эту правду узнал. И он приехал к ней, хотя она и просила его не делать этого. Она написала ему, что он не должен об этом даже и думать, потому что это слишком опасно. Но он все равно приехал.
Отец Изабеллы, Филипп Критовул, родственник императора, а также его наставник и друг, все еще никак не мог успокоиться и терзался, обуреваемый гневом. И если этот гнев не был достаточным основанием для того, чтобы бывший любовник Изабеллы держался от нее подальше, то другая причина заключалась в том, что ее муж, Мартин Нотарас, который оказал им очень большую услугу тем, что женился на ней и дал свою фамилию ребенку, был очень мстительным человеком. И хотя между Нотарасом и Изабеллой в действительности не было никаких близких отношений (он согласился выступить в роли ее мужа и отца Ямины только после того, как Ямина уже была зачата, причем в качестве одолжения ее семье), его злобная натура вполне позволяла ему дать волю своей мстительности даже и с большой задержкой.
То, что ее настоящий отец захотел приехать вопреки опасности и вопреки настойчивой просьбе со стороны ее матери не приезжать (ради себя самого, ради нее и ради их ребенка), имело для Ямины больше значения, чем она могла выразить словами.
– Расскажи мне, как они встретились, – попросил Константин, возвращая ее к реальной действительности.
Ямина некоторое время молчала, собираясь с мыслями. Она еще никогда никому не рассказывала эту историю, а потому ей было не так-то просто подобрать подходящие слова.
– Мой дед ездил в Рим, – после паузы начала она. – Его отправили туда по воле императора во главе целой делегации. Моя мать говорила мне, что все остальные были священниками и что они хотели встретиться со Святейшим Отцом, чтобы добиться от него помощи и поддержки в нашей борьбе с беспрестанными вторжениями турок на нашу территорию. Моя мать сопровождала деда. Она говорила, что он взял ее с собой, потому что, будучи очень властным человеком по отношению к ней, опасался возможных последствий того, что оставит ее без своего присмотра.
– Каких еще последствий? – спросил Константин.
– Мать любила мою бабку, а та любила ее, – сказала она. – Мой дед этого не понимал, у него не было времени для… для любви. Мать же любила свою няню Аму, пожалуй, даже еще больше. Дед видел в них – моей бабке и няне – людей, которые почему-то хотели, чтобы его дочь была счастливой. Для него же, по словам моей матери, ее счастье не имело вообще никакого значения. Он рассматривал ее всего лишь в качестве козыря, который надлежало пустить в ход в наиболее подходящий момент придворной игры в жизнь. Чтобы не позволять дочери бездумно расходовать свою ценность – на любовь или какую-нибудь другую глупость, – он всегда возил ее с собой.
– Тем не менее он просчитался, – заметил Константин. – Я имею в виду… напоролся на то, против чего боролся.
Она улыбнулась, радуясь тому, что он, по всей видимости, понял иронию ситуации, сложившейся в результате поступков ее деда.
– Мой отец был одним из телохранителей – воинов, которым поручили охранять эту делегацию. Моя мать говорила мне, что он был самым красивым из всех мужчин, на которых она когда-либо обращала свой взор.
Ямина, смакуя эту мысль, откинулась назад и закрыла глаза.
– Буду ли я прав, если предположу, что этот телохранитель не только обратил на твою мать свой взор, но и сделал кое-что еще? – спросил Константин.
Ямина широко раскрыла глаза и уставилась на него, изобразив на своем лице ужас.
– Да как ты смеешь? – воскликнула она, но при этом снова улыбнулась.
Девушке показалось, что она и Коста на одной стороне: они как бы плетут заговор против памяти ее деда, – и ей, к удивлению, это понравилось. Вся прелесть в данном случае заключалась в том, что тайна ее матери уже как бы ушла в прошлое, но тем не менее все еще была очень интересной.
– Она говорила, что заметила его, как только взошла на борт корабля, – продолжила свой рассказ Ямина. – Чуть позже он признался, что сразу обратил на нее внимание, когда она стояла рядом со своим отцом на палубе. А еще мать говорила, что он очень оживился и обрадовался, узнав, что она выделила его из остальных охранников и потом смотрела только на него.
– Как он выглядел? – поинтересовался Константин.
Она снова опустила взгляд на свои руки.
– Хотела бы я это знать, – с ноткой грусти в голосе произнесла Ямина.
– Я это знаю. Ну, конечно же, я это знаю, – заявил принц. – Но скажи, как твоя мать описывала его?
– Он был смуглым, – ответила девушка. – Во всяком случае, смуглее ее. Она говорила, что цвет моей кожи передался мне от него, да и моих волос, я думаю, тоже.
– Что еще?
– Ну, он, по-видимому, был очень крупным мужчиной, – сказала Ямина.
Она покраснела при мысли о том, что ее отец был великаном, и хотя она такого не помнила, все же позволила себе вообразить, как он поднимает ее мать на руки и кружит ее, словно легкую игрушку.
– А ты такая миниатюрная, – сказал Константин и улыбнулся.
Она сердито посмотрела на него.
– Вот и все, что я знаю о его внешности, – подытожила она. – Моя мать больше рассказывала мне о том, каким он был любезным и добрым… как он смотрел в ее глаза и говорил ей, что не может поверить, что она существует на самом деле.
– Итак, они стали любовниками, – вставил Константин, явно заинтересованный этой историей.
– Да, они стали любовниками. Думаю, у моего деда и остальных членов делегации оказалось намного больше дел, чем они предполагали. Им пришлось пробыть в Риме несколько недель, и моему деду не оставалось ничего другого, кроме как предоставить мою мать самой себе. Он ходил то на одну встречу, то на другую, то на третью… Мои мать и отец сумели побыть тайком наедине, и… И результатом их встреч стала я.
Ямина развела руками, словно бы приглашая его впервые обратить внимание на то, что она существует на белом свете.
– Я очень рад слышать это, – сказал Константин, – но давай продолжим. Неужели твоя мать держала тебя в тайне?
– По крайней мере от него. Она говорила, что, как только ей стало понятно, что у нее будет ребенок, она как бы проснулась. И осознала, к каким последствиям это может привести…
– И что произошло?
– Она рассталась с ним, – пожав плечами, сказала Ямина. – Рассталась с моим отцом. Делегация уже должна была отправиться домой, и, поскольку было решено, что на обратном пути телохранители ей уже не нужны, с ними расплатились и расстались. Моя мать ждала до самого последнего момента, а затем бросила его.
– И это был последний раз, когда она его видела?
– Нет. Пять лет спустя она вдруг почувствовала настоятельную потребность сообщить ему обо мне. – Девушка посмотрела в окно и вздохнула. – Она отправила ему весточку. Не знаю, каким образом, и не знаю, куда именно… Но спустя какое-то время он приехал к ней.
Константин снова начал шевелить пальцами, и, когда Ямина посмотрела вверх, на потолок, она увидела фигуру мужчины, которого несли по небу огромные птицы. Она поняла, что имел в виду Константин, и улыбнулась в темноте.
– Несмотря ни на что, он все-таки сумел пробраться к ней, – сказала она, все еще глядя на потолок. – К тому времени моя мать уже была замужем, причем, конечно же, давным-давно. Мой дед позаботился об этом, и Нотарас с радостью согласился с его предложением. Моя мать была… Она была красивой. Она пребывала в одиночестве, если не считать ее слуг. Я думаю, что мой отец наверняка наблюдал за ней некоторое время, пока не убедился, что сможет проникнуть в ее покои незаметно. Моя мать говорила, что я была со своей няней и что мой отец, воспользовавшись этим, пришел к ней. Она обнаружила шрамы на его спине и ногах и спросила о них. Мой отец рассказал ей, что ее люди пришли к нему в тот день, когда она рассталась с ним. Они выломали дверь и подожгли дом. Он сумел выбраться из горящего дома только потому, что ему помог его друг.
– Тогда это настоящий друг, – заметил принц.
– Да, самый лучший, – сказала Ямина. – В общем, они долго разговаривали друг с другом, и… и они были вместе, когда… когда ее муж вернулся.
– И что затем произошло?
– Началась драка. Моя мать не рассказывала мне подробностей того, что случилось. Но в этой потасовке мой отец убил Мартина Нотараса. Позже мать призналась, что мой отец умолял ее уехать с ним. Он просил позвать меня, чтобы затем мы обе уехали вместе с ним.
– А почему бы нет? – Константин внимательно посмотрел на девушку.
Ямина обреченно пожала плечами.
– Куда они… мы… могли бы отправиться? – спросила она, не ожидая на этот вопрос ответа. – Моей матери после долгих уговоров удалось убедить его в том, что будет лучше, если он покинет нас. И он… и он так и поступил.
Некоторое время они сидели в полном молчании. Затем Константин потянулся к девушке и взял ее руку в свою, словно почувствовал, что она уже давно этого хотела.
– Моя мать говорила, что последние слова, которые он произнес, прощаясь с ней, были своего рода извинением.
Константин молча гладил тыльную часть ее ладони своим большим пальцем.
– Он сказал ей, что доставляет всем неприятности, – добавила Ямина.
– А ты знаешь, как его звали? – спросил принц.
– Конечно, знаю, – ответила она и, посмотрев ему прямо в глаза, сказала: – Моим отцом был Бадр Хасан.
Часть четвертая
Свадьба
44
Дни осады воспринимались в Великом Городе как затянувшаяся болезнь. На протяжении всех этих дней – причем, казалось, постоянно – император находился среди своих воинов и среди своего перепуганного народа. Где молились жители города, там молился и он – и в соборе Святой Софии, и в двух десятках других святых мест. Когда они шли процессией по улицам, неся самую почитаемую и надежную икону, на которой была изображена Дева Мария со своим младенцем и которая называлась «Одигитрия», он возглавлял это шествие и брел, как и все другие, склонив голову под той тяжестью, которая на них давила.
Император доверил ремонт и оборону стен Джустиниани, и это было одно из его лучших решений, ибо генуэзец при выполнении данного поручения не только умело использовал свой многолетний боевой опыт, но и проявил себя как гениальный тактик. Как только у него появлялась такая возможность, он отправлялся осматривать стены – все двенадцать миль этого каменного пояса. Стены, конечно же, во многих местах были повреждены, но по-прежнему оставались крепкими и все еще надежными.
– Они уже не выдерживают, – заявил Минотто, когда генуэзец прибыл во дворец. – Этот турецкий обстрел уж слишком мощный. Мы, похоже, проиграли еще до того, как начали сражаться!
Джустиниани, ничего не сказав, покачал головой. Он окинул взглядом своих людей и выбрал среди них двадцать человек, чтобы поехать вместе с ними осматривать места самых больших разрушений в стенах. Уже собравшись идти, он вдруг, как будто о чем-то вспомнив, показал на Джона Гранта.
– В такое время, как сейчас, нам очень нужна удача, и побольше, – заявил он и улыбнулся.
Джон Грант невольно улыбнулся ему в ответ. Почувствовав какое-то необъяснимое желание посмотреть в этот момент на Ленью, он не стал сопротивляться. Их глаза на мгновение встретились, и она кивнула юноше, как будто требовалось ее согласие и как будто оно имело для него большое значение.
– Посмотрим, явятся ли к нам твои орлы, – сказал генуэзец.
Джон Грант, смутившись, снова поискал глазами Ленью, но она куда-то исчезла. Он стал рыскать взглядом по крепостной стене и по земле с ее внутренней стороны, но его матери нигде не было видно.
Два десятка людей, отобранные Джустиниани, отправились во главе с ним к внешней стене, в которой зияли огромные бреши с рваными краями. Однако ров, простейшее из оборонительных сооружений, но теперь ставшее бесценным, все еще оставался нетронутым и преграждал путь противнику. Джустиниани был таким взволнованным, каким Джон Грант его еще никогда не видел: он то ездил верхом взад-вперед перед кучей обломков, лежащих на дне бреши в стене, то слезал с коня и забирался на эту кучу, чтобы взглянуть с них на ров и полосу никем не занятой земли за ним.
– Они сделали эту войну войной камня против камня, – сказал он. – И результаты получились в их пользу.
– Что мы можем сделать? – спросил Минотто. Он произнес эти слова тихо и спокойно, однако Джон Грант все же почувствовал в его голосе тревогу.
Джустиниани сел на корточки и поднял с земли обломок камня величиной с мужской кулак. Из-за сырой весны почва оставалась влажной и мягкой, и кое-где на ее поверхности виднелись большие скопления жидкой или вязкой грязи. Генуэзец встал и швырнул обломок далеко от себя. Все, проследив взглядом за полетом камня, увидели, как он шлепнулся в грязь с хлюпающим звуком.
– Видите? – сказал он. – Видите, как мягкое препятствие ловит и удерживает камень?
Джон Грант сразу же понял, что имеет в виду Джустиниани, но попридержал свой язык, не желая снова попадать в центр всеобщего внимания.
– В любом случае это единственное, на что у нас есть время, – сказал генуэзец.
– Есть время на что? – спросил Минотто.
– А на то, что мы заполним эти бреши землей и вообще всем, что окажется у нас под рукой. Всякой грязи у нас тут полно, а времени – мало. Мы не можем восстановить эти стены с помощью каменных блоков и строительного раствора в ситуации, когда турки постоянно стреляют по нам, но мы точно можем насыпать кучи земли, песка и всего того, что сумеем погрузить на тележки и свалить в кучу в таких брешах, как эта.
– Да, это мы можем, – согласился Минотто.
В отличие от Джона Гранта он не сразу понял прекрасную простоту идеи Джустиниани, но как только до него дошло, каким образом они могут закрыть бреши, Минотто тут же загорелся желанием реализовать ее.
– И для этого не требуются умелые работники – ни каменщики, ни ремесленники! – с довольным видом отметил он. – Обычные жители Константинополя, в том числе женщины и дети, вполне могут заняться этим и тем самым поучаствовать в обороне города.
Тотчас в спешном порядке были отданы соответствующие распоряжения. Несколько часов спустя из жилых кварталов города к его стенам потянулись вереницы горожан. Сначала их насчитывались сотни, затем – тысячи. Все происходило примерно так, как тысячу лет назад, когда от землетрясения обрушились стены и население приняло участие в их восстановлении. Правда, на этот раз нависшая угроза была совсем иной, но реакция на нее осталась такой же. Подобно лейкоцитам, устремляющимся к царапинам и порезам, люди направились заделывать бреши, образовавшиеся в крепостной стене.
Воины Джустиниани, следуя указаниям своего командира, соорудили грубую раму из кольев, воткнув концы вертикально расположенных кольев в верхнюю часть груды обломков. Внутрь этой рамы и на нее бригады рабочих стали сыпать землю, песок и камни. В дело пошла и растительность – кусты и ветки деревьев. В общую кучу бросали даже домашний мусор. Поскольку на этой импровизированной стене нужно было еще как-то стоять и отбивать атаки турок, периодически бросающихся на штурм, были принесены пустые бочки, которые затем заполнили песком и землей и разместили рядами шириной в три-четыре штуки вдоль выровненной верхней части с промежутками, которые должны были играть роль бойниц. Воины могли отбивать атаки турок через эти бойницы и в случае необходимости прятаться за бочками.
Начав работать над восстановлением стен с наступлением сумерек, горожане трудились всю ночь, и к рассвету их работа была уже почти закончена. Хотя ночью турецким артиллеристам ничего не было видно, они все равно продолжали обстрел, и для тех горожан, которые трудились над восстановлением стен, после каждого выстрела, сопровождавшегося невероятным грохотом, наступали несколько секунд томительного ожидания, пока звуки падения ядра, донесшиеся откуда-то со стороны, не сообщали им, что и на этот раз попали не по ним, а по кому-то другому.
Когда наступивший рассвет позволил туркам издалека осмотреть стену, они, к своему ужасу, увидели, что все бреши, пробитые их грозными бомбардами, были заделаны – как будто их никогда и не было. Стена была теперь чем-то похожа на ровный ряд оскаленных зубов, некоторые из них были не белыми, а коричневыми или даже черными, но это все-таки были зубы.
Артиллеристы, разъярившись, направили огонь своих орудий на восстановленные участки стены, но, когда каменные ядра достигли цели, результат оказался похожим на фокус иллюзиониста. Если раньше при попадании каменного ядра в стену раздавался грохот удара, за которым следовали звуки сыплющихся обломков, то теперь не было слышно почти ничего. Камни, причем даже самые большие из них, попросту исчезали в грудах мягкой земли и, застряв там, лишь укрепляли эти груды…
Джон Грант работал вместе со всеми остальными, не увиливая от тяжелого труда. Он видел, как женщины и дети обливаются потом рядом с ним. Выражение их лиц было горестным и перепуганным, и он осознал, что был абсолютно прав в том, что решил приехать сюда. Ему казалось, что вокруг него и над ним сгущается темнота, которая была еще чернее, чем темнота ночи. Время от времени он чувствовал себя плывущим по бушующему морю ощущений и пытался пробиться сквозь нависающий над этим морем туман, чтобы понять, что же происходит.
Когда наступил рассвет, ему наконец-то удалось сквозь многочисленные наслоения ощущений уловить главное, то, что постоянно тревожило его в течение всей этой ночи. Поскольку работа по заполнению брешей в стенах была уже почти закончена, трудившиеся над своей задачей горожане стали работать медленнее и все чаще отдыхали, опираясь на мотыги и лопаты. Завязывались неторопливые разговоры, люди рассказывали друг другу о всем том хорошем и плохом, что произошло за прошедшую ночь… Когда за тонкой пеленой облаков стало прорисовываться молочно-белое солнце, Джон Грант вдруг почувствовал «толчок».
Он подозревал, что такие «толчки» происходили и в течение прошедшей ночи, но их подавило царившее вокруг него напряжение лихорадочной работы. Теперь же, во время своего рода передышки, у него появилась возможность прислушаться к себе, чтобы проанализировать свои ощущения. Он очень быстро понял, почему этот «толчок», как и, вероятно, более ранние, было трудно заметить. Стоя в прохладе раннего утра и зябко поеживаясь в своей влажной от пота одежде, он вдруг ощутил под сапогами едва заметное давление, исходящее от земли и поднимающееся в его тело. Мокрые от росы подошвы его сапог слегка подрагивали. Более того, когда он принялся ходить туда-сюда, чтобы проверить свои ощущения, ему показалось, что он идет по закругленным кончикам черенков метел.
Это был самый настоящий «толчок», и он действительно исходил откуда-то из-под земли. Осознание происходящего нахлынуло на него подобно теплой волне. Складывалось впечатление, как будто он наконец извлек откуда-то из глубин своей памяти уже вроде бы забытое им имя. Поначалу Джон Грант не знал, что ему делать с этим своим открытием. Он, конечно, понимал, что оно, по всей видимости, имеет какое-то важное значение и что ему ни в коем случае нельзя скрывать его от других людей. Но каким образом ему нужно действовать, чтобы открытие пошло всем на пользу?
И тут вдруг он услышал голос Джустиниани и, повернувшись, увидел, как тот ходит среди сбившихся в кучки уставших воинов и обычных горожан. Подумав, что этот человек по крайней мере выслушает его, Джон Грант тут же побежал к генуэзцу.
Заметив его приближение, Джустиниани повернулся к нему и, уперев руки в бока, сказал:
– А-а, заклинатель птиц! И почему-то такой взволнованный.
Джон Грант покраснел и перешел с бега на шаг.
– Что случилось? – спросил Джустиниани.
Осознавая, что «толчок» обычно предупреждает о нависшей опасности, но не сообщает, что это за опасность, Джон Грант решил изложить возникшее у него предположение, причем сделать это самым лаконичным и понятным образом.
– Я думаю, что враг ведет подкоп под стены, – сказал он.
45
Туман, словно просторное влажное полотно, повис в ночной темноте. Лунный свет изо всех сил старался пробиться сквозь темноту, но, похоже, в конце концов удовольствовался тем, что трансформировал эту темноту в унылый полумрак, который, казалось, олицетворял само забвение. Ленью притягивал и как бы всасывал в себя этот полумрак. Ей подумалось, что в ее продвижении к османским позициям есть что-то похожее на сон, сопряженный с ощущением того, что она смотрит сама на себя издалека. Чем больше она думала об этом и позволяла чувствам охватывать ее, тем больше она осознавала, что и ее пребывание в этом городе тоже было похожим на сон.
Кроме того, у нее появилось отчетливое ощущение, что все, с чем она сталкивалась с момента своего прибытия в гавань, уже происходило когда-то раньше. У нее не получалось описать испытываемые ею чувства словами, но чем дольше все это продолжалось, тем сильнее она чувствовала дрожь волнения, которое казалось ей одновременно и благоговейным, и крамольным, а потому – неуместным. В голову приходили мысли о том, что если ей уготована какая-то судьба, то искать ее следует где-то здесь, за городскими стенами. И если она, идя вперед, протянет руку в этом полумраке, то, наверное, рано или поздно прикоснется к краю одежды своей судьбы, как к краю одежды женщины, и она уведет ее за собой.
Осажденный Константинополь, казалось, съежился под упавшей на него тенью войны и связанными с нею невзгодами, однако жители Великого Города имели вид людей, весьма далеких от сложившихся реалий. Их как будто кто-то заколдовал или попросту одурачил. Ленья и раньше знала, что Константинополь – это город суеверий и слухов, что его население больше доверяет знамениям и приметам, чем порывам своих сердец и действиям собственных рук. Люди здесь еще с давних пор привыкли мириться со своей судьбой и видеть во всем волю Божью. Однако их заунывные призывы о помощи, обращенные к другим государствам, едва не заставляли ее скрежетать зубами от негодования и возмущения.
Ленья любила своего Бога, но – и прежде, и даже сейчас – пребывала в твердой уверенности, что хотя бы часть своей судьбы она определяет сама. Ленья всегда стремилась найти собственный путь в жизни и идти по нему, куда бы он ни вел, а вот жители Великого Города по своему поведению были похожи скорее на стадо. Они сильно перепугались, и это было очевидным и вполне объяснимым. Однако боялись они прежде всего того, что их Бог разочарован, а может, даже сердит на них и хочет им отомстить.
Они таращились на небеса в поиске новых знамений и знаков свыше, и в этом их беспомощном фатализме было что-то такое, что удивило Ленью и напомнило ей… поведение коровы, которую ведут на бойню. Их шеи были вытянуты в ожидании топора мясника, широко раскрытые глаза смотрели умоляюще, а рты разинуты в немом отчаянии. Она, Ленья, пришла, чтобы помочь им, а точнее, чтобы полностью отдать себя служению чему-то очень важному, но, к своему ужасу, стала испытывать к ним едва ли не ненависть.
Этот город вообще-то благополучно пережил пару десятков осад. Увидеть и услышать противника, жаждущего их крови, – в этом для обывателей Константинополя не было ничего нового. Возможно, пребывание в осаде, под натиском то одного, то другого алчного врага стало для Великого Города судьбой.
Только лишь посредством проявления единой коллективной воли его жители могли дать отпор необоснованным территориальным притязаниям своих нечестивых врагов. А может, она, Ленья, судила их уж слишком строго? Продвигаясь вперед в похожих на джиннов клубах тумана, она задумчиво качала головой. «Пусть делают все, что хотят, – решила она. – Пусть разбираются с нахлынувшими на них напастями так, как сами считают нужным». Устав от тяжких раздумий, она переключила свое внимание на задачу, которая сейчас стояла перед ней. Она ведь прибыла сюда для того, чтобы оплатить свой долг.
Ленья без особого труда смогла покинуть город, выбраться за пределы его стен и оказалась на никем не занятой земле, отделяющей две противоборствующие стороны. Мужчины во время войны обращали больше всего внимания на других мужчин, и хотя большие ворота были прочно заперты на засовы, чтобы не допустить проникновения в город вражеских воинов, имеющиеся в крепостных стенах калитки были более доступными для тех, кто вроде бы не представлял никакой угрозы. Именно через одну из таких калиток, находящихся неподалеку от дворца, в том месте, где не было рва, Ленья и покинула город. Если какой-нибудь стражник и заметил, как она проходила, он, по-видимому, не придал этому никакого значения.
Хотя Ленья и была опытным воином, она не предусмотрела для себя никакого плана. Ей казалось достаточным и того, что она просто подвергала себя опасности. В такой ситуации она оказывалась близко к Богу – ближе всего – и, идя в полумраке, не боялась никакого зла.
Ленья вспомнила о девушке, которая сгорела на костре вместо нее, и о последующих годах, которые она прожила, в то время как почерневшие кости невинной жертвы превращались в прах. Начиная с того дня и вплоть до сегодняшнего каждый ее вдох и каждое биение ее сердца добавлялись к ее ужасному долгу, и вот теперь она была готова этот долг оплатить.
Она вспомнила о Жаке д’Арк, и ей – уже в который раз – стало очень интересно, жив ли он еще или уже умер. После событий в Орлеане ее родители получили от короля дворянские звания, но если ее мать Изабелла с радостью восприняла изменение их статуса, то отец довольно пренебрежительно отнесся к своему знатному положению. Он ведь уже давно знал, какой потенциал заложен в его дочери, и думал только о том, как бы она смогла реализовать этот потенциал. Он слушал очень внимательно, когда она рассказывала о своих видениях и услышанных ею голосах, и искренне ей верил. Он понял, что она была рождена для того, чтобы сражаться во имя триумфа французской короны и во славу Господа (и он сделал все от него зависящее для того, чтобы это произошло), однако больше всего прочего он любил ее так, как отцу следует любить свою дочь. Его сердце разрывалось на части от того, что его девочка отправляется на войну, поэтому она не осмеливалась даже представить себе, как ужасно повлияло на него известие о ее мученической смерти.
«Прости меня, отец», – прошептала она.
У нее снова ненадолго возникло ощущение, что с ней уже происходило нечто подобное. Это ощущение было похоже на прилетевший издалека теплый ветер, который слегка поласкал ее лицо и затем обогнул его с обеих сторон. Перед ее мысленным взором промелькнули персонажи из ее прошлого, которые показались ей призраками, выглядывающими из тумана. Она вспомнила о своей матери, и ей стало страшно от мысли, какое горе та испытала. Она вспомнила о своих братьях – Жане, Пьере и Жакмене, – и задалась вопросом, сумели ли они выжить на той войне и живы ли они до сих пор. Может, уже обзавелись собственными семьями. Она вспомнила о своей сестре Катрин, давным-давно умершей во время родов. А еще она вспомнила о Патрике Гранте.
Если бы кто-нибудь увидел, как она идет к турецким позициям, ему бы показалось, что это шагает паломник к месту своего паломничества. Со стороны она выглядела сейчас рассеянной и полностью погруженной в свои мысли. Клочья тумана вились вокруг нее, словно какие-то живые существа. Или их души.
В тот момент, когда первый из турецких пикетов заметил ее и направился к ней из полутьмы, она услышала голос своего отца.
«Макдональду с величественными глазами предназначен тот дар, который я сейчас даю, – сказал он. – Он ценнее этой чаши, хотя она из золота, и является ответом на то, что преподносится мне».
Она уже подняла свой меч, резко выхватив его из складок плаща, чтобы отбить наносимый по ней неумелый удар, когда вдруг увидела рядом с собой Жака. Он был безоружным, но облаченным в свое старинное одеяние воина. Она легко обезвредила напавшего на нее неуклюжего турецкого воина – дернув его за руку, заставила проскочить мимо нее, а затем, ударив по голове кончикомрукоятки меча, оглушила, отчего он тяжело рухнул на мягкую землю – и затем внимательно посмотрела в лицо своего отца.
Он был красивым. А еще он был чистым, с блестящими глазами и казался моложе, чем она когда-либо видела его в своей жизни, а потому она поняла, что он явился к ней из мира мертвых.
«Прости меня, отец», – снова сказала она, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, и слыша, как ее голос задрожал.
Она повернулась, чтобы дать отпор второму турецкому воину. Лицо этого турка исказилось в гримасе – настолько он был удивлен ее появлению тут и тем, как легко она справилась с его товарищем. Но вместо того, чтобы закричать и позвать на подмогу, он молча подскочил к ней и взмахнул своей кривой саблей.
Ленья по-прежнему воспринимала происходящие сейчас события как какой-то сон, и только запах пота, который исходил от этого турка и в котором, казалось, чувствовался его страх, напомнил ей, что враг был настоящим и нападал на нее по-настоящему. Отпрянув в сторону, она уклонилась от направленного сверху вниз удара, сделала оборот вокруг своей оси и нанесла удар концом рукоятки меча – так же, как несколькими минутами раньше. Однако на сей раз она ударила своего противника по голове сильнее, чем намеревалась, и, услышав треск кости, засомневалась, что этот турок когда-нибудь придет в себя.
«Хотя эта чаша досталась мне как бы даром от волка из числа гэлов, – сказал Жак д’Арк, – мне так не кажется, поскольку он получил в ответ мою любовь».
Голос ее отца казался ей удивительным даже в большей степени, чем его призрак. Она смотрела на то, как его фигура колышется и перемещается с места на место внутри клубов тумана, и он при этом делает точно такие же движения, какие только что сделала она в схватке с турками, а потом одобрительно улыбнулся ей.
Любому, кому довелось бы увидеть эти две схватки, в которых черноволосая женщина последовательно справилась с двумя нападавшими, ее действия могли показаться движениями тщательно отрепетированного танца. Туман сделал каждую из этих схваток независимым эпизодом: он скрыл детали и заглушил производимые при них звуки, а потому никто не поднял общей тревоги. Ленья двигалась от одного турка к другому, словно привидение, наводящее на каждого из них ужас.
Она одолела и третьего, и четвертого турка, и когда сражаться пока что стало не с кем, отец улыбнулся ей, подошел поближе, протянул к ней свою грубую руку и погладил ее по лицу. А еще он наклонился вперед так, чтобы его гладкая щека коснулась ее щеки.
«Моя любовь», – сказал он и ушел.
Она осмотрелась по сторонам. Ее лицо было влажным от слез. Она ведь пошла к турецким позициям в надежде найти смерть, которую заслужила. Она была готова сразиться хоть со всеми турецкими воинами сразу, чтобы пасть под целым лесом мечей и проснуться затем на преисполненных покоем небесах.
Но этому не суждено было случиться. Еще один ангел – ее собственный отец – явился к ней, и только к ней, и она узнала от него – узнала во второй раз, – что милосердный Господь примет ее у себя только тогда, когда он будет к этому готов, не раньше.
46
Шагая по коридорам, ведущим в тронный зал Влахернского дворца, Ямина почувствовала знакомое ей ощущение тяжести и напряжения в животе. Она шла вслед за молодой придворной дамой, которую прислали за ней, и, чтобы как-то успокоить нервы, она сконцентрировала свое внимание на тихом шелесте платья этой женщины, ритмично чиркающего подолом по древнему плитняку. Они не обменялись и словом. Эта женщина, похоже, горела желанием побыстрее выполнить данное ей поручение.
Ямина находилась рядом со своим принцем и занималась тем, что она делала ежедневно, – втирала ароматическое масло в исхудавшие мышцы его ног, когда ее усилия были прерваны легким стуком в дверь покоев Косты. В то время как все остальные обитатели города полностью сосредоточились на мыслях о нависшей над ними опасностью, эта девушка и этот искалеченный юноша еще плотнее закрыли изнутри двери своего маленького частного мирка. Их общение с его характерными атрибутами стало для них еще более важным, чем раньше. Оно стало более важным, чем все остальное.
Ямина уже рассказала принцу все подробности своей случайной встречи с Еленой и того разговора, который она подслушала перед этой встречей. В глубине души он разделял ее обеспокоенность: и тон сожительницы императора, и слова, которые она произнесла, не могли не тревожить его. Но он утешал себя мыслью, что все это было связано с планами их свадьбы. Если подготовка к этому мероприятию, несмотря на такое тяжелое время, не была отменена, то пора бы уже это мероприятие и провести. Они вряд ли могли бы рассчитывать на большее проявление заботы о них. В том, что Елена, как случайно услышала Ямина, в сугубо частном разговоре сетовала по поводу его физической немощи в условиях войны, не было ничего удивительного. Константин пытался успокоить свою будущую невесту и развеять ее опасения, и ему казалось, что у него это получилось, – по крайней мере частично. Однако, вопреки его внешнему спокойствию и даже оптимизму, на самом деле его терзали сомнения.
Снова послышался стук в дверь – более громкий, чем раньше.
– Заходите к нам, – сказал Коста.
Последовала пауза длительностью одна или две секунды, пока тот, кто находился за порогом, размышлял над необычной фразой, а затем дверь открылась и в комнату робко зашла молодая женщина, которую Ямина не раз видела в числе придворных.
– Мне поручили сообщить, что моя госпожа хочет поговорить с Яминой, и немедленно, – сказала она.
Ямина посмотрела на принца, а затем, понимая, что задерживаться в подобном случае не следует (и уж тем более не следует проявлять непослушание), взяла кусок материи и вытерла масло со своих рук. Не произнеся ни слова, она вышла из комнаты и пошла по коридору, предчувствуя что-то неладное.
Император в последнее время довольно часто вызывал ее к себе, и это даже заставляло ее беспокоиться. Он потребовал ее присутствия рядом с ним во время прибытия генуэзских кораблей. Более того, он не взял тогда с собой свою сожительницу. Ее, Ямину, он с собой взял, а Елену – нет. Ямина понимала, что подумали и почувствовали люди, когда увидели ее. А еще она осознала – с неоспоримым удовлетворением, – что он хотел, чтобы его видели в компании с такой женщиной, которой можно завидовать и которую можно жаждать. Император хотя и представитель Бога на земле, но он также и мужчина…
Ямину позвали от имени Елены, но то, что место, куда ее сейчас вели, оказалось тронным залом дворца, дало Ямине основания полагать, что сожительница императора будет не одна. Она предположила, что там ее ждет и император, и, к своему смущению, была вынуждена признаться себе, что мысль об этом вызвала не только приятное волнение, но и тревогу. Над ее принцем нависла тень какой-то опасности, но пока не было понятно, какой именно.
Чтобы узнать побольше и понять суть этой опасности, ей было необходимо пообщаться с теми, от кого эта опасность могла исходить. Она расправила на ходу плечи, слегка выгнула спину и, чуть-чуть замедлив шаг, стала уделять больше внимания движениям своих бедер.
Сопровождающая ее женщина подошла к узкой деревянной двери, которая, как вспомнила Ямина, вела в дальнюю часть огромного тронного зала, а именно в пространство за помостом, на котором стоял трон. Она открыла эту дверь и отступила в сторону, чтобы Ямина прошла внутрь одна.
Ямина услышала, как эхо ее шагов устремляется, словно стайка перепуганных птичек, к куполообразному потолку. Она увидела перед собой трон, конструкция которого всегда казалась ей дурацкой. Вокруг обитых роскошной материей сиденья и спинки находились четыре каменных столба с замысловатой резьбой. На вершине этих столбов, поддерживая купол из полированной бронзы, который был своего рода крышей для трона и при этом подчеркивал имперское величие того, кто на этом троне сидел, виднелись четыре голубки, вырезанные из белого мрамора. Из всех шикарных украшений, которые все еще имелись во дворце, то есть тех, которые не были разграблены крестоносцами, захватившими город два с половиной столетия назад, этот трон всегда казался Ямине самым нелепым.
Однако сейчас он пустовал, и она огляделась по сторонам, пытаясь увидеть каких-нибудь людей. Не обнаружив никого, она обошла трон и пошла вглубь этого огромного помещения, пока не оказалась в самом его центре.
Так никого и не увидев, она подумала, что все это очень странно. Игры в прятки не входили в перечень прихотей Елены, да и император вряд ли отложил бы свои дела, связанные с обороной города, чтобы заняться таким вот озорством. Она уже почти убедила саму себя, что это было делом рук придворной дамы, когда вдруг услышала тяжелый скрип закрывающейся двери – той самой двери, через которую она зашла в тронный зал несколько минут назад.
Испуганно вздрогнув от этого звука – и от эха, которым отразился этот звук от стен огромного тронного зала, – она повернулась туда, откуда он донесся.
Перед троном, кажущийся малюсеньким на фоне такого огромного помещения, но тем не менее легко узнаваемый даже на большом расстоянии, стоял облаченный в белоснежные и позолоченные одежды и увенчанный украшенной драгоценными камнями и поблескивающей короной, не кто иной, как Коста.
47
В воздухе чувствовался сильный запах крови. Мехмед, против своего обыкновения, лично присутствовал при казнях. Они уже, впрочем, закончились, и он уселся спиной к месту кровавой резни, все еще терзаясь гневом.
Что же теперь делать? Что нужно предпринять?
Никто из людей, стоящих перед султаном, не осмелился бы открыть рот до того, как что-нибудь скажет он сам, и поэтому они ждали, стараясь не встречаться с ним взглядом. Какая же огромная разница оказалась между событиями всего только одного дня и одной ночи!
Еще двадцать четыре часа назад атмосфера вокруг Мехмеда была полна радостного волнения и надежды. После более чем одной недели беспрестанного обстрела результаты были, как говорится, налицо: стены города, да и вообще весь город, казалось, дрожали, издавая глубокий звук, чем-то похожий на звук колокола, по которому ударили. Турецкие артиллеристы так хорошо приноровились в своей стрельбе, что смогли сосредоточить огонь на той части внешней стены, которая находилась прямо перед шатрами самого Мехмеда. В течение этой недели султан частенько стоял возле самых больших артиллерийских орудий – самых «толстых» из «детищ» Орбана, – когда те выстреливали своими смертоносными каменными ядрами.
Однако после третьего дня обстрела Орбан подбежал к бомбарде и отогнал в сторону людей, ливших по его указанию оливковое масло на ствол, чтобы охладить его. Он внимательно посмотрел на металл, который был очень-очень горячим – не прикоснуться! – и поднес ладони к его дымящейся поверхности так близко, как только смог. Затем он с необычайно встревоженным видом подбежал к султану.
– Мы должны дать ему остыть, – сказал он, говоря о стволе так, как говорил бы отец, переживающий о благополучии своего любимого сына. – А пока что мы будем стрелять только из остальных бомбард – до завтрашнего дня, хорошо?
Вдруг осознав, что, говоря сейчас с султаном, он скорее распоряжается, чем получает распоряжения, Орбан, поспешно сменив интонацию, превратил свою последнюю фразу в вопрос.
Даже не посмотрев на своего оружейника, Мехмед отрицательно покачал головой.
– Стены Иерихона, говорил ты. Ты обещал мне, что это твое орудие повалило бы даже стены Иерихона. Поэтому пробей мне дорогу через стену Феодосия.
Поставленный на место таким ответом, венгр поспешил к своему шедевру и лично проконтролировал загрузку в него еще одного ядра, изготовленного из серого камня и, пожалуй, не уступавшего по размерам свернувшемуся калачиком медведю. Когда все было готово, Орбан снова приблизился к султану и попросил его хотя бы отойти на безопасное расстояние, но Мехмед остался стоять там, где и стоял, как будто он не услышал слов своего оружейника.
Был отдан приказ произвести выстрел, и молодой артиллерист, голый по пояс и обливающийся потом, поднес на длинной палке фитиль к отверстию в задней части ствола. Ствол с оглушительным грохотом дернулся и раскололся во время выстрела на дюжину кусков, которые разлетелись во всех направлениях. Почти все те, кого не убили и не поранили эти куски темно-красного металла, были сбиты с ног ударной волной. На несколько секунд воцарилось ошеломленное молчание, а затем те, кто остался в живых, с трудом поднялись на ноги, чувствуя, как звенит в ушах и как бешено колотятся сердца.
Мехмед был среди тех немногих, кому удалось удержаться на ногах, и люди, бросившиеся к своему султану со всех сторон, с удивлением отметили про себя, что он вообще никак не пострадал. Оттолкнув своих приближенных в сторону, султан подбежал к тому, что осталось от бомбарды. Вся ее прислуга, то есть две дюжины душ, превратилась в кровавые куски плоти, клочья волос и обрывки одежды. Оружейника Орбана рассекло на две части. Мехмед посмотрел сверху вниз на безжизненные глаза венгра, которые таращились в небо с удивительно умиротворенным и бесстрастным выражением, и не почувствовал ничего, кроме разочарования.
Вдруг раздались громкие крики, и султан отвел свой взгляд от бездыханного тела Орбана, чтобы посмотреть, кто это орет и почему. Он увидел, что все его люди смотрят не на мертвых артиллеристов и не на обломки бомбарды, а на стену города. В ней возле ворот Святого Романа – центрального пункта в древних оборонительных сооружениях Константинополя, обращенных к суше, – появилась огромная брешь, ставшая результатом последнего выдоха умирающей бомбарды. Были видны также фигуры мужчин и женщин, бегущим к бреши и, по-видимому, намеревающихся начать ее заделывать.
Быстро придя в себя, Мехмед выкрикнул распоряжения тем своим помощникам, которые могли еще что-то слышать. Нужно было сконцентрировать огонь трех ближайших пушек на пробитой бреши с такой точностью, как никогда раньше, чтобы отогнать защитников города, уже начавших насыпать землю и прочие материалы поверх груды обломков каменной кладки. Он, султан, лично возглавит массовую атаку к этой бреши через ров. Следовало немедленно наполнить повозки всем, чем можно будет быстренько засыпать участок огромного выложенного кирпичами рва.
За каких-нибудь несколько минут вокруг молодого султана собрался большой отряд азапов[35] – новобранцев-мусульман, собранных в его войско со всех уголков османских владений. Решительность этих смелых, но плохо обученных добровольцев была усилена присутствием отряда янычар, и под звуки громогласной какофонии труб, тарелок и барабанов вся эта масса людей, возглавляемая Мехмедом, стремительно направилась вниз по склону к стене. Солнце уже зашло за горизонт, и к тому времени, когда они достигли равнинной местности возле реки, над городом уже засиял полумесяц.
Мехмед и его лучшие воины ехали на боевых лошадях, стараясь при этом двигаться на такой скорости, чтобы бегущие вслед за ними пехотинцы не отставали. Как только турки спустились вниз по склону и стали приближаться к пробитой бреши, защитники города бросились к своим артиллерийским орудиям и начали яростно обстреливать их. К ним присоединились арбалетчики и лучники.
Янычары поспешно сгрудились вокруг своего султана и подняли щиты. Прекрасно понимая, что их ждет, если они позволят врагу причинить султану какой-либо вред, они, похоже, больше заботились о его безопасности, нежели о своей.
То, как умирали в этом бою азапы, которых можно было легко отличить по их ярко-красным шапкам, представляло собой одновременно и ужасное, и удивительное зрелище. Христиане зарядили свои собственные – меньшие по размеру, чем у турок, – бомбарды свинцовыми шариками и железными гвоздями вместо ядер и открыли из них ураганный огонь по приближающемуся противнику. Такая стрельба позволяла поражать даже облаченных в тяжелые доспехи янычар, а азапы, одетые очень просто и защищенные только щитами (которые многие из них вообще побросали в своем стремлении побыстрее добежать до христиан), истреблялись по десять, а то и двадцать одним выстрелом: свинцовые шарики, почти не теряя скорости, пронзали насквозь одного воина за другим.
Однако, несмотря на довольно тяжелые потери, турки продолжали продвигаться вперед. Достигнув рва, они стали забрасывать его всем, чем только могли, включая камни, бревна, землю, шатры и даже тела погибших товарищей, пока не образовался своего рода мост, который был достаточно широким для того, чтобы по нему могли пройти наступающие отряды.
Продолжающийся обстрел из турецких бомбард наносил удар за ударом по оборонительным сооружениям, попадая и в защитников города, и в атакующих турок. Император Константин, наблюдавший за атакой турок с внутренней стены, приказал объявить общую тревогу. В городских кварталах зазвонили все церковные колокола, и на погрузившиеся в ночную темноту улицы хлынули тысячи перепуганных горожан, кричащих, рвущих на себе одежду и царапающих себе лица в охватившей их панике.
Турки, пробираясь через ров десятками и сотнями, с помощью длинных деревянных шестов с крюком на конце пытались стащить со стен бочки с обломками и песком, чтобы сделать находящихся на восстановленных стенах защитников более уязвимыми для артиллерийского огня, сабель и арбалетов.
Последние отблески солнечного света померкли у линии горизонта, и источниками освещения стали теперь только месяц и вспышки стреляющих артиллерийских орудий. Уже предчувствуя победу, азапы бросились на земляное укрепление и, с азартом напирая сзади, вскоре забрались на его верхнюю часть, где их становилось все больше и больше. Янычары, спешившись и яростно сражаясь плечом к плечу с остальными воинами, рвались вперед настойчивее всех, и в течение некоторого времени христиане и мусульмане, напиравшие с разных сторон, оказались в большой давке и, освещенные лишь месяцем, который наблюдал за ними с высоты, погибали в ней десятками.
Мехмед, остановившись у основания стены, следил за ходом ожесточенной битвы, все время подбадривая и ругая своих воинов, пытающихся с боем протиснуться в город через пробитую в стене брешь. Но что бы искренне ни обещал султан своим людям и чем бы он им ни грозил, натиск его воинов начал ослабевать – так, как ослабевает напор набежавшей на берег волны, – пока наконец они вдруг не остановились и не побежали назад, к своим позициям…
И вот теперь, когда прошла ночь и уже настало утро, Мехмед сидел и предавался размышлениям. Он находился на открытом пространстве перед своим золотисто-красным шатром. От любопытных взглядов его защищал частокол, окружающий его шатер и ограничивающий территорию, предназначенную лишь для одного султана. Самый старший из его приближенных, его главный визирь Халил-паша, чувствовал тепло прогреваемого солнцем воздуха сильнее, чем большинство других людей. Весна наконец-то вступала в свои права, однако отнюдь не дневное тепло вызывало у визиря слабость и вялость. Эти ощущения вызывал у него и не голод тоже, ибо, несмотря на то что мусульманское войско в этом походе получало пищу лишь раз в сутки, после заката, живот Халил-паши казался ему самому твердым как камень.
Чтобы хоть как-то охладить гнев султана, вызванный его разочарованием, к нему привели взятых в плен защитников города. Эти бедняги, пытаясь преследовать отступающих турок, были схвачены и оказались в плену.
Мехмед равнодушно понаблюдал за тем, как пленников подвергли пыткам, используя раскаленные ножи, а затем ослепили. Они в любом случае не могли сказать ничего полезного, и он потерял к ним интерес еще до того, как была допрошена хотя бы половина из них. Поэтому он приказал повесить их всех привязанными за ступни на поспешно сооруженной деревянной раме. Затем их одного за другим распилили надвое от промежности до плеча длинными пилами. Мехмед когда-то слышал, что христиане очень ценят свои головы и очень боятся последствий того, что их головы отделят от тел. Поэтому, решив не унижать их, султан распорядился оставить их головы на месте. И вот теперь все они были мертвы и легкий парок медленно поднимался от их останков.
– Я опечален, – сказал Мехмед.
Никто ничего не ответил. Промолчал даже Халил-паша, ценивший свою собственную голову не меньше, чем любой христианин.
– Я предоставил вам орудия и средства, необходимые для выполнения стоящей перед нами задачи, но тем не менее я до сих пор сижу снаружи городских стен, а их император смотрит сверху вниз на меня с вершины вон той кучи грязи. Объясните мне, почему так произошло.
Халил-паша сделал шаг вперед, но, прежде чем он успел что-то сказать, Мехмед заговорил снова.
– Мне жаль этих неверных, – произнес он, указывая широким жестом куда-то позади себя. – Несмотря на все мои призывы и мою милость к вам, вы потерпели неудачу. Вы все и каждый из вас. И все, до чего вы смогли додуматься, – это привести ко мне этих людей, этих храбрых защитников, и заставить меня смотреть на то, как вы их истязаете… Я опечален, – повторил султан.
Чувствуя, как нарастает волна гнева, которая может смыть и его самого, и всех остальных, Халил, воспользовавшись паузой, сделанной султаном, поспешно сказал:
– Можно попробовать кое-что еще.
Мехмед минуту-другую ничего не отвечал. Наконец он вздохнул и провел рукой перед лицом, как будто пытаясь ладонью пригнать воздух к своему носу и лучше почувствовать висящий в нем запах. Халил воспринял это как разрешение продолжать говорить. Он был уже бывалым придворным, служившим еще отцу Мехмеда и пережившим его, а потому хорошо понимал смысл жестов своих повелителей.
– Всегда считалось, что Великий Город и окружающие его стены были построены на твердом каменистом грунте, – сказал он.
Мехмед посмотрел своему визирю прямо в глаза в первый раз с самого начала этого их общения.
– Но среди наших наемников есть люди, которые утверждают, что это не так.
– Я тебя внимательно слушаю, – оживился Мехмед.
– Эти люди с севера, из земли, которая называется Саксонией, – сказал Халил. – Они занимались добычей серебра и хорошо разбираются в том, как нужно копать и срывать целые горы. Для их инструментов, говорят, мрамор – это все равно что воск, а черные горы в их родной земле – просто кучи пыли.
Мехмед смотрел на своего визиря и наслаждался, видя, как напряжен этот человек в своем стремлении угодить ему, султану. Он знал, что Халил очень сильно обрадовался бы, если бы увидел, что его султан висит на виселице с отрубленными ступнями.
– И что они говорят о местных камнях? – спросил Мехмед.
– Вот это-то и есть самое важное, Ваше Величество, – сказал Халил. – Среди них имеются люди, которые утверждают, что они видели такую же местность, как здесь, в своей собственной стране и что, хотя на большей части поверхности имеется твердая корка, можно тем не менее прорубить в ней отверстие.
– И что дальше? – спросил Мехмед.
– А дальше, как говорят эти саксонцы, находятся песок, земля и валуны. Поэтому вполне можно прорыть туннели к стенам, а затем под ними.
– У нас полно черного пороха для наших артиллерийских орудий, – сказал Мехмед. – И привезут еще больше. Если я не могу повалить стены, я, возможно, смогу взорвать их – так, чтобы они разлетелись вдребезги. Я думал, что в этой местности невозможно делать подкопы, но если то, что говорят эти саксонцы, соответствует действительности…
Он встал и подошел к визирю, который, сам того не осознавая, отступил на три шага назад.
– …то, пожалуй, кость в горле Аллаха еще можно будет вытащить.
48
– Ведра и чаши? – спросил Джустиниани. – Дело уже дошло до этого?
Тон генуэзца был слегка насмешливым, но тем не менее Джустиниани согласился с предложением молодого шотландца. Когда Джон Грант сказал ему, что турки роют туннели под стенами и что они могут в любой момент появиться из-под земли под прикрытием ночной темноты (как древнегреческие воины, появившиеся из гигантского деревянного коня), он поначалу отнесся к этому сообщению скептически.
Джустиниани бульшую часть своей жизни занимался тем, что командовал людьми на войне. При этом он на личном опыте узнал, что своим соратникам можно доверять. Можно и даже нужно. В его отряде имелось несколько человек, которым он доверил бы даже собственную жизнь. Он также знал – и это делало груз лежащей на нем ответственности еще более тяжелым, – что все его воины полностью полагаются на его опыт, хотя, если честно, он сам больше всего доверял своим инстинктам. Еще при его первой встрече с Джоном Грантом на борту корабля у него появилось какое-то странное чувство по отношению к этому парню.
Он затруднился бы выразить словами, что это за чувство, да и осознать его своим рассудком в полной мере он не мог. Примерно такое же чувство появилось у Джустиниани и по отношению к женщине, которая находилась рядом с этим юношей. Она, похоже, была вдвое старше его, но тем не менее пошла вместе с ним на войну, выдавая себя ради этого за мужчину. Джустиниани не заметил между ними никаких романтических отношений, а значит, ее сблизило с этим парнем и удерживало возле него что-то другое.
Немалую роль в том, что это странное чувство Джустиниани в дальнейшем только окрепло, сыграли, конечно же, те два орла. Он тогда с ошеломленным видом смотрел, стоя на площади, как две гигантские птицы опустились вдвоем с небес к бедренной кости, которую Джон Грант держал высоко поднятой в руке. У него, Джустиниани, так сильно перехватило дух при виде этой сцены – и при виде того, как эти птицы на мгновение стали олицетворением двуглавого орла, изображенного на гербе дома Палеологов, – что он опустился на одно колено.
Он был уверен, что в этом парне есть что-то особенное – что-то неведомое и невообразимое. На поле битвы всегда имелись мужчины, к которым тянулись все остальные. Это можно было считать везением, умением ориентироваться в ситуации или магией, но всегда находились воины, которые неизменно определяли самый верный путь и шли по нему, оставаясь в результате этого в живых. Это были воины, которые делали правильный выбор в течение доли секунды – выбор, который спасал им жизнь. А другие люди на поле боя чувствовали, что среди них есть тот, кого, похоже, прикрывают и оберегают крылья какого-нибудь ангела, и этот человек давал им веру и надежду. Они тянулись к такому человеку, надеясь, что вместе с ним повезет и им.
Джустиниани ничуть не удивился, когда заметил, что после того случая на площади его воины стремились держаться поближе к молодому шотландцу. По правде говоря, Джустиниани тоже чувствовал в себе такое стремление, полагая, что этот молодой человек обладает какими-то особенными качествами. Наверное, поэтому, когда Джон Грант подошел к нему и сказал, что, по его мнению, турки роют туннели под стенами Константинополя, Джустиниани ему поверил.
И вот уже на протяжении нескольких дней, в дополнение к отражениям атак на ров и на внешнюю стену, защитникам приходилось возиться с чашами и ведрами. Когда Джустиниани выслушал Джона Гранта насчет туннелей и поверил ему, он затем спросил, что же следует делать. Шотландец ответил, что нужно принести сотни сосудов, предназначенных для хранения воды.
Он наполнил один сосуд водой и поместил его на землю возле ног Джустиниани.
– Смотрите, что будет происходить, – сказал он, отходя от сосуда. – Не отводите взгляда от воды.
Отойдя на дюжину шагов от Джустиниани, он повернулся и топнул.
– Видите? – спросил он.
Генуэзец улыбнулся и кивнул, заметив, что поверхность воды задрожала.
Получив разрешение на создание предложенной им системы обнаружения ведущихся подкопов, Джон Грант вместе с другими воинами и горожанами расставил различные сосуды с водой на равных расстояниях друг от друга в промежутке между внешними и внутренними стенами, причем в таких местах, где вибрация от любых земляных работ, ведущихся поблизости, была бы наибольшей. Наблюдать за водой в этих сосудах поручили женщинам и детям. Особое внимание при этом уделялось сосудам, помещенным ближе всего к самим стенам. Наблюдатели старались заметить вибрацию, исходящую из-под земли.
Когда это наконец-таки произошло, Джон Грант находился на внешней стене. Уже наступила ночь. Небо было безлунным. Шотландец сидел среди уставших воинов, которые устроились возле огня, разведенного в железной жаровне. Шла уже третья неделя осады, и защитники, отнюдь не отличавшиеся многочисленностью, были распределены по всему периметру города подобно тонкой паутинке. Они отдыхали молча, и именно это помогло им.
– Прислушайтесь, – вдруг сказал Джон Грант.
Ему не было холодно, но волоски на его руках встали дыбом, и он почувствовал давление, которое исходило откуда-то из-под него, словно из глубины какого-то водоема на поверхность пытался пробиться поток воды. Его нервы вот уже несколько дней были сильно напряжены из-за нависающих над ним опасностей и терзающих его сомнений, но сейчас он точно услышал какие-то звуки.
– Прислушайтесь, – настойчиво повторил он, и сидящие вокруг него люди насторожились.
Несколько мгновений спустя до них откуда-то из темноты донесся еле слышный, но вполне узнаваемый звук удара кирки по твердому грунту.
– Я слышу, – сказал один из воинов.
– Копают! – воскликнул другой. – Я тоже слышу.
– Сообщи об этом Джустиниани, – сказал Джон Грант, обращаясь к тому, кто первым различил раздавшийся звук. – И императору. Иди!
Остальные воины взяли свое оружие и спустились по ступенькам, ведущим к поверхности земли. Джон Грант пошел впереди всех и, подойдя к ближайшему из установленных им сосудов, замер возле него. Постояв немного и ничего не заметив, он перешел к деревянному ведру и уставился на поверхность налитой в него воды. При свете факела, горящего на стене, юноша увидел, что вода в ведре подрагивает, причем с ритмом, похожим на далекое сердцебиение, и это стало подтверждением того, что он говорил.
Однако одно дело – заметить дрожание воды и сделать вывод, что кто-то роет поблизости туннель, и совсем другое дело – определить, где именно проходит этот туннель. Спустя немного времени Джон Грант услышал стук копыт приближающихся лошадей. Это ехал Джустиниани – а может, и император вместе с ним. Они оба наверняка захотят узнать от него, Джона Гранта, где конкретно противник роет туннель.
В те несколько секунд, которые еще оставались у него, он закрыл глаза и сконцентрировался на «толчке», пытаясь понять, где находится его источник. Мир вращался и мчался по вакууму в своем бесконечном полете, и Джон Грант, свидетель путешествия, на секунду вообразил себе всю мощь этого движения, а затем стал разбираться в своих ощущениях подобно тому, как ковыряются в пыли и песке, чтобы найти потерянную драгоценность.
– Где это? – раздался голос Джустиниани. – Где они?
Джон Грант услышал рядом с собой фырканье лошадей, но продолжал стоять неподвижно и с закрытыми глазами, пытаясь сохранить свою сосредоточенность.
– Ну так что?
Джон Грант пошел вперед – сначала медленно, а затем очень быстро, почти бегом, ибо он уже понял, куда ему следует идти. Наконец он резко остановился и, повернувшись, посмотрел назад, чтобы обратиться к Джустиниани. Однако его глаза встретились с глазами императора, сидящего на белом коне.
– Ну так что? – спросил Константин.
– Здесь, – сказал Джон Грант, показывая рукой на землю у себя под ногами. Его голос звучал спокойно, а сам он был преисполнен уверенности. – Мы будем копать здесь.
49
Дыхание Леньи, стоящей в тени балкона над тронным залом во Влахернском дворце, было неглубоким и медленным. Будучи необычайно одаренной по части вооруженных схваток, быстрой, как жалящая змея, и невероятно сильной, она тем не менее обладала способностью затаиться и вести себя очень тихо. Точно так же, как Джон Грант остолбенел при виде девушки, стоявшей возле императора в тот момент, когда генуэзские суда прибыли в гавань Константинополя, сейчас остолбенела и Орлеанская дева. Не будь тогда рядом с ней Джона Гранта, она, наверное, и не заметила бы лица этой девушки в толпе зевак. Однако когда она увидела, как ее сын на что-то таращится, и, проследив за его взглядом, заметила девушку, очаровавшую Джона Гранта, у нее перехватило дыхание.
С тех пор, как только у нее появлялась возможность, Ленья на время покидала ряды воинов, обороняющих стены, и шла разыскивать эту девушку. Осада Константинополя и еле сдерживаемый хаос, который она породила в этом городе, привели к тому, что контроль при входе во дворец и выходе из него был уже не таким строгим, как раньше. В любом случае Ленья была вполне способна нейтрализовать какого-нибудь стражника или двух, а затем тайком – с помощью различных ухищрений – проникнуть в состоящее из бесчисленных помещений здание дворца.
Не обошлось и без простого везения. Как-то, обогнув крытую галерею, окружающую со всех четырех сторон элегантный внутренний двор, в котором имелся экстравагантно украшенный водоем с бьющим из него фонтаном, она увидела двух женщин. Они находились в дальней от нее части внутреннего двора и двигались в противоположном направлении.
Она невольно обратила внимание на то, что они явно куда-то спешили, причем они шли не рядом, как подруги или компаньонки, а одна вслед за другой. В их движениях чувствовалось какое-то напряжение, и, присмотревшись, Ленья узнала во второй из них ту самую девушку, с которой ее сын не сводил глаз в гавани.
Мысленно поблагодарив Провидение, Ленья быстренько обогнула внутренний двор и пошла вслед за этой парочкой на таком расстоянии, чтобы они ее не заметили. Несколько минут спустя они подошли к темной, обшитой толстыми панелями деревянной двери. Женщина, идущая первой, открыла эту дверь – за которой, похоже, находилось какое-то огромное помещение, – и отступила в сторону, давая пройти девушке, которая, не замедляя шага, вошла внутрь. Ленья, посмотрев по сторонам и сделав вид, как будто у нее тут какие-то свои дела, отправилась дальше по коридору, а потом свернула направо.
Она увидела открытую дверь, за которой находились ведущие куда-то вверх ступеньки. Предположив, что, поднявшись по ним, она, возможно, окажется как раз над тем помещением, в которое только что вошла интересующая ее девушка, Ленья взбежала по лестнице, перескакивая через две или три ступеньки. Оказавшись в просторной, погруженной в полумрак галерее, уставленной рядами деревянных стульев и сконструированной так, чтобы находящиеся в ней люди могли незаметно наблюдать за тем, что происходит ниже, в просторном помещении, она удовлетворенно хмыкнула.
В течение нескольких секунд Ленья просто стояла, любуясь величественностью этого зала и продуманной изощренностью его конструкции. Затем она услышала шаги пары ног, идущих по каменному полу. Поскольку она еще не могла видеть эту девушку, ей оставалось лишь прислушиваться к эху ее шагов, отражающемуся от куполообразного потолка, который казался невообразимо высоким. Если бы Ленья все время не напоминала себе, что нужно быть предельно осторожной и действовать так, чтобы ее не заметили, она бы наверняка громко ахнула при виде такого громадного внутреннего пространства и такого великолепия.
Громкий звук захлопнувшейся двери – несомненно, той двери, через которую зашла интересующая Ленью девушка, – вернул Ленью к действительности. Все еще скрытая полумраком, она стала осторожно пробираться вперед, пока не получила возможность наблюдать за тем, что происходит внизу.
Девушка – эта красивая девушка с длинными каштановыми волосами и правильными чертами лица, созданного для того, чтобы идеально помещаться в сложенные в форме чаши ладони ее возлюбленного, – остановилась как вкопанная в центре зала и стояла совершенно неподвижно, так что со стороны могло показаться, что она приросла к полу. Несмотря на то что девушка казалась очень маленькой в таком огромном помещении, она тем не менее была его фокальной точкой – как бриллиант в большой оправе, – и Ленья почувствовала, как сердце в ее груди при виде этой девушки екнуло и забилось сильнее.
– Коста? – сказала девушка, в голосе которой чувствовалась как уверенность, так и неверие.
Неожиданно для себя Ленья перенеслась в тот момент своей жизни, когда она, сама не зная, каким образом и почему, сумела узнать незнакомого ей дофина. Ведь тогда ангелы с ней не разговаривали и не указывали ей, кого из множества мужчин ей следует почтить своим вниманием. Тем не менее она почувствовала, как их мудрость обволакивает ее, заставляя двигаться в правильном направлении.
– Коста? – Горьковато-сладкие звуки этого имени, сорвавшиеся с губ девушки, сердце которой наполнилось одновременно и надеждой, и сомнением, запорхали, словно птицы, между каменных завитков и изгибов потолка, расположенного очень высоко над ней.
Неохотно оторвав свой взгляд от девушки, Ленья посмотрела туда, куда смотрела она, – смотрела так пристально, что, казалось, ее взгляд выжег в воздухе тонкую полоску через все расстояние, отделяющее ее от объекта ее внимания. Ее взгляд был прикован к молодому человеку, высокому и худощавому. Он был облачен в одежды принца – ослепительно-белого и золотистого цветов. Солнечные лучи, проникающие внутрь через расположенные высоко в стене окна, заставляли его одежды сверкать так, что на него было даже трудно смотреть. На его голове красовалась слегка надвинутая на виски золотая корона цвета сливочного масла с множеством неограненных драгоценных камней выпуклой формы. Имей Ленья чуть меньше жизненного опыта, она, возможно, приняла бы его за ангела.
– Привет, Ямина, – произнес он.
При звуках его голоса девушка наконец пошевелилась и сделала шаг, но не к нему, а назад, от него. Затем, остановившись, она вытянула шею, как будто хотела приблизиться к стоявшему перед ней молодому человеку на два-три дюйма, чтобы получше рассмотреть его. Наконец, собрав все свое мужество, девушка медленно направилась к нему, при этом поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, словно пыталась удостовериться, что они здесь одни. Ленья обратила внимание на то, что девушка перестала произносить имя этого юноши.
Молодой человек не двигался: он стоял на одном месте, слегка расставив ноги и держа руки на бедрах.
– Остановись, Ямина.
Услышав голос, принадлежащий кому-то другому, девушка, вздрогнув, замерла на месте.
Ленья повернула голову и стала искать взглядом того, кто произнес эти слова. Это была женщина, вышедшая из полумрака, царившего под противоположной галереей. По своему возрасту она была ближе к Ленье, чем к этой девушке и молодому человеку. Бросались в глаза ее черные как ночь волосы. Она была высокой и стояла выпрямившись, чтобы максимально использовать каждый дюйм того преимущества, которое было заложено в ее высоком росте. В левой руке она держала черную трость, рукоять которой была украшена белой резьбой. Расстояние от нее до Леньи было большим, и потому Ленья не могла ее толком рассмотреть, но когда эта женщина пошла вперед, Ленья все же заметила, что она поглаживает резьбу на трости пальцами правой руки.
Ленья вдруг стала сильно переживать за эту девушку. Хотя та и остановилась, как потребовала от нее неожиданно появившаяся женщина, она даже на секунду не оторвала своего взгляда от лица молодого человека. Она, казалось, смотрела на него с немой мольбой – мольбой к нему и мольбой о нем. Ее ладони были сведены вместе, пальцы переплелись друг с другом, как сцепившиеся в детской драке братья-малыши. Ленья посмотрела на юношу снова и увидела, что он улыбается.
И тут вдруг раздался грохот, порожденный сильным ударом, и эта напряженная сцена прервалась. Девушка резко опустилась на колени и закрыла уши ладонями. Молодой человек поспешно сел на корточки и огляделся по сторонам, выискивая какие-нибудь повреждения в стенах зала и возникшую в связи с ними опасность. Но ни того, ни другого не было, и Ленья, обеспокоенная происшедшим не меньше девушки и юноши, осознала, что, откуда бы ни прилетело каменное ядро, это место наверняка располагалось далеко от огромного помещения, в котором они сейчас находились. Она также заметила, что на высокую женщину раздавшийся грохот не произвел большого впечатления. Она всего лишь слегка пригнула голову, не более того, и тотчас же взяла себя в руки.
– Он симпатичный жених, не так ли? – спросила она.
Ямина, придя в себя, встала и выпрямилась. Отвернувшись от молодого человека (который тоже встал и выпрямился и затем стал поправлять свою одежду с таким видом, как будто это сейчас было самым важным), она посмотрела на Елену. Девушка явно пребывала в состоянии сильного замешательства, и Ленья вдруг с удивлением поймала себя на том, что смотрит на нее, затаив дыхание. Затем, медленно и беззвучно выдохнув, она услышала, как девушка заговорила. Переводя взгляд с женщины на юношу и обратно с таким видом, как будто она терзалась сомнениями, к кому из них ей сейчас следует обратиться, девушка спросила:
– Как такое может быть?
Не успели эти слова сорваться с ее губ, как она снова пошла вперед – пошла очень быстро, едва не переходя на бег. Она все еще держала ладони вместе и, как показалось Ленье, начала плакать.
– Остановись, Ямина, – велела женщина.
Девушка подчинилась и на мгновение засомневалась, но ее желание подойти поближе было, по-видимому, непреодолимым, и, несмотря на настойчивые требования женщины, она снова устремилась вперед. Однако женщина, которая не скрывала ни своей досады, ни раздражения по поводу поведения девушки, действовала весьма проворно и к тому моменту, когда девушка подошла к ним на расстояние в несколько шагов, оказалась рядом с молодым человеком.
Сходство с Костой было бесспорным. Когда Ямина впервые увидела этого юношу с середины тронного зала, она подумала, что перед ней стоит ее принц, наконец-таки исцелившийся от своего недуга. Неужели это был он? Такого же роста и такого же худощавого телосложения…
Она еще никогда не видела его стоящим, и такое положение тела сбивало ее с толку. Это было все равно как смотреть на знакомую, но перевернутую верхом вниз географическую карту. Только когда Ямина подошла поближе, она поняла, что это не было лицо Косты, хотя этот молодой человек был таким же худощавым и красивым, как ее принц.
У него былахорошая улыбка (более того, она была самым лучшим в его внешности), и поэтому схожесть с улыбкой Косты, которую она любила в нем больше всего остального, тронула ее сердце. Однако когда она приблизилась к нему, она заметила, что глаза у этого юноши были другими: они имели такую же форму и такой же цвет, но были немного темнее, и поэтому в них отсутствовал свет, который сиял во взгляде Косты и согревал ей душу. Его голос, все еще отдающийся эхом в ее ушах (если не под высоким потолком над ней), был более глубоким, чем у принца.
Данное сходство, пусть даже и не идеальное, могло бы ввести в заблуждение многих, возможно, даже всех, – если бы они не стали приглядываться к нему уж очень внимательно. Но на расстоянии менее пятидесяти шагов это сходство не смогло – и никогда больше не сможет – ввести в заблуждение Ямину.
– Ты не принц Константин, – сказала она, а затем подняла руки к лицу и закрыла ладонями глаза. – Что это еще за фокус? – спросила затем она дрожащим голосом. – И ради чего?
Раздался еще один голос, на сей раз мужской.
– За этого человека ты выйдешь замуж в присутствии нескольких тысяч приглашенных. Он станет твоим принцем Константином, а ты станешь его принцессой Яминой, и все собравшиеся будут вас громко приветствовать. Свершившееся чудо приведет их в восторг и придаст им новых сил, необходимых для того, чтобы взять в руки оружие и одержать победу.
Ямина открыла глаза и сквозь пелену выступивших слез увидела симпатичное лицо императора. Охваченная смятением и грустью, она напрочь позабыла об этикете, а потому не стала делать никаких жестов и движений, символизирующих уважение. Все ее мысли улетучились, и она, открыв было рот, чтобы возразить, молчала, ибо не знала, что сказать. То, что происходило сейчас, казалось похожим на сон, и где-то в глубине своего сознания она удивилась, почему звук удара каменного ядра оказался недостаточно громким для того, чтобы разбудить ее.
– Церемония бракосочетания пройдет в соборе Святой Софии неподалеку от того места, где ты упала шесть лет назад в руки принца, – сказал император и поднял руки, сопроводив свои слова движением, которое должно было напомнить ей о том давнем событии. Было заметно, что он заранее обдумал слова, которые сейчас произносил. – Из-за этой попытки остановить твое падение мой единственный сын повредил хребет. Бог и небеса швырнули тебя с такой силой, что он стал калекой, неспособным исполнять обязанности принца, не говоря уже об обязанностях мужа. Но сейчас, во времена самых тяжелых для нас испытаний, мы увидим, что Дева Мария благословила нас всех. Будет считаться, что точно так же, как она протянула руки, чтобы спасти тебя, она коснулась и моего сына и исцелила его. Люди увидят, как через двери собора Премудрости Божией вы вступаете вдвоем в будущее, которое снова стало светлым благодаря надежде… И они поймут – поймут все до самого последнего, – что если искалеченный юноша может быть поднят на ноги благодаря любви Божией, то, значит, и измученный город с поврежденными стенами тоже снова станет непоколебимой твердыней, а эти нечестивые турки исчезнут, как исчезает пена с поверхности моря.
– Я не сделаю этого, – сказала Ямина.
Она опустила руки и приподняла подбородок. Глубоко внутри нее стал закипать гнев. Ее мысли переключились на Косту, который лежал в своей постели и даже не подозревал о том, что сейчас затевается. Она подумала обо всем том, что он потерял, – о том, что она вышибла из него своим неуклюжим падением. Она живо представила, что перед ней сейчас стоит не этот незнакомец, а он, Коста, облаченный в сияющие одежды, с короной на голове, и в ее сердце очень больно кольнуло от осознания вины. Ей стало тоскливо при мысли о том, кем он мог бы быть сейчас и чего он оказался лишен. Он ведь должен был бы стать наследником престола, но вместо этого лежал, ни на что не жалуясь, на хлопковых простынях и шелковых подушках в своей постели-тюрьме и довольствовался игрой в тени и рассказами, в то время как другие люди – те, которым следовало бы любить его, – намеревались сделать вид, что он уже больше не существует.
– А кто это вообще? – спросила Ямина, движением подбородка указав на стоящего перед ней юношу.
При этих ее словах, в которых звучало неприкрытое пренебрежение, на лице молодого человека появилось такое выражение, как будто ему дали пощечину.
– Я вполне подходящий для тебя мужчина, – сказал он.
Он собирался добавить что-то еще, но она его перебила.
– Принц Константин стоит десяти таких, как ты, – заявила она, – и десяти любых других мужчин. – Затем она медленно повернулась к императору: – Я буду жить с моим принцем и умру вместе с ним, пусть даже он и калека. И я не стану унижаться до того, чтобы принять руку какого-то… какого-то самозванца.
Она снова посмотрела на двойника ее любимого человека.
– Кто ты? – спросила Ямина. – И что ты представляешь собой, если отказываешься от самого себя, от своей личности и напяливаешь на себя одежды другого человека, который лучше тебя?
Юноша сделал шаг вперед и вознамерился что-то сказать, но император, подняв руку, заставил его молчать.
– Он – результат долгих и тщательных поисков, – сказал император. – Ни в одной империи наследником престола не может быть калека. Пока ты занималась тем, что ухаживала за принцем – и мы благодарим тебя за твою заботу, – мы разослали по всей стране своих агентов. Каждый из них постарался запомнить, как выглядит наш принц, в чем особенности его внешности и мимики, и попытался найти кого-нибудь, кто был бы во всем на него похож.
– Ну что же, они со своей задачей справились, – усмехнулась Ямина. – Мой принц создает своими тенями больше сходства с тем или иным реальным персонажем, чем ваши лизоблюды смогли найти в результате всех их поисков. Этот человек не введет в заблуждение никого, кроме дураков.
– Ты ошибаешься, Ямина, – сказала Елена, подходя поближе и беря в свои руки руку мнимого принца. – Они справились со своей задачей хорошо.
Она слегка отстранилась и посмотрела на молодого человека долгим оценивающим взглядом.
– Когда воины из нашей варяжской стражи говорят о человеке, которого все принимают за кого-то другого, они используют специальное слово из своего скандинавского языка. Слово это – «вардогер», и оно означает «двойник-призрак», то есть призрак, который заменяет собой реального человека и легко вводит в заблуждение всех, кто с ним встречается.
– Пощадите меня, – вдруг взмолилась Ямина.
Ее охватило такое сильное отчаяние и чувство одиночества рядом с этими людьми, что она решила открыто и до конца настаивать на своем. Потребность находиться рядом с Костой, держать его руку в своей, смотреть ему в глаза и слушать его голос была для нее непреодолимой. Ей не хотелось ничего другого, кроме как улечься возле него на кровати в темноте его комнаты и слушать его рассказы о том, что происходило в мире когда-то давно.
– Я говорю вам сразу, что я не буду играть в эту игру и уж тем более не приму руку этого вашего… этого вашего призрака.
– Нет, ты сделаешь это, Ямина, – отрезала Елена.
Ямина отвернулась от нее и посмотрела на императора, но его взгляд был направлен куда-то выше и дальше нее. Он рассматривал что-то через окна тронного зала с таким видом, как будто уже сказал все то, что намеревался сказать, и теперь переключил свое внимание на что-то другое.
– Ты выйдешь замуж за этого мужчину и будешь при этом улыбаться и махать рукой присутствующим на свадебной церемонии, когда они станут приветствовать счастливую пару, – сказала Елена. – Ты сделаешь все это, а иначе ты уже никогда больше не увидишь принца Константина.
Ямина уставилась на нее с отрешенным видом. У нее появилось ощущение, что какие-то мягкие части внутри нее расплющиваются под каблуком сожительницы императора.
– Ты теперь увидишь Косту только после своей свадьбы, не раньше, – продолжала Елена. – Если ты сделаешь все то, что от тебя требуется, то тогда вы с ним встретитесь и ты сможешь убедиться в том, что с ним все в порядке.
– А потом? – спросила Ямина, чувствуя, как ее душу охватывает паника. – Что будет потом?
– Потом ты покинешь этот город, – сказала Елена. – Вместе со своим новым мужем ты отправишься на корабле в Венецию, чтобы создать там наш императорский двор в изгнании. Если возникнет необходимость – в случае, если отстоять город не удастся, – император приедет к тебе, чтобы затем придумать, каким образом можно отбить империю у турок. Нужно, чтобы горожане по крайней мере знали, что династия Палеологов сохранена, а значит, еще есть какая-то надежда и отчаиваться не стоит. Ты сделаешь все это, а иначе твой принц погибнет.
Ямина бросилась к Елене, сжав кулаки, но «двойник-призрак» оказался проворнее и успел преградить ей дорогу. Схватив девушку за запястья, молодой человек остановил ее. Она же, разъярившись, плюнула ему в лицо – пусть даже это лицо и было похоже на лицо Косты – и ударила правым коленом ему в пах. Открыв рот, но не издав ни единого звука, он упал на пол.
– Схватите ее!
Это был голос императора. Ямина оглянулась и увидела нескольких вооруженных стражников, бегом устремившихся к ней. Дверь позади них осталась открытой, и, прежде чем первый из них добежал до нее, она увидела мельком через дверной проем хорошо знакомого ей человека. Он наверняка намеревался остаться незамеченным, но за долю секунды до того, как он исчез из виду, она разглядела дородную фигуру Дуки – наставника и давнего друга принца Константина.
50
– Кто сообщит Мехмеду на этот раз, как ты думаешь?
– Я уж лучше буду рыть эти туннели и прятаться в их темноте, нежели пойду к нему с известием о еще одной неудаче.
– Сколько их уже было до сего момента?
– Думаю, десять, а то и больше. Считать их – не моя работа, да и не твоя тоже. Все, что мы с тобой должны делать, – это выносить из туннелей выкопанную землю. Если мне когда-нибудь удастся выбраться из этого проклятого места живым и невредимым, я буду считать себя счастливчиком.
– Как так получается, что они узнают – всегда узнают, – в каком именно месте мы находимся? Какое бы направление ни выбрали саксонцы и как бы глубоко мы ни копали своими кирками и лопатами, они все время обнаруживают нас.
– Ты знаешь не хуже меня, что нас находят не они… Нас находит он. Каждый раз один и тот же первым обрушивается на нас сверху, с потолка туннеля… Один и тот же приказывает заполнить наши туннели огнем, который прилипает к одежде и коже людей и сжигает их заживо… Один и тот же набрасывается на нас со своими ножами.
– Я видел, как он лопатой рассек лицо одному человеку. Она была заточена так хорошо, что ее кончик поблескивал, как серебряный. Особенно это было видно в свете умирающих языков пламени того ада, который он устроил в туннеле.
– Ты видел это сам, Текин? Или ты только слышал об этом от людей, которым довелось там побывать?
– Я видел это, Хебиб, вот этими самыми глазами, которые сейчас смотрят на тебя. Он спрыгнул к нам откуда-то сверху и махнул лопатой снизу вверх, так что она рассекла лицо того человека от подбородка до лба. Бедняга повалился наземь, его лицо превратилось в кровавое месиво, но какое-то время он все еще был жив.
– Я не знал, что ты видел демона своими собственными глазами.
– Я видел его, Хебиб. И надеюсь, что никогда больше не увижу. Пусть Аллах позаботится о том, чтобы я отныне всегда находился позади саперов и никогда не был среди них, когда они работают.
– Ну и как же он выглядит? Он и вправду великан, как его описывают? Он сильный, как тягловая лошадь? Он безумный, как раненая змея?
– Мне жаль разочаровывать тебя, но он хрупкий и тоненький, как тростник. Я клянусь, что смог бы разломать его руки на две части, если бы приблизился к нему, но избави меня Аллах от такой близости.
– Его глаза сверкают, как молнии, и он способен ранить одним лишь взглядом?
– Ты безумный, как раненая змея, если думаешь, что я находился от него так близко, что мог видеть его глаза.
– Ты слышал, как он кричит о своей ненависти?
– Ненависти?
– Ну да, он ведь наверняка ненавидит нас, разве не так? Я думаю, что ему, должно быть, хочется, чтобы у всего мира имелась только одна шея и чтобы он мог сдавить эту шею своими руками.
– Он всегда молчит. Я слышал, как саксонцы говорили, будто он действует совершенно беззвучно, а когда нападает, его ступни почти не касаются земли и он парит среди них, словно призрак. Впрочем, я слышал, как они его называют, – это слово, которое его люди выкрикивают, когда хотят, чтобы он вернулся.
– И как же его зовут, Текин?
– Саперы говорят, что оно звучит необычно даже для них. Но когда язычникам нужно привлечь внимание их демона, они кричат «Джон-Грант».
– Возможно, этот Джон-Грант и в самом деле демон, скажу я тебе. Неверные вполне могут привлечь на свою сторону даже демона.
51
– Что скажешь, Джон Грант? – спросил венецианец Минотто, стоя с мечом в руке.
Когда Джон Грант впервые увидел доспехи этого человека, они поблескивали, как только что отчеканенная монета, но теперь они были тусклыми и грязными и на них виднелись свежие вмятины – результат недавних схваток с врагами.
– Неплохо поработали за ночь? – Минотто наклонился и с силой похлопал Джона Гранта по плечу. – Да, и в самом деле неплохо, – сказал он, а затем повернулся и пошел прочь.
Джон Грант в ответ лишь кивнул и мрачно улыбнулся вслед уходящему венецианцу. Он сидел на корточках, прислонившись к стене неподалеку от караульного помещения возле Калигарийских ворот, и держал в руке чашу с водой. Он весь вымазался в грязи, и пахло от него кровью и мокрой землей. А еще он очень сильно устал – так сильно, как еще никогда не уставал раньше. В течение вот уже десяти дней он вместе с другими воинами сражался либо на внешней стене, либо по ту сторону от нее, участвуя в вылазках, которые они устраивали по нескольку раз в сутки. Обычно они выходили через калитку в крепостной стене, находящуюся рядом с Калигарийскими воротами, чтобы отогнать устрашающими криками или оттеснить с помощью оружия азапов, пытающихся засыпать ров. Порой воинам Джустиниани удавалось перебраться через этот ров и ударить по туркам, но это происходило только в тех случаях, когда азапы, поработав всю ночь под прикрытием темноты, успевали сделать переход через ров из различных обломков и земли. Янычары тут же приходили на помощь азапам, иногда верхом, но их неизменно отбрасывали назад тающие, но все еще сильные духом отряды защитников Великого Города. Потери при этом были ощутимыми, и защитники, распределенные по периметру города таким тонким слоем, каким намазывает масло себе на хлеб бедняк, вряд ли смогли бы продержаться еще долго.
Император и остальные власть имущие по-прежнему обещали, что с Запада прибудет помощь, и подбадривали измученных горожан разговорами о крестовом походе и белых рыцарях с красными крестами на груди, которые сойдут на берег с кораблей и прогонят прочь грязных турок.
Джон Грант слушал эти обещания вместе со всеми остальными защитниками Константинополя и даже чувствовал, как на душе у него становится легче от надежды на помощь, которая вот-вот прибудет со стороны заходящего солнца. Однако день за днем и ночь за ночью ему приходилось видеть не крестоносцев, а турецких новобранцев, и, отправляя на тот свет тех из них, до кого он мог дотянуться своим мечом или керамбитом (который мгновенно появлялся в его руке в тот момент, когда в этом возникала необходимость), Джон Грант постепенно стал восхищаться их мужеством и дисциплинированностью.
А еще ему было жаль этих азапов. Несмотря на свою храбрость, подпитываемую их верой или похвалой господ (или смертоносной комбинацией того и другого), эти плохо вооруженные бедолаги в массовом порядке становились жертвами войны, затеянной султаном. Будучи самыми бедными в своей стране, они попали на войну прямо с полей, на которых в поте лица зарабатывали себе на жизнь, а здесь натолкнулись на самые мощные оборонительные сооружения в мире.
Когда Джон Грант оказывался так близко от азапов, что можно было рассмотреть их лица, он видел блеск в глазах этих воинов-крестьян. И в этом блеске он чувствовал не только ненависть к неверным, как они называли христиан, но и надежду. Наскакивая на них на своем боевом коне, рассекая мечом прикрытые хлипким щитом тела, заключая этих неумелых противников в свои смертоносные объятия и вспарывая им живот или горло, он видел, как их глаза моментально тускнеют, и ему становилось жаль азапов.
Однако самой утомительной для него была работа в туннелях. Сначала ему приходилось усилием воли напрягать свой мозг, чтобы в изнурительных попытках обнаружить, в каком месте турки роют очередной туннель. В результате тщательного наблюдения за поверхностью воды в сосудах и благодаря своим органам чувств он практически всегда определял точное местоположение вражеских саперов. Затем следовала физическая нагрузка, связанная с рытьем вертикальных шахт – двух или трех одновременно – в каменистой почве в верхнем слое грунта и более мягких, похожих на мел породах уже под этим слоем в поиске турецких туннелей.
Он либо обходил места рытья таких шахт – обходил без устали, как одержимый, – чтобы подбадривать горожан, гнущих спину в этом своем бесконечном тяжком труде, либо, видя, как вяло они работают, хватал кирку или лопату и сам начинал копать.
Сегодняшние события были самыми худшими из того, что происходило до сего момента. Перед тем как все началось, Джон Грант сидел на этом же месте, неподалеку от ворот, но с кубком красного вина в руках. Он наблюдал, как малюсенькие темно-красные пузырьки выстраиваются по периметру кубка, и наслаждался покалывающей сухостью в горле непосредственно перед первым глотком. И вдруг поверхность напитка задрожала и по ней начали расходиться еле заметные, идеально ровные круги. Он понял, что турки роют очередной туннель, а внезапная дрожь в ступнях и боковой части лица подсказали ему, где именно они находятся.
Он быстро определил местонахождение туннеля, но тот оказался самым глубоким из всех, и Джон Грант даже начал сомневаться в правильности своих выводов, потому что его люди, копая все глубже и глубже, все никак не могли обнаружить даже признаков туннеля.
В отчаянном стремлении во что бы то ни стало обнаружить подкрадывающихся врагов и дать им отпор он спустился в шахту по двум деревянным лестницам, расположенным одна над другой, и тоже стал копать вместе со всеми.
Внезапно земля под их ногами просела и все они – Джон Грант и четверо других – провалились в туннель. Земля и камни, которые полетели вниз вместе с ними, потушили факелы вражеских саперов и похоронили самого первого из них живьем. Джон Грант и его товарищи, оказавшись в душной темноте, попытались встать и сориентироваться в пространстве.
Их внезапное появление откуда-то сверху поначалу вызвало у врагов замешательство, но затем раздались разъяренные крики, свидетельствующие о том, что турки готовы дать отпор. Джон Грант, как всегда, оказался самым быстрым. Он даже не заметил, как в его правой руке появился нож с длинным лезвием, а в левой – керамбит, имеющий форму полумесяца.
Тщетно вглядываясь в темноту, юноша чертыхался про себя, не имея возможности вытереть пот, который заливал ему глаза и от которого его кожа стала скользкой. Джон Грант слышал позади шум движений своих товарищей, но эти люди были скорее землекопами, чем воинами, к тому же он находился между ними и врагом. Поспешно обведя руками пространство перед собой, чтобы оценить его размеры, он нащупал стенки и потолок туннеля и со страхом обнаружил, что здесь едва хватает места, чтобы сесть на корточки или подняться на колени, не говоря уже о том, чтобы выпрямиться во весь рост. В этот момент он стоял на коленях и прислушивался к отчаянным воплям турок. В воздухе пахло потом и, как показалось Джону Гранту, страхом этих людей.
Машинально подавшись вперед, он ткнул ножом, который держал в правой руке, и почувствовал, как лезвие пронзило плоть и ударило в кость. Когда его ладонь, обхватывающая рукоятку ножа, уперлась в плоть рядом с основанием лезвия, он понял, что это участок туловища непосредственно над верхним изгибом тазовой кости человека в его левом боку. Он услышал стон и ощутил, как на него навалилось отяжелевшее тело. По его щеке чиркнуло щетиной чьего-то бородатого лица, и он, взмахнув керамбитом, который держал в левой руке, почувствовал, как лезвие перерезало горло и кровь горячим потоком хлынула на его пальцы.
Джон Грант уже отталкивал убитого им турка, когда его пихнул сзади кто-то из своих, – видимо, он просто пытался найти его и, возможно, помочь ему, но в действительности лишь создавал совсем не нужные ему сейчас трудности.
Еще какая-то рука дотянулась до него из темноты, но теперь откуда-то спереди и сверху. Он почувствовал на своей голове пальцы, пытающиеся ухватить его за волосы, и, наклонившись в сторону, отчаянно ткнул наугад сразу двумя ножами. Его нож с длинным лезвием вошел в тело второго человека чуть ниже грудной клетки, и, прежде чем этот человек обмяк от нанесенной ему раны, Джон Грант изогнулся и оттолкнул от себя тело врага так, чтобы снова можно было занять строго вертикальное положение, пусть даже и стоя на коленях и задевая затылком потолок туннеля.
Затем вдруг раздался грохот, похожий на раскат грома, и Джон Грант, охнув, согнулся пополам и стукнулся лбом о свои колени. В ушах зазвенело, во рту пересохло, и ему захотелось закричать, но свалившаяся с потолка туннеля земля вышибла воздух из его легких, как из пары кожаных воздуходувных мехов. Он напряг было руки, но они оказались придавленными к бокам. Он, получалось, теперь был лишен возможности двигаться и лежал зажатым в массе земли, как какая-нибудь окаменелость в горной породе. Его легкие пылали, отчаянно требуя глотка воздуха, перед глазами мелькали яркие вспышки, а голова раскалывалась от оглушительного шума. В тот момент, когда Джону Гранту показалось, что ему становится легче и что он сползает вниз в какую-то свою собственную, еще более кромешную темноту, он почувствовал, как чьи-то руки схватили его за лодыжки. Мелькнула мысль, что это, наверное, Ленья тащит его за ноги куда-то назад. Его ноги выпрямились, словно раскрываемый перочинный ножик, но он все еще чувствовал себя беспомощным и с трудом дышал, потому что его рот и нос были забиты землей. Кто-то настойчиво тащил его прочь от того места, где обрушилась земля. Позже, когда он наконец-таки оказался в стороне от места обвала и стал делать глубокие вдохи и кашлять, кто-то невидимый для него перевернул его на спину. Джон Грант усиленно вдыхал и выдыхал воздух, горячий и влажный, но тем не менее такой желанный. В его рот случайно попала земля, и он снова закашлялся. Перевернувшись на бок, он стал блевать, опустошая свои внутренности от тягучей горькой желчи и снова вдыхая побольше воздуха.
– С тобой все в порядке, – послышался чей-то голос, показавшийся Джону Гранту знакомым и встревоженным. – Да, все хорошо, все замечательно, – снова донеслись до него слова, на этот раз похожие на молитву.
Ухватив его за плечи и ноги и стараясь держать в сидячем положении, Джона Гранта отволокли к основанию первой лестницы. Там его собирались привязать к каким-то веревкам, чтобы вытянуть на поверхность земли, но он отпихнул от себя эти веревки, нащупал перекладины лестницы и медленно полез по ней вверх.
Когда он уже почти достиг поверхности, в него вцепилось множество рук, которые и вытащили его из шахты. Пока он приходил в себя, качаясь из стороны в сторону и глубоко вдыхая прохладный ночной воздух, по лестнице начали спускаться какие-то воины. Они опустили вглубь туннеля бронзовые цилиндры, наполненные легко воспламеняющейся маслянистой смесью, из которой получался греческий огонь, извергаемый из этих цилиндров с помощью ручных насосов.
Когда эти цилиндры были установлены должным образом, в них через короткую трубку закачали смертоносную смесь и подожгли ее через узкое конусообразное отверстие, проделанное в торце каждого цилиндра. Закачанная в них жидкость представляла собой перемешанную с нефтью древесную смолу, которая была липкой, как мед, и которая при горении прилипала к одежде и коже людей, когда после воспламенения вспыхнувший и набравший силу огонь врывался в туннель.
Те из турок, которые еще оставались в живых, при свете этого огня на мгновение увидели перепуганные лица друг друга, а затем их поглотило пламя. Поскольку воздух внизу, в туннеле, поглощался жарким пламенем, новый воздух засасывался в туннель через шахту, поддерживая силу огня, уничтожавшего всех и все. Деревянные подпорки сгорали одна за другой, и вскоре они уже не могли удерживать давящую на них сверху массу земли и рухнули. В результате всего этого многие десятки турок либо сгорели, либо были погребены заживо.
Джон Грант сидел неподалеку от края шахты, глядя на то, как завитки дыма поднимаются в небо и как его боевые товарищи, кашляя и тяжело дыша, вылазят из шахты. Позади себя они тащили двух турок, которые, спасаясь от пламени, угодили в руки своих противников.
– Ну что же, послушаем, что эти милые мальчуганы расскажут нам о том, где прячутся их остальные друзья, – с победоносным видом произнес один из воинов.
– Крысы перемещаются стаями, не так ли? – сказал другой. – Я уверен, что вот этих крыс можно убедить в том, что будет лучше, если они расскажут нам, где находятся другие гнезда.
Джон Грант понаблюдал за тем, как несчастных азапов повели в ближайшее караульное помещение, а затем откинул голову и посмотрел вверх, на небо. Там не было ни луны, ни звезд. Вместо них над Константинополем висело покрывало из облаков, и поэтому город стал чем-то похож на труп, облаченный в погребальный саван.
Позади Джона Гранта, на востоке, появившийся у линии горизонта еле заметный свет предвещал восход солнца. Шотландец почувствовал, что, несмотря на его усталость, заснуть ему сейчас не удастся. Он положил голову на колени и сконцентрировал свое внимание на восприятии движения мира в безграничном пространстве.
52
– Ты задавался вопросом, почему твоя славная подружка пренебрегает тобою сегодня? – спросил Дука. Поскольку он вызвался толкать перед собой стул на колесах – «колесницу» Константина, – его вопрос, получалось, был адресован затылку принца.
– Я уверен, что у нее есть более важные и интересные дела, чем толкать тачку по дворцовым помещениям каждый божий день, – сказал Константин. – По правде говоря, мне нравится думать о том, что она занимается сейчас какими-то собственными делами и не чувствует себя отягощенной весом моего неподвижного тела.
Он произнес эти слова, как он сам надеялся, беззаботным тоном, но в глубине души его вообще-то удивляло отсутствие Ямины, которая даже не потрудилась сообщить ему, что не придет, и объяснить, по какой причине. Она не упоминала ни о каких-либо запланированных встречах, ни о других своих делах, но тем не менее прошли уже целые сутки с тех пор, как он видел ее в последний раз. Это было необычно, и, вопреки своей показной беспечности перед лицом своего старого наставника, он чувствовал себя неловко.
– Твоя свадьба будет настоящим чудом, – сказал Дука.
Они двигались по периметру внутреннего двора (того самого, в котором волею случая Ленья увидела Ямину). Константин предпочел бы остаться в своих покоях, но его друг настоял на том, чтобы вывезти принца на свежий воздух.
– А по-моему, она будет выглядеть бессмысленной, – возразил Константин. – Турки даже сейчас стреляют по городу из своих бомбард, чтобы заставить нас сдаться, и копают под нашими стенами днем и ночью. А мы тут готовимся согнать тысячи наших людей в собор Святой Софии, чтобы они поглазели на то, как двое из их числа – или же полтора – заключают брачный союз. Это безумие. Одно точное попадание в купол, и… Не дай Бог!..
– Ты просто смотришь на все это совсем не с той стороны, Коста, – сказал Дука. – Мы живем в таком городе и среди таких людей, которые нуждаются в подтверждении того, что жизнь идет своим чередом и что уничтожить наш образ жизни не так-то просто. Вы двое будете светом посреди тьмы.
– Этим людям лучше бы проявить свой энтузиазм на крепостных стенах, с мечами в руках, – стоял на своем принц. – Мне только жаль, что я не смогу присоединиться к ним и сделать что-нибудь значительное.
Обстрел продолжался, вокруг так грохотало, как будто на город налетела буря. Каждые несколько минут раздавался выстрел какой-нибудь из бомбард, а затем слышался грохот удара каменного ядра в какую-нибудь секцию стен, обращенных к суше и тянущихся аж на четыре мили. Повсюду в воздухе чувствовался тяжелый запах сгоревшего черного пороха. А еще создавалось впечатление, что наступает конец света. Тем не менее в сердце Влахернского дворца двое мужчин прогуливались, не обращая внимания на то, что творилось снаружи: один из них, молодой и необычайно худой, сидел на очень странном стуле на колесах, и его ноги то поднимались, то опускались, словно они были способны двигаться; второй, гораздо старше и довольно полный, решительно толкал перед собой этот стул, причем с таким видом, как будто ему тоже требовались физические упражнения.
– Почему ты решил остаться здесь, Коста? – спросил Дука. – Турки находятся так близко, что я готов поклясться, что чувствую их запах. Они сосредоточили значительную часть своих обстрелов на Калигарийских воротах, то есть очень близко от нас. Дворец сейчас мало чем отличается от казарм. А ты продолжаешь находиться в нем…
– Меня такая ситуация вполне устраивает, – ответил принц. – Это мой дом. Ты говоришь, что горожане нуждаются в том, чтобы видеть, что жизнь остается такой, какой она была раньше… Ну что же, я как раз и пытаюсь создавать для себя подобную иллюзию.
Дука медленно толкал стул вперед, наблюдая за тем, как тоненькие ноги Константина то поднимаются, то опускаются.
– Как мы называем то чудовище, которое выставили над речкой? – спросил Константин.
– А-а, ты имеешь в виду гигантскую бомбарду, – сказал Дука. Тон его голоса тут же изменился: это был уже не друг, ведущий беседу, а наставник, наслаждающийся своим превосходством по части знаний. – Я с удовольствием сообщаю тебе, что того ужасного и необычного чудовища уже больше не существует: оно разлетелось на части несколько дней назад, убив при этом тех свиней, которые его обслуживали.
Довольно улыбнувшись при мысли о неудачах, которые недавно постигли их врага, он продолжал:
– Ты говоришь, что тебе жаль, что ты не можешь сражаться на стенах? А мне жаль, что ты не был на наших стенах, обращенных к морю, и не видел унижение османского флота.
– Какое еще унижение? – оживился Константин.
– Замечательное, Коста, просто великолепное. Дело рук самого Бога, сказал бы я.
Чувствуя, что услышит сейчас интересный рассказ, и радуясь тому, что он его убаюкает и перенесет в его воображении куда-то далеко за пределы крепостных стен, Константин расслабил мышцы шеи и плеч и, упершись затылком в верхнюю часть спинки стула, закрыл глаза.
– На утро двадцатого дня апреля наши наблюдатели заметили четыре каракки, которые гнал по Мраморному морю сильный южный ветер, – начал Дука. – Они были генуэзскими, и прислал их сам Святейший Отец. Хотя он, возможно, и презирает нашу веру, он все же обеспокоен гибелью такого большого числа людей. Когда каракки подплыли поближе, их заметил турецкий флот, который стоял в боевой готовности у входа в Босфор. Я не сомневаюсь, что ты легко представил себе, какие распоряжения были получены от Мехмеда, когда он узнал, что к Константинополю приближается флотилия, везущая добропорядочных христиан, оружие и припасы. Тем более что сам факт появления кораблей подарил перепуганным и измученным защитникам Великого Города очень нужную сейчас надежду на спасение.
– Ты должен написать книгу, – с некоторой долей иронии произнес Константин. – Твой полет фантазии заслуживает более обширной аудитории, чем я.
Дука прокашлялся, смутившись от насмешливого тона принца.
– Как бы там ни было, турки послали навстречу маленькой флотилии свои боевые галеры, многие десятки галер. Они были похожи на множество муравьев, собравшихся напасть на четырех кузнечиков. Когда каракки попытались добраться до безопасной для них бухты Золотой Рог, гребцы на турецких галерах еще сильнее налегли на весла, чтобы отрезать суда от этой бухты. Горожане повыходили из своих домов и забрались повыше, кто куда смог, чтобы понаблюдать за происходящим. Одни залезли на колокольни, другие – на высокие здания, с которых было видно Мраморное море. Среди них находился и твой отец. Он, как всегда, был облачен в одежду воина и громко приветствовал каракки вместе со всеми. Первыми открыли огонь турецкие галеры, и на каракки обрушились каменные ядра, горящие дротики и вообще все то, чем турки могли обстрелять корпуса каракк. Отважные генуэзцы стали стрелять в ответ стрелами из своих арбалетов и каменными ядрами из бомбард. Повсюду виднелись огонь и дым, но каракки продолжали продвигаться вперед, неуклонно приближаясь к бухте Золотой Рог, которая обеспечила бы им безопасное убежище. Клянусь тебе, Коста, это было все равно что смотреть на больших медведей, терзаемых окружившими их собаками…
– Раньше ты говорил про кузнечиков и муравьев, – улыбнувшись, перебил его Константин. – Теперь это медведи и собаки. Так на кого же они были больше похожи? Мне нужно получить четкое представление, чтобы я мог осмыслить твой рассказ.
– Но затем, – продолжал Дука, сделав вид, что не услышал слов принца, – когда, казалось, дружественные нам корабли запросто отобьются от вражеских галер и все-таки войдут в гавань и когда наши люди уже разразились радостными криками, стоя на крышах домов и высоких сооружениях ипподрома, южный ветер неожиданно стих и каракки остановились.
– Загнанные медведи, – сказал принц. – Кузнечики со связанными… малюсенькими лодыжками? У кузнечиков есть лодыжки?
Дука, не обращая внимания на реплики Константина, продолжал свой рассказ. Паруса его повествования все еще были наполнены ветром.
– Воспользовавшись данной ситуацией, турецкий командир приказал своему флоту приблизиться к остановившимся генуэзским судам. Сначала одна за другой, а затем и целыми рядами галеры стали упираться носом в корпуса каракк или же позволяли течению подогнать их к ним борт к борту. Началась рукопашная схватка. Турки с боем пытались забраться на борт каракк, а генуэзские матросы и воины отбивались от них мечами, дубинами и абордажными кошками. Лучники и арбалетчики, расположившись на такелаже и на реях, метко стреляли по туркам своими стрелами.
Дука на пару мгновений прекратил толкать стул и положил обе руки на плечи принца. Затем он поднял руки выше головы Константина, и его пухлые пальцы переплелись, словно ветвистые водоросли в бурном море.
– Коста, это было похоже на то, как будто из воды вдруг появился остров из дерева и парусины, – сказал он. – Все четыре каракки подошли вплотную друг к другу, и между ними были переброшены канаты так, чтобы они стали единым целым. Получилась крепость из дерева. Кормовые надстройки возвышались, словно крепостные башни. Вокруг этой крепости сгрудились турецкие галеры, и по всей этой массе судов, похожей на настоящий остров, сновали туда-сюда люди, рубящие друг друга мечами и саблями, дерущиеся с помощью кулаков, ног и зубов. По мере того как шел этот бой, морское течение отгоняло сцепившиеся друг с другом корабли все ближе и ближе к берегу. Я узнал позднее, что Мехмед так разволновался и обезумел при виде того, что туркам удалось-таки добиться победы, что запрыгнул на лошадь и загнал ее в море. Затем султан встал во весь рост в седле и стал что-то сердито кричать своим капитанам. Может, ругал их.
– Вот это, признаться, хотелось бы увидеть, – сказал Константин. – Скажи мне теперь, что он так сильно вышел из себя, что потерял равновесие, упал в море и утонул.
– Я обещаю, что то, что произошло дальше, стало для него даже бульшим горем, чем сама смерть, – невозмутимо произнес Дука. – Как раз тогда, когда, казалось, генуэзцы уже истратили все свои стрелы и ядра, а их силы почти иссякли от этой долгой и ожесточенной борьбы, поднялся ветер, который снова наполнил их паруса. То, что стало похоже на остров, тут же развалилось на части: каракки отделились друг от друга, а затем стали набирать скорость и пробились сквозь массу окружающих их галер. Пока Мехмед вопил от ярости и угрожал своим людям мучительной смертью, генуэзцы оторвались от последнего из своих преследователей и беспрепятственно вошли в бухту Золотой Рог. Что ты скажешь на это, юный Коста? – довольный собой, спросил Дука. Он аж вспотел, рассказывая эту историю, и ему пришлось вытереть пот со лба рукавом своего одеяния.
– Я скажу, что остается только пожалеть турецких моряков, которые выжили и которым потом пришлось испытать на себе гнев их султана.
– Именно так, – подтвердил Дука. – Именно так.
53
Когда Ленья нашла Джона Гранта, тот крепко спал, улегшись возле одной из стен караульного помещения. Пристально посмотрев на лицо юноши, она затем опустилась рядом с ним на колени и тихонько потрясла его за плечо, бормоча при этом его имя.
Он вынырнул из своего сна так, как ныряльщик выныривает из глубокой воды, и пока его глаза были закрыты, он снова почувствовал себя маленьким мальчиком, а голос, который он слышал, показался ему голосом его матери. Улыбнувшись и открыв глаза, он, однако, увидел не Джесси, а Жанну д’Арк.
– Что случилось? – спросил Джон Грант.
– Я нашла ее, – сказала Ленья. – Нашла твою девушку.
Все еще полностью не очнувшись от сна, он сел, уперся спиной в стену и потер лицо обеими руками.
– Мою девушку?
– Девушку, которую ты видел в гавани… Она стояла рядом с императором… Тебя так поразила ее красота, что ты таращился на нее, не отрывая глаз.
Он стал слушать ее намного внимательнее и даже выпрямил спину.
– И что с ней? – спросил он. – Ты разбудила меня, чтобы сказать это?
Ленья, прежде чем ответить, несколько секунд помолчала, подбирая подходящие слова.
– Ты должен пойти со мной, – сказала она. – Ей угрожает опасность.
Джону Гранту вдруг показалось, что он почувствовал «толчок», но тот был безнадежно слабым, а потому он предпочел проигнорировать его.
– От кого исходит эта опасность? – спросил он. – И что это за опасность?
Ленья поднялась на ноги и бегом направилась к выходу из караульного помещения. Джон Грант вскочил и побежал вслед за ней. В его голове роились мысли.
– Где она? – спросил он, догнав Ленью, и побежал рядом с ней.
– Ее посадили в темницу в одной из их тюрем, – ответила она. – Я как раз веду тебя туда.
– Она имеет для меня большое значение, – сказал он. – Но я не знал, что она имеет значение и для тебя.
– Имеет, – сказала Ленья. Она остановилась и посмотрела ему в глаза. Нелепость того, что она собиралась сейчас сказать, была почти очевидной, и лишь уверенность в своей правоте позволила ей произнести эти слова: – Я думаю… Я уверена, что это именно та девушка, которую ты приехал сюда спасать.
Джон Грант оторопел от удивления, в его голове возникло множество вопросов.
– Дочь Бадра? – спросил он, а затем покачал головой и вздохнул. – Откуда ты можешь это знать?
Ленья снова побежала вперед. Он опять догнал ее и повторил свой вопрос:
– Откуда ты можешь это знать?
– Обещаю, что расскажу тебе об этом, – чуть запыхавшись, произнесла она. – Но не здесь и не сейчас. Поговорим об этом в другом месте и в другое время.
Они бежали по крытым галереям и узким проходам, пока наконец не оказались в тени одного из зданий, находящегося неподалеку от дворца.
– Что это за сооружение? – спросил он.
– Тюрьма Анемас, – ответила она. – Я сомневаюсь, что мы смогли бы пробраться в нее в мирное время, да и вряд ли у нас возникло бы подобное желание. Но сейчас… Сейчас, скажем так, у местных стражников появились другие заботы, так что это здание почти заброшено.
Они отыскали дверь в массивной стене здания тюрьмы и, зайдя через нее в караульное помещение, увидели там двух дремлющих стражников. Глядя на измазанных в грязи мужчин, Джон Грант подумал, что они, наверное, недавно вернулись оттуда, где им пришлось выполнять гораздо более трудные обязанности.
Конечно, он понимал, что защитников Константинополя осталось уже слишком мало для того, чтобы ими можно было разбрасываться, и поэтому не стал убивать этих уставших мужчин. Вместо этого они с Леньей оглушили стражников быстрыми и бесшумными ударами по голове (от которых, можно сказать, их сон просто стал более крепким), а затем связали их и вставили им в рот кляп.
– Сладких снов вам, милые ребятишки, – сказал Джон Грант, покидая караульное помещение.
– Как мы ее найдем? – спросил он у Леньи, когда они пошли под высокими внутренними арками тюрьмы.
Освещение здесь обеспечивалось лишь масляными светильниками, прикрепленными к стене. Некоторые уже погасли, потому что в них закончилось масло, и при тусклом коричневато-желтом свете остальных лишь с трудом можно было что-то рассмотреть.
Хотя здание тюрьмы казалось почти пустым, в воздухе ощущался запах человеческих испражнений и пота. А еще здесь пахло человеческими страданиями. Этот запах висел в воздухе, вызывая неприятные ассоциации.
– Я думаю, что найти ее – это твоя задача, – ответила Ленья.
Не успела она договорить, как он вдруг почувствовал «толчок» – почувствовал его во второй раз за эту ночь. Он исходил откуда-то из-под каменных плит пола.
– Темницы вообще-то находятся под землей, – сказал он. – Нам нужно разыскать лестницу, ведущую вниз.
В дальнем углу одного из помещений, куда они прошли через такой низенький дверной проем, что ей пришлось сильно пригнуться, Ленья обнаружила самую верхнюю из спускающихся вниз по спирали каменных ступенек, которые вели куда-то в темноту, черную, как воды Стикса[36]. Джон Грант насчитал четырнадцать ступенек, прежде чем достиг пола подвального этажа тюрьмы. При тусклом свете, исходящем от масляных светильников, он увидел по обеим сторонам подвала множество дверей, закрытых на прочные засовы.
Из-за некоторых дверей доносились какие-то негромкиезвуки, стоны и слова, произносимые так тихо, что их было невозможно понять. Полагая, что здесь нет никакой охраны, Джон Грант и Ленья смело пошли по полутемному коридору. В его дальнем конце они обнаружили еще одну камеру, побольше по размерам. В закрытой на засов двери этой камеры имелось зарешеченное окошко, через которое можно было заглянуть внутрь. Там и оказалась та самая девушка. Она сидела на деревянном стуле возле большого квадратного стола, положив подбородок на руки, и задумчиво смотрела перед собой.
Ленья подошла к окошку и, ухватившись пальцами за прутья решетки, позвала:
– Ямина!
Джон Грант аж остолбенел.
Девушка резко опустила руки на стол и посмотрела в сторону зарешеченного окошка. Затем она встала и оттолкнула стул, отчего раздался самый громкий звук из всех, которые они слышали с того момента, как зашли в тюрьму.
– Откуда тебе известно мое имя? – спросила она.
– Я находилась в тронном зале, когда тебя представили твоему будущему мужу, – сказала Ленья. – Я слышала, как они называют тебя.
Глаза Ямины сверкнули при мысли о том, что теперь о надвигающемся на нее несчастье стало известно и какой-то незнакомке.
– Тот актер никогда не будет моим мужем, – сказала она. – Я не… я не допущу этого.
Она опустила глаза, уставившись в пол своей камеры.
– Ты знаешь, где хранятся ключи? – спросила Ленья. – Кто замкнул твою дверь?
Девушка покачала головой, чувствуя смущение и растерянность.
– Два человека… Стражники, – сказала она. – Грязные типы… они выглядели так, как будто до этого спали в канаве.
Сразу все поняв, Джон Грант повернулся и побежал обратно. Он мчался, перескакивая через две ступеньки, и наконец добежал до караульного помещения.
Один из стражников шевелился и постанывал так, как будто уже начал приходить в сознание. Джон Грант подбежал к нему и ударил его ногой по затылку – сильнее, чем было необходимо. Опустившись затем на колени, он стал обыскивать одежду этого стражника. Он нашел карманный нож, ложку, вырезанную из рога, – и больше ничего. Придвинувшись затем ко второму стражнику, он стал рыться и в его одежде. На этот раз он обнаружил висящую на поясе связку ключей, зазубренные концы которых от частого использования отполировались и теперь поблескивали, как серебро.
54
– Думаю, я знаю, кто ты такая, – сказала Ленья.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Ямина.
– Как зовут твою мать?
– Моя мать умерла.
– Прости, – сказала Ленья. – Пожалуйста, прости меня за это. У нас остается мало времени. Пожалуйста, скажи мне имя твоей матери.
Ямина пристально посмотрела в лицо Леньи. Во взгляде этой женщины не чувствовалось ни агрессивности, ни даже подозрительности. Единственное, что она заметила в выражении ее лица, так это грусть.
– Иззи… Изабелла, – сказала она. – Мою мать звали Изабелла. А почему ты меня об этом спрашиваешь?
– Я, по правде говоря, не знаю, с чего и начать, – сказала Ленья.
Ленья улыбнулась девушке и, окинув ее взглядом, подумала о том, что ее лицо очень даже знакомо ей. Почти в силу прихоти ей пришел в голову еще один вопрос:
– Ты умеешь разговаривать на галисийском языке?
Ямина не только удивилась, но и явно смутилась, услышав, что интересует незнакомку.
– Что?
– No tengo mas que darte, – произнесла Ленья.
– Мне больше нечего тебе дать, – сказала Ямина.
– Кто научил тебя этим словам? – спросила Ленья.
Сердце девушки наполнилось грустью, а на глазах выступили слезы.
– Моя мать, – ответила Ямина. Она не понимала, в чем смысл данного разговора, но чувствовала взволнованность своей собеседницы, а потому решила быть откровенной. – Это были слова моей матери.
Прежде чем они успели сказать что-то еще, послышались шаги. Это был Джон Грант. Они обе посмотрели на юношу с надеждой на то, что его поиски были успешными.
Он с трудом смог заставить себя не смотреть на девушку и лишь бросил на нее быстрый взгляд, не более того. Попросив Ленью отойти от двери, он стал пробовать один ключ за другим. Наконец механизм внутри замка провернулся с приятным щелканьем и дверь со вздохом открылась вовнутрь.
Джон Грант посмотрел на Ямину и, почувствовав, что его лицо покраснело, с радостью подумал о том, что царящий вокруг полумрак скрыл это. А еще он вновь почувствовал «толчок», причем более сильный, чем раньше.
– Тот самый заклинатель птиц, – произнесла Ямина, глядя на Джона Гранта.
– А теперь пойдем, – сказала Ленья, протянув ей руку.
Она стояла в дверном проеме, и Ямина, подойдя к ней, взяла ее за руку и пошла вслед за ней по коридору. Она на ходу бросила взгляд на Джона Гранта, и он молча пошел за ней.
Они взбежали вверх по ступенькам и заскочили в находившееся за верхней площадкой лестницы полутемное помещение. Джону Гранту казалось, что это какой-то сон и что он это уже видел: женщина и девушка, держась за руки, бегут перед ним.
Они были уже на полпути к караульному помещению, когда Ленья заметила впереди какое-то движение. Это двигались человеческие фигуры: кто-то возился с оглушенными стражниками, пытаясь заставить их прийти в сознание. Ленья резко остановилась, а потом потащила Ямину к стене, находящейся слева от них. Джон Грант тоже заметил фигуры и обругал себя за то, что проигнорировал слабое предупреждение, которое он почувствовал в темнице. Он проворно подскочил к Ленье и девушке, притаившимся у стены.
– Забирай ее, – сказала Ленья. – Держитесь в тени и продолжайте двигаться вперед, пока не упретесь в стену караульного помещения, поближе к его двери.
– А как же ты?
Этот вопрос задала Ямина, и Джон Грант с Леньей оба уставились на нее с таким видом, как будто они на какое-то время забыли, что она умеет говорить.
Ленья усмехнулась и повернулась к Джону Гранту.
– Скажи девушке, что ей совсем не нужно переживать за меня, – сказала она, а затем толкнула юношу в грудь, чтобы заставить его пойти вдоль стены.
– Мы с тобой скоро увидимся, – сказал он.
Почувствовав внезапный порыв, Джон Грант – еще до того, как она смогла каким-либо образом отреагировать, и до того, как он взял Ямину за руку и увлек ее за собой, – подскочил к своей матери и легонько поцеловал ее в губы.
Он и Ямина дошли до дальней стены, когда сновавшие в караульном помещении фигуры вдруг стремительно выбежали в коридор. Их было трое, и они были одеты явно лучше, чем лежащие на полу караульного помещения стражники.
Он посмотрел на Ленью, когда эти трое мужчин направились к ней. Она тоже посмотрела на него, и их взгляды встретились, а затем она повернулась и побежала сначала по коридору, а затем вниз по ступенькам, ведущим в подвал.
– Куда нам лучше всего пойти? – спросил Джон Грант Ямину.
Они уже выбрались за пределы наружных стен тюрьмы и стояли, держась за руки, в свете луны. Сжимая в своей руке ее прохладную ладонь, он вдруг почувствовал, что Ямина, похоже, оробела. Он задумался над тем, чем была вызвана ее неуверенность: то ли тем, что ее рука была в его руке, то ли тем, что она не знала, куда направиться в поисках убежища. Ему хотелось надеяться на то, что это был второй из двух вариантов.
– Пойдем, – сказала она, потянув его за руку. – Я знаю, куда идти.
К его удивлению, она повела его во дворец по сложному маршруту – через какие-то внутренние дворы и лабиринт коридоров. В конце концов она остановилась перед дверью, ведущей непонятно куда. Засунув руку в карман своей юбки, она достала ключ и поднесла его близко к носу Джона Гранта – так близко, что ему пришлось скосить глаза, чтобы его рассмотреть.
– Ключ от царства, – с таинственным видом произнесла девушка и улыбнулась.
Она отперла дверь и завела его вовнутрь. Затем они пошли куда-то вниз по деревянным ступенькам. В подвале было темно, но тоненькие полоски света все же проникали в это помещение без окон через щели между широкими досками, служившими потолком для подвала и полом для помещения, расположенного выше его.
– Где это мы? – спросил он.
– Здесь мы в безопасности, – ответила девушка. – Это мое царство.
– Нет, серьезно, скажи, где мы?
– Я жила здесь, когда была ребенком, – пояснила она. – Не в этом подвале, а в покоях, расположенных над ним. Они были домом для меня и моей мамы.
– Изабелла, – сказал он. – Твою мать звали Изабелла?
Она посмотрела на него таким тяжелым взглядом, от какого, казалось, может остаться синяк.
– Кто ты, заклинатель птиц? – спросила она. – И та женщина, кто она? Почему вы стали меня искать? Откуда тебе известно имя моей матери?
– Не знаю, что и ответить, – смущенно произнес Джон Грант.
У него голова шла кругом. Неужели такое может быть? Неужели Ленья права? Неужели эта девушка и в самом деле дочь Бадра? «Может быть» и «не может быть» толкались в его сознании, пытаясь занять в нем побольше места.
По сути они были незнакомыми людьми, но стояли сейчас так близко друг к другу, что ему вдруг захотелось прикоснуться к ней. Более того, он страстно желал крепко прижать ее к себе – так крепко, чтобы ее кости захрустели. Это желание было таким сильным и мучительным, что Джон Грант с трудом подавлял его, чтобы не дать себе наброситься на нее, впиться зубами в ее плоть или причинить ей какой-нибудь другой вред со всей той силой, которую он сейчас ощущал и которую сдерживал в себе так, как плотина сдерживает огромную массу воды.
– Расскажи мне, откуда тебе известно о моей матери, – попросила девушка, и звуки ее голоса немного отвлекли его от бушующих чувств, которыми он был обуреваем.
– Я не… то есть… я никогда не встречался с ней, – сказал он. – Мой отец… э-э… точнее, мужчина, который стал заботиться обо мне после того, как умерла моя мать… или, наверное, правильнее сказать, женщина, которую я считал своей матерью и которая вырастила меня…
Несмотря на напряженность ситуации – а может, как раз в силу нее, – Ямина почувствовала, что внутри у нее зарождается смех и, распирая грудь, рвется наружу. Она закрыла ладонью себе рот, чтобы подавить этот смех.
– Ты сам-то знаешь, кто ты вообще такой? – спросила она.
Джон Грант поник, охваченный унынием и смущением из-за того, что его попытка дать какие-то объяснения оказалась такой неуклюжей. Она заметила его неловкость, и ей очень захотелось подбодрить его.
– А что произошло на площади в тот день, когда ты приехал сюда? – продолжала расспрашивать она. – Что произошло с теми орлами?
Почувствовав явное облегчение от смены темы разговора, он воспрянул духом и стал вспоминать тот момент и охватившие его тогда чувства, когда птицы махали возле него своими крыльями и когда ему на секунду показалось, что они могут поднять его в небо.
– Им нужна была кость, – сказал он и пожал плечами. – Та зловонная кость. А я всего лишь ее случайно поймал.
– А откуда она упала?
– Из лап птицы, я думаю. Один из тех орлов, наверное, нес ее в своих когтях и уронил. Я ее поймал, а затем они оба пытались вырвать ее у меня из руки.
– Все равно это было впечатляющее зрелище, – сказала Ямина. – Знаешь, император воспринял это как послание от самого Бога: символ его дома снова поднимется вверх.
Джон Грант улыбнулся.
– А что подумала при этом ты? – спросил он.
Теперь уже покраснела Ямина. Девушка заметила, что, когда он говорил, она смотрела не столько ему в глаза, сколько на его рот. А еще она заметила, что смотреть ему в глаза ей было почему-то нелегко. Даже в полумраке подвала она смогла разглядеть, что они были карими. Более того, они были усеяны золотистыми пятнышками, которые отражали свет и поблескивали, как маленькие солнышки.
Еще до того, как она увидела, какого они цвета, Ямина мысленно представляла их себе, и не раз. Слушая голос Константина, она чувствовала на себе взгляд этих глаз, как будто они смотрели на нее откуда-то издалека. Держа в своей руке руку Константина, она задавалась мыслью, какие чувства испытывала бы она, если бы на месте принца оказался заклинатель птиц и какой запах его рука оставила бы на ее коже. Этот человек сейчас находился рядом с ней, а Константин – нет, и ей хотелось чувствовать себя виноватой, но она себя таковой не чувствовала.
Здесь, в полумраке, где все было нечетким и не совсем понятным, она чувствовала себя свободной. Они, в конце концов, были чужими друг для друга, и она знала, просто знала, что в данной ситуации не имелось смысла в том, чтобы быть нечестным, даже и чуть-чуть нечестным. Они были незнакомыми друг для друга людьми и одновременно с этим почему-то знакомыми. Ей хотелось быть честной не только перед ним, но и прежде всего перед собой, и Ямина была вынуждена признать, что, когда их глаза встретились на той площади, где возле него зависли в воздухе орлы, она отнюдь не восприняла его как чужака. Она тогда увидела его впервые в жизни, в этом она была уверена, но… но тем не менее ей, к ее удивлению, показалось в тот момент, что она… узнала его.
Неожиданно она почувствовала сильное желание поцеловать его – или же каким-либо иным образом сократить расстояние между ними.
– Я подумала, что уже никогда не забуду, как они выглядели. И как выглядел ты, – ответила она.
Они стояли в пустой комнате, почти не шевелясь, и он невольно задался вопросом о том, сколько же времени прошло с того момента, как она закрыла за ними дверь. Он ощущал потребность рассказать ей очень и очень многое, причем только ей одной. Ему очень сильно хотелось, чтобы она знала, какое большое значение имеет для него то, что они находятся рядом друг с другом – здесь и сейчас – и что это для него самое важное в жизни.
– Меня прислал сюда, к тебе, человек, которого зовут Бадр Хасан, – сказал он. – Тебе известно это имя?
Она уставилась на него. Пылинки медленно летали в воздухе между ними, словно малюсенькие планеты, движущиеся во Вселенной.
– Бадр Хасан – мой отец.
– Он спас мне жизнь, – продолжил Джон Грант. – И далеко не один раз. И он пожелал, чтобы я приехал сюда, в Великий Город, разыскал тебя и позаботился о твоей безопасности и твоем благополучии.
– А почему он не приехал сюда сам?
– Бадр умер, – глухо произнес Джон Грант.
Эти слова и заложенный в них смысл подействовали на него шокирующе. Он вспомнил ту пещеру, запах цветов и то, с какой интонацией Бадр произнес слово «дочь».
– Изабелла тоже мертва, – сказала Ямина.
Ее внезапно охватила грусть, показавшаяся ей темной водой, которая уж слишком глубока для того, чтобы в ней плавать.
Она стала нащупывать в своем кармане кость пальца Амы. Найдя ее, она зажала ее в кулаке. Почувствовав подступивший к горлу ком, похожий на кусок толстого разбитого стекла, она сглотнула и закрыла глаза, чтобы сдержать подступившие к ним горячие слезы, и… и почувствовала на своих губах его губы. Он стал целовать ее лицо и глаза, кожа вокруг которых была соленой на вкус, а она, глубоко вздохнув, обвила его шею руками. Он снова поцеловал ее в губы и, обхватив руками за талию, притянул девушку к себе и с силой прижался к ней своим телом. Зарывшись лицом в роскошные волосы Ямины, он стал целовать ее шею. Она открыла глаза и, посмотрев куда-то поверх его плеча, увидела, что из-за полоски света, проникающего в этот подвал сверху через щель в доске, от них двоих падает на стену тень.
Ей тут же пришла в голову мысль о том, что они – любовники, прячущиеся в темноте. Она услышала в своей голове голос Константина, рассказывающего историю о вероломной императрице, и вспомнила, как в ее ладони покоилась прохладная ладонь ее принца. Она поняла, что все еще любит его, – так же, как и раньше. Она стала отталкивать Джона Гранта и пятиться прочь, едва не теряя равновесие в своем отчаянном стремлении отстраниться от него.
– Что-то не так? – спросил он.
– Прости, – сказала она. – Я хочу… я думаю…
– Что-то не так? – повторил Джон Грант.
Его голос был тихим и встревоженным. Ямина смутилась. Она снова испытывала желание оказаться в его объятиях, но изо всех сил старалась подавить свои чувства.
– Все это неправильно, – покачав головой, произнесла она. – Такого не может быть.
– Не понимаю, – сказал он.
Она замерла, тяжело дыша и чувствуя, как сильно бьется сердце. Его удары были похожи на удары кулаками по двери, которые делает человек, оказавшийся запертым за этой дверью. Пытаясь успокоиться и найти какое-то объяснение своему поведению, она мысленно перенеслась назад во времени, чтобы услышать голос матери.
– Когда я была маленькой, моя мать часто рассказывала мне о душах-близнецах, – сказала она.
Он тяжело выдохнул через нос и покачал головой.
– Что?
– Она узнала об этом от своей няни, которую звали Ама.
Ямина снова засунула руку в карман, нащупала в нем маленькую кость и потеребила ее пальцами так, чтобы почувствовать ее контуры.
– Ама рассказала моей матери, а моя мать рассказала мне, что большинство людей путешествует через вечность в одиночестве, однако у некоторых – очень немногих – счастливчиков имеется близнец. Они не похожи друг на друга, но между ними имеется какая-то… какая-то связь, я думаю. Иногда, в каких-то своих жизнях, такие близнецы встречаются. Они могут оказаться мужем и женой, родителем и ребенком. Порой один из них уже старый, на склоне лет, а второй – еще только родился на белый свет и стоит в начале жизненного пути.
Джон Грант не сводил с нее пристального взгляда. Он никогда не слышал ничего подобного, но неудержимое влечение к ней заставляло его ждать и слушать то, что она говорила.
– И это означает… – произнес он в ожидании продолжения.
Ямина вздохнула и опустила глаза, уставившись в пол.
– Я не знаю, что это означает, – сказала она. – Я всего лишь чувствую… И я знаю, что ты оказался сейчас здесь, в этом городе, рядом со мной, отнюдь не случайно.
Джон Грант поднял руки вверх с таким видом, как будто сдается и признает свое поражение.
– Я не понимаю, – медленно проговорил он, чеканя каждое слово.
– Я тоже.
Подняв глаза, Ямина встретилась с ним взглядом, а затем, глубоко вздохнув, продолжила:
– А еще я помолвлена. Мне предстоит выйти замуж.
– Замуж? – спросил он. – Расскажи мне об этом.
– Да, замуж, – кивнула она. – Через три дня.
Внезапно почувствовав настойчивое желание оказаться при ярком дневном свете и в том мире, который находился выше их, Ямина пошла очень быстрым шагом – почти бегом – к деревянным ступенькам, но не успела она преодолеть и половины расстояния до них, как Джон Грант поймал ее за руку и заставил повернуться к нему.
– Как ты можешь выйти замуж через три дня? – спросил он. – Ведь ты находилась в тюрьме, когда мы тебя нашли, и сидела взаперти, как какой-нибудь преступник. С невестами так не поступают.
– Тут слишком много нужно объяснять, – сказала она.
Она попыталась высвободиться, вырвать свою руку из его руки, но хватка юноши оказалась неожиданно крепкой.
– Я пообещал твоему отцу, что позабочусь о тебе, – напомнил он.
Ямина подняла руку и, полуобернувшись, показала большим пальцем на то место, где они только что стояли.
– Думаю, что он под заботой понимал нечто совсем иное, – сердито произнесла она. – Как мне кажется, ты заботился скорее о самом себе.
Гнев, внезапно охвативший ее, удивил Ямину не меньше, чем Джона Гранта. Он отпустил ее руку и отвернулся. Тут же пожалев о своих словах, она потянулась к нему и ласково положила ладонь на его плечо.
Когда юноша повернулся к ней и они оказались лицом к лицу, Ямина сказала:
– Выслушай меня, пожалуйста. Я запуталась так же, как и ты. Но я действительно часто думала о тебе с того момента, как увидела тебя на площади.
Он пристально смотрел ей прямо в глаза, и она заставила себя выдержать его взгляд.
– Ты напомнил мне о том, что я когда-то давно слышала от моей матери, – продолжала Ямина. – Она рассказывала мне, как впервые увидела моего отца – Бадра Хасана.
Джон Грант, ничего не говоря, приподнял подбородок.
– Она говорила, что он был самым красивым из всех мужчин, которых она когда-либо видела.
Джон Грант молчал, не сводя с нее своих карих глаз, и она вновь почувствовала, как кровь прихлынула к ее лицу.
– Ты красивый, заклинатель птиц, – сказала она. – Ты, возможно, даже самый-самый красивый, но я уже пообещала себя другому мужчине.
– Ну и где же он? – спросил Джон Грант. – Как получилось, что ты оказалась в тюрьме, в этой жуткой камере, если вы собирались пожениться? Где он, твой жених?
– Я полагаю, что он там, где находится всегда, – просто ответила она. – В своей постели.
Джон Грант посмотрел на нее с искренним недоумением, слегка втянув голову в плечи, и это движение напомнило ей движение черепахи, втягивающей голову в свой панцирь. От нелепости подобного сравнения она невольно рассмеялась.
– В своей постели? – переспросил Джон Грант.
– И я думаю, что ты можешь быть как раз тем человеком, который нужен мне, чтобы заставить его подняться.
Джон Грант чуть наклонил голову и теперь был похож не на черепаху, а на обиженного щенка. Ее сердце наполнилось желанием обнять его, но она удержалась.
– Если ты сможешь быть терпеливым, я попытаюсь объяснить, – сказала Ямина.
– Я слушаю.
55
Джон Грант лежал на спине в караульном помещении возле калитки в крепостной стене неподалеку от Калигарийских ворот. Прошло несколько часов с того момента, как он расстался с Яминой – по ее настоянию – и вернулся к выполнению своих обязанностей. То, что она ему поведала, показалось ему неправдоподобным, и если бы он услышал это от кого-нибудь другого, то решил бы, что это всего лишь выдумка. Хотя он был едва знаком с ней и его чувства все еще бурлили по причине ее кратковременной податливости перед его напором и желанием и последовавшим за ней быстрым отказом, Джон Грант испытывал необъяснимую потребность в том, чтобы верить этой девушке.
Сейчас, когда он лежал на своем тюфяке, набитом соломой, его мысли лихорадочно метались, заставляя его вновь и вновь возвращаться к ее истории. Желая как-то отвлечься от размышлений о трудном положении, в котором оказалась Ямина, он развел руки в стороны и прижал ладони к земляному полу. Затем, растопырив пальцы, юноша тихонько выдохнул и сконцентрировался на своем восприятии полета планеты в вакууме.
Ему показалось, что его желудок подпрыгнул внутри тела – так, как будто тело вдруг сорвалось с края скалы и полетело в пропасть. У него слегка закружилась голова, и он с волнением ощутил скорость несущейся в космосе планеты. Он привык к тому, что ощущение движения планеты во Вселенной всегда вытесняло все другие ощущения, завладевая им целиком и полностью. Но сегодня грохот и скрежет вращения Земли вокруг своей оси подавлял в нем все остальные ощущения с особой силой. Он осязал этот грохот и скрежет кончиками пальцев намного ощутимее, чем когда-либо раньше. Затем вдруг – с мощью, которая заставила его широко раскрыть глаза и сжать челюсти так сильно, что его зубы едва не вдавились в кости черепа – он почувствовал «толчок» в спину, похожий на удар лошадиного копыта.
В ушах Джона Гранта зазвенело. Он лежал тихо и неподвижно, боясь даже пошевелиться. За этим сильным «толчком» последовали другие, один слабее другого, пока наконец они не прекратились и единственным оставшимся ощущением была знакомая равномерная вибрация, чем-то похожая на подрагивание мышц от напряжения или от страха.
Джон Грант поднял голову и окинул помещение взглядом. Он не удивился бы, если бы увидел тут все в беспорядке – как результат землетрясения, – но все остальные, кто находился рядом с ним, спокойно спали. Он посмотрел на стол и обнаружил, что чашки и стаканы все еще стоят на своих местах и ничто из них не пролилось. Встав, он подошел к двери, оставленной открытой, чтобы внутрь попадал свежий воздух, и выглянул наружу. Несколько человек, судя по их внешнему виду воины, пересекали двор ярдах в ста от двери. Они тихонько разговаривали, и в их разговоре не было никакого волнения или беспокойства.
Растерявшись, но тем не менее оставаясь уверенным в том, что его ощущения были реальными и что это действительно произошло, пусть даже только он один и заметил происходящее, Джон Грант вернулся в караульное помещение и снова лег, надеясь все-таки уснуть.
Очень-очень далеко – за полмира от Великого Города, от Джона Гранта и Орлеанской девы, от девушки и искалеченного юноши – перестал существовать не известный ни одному воину Христову остров, от которого теперь не осталось ничего, кроме бездонного кратера, скрывшегося глубоко под волнами.
Самый сильный за десять тысяч лет взрыв превратил Куваэ – тихоокеанский остров, на котором жили несколько сотен людей, – в кучу развалин и обломков, взлетевших в небо и образовавших огромное пылевое облако, похожее на тень самой смерти.
Отныне деревья в лесах станут увядать, лишенные тепла солнечных лучей; посевы на полях будут повреждаться падающими с неба обломками; бури, селевые потоки и вьюги станут сметать с лица земли целые города и опустошать саму землю. Везде и всюду на сердца людей ляжет безграничная тень.
56
Пребывая в одиночестве в своей спальне, принц Константин чувствовал себя больным. Он проснулся еще до рассвета с ощущением, похожим на головокружение. Нечто подобное принц испытывал и раньше, но только это было давно, в первое время после того, как он повредил себе позвоночник. Он не мог даже представить себе, что могло стать причиной его физического недомогания, а потому решил, что легкое головокружение и подкатывающаяся к горлу тошнота вызваны беспокойством по поводу отсутствия Ямины.
Он провел оставшиеся часы этой бессонной ночи в мучительных размышлениях, пытаясь найти ответы на терзавшие его вопросы и обдумывая возможные последствия. Куда она исчезла? И почему? Он снова и снова вспоминал все то, о чем она рассказала ему, – о сожительнице императора и словах, которые та сказала. Нужно было, конечно же, принимать во внимание и запланированную свадьбу. Несмотря на все ее страстные заявления, все ее слезы и откровенные разговоры о том, как сильно она его любит и как сильно она хочет быть его женой, не увидела ли Ямина в конце концов, каковы реалии жизни? Правильно ли она оценила свое будущее, в котором ее ждет жизнь, поневоле посвященная мужчине, неспособному стоять, ходить, заниматься любовью и уж тем более зачать с ней детей, которых она вполне заслуживала? Отсутствовала ли она сейчас, за пару-тройку дней до церемонии бракосочетания, лишь потому, что видеть его и слышать его голос стало для нее попросту невыносимо?
В голове Константина роились и многие другие мысли, порожденные постоянно усиливающимся напряжением от долгого ожидания. Сквозь мучительное чувство страха, вызванного осадой, и переживания за Ямину пробивалось иное чувство, которое было сродни предвкушению чего-то значительного и напоминало едва ли не радостное волнение. В сложившихся обстоятельствах этому не было никакого объяснения. Но такое чувство у него явно имелось. Где-то в глубинах его рассудка, в промежутке между сознательным и подсознательным, мелькало понимание того, что события развивались так, как им и следует развиваться, и… и что вскоре должно произойти что-то значительное.
Вот так он лежал, предаваясь напряженным размышлениям. Его лоб был влажным от холодного пота, а в глазах щипало от сухости и зуда. И тут вдруг он заметил в своем теле какую-то перемену, правда пока на уровне ощущения, которого он не испытывал уже много лет. Как только Константин обратил на это ощущение свое внимание, оно, растолкав в сознании принца заслонявшие его переживания и мрачные мысли, вышло вперед и громко заявило о себе. Его появление вытеснило все остальное, и мысли Константина сконцентрировались исключительно на этом ощущении.
Ему вспомнилось, как, будучи маленьким мальчиком, он частенько, проснувшись утром, обнаруживал, что одна из его рук сильно затекла и стала как бы мертвой. Она лежала поперек его лица или груди, и ему приходилось, если подобное случалось, убирать ее в сторону другой рукой. Он начинал ворочаться в постели – иногда с большим трудом из-за «безжизненности» этой его конечности, – пока к той не возвращалась способность шевелиться и что-то чувствовать. При этом способность к движению возвращалась к руке довольно медленно, по мере того, как теплая кровь устремлялась бульшим потоком к кончикам пальцев и жизненные функции руки восстанавливались. Иногда «возвращение к жизни» было близко к агонии – или, по крайней мере, к странной смеси боли и удовольствия…
Затем мысли Константина на некоторое время как бы сами по себе переключились на воспоминания о матери. Она ушла из его жизни слишком давно, чтобы он мог вспомнить ее лицо. Однако он помнил гладкие, прохладные ладони и ласковые слова, а также цветочный запах ее волос и кожи, который он вдыхал, когда она наклонялась над ним и целовала его.
Никто о ней даже и не упоминал, причем уже давным-давно. Она была для его отца не женой, а любовницей. Ее статус в обществе, предполагал Константин, исключал возможность заключения официального брачного союза. Ценность имел только ее мальчик, ее сын. Она поначалу ухаживала за ним – возможно, в качестве няньки, – пока он не достиг возраста, в котором ему уже было пора начинать получать образование, и тогда течения придворной жизни унесли его прочь от нее. Или ее от него.
Он лег на спину и попытался вспомнить, как звучал ее голос. Она услышала, как он испуганно вскрикнул, когда впервые обнаружил, что его рука стала «мертвой», и, подойдя к нему, решила возникшую проблему в такой форме, которая была для него понятной и запомнилась ему на всю оставшуюся жизнь. Она стала гладить и успокаивать его и, взяв затекшую руку в свои ладони, ласково сказала:
– Твоя рука уснула. Давай подождем и посмотрим, что сейчас произойдет.
Сев на кровать рядом с ним – как она садилась потом еще много раз, – мать начала нежно массировать кожу и мышцы, заставляя жизнь вернуться в них…
Он лежал на спине и старался сосредоточить все свое внимание на ощущениях в нижней части его правой ноги. Там, где раньше на протяжении всех лет, прошедших с того момента, как он поймал Ямину, он не чувствовал вообще ничего, теперь возникло такое ощущение, как будто целая тысяча иголок покалывает его кожу. Ему снова вспомнились слова матери, и он подумал, что, если бы эта его конечность спала, он бы ее не чувствовал. Покалывание иголок означало, что она не спит. Такое ощущение могло возникнуть только в ноге, которая бодрствует.
57
Прошло уже несколько часов после того, как Джон Грант почувствовал «толчок» в спину (да не один раз, а больше десяти), но он тем не менее все еще никак не мог прийти в себя и начать воспринимать окружающий мир так, как раньше. До рассвета оставалось уже менее часа. Ему надлежало снова приступить к исполнению своих обязанностей, то есть патрулированию стен и наблюдению за поверхностью воды в сосудах, и он с ужасом подумал, что ему опять придется переключать свой рассудок на эту работу.
Во-первых, он чувствовал, что его тело – все его тело – окоченело и онемело. В его голове раздавался легкий гул, чем-то похожий на затихающую вибрацию стакана, по которому ударили ложкой. Ему казалось, что он завернут в невидимое одеяло, которое не позволяет ему правильно воспринимать то, что происходит вокруг. Он даже ущипнул себя за нос, попытался напрячь слух и внимательно огляделся по сторонам, но ему отнюдь не стало легче от предпринятых им действий.
А еще ему не давали всецело переключить свое внимание на окружающие его сейчас реалии мысли о Ямине. Он попытался сосредоточиться и представить себе последствия халатного отношения к своим обязанностям и несвоевременного реагирования на атаку турок, но ее миловидное личико неизменно появлялось перед его мысленным взором, словно лицо какого-то джинна.
Эти назойливые наваждения закончились лишь с первыми лучами солнца. С внешней стены донеслись крики людей, поднимающих тревогу. Он схватил меч и выскочил из караульного помещения. За ним последовали другие воины. Они побежали все вместе по ступенькам на верхнюю часть стены.
На мгновение ему показалось, что у него началась галлюцинация, которая являлась результатом какого-то сбоя в работе мозга и еще одним симптомом той странной психической болезни, жертвой которой, похоже, он стал. Затем снова послышались крики людей – все они показывали куда-то пальцем и с вопросительным видом смотрели то друг на друга, то на объект, вызвавший у них тревогу и, по-видимому, отнюдь не являющийся галлюцинацией.
Как раз перед внешним краем рва, нависая над крепостной стеной, на которой стоял Джон Грант, возвышалась массивная квадратная башня. Похоже, она была сооружена в виде огромного деревянного каркаса, который затем покрыли шкурами животных и обшили досками. От ее верха до самого низа виднелись амбразуры для стрельбы из лука, через которые можно было заметить двигающихся внутри башни воинов. Самое же худшее заключалось в том, что через верхние амбразуры этой башни турки теперь могли наблюдать за всем, что происходит на крепостной стене и в городе за ней.
– О Господи! – тяжело вздохнув, пробормотал Джон Грант.
В следующее мгновение он услышал голос Джустиниани. Джон Грант повернулся и посмотрел на генуэзца, присутствие которого всегда вызывало у него прилив энергии и уверенность в себе. Они сражались вот уже несколько недель, решительно отбивая все атаки турок, но генуэзец, похоже, ничуть не устал и все еще был полон бодрости, как и в день своего прибытия на корабле в Константинополь. Каждый раз, когда какая-нибудь секция стены обваливалась в результате турецкого обстрела, Джустиниани тут же появлялся в этом месте, собирал трудоспособных людей и поторапливал их, чтобы бреши в стене как можно быстрее были заполнены обломками и землей (разумеется, вперемешку с их слезами и потом).
– Эти турки не уступят в коварстве самому сатане! – крикнул он.
Оправившись от замешательства, в которое он впал при первом взгляде на это чудовищное сооружение, Джон Грант начал рассматривать башню, выискивая ее слабые места. Он с большим удивлением заметил, что у этой башни есть своего рода хвост в виде траншеи, идущей от ее основания аж до турецких позиций, находящихся на расстоянии в несколько сотен метров от нее. Эта траншея была прикрыта бревнами и плотными шкурами животных, благодаря чему по ней можно было пригонять в башню людей и приносить строительные материалы без особых опасений за их безопасность.
Разглядывая башню, Джон Грант понял, в чем заключается ее главное предназначение. Из отверстий в ее основании турки бросали в ров какие-то обломки, камни, песок и все такое прочее, заполняя ими ров с ужасающей скоростью. Если защитники города ничего не предпримут, причем в самое ближайшее время, то копошащиеся в башне турки засыплют такой широкий участок рва, что по нему запросто сможет пройти целое войско.
– Они, должно быть, соорудили эту башню ночью, – сказал Джустиниани. Десятки людей собрались вокруг генуэзца и стали внимательно слушать его рассуждения по поводу этой новой угрозы. – А затем они переместили ее на колесах через никем не занятую зону к самому краю рва.
Не успел он сказать что-нибудь еще, как раздалась целая серия следующих один за другим громких выстрелов, а затем донеслись звуки ударов каменных ядер об укрепления города. Турки сосредоточили обстрел на одной из секций стены возле ворот Святого Романа. Окинув внимательным взглядом вражеские позиции, Джон Грант увидел стоящие рядом несколько бомбард – вероятно, самых тяжелых и самых длинных из всех артиллерийских орудий, имеющихся сейчас у турок. Пока он их разглядывал, со стороны османских позиций донеслись громкие крики, потом зазвучали трубы, загремели барабаны и деревянные гонги: еще одна брешь – самая широкая из всех, которые до сего момента удавалось проделать турецкой артиллерии, – появилась в стене, а над ней взметнулось огромное облако пыли. После небольшой паузы раздались еще более громкие крики: турки вопили в предвкушении своего триумфа, – и пару минут спустя волна турецких воинов покатилась вниз по склону, направляясь к пробитой бреши.
– За мной! – крикнул Джустиниани. – Следуйте за мной!
Пока эта волна приближалась, защитники города, гораздо менее многочисленные, но не менее воинственные, побежали к воротам. Те из защитников, у кого имелась лошадь, вскочили в седло и поскакали к воротам, опережая пехотинцев.
Джон Грант одним из первых прибыл к бреши вслед за Джустиниани. Вместе с императором, который лично явился к воротам Святого Романа, они взобрались на кучу каменных обломков и увидели нечто ужасное. Османы, похоже, не ограничились тем, что соорудили за прошедшую ночь эту башню. Под покровом темноты они сделали еще кое-какие приготовления: довольно широкий участок рва был уже почти доверху засыпан камнями и землей.
Хотя в стене сейчас была пробита самая большая из всех брешей, она была очень быстро заполнена, но не землей и бочками, а защитниками города. Они встали плечо к плечу и приготовились встретить турок, первые из которых вскоре добежали до них, угрожающе держа свои кривые сабли над головой. Джон Грант покосился на людей, стоящих рядом с ним. Он узнал среди них Минотто из Венеции, доспехи которого были покрыты вмятинами от ударов кривой саблей и топором, и трех братьев Боккиарди – Антонио, Паоло и Троило, которые прибыли в Константинополь из Генуи за свой счет и со своим оружием.
Затем Джон Грант посмотрел на Джустиниани, находившегося, как всегда, в первых рядах и приподнимающегося на цыпочках, словно он готовился броситься вперед; на дона Франсиско де Толедо – капитана-авантюриста из Кастилии, который имел богатый воинский опыт. На мгновение он ощутил прилив гордости и подумал, что может сейчас заплакать, – но не от страха, а от любви. Юноше вдруг подумалось, что если ему суждено сегодня умереть, то пусть он умрет здесь, рядом с этими людьми, его боевыми товарищами. Ведь они становились храбрецами благодаря любви к ним со стороны соотечественников и верили в то, что погибнут не зря, даже если их ждет сокрушительное поражение. Они были готовы отдать все свои силы и бороться до последнего дыхания, и не сомневались в том, что даже их безжизненные тела, рухнувшие наземь, станут последней преградой, отделяющей врага от тех, кого они защищают.
Впереди нападающих бежал тяжеловооруженный воин-янычар. Его металлический нагрудник поблескивал, а вдоль края клинка плясали вспышки солнечного света. Джустиниани встретился с ним взглядом и прыгнул вперед, но валун, на который он приземлился, оказался неустойчивым, и генуэзец потерял равновесие в тот момент, когда янычар уже оказался возле него и замахнулся на него саблей. Джон Грант резко поднял свой меч и рванулся вперед, к Джустиниани, надеясь успеть парировать удар янычара и спасти генуэзца. Однако как бы быстро ни двигался шотландец, его заметно опередил Паоло Боккиарди, который, словно проворный, бросившийся за добычей кот, взмахнул своим прямым мечом подобно тому, как машет топором дровосек, и перерубил обе ноги янычара выше колен.
Сразу же за этим первым кровопролитием тулпы нападающих и защитников города схлестнулись друг с другом, лихорадочно орудуя мечами и копьями. Джон Грант рубил мечом и чувствовал, как под его клинком рассекается плоть и раскалываются кости. Краем глаза он заметил турецкого воина ростом более шести с половиной футов, который был облачен в очень красивые одежды и явно выделялся ростом и внешностью среди своих товарищей. Свободные края его разноцветного одеяния развевались позади него на ветру. И тут вдруг перед этим верзилой появился, преградив ему путь, другой гигант, но из числа защитников города, и когда они оба остановились и затем стали ходить по кругу, оценивающе присматриваясь друг к другу и тем самым готовясь к поединку, воины обеих противоборствующих сторон, которые находились рядом, тоже остановились и стали таращиться на них, завороженные начинающимся действом – противостоянием двух гигантов.
Те одновременно с огромной силой нанесли удар своим оружием. Меч защитника города и кривая сабля турка столкнулись друг с другом, словно две молнии во время грозы. Сталь зазвенела, и оба воина рявкнули что-то друг другу в лицо. Последовали другие, удачно парируемые удары, пока наконец турок, края одежды которого трепыхались на ветру, словно струйки дыма, не присел и не попытался нанести удар по коленям соперника. Защитник города моментально подпрыгнул, высоко подняв при этом колени, и кривая сабля, пройдя ниже его ступней, не причинила ему никакого вреда. Приземлившись, христианин воспользовался тем, что его противник ненадолго потерял равновесие в результате своего промаха, и занес над турком свой меч, а потом с яростным криком рубанул вниз. Острый клинок угодил между плечом и шеей турка. Удар был нанесен с такой силой, что меч разрубил тело турецкого воина аж до правого бедра, и оно развалилось на две части.
Джон Грант уже хотел было радостно заорать, но в тот момент, когда разрубленное тело убитого турка шлепнулось в пыль, турецкие воины вдруг дружно рванулись вперед и зарубили победителя только что состоявшегося поединка. Его товарищи, разъярившись из-за такой вопиющей несправедливости, набросились на них, надеясь хотя бы отбить тело героя. Однако когда они, в том числе и Джон Грант, стали теснить своих врагов, раздался оглушительный грохот, который заставил их остановиться.
Все они – и нападающие, и защитники города – повернулись и увидели, что османская башня «украсилась» красными и оранжевыми вспышками. Снова послышался грохот: целый град из наполненных черным порохом бочонков с зажженными фитилями был выпущен с крепостной стены с помощью катапульт в основание турецкой башни. Башня эта затряслась и задрожала, словно гигантское дерево, терзаемое бурей, а затем с громким ревом обрушилась, подняв огромное облако дыма и пыли.
Вот теперь-то Джон Грант радостно заорал, и его голос соединился с восторженными криками других защитников Великого Города. А на вершине крепостной стены, ликуя и вопя от радости, танцевали те, кто послал в сторону турецкой башни смертоносный град, разрушивший сооружение противника до основания.
Вдохновленные этим успехом, Джон Грант и его товарищи снова бросились в бой и стали теснить своих врагов. К нимвернулись их энтузиазм и сила – так, как снова вспыхивает уже начавшее угасать пламя при порыве ветра. Воины противоборствующих сторон, поскальзываясь на земле, обильно смоченной кровью, и спотыкаясь о трупы, были охвачены безумной жаждой убийства и насилия, которая, словно колдовские чары, всецело завладела сознанием воинов, вытеснив все остальное. Общим усилием, похожим на один большой выдох, защитники города удвоили натиск, рубя и пронзая мечами турок, и те начали давать слабину.
Там, где раньше раздавались воинственные кличи и ликующие вопли разгоряченных людей, подбадривающих друг друга и призывающих напирать на врага, совершая великие подвиги, теперь были слышны лишь стоны и вздохи уже не верящих в свою победу воинов.
В конце концов атака турок захлебнулась, и они, словно стая птиц, изменившая направление своего полета, вдруг резко повернулись и бросились наутек. Складывалось такое впечатление, как будто всем турецким воинам одновременно пришла в голову одна и та же мысль, и они как по команде отступили к своему лагерю. Защитники города, будучи уже слишком уставшими для того, чтобы преследовать убегающих турок, стали в изнеможении опускаться на колени. Они не падали без сил на землю лишь потому, что обеими руками держались за рукояти своих мечей, которые воткнули острием в залитую кровью землю.
58
Чувствуя себя изможденным – каждый его мускул, можно сказать, стонал от возмущения – и жаждая добраться до мягкого тюфяка, на котором можно было бы развалиться и на время забыть об окружающем мире, Джон Грант отправился обратно к Калигарийским воротам, но узнал там, что турки опять роют какой-то туннель.
«Неужели сегодняшний день никогда не закончится?» – подумал юноша, но ничего не сказал.
Об этом туннеле ему сообщил через посыльного один из помощников Минотто, и, немного задержавшись только для того, чтобы плеснуть себе в лицо холодной водой из ведра, предназначенного для наблюдения за возможной вибрацией, Джон Грант побежал вслед за посыльным.
Солнце, как он знал, к этому моменту уже прошло точку зенита и клонилось к западу, все дальше и дальше от Мраморного моря. Однако небо над Джоном Грантом было покрыто мрачными серыми тучами, и он выругался по поводу столь гнусной погоды, прежде чем заметил уже ставшую привычной картину: люди рыли шахту в земле. Правда, на этот раз они работали очень близко к внешней стене.
– Это, похоже, опасный туннель, – со значением произнес помощник Минотто, тот самый, который прислал гонца.
– Они все опасные, – сказал Джон Грант. – Чем этот отличается от остальных?
– Поверхность воды дрожит во всех сосудах, которые размещены на расстоянии шестидесяти шагов вдоль стены.
– Вдоль нее?
Воин кивнул и посмотрел вниз, на землю, как будто рассчитывал заметить, как начнет дрожать сама земля.
Джон Грант задумался над тем, что он только что услышал. Во все предыдущие разы турки копали туннели прямо под стенами и перпендикулярно к ним, надеясь, по-видимому, докопать до того места, где оборонительные сооружения будут уже далеко позади, и выбраться там на поверхность, чтобы беспрепятственно ворваться в город и застать его жителей врасплох. Если помощник Минотто не ошибся в своей оценке этой очередной попытки подкопа, то, значит, внимание турок теперь переключилось на саму стену.
– Если они сделали подкоп под всей стеной, то стоит им заложить под нее достаточное количество черного пороха – и она рухнет на таком большом участке, какой нам уже не защитить, – сказал Джон Грант.
Помощник Минотто кивнул и от волнения стал покусывать нижнюю губу.
Джон Грант поднял с земли лопату, лежавшую возле края шахты, и уже собирался спуститься в нее, чтобы присоединиться к копателям, как вдруг услышал голос Джустиниани.
– Ты сегодня сделал уже достаточно много, – сказал тот.
Джон Грант повернулся к генуэзцу, лицо которого было не жизнерадостным, как обычно, а мрачным, а на лбу четко прорезались глубокие морщины.
– Ты сражался решительно и умело, – добавил Джустиниани. – Пусть эту работу сделают другие, а ты пойди отдохни. Ты нуждаешься в отдыхе.
Джон Грант отрицательно покачал головой.
– Я должен быть здесь, – твердо произнес он. – Я не смог бы найти себе место, а тем более отдыхать, зная, что они сейчас роют туннель.
Джустиниани улыбнулся, но морщины на его лбу не исчезли.
– Если ты останешься здесь, то и я буду работать с вами.
С этими словами генуэзец взял железную киркомотыгу и первым стал спускаться вниз по лестнице.
В тот момент, когда Джон Грант спустился вслед за ним на дно шахты, копатели внезапно приостановили свою работу и подняли ладони вверх, тем самым призывая к молчанию. Были слышны слабые, но характерные звуки ударов стали о камень. Похоже, прямо под дном шахты вовсю трудились вражеские саперы.
– Нам нужно приготовить греческий огонь, – сказал Джустиниани.
Джон Грант отрицательно покачал головой.
– Лучше этого не делать, – возразил он. – Если под стеной сделан подкоп и в него заложен порох, то риск будет очень большим. Даже если пороха еще нет, пламя спалит все их подпорки. Если же они уже принесли туда порох, то наше пламя сделает за турок всю их работу. Так что в обоих случаях остается только одно – просто вступить с ними в рукопашную схватку там, внизу.
Джустиниани вздохнул и кивнул, согласившись с доводами Джона Гранта, а затем – шепотом и жестами велел передать наверх, что срочно нужен небольшой отряд вооруженных людей. Несколько минут спустя такой отряд был собран. Авангард его расположился в ожидании на лестницах, остальные – у края шахты. Когда все было готово, Джон Грант подал соответствующий сигнал, и копатели стали энергично долбать мотыгами по каменистой породе, все еще отделяющей их от врага. Наконец их мотыги пробили в этой породе отверстие. При тусклом свете ламп они увидели довольно много людей. Джон Грант, холодея от страха, осознал, что турки услышали, что сверху копают, и собрали воинов, чтобы в случае чего дать отпор.
– За мной! – крикнул шотландец и прыгнул в отверстие.
За ним тут же последовали Джустиниани и полдюжины легковооруженных мужчин. Мечи в тесном пространстве туннелей были абсолютно бесполезными, а потому защитники города бросились на врага с ножами, молотками и деревянными дубинками, утыканными железными гвоздями. Места для маневра в туннеле, конечно же, не имелось, и можно было только атаковать противника в лоб. Джон Грант, продвигаясь вперед, уложил одного турецкого воина, затем второго… Он чувствовал, как сзади напирают его товарищи. И тут вдруг, к своему большому удивлению, он обнаружил, что туннель перед ним вливается в подземное помещение шириной в три человеческих роста. Продолжая сражаться, он заметил деревянные подпорки, поддерживающие потолок, между которыми торчали похожие на изъеденные зубы куски каменной кладки – часть фундамента стены. Хуже того, между подпорками лежали на полу груды мешков, набитых, конечно же, черным порохом и подготовленных к тому, чтобы их подожгли.
Непонятно, по какой причине – то ли в силу усталости после боя возле ворот Святого Романа, то ли из-за прошедшей бессонной ночи, – но органы чувств Джона Гранта в конце концов подвели его, и он, вступив в схватку с находившимся прямо перед ним турецким воином, не заметил, что еще один противник нападает на него сбоку.
Керамбит выпал из руки, когда ему нанесли сокрушительный удар чуть выше шеи. Шотландец рухнул наземь и, уже лежа на спине, почувствовал, как чьи-то руки вцепились в его одежду и волосы и потащили его в сторону от места схватки, в глубину тускло освещенного туннеля, где его уже не смогут отбить товарищи.
Голова закружилась, перед глазами все поплыло, но в последние мгновения перед тем, как его сознание погрузилось в темноту, Джон Грант увидел перед собой лицо Ангуса Армстронга – меткого лучника, убившего его мать и его друга Бадра.
– Ну что же, парень – или мне следовало бы сказать «демон», ибо именно так местные ребята стали тебя называть, – сэр Роберт хотел бы перемолвиться с тобой словечком, если ты не возражаешь, – сказал Армстронг.
59
Михаил Дука опустил глаза и взглянул на свои руки. Он расположился в кресле возле окна в спальне принца Константина, но смотреть через окно на город ему не хотелось. Он и так уже сегодня достаточно насмотрелся на него. Зайдя некоторое время назад в эту комнату, он, к своей радости, увидел, что шторы задернуты и что в комнате темно, если не считать тонкой полоски света, отражающейся от диска из полированной бронзы, который находился возле кровати принца.
Дука только что переоделся в чистые одежды, но его волосы все еще были влажными, а кожа ладоней слегка сморщилась от долгого пребывания в воде. До своего прихода сюда, в покои Константина, он находился возле ипподрома, неподалеку от собора Святой Софии, и сидел там в тщательно подобранном месте, позволяющем хорошо видеть маршрут, по которому должна была пройти процессия.
Император Константин уже устал от нытья и жалоб горожан, их беспрестанных обращений то к одной, то к другой иконе и бесконечного звона целой тысячи колоколов. Во всем этом чувствовались пораженческие настроения и отсутствие надежды на перемены к лучшему. Он, император, родился в городе и в империи, пронизанных слухами так, как мясо пронизано прожилками жира. Он понимал бездонную глубину их веры и потребность в утешительных заверениях со стороны различных оракулов.
Более того, император с пониманием и терпимостью относился к их безвольному фатализму.
Но всему есть предел, и он в конце концов сказал своим советникам (в том числе и Дуке), что необходимо сделать для того, дабы взбодрить горожан, пока они полностью не растворились в своем пессимизме и не превратились в пыль под их собственными ступнями.
Император заявил, что пришло время снова обратиться к самой Деве Марии. Константинополь ведь держала в своих ладонях, сложенных в виде чаши, именно Дева Мария, и люди должны увидеть, что она все еще с ними. Поэтому он распорядился, чтобы по улицам города у всех на виду пронесли самую ценную икону города, а именно икону Девы Марии, которую называли «Одигитрией» (что означает «Путеводительница»).
Дука был очень толстым, и прошагать несколько миль по улицам города вместе с толпой взывающих к небесам верующих ему было не под силу. Времена, когда он запросто мог преодолеть такой путь, давным-давно прошли, и поэтому он решил воздержаться от участия в процессии и просто расположился там, где можно было без помех поглазеть на нее со стороны. Он уже присел под крышей одного из древних строений ипподрома, когда до него донеслись характерные звуки приближающегося шествия.
Утро поначалу было погожим – немного пасмурным, но довольно теплым и без сильного ветра. Дука сидел в своих роскошных одеждах на широкой каменной ступеньке, думая о том, что с этого места должен открываться неплохой вид на процессию. К слову, он был здесь не один: вокруг него собрались сотни горожан, и, услышав, что по направлению к ним уже несут икону Девы Марии, они стали, как водится, причитать и, запрокидывая голову, обращаться с молитвами к небесам. Наконец показалась процессия, во главе которой шел священник, облаченный в роскошное церковное одеяние. В руках у него был золотой крест, украшенный множеством драгоценных камней. Позади него шли другие священники и монахи, а за ними – мужчины, женщины и дети. Все они либо пели церковные гимны, либо молились, либо делали и то, и другое.
Одигитрия представляла собой удивительное зрелище – изображение в натуральную величину, написанное, как считалось, самим святым Лукой. Эту икону несли на деревянной подставке двенадцать монахов, и при их приближении могло показаться, что они и вправду несут саму Деву Марию.
Все, казалось, происходило, как и положено: верующие покачивались из стороны в сторону в такт друг с другом и в такт движению кадил, из которых поднимались облачка ладана, а голоса множества людей синхронно то усиливались, то ослабевали. Не было никакого сомнения, что сам Бог услышит эти песнопения и молитвы и посмотрит сверху вниз на своих детей любящими глазами. И вдруг раздался оглушительный удар грома, от которого у Дуки щелкнули зубы и встали дыбом волосы. Это было настолько неожиданно и произвело такое умопомрачительное впечатление, как если бы нарисованная Дева Мария вдруг высунула язык и, оттянув верхний край своей одежды, показала голую грудь.
Женщины и дети закричали от ужаса. Монахи, несущие на своих плечах Одигитрию, все как один вздрогнули и пригнулись, в результате чего икона, пошатнувшись, соскочила с подставки и упала на землю у их ног.
Женщины стали уже не просто кричать, а отчаянно вопить. Мужчины – тоже. Что могло быть более наглядным свидетельством того, что Дева Мария не желает находиться здесь? Дука, широко раскрыв рот и глаза, поднялся со ступени. С трудом сдерживая волнение, он наблюдал, как монахи опустили подставку на землю и обступили икону, упавшую прямо в грязь. Однако не успели они приподнять ее – не говоря уже о том, чтобы снова поставить икону в вертикальное положение, – как небо содрогнулось от второго удара грома и на город обрушились градины размером с горошину вперемежку с целыми потоками холодного проливного дождя. Уже через пару минут улицы превратились в ручьи и реки, а саму Одигитрию едва не накрыло полностью мощным потоком воды.
Дука стоял, словно окаменевший, не замечая ни проливного дождя, ни града. Он молча смотрел на то, как мужчины, женщины и дети поскальзываются и падают, как некоторых из них сбивают с ног неудержимые потоки воды. Монахи и прочие горожане отчаянно пытались поднять упавшую Деву Марию, но все их усилия были тщетны.
Потрясенный до глубины души, Дука смотрел на все это, пока холод в конце концов не проник сквозь его одежду и не вызвал у него озноб. Придя в себя, он отвернулся от этой ужасной сцены и стал раздумывать, как бы ему теперь добраться до дворца…
Принц выслушал, не перебивая, рассказ своего друга о событиях, произошедших утром. Вообще-то, он имел обыкновение перебивать своего бывшего наставника и поддразнивать его, однако распространившееся по всему городу ощущение надвигающейся беды не обошло и Константина. Прошло несколько минут после того, как Дука закончил свой рассказ и замолчал, но Константин, тоже ничего не говоря, лишь наблюдал за тем, как Дука разглядывает свои ладони, начав с их тыльной части и затем переключившись на линии их внутренней стороны.
– Я старею, – после довольно продолжительной паузы произнес Дука. – Я смотрю сейчас на свои руки и вижу руки своего отца. Такое ощущение, как будто он все время находился глубоко внутри меня, а теперь дает о себе знать.
– Ты любил его? – спросил принц.
Дука перестал разглядывать ладони, положил руки на мясистые ляжки и, вздохнув, ответил:
– Да, любил.
– Значит, нет ничего плохого в том, что он напоминает о себе, – сказал Константин.
– Я вижу и его лицо тоже. Вижу его каждое утро, когда бреюсь и смотрю в зеркало.
– Значит, ты вспоминаешь о нем каждый день, – спокойно произнес Константин. – Я уверен, что он обрадовался бы, если бы узнал, что его сын частенько думает о нем и, стало быть, не забывает его.
– Я все помню, – сказал Дука. – Твой отец хочет иметь записи о происходящих событиях, которые он мог бы прочесть сам и передать будущим поколениям, и поэтому он заставляет меня записывать то, что я увидел и про что я узнал. Мы с тобой держим правду обо всем этом в своей голове. Другие люди будут держать ее на пергаментах, сложенных на пыльных полках. Пока страницы помнят, сами эти люди могут позволять себе забыть.
– Может, тебе следует рассказать это пчелам? – предложил Константин.
– Пчелам? – удивился Дука.
Константин улыбнулся.
– Такую идею мне подкинула Ямина. Она говорит, что пчеловодам приходится рассказывать своим пчелам обо всем, а иначе они почувствуют, что ими пренебрегают, и улетят искать того, кто будет уделять им больше внимания.
– Никому не нравится быть позабытым, – вздохнул Дука. – Преданным забвению.
– А Ямина была там? – спросил принц. – Она была там, когда Дева Мария упала?
Дуку, по-видимому, удивил этот вопрос, и он некоторое время ничего не отвечал.
– Если и была, то я ее не видел, – наконец вымолвил он.
– А каким я останусь в твоей памяти? – спросил принц. – Что ты написал о принце Константине из дома Палеологов?
– Я написал все, что мне известно, – заявил Дука. Он, похоже, почувствовал себя более уверенным, когда они перешли на привычную для него тему. – Я ведь, в конце концов, историк. Если я не сделаю записей о чем-то, не положу эти записи в надежное место и не передам их затем кому-нибудь другому, то получится так, как будто этого никогда и не было. И как будто тебя никогда не было.
– Так мрачно, Дука, – заметил принц.
– А сейчас разве не мрачные времена?
Константин, ничего не ответив, стал разглядывать свои ладони.
Видя, что взгляд принца обращен не на него, Дука почувствовал, что сможет рассказать ему кое-что еще. Константин, правда, вскоре снова стал смотреть на своего старого друга и наставника, причем еще внимательнее, чем раньше, но Дука упорно отводил от него глаза, стараясь не встретиться с ним взглядом. Он рассказывал Константину о том, что ему приказал сделать император.
Константин слушал Дуку молча. В какой-то момент он потянулся рукой к ящику, где лежали изготовленные им фигурки, и выбрал среди них толстого турка – того самого, который всегда играл роль Али-бея в истории, так полюбившейся Ямине. Однако на этот раз принц взял маленькие ножницы и отрезал феску. Теперь отбрасываемая этой фигуркой тень стала более-менее похожа на его старого наставника и к ней присоединились на потолке силуэты искалеченного юноши, красивой девушки и злого императора.
Пока Дука объяснял, что ему приказали просмотреть все свои записи и удалить все упоминания об искалеченном наследнике трона империи, чтобы в грядущие годы стало казаться, что его на белом свете никогда и не было, Константин, двигая тени своими ловкими руками, заставил юношу и девушку поцеловаться, но только один раз и легонько, а затем силуэт императора стал теснить юношу, и тот, задрожав, исчез.
– Император смотрит в будущее, – продолжал Дука. – И он не видит никакого будущего для империи, если управление ею перейдет к тебе.
– То есть к калеке, – сказал Константин, продолжая манипулировать тенями.
– Он всегда любил тебя, Коста.
– Недостаточно сильно, – возразил Константин.
– Он хочет, чтобы какие-то отростки древа его рода продолжили жизнь в безопасном месте. Он и сам, возможно, уедет отсюда в надежде когда-нибудь вернуться и, наверное, пришлет вместо себя кого-нибудь другого. Но кто бы ни вернулся – он сам или какой-то преемник, – это должен быть…
– …это должен быть человек, способный самостоятельно ходить, а не калека, которого возят на стуле с колесами. Мне все понятно, Дука. Можешь даже не сомневаться. Сделай со своими записями то, что ты должен сделать.
Во время всего этого разговора тень от фигурки наставника располагалась на потолке спиной к тени от фигурки принца – так, чтобы потом можно было считать, что этого разговора никогда и не было.
Дверь спальни широко распахнулась, и пока вооруженные люди подходили к кровати, а Дука упорно смотрел в сторону, на стену, молодой принц медленно поднял руки перед собой – то ли для молитвы, то ли в знак того, что сдается.
60
Когда Джон Грант пришел в сознание, он увидел, что сидит на полу шатра возле его центрального шеста и что его руки крепко связаны у него за спиной.
У него очень сильно болела голова, и он с удовольствием потер бы ушибленное место чуть повыше шеи, куда угодил удар. Впрочем, эта боль не вызывала у него большого беспокойства. Что всерьез встревожило его, когда он открыл глаза и посмотрел вокруг, так это лица находящихся перед ним людей.
В тени потухшего костра сидел на табурете постаревший за все эти прошедшие годы, но все еще крепкий, как выдержанная древесина, сэр Роберт Джардин из Хокшоу. Рядом с ним на полу сидели, скрестив ноги, еще трое человек – помоложе. Один из них показался Джону Гранту знакомым, но он не смог вспомнить, как его зовут.
Ближе всего к нему сидел на низком трехногом табурете Ангус Армстронг. У него на коленях лежал большой лук, к тетиве которого была приставлена стрела. Армстронг заговорил первым.
– Ну вот ты и пришел в себя, – сказал он. – Как ты поспал?
– Как младенец, – ответил Джон Грант.
– Как младенец, – повторил Армстронг. – Ну что же, именно это мы и хотели услышать.
– Я удивлен тому, что проснулся живым в твоей компании, – с иронией в голосе произнес Джон Грант. – Прямо-таки разочарован.
Армстронг улыбнулся и кивнул.
– Могу себе представить, – сказал он. И, сделав паузу для выразительности, добавил: – Я намеревался поговорить с тобой о твоей матери.
Джон Грант внимательно посмотрел на Армстронга, лицо которого, как показалось юноше, оставалось невозмутимым.
– Какой именно? – спросил он.
Армстронг наморщил нос.
– Я, наверное, ударил тебя сильнее, чем хотел, – сказал он. – Ты помнишь свою мать? Помнишь Джесси Грант?
Джон Грант ничего не ответил, а лишь принялся напряженно размышлять о том, к чему может клонить сейчас Армстронг.
– Так вот, первым делом я хотел бы сказать, что, когда я впервые поимел ее, эту женщину звали Джесси Хантер, – продолжал Армстронг. – Затем, конечно же, когда я взял ее к себе в качестве жены, она стала носить фамилию Армстронг. Она была хорошо мной объезжена, могу тебя уверить. Аж до изнурения.
Джону Гранту было трудно представить, чтобы его мать легла в постель с таким вот мужчиной – мужчиной, который впоследствии убил ее и Бадра и который уже долгие годы преследует его самого.
– Мы все делаем ошибки, – сдержанно произнес Джон Грант. – Моя мать – не исключение.
– Ошибку вообще-то сделал я, – сказал Армстронг. – Эта никудышная сучка оказалась бесплодной.
Он впился взглядом в Джона Гранта, ожидая от юноши какой-нибудь реакции, но его пленник оставался невозмутимым и спокойно смотрел на него, не выдавая своих чувств.
– В конце концов я вышвырнул ее, – продолжил Армстронг. – Вышвырнул ее из своего дома.
Он открыл рот и с помощью большого и указательного пальца вытащил кусочек пищи, застрявший в зубах. Посмотрев на него секунду-другую, он швырнул его в костер.
– А затем появился твой любящий отец, который привез тебя, и подобрал то, что выкинул я. Приобщился к ее уже изношенному влагалищу.
– Я думаю, что они получили довольно много удовольствия от всех тех дюймов, которые оказались за пределами изношенной части, – сказал Джон Грант.
Сэр Роберт фыркнул и рассмеялся, а Армстронг сердито заморгал.
– Интересно, знал ли ты… – вдруг произнес Армстронг и замолчал.
– О чем? – спросил Джон Грант.
– О том договоре, который они заключили.
Взгляд Джона Гранта оставался абсолютно бесстрастным.
– Думаю, ты не знал, – сказал Армстронг. – Да, думаю, ты не знаешь, что Грант заплатил этой сучке за то, чтобы она взяла тебя к себе.
Несмотря на то что Джон Грант оставался внешне невозмутимым, слова Армстронга все же задели его, причем достаточно больно, и он задался вопросом, говорит ли этот человек ему правду или врет. Немного подумав, он решил, что никогда этого не узнает.
– Насколько мне известно, твой отец приехал в Хокшоу с тобой и с кошельком, набитым монетами, – сказал Армстронг. – Тебя отдали под ее опеку, а кошелек она спрятала подальше. Любовь к тебе со стороны твоей матери была куплена и оплачена.
В голове Джона Гранта появилась мысль о том, какие чувства ему следовало бы сейчас испытывать, но он не нашел ответа. Он продолжал смотреть не моргая в лицо своего собеседника.
– Кстати, а что ты с ней сделал, а? – спросил Армстронг. Ему, похоже, уже надоела затеянная им игра. – Что ты сделал с ней после того, как я пронзил ее своей стрелой?
Джон Грант вспомнил еще одну могилу в еще одном темном уголке его прошлого и на несколько мгновений задумался. Защищали ли те колючки, которыми они с Бадром накрыли тело Джесси, все прошедшие годы так, как, по словам его старшего друга, должны были ее защищать. Впервые за долгое время ему захотелось поехать домой, на свою родину, и почувствовать, как на лицо капает тамошний мелкий дождь.
– Меня больше интересуют твои планы относительно меня, – заявил он.
– Ну, об этом тебе надлежит услышать от моего господина, – сказал Армстронг.
– И кто сейчас выступает в роли этого пса? – спросил Джон Грант.
Он бросил взгляд на бывшего арендодателя своей матери. Тот, что-то пробурчав, приподнялся с табурета и подошел поближе к костру. Скрестив руки на груди, он посмотрел на Джона Гранта так, как будто тот был животным, выставленным на продажу на рынке.
– Ты доставил мне немало хлопот, – наконец произнес он. – Если бы не преданность по отношению ко мне со стороны самого лучшего из всех охотников, которых я когда-либо знал, твой след еще давным-давно был бы для меня навсегда утерян.
– Меня тренировали лучшие из лучших, – сказал Джон Грант.
– Видимо, не самые лучшие, если судить по тому, чем все закончилось, – заметил сэр Роберт. – Но это не имеет значения. Мне, признаться, больше хотелось бы послушать про Жанну д’Арк и про то, каким образом ты умудрялся доставлять столько проблем султану.
Джон Грант поерзал, пытаясь выпрямить спину, упирающуюся в центральный шест шатра.
– Мне для этого нужны мои руки, – сказал он.
– Думаю, не нужны, – заявил сэр Роберт. – Мне вообще-то очень хочется сейчас приказать Армстронгу отрубить тебе их, но я дал слово, что передам тебя целым и невредимым. А теперь скажи мне, где она.
– Хотел бы я это знать, – сказал Джон Грант.
Сэр Роберт скривил губы, невольно обнажив свои гнилые и изъеденные зубы, похожие на пеньки. Он провел по этим пенькам языком и, тяжело сглотнув, произнес:
– Видишь ли, если ты поможешь моим людям найти и схватить ее, то я, возможно, захочу отпустить тебя на все четыре стороны. Я выполню свое обещание туркам, если мне это будет выгодно, но для меня все же важнее заполучить эту женщину.
– Этого не произойдет, – отрезал Джон Грант.
– Я предполагал, что ты так скажешь, – сказал сэр Роберт. – Утрата одной матери может считаться единичным несчастным случаем, но вот двух…
– Стало быть, тебе известно… – пробормотал Джон Грант.
– Известно что? – спросил сэр Роберт. – О твоей матери? О твоей настоящей матери?
Джон Грант встретился с ним взглядом и увидел в его глазах неизбывную злобу, которая плавала в них, как щука в глубокой воде.
– Жанна д’Арк была моей, – сказал сэр Роберт. – До того, как твой отец вонзил в нее свои когти и свой отросток, она была моей.
– Судя по ее рассказам, все происходило несколько иначе, – заметил Джон Грант.
Ангус Армстронг медленно ходил туда-сюда по темному шатру. Джону Гранту вдруг пришла в голову мысль, что он впервые видит этого человека не на открытом воздухе. Армстронг был похож сейчас на охотничью собаку, случайно оказавшуюся взаперти.
– Ты хоть представляешь себе, чего она стоила тогда, в то время? – спросил сэр Роберт. – Тебе когда-нибудь приходило в голову, какую ценность может представлять собой… не знаю, как и назвать подобное существо… живая святая?
На лице Джона Гранта появилось вопросительное выражение, и сэр Роберт подскочил к нему, как кот, пытающийся схватить мышь.
– Ты что, не знаешь? – заорал он. – Те французы искренне верили, что наша дорогая Джинни Черная является орудием Господа Всемогущего!
Сэр Роберт прикрыл себе рот ладонью, вдруг осознав, что он кричит.
– Джинни Черная разговаривает с самим Богом! Неужели тебе неизвестно об этом? – спросил он.
Джон Грант молчал.
– Ну что же, парень, тогда знай: я не нуждаюсь в том, чтобы Бог или кто-нибудь еще указывал мне, что следует делать. И мне уж точно не нужно, чтобы он показывал мне путь к земле обетованной.
Он замолчал и плюнул на пол шатра, словно бы очищая свой рот от чего-то гнилого.
– Я знал, чем могла стать для меня твоя мать, – сказал он. – Она могла стать сундуками, наполненными золотыми монетами, и красивыми поместьями в Англии. Она была моим пропуском, при помощи которого я мог пройти через двери, ведущие к самому королю Генриху.
– А ты уверен в том, что не слышишь никаких голосов? – спросил Джон Грант.
Сэр Роберт холодно посмотрел на него. Он, сэр Роберт, уже состарился, его зубы истерлись и стали похожи на пеньки, а волосы повыпадали. Его суставы побаливали, а вместе с ними побаливало и его сердце. Он вспомнил о том, кем и чем эта женщина могла стать для него двадцать с лишним лет назад, когда он был все еще молодым и когда его член будил его по ночам не только для того, чтобы пойти помочиться. Одно дело было жить, даже не мечтая ни о чем, и совсем другое – видеть, как твои мечты уже почти становятся явью, а затем вдруг куда-то исчезают, как малознакомый человек неожиданно исчезает в толпе.
– И что теперь? – спросил Джон Грант.
Сэр Роберт, выведенный из задумчивости прозвучавшим вопросом, увидел, что он снова смотрит в лицо юноши.
– Когда-то давно мне был нужен твой отец, – сказал он. – Я хотел надеть на него поводок и заставить привести меня к ней.
Джон Грант закрыл глаза, переключая свое внимание на восприятие движущейся под ним планеты.
– А теперь у меня есть ты. Наконец-таки – наконец-таки! – у меня есть ты.
– Я не выведу тебя даже из этого шатра и уж тем более не приведу куда-нибудь еще, – спокойно произнес Джон Грант.
Его глаза все еще были закрыты, и он был сосредоточен на своих ощущениях от вращения планеты.
– Ты не понял, что я собираюсь сделать, – сказал сэр Роберт. – Ты будешь моим подарком этому султану турок. Я пообещал тебя ему, а он взамен тоже мне кое-что пообещал.
– Ты веришь ему? – спросил Джон Грант.
– Аллах велик, – сказал сэр Роберт Джардин.
61
Притаившись за откидной матерчатой дверью шатра, Ленья сидела на корточках и прислушивалась к доносящимся изнутри голосам. Она была облачена в просторные черные одежды, снятые с тела одного из убитых защитников города. Большой капюшон почти полностью скрывал ее лицо.
Услышав о том, что произошло с Джоном Грантом, она без особого труда – и уже не в первый раз – выбралась из осажденного города. Из Константинополя текли струйками беглецы, те из его жителей, у которых хватило смелости и силы воли попытаться перебраться в какое-нибудь безопасное место. Стражники внимательно присматривались к тем, кто пытался пробраться в город, но они зачастую не удостаивали даже и взглядом тех, кто тихонько пытался из него удрать, считая их трусливыми крысами (кем они, в общем-то, и были).
Ленья, с усмешкой слушая сэра Роберта Джардина, задалась вопросом, ухудшил ли ее «подарок» запах из его рта или же, наоборот, даже улучшил…
– Допустим, я поверил в то, что тебе неизвестно, где сейчас находится Джинни Черная, – сказал сэр Роберт. – Тогда, может, расскажешь мне о своем отце? Что стало с Патриком?
– Умер, – коротко ответил Джон Грант.
– В самом деле?
– И ты говоришь, что эта охотничья собака – самая лучшая из всех? – усмехнувшись, сказал Джон Грант. – Думаю, ты мог бы найти себе кого-нибудь получше.
– Умер где? – спросил сэр Роберт, не обращая внимания на иронию, прозвучавшую в словах юноши. – И как?
– Ты причинял ей боль?
– Кому?
– Джинни Черной, – сказал Джон Грант. – Ты причинял ей боль?
Ленья почувствовала, как ее сердце сжалось.
– Тебе следовало бы спросить у нее, было ли ей больно, – ответил сэр Роберт.
Джон Грант, жаждая узнать правду, внимательно смотрел на своего собеседника, когда тот произносил эти слова.
– Иногда… иногда я вспоминаю вкус ее кожи, – задумчиво произнес сэр Роберт и тут же замолчал, словно бы смутившись от своих собственных воспоминаний.
Полузабытые образы, долго не приходившие на ум, чаще всего так или иначе трансформируются, и сейчас, вспоминая то время, которое он провел наедине с этой женщиной, сэр Роберт с удивлением обнаружил, что в первую очередь он представил себе ее глаза.
– Голубые… – сказал он. Злонамеренность ненадолго исчезла из его сознания, уступив место воспоминаниям, и он снова направил свой мысленный взор на то, что у него когда-то имелось, – так вор смотрит на свою бывшую добычу. – У нее были голубые глаза…
Ленья так сильно напряглась, подслушивая разговор, доносившийся до нее из шатра, что не заметила приближающейся к ней фигуры, пока чьи-то пальцы не взяли ее легонько за локоть.
Она повернулась, сжав в руке нож, и увидела женщину, которая была одета примерно так же, как и она сама. Уже давненько никому не удавалось подкрасться к ней вот так незаметно. Она тут же мысленно списала это на свою усталость или, возможно, возраст, прости Господи. Тем не менее ее впечатлила способность этой женщины передвигаться так тихо.
Женщина, ничего не говоря, просто подняла руки ладонями вверх в знак своих мирных намерений.
Ленья приложила палец к губам и, жестом показав этой женщине следовать за ней, привстала и, пригнувшись, отошла от шатра к стоящей неподалеку тяжело нагруженной повозке, за которой было особенно темно.
– Qui êtes-vous?[37] – спросила Ленья.
– Vous êtes venus pour le diable[38], – сказала женщина.
Она была моложе Леньи, но на ее лице виднелись явные следы того, что ей довелось пережить не один очень тяжелый год.
– Je peux vous aider, si vous me laissez[39], – сказала она.
Все еще пребывая в смятении от того, что не заметила, как к ней приблизилась эта женщина, Ленья, сама того не осознавая, заговорила по-французски, и эта женщина ответила на том же языке.
– Как у вас получается понимать меня, мусульманка? – спросила она.
– Я была воспитана при дворе султана, – сказала она. – Он отличается образованностью и требует того же от тех, кто находится в его окружении. Я умею говорить и на языке генуэзцев, если вы предпочитаете этот язык, а также на языке русов.
– А с какой стати я стану вам доверять? – спросила Ленья. – И почему вы хотите помочь мне – своему врагу?
– Вы были обращены ко мне спиной, когда я подошла к вам только что, – сказала она. – Если бы я намеревалась причинить вам вред, я уже вполне смогла бы это сделать.
Она протянула вперед руку, и Ленья заметила, что она сжимает в ладони какое-то колющее оружие.
– Как вас зовут? – спросила Ленья.
– Хиляль, – ответила мусульманка. – Люди говорят, что Мехмед намеревается содрать кожу с вашего демона живьем.
– Внутри того шатра есть один мужчина, который очень метко стреляет из лука, – сказала Ленья. – Всех остальных я легко могу перехитрить, но не его.
– Я помогу вам освободить вашего друга, – твердо произнесла Хиляль.
– Он – мой сын, – добавила Ленья.
– Тогда я с еще большим желанием постараюсь вам помочь, – пообещала Хиляль. Ее глаза сверкнули.
– Объясните мне почему, – попросила Ленья.
– Этот султан – мой враг, – сказала Хиляль. – Он послал своего человека, чтобы тот утопил моего единственного сына – младенца, приходящегося Мехмеду единокровным братом. Я нашла ребенка почти мертвым в его ванне. Я вернула его к жизни своим собственным дыханием, альхамдулиллах, и мы убежали – маленький Ахмет и я. Сейчас я на попечении у своего отца. У него же находится и мой сын. Мы приехали сюда из Эдирне, столицы султана, вместе с теми, кто сопровождает войско. Я поклялась нанести ответный удар, чтобы отомстить за своего сына. Вы говорите, что тот, кого они называют демоном, – это ваш сын? Люди Мехмеда боятся его, как злого духа, а то, что печалит султана, наполняет мое сердце радостью. Я пришла сюда, чтобы попытаться освободить его своими силами и дать ему возможность и дальше докучать Мехмеду. И тут вдруг я обнаруживаю женщину, которая тоже хочет освободить этого человека. К тому же он ее сын! Нас свел сам Бог.
Ленья потянулась к Хиляль и взяла ее за руку.
– Как вы можете мне помочь? – спросила она.
Прежде чем Хиляль успела что-то ответить, Ленья, опустив взгляд, увидела собственную тень. Получалось, что, пока они разговаривали, солнце уже потихоньку начало выходить из-за линии горизонта.
Она повернулась в сторону шатра и поняла, что они опоздали: из шатра появился Ангус Армстронг, который вел за собой Джона Гранта. Затем вышли и все остальные.
Армстронг держал за один конец длинный деревянный шест, ко второму концу которого были привязаны руки Джона Гранта. А еще у пленника были связаны ноги чуть ниже коленей, и поэтому он мог передвигаться только маленькими шажками.
– Они ведут его к Мехмеду, – прошептала Хиляль. – Вы должны пойти со мной.
62
Принц Константин находился в абсолютной темноте. Его руки были связаны, но не за спиной, а перед животом, да и то как-то небрежно. Воины, которые пришли за принцем, надели ему на голову капюшон и, посадив на стул с колесами, вывезли его из комнаты. Пройдя по каким-то коридорам и спустившись по каким-то лестницам, они оставили принца одного на холодном полу, по-видимому решив, что искалеченные ноги удержат его на одном месте лучше любых оков. Прежде чем уйти, они стащили с его головы капюшон, но темнота здесь была такой кромешной, что Константин не чувствовал разницы в том, открыты ли его глаза или закрыты.
Раньше он думал, что хорошо знает дворец со всеми его коридорами, залами, внутренними дворами и галереями, но его, по всей вероятности, специально очень долго возили кругами, чтобы сбить с толку. Поэтому Константин не имел ни малейшего представления о том, в каком из дворцовых помещений, в совокупности представляющих очень сложный лабиринт, он сейчас сидит взаперти.
Его оставили в сидячем положении, прислонив к неровной каменной стене. Здесь было довольно холодно. Вскоре принц почувствовал, что тепло уходит из его тела в камень, и задался вопросом, насколько сильно он может тут замерзнуть. Чтобы как-то отвлечься, он откинул голову и попытался заставить себя заснуть, чтобы, возможно, увидеть сон о том, как он летит высоко-высоко.
Однако его мысли снова и снова обращались к Ямине и к тому, как же она все-таки выйдет замуж (по-видимому, не за него). Прежде чем воины увезли его, Константина, Дука очень долго говорил, выжимая самого себя, как пропитанную жидкостью губку, пока в этой губке не осталось ни одной капли. Константин был уверен, что его наставник опрометчиво позволил себе слегка нарушить данные ему указания и что никто вообще-то изначально не намеревался сообщать принцу о планах императора относительно обеспечения безопасного будущего для его рода. К чести Дуки, он даже не стал просить принца не говорить никому о том, что он, Дука, ему рассказал.
Когда воины пришли за Константином, ему подумалось, что он не смог бы – да и не захотел бы – выдать и тем самым поставить в очень трудное положение человека, который так долго был его другом.
Хотя приготовления к свадьбе продолжались, Ямина куда-то исчезла. Дука рассказал, что ее, дабы она ничего не отчебучила, решили подержать взаперти в тюрьме Анемас (еще более темной дыре, чем та, в которой оказался сейчас он, Константин), но Ямина оттуда сбежала. Точнее говоря, ее освободил таинственный незнакомец, который сумел справиться с тремя вооруженными людьми, известными своим воинским мастерством даже самому императору. Еще более удивительным было то, что этот незнакомец не только одолел в одиночку троих воинов, но и умудрился при этом не убить и не ранить их, а только оглушить.
Константину подумалось о том, какой удивительный спектакль он мог бы подготовить и показать, и его тонкие пальцы стали шевелиться в темноте по мере того, как он воображал себе, как изготовит фигурки и заставит их плясать и сражаться на фоне бледно-голубого неба, нарисованного на потолке над его кроватью.
Затем он переключил свое внимание на ощущения, которые периодически возникали в его ногах. Сейчас он чувствовал в них покалывание и тепло. Задержав дыхание и сжав кулаки так, что от ногтей на его ладонях выдавливались полумесяцы, Константин концентрировал все свои силы на том, чтобы пошевелить пальцами ног. И ему это удавалось! Он попытался найти для себя в этом удовольствие и помечтать о том, что это могло бы означать, но здесь, в темноте, в каком-то подвальном помещении дворца, было трудно увидеть в этом покалывании что-то другое, кроме жестокого поворота судьбы… А еще он ощущал боль, довольно сильную и постепенно нарастающую. Ему подумалось о том, что он, возможно, умрет здесь от жажды и это мрачное помещение станет для него могилой. Но эту мысль тут же сменяла другая: зато теперь он уже мог шевелить пальцами ног!
Воины сказали, что они еще вернутся, придут за ним, что его просто нужно подержать некоторое время там, где его никто не увидит, – только и всего. Он, закрыв глаза, понаблюдал за тем, как на внутренней стороне его век появляются и исчезают малюсенькие вспышки света. Ему снова захотелось заснуть и увидеть во сне, как он летает…
Когда принц проснулся, он не смог даже приблизительно предположить, как долго он спал. Он открыл глаза и обнаружил, что по-прежнему находится в темноте. Он попытался мысленно взглянуть на себя со стороны и увидел одну лишь безысходность. Он был беспомощным, как только что родившийся ребенок, и ему вдруг стало страшно.
Он достойно пережил все эти нелегкие годы – годы, которые заполнили собой пропасть, отделяющую отрочество от зрелого возраста. Другие люди изливали свое горе по поводу его увечья на него же или вокруг него, а он всегда оставался внешне спокойным и невозмутимым. «Стоик» – вот как его стали называть. Он даже слышал, как люди шептались о нем, и в их голосах чувствовалось восхищение. Стоик – это тот, кто умеет держать себя в руках даже тогда, когда на него обрушиваются те или иные беды.
Константин подумал о прогулках, которые он не совершил, и об играх, в которые он не поиграл. Он подумал о времени, в течение которого ему пришлось лежать среди хлопковых простыней и шелковых подушек на кровати – лежать сначала в течениенескольких дней, которые затем превратились в недели, месяцы и годы. Он подумал о тенях на потолке. Он подумал о девочке, которая постепенно выросла и стала девушкой у него на глазах и которой он рассказал так много историй о каких-то других людях.
Он почувствовал на своих губах что-то соленое и осознал, что плачет и что ему уже больше не нравится находиться в темноте.
63
– Дерзость капризного ребенка, – сказал император Константин. – Она шлет послание? Мне?
Елена изучила характер своего любовника во всех его проявлениях, а потому знала, что его гнев – это не буря, а так, вспышка молнии. Нужно просто молча слушать – и гнев быстро уляжется.
Император сердито поджал губы. Его темные глаза поблескивали под бровями, как драгоценные камни.
– Однако я вынужден признать, что, похоже, эта девушка может оказаться очень даже подходящей для того, чтобы осуществить нашу затею, – добавил он.
– Почему это? – спросила Елена.
Она и сама уже знала почему, но лучше было услышать это из его уст.
Они находились вдвоем в тронном зале. Император пришел поговорить с ней, как только до него дошло это известие. Перед этим он молился вместе с некоторыми горожанами в церкви Христа Спасителя в Полях – там, где теперь находилась Одигитрия. После того как во время внезапно налетевшей бури Одигитрия шлепнулась наземь, верующие едва не пришли в полное отчаяние. Горя желанием как-то подбодрить их или же, по крайней мере, разделить их религиозные треволнения, он стал часто молиться именно в этой церкви. К нему туда прибежал посыльный от его сожительницы, и он, император, тут же покинул церковь и поспешил во дворец, в огромный тронный зал.
– Почему это? – снова спросила Елена.
– Ну, если мой сын – бесхребетное существо, то его предполагаемую невесту бесхребетной не назовешь.
Он встал с трона и, сойдя вниз по двум ступенькам, встал рядом с Еленой.
– Повтори мне ее слова, – сказал он. – Точь-в-точь как они были сказаны тебе.
Елена прокашлялась.
– Она сказала: «Оставьте меня в покое сейчас, и я сделаю так, как вы велите. Я приду в собор Святой Софии в назначенное время, и вы увидите меня там».
– И это все? – Император явно недоумевал. – Это все, что она передала нам через своего посыльного?
Елена кивнула и опустила глаза.
– А сам посыльный? – продолжал расспрашивать Константин. – Он знал что-нибудь еще?
– Ямина, похоже, прислала свое послание через нескольких человек – от одного к другому, – ответила Елена, качая головой. – Тот, кто передал мне ее послание, был последним из длинной череды людей. Он не видел ее саму. Тот, кто передал это послание ему, тоже не видел Ямину.
Константин запрокинул голову и громко рассмеялся.
– Дерзость капризного ребенка, – снова сказал он. – У этой маленькой сучки повадки императрицы, скажу я тебе. Она, похоже, умеет интриговать.
– Ну и что же прикажешь нам делать? – воскликнула Елена.
Он подошел к ней поближе и положил обе свои ладони на ее бедра. Она подалась вперед и приникла к нему. От нее пахло теплом и сладкими пряностями, и он, прижавшись к ней посильнее, посмотрел в ее черные глаза. Она почувствовала, что ему необходимо как-то отвлечься от своих проблем, и задумалась. Ее бедра говорили «да», но ее лицо говорило иное: «может быть». Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась. Удивившись, Константин выпрямился.
– Еще одна женщина осмеливается заставлять меня ждать, – сказал он.
– Ты взял бы меня прямо здесь? – спросила она и улыбнулась.
Он отпустил ее и отвернулся, но ее запах остался с ним, сея в его душе сомнения.
– Скажи мне, как нужно поступить, – сказала она.
Он сделал полдюжины шагов и снова посмотрел на нее.
– Она придет, – уверенно произнес он. – Ее сила духа мне нравится. Она смелая, и это ей очень даже пригодится. Наш фальшивый принц выглядит вроде бы подходящим по своей внешности, но любое ухищрение может сработать только в том случае, если у тех, кто в нем задействован, есть надлежащие способности. Я убежден, что принцесса Ямина сыграет свою роль даже лучше, чем я предполагал раньше.
64
Джон Грант висел на деревянной раме, на которой с людей снимали кожу живьем. Он был голым, и его запястья и лодыжки были привязаны к деревянным брусьям и кольям, воткнутым глубоко в мягкий грунт. Что он чувствовал сейчас отчетливее всего, так это наготу своих половых органов. Его яички так сжались от страха, охватившего его, что мошонка казалась ему похожей на половинку грецкого ореха, выступающую из промежности.
Перед ним выстроились плотными рядами сотни, а может, тысячи воинов османского войска. Со стороны могло, наверное, показаться, что на ближайшие полчаса для этих людей было запланировано какое-то познавательное занятие и что основным наглядным пособием должен был стать он, Джон Грант.
В их руки наконец-то попал тот самый демон, который перемещался в туннелях, как дым, убивая турецких воинов и превращая их в горящие факелы. Однако в действительности оказалось, что никаким демоном он не был. Сейчас перед ними висел обычный человек, принадлежащий к числу неверных. Он проиграл, а они выиграли и готовы с ним поквитаться.
Когда, лавируя между шатров, Джона Гранта вели к султану, Армстронг не поленился сообщить ему о том, что его ждет, то есть каким именно образом с него сдерут кожу на глазах у толпы турок.
– Я уже видел, как они это делают, – сказал Армстронг. – Больше похоже не на сдирание кожи, а на раздевание. Турки в таких случаях подвешивают человека и делают надрез вокруг его талии, чуть пониже пупка. Эту работу зачастую поручают женщине, и если она понимает в этом толк, то она разрезает только кожу, оставляя мышцы неповрежденными. Когда начинает течь кровь, она засовывает оба своих больших пальца в рану, хватается за край надрезанной кожи и тянет ее вниз, к коленям человека, как какие-нибудь штаны. То же самое она делает и с верхней половиной: она тянет кожу с живота и груди вверх, к плечам, как какую-нибудь рубашку. Затем этого человека выставляют в таком виде на солнцепеке. Когда он умрет после такого «раздевания» – это уж как получится, но смерть в подобных случаях никогда не приходит быстро. Еще немного, Джон Грант, и ты будешь вопить как бешеный.
Между Джоном Грантом и зрителями стоял сам султан Мехмед II. Он был облачен в длинные белые одежды, а на его голове красовался, скрывая шевелюру, большой тюрбан. Султан был крепкого телосложения и довольно высокого роста – во всяком случае, он был выше, чем Джон Грант. Если шотландец олицетворял собой проворность и легкость, то турецкий султан – массивность и тяжесть. Широкоплечий, с толстой шеей и бочкообразным туловищем, он чем-то напоминал быка.
В переднем ряду зрителей, в правой части поля зрения Джона Гранта, стояли Ангус Армстронг, сэр Роберт Джардин и все остальные шотландцы.
– А теперь выслушайте меня, – сказал Мехмед.
Ему не пришлось кричать, чтобы его услышали. Его голос, исходивший из объемной грудной клетки, легко достигал ушей каждого из присутствующих здесь и звучал так уверенно, как будто принадлежал всемогущему молодому богу. Мехмед держал всех этих людей в своих руках и знал это, а они, в свою очередь, верили, что мысли султана передаются им на расстоянии.
Перед ним на земле лежал яркий разноцветный ковер, искусно вышитый нитями золотого, красного, синего и зеленого цветов, которые образовывали рисунок, чем-то напоминающий большую географическую карту. Ковер этот был квадратным, и на нем, в самом его центре, лежало большое спелое красное яблоко.
– У жителей этого города имеется слово «поэма», которое означает что-то такое, что было создано благодаря большому мастерству, – сказал он. – Это хорошее слово. Ту задачу, которую мы поставили перед собой, можно выполнить только с помощью большого мастерства и неустанного труда наших рук. Взятие Великого Города, который когда-то был обещан нам самим Пророком, станет нашей самой прекрасной «поэмой». Эту «поэму» наши люди будут знать наизусть и пересказывать своим потомкам на протяжении тысячи поколений. Внутри Великого Города, возле самого большого храма, стоит высокая каменная колонна, на вершине которой установлена мраморная статуя в виде всадника. В своей левой руке он держит шар, символизирующий собой весь мир. Пока эта статуя остается на своем постаменте, греки верят, что их император должен быть господином для всех людей. Я говорю вам, мои братья – мои ястребы и мои львы, – что весь мир представляет собой яблоко, которое уже созрело и которое можно сорвать. Оно висит перед нами, и мы можем до него дотянуться.
Мехмед перевел взгляд на лежащий перед ним ковер и широко развел руками. При этом его глаза были прикованы к яблоку, находившемуся в центре ковра.
– Кто из вас покажет нам, каким образом это яблоко – это спелое красное яблоко – можно взять, не наступая при этом ногой на ковер?
Джон Грант, сам того не желая, наблюдал за этим спектаклем. Наблюдала за ним и Ленья, стоящая в толпе и скрывающая лицо за платком и низко надвинутым капюшоном своей накидки.
Толпа слегка зашевелилась и на несколько мгновений стала похожа на поле пшеницы, над которым пронесся, вороша колосья, ветерок. Послышался шепот, люди стали переминаться с ноги на ногу, но никто из них ничего громко не сказал и не выступил вперед, чтобы попытаться справиться с задачей, которую поставил перед ними султан.
Мехмед, пробежав взглядом по лицам своих людей, покачал головой.
– Неужели вы не догадываетесь? – спросил он. – Неужели никто из вас не сможет взять этот плод?
Султан замолчал, а затем, выдержав паузу, промолвил:
– Получается, я должен все делать за вас. – Он вздохнул и продолжил: – Повернитесь в противоположную сторону – вы все. Встаньте так, чтобы ваши спины были обращены ко мне.
Мехмед специально собрал свое войско здесь, на этой возвышенности, и когда они отвернулись от него, перед их взором предстали Великий Город и бухта Золотой Рог – узкая полоска моря, которая позволяла имперским флотам швартоваться в полной безопасности на протяжении более одиннадцати веков.
Доступ в бухту Золотой Рог из Босфора ревностно контролировался императором, и на время такой войны, как эта, вход в нее полностью перекрывался с помощью массивной стальной цепи, каждое звено которой было величиной с человека и которую протягивали через узкое горлышко бухты от одного берега до другого.
Войско стояло теперь спиной к султану. Не зная, что и думать, воины стали тихонько переговариваться, гадая, что их ждет.
– Смотрите, смотрите, – сказал Мехмед. – Смотрите, что я делаю для вас. Что угодно станет возможным, если этого захочу я.
Когда последнее слово Мехмеда донеслось до ушей его слушателей, Джон Грант увидел, как на горизонте показалась первая из целого флота галер. Ленья, тоже увидев это, широко раскрыла глаза от удивления. На каждой из галер находились люди, и их весла двигались в устойчивом ритме, однако под их корпусами не было воды, и казалось, что они плывут прямо по земле. Войско Мехмеда со страхом наблюдало за всем этим. Послышались возгласы удивления и неверия.
Это было поразительно, но это было реальностью. Галеры одна за другой покидали воды Босфора и двигались вверх по склону через открытый участок местности в сторону бухты Золотой Рог. Стали раздаваться восторженные крики, которые переросли в настоящий рев после того, как все поняли значение того, что они сейчас видят. Зазвучали трубы, загремели барабаны. Флот продолжал свое равномерное и невообразимое движение по сухой земле в сторону их врага.
– Ни одно препятствие не должно нас остановить, – сказал Мехмед.
Эти слова он произнес не столько для своих людей, сколько для себя самого.
Видя, насколько поражены его воины, он испытывал настоящее наслаждение. Втайне от основной массы своего войска – и прямо под носом у христиан – он заставил своих инженеров построить дорогу из бревен, смазанных животным жиром, от берега Босфора на востоке до вод бухты Золотой Рог на западе. Каждая из галер поднималась из воды на специально изготовленной опоре, которую можно было опустить в воду на веревках и расположить под корпусом судна. Затем бригады крепких мужчин, наклонясь, использовали силу своих мускулов – и ничего больше – для того, чтобы перетащить суда на бревна, а по этим бревнам – в бухту Золотой Рог.
Когда первая из галер плюхнулась в воду, словно барракуда, выпущенная в водоем, в котором плавают толстенькие золотые рыбки, радостные крики турок стали пронзительными. Трубы звучали так громко, что едва не оглушали тех, кто стоял рядом. Барабанщики били в барабаны с такой силой, что кожа у тех не выдерживала и лопалась.
– Теперь, когда я показал вам, как наш флот можно заставить плыть по суше, принадлежащей неверным, – если только я этого захочу, – неужели среди вас по-прежнему нет ни одного человека, который догадается, как можно взять это спелое яблоко?
Вспомнив про яркий ковер и красное яблоко на нем, все снова повернулись к Мехмеду.
– Тому, кто решит эту головоломку, будет позволено сделать первый надрез на коже демона, – сказал он и посмотрел на Джона Гранта с таким видом, как будто только что заметил пленника.
Подойдя к Джону Гранту и встав сбоку от него, он схватил одной рукой его за волосы и потянул его голову назад так, чтобы всем стало хорошо видно лицо юноши.
Воины ехидно засмеялись и стали свистеть. Джон Грант почувствовал, как его яички сжались еще больше. Ему показалось, что они уже вот-вот уйдут куда-то в глубину его тела.
Мехмед резко отпустил голову Джона Гранта, так что она дернулась вперед и вниз, а потом тыльной стороной ладони изо всей силы ударил по симпатичному молодому лицу. Услышав звонкий звук удара, все войско умолкло и замерло в ожидании. Джон Грант не издал ни звука, но его нос и рот наполнились кровью, и он невольно плюнул на землю. Образовавшееся от плевка пятно крови и слизи слегка заблестело под слабыми лучами солнца.
Не поднимая головы и глядя на это поблескивающее пятно, он начал говорить чистым и сильным голосом:
– Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил… сотворил человека из сгустка…
Он говорил на языке османов, которому его научил Бадр Хасан. Из воинских рядов донеслись крики удивления и неверия.
Мехмед подошел к Джону Гранту поближе, но на этот раз не стал к нему даже прикасаться.
– Откуда тебе известно слово Божье, неверный? – спросил он.
Джон Грант, не обращая на него внимания, продолжал:
– Читай! И Господь твой щедрейший, который… научил человека тому, чего он не знал.
– Отвечай мне, неверный! – заорал Мехмед. – От кого ты услышал эти слова?
Воцарилась тишина. Джон Грант еще раз сплюнул кровь на землю – к ногам султана. Капли крови, отскочив от земли и распылившись в воздухе, впитались малюсенькими точечками в нижний край белых одежд султана. Джон Грант покосился на Мехмеда своими карими с золотистыми крапинками глазами, которые поблескивали, как маленькие солнышки.
– Я услышал их от моего отца Бадра Хасана, который стуит десяти тысяч таких, как ты.
Мехмед замахнулся, чтобы ударить Джона Гранта еще раз, но не успел, ибо в этот момент чей-то голос, словно взлетающая в небо птица, прорезал воздух.
– Я возьму яблоко! – громко сказала Ленья.
Перед тем как она произнесла эти слова, собравшиеся перед султаном воины начали шумно обсуждать, кому же из них выпадет честь первым резануть своей саблей по коже неверного. Услышав громкий голос, пробившийся сквозь шум подобно тому, как рука протягивается сквозь дым, все закрыли рты, поднялись на цыпочки и вытянули шеи, пытаясь увидеть того, кто вызвался разгадать заданную султаном загадку.
– Я возьму яблоко, – повторила Ленья, и на этот раз султан наконец увидел того, кто произнес эти слова.
Тут же позабыв про наглость своего пленника, он уставился на смельчака, не подозревая, что это женщина. Взмахнув рукой, Мехмед велел ей выйти вперед. Ленья, повинуясь жесту султана, начала протискиваться сквозь толпу, жаждавшую увидеть, как можно справиться с головоломкой.
Джон Грант вдруг ощутил очень слабую, еле-еле различимую вибрацию. Это не был «толчок» – скорее это было похоже на то, как если бы к его коже прикоснулись через древесину рамы, к которой он был привязан кожаными ремнями.
– Иди сюда, – сказал Мехмед, не сводя глаз с приближающегося к нему воина.
Дойдя до первого ряда, Ленья уверенно вышла вперед и предстала перед молчащей толпой и облаченным в белые одежды султаном.
Не проронив ни единого слова, она медленно пошла вокруг ковра, все время глядя на яблоко в его центре. Мехмед – осознанно или неосознанно – тоже пошел вокруг ковра с такой же скоростью. Он, казалось, копировал ее движения. Когда она оказалась ближе всего к Джону Гранту, а султан дальше всего от него (при этом Мехмед очень сосредоточенно смотрел на самого смелого из своих воинов), она остановилась.
Ее лицо от носа и ниже было скрыто шейным платком, а вот глаза были отчетливо видны. Она посмотрела на султана, на мгновение встретилась с ним взглядом, а затем быстро опустилась на колени.
Уставившиеся на нее воины, наверное, подумали, что она собирается молиться, повернувшись лицом к востоку, или же просто попросит прощения у султана за свою дерзость. Стало очень тихо, никто даже не шевелился, а затем вся масса людей тихо ахнула, когда Ленья вдруг взяла край ковра обеими руками и начала сворачивать его. При этом она передвигалась вперед на коленях, и по мере ее приближения к красному яблоку воины один за другим начали понимать смысл действий, совершаемых этим умником. Толпа начала гудеть, причем все громче и громче, пока наконец этот гул не стал похожим на жужжание ста тысяч пчел.
Прошло еще несколько мгновений – и Ленья свернула ковер аж до самого яблока. Быстро протянув руку, она взяла яблоко, встала с коленей и, повернувшись, легкой походкой пошла к тому месту, с которого чуть раньше начала обходить ковер. Выпущенный из ее рук ковер снова развернулся и лег на землю с тихим звуком, похожим на вздох.
Остановившись, Ленья подняла красное яблоко так высоко, как только смогла. Его гладкая кожица заблестела в лучах солнца.
Все посмотрели на яблоко – все, кроме Джона Гранта, у которого из носа все еще капала кровь и которого больше интересовала ощущаемая им вибрация, нежели трюк с яблоком. Действия Леньи так сильно отвлекли внимание всех остальных людей, что никто из них еще не заметил этой вибрации. Ее не заметил даже султан, который был умным человеком и гордился, помимо всего прочего, остротой своих органов чувств.
И тут вдруг, заставив всех ахнуть от удивления, Ленья нахально бросила яблоко в султана. Прицелилась она при этом, похоже, плохо, ибо яблоко полетело по высокой траектории и, по всей видимости, должно было пролететь у Мехмеда над головой. Мехмед, удивленный не меньше остальных, в запале позабыл о своем статусе и подчинился инстинкту: он машинально присел, а затем подпрыгнул, вытянув руки над головой и пытаясь поймать яблоко.
Именно в этот момент, когда султан находился в воздухе, оторвав от земли ноги в роскошных башмаках, вибрация, которую ощущал Джон Грант, переросла в гул, похожий на гул спускающейся по склону горы лавины. Мехмед поймал яблоко обеими руками и, приземлившись, увидел, что по направлению к нему движется целое стадо быков, бегущих плотной массой и уже сметающих на своем пути турецкие шатры. Не замечая ничего вокруг себя, животные волочили изорванные шатры перед собой, делая их чем-то похожими на белую пену на гребне накатывающейся на берег волны. У быков, бежавших впереди (тех, которые являлись вожаками стада и мчались сейчас с широко раскрытыми глазами) к рогам были привязаны горящие тряпки. Обезумев от страха и отчаянно пытаясь избавиться от огня, обжигающего им уши и щеки, быки старались бежать что есть мочи, лишь бы оставить пламя где-то позади себя.
Только для двух человек появление этих животных не стало неожиданностью, и оба эти человека были женщинами. Одна из них отвернулась от султана и его воинов и подбежала к Джону Гранту, беспомощно висящему на раме. Из всей этой толпы воинов она одна знала, кто привязал пропитанные растительным маслом тряпки к рогам дюжины быков, когда первые лучи рассвета протянулись над землей, словно длиннющие серебристые пальцы, а затем поджег эти тряпки, распахнул настежь ворота загона и нанес по задницам быков достаточное число ударов для того, чтобы стадо разволновалось до такой степени, что ни один человек уже не смог бы его остановить.
Когда Ленья подбежала к Джону Гранту, в ее руке появился нож, и она ловкими движениями разрезала путы на его запястьях. Передав затем ему этот нож – нож Ангуса Армстронга – и сказав, чтобы он разрезал путы на ногах самостоятельно, она поспешно окинула взглядом начавшуюся вокруг нее неразбериху.
Натолкнувшись на деревянный частокол, окружающий шатры султана, бегущее стадо разделилось на две части и обогнуло его, а вместе с ним и находившихся по дальнюю сторону этого частокола Джона Гранта и Ленью. Преодолев это препятствие, животные снова сбились в единую массу и врезались в стоявшую на их пути толпу турецких воинов, разбрасывая их рогами налево и направо и калеча десятки и сотни из них своими тяжелыми копытами.
Мехмед ошеломленно и со страхом наблюдал за происходящим, совершенно позабыв о запланированной им мучительной казни пленника.
Ленья заметила в толпе фигуру сэра Роберта Джардина. Она увидела его здесь еще тогда, когда стояла среди воинов и, глазея по сторонам, зацепилась взглядом за его затылок.
Когда быки бросились в сторону воинов султана, она поискала сэра Роберта глазами и увидела его. Тысячи находившихся вокруг него воинов кинулись наутек, но он остался стоять на месте, крепко сжимая в руке меч. Однако противником, бросившим ему вызов, оказался отнюдь не воин – к нему метнулся огромный бык, который по своему росту доходил до плеча человека и рога которого пылали от их основания и до самых кончиков. В равной степени перепугавшись и разъярившись, бык пытался найти выход из постигших его невзгод в нападении на кого-нибудь.
Прямо перед ним, застыв на месте, стояло двуногое существо с широко раскрытыми глазами. Возможно, именно оно было виновато в том, что он испытывал сейчас боль и страх. Возможно, если уничтожить это существо, то он наконец-таки обретет покой. Как бы там ни было, бык бросился в атаку, заставляя землю дрожать под его копытами и поднимая в воздух тучу из грязи и пыли, в которой мелькали брызги белой пены, вылетающей из его раздувающихся ноздрей.
Оказавшись на какое-то мгновение перед рогами, имеющими форму полумесяца и обернутыми горящими тряпками, сэр Роберт Джардин, который считал, что мир ему уже очень много задолжал, вдруг заметил женщину, чья смерть должна была бы вернуть этот долг уже давным-давно. Ее лицо, улыбающееся и нисколько не постаревшее, было последним, что он увидел, прежде чем, закрыв глаза и рубанув своим мечом между пылающими рогами животного, почувствовал сильный удар в торс и упал навзничь.
На глазах у Леньи тяжелое копыто опустилось прямо на лицо сэра Роберта, надавив на него почти двумя тоннами говядины, и она явственно услышала сквозь шум, как его череп треснул, словно яичная скорлупа.
На мгновение она вспомнила о том, как он когда-то прижал свои губы к ее губам и как его язык, словно пойманная змея, стал извиваться возле ее языка. Ленья увидела, как его руки дернулись вверх под бычьим животом, и вспомнила, как эти же самые руки лезли к ней под одежду, раздвигали ей ноги и хватали ее за груди. Наблюдая, как погибает тело сэра Роберта в этот блаженный для нее момент, ставший результатом счастливого стечения обстоятельств, она мысленно пожелала, чтобы то же самое произошло и с его душой. А потом она перестала о нем думать, ибо ее ждали более важные дела.
Джон Грант находился рядом с ней и был в чем мать родила, когда они оба посмотрели в глаза султану. Мехмед стоял абсолютно неподвижно, как белая скала на берегу реки, и молча созерцал картину опустошения, произведенного быками в лагере его войска. Ленья, постаравшись привлечь к себе его внимание и убедившись в том, что он смотрит именно на нее, подняла руку и откинула свой капюшон. Затем она развязала платок, чтобы он увидел ее лицо, и улыбнулась ему.
Нужно было торопиться, и она, отвернувшись, потянула за собой Джона Гранта в сторону задней части территории, огороженной частоколом. Когда они стали перебираться через этот частокол, Джон Грант двигался осторожно, как и подобает абсолютно голому человеку, а его мошонка и член при этом покачивались. Хиляль уже ждала их, ее глаза блестели от радости и волнения.
– Твой малыш очень даже симпатичный, – улыбнувшись, сказала она и повела их прочь.
65
– Что ты сделал с той девушкой? – спросила Ленья.
Джон Грант был облачен в одежды, которые подарил ему отец Хиляль. Когда он одевался, за ним с невинным любопытством наблюдал маленький черноволосый мальчик в возрасте четырех или пяти лет. Он сказал Джону Гранту, что его зовут Ахмет.
Небо было освещено лучами заходящего солнца. Джон Грант и Ленья сидели вдвоем в тени, падавшей от стены Феодосия. В отличие от большинства других дней, прожитых ими здесь, этот был погожим и ясным. Небо над ними было чистым и прохладным. Они расположились как можно ближе к участку древней стены, находившемуся неподалеку от Влахернского дворца, возле ворот Деревянного Цирка. Калитка здесь находилась в том месте, где стена резко огибала одну сторону дворца, а потому туркам это место видно не было.
– Она в безопасности, – ответил Джон Грант. – Когда мы оставили тебя там, в тюрьме, она привела меня в какой-то подвал, находящийся глубоко под дворцом. Она хорошо знакома с той частью дворца, потому что когда-то жила там.
– О чем вы разговаривали? – спросила Ленья. – Что она рассказала тебе, когда вы были вдвоем?
Он, припоминая этот разговор, покачал головой. С него еще совсем недавно едва не содрали кожу живьем, однако ему казалось, что он еще никогда не чувствовал себя так сильно истекающим кровью, как в тот момент, когда она, прервав их поцелуй, оттолкнула его от себя. Джон Грант задрожал, не в силах объяснить себе, от чего эта дрожь, – то ли от вечерней прохлады, то ли от этих воспоминаний.
– Она говорила мне что-то о близнецах, – сказал он.
– О близнецах?
– Да, о душах-близнецах, – сказал он. В его голосе явственно звучали неверие и даже насмешка. – Что-то о душах и близнецах. И о том, что некоторые души вечно одиноки, а некоторые находятся вместе с кем-то другим. Я тогда всего этого не понял и до сих пор еще не могу понять, что она имела в виду.
Ленья посмотрела на него с таким видом, как будто эти безумные идеи исходили от него самого.
– Да, а еще она сообщила, что скоро выйдет замуж, – продолжил он.
– А что сказал ты? – спросила Ленья.
Джон Грант вдруг осознал, что она задает больше вопросов, чем когда-либо раньше.
– Что я ей помогу, – ответил он. – Помогу ей и тому мужчине, за которого она должна выйти замуж.
Вспоминая свой разговор с Яминой, он покачал головой.
Ленья почувствовала, как собственное прошлое тянет ее к себе подобно тому, как тянет за собой слишком тонкую и просторную одежду порыв холодного ветра.
– Что ты помнишь о своем отце? – спросила она.
– Каком именно отце? – переспросил он. – О Патрике Гранте или Бадре Хасане?
Ленья натянуто улыбнулась и, выдержав небольшую паузу, сказала:
– О Патрике.
Он вздохнул и посмотрел в сторону запада, где свечение, исходящее от солнца, постепенно гасло за линией горизонта, сменяясь густеющей темнотой.
– Мне очень хотелось бы сказать, что я помню, как он катал меня на своем колене и ерошил мою шевелюру своей большой ладонью, – с грустью произнес он. – Мне очень хотелось бы сказать, что я помню, как он учил меня насаживать наживку на крючок и ловить форель в большой черной реке, которая медленно течет в низине под плакучими ивами неподалеку от нашего дома.
Слушая юношу, Ленья исподволь разглядывала его лицо и думала о том, что эти карие глаза и эта форма губ знакомы ей до боли.
– Мне очень хотелось бы сказать, что я помню, как он гулял с моей матерью, держа ее за руку, как порой крепко обнимал ее, приподнимая так, что ее ступни отрывались от пола. Мне очень хотелось бы рассказать тебе, как он выглядел, но я не могу этого сделать.
Он замолчал, то ли наблюдая за последними лучами солнца, то ли устремив свой мысленный взор в прошлое. Его лицо уже трудно было разглядеть в полумраке.
– Он очень похож на тебя, – сказала Ленья и тут же поправила себя: – Точнее говоря, это ты похож на него. Ты выглядишь так же, как выглядел он.
Она не столько увидела, сколько почувствовала, что он перевел взгляд на нее.
– Такой же рот… Такой же нос, – задумчиво произнесла она. – Такие же волосы… и такие же глаза. Я узнаю его больше всего именно в твоих глазах.
Пока они разговаривали, вокруг было тихо. Турецкие артиллеристы впервые за все время осады, похоже, собрались отдохнуть ночью. По ту сторону нейтральной полосы земли один за другим загорались, словно звездочки высоко в небе, маленькие огоньки. Это были костры, разводимые возле шатров, которые либо не пострадали во время нашествия быков, либо были отремонтированы и поставлены снова. Османы жили во время своих походов очень скромно и ели только один раз в сутки, всегда ночью. Сейчас вокруг костров сидели группы людей, которые делили между собой имеющуюся у них пищу.
Джон Грант по собственному опыту знал, что осаждать город – занятие нелегкое. Те, кто оказывался запертым за стенами города, возможно, думали, что на них свалились всевозможные напасти, однако и для осаждающих пребывание в течение нескольких недель в лагере за пределами оборонительных сооружений было изнурительным и физически, и психологически. После нескольких недель безрезультатных усилий боевой дух турок стал падать чуть ли не с каждым последующим днем. Как бы мужественно они ни сражались и какую бы тактику ни использовали, едва не ломая себе при этом хребет, им не удавалось ни преодолеть древние стены Константинополя, ни сломить мужество защитников – сравнительно немногочисленных, – которые обороняли эти стены.
Хотя обезумевшее стадо быков причинило большой ущерб и отправило на тот свет десятки турецких воинов, абсолютному большинству из них удалось остаться целыми и невредимыми. Это был всего лишь досадный эпизод, не более того, но он весьма отрицательно сказался на решительности турок. Надежда на победу таяла в их лагере вместе с запасами пищи, и султан понимал: если в ближайшее время не удастся добиться успеха, придется снять осаду и вернуться ни с чем в Эдирне.
И вот тишина, которой Джон Грант уже начал наслаждаться, внезапно была нарушена. Сначала раздался один-единственный голос – вопль какого-то турка, в котором чувствовались удивление и волнение. Почти сразу же к нему присоединились другие голоса, а потом над городом из шатров зазвучал громогласный хор.
С того места возле крепостной стены, где расположились Джон Грант и Ленья, им почти ничего не было видно, а потому они не могли понять причину этого шума. Чувствуя нарастающую тревогу, они отошли от стены и, оказавшись на открытом пространстве, стали оглядываться по сторонам.
До них донеслись иные звуки, представляющие собой какофонию, ужасно отличающуюся от первой, ибо это были горестные причитания бесчисленного множества людей, находящихся за стенами города.
Несмотря на то что Джон Грант ощутил признаки недавно встряхнувшего всю планету извержения вулкана, которое разнесло на малюсенькие кусочки целый остров (остров, расположенный на расстоянии нескольких тысяч миль от Константинополя где-то посреди какого-то океана и не известный ни одному шотландцу), он не имел возможности установить причины этого события. Будучи человеком, обладающим счастливым – или же несчастным – даром чувствовать и движение планеты во Вселенной, и случающиеся на ней катаклизмы, он замечал только симптомы и никоим образом не мог понять суть болезни, проявлением которой они были.
И когда огромное облако из пепла и пыли, в которое превратился далекий остров, расползлось по обволакивающему мир небу, словно тень ангела смерти, даже Джон Грант не понял, чем вызвана накрывшая город темнота.
Посмотрев в ночное небо, нависающее над Великим Городом, он пришел в ужас от того, что увидел.
Он провел среди воинов и жителей Константинополя достаточно много недель, чтобы понимать, какое огромное значение они придавали луне и циклу. Он знал, что объектом поклонения местных жителей являлась Дева Мария – Theotokos, Mater Dei, то есть Матерь Божья (чье изображение, Одигитрию, они могли потрогать и поцеловать), однако не меньшую надежду они возлагали и на вечное присутствие в небесах луны, пусть даже прикоснуться к ней и не могли. Она то росла, то убывала, и в силу этого уровень воды, окружающей с трех сторон их город, то повышался, то понижался. Все это происходило в постоянном, никогда не меняющемся ритме, убеждая их день за днем, месяц за месяцем и год за годом в том, что если движение луны и ее сияние существуют так долго, что никто не знает, когда это началось, то, значит, бесконечно долго существует и их город.
Их матери рассказывали им, а они, в свою очередь, рассказывали своим детям, что их город никогда не сдастся ни одному врагу под всевидящим оком полной луны. Точно так же, как на небе всегда существовала луна, всегда будет существовать и Константинополь.
Однако сегодня ночью, когда сердца и умы уже изнемогали от тягостей самой тяжелой из всех осад, а вид ожидаемой полной луны должен был стать чем-то незыблемым посреди постоянно меняющейся Вселенной, священный круг вдруг оказался нарушенным.
Там, где должна была бы находиться растущая луна, похожая на большую серебряную монету и обещающая, что все будет хорошо, почему-то находился лишь бледно-серый полумесяц. Луна вообще-то должна была бы быть почти полной, но вместо нее над христианским городом, словно самое дурное из всех предзнаменований, тускло светился полумесяц в форме клинка кривой турецкой сабли – сабли мусульман.
Никто, даже Джон Грант, обладавший гораздо более острым восприятием, чем кто-либо другой, не знал и не мог знать, что миазмы самого большого за последние десять тысяч лет извержения вулкана незаметно прокрались по небу и зависли между землей и луной, словно катаракта в человеческом глазу.
Все пространство вокруг наполнилось голосами – тех, кто ликовал, и тех, кто стенал в неизбывном отчаянии. Джон Грант прикоснулся рукой к руке Леньи, и та, взяв его ладонь в свою, крепко ее сжала.
66
Константинополь, восемнадцатью годами раньше
Мы видим их сначала с большой высоты: мужчина и женщина танцуют вдвоем в комнате, такой же белой, как и здания города, которые видны через высокие арочные окна.
Мы спускаемся к ним по спирали, словно хищные птицы.
Патрик Грант держит Изабеллу близко к себе, и они улыбаются друг другу. Он кружится вместе с ней все быстрее и быстрее, пока они, хохоча, не оказываются возле кровати и не падают на нее спинами рядом друг с другом.
С Бадром Хасаном пока что знаком только один из них – Патрик. Он и Бадр – давние друзья. Пройдет еще несколько дней, прежде чем могучий мавр обратит свой взор на Иззи.
В течение этих нескольких дней Патрик был любовником Изабеллы. Ее первым любовником. Он для нее – удивительное и волнительное развлечение, ее собственный секрет, которым она может тешиться, прячась от собственнического взгляда своего отца.
Она – красивая, с длинными темно-русыми волосами и лицом, запоминающимся навсегда своими высокими скулами. Он – худощавый, высокий, тонкокостный, с почти женской внешностью, с узким лицом, рыжеватыми волосами и карими глазами. Они одновременно поворачивают головы и устремляют свой взор друг на друга.
– Мне следовало бы на тебя сердиться, – говорит Иззи.
– Но ты не сердишься, – отвечает Патрик. – На меня никто никогда не сердится.
Она слегка замахивается, как будто хочет ударить его по улыбающемуся лицу, но при этом улыбается и сама. Он ловит ее руку и целует нежные пальцы.
– Это верно! – говорит она и, надув губы, делает вид, что обиделась.
Патрик придвигается к ней и начинает легонько щипать ее талию сильными пальцами. Девушка извивается и сгибает колени, пытаясь от него отбиться.
Он тоже красивый, но его сердце принадлежит другой. Она знала об этом еще до начала их близких отношений. Когда они встретились, он был ранен, и она стала для него повязкой на ране, не более того. Ей предстояло побыть с ним несколько дней и затем расстаться навсегда, чтобы никто из них двоих не пострадал.
– Мой отец все равно доберется до твоей шкуры, – смеясь, говорит она. – Подумать только – его драгоценную сучку испортил какой-то бродяга!
– Я предпочитаю смотреть на себя как на симпатичного прохвоста, – возражает он. – А ты всегда была и останешься принцессой.
Она молчит. Ее лицо помрачнело, как будто ее собственное солнце вдруг скрылось за облаками.
– Ты все равно приедешь в Рим? – вдруг спрашивает она.
– Конечно, – отвечает он. – Это ведь наша работа – защищать делегацию.
– Ты говоришь «наша». Кого еще ты возьмешь в Рим, могу я спросить?
Он улыбается.
– Интересно, что ты про него подумаешь, – задумчиво произносит он.
– Про кого? – спрашивает она.
– Про моего друга. Он серьезный мужчина. И черный. Очень черный. Да, интересно…
Изабелла смотрит на него и хмурится.
– И никто не узнает о том, что между нами было? – вдруг спрашивает она.
Он отрицательно качает головой, и теперь уже его очередь попытаться найти подходящие слова, чтобы оправдать себя. Он мысленно переносится далеко-далеко и вспоминает про другую женщину и маленького ребенка, про золотое колечко, которое было сначала подарено, а затем отдано обратно.
– Никогда не узнает, – обещает он.
Он садится и, повернувшись, смотрит на нее сверху вниз.
– Это могло продолжаться недолго, – говорит он. – Ты и я. Мы никогда не смогли бы быть вместе. Шотландский наемник и принцесса из императорского двора Византии? Но нам следует благодарить наши счастливые звезды за то, что у нас двоих было.
– А ты будешь помнить меня, Патрик? – спрашивает она.
– Я буду помнить нас, – с легкой грустью произносит он, кладя кончик пальца на ее нижнюю губу. – Поверь мне, Изабелла, мы оба будем помнить.
Мир продолжает вращаться, двигаясь по направлению к чему-то неведомому, и сила этого движения – стабильная, никогда не меняющаяся – снова переносит нас прочь от этой парочки, туда, откуда мы к ней явились. Эти двое уменьшаются в нашем поле зрения в размерах: изображение сокращается так, как сокращается зрачок человеческого глаза, обращенного к солнцу.
67
– Я любила твоего отца, Джон Грант, – сказала Ленья. – Он не верил в это, а я не давала ему оснований верить, но это правда.
Он продолжал смотреть на месяц и ничего не сказал, но у него вдруг возникло странное ощущение: как будто ее мысли поплыли прямо к нему стремительным потоком, словно его судьба.
– Я помню его лицо очень отчетливо, – продолжала Ленья. – Прошло уже больше двадцати лет с того момента, как я видела его в последний раз, но оно до сих пор стоит у меня перед глазами.
Гул голосов – и радостных, и грустных – то усиливался, то ослабевал.
– Это твое лицо, потому что он был твоим отцом, – сказала она. – И это лицо Ямины, потому что он был и ее отцом тоже.
68
Принц Константин двигал из стороны в сторону ступнями, упираясь пятками в пол. Он не мог их видеть, поскольку находился в полной темноте, но зато чувствовал их. Все началось с обычного желания как-то согреться в этом холодном подвале. Он стал поднимать и опускать руки, разводить их в стороны и подавать плечи то вперед, то назад.
Он сгибался в поясе, стараясь дотянуться до колен и до ступней. Он тер и массировал бедра, похлопывая по ним сложенными в форме чашечки ладонями, – и все для того, чтобы заставить теплую кровь циркулировать по телу и отгонять прочь холод. И тут вдруг он осознал, что его ступни – уже давным-давно уснувшие навсегда ступни – двигаются в такт с его попытками до чего-то дотянуться. Как только Константин это заметил, он прекратил все остальные движения и сконцентрировался на движении ступней, которое началось как бы само по себе. «Где тот предел, на котором произойдет остановка? – с интересом подумал он. – И насколько сильно возрастет это ощущение?»
Пока он продолжал разного рода упражнения, ему пришло в голову, что во французском языке есть слово, лучше всех других подходящее для описания сути того заточения, в котором он сейчас оказался. Он узнал это слово от Дуки. (Ему вдруг стало интересно, что же его старый наставник делает в данный момент. Скорее всего, ест, добавляя еще несколько дюймов к своей и без того уже широченной талии. А может, наблюдает со стороны за жизнью других людей, запоминая интересные моменты, а потом записывая их.)
Этим словом было слово «oubliette», образованное от глагола «oublier», который означает «забыть». Константину подумалось, что, учитывая данную ситуацию, это слово по смыслу подходит к нему прямо-таки идеально. Воины сказали, что они еще придут за ним, но он в этом очень сомневался. Если нужно было сделать так, чтобы он исчез, то зачем тогда его вновь возвращать? По всей вероятности, у них просто не хватило решимости прикончить его. Вполне допустимо, что их хозяин – его отец-император, а может, Елена – дал им понять, что ему все равно, как они поступят – убьют его сразу или оставят умирать в темноте… Результат ведь будет одним и тем же.
Поэтому так хорошо и подходило это слово – «oubliette». Он, принц Константин, – нечто такое, о чем следует забыть. Его немощное тело еще просуществует некоторое время здесь, в этом кусочке пространства, как бы взятого ненадолго взаймы у кромешной тьмы, а затем старый Дука, орудуя своим пером, зачеркнет все имеющиеся доказательства того, что он когда-то существовал.
Вот ведь ирония судьбы! Как раз в то время, когда его парализованная половина уже начала восстанавливаться (в частности, егоноги после продлившегося несколько лет сна стали просыпаться и вспоминать, для чего они вообще нужны), терпение отца по отношению к немощи сына вдруг истекло. Его ноги, может, что-то и вспомнят, но сам он будет позабыт.
На месте принца Константина появится другой принц (найденный, по словам Дуки, где-то на территории империи), и встанет там на своих двух ногах. Он появится перед охваченными благоговейным страхом верующими в соборе Святой Софии и обменяется обручальными кольцами с Яминой. Он даст людям последнюю каплю надежды, в которой они так сильно нуждаются, ибо будет воспринят как живое подтверждение того, что Дева Мария протянула свои руки, чтобы спасти искалеченного юношу. И если она спасла его, то, возможно, точно так же спасет и их искалеченную империю.
Ямина и ее новый принц предстанут перед огромной толпой людей, а затем покинут город на корабле, направляющемся в безопасное место, где отросток имперского древа сможет пустить корни и начать расти в ожидании того момента, когда турок прогонят и когда настанет время пересадить этот отросток туда, где он впервые появился и где ему надлежит стать большим деревом.
Это все, конечно же, было хитроумной выдумкой. Мнимый принц не принадлежал к дому Палеологов и представлял собой полное ничтожество. Что бы ему ни пообещали, возложенная на него задача будет полностью выполнена и его жизнь закончится почти сразу после того, как он исчезнет с глаз толпы, собравшейся в соборе Святой Софии. И он, и Ямина исчезнут: их убьют, тайно похоронят и забудут – забудут точно так же, как забудут и его, Константина. Вся эта иллюзия пойдет на пользу только императору. Жители Константинополя воспрянут духом – а значит, с еще большей верой в себя и в свое оружие возьмут в руки мечи и дубины и дадут надлежащий отпор осаждающим город туркам.
Если кто-то и покинет город, когда все будет потеряно, на борту корабля, направляющегося на запад, в сторону захода солнца, так это отнюдь не какая-то счастливая молодая парочка. Это будет сам император.
И тут вдруг, находясь в темноте, Константин почувствовал… что же это было, а?.. нарастающее ощущение умиротворения. Поначалу принц задался вопросом, а не утратил ли он всякую надежду и не смирился ли со своей судьбой? Нет, это скорее походило на то, что он находится на ступице вращающегося колеса, которое вдруг стало замедлять свое вращение.
Где-то за пределами этой темноты, за пределами этого «oubliette» последние частички мозаики аккуратно становились на свои места. Вскоре все должно было упорядочиться. Сюда, к нему, кто-то шел.
69
Луна – та самая, которая появилась в небе в форме поблекшего серпа, стряхнула с себя пелену вулканической пыли и стала полной еще до того, как закончилась ночь. Однако задолго до этого, когда полумесяц все еще висел, словно дамоклов меч, над горожанами, Мехмед почувствовал, что наступил подходящий момент, и приказал своему войску пойти на решающий штурм.
Как и защитники города, измотанные длительной осадой, воины Мехмеда тоже почти достигли предела своей выдержки. Они ведь были весьма разношерстной компанией: мусульмане из государства Мехмеда и христиане из разных уголков мира, – а потому все то, что объединяло и сплачивало их ранее, за прошедшие сорок дней постепенно поизносилось и растрескалось. Султан осознавал, что не должен допустить того, чтобы этот поход закончился полным провалом и чтобы бесчисленные жертвы, которые были принесены ради захвата Великого Города, стали напрасными, а потому пришел к выводу, что настал момент для самых решительных действий.
Находясь по другую сторону нейтральной полосы, разделяющей два противоборствующих лагеря, император Константин стоял на земляном укреплении вместе со своим главным военачальником Джустиниани. Неослабевающий натиск турок на крепостную стену и серьезные повреждения в ней заставили императора принять отчаянное решение. В течение всего дня и даже ночью при свете тусклого полумесяца генуэзец заставлял защитников готовить еще одно укрепление – земляной вал между внешней и внутренней стеной.
Это происходило в долине речки Лик, неподалеку от ворот Святого Романа, где защитники намеревались оборонять город, расположившись спиной к внутренней стене.
– Ты приведешь их сейчас? – спросил император.
– Приведу, – ответил Джустиниани. – При свете этого мерзкого полумесяца я приведу всех людей и животных, какие у меня только имеются.
Константин еще кивал в знак согласия, когда со стороны турецкого лагеря донеслись из темноты звуки труб и грохот тысячи барабанов.
– Сколько нас? – громко спросил император, пытаясь перекричать нарастающий шум.
Джустиниани, чтобы ответить на этот вопрос, не было необходимости никуда смотреть, но он тем не менее повернул голову сначала налево, а затем направо, окинув при этом взглядом жиденькую линию выстроившихся воинов, старающихся забыть о своей усталости и – уже в который раз! – приготовившихся к бою.
– Не больше двух тысяч, – сказал генуэзец.
Он снова огляделся по сторонам.
– Братья Боккиарди… – сказал он. – Где они?
– У ворот Деревянного Цирка, – ответил император. – Я сам отправил их туда. Они будут делать вылазки и донимать тех турок, которые пытаются удерживать наших людей на обороне дворца.
Джустиниани мрачно улыбнулся и стал всматриваться в полумрак.
Из темноты вынырнули светящиеся пятна. Это были горящие факелы, которые несли в руках некоторые из турецких воинов, идущих в атаку в первых рядах.
– Азапы, – сказал Джустиниани.
– Жертвенные ягнята, – усмехнулся Константин.
– Посмотрим, – пожал плечами генуэзец.
Это его слово едва не потонуло в донесшихся со стороны турок громких командах. Турецкие воины изо всех сил бросились бежать вперед, преодолевая последние несколько десятков ярдов, отделяющих их от защитников города.
– Сейчас! – крикнул Джустиниани, и его команду стали передавать вдоль по линии справа и слева от него. На атакующих тут же обрушился целый град стрел, дротиков, свинцовых шариков и камней. Азапы падали на землю, как трава под острой косой, однако их было так много, что, казалось, их ряды ничуть не редеют.
Чувствуя сильное давление себе в спину со стороны янычар, которым приказали убивать любого, кто попытается отступить или даже удрать с поля боя, азапы продолжали продвигаться вперед под дождем смерти. Когда их наступательный порыв донес их до основания земляного вала и они стали пытаться на него залезть, защитники пустили в ход греческий огонь, и огромные языки пламени метнулись вперед и сразили самых первых из атакующих азапов. Огонь прилипал к ним, и они сгорали заживо десятками и сотнями.
Тем не менее они продолжали напирать, подгоняемые своими командирами и даже самим Мехмедом, сидящем на боевой лошади.
Несмотря на свою немногочисленность, защитники города держались очень стойко, ничуть не робея от того, что им приходится убивать одного за другим так много наседающих турок и умирать самим. После целого часа непрерывного штурма Мехмед приказал азапам отступить. Защитники города, опираясь на свое оружие, тяжело дышали, надеясь немного отдохнуть во время этой паузы.
Без каких-либо специальных указаний со стороны командиров они вскоре прервали свой недолгий отдых и занялись устранением тех повреждений, которые причинили их земляному валу нападавшие турки.
Наблюдая за тем, как они лихорадочно снуют туда-сюда с лопатами и тачками при свете луны и масляных ламп, Джустиниани вдруг столкнулся лицом к лицу с Джоном Грантом, рядом с которым находилась все та же женщина.
– О Господи! – воскликнул генуэзец. – А я думал, что ты уже среди тех, кто попал под турецкую саблю.
Лицо Джона Гранта осталось невозмутимым. То, что с ним недавно произошло, было уж слишком сложным, чтобы можно было рассказать об этом генуэзцу.
– Рядом со мной находился мой ангел-хранитель, – негромко произнес он.
Генуэзец посмотрел на Ленью, но та только покачала головой.
– Боюсь, что никаких ангелов здесь нет, – сказала она. – По крайней мере я их не видела.
Джустиниани ожидал, что она сейчас улыбнется, тем самым показывая, что шутит, но улыбка на лице Леньи так и не появилась.
Он уже отворачивался от нее, чтобы снова всмотреться в начинающую рассеиваться ночную темноту, когда чуть ниже его ног в земляной вал ударилось каменное ядро, выпущенное из турецкой бомбарды. От этого удара образовалась довольно большая брешь, а их всех троих – Джустиниани, Джона Гранта и Ленью – резко отбросило назад, и они шлепнулись наземь позади вала. Джон Грант первым вскочил на ноги и побежал к образовавшейся бреши с мечом в руке. Ленья последовала за ним, генуэзец тоже.
Те защитники, которые все еще могли сражаться, тоже бросились к этой опасной для обороны города бреши, а с противоположной стороны к ней устремилась бешено орущая толпа турок, выстроившихся в форме клина. Натиск турок был таким сильным, что они отбросили защитников назад, за обороняемый ими земляной вал. Джон Грант рубил мечом врага налево и направо. Краем глаза он видел Ленью и Джустиниани, вступавших в смертельную схватку с турецкими воинами и одолевавших их одного за другим.
В какой-то момент атакующим туркам уже стало казаться, что они вот-вот одержат победу. Они бились бесстрашно, предвкушая свой триумф и едва ли не опьянев от осознания, что они сражаются у древних стен Великого Города.
Только один раз за тысячелетнюю историю Константинополя врагу удавалось пробиться через его оборонительные сооружения. Врагом этим были христиане-крестоносцы, которые когда-то прибыли сюда только для того, чтобы грабить и насиловать. Мусульмане-турки тоже почти пробились через крепостные стены Константинополя, угрожая тем самым устроить не больше и не меньше, а конец света, и их назревающий прорыв через оборонительные сооружения города был встречен громким негодующим и воинственным ревом тех его защитников, которые все еще могли сражаться.
Ликование турок было недолгим. Ободряемые криками Джустиниани и арьергарда его генуэзского отряда, защитники города воспрянули духом и перешли в контратаку, истребляя упорно сопротивляющихся турок. Земля под их ногами стала блестящей и скользкой от пролитой крови.
Испугавшись невиданной ярости, последние из нападавших турок обратились в бегство, отбрасывая от себя длинные тени в первых тусклых лучах рассвета.
– Держите оборону, Джустиниани.
Это сказал император, сидящий теперь на своем коне и поворачивающий его в сторону широкой улицы, которая вела в сердце города.
– Держите оборону, а я вернусь с людьми со стены, обращенной к морю.
Он пришпорил коня, и тот, поднявшись на задние ноги, рванулся вперед в лучах света, прорывающихся из-за крыш расположенных неподалеку зданий.
Генуэзец кивнул и тут же повернулся к своим изможденным донельзя людям.
– А теперь придется пошевелиться! – крикнул он. Его лицо было перекошено от усталости и волнения. – Восстановите вал там, где это возможно, и побыстрее. Они снова нахлынут сюда не позднее чем через час, это я вам обещаю!
Джон Грант повернулся к Ленье и, встретившись с ней взглядом, улыбнулся. Затем, не произнося ни слова, оставил ее одну и пошел искать себе какого-нибудь коня.
70
Внутри собора Святой Софии, под невообразимо высоким куполом, который, казалось, был прикреплен к самим небесам, раздавался тихий гул голосов. Дым от ладана поднимался вверх.
В любое время – а особенно при тусклом свете занимающейся зари – находиться здесь было все равно что находиться в самом центре драгоценного темного кристалла. Из высоко расположенных окон внутрь попадал широкими или узкими полосками свет, но всегда имелись и укромные уголки, погруженные назло этому свету в душистую тень, где, казалось, собирались все молитвы, оставшиеся без ответа.
На сводчатых потолках поблескивали целые акры золотой мозаики и превеликое множество деталей резьбы по мрамору, а с больших каменных поверхностей стен и столбов, поддерживающих эти потолки, смотрели сверху вниз грустные глаза святых и самого Христа, отрешенный взгляд которых глубоко проникал в души всех тех, кто обращал на них свой взор.
Это был холодный день, необычайно холодный для конца весны. Многие из окон собора были разбиты – отчасти из-за халатного отношения на протяжении уже многих лет, отчасти из-за попаданий обломков каменных ядер, которыми турки обстреливали город и которые разлетались при ударе о что-то твердое на куски. Кое-где входы в собор были открыты, и двери, криво висевшие на покореженных петлях, хлопали на ветру. Обветшание и упадок, которые ощущались в Константинополе, проникли и внутрь собора вместе с ничем не сдерживаемыми порывами ветра и дождем. Вместо того чтобы висеть в воздухе вялыми облачками, дым извивался и дергался из стороны в сторону, словно скопище чем-то недовольных призраков.
В ароматной прохладе стояли толпой сотни гостей, собравшихся по распоряжению императора, чтобы стать свидетелями чуда. Люди не знали, что конкретно произойдет, но им сказали, что константинопольцам будет преподнесен дар – живое подтверждение Божьей милости и правильности того, за что они ратуют.
Они пришли, чтобы поприсутствовать при благословении брачного союза, который будет заключен на земле, но который вскоре станет вечным благодаря вмешательству небес и последующему возникновению самого совершенного мира. Для верующих Великого Города, пусть даже они и подверглись суровым испытаниям, доводивших их до предела их выдержки, смерти не было. А раз смерти не было (ведь сын Божий одолел смерть как таковую на своем кресте), то, значит, союз между девушкой и искалеченным юношей, при заключении которого они будут присутствовать, будет вечным.
Глаза всех собравшихся людей, жаждущих узреть для себя хоть в чем-то надежду, смотрели на западный вход в собор, то есть на то место, где начнутся священное таинство и обряд бракосочетания. Они ожидали увидеть там невесту, принцессу Ямину, окруженную эскортом, несущим факелы и гирлянды из терна, чтобы защитить ее от зла и тем самым дать ей возможность благополучно дойти до алтаря. Однако вместо нее в дверях появился император.
Они почти одновременно ахнули от удивления, когда он вышел из полумрака, облаченный в одеяния простого воина, уставший, измазанный кровью и грязью, с двуглавым орлом дома Палеологов на груди. Он привел с собой своих собратьев по оружию, одетых примерно так же и таких же уставших. Они молча зашли в огромное здание собора и направились к его центру, расположенному под высоченным куполом.
Все стоящие в ожидании люди стали медленно поворачивать головы, сопровождая императора и его спутников недоумевающими взглядами… И тут вдруг они увидели, что откуда-то из-за высокого алтаря навстречу императору вышел не кто иной, как принц Константин.
Вначале воцарилась гробовая тишина, а затем стали раздаваться удивленные крики. Какие-то люди начали громко благодарить и восхвалять Господа. И мужчины, и женщины опустились на колени, глядя на то, как принц уверенно шагает с высоко поднятой головой. Он был облачен в белые одежды, а на его голове поблескивала украшенная драгоценными камнями корона из полированного золота.
Среди собравшихся в соборе людей имелось немало тех, кто находился тут шесть лет назад, когда принцесса рухнула, словно ангел с небес, в вытянутые руки принца. Они тогда видели, как он подхватил ее, спасая тем самым от верной смерти, но обрекая самого себя на жизнь человека-калеки. В последующие годы лишь немногие – да и то мельком – видели Константина время от времени, когда Ямина возила его на стуле с колесами по залам и внутренним дворикам дворца. И вот он снова появился перед ними, но уже целым и невредимым.
– Как видите, нам вернули нашего сына, – сказал император, подходя к принцу и обнимая его так, как отец обнимает сына. – Если кто-то из вас видел, как икона Девы Марии упала наземь перед ступеньками ипподрома, и подумал, что она отвернулась от нас, то теперь вы можете убедиться, что она все еще с нами. Она была с нами и всегда будет с нами! Это чудо сотворила она.
Взяв принца за руку, он стал всматриваться в выражение лиц стоящих перед ним людей в поисках тех, кто усомнился в правдивости его слов, но не нашел таковых.
– Как наш сын был поднят со своей постели, постели больного, и снова стал здоровым телом и духом, так и наш Великий Город и наша империя будут подняты на такие высоты, где до них уже не смогут дотянуться когтистые лапы мусульман.
Глаза императора Константина сверкали, однако сердце в его груди встревоженно колотилось. Ямина пообещала ему, что все будет хорошо. Точнее, она заявила, что если ее оставят в покое, то она придет на церемонию бракосочетания и сыграет свою роль. И вот он уже приближается к заключительным словам своего монолога в придуманном им спектакле, а невеста, без которой не может быть бракосочетания, так до сих пор и не появилась.
И тут вдруг восторженные восклицания в толпе собравшихся в соборе людей сменились испуганными криками. Если еще несколько мгновений назад все взгляды были обращены на императора и стоящего рядом с ним принца, то теперь почти все присутствующие смотрели вверх, на купол. Император тоже посмотрел туда и, увидев то, что вызвало такую обеспокоенность у собравшихся, широко раскрыл глаза от удивления.
Вокруг внутренней части купола плясали языки пламени, причем не красные или оранжевые, а фиолетовые, розовые, голубые и ослепительно-белые. Они колыхались, то появляясь, то исчезая, – быстрее, чем мог уследить человеческий глаз. И хотя эти языки пламени казались похожими на адский огонь, они, похоже, не касались – и уж тем более не причиняли никакого вреда – поверхности самого купола.
Тем не менее толпа с ужасом наблюдала за всем этим, ожидая, что от странного огня вот-вот запылает купол, а за ним и все здание, которое затем рухнет на их несчастные головы. Среди собравшихся в храме людей началась паника, и они стали взывать к Богу.
– Господи, помилуй нас! – вопили они. – Не оставляй нас!
К крикам, которые раздавались внутри собора, примешивались вопли, доносившиеся из городских кварталов, и стоявшие поближе к дверям мужчины и женщины стали по одному или по двое выглядывать наружу. Рассвет, еще несколько минут назад казавшийся ярко-красным цветком, который уже вот-вот должен был распуститься, теперь, похоже, отступил под натиском возвращающейся ночи.
Более того, воцарившаяся темнота была какой-то необычной. Она казалась непроглядной, угнетающей, опустившейся на город, словно черное покрывало. Везде: вокруг собора, возле обветшалого ипподрома, в других городских кварталах, – люди собирались плотными кучками и показывали пальцами куда-то вверх. Языки пламени, фиолетовые и голубые, заплясали уже и с наружной стороны купола собора возле его самых высоких выступов. Затем на глазах у таращившихся на них жителей эти языки слились в один мерцающий столб света и устремились вверх, прочь от собора, в почерневшие небеса.
– Бог оставил нас! – кричали люди, падая на землю и закрывая лица ладонями. – Святой Дух ушел из собора – и из нас – навсегда!
Эти языки пламени были не чем иным, как огнями святого Эльма[40], появившимися в силу грозовой погоды и ставшими еще одним последствием извержения далекого вулкана, однако данное природное явление, имевшее место не где-нибудь, а возле купола главного храма города, вызвало у верующих смятение и ужас. Это зрелище они не могли вынести. Родившись и живя среди суеверий и отрицая науку, которая дала бы им соответствующее объяснение, они увидели в данном электрическом разряде и появившейся в результате него светящейся плазмы лишь предзнаменование собственной гибели.
Именно в тот момент, когда император Константин попытался воспрепятствовать начинающемуся хаосу и восстановить порядок и спокойствие, к западному входу в собор подъехал Джон Грант. Он спрыгнул с коня и молча вошел в храм, из которого доносился гул перепуганных голосов. Вместе со всеми остальными обитателями города шотландец только что увидел призрачный неземной огонь, угрожавший охватить здание собора, однако это необъяснимое явление лишь усилило страх Джона Гранта за Ямину и его желание найти ее.
Нижняя часть южной стены собора была погружена в тень, отбрасываемую пристроенным к этой стене массивным балконом, и Джон Грант, нырнув в эту тень, потихоньку пошел дальше. Ямина должна была прийти сюда: она обещала ему это, – и он стал рыскать глазами по внутреннему пространству собора, пытаясь обнаружить ее.
У него этого не получалось, и поэтому он в отчаянии, надеясь на то, что его присутствие здесь никто не будет замечать столько, сколько ему может потребоваться, вышел из-под балкона и стал оглядываться по сторонам, всматриваясь в каждый уголок.
И тут вдруг, всецело увлекшись своими поисками, он неожиданно для себя обнаружил, что смотрит в глаза, которые были настолько же знакомы ему, как и его собственные, и которые принадлежали не его единокровной сестре Ямине, а Ангусу Армстронгу.
Джон Грант перед этим медленно продвигался по направлению к восточной части собора, но вдруг почувствовал «толчок», который заставил его резко обернуться. Он невольно развел руки, чтобы не потерять равновесие, и сделал шаг назад. В этот момент он увидел Армстронга. В глубине души Джон Грант надеялся, что этот меткий лучник погиб под копытами обезумевших быков, однако внутренний голос подсказывал ему, причем с неприятной настойчивостью, что Армстронг сумел выжить. Ангус Армстронг в течение многих лет следовал за ним по пятам, словно привязанный к нему невидимой нитью, и всегда причинял ему зло. Только зло. Неуклонное стремление Армстронга все-таки добраться до объекта многолетней охоты, затеянной его господином, даже пережило самого господина. Сэр Роберт Джардин был мертв, погиб во время сумасшедшего набега быков, но охота на Джона Гранта продолжалась, ибо Ангус Армстронг решил добиться своего во что бы то ни стало.
Сейчас он смотрел на Джона Гранта, устремив свой взгляд вдоль древка стрелы, тыльный кончик которой был приставлен к тетиве лука. Его мускулы были напряжены и подрагивали от усилий, требуемых для того, чтобы удерживать натянутой тугую тетиву лука, изготовленного из хорошего красного тиса. Он вполне мог бы сразить своего врага выстрелом в спину, но ему хотелось, чтобы Джон Грант увидел, как к нему летит стрела, и успел заметить, кто выпустил эту стрелу, чтобы убить его. Ему очень понравилось положение тела его жертвы: руки разведены в стороны ладонями вверх, к небесам.
И тут вдруг сквозь гул голосов собравшихся в соборе людей прорвался пронзительный крик женщины. Хотела она этого или нет, но эта женщина привлекла к себе внимание всех присутствующих, заставив их замолчать, то есть сделала то, что не получилось сейчас у самого императора. Все до последнего повернулись туда, откуда донесся крик. Посмотрел туда и император Константин вместе со своим мнимым принцем.
Они увидели пожилую женщину, вытянувшую руку в сторону балкона, который находился напротив нее. Более проворные из них, проследив за ее жестом, успели заметить, как с небес падает ангел…
Ямина вот уже некоторое время ждала на балконе, наблюдая за происходящим и напряженно размышляя, как же ей сейчас поступить. Ситуация казалась безнадежной, она не видела для себя никакого выхода. Все открытые для нее пути вели ее туда, куда она попадать не желала. Ей никогда не позволят вернуться к ее Константину, и она даже сомневалась, что он еще жив. Ее сердце сжималось от тревоги и отчаяния. Она чувствовала, что от терзающего ее горя у нее туманится сознание. Возможно, это было наказанием, наложенным на нее Девой Марией, чтобы покарать ее вероломное сердце.
Она вспомнила о том, как стояла в прошлый раз на балконе внутри собора Святой Софии. Она вспомнила свою мертвую мать, такую холодную… Именно в этот грустный момент она посмотрела через деревянную балюстраду вниз и заметила там Джона Гранта. Он находился от нее на довольно большом расстоянии и шел, повернувшись спиной к ней, но затем вдруг резко остановился и обернулся.
Она подумала, что он каким-то образом почувствовал, где именно она сейчас находится, и собирается посмотреть ей в глаза и придать ей сил, но его взгляд был почему-то прикован к кому-то другому. Посмотрев в ту сторону, куда смотрел он, она заметила мужчину, стоящего прямо под ней. Да, он стоял футах в пятидесяти под балконом, на котором она находилась, и целился из лука в Джона Гранта.
Не раздумывая ни секунды, Ямина залезла на балюстраду и прыгнула вниз, крикнув при этом:
– Помогите!
Ее волосы взметнулись вверх, как водоросли в абсолютно спокойном море, а подол платья и нижние юбки задрались так сильно, что все увидели ее длинные худенькие ноги, поневоле выставленные напоказ и совершающие хаотические движения.
Ее поступок застал врасплох Ангуса Армстронга, всецело сосредоточившегося на своей цели и никак не ожидавшего услышать громкий крик откуда-то сверху. Невольно подняв голову и ослабив натяжение тетивы, он тут же уронил лук и стрелу к своим ногам. В следующее мгновение он одновременно пригнул голову и выставил руки вверх, раздираемый между порывом поймать падающего человека и инстинктивным желанием избежать столкновения. А еще мгновением позже падающая Ямина врезалась ногами в его голову, сломав ему при этом шею. Только он один услышал, как она хрустнула, а затем под весом Ямины рухнул наземь и испустил дух.
Джон Грант бросился к ним, чувствуя, как его грудь заполняет страх, похожий на поток ледяной воды. Подбежав к девушке и лучнику, превратившимся в какую-то мешанину одежды, рук и ног, он наклонился и протянул руки к Ямине, мысленно приготовившись столкнуться с еще одним горем в своей жизни. Но тут вдруг Ямина отпрянула от трупа Армстронга и улыбнулась, увидев встревоженное лицо Джона Гранта.
– Я надеялась, что увижу тебя снова, – сказала она. – И вот ты здесь, в день моей свадьбы.
Он покачал головой, и на его лице появилось смешанное выражение растерянности и облегчения. Он помог ей встать и, взяв за руку, вывел из собора на тусклый дневной свет.
Император Константин стоял, словно дерево посреди бури, как никогда раньше надеясь на глубину и силу своих древних корней, и молча смотрел, как уходят прочь эти двое – воин Джон Грант, который каким-то образом смог призвать с неба двуглавого орла и удерживать его некоторое время возле себя, и принцесса Ямина, которой сейчас следовало бы стоять перед священником и слушать его слова, благословляющие ее брак.
Император почувствовал, что мир – его мир – ускользает у него из-под ног. Небеса над головой сначала потемнели, а затем в них вспыхнули языки пламени. Те два орла улетели, а Святой Дух покинул храм, возведенный Юстинианом тысячу лет назад. Время пришло.
71
Принц Константин ждал. Где-то за пределами его места заточения неуклонно нарастал какой-то шум.
Он полагал, что его упрятали так глубоко, что у него не может быть никаких контактов с внешним миром. Даже в темноте ему было легче сконцентрироваться, если он плотно закрывал глаза. Присматриваясь к бледным точкам и проблескам света на внутренней стороне своих век, возникающих там в результате хаотичных сигналов и поступающих по нейронам из коры его мозга, он также прислушивался к глухим звукам битвы.
Когда Константин позволял своему мозгу расслабиться, он клал ладони обеих рук на пол, и тогда ему удавалось убедить себя, что он чувствует вибрацию, вызываемую происходящим сражением.
Принц подумал, что он, должно быть, находится близко к городским стенам, и поскольку звуки и содрогания доносились аж сюда, борьба наверняка становилась более ожесточенной, чем когда-либо раньше.
72
Поддерживая Ямину, сидящую в седле перед ним, Джон Грант пустил своего коня вскачь. Он отнюдь не горел желанием встречаться с императором и его личной охраной, и уж тем более ему не хотелось объяснять им, что произошло в соборе и почему он ускакал со свадьбы вместе с чужой невестой.
Она теперь находилась рядом с ним, и, пытаясь заставить себя свыкнуться с мыслью о том, что Ямина – дочь Патрика, а не Бадра, он все же твердо был намерен выполнить обещание, данное мавру. Бадр, умирая, верил, что это его дочь, являющаяся плодом любви. Теперь эта любовь перешла к нему, Джону Гранту. К тому же Джон Грант считал Бадра своим отцом тоже, а значит, должен позаботиться о том, чтобы Ямина оказалась в безопасном месте. Только тогда можно будет считать, что он исполнил свой долг перед Медведем.
Если он хочет, чтобы Ямина была в безопасности, то город должен выдержать осаду, а потому он пришпоривал коня все сильнее, преодолевая одну за другой мили, которые отделяли их от дворца, от Джустиниани и от надежды на успех.
– Спасибо тебе, – сказала Ямина.
Он еле расслышал ее слова сквозь топот копыт и свист ветра, который дул в лицо.
– Ты пришел за мной, как и обещал.
– Да, пришел, но вообще-то это ты спасла меня от смерти, – ответил Джон Грант.
– А я и не помню, как прыгнула. В голове была только одна мысль: нужно остановить того человека, который собирался причинить тебе вред.
– Я пытался остановить этого человека на протяжении половины своей жизни, – сказал он. – А ты решила эту проблему, просто свалившись на него сверху.
Он скорее почувствовал, чем услышал, как она засмеялась.
Когда они оказались уже недалеко от земляного вала, сооруженного под руководством Джустиниани, сердце Джона Гранта вдруг болезненно сжалось.
Битва бушевала с такой же силой, как и в тот момент, когда он покинул ряды сражающихся защитников города и отправился в собор.
Когда они вдвоем подъехали настолько близко, насколько он решился подвезти к рубежу обороны девушку, он увидел, как четверо воинов несут на какой-то подстилке генуэзского военачальника.
Джон Грант, едва остановив своего коня, спешился и побежал к Джустиниани. Лица воинов были настолько мрачными, что напоминали какие-то серые маски. Джон Грант перевел взгляд с них на Джустиниани и увидел, что из его бока торчит древко арбалетной стрелы.
– Он жив, – сказал один из его воинов. – Но сражаться уже не способен. Мы должны отнести его туда, где можно будет заняться его ранами.
Джустиниани открыл глаза. Зрачки его черных глаз так расширились, что стали похожи на черные дыры.
– Я вернусь, – прошептал он. – Я обещаю, что вернусь, как только они вытащат из моего тела этот цветок.
Джон Грант посмотрел на одного из воинов, державших Джустиниани. Тот покачал головой и отвел взгляд в сторону. Глаза Джустиниани снова закрылись, и воины унесли его прочь.
Небо вдруг почернело от стрел и дротиков. На верхнюю часть земляного вала заскочил огромный воин-янычар. Он держал обеими руками знамя султана.
– Аллаху акбар![41] – заорал он и вонзил нижний кончик древка знамени в утоптанную землю возле своих ног.
Его тут же окружили другие турки, размахивающие саблями и пытающиеся не подпустить противников к своему знаменосцу, но и они, и знаменосец вскоре были изрублены защитниками Константинополя на куски.
Однако турецкие воины напирали из-за земляного вала все сильнее и сильнее…
Затем с северо-западной стороны, от ворот Деревянного Цирка и от той тайной калитки, через которую Джон Грант и Ленья вернулись вместе в город из турецкого лагеря, донесся ужасный крик, которого защитники города боялись всю свою жизнь.
Этот их страх был древним, возникшим тысячу лет назад или даже еще раньше, и он таился в сердцах многих и многих поколений горожан, а потому, казалось, был насквозь пропитан горечью не только их самих, но и их мертвых предков.
– Город пал! Город пал!
Из уст каждого, кто защищал Константинополь, вырвался отчаянный вопль, но еще громче были донесшиеся издалека торжествующие крики турок.
Даже Дука не смог потом выяснить, как это произошло и кто был в конечном счете в этом виноват. Можно лишь предположить, что тот или иной защитник города, возвращаясь через калитку из очередной вылазки против неугомонных турок, пытающихся преодолеть ров, оставил калитку незапертой.
Кто-то впоследствии станет утверждать, что имело место предательство и что какому-то иуде из числа защитников города пообещали турецкие монеты и женщин на выбор. Какой бы ни была на то причина, через оставленную незапертой калитку хлынула первая волна потока, которому предстояло смыть христиан в море, – прочь от территории, когда-то называвшейся Византией.
– Город пал! Город пал!
Этот крик, душераздирающий и ужасный, распространялся подобно огню и достигал слуха горожан, прячущихся в своих полуразрушенных домах или стоящих на разбитых в кровь коленях в церквях.
Джон Грант побежал обратно к своей лошади и стащил Ямину с седла. Он посмотрел ей прямо в глаза, впервые не зная, как ему следует поступить.
– Пойдем со мной, – сказала она и повела его прочь от крепостных стен, к воротам дворца.
73
Последние минуты спокойствия в Великом Городе – Царе городов – прошли в полутемном нутре собора Святой Софии.
Этим ранним утром здание, похожее на скалу – или же на гору – и возведенное девять веков назад византийским императором Юстинианом, как бы замерло в ожидании. Огни святого Эльма исчезли, словно их кто-то погасил, и теперь к запаху ладана примешивался запах того странного пламени, которым недавно был объят купол храма.
Этот собор, расположенный в трех милях от стен, обращенных к суше, являлся для турок самой заманчивой добычей, и они устремились к нему по улицам города, останавливаясь только для того, чтобы убивать, грабить и насиловать. В старинных турецких народных легендах говорилось, что тех, кто захватит Константинополь, в этом городе ждут неисчислимые сокровища, хранящиеся в подвалах собора Святой Софии, – целые горы золотых слитков и драгоценных камней.
А у жителей города были свои легенды, в которых утверждалось, что ворвавшиеся в город мусульмане могут дойти лишь до гигантской колонны, на вершине которой установлена статуя сидящего на коне императора, – и не дальше. Любому захватчику, осмелившемуся дойти до этой колонны, преградит путь ангел, держащий в руке пылающий меч. Здесь, в тени собора Святой Софии, неверные будут убиты и отправлены прямиком в преисподнюю.
Верующие ждали этого момента. Все их мысли о свадьбе принца и принцессы испарились, как испаряется на листке роса под лучами восходящего солнца. Внутреннее пространство собора, этот драгоценный темный кристалл, был теперь заполнен людьми, которые не томились в предвкушении торжественных мероприятий, а дрожали от страха и отчаяния. Священники закрыли двери и покрепче заперли их на засовы.
Здесь, в полумраке храма – то ли под самым куполом, то ли вокруг колонн – отражались эхом все голоса, раздававшиеся на протяжении веков: испуганные восклицания тех, кто искал себе убежище; удивленные возгласы викингов, чувствующих себя маленькими букашками по сравнению с таким невообразимо огромным замкнутым пространством; робкое бормотание русов, не знающих, какие молитвы им произносить, но осознающих, что они нашли место, в котором Бог живет среди людей.
Все, что когда-то происходило в соборе Святой Софии, впиталось в его стены и его священный воздух.
Сотням людей, которые собрались под этим куполом, оставалось лишь молиться. Они и молились, когда началось самое страшное. Мехмед пообещал своим воинам, что даст им три дня на разграбление Константинополя, но в городе едва хватило бы жителей, чтобы турки могли утолить жажду крови, накопившуюся у них за несколько недель осады.
Какие бы безжалостные и извращенные зверства ни совершались где-либо раньше, они не могли превзойти того, что творили воины Христовы в другие времена в этом и в других городах. Крестоносцы-франки разграбили и опустошили Константинополь в 1204 году. Византийцы делали то же самое по отношению к городам своих врагов.
Однако в Константинополе на двадцать девятый день мая 1453 года настал настоящий конец света.
Турки-османы устремились к собору Святой Софии, и никакой ангел не преградил им путь. Двери собора были быстро выломаны с помощью топоров. Из собравшихся в соборе людей в нем умрут лишь немногие – большинство будет связано веревками, цепями и даже обрывками их собственной одежды и уведено в рабство. Как и бульшая часть остальных жителей города – богачей и бедняков, знати и простолюдинов, – они станут товаром и будут проданы на рынках османского государства.
Живя уже совсем другой жизнью в новом для них месте, некоторые из них будут вспоминать (и будут готовы поклясться в правдивости своих утверждений хоть на целой стопке библий), что они собственными глазами видели, как священники взяли из алтаря священные сосуды и зашли за алтарь. Перед ними в стене вдруг появился дверной проем, они прошли через него в какое-то безопасное место, а затем дверной проем исчез – как будто его там никогда и не было.
Когда всех находившихся в соборе людей выведут наружу, турки примутся за его разграбление. Они станут искать горы золотых слитков и драгоценных камней, но не найдут их, а потому начнут тащить из храма вообще все, что только можно унести. При дележе добычи они станут яростно драться друг с другом, проливая кровь своих товарищей ради того, чтобы урвать себе побольше.
Проезжая с триумфальным видом по городу и слыша при этом звенящий в ушах крик «Фатих!» – «Завоеватель!», Мехмед увидит истинное лицо того, что он ранее мог наблюдать лишь издалека. Мечтая с детских лет о Константинополе, как до него мечтали его отец и отец его отца, он обнаружит пустую скорлупку, ставшую таковой из-за слабости и бестолковости людей.
Большие здания, некогда прекрасные площади и внутренние дворы, дворцы, колонны и статуи, даже ипподром и собор Святой Софии – все это покажется ему похожим на потрескавшиеся кости существа, умершего от всех семи смертных грехов.
Он слезет с коня перед дверьми собора Святой Софии и поклонится там Богу. Он войдет в собор, ахнет от его великолепия, созданного жадностью, завистью и ненавистью, поднимется аж до купола, посмотрит на дымящийся и залитый кровью город и осознает, что теперь весь этот город принадлежит ему.
Он посмотрит на печальную процессию, состоящую из десятков тысяч рабов – мужчин, женщин и детей. Он посмотрит на пылающие костры и поднимающийся от них дым, а затем обратит свое внимание на воды бухты Золотой Рог и Мраморного моря и увидит, как корабли, заполненные беженцами, уплывают в Венецию и вообще на Запад, уже пребывающий в трауре.
Он осознает, что наконец-то весь этот город стал принадлежать ему и что Аллах выплюнул кость, которая находилась в его горле. Мечта Мехмеда II сбылась, а вместе с этим его сладкие сны сменились суровой действительностью.
74
Когда Джон Грант и Ямина шли по крытой галерее, из дверного проема, к которому они приближались, вдруг появилась какая-то фигура. Это была сожительница императора Елена.
Они все трое остановились и уставились друг на друга испытующим взглядом.
Елена заговорила первой.
– Ты любишь принца? – спросила она.
Ямина, которую внезапное появление сожительницы императора поразило так, как поразило бы человека появление призрака из потустороннего мира, ничего не сказала в ответ.
– Ты любишь его? – снова спросила Елена.
– Да, люблю, – ответила Ямина. – Конечно же, люблю.
– И я тоже его люблю, – сказала Елена. – А теперь пойдем со мной.
Она повернулась и пошла через внутренний двор, примыкающий к галерее. Джон Грант и Ямина последовали за ней и уже пересекли половину двора, когда донесшийся до них топот по плитняку обутых в сапоги ног заставили их остановиться и посмотреть в том направлении, откуда они сюда пришли.
Это был император, которого сопровождали двое из его телохранителей-варягов. Эти телохранители были потомками викингов и прирожденными воинами.
– Вот они! – крикнул Константин. – Схватите их!
– Какое вероломство! – воскликнула Ямина.
Заскрежетав от ярости зубами, она повернулась к Елене и с ненавистью уставилась на нее.
Джон Грант тоже посмотрел на сожительницу императора, но не увидел в выражении ее лица ничего, кроме испуга.
Телохранители перелезли через низенькую каменную балюстраду, отделяющую галерею от внутреннего двора, и устремились к беглецам. Джон Грант глубоко вдохнул и вытащил свой меч.
Несколько мгновений Елена стояла совершенно неподвижно, а затем с удрученным видом повернулась и, взглянув сначала на Джона Гранта, а затем на Ямину, сокрушенно покачала головой. И тут вдруг в десяти футах перед ними словно бы из ниоткуда появилась стройная и грациозная фигура. Джон Грант и Ямина замерли – да и вообще все замерли, – и время стало течь так медленно, как в бессонную ночь.
Это была Ленья. Наклонившись, она засунула ладони за широкие голенища своих высоких, до колен, сапог, а когда выпрямилась, все увидели, что в обеих ее руках появилось по ножу.
Она посмотрела на императора. Он так переменился в лице, что ей вдруг показалось, что под ее взглядом Константин уменьшился в размерах. Его плечи поникли, весь он ссутулился, а губы приоткрылись, как будто он собрался что-то добавить, но не решался. А еще ей показалось, что очертания его фигуры стали какими-то расплывчатыми и теперь он походил на призрака, который готов был переместиться в безвозвратное прошлое.
– Не трогайте их, – сказала Ленья.
Император Константин молча пожал плечами, а затем медленно покачал головой. Его стражники замерли, удивившись, вероятно, тому решительному тону, которым она произнесла эти неожиданные для них слова.
Ленья повернулась к Джону Гранту и, встретившись с ним взглядом, кивнула ему и улыбнулась.
Он кивнул в ответ и тоже улыбнулся, а затем вздохнул. Это был тихий вздох, который, кроме самого Джона Гранта, никто не услышал, но воздух при этом выдавил из груди «толчок» – не из тех, к каким он уже давно привык, а совершенно иной. Если те «толчки» в основном предупреждали его о надвигающейся опасности, то этот скорее был похож на благословение.
Ленья прощалась с ним – он ощутил это отчетливо, – и, когдапауза завершилась и события снова стали развиваться со своей обычной скоростью, он почувствовал себя начинающим ходить ребенком, которого любящий родитель, ласково шлепнув по попке, пытается заставить впервые пройтись самостоятельно.
– Это я дала тебе имя Жан[42], – сказала Ленья. – Ты – Жан. Жан Грант. У тебя почти такое же имя, как у меня.
Джон Грант, глядя на Ленью, часто заморгал и почувствовал, что ему нужно побыстрее убираться отсюда прочь. Он нервно сглотнул и повернулся к женщинам, стоящим возле него.
– Пойдемте, – сказал он.
Они побежали по каменным плитам и прошмыгнули через сводчатый дверной проем в коридор. Елена повела их по лабиринту переходов, поворачивая то налево, то направо, как казалось со стороны, наугад. Когда Джон Грант почувствовал, что они отошли уже достаточно далеко от того внутреннего двора, он заставил своих спутниц остановиться, чтобы перевести дух.
– Где принц Константин? – спросила Ямина.
– Здесь есть туннель, – сказала Елена. – Он такой же древний, как этот город. Туннель этот ведет из подвалов дворца к маленькой гавани, расположенной за стеной, обращенной к морю. Там стоит в ожидании корабль. В тяжелые времена императоры не раз уезжали в безопасное место…
– Мне про это известно, – перебила ее Ямина.
Елена уставилась на нее.
– Мне известно про этот туннель, – повторила Ямина. – Мне не следовало бы про него знать, но я знаю. Из наших бывших покоев, в которых я жила со своей матерью, в него ведет закрытый люком лаз. Я… я раньше хранила в нем… вещи, которые мне дороги.
Она посмотрела на Джона Гранта, но тот даже бровью не повел и ничем не выдал, что понял ее.
К Елене уже вернулось свойственное ей хладнокровие.
– Ну что ж, турки тоже его… почти нашли благодаря твоему Джону Гранту.
– Благодаря мне? – удивился юноша.
– Вспомни последний из их туннелей, – сказала она. – Тот, который они вырыли вдоль стены и положили там мешки с черным порохом…
Джон Грант кивнул, вспомнив, как сражался в этом туннеле и как угодил потом в плен.
– Их саперы едва не наткнулись на этот древний путь к спасению. После того как ты попал к ним в плен, то есть после того, как турок вышибли из прорытого ими туннеля, я отправила своих людей проверить, насколько близко оказались турецкие саперы от того, чтобы обнаружить эту тайну нашего города.
– И что? – нетерпеливо спросил Джон Грант.
– Один из моих людей провалился в туннель, вырытый турками, – продолжила рассказывать Елена. – Так что они подобрались совсем близко. Пол нашего древнего туннеля просел под ногами моих людей, и один из них провалился.
– Где принц Константин? – снова спросила Ямина.
– Император поручил мне… избавиться от него, – ответила Елена.
– Я слышала, как ты говорила про это, – заявила Ямина. – Я слышала твои рассуждения по поводу того, как тебе это сделать.
Елена кивнула.
– Когда-нибудь потом я обо всем этом расскажу, – пообещала она. – А сейчас послушай меня и поверь, что ты была не единственной, кто любил его. Ты была не единственной, кто хотел, чтобы он вырвался из той постели и из той комнаты.
– У нас сейчас нет времени на эти разговоры, – сказал Джон Грант. – Давайте я пойду дальше один. Я смогу найти туннель, о котором ты говоришь, и принца. Видит Бог, что я чувствую себя под этим городом так же вольготно, как на его улицах и в его дворцах. Если там в темноте притаились турки, то лучше мне встретиться с ними без вас.
– Мы встретимся с тобой там, Джон Грант, – сказала Елена. – И мы приведем с собой подмогу.
75
Ямина пыталась возражать против решения Джона Гранта пойти дальше в одиночку, но Елена сочла его здравым. Даже находясь в глубине дворцовых помещений, они слышали крики турок, хлынувших на улицы города. Османские воины ворвались в Константинополь, и остановить их уже не удастся. Нужно было разыскать принца, и побыстрее, но первым делом им требовалось найти для себя какое-то убежище.
Елена, повинуясь интуиции, принялась искать убежище где-нибудь повыше. Держа Ямину за руку, она подошла к основанию широкой лестницы, и они зашагали по каменным ступенькам вверх. За верхней частью второго пролета лестницы находилась тяжелая дубовая дверь, и когда Елена распахнула ее, они увидели деревянные мостки, ведущие на крепостную стену.
За этой стеной настолько, насколько они могли видеть, простиралась движущаяся масса османского войска, которое неудержимо приближалось к городу, проникая в Константинополь через ворота и незаделанные бреши и заполняя собой землю, обещанную им Пророком много лет назад.
– Все закончилось, – сказала Ямина.
– Не совсем, – раздался рядом чей-то голос.
Ямина и Елена огляделись по сторонам и увидели, что на крепостную стену вышел из какой-то другой двери дворца мнимый принц. В руке он держал обнаженный меч.
– Ну вот мы и снова вместе, – насмешливо произнес он. – Мне очень понравилось то, как ты появилась в храме, но с твоей стороны было бесстыдством прыгать в руки другого мужчины.
– Да уж, и в самом деле бесстыдство, – согласилась Ямина. – Жаль только, что это была не твоя шея.
Он направился к ним.
– Вы обещали мне жену, – сказал он Елене.
– Ты и в самом деле думаешь, что сейчас это имеет значение? – спросила Елена. – Город пал. Турки зарубят тебя саблями, а нас заберут в рабство.
Он смерил женщину долгим взглядом, остановив при этом свои глаза сначала на ее бедрах, а затем на ее лице. Ямина почувствовала, что Елену столь дерзкое поведение разозлило.
– Твое время уже прошло, – нагло заявил он. – Я сказал бы, что когда-то ты была по-своему красива, но твоя красота была нанесена на тебя очень тонким слоем. Я вижу, что сквозь золото уже проглядывает обычный металл.
– Для нас всех время уже прошло, – сказала Елена. – И я подозреваю, что красота, каким бы слоем она ни была нанесена, сейчас и здесь уже не является преимуществом.
– Как тебя зовут?
Этот вопрос ему задала Ямина, и он, повернувшись к ней, тоже окинул ее оценивающим взглядом.
– Меня зовут Андрей, – ответил он.
Безобидность этого вопроса его удивила, и он, не проронив больше ни слова, стал внимательно слушать Ямину.
– Первый апостол, – сказала она. – Ты знаешь легенду о последнем императоре?
Под крепостной стеной, ниже того места, где они сейчас стояли, шел бой. Люди сражались, кричали, умирали… Тучи стрел мелькали высоко в воздухе, грохотали бомбарды, но все внимание мнимого принца сосредоточилось в этот момент на Ямине.
Он покачал головой.
Она подошла к нему поближе.
– Говорят, в одной из церквей хранится под замком кусок пергамента. Я не знаю, в какой именно из церквей, а потому не спрашивай меня об этом. На пергаменте нарисована решетка, состоящая из маленьких квадратиков. Этот пергамент очень старый, и в каждом квадратике написано имя какого-нибудь императора. Каждый раз, когда умирает очередной император, его имя вписывается в соответствующий квадратик. В первом квадратике написано имя Константина, первого правителя нашего города. Только один квадратик еще остается пустым, и в него будет вписано имя последнего императора Константинополя.
Она, замолчав, посмотрела на него и поднесла руку к своим губам, как будто намеревалась вытереть их ладонью.
– Что ты об этом думаешь, Андрей? – после небольшой паузы спросила Ямина. – Константин и Константин – первый и последний.
Он растерянно заморгал, и в этот миг она прильнула к нему. Губы мнимого принца приоткрылись, и она вдруг поцеловала его. Когда их рты были крепко прижаты, она дунула изо всех сил, и находившаяся в ее рту маленькая кость – кость пальца Амы – попала ему в дыхательное горло и застряла там.
Ямина, прервав поцелуй, резко отступила на шаг назад. На лице молодого человека появилось ошеломленное выражение. Он бросил меч и схватился руками за свою шею. Его глаза широко раскрылись. Он молчал. Его дыхательное горло было заблокировано. Он качнулся вперед. Ямина и Елена отступили от него, и он упал на колени, сжимая горло руками. Он посмотрел сначала на Елену, а затем на Ямину, и с умоляющим видом протянул к ним руки. Его лицо, начав темнеть, стало серо-фиолетовым, а глаза едва не вылезли из орбит. Он повалился вперед, и его руки, которыми он снова схватился за горло, ничуть не ослабили удар, поэтому его лицо разбилось в кровь о камни крепостной стены.
76
Темнота заключила его в свои объятия – так, как заключают в объятия своего возлюбленного. Видение горящего факела, погасшего несколько мгновений назад, плыло перед ним, став сначала желтым, а затем голубым, на мгновение напомнив о тех языках пламени, которые устремились в него с купола собора Святой Софии. Не зная, на кого он может натолкнуться там, внизу, Джон Грант решил сделать своим союзником темноту и подождал, пока перед его глазами не осталось ничего, кроме непроглядной тьмы.
Тишина в подземелье действовала угнетающе. Он задержал дыхание и напряженно вслушался. Тишина давила на него с боков и наваливалась сверху. Он представлял собой угрозу ее владычеству, поскольку мог издать какой-нибудь звук, тем самым разорвав безмолвие. Лишь темнота крепко удерживала и оберегала его.
Он потянулся правой рукой в сторону, пока кончики его пальцев не коснулись прохладной стены туннеля. Затем согнулся, став чем-то похожим на складной нож, сложенный наполовину, и сделал один шаг вперед по узкому туннелю. Второй шаг, третий – и остановился.
Вместо камня его пальцы ощутили пустоту. Он, получается, дошел до поворота – поворота направо. Сместившись в сторону настолько, чтобы его пальцы опять коснулись стены, он снова медленно пошел вперед. Иногда его волосы чиркали по неровной поверхности потолка туннеля, и тогда он резко пригибался – как ребенок, пытающийся уклониться от удара.
В левой руке, которой он владел лучше, чем правой, Джон Грант держал нож с изогнутым, как коготь тигра, лезвием. Опыт подсказал ему, что в туннелях орудовать мечом очень неудобно, – это оружие скорее мешает одолеть противника, чем помогает. Продвигаясь вперед в темноте, юноша не производил ни малейшего шума: очень осторожно нащупывая пол, он как бы парил над ним, а не шел по нему. Дышал он широко раскрытым ртом, но тоже абсолютно бесшумно. Стараясь держать глаза закрытыми, он максимально активизировал свое сознание и отправил его вперед, в простирающуюся перед ним пустоту.
Пройдя с десяток ярдов после поворота, он вдруг резко остановился, повинуясь интуиции, которой доверял. Правда, порой интуиция проявляла себя довольно слабо, но на этот раз подсказала ему, что темнота вокруг теперь какая-то другая: еще недавно вполне спокойная, она вдруг стала неровной и возбужденной. То были своего рода волны зыби, похожие на те, которые образуются, когда в воду бросили камень и она начинает расходиться кругами. Волны накатились на его лицо и грудь, и он почувствовал биение встревоженного сердца.
Здесь, в туннеле, находился кто-то еще. Кто-то такой, кто пытался вести себя очень тихо, но при этом нарушал спокойствие уже одним своим присутствием… Джон Грант улыбнулся. Сжимая нож в левой руке, он стремительно протянул вперед правую, и его пальцы, коснувшись мужского лица, ощутили холодный пот и колкую щетину на подбородке. Тишину нарушил звук вдоха: он как бы разорвал ее надвое.
Он сделал шаг вперед и уловил кисловатый запах чьего-то выдоха. Его рука, державшая нож, пришла в движение сама по себе, и он, нащупав путы, стягивающие запястья этого человека, аккуратно их разрезал.
Принц Константин глубоко вдохнул, до упора заполняя свои легкие, и затем медленно, как бы с облегчением выдохнул.
– Я знал, что ты придешь, – сказал он.
Перед глазами принца не было ничего, кроме бархатной темноты, а в его мыслях – ничего, кроме уверенности в спасении, которое придет к нему в лице того, кто прибыл сюда из далеких земель после многих лет путешествий по миру.
Для Джона Гранта, который всегда чувствовал вращение планеты и ее полет в бесконечном пространстве, мир замер. Он, Джон Грант, наконец-таки оказался в самом центре мира, который был… неподвижным.
– Это был ты, – произнес он.
У него в мозгу наступило просветление, и темнота уже не имела никакого значения. Он больше не ощущал «толчка». В самом центре урагана его жизни все было тихо. Он потянулся к руке принца, почему-то зная, где она находится, и взял ее в свою руку. В этот момент между ними как бы проскочил электрический разряд.
Джон Грант все понял – понял с яркой до ослепления ясностью. Это все было не ради Ямины, или Бадра, или женщины, которую его соотечественники называли Джинни Черной. Он потянул Константина за руку. Принц встал. Его ноги подрагивали, но он все же стоял на них довольно крепко.
– Я пришел за тобой, – сказал Джон Грант.
77
Ленья была ранена. Она справилась с викингами из варяжской стражи, но при этом сама пострадала. Когда второй – и последний – из них падал наземь от ее удара, оглушенный, но осознанно не убитый ею, он, прежде чем потерять сознание, в силу своего воинского инстинкта успел сделать выпад острым коротким мечом и ранить ее в левый бок, ниже ребер.
Отведя взгляд от упавшего телохранителя и от своей раны, она заметила, как император вытаскивает меч из ножен. Понимая, что ей требуется некоторое время на то, чтобы осмотреть рану и как-то ее обработать, Ленья поспешно огляделась по сторонам. В углу внутреннего двора она увидела открытую дверь и побежала к ней, уже чувствуя, как ее мышцы слабеют.
Император побежал тоже. Жизненная сила вытекала из его владений точно так же, как кровь вытекала сейчас из тела этой женщины. Бросившись бежать вслед за ней, он почувствовал, что становится каким-то совсем другим человеком.
Когда он некоторое время назад увидел тех троих – Елену, Ямину и заклинателя птиц, – он громко вскрикнул, а затем стал наблюдать, как его стражники пытались задержать их. Все то, что сейчас происходило в его разваливающемся на глазах государстве, было безумием, и он попытался уцепиться за что-то такое, что имело смысл и от чего можно было оттолкнуться, чтобы продолжить свое движение вперед.
И тут вдруг посреди всей этой суматохи появилась эта женщина, и все, кто находился в его поле зрения, вдруг замерли, как будто их заворожили, а сам он почувствовал, что его охватили сомнения.
Ему было сорок восемь лет. Он правил, сидя на потертом троне в обветшалом дворце. Его империя представляла собой территорию, покрытую грязью и трупами. Он был преемником своих предков, не уступавших в жестокости любому из своих врагов. Они интриговали, предавали, пытали, ослепляли и убивали ради того, чтобы удержать на своей голове корону.
И вот наконец случилось то, что едва ли не повергло его в шок: он приказал своим самым умелым воинам разобраться с преградившей ему путь женщиной и… и увидел, как она их одолела.
У него, получается, уже не осталось никакой свиты – ни телохранителей, ни советников, ни слуг. Его любовница, похоже, тоже отвернулась от него. Он превратился в обычного воина, только и всего. Его титул и статус уже не имели значения, а потому он будет делать то, что делают воины…
Все свое внимание Ленья сосредоточила на том, чтобы преодолеть путь до открытой двери в стене. Если бы она остановилась, чтобы дать отпор императору, то, учитывая ситуацию, ей потребовался бы меч. Решив, что она найдет такое оружие среди погибших, Ленья устремилась к крепостной стене в районе ворот Деревянного Цирка. Выскочив из здания дворца, она увидела каменные ступеньки между калиткой и караульным помещением и, заскочив на них, невольно застонала.
Чувствуя сильную боль, она в отчаянии посмотрела вверх и заметила на крепостной стене стройную фигуру Ямины, стоящей рядом с сожительницей императора и с мнимым принцем, которого ей, Ленье, довелось видеть в тронном зале.
В следующее мгновение все трое отошли немного в сторону и исчезли за углом башни.
Она стала карабкаться вверх, наклоняясь вперед и ставя правую руку на ступеньки. Левой рукой, которую она прижимала к своему боку, Ленья пыталась хоть как-то сдерживать кровотечение. Ленья слышала позади себя торопливые шаги императора, и, когда она добралась до второго пролета лестницы и устремилась по нему вверх, он был уже близко. Расстояние между ними неумолимо сокращалось.
Достигнув верхней части стены, по которой могли бы пройти шесть выстроившихся в шеренгу человек, она увидела несколько лежащих рядом трупов и направилась к ним. Выхватив окровавленный меч из руки погибшего воина, она повернулась к императору и, медленно пятясь от него, попыталась оценить соотношение сил.
Константин, остановившись, окинул взглядом все четыре мили стен, обращенных к суше, а затем посмотрел в сторону городских кварталов. Заполонившие улицы и площади людские потоки из турецких воинов и защитников города сталкивались, образуя жуткие водовороты, в которых они гибли сотнями и тысячами. Они все еще продолжали сражаться друг с другом, наседали, атаковали или обращались в бегство… Во многих местах возле крепостной стены и на крышах домов виднелись османские знамена. За стенами, обращенными к морю, колыхались на ветру паруса рыболовецких судов и каракк, готовящихся отплыть и увезти на своем борту тех, кто был способен заплатить за проезд в безопасное место – подальше от начинающихся в этом городе ужасов.
Внезапно снова придя в ярость, император направился к Ленье с таким видом, как будто в обрушившихся на него бедах была виновата именно она. Угрожающе перебрасывая меч из руки в руку, он жаждал крови, ибо, возможно, почувствовал бы себя отмщенным, если бы увидел ее безжизненное тело.
Левый бок Леньи был влажным и холодным от крови, и она вдруг почувствовала себя изможденной. Несмотря на угрожающую опасность, ею овладело желание присесть и сделать глубокий вдох. Однако когда император замахнулся на нее мечом, ее бойцовские инстинкты взяли верх над усталостью, и она, подняв руку с мечом, отразила удар. Император потерял равновесие, и, когда он проскочил мимо нее, она повернулась и ударила его в спину обутой в сапог ногой, заставив его пролететь еще дальше вперед. Он едва не упал лицом вниз, но все же сумел удержаться на ногах.
Ленья почувствовала еще более острую боль и, посмотрев вниз, увидела темную кровь у себя на внутренней части бедра. Ей, похоже, не повезло, и очень сильно: лезвие клинка императора зацепило ее, когда он проскакивал мимо, и, глубоко разрезав плоть, повредило жизненно важную артерию.
Для нее сейчас уже не было ни ангелов, ни голосов, доносящихся с небес. Она сделала глубокий вдох, но здесь не было такого свежего, чистого воздуха, каким она когда-то дышала, наслаждаясь, в саду своего отца. Она подумала о девушке, которая сгорела на костре вместо нее, и ей стало интересно, как она выглядела, когда ей подрезали волосы.
Свое нынешнее имя – Ленья – она получила от монахинь, живших возле гробницы святого Иакова. Она ведь заготавливала для них дрова, а слово leña на их языке как раз и означает «дрова». Это ее прозвище тогда казалось им забавным, однако сейчас она воспринимала его как какую-то злую шутку. Она была Жанной – Жанной д’Арк, дочерью Жака и Изабеллы из деревни Домреми. Она была Жанной Грант, матерью Джона.
Император Константин снова повернулся к ней. Она преклонила одно колено, как будто бы прося его о благословении, но вместо благословения он высоко поднял свой меч и пошел к ней. За мгновение до того, как он мог бы нанести сильнейший удар, который разрубил бы ее надвое, как какое-нибудь полено, поставленное на колоду, император посмотрел ей в глаза и увидел в них нечто такое, что заставило его одуматься.
Он кивнул и опустил меч. Его гнев улетучился, и он, похоже, собрался протянуть ей руку и помочь встать. Она, возможно, приняла бы его руку, но, посмотрев вверх, на лицо Константина, и заметив в его выражении только грусть, она также увидела отблеск солнечного света на клинке меча, которым рубанули по шее императора и который отделил голову от его тела.
Отрубленная голова императора Константина перелетела через зубцы крепостной стены, вращаясь так, что его длинные волосы стали чем-то похожи на ореол вокруг солнца, и шлепнулась на землю среди турок. Никто из них не обратил на нее внимания, и ее вскоре втоптали в пыль и грязь идущие толпой турецкие солдаты. Тело императора оставалось стоять на ногах еще долю секунды, а затем упало на каменные плиты крепостной стены.
Позади упавшего трупа Ленья увидела мнимого принца, все еще облаченного в белые одежды. Его лицо раскраснелось, а вокруг рта виднелись размазанные сопли и слюна.
В одной руке он сжимал маленькую кость, которая едва не задушила его до смерти. Он тогда беспомощно упал на каменные плиты, а те две женщины пошли прочь, думая, что он либо уже умер, либо вот-вот умрет. Однако в результате встряски, вызванной падением, застрявшая в его горле кость сдвинулась с места. Он стал кашлять, харкать и блевать, пока кость не вывалилась у него изо рта.
Как только ему удалось восстановить дыхание, его затуманенный взор прояснился и он смог разглядеть предмет, причинивший ему столько страданий. Схватив кость, он сжал ее в кулаке и решил, что когда-нибудь сделает из нее талисман.
Испытывая смешанное чувство раздражения и неверия, Ленья пожала плечами и встала. Она смотрела на своего следующего противника, на его лицо, потемневшее от охватившего его гнева, и, перебрасывая меч из руки в руку, думала о том, чем это он так сильно рассержен.
– Мне была нужна его голова, – сказал он. Мнимый принц прокашлялся и сплюнул. – Мне была нужна его голова, но она теперь исчезла навсегда.
Она удивилась тому, что этот юнец, похоже, считает виноватой в своей потере ее, и покачала головой, копируя его движения и чувствуя, что ее руки и ноги слабеют, а взор затуманивается.
– С головой последнего императора в руках я мог бы предстать перед самим султаном.
Ленье показалось, что его слова пролетели каким-то образом мимо ее ушей. Она видела, что он что-то говорит, но не слушала его. Переключив свое внимание на шум битвы, все еще продолжающейся неподалеку от крепостной стены, она прислушалась, надеясь услышать совсем другой голос.
Однако вместо этого она услышала собственный голос. Она вообще-то не собиралась ничего говорить, но слова сами вырвались из ее уст – свежие и чистые. Они прозвучали так, как журчит вода бьющего из-под земли родника.
– Он ценнее этой чаши, хотя она из золота, и является ответом на то, что преподносится мне, – сказала она.
Ее неожиданно прозвучавший голос заставил мнимого принца молча уставиться на нее.
– Он получил в ответ мою любовь, – продолжила она и улыбнулась – улыбнулась не этому мнимому принцу, а своему отцу и самой себе.
В молчании и внезапном замешательстве, будучи завороженным ее спокойствием и неуклюже подняв меч, чтобы нанести последний удар, он встретил свой смертный час. Не имея уже сил на то, чтобы сражаться, но оставаясь уверенной в правильности выбранного пути и намереваясь не сходить с него, Ленья сделала длинный выпад своим мечом и насквозь пронзила горло двойника.
Отдернув меч, чтобы высвободить лезвие, погрузившееся в живую плоть, она услышала хлюпающий звук. Безжизненное тело убитого ею мнимого принца шлепнулось на каменные плиты.
Ленья посмотрела вокруг себя и увидела темный след ее собственной крови. Она осознала, что умирает, и трясущимися, почти не слушающимися руками стала стаскивать с его тела красивые одежды.
Затем она, тратя уже последние силы, натянула эти одежды через голову на себя. Когда Ленья стала разглаживать их на себе и поправлять волосы – черные, короткие, как у мальчика, и уже подернутые сединой, – она вдруг заметила, как блеснуло золото. За пояс двойника была засунута корона цвета сливочного масла, украшенная неограненными драгоценными камнями выпуклой формы. Секунду посомневавшись, Ленья вытащила корону из-за пояса и возложила ее себе на голову.
Сбоку от нее виднелась лестница, состоящая из нескольких каменных ступенек, и когда она взошла по ней, то оказалась между двумя зубцами крепостной стены.
Ленья окинула взглядом территорию за стеной и увидела, что от Византийской империи, просуществовавшей тысячу лет, почти ничего не осталось. На утоптанном поле возле стены последние защитники города сражались своими мечами и ножами, что-то крича и истекая кровью.
Она прислушалась, стараясь различить какой-нибудь голос, но не услышала ничего. Она была Жанной д’Арк, и ее смерть была отсрочена уж слишком надолго, а потому она сейчас радовалась, что наконец-таки все встанет на свои места.
Снизу донесся какой-то крик, который затем перерос в рев. Посмотрев вниз, она увидела, что на нее таращатся десять тысяч пар глаз. Битва на некоторое время прекратилась, и все уставились на облаченную в блестящие белые одежды фигуру, на голове которой сверкала золотая корона.
Те, у кого зрение было более острым, заметили и темно-красную кровь, пропитавшую ткань между ног этой фигуры.
На ярком солнце толком разглядеть человека в белых одеждах, с мечом в руке и с короной на голове было невозможно, и все подумали, что это наверняка не кто иной, как сам Константин Палеолог – христианский император и правитель византийцев, который явился сюда, чтобы встретиться с вечностью.
А правду знала только Жанна д’Арк. Она стояла на крепостной стене Великого Города и вспоминала о том, как посреди грозовой бури, когда она ехала верхом со связанными за спиной руками, ей была предсказана ее судьба.
Христианские защитники будут помнить, как к ним явился ангел, смертельно раненный и обещающий спасение после смерти, но Жанна д’Арк знала, что ангелы являются к ней, и только к ней.
Она прыгнула высоко, в небо, а затем полетела вниз, вниз, вниз… Турки набросились на ее тело, едва оно коснулось земли, и стали рубить и рассекать его, пока не искромсали в куски.
Когда позднее ее голову принесли Мехмеду в качестве подтверждения смерти императора, он заплакал, потому что понял, что его добыча в самый последний момент ускользнула от него.
Его воины думали, что принесли ему голову Константина, и полагали, что в застывших чертах этого лица запечатлелась гримаса того, кто потерпел полное поражение.
Но их султан понимал, что это не так.
В своей жажде крови и спешке они не заметили, что это была голова женщины – красивой женщины, волосы которой были подстрижены коротко, как у мальчика, и которая улыбалась.
78
Когда Ямина подошла к ним, они стояли рядом друг с другом в темноте.
Они услышали ее торопливые шаги и поняли, что это идет она. Прежде чем девушка обогнула последний угол и появилась перед ними, они увидели приближающееся к ним бледное свечение.
Константину очень хотелось, чтобы она заметила, что он стоит на ногах сам, без чьей-либо помощи. Он развел руками, чтобы было легче удерживать равновесие, но Джон Грант встал рядом примерно в такой же позе, чтобы в случае чего успеть подхватить принца.
Ямина держала в руке горящий факел, и, когда она подошла ближе, в его свете их тела отбросили тени на стену туннеля. Принц Константин и Джон Грант впервые посмотрели друг другу в глаза. Они были чем-то похожи на два листка, упавших с дерева и оказавшихся рядом лишь на краткий миг падения.
А еще их тени на какое-то мгновение вдруг стали похожи то ли на двух птиц, расправивших крылья, то ли на одну птицу с двумя головами. «Души-близнецы», – подумала Ямина, и у нее перехватило дыхание. Две связанные друг с другом души. Засунув свободную руку себе в карман, она стала искать кость пальца Амы, но затем, вспомнив, что Ама сегодня сделала для нее, она вытащила руку из кармана и мысленно пообещала себе, что обязательно расскажет Аме обо всем.
К этому моменту Ямина подошла уже довольно близко к принцу и Джону Гранту, и их тени вновь стали обычными тенями.
Она бросила факел на пол и кинулась в объятия Константина. Тот ее крепко обнял. Ямина тоже сжала его руками, но, услышав, что он застонал, выпустила его и отпрянула назад, чтобы увидеть лицо принца и убедиться в том, что она не причинила ему никакого вреда.
– Все хорошо, – сказал Константин и погладил ее каштановые волосы пальцами одной руки. – Я в ближайшее время не буду выигрывать соревнования по бегу, но…
– Но ты стоишь на ногах здесь, передо мной, – взволнованно произнесла она. – Я люблю тебя, Коста. Всегда любила и всегда буду любить.
Она поцеловала его, и он поцеловал ее, а затем она отстранилась от него и снова посмотрела ему в глаза.
– Как такое может быть? – спросила она. – Как такое может быть?
– Я обязан этим твоему заклинателю птиц, – улыбнувшись, сказал принц. – Я почерпнул сил из него, а он черпает свои силы – по крайней мере часть из них – из меня. Что еще я могу сказать? И что скажешь ты, заклинатель птиц?
Джон Грант, ничего не говоря, подошел к Ямине, взял ее правую руку и надел на ее средний палец маленькое золотое кольцо.
Он уже собирался произнести какие-то слова, но донесшиеся откуда-то из темноты звуки шагов заставили его промолчать и поднять с пола все еще горящий факел, который бросила Ямина.
К ним приблизилась Елена, вслед за которой шли воины. Каждый из них держал обнаженный меч в одной руке и факел в другой.
Константин повернулся к Ямине и вопросительно посмотрел на нее.
– Я ошибалась относительно некоторых людей, – сказала она. – Но я никогда не ошибалась относительно тебя.
Елена повела их за собой, продвигаясь вперед уверенным шагом. Принц Константин шел медленно, и его поддерживали с двух сторон два воина.
Когда они добрались до маленькой деревянной двери, усиленной полосками железа, Елена достала из кармана своей юбки длинный ключ и отперла ее. За этой дверью виднелся берег Мраморного моря, где в пока еще не захваченном турками месте был пришвартован корабль.
Эта маленькая группа людей, пригибаясь под низкой перемычкой двери, один за другим выбралась из темноты туннеля на солнечный свет. Ямина покидала туннель последней. Она остановилась перед самым выходом из туннеля и посмотрела на кольцо. Золото слегка поблескивало, и Ямина заметила, что кольцо было сделано в форме маленького ремня с расстегнутой пряжкой.
Она устремила свой взгляд на залитое солнцем пространство и стала искать глазами человека, являющегося душой-близнецом Константина. Но Джон Грант исчез – он сумел сделать то, что и намеревался сделать.
Инге Отт
Тайна рыцарей тамплиеров
Сокровища мудрости

Разбойничий лес
 Зима в 1118 году была холодная ясная. Девять молодых графов со своими оруженосцами молча ехали сквозь ночь. Еще в полдень отправились они в путь из Труа, столицы Шампани, затем миновали Люзиньи, где стражник, стоявший на карауле в башне, затрубив в рог, подал сигнал закрыть ворота.
Серое небо постепенно чернело, снег был мертвенно бледный, и дорога расплывалась перед уставшими от напряжения глазами всадников. Вскоре ничего уже не было видно, и они остановились. Старший оруженосец неуклюже спрыгнул с коня, подышал себе на руки и начал зажигать просмоленную палку. Господа оставались на лошадях, нетерпеливо бивших копытами.
Наконец смола зашипела и стала потрескивать, взметнулись искры. Оруженосец вскарабкался на коня; держа в руке высоко над головой факел, он поскакал вперед. Красноватый свет факела освещал совсем небольшое пространство, выхватывая из темноты лица двух графов, ехавших впереди. То тут, то там в снегу сверкали кристаллы льда.
— Через час мы прибудем, — сказал один из графов, почти не разжимая губ. — Там за лесом уже начинается болото.
— При последней встрече с графом Шампанским на болотном острове вы тоже делали привал в Вандевре, господин де Пайен? — тихо спросил другой. — Меня не было с вами в тот раз.
Господин де Пайен кивнул головой:
— Только было тепло — не то, что сегодня, — и он показал на пар, шедший из конских ноздрей. Затем они опять замолчали.
Оруженосцы скакали позади всех, низко пригнувшись к шеям своих коней, чтобы не потерять след ехавших впереди. Свет факелов до них не доходил. Маленький Эсташ и толстый Эдюс, которым не было еще и двенадцати, ехали самыми последними. Здесь, между Труа и Вандевром, отсутствовала необходимость в арьергарде: это была дружественная земля графа Шампанского. Кони чуть приплясывали, почуяв болото. Они услышали, как оно хлюпает, и навострили уши.
— Стойте! — приказал господин де Пайен, а когда отряд остановился, добавил: — Оруженосец, передай факел господину де Монбару!
Оруженосец передал факел рыцарю, находившемуся рядом с господином де Пайеном.
— Там, справа от нас, — господин де Пайен указал в темноту рукой, державшей повод, — находится город Вандевр. Нам уже приходилось ночью располагаться здесь лагерем. Разведите костер, напоите коней, — сказал он оруженосцам, — на краю болота есть вода, и лед там тонкий. Сейчас я с другими господами вас оставлю. Рано утром мы сюда вернемся.
Рыцари сошли с коней и передали поводья своим оруженосцам. Затем они собрались вокруг господина де Монбара, высоко державшего факел, и под предводительством господина де Пайена вступили в кустарник, окаймлявший болото.
Оруженосцы прислушивались к затихавшему вдали шороху и видели, как исчезает во тьме свет факела. Но никто не промолвил ни слова. Они молча вели коней под уздцы и делали все так, как приказал господин де Пайен.
Костер разгорался с большим трудом, так как сучья, подобранные по дороге, заиндевели. Наконец зашипели подрагивающие языки пламени. Младшие оруженосцы сняли с коней поклажу и седла и положили их на некотором отдалении от костра. Постепенно костер запылал. Оруженосцы стреножили лошадей и повесили вокруг них торбы, расстелили у костра шкуры, опустились на них и, голодные, съели то, что нашлось у них в походных мешках. Эсташ и Эдюс устроились рядом. Присев на корточки, Эсташ толкнул друга в бок.
— Ночью на болоте? — пробормотал он. — Надеюсь, что они не увязнут!
— Они найдут дорогу даже во сне, — тихо ответил Эдюс.
— Что они там делают?
Эдюс пожал плечами:
— Неизвестно. Никто из младших оруженосцев об этом не говорит, ты, наверное, заметил. С уверенностью я могу сказать только одно: рано утром они вернутся со сверкающими глазами. Так было и в последний раз.
Мальчики плотно завернулись в плащи и приготовились, как следует поспать на расстеленных шкурах.
— Возможно, — сказал Эдюс Эсташу на ухо, — возможно, на этом болоте есть место, где твердая почва, и там они делают то, о чем не положено знать другим людям, — он перевернулся с боку на бок и заснул. Эсташ лежал, не засыпая.
Костер, некоторое время горевший ярким пламенем, теперь лишь чуть потрескивал. Вскоре от него остались только красные угли. «Ночью на болоте!»… По равномерно поднимавшимся и опускавшимся плащам Эсташ понял, что все остальные спали. Старший оруженосец храпел, прижавшись к седлу господина де Пайена. Слева за кустами были слышны шаги часового. Кричал сыч. «Ночью на болоте!»… Эсташ вдыхал запахи тлеющего костра, кожи, из которой были изготовлены седла, и гнилой болотной воды. Это был его первый ночной привал с тех пор, как он стал пажом у дружелюбно к нему настроенного господина де Монбара.
Недалеко от городка, где родился Эсташ и в котором жили его родители, также было болото. Но все избегали его, потому что там водились призраки и блуждающие огни, завлекавшие ночных странников в трясину. Разве не было их и в этом болоте? Но почему же тогда господа пошли туда? Разве они не боялись духов? И что у них была за тайна?
Эсташ размышлял еще некоторое время. Затем у него сами собой закрылись глаза. Ему снились докрасна раскаленные угли лагерного костра. Но этот костер был не на лугу рядом с ним, а в беззвездном небе, на которое он смотрел перед тем, как заснуть. Там он увидел великана с широко распростертыми крыльями и прекрасным, величественным, лицом, подобного которому еще не приходилось встречать Эсташу. На голове у великана сверкала золотом корона с ослепительным карбункулом в центре. Но внезапно этот величественный образ был низвергнут с небес и с ужасным, криком рухнул на землю.
Эсташ проснулся. Там, где ему привиделся светящийся образ, упавший на землю, догорали последние головешки лагерного костра. Товарищи спали; часового сменили. Все было так, как и должно было быть. Глядя на едва тлеющий костер, Эсташ снова уснул, и прежние видения вновь наполнили его сон. Он увидел маленького рыжего человека, одетого по-монашески. Своим посохом этот человек ворошил догорающие угли. Что он ищет у нашего лагерного костра? Почему его пропустили часовые? Возмущенный Эсташ хотел его прогнать. Тогда рыжий, улыбнувшись, подмигнул ему. Он сгреб в сторону обуглившиеся ветки, и Эсташ отпрянул, ослепленный — под углями лежал искрящийся карбункул, который был в короне у небесного великана, только расколотый на три части.
Самый маленький осколок можно было вставить в кольцо. Второй был размером с кулак, а третий — больше, чем первые два, вместе взятые. Эсташ вопросительно посмотрел на рыжего, но того уже не было. Мальчик открыл глаза. Лагерный костер стал серым пепелищем. Небо медленно бледнело. Оруженосцы ворочались под своими плащами, зевали. Они услышали шум, приближавшийся со стороны болота, и вскочили — рыцари возвращались в лагерь. Их глаза сверкали.
Эсташ и Эдюс подвели коней. Они помогали нагружать бочки и мешки, которые сняли накануне вечером: продовольствие было необходимо для недавно основанного монастыря, который хотели посетить их господа. Один молодой аббат с несколькими монахами того же возраста построил его в проклятом разбойничьем лесу Клерво. Звали аббата Бернар.
Господин де Пайен нетерпеливо торопил всех остальных. Рыцари сели в седла. Эсташ разбежался и под общий хохот одним прыжком вскочил на коня. Отряд отправился в путь.
Погода переменилась. Как только бледное солнце достигло зенита, на деревьях начал таять узорчатый иней. Эсташ не обращал внимания на признаки наступавшей весны. Сон, приснившийся ему ночью, стоял перед глазами, отчетливый, как картина: Эсташ видел тщедушного рыжего человека, откопавшего своим посохом сияющий камень. Чего хотел от него этот образ из сна, не отпускавший мальчика даже днем? Эсташ содрогнулся.
— Эй! — грубо закричал Эдюс, — ты еще спишь или с тобой что-то случилось?
— Если бы ты знал, — тихо сказал Эсташ, — что за сон я видел… — он некоторое время ехал рядом с Эдюсом молча, а затем добавил: — о карбункуле, — и пересказал весь сон.
Тем временем рыцари подъехали к краю леса. Господин де Пайен приказал им остановиться.
— Перед тем как въехать в лес Клерво, мы должны немного поесть, — сказал он.
Когда они сидели в лучах полуденного солнца и ели, Эдюс сказал Эсташу:
— Тот, кому приснился карбункул, делается причастным к такой тайне, которую он не должен никому доверять.
Он робко посмотрел на своего товарища. Эсташ, отрезавший себе кусок сала, в смятении выронил нож. В тот же миг господин де Пайен приказал снова отправляться в путь, и бойкий господин де Сент-Омер подозвал к себе Эдюса, своего пажа. Тесной группой отряд продвигался по ухабистой, недостроенной дороге через пользующийся дурной славой лес Клерво.
Эсташ не оглянулся на поляну, где они останавливались, и не увидел, как сверкает в снегу его нож, который он уронил в растерянности.
Лес был темный и густой, а дорога узкая. Зловеще вскрикивала сойка, и певчие птицы умолкали перед поступью конских копыт. Эсташ, озираясь, в страхе посмотрел на Эдюса, который опять ехал сзади. Разве там не шуршал подлесок? Разве у этих густых кустов не сто глаз?
Эдюс, увидев боязливый взгляд друга, покачал головой и, снисходительно улыбаясь, махнул рукой. Он и сам испытал подобный страх, когда впервые проезжал через этот лес. Но внезапно Эдюс пришпорил своего коня и закричал:
— Эсташ, у тебя за поясом нет ножа!
Эсташ ощупал привычное место — ножа, такого бесценного, такого необходимого, там не было. Ножа прапрадеда, подаренного ему на прощание старшим братом, который когда-то получил его в наследство в родном городке, Единственное оружие… Эсташ беспомощно посмотрел на Эдюса, а затем решительно повернул своего коня назад.
— Если ты поторопишься, — закричал Эдюс ему вслед, — то сможешь догнать нас еще до того, как мы въедем в монастырские ворота!
Эсташ скакал галопом назад сквозь густой лес. Он изо всех сил старался ехать как можно быстрее.
«Чего я боюсь? — спросил он себя, чтобы успокоиться. — Разве разбойники, обосновавшиеся когда-то в этом лесу, не ушли из него, когда Бернар начал строить монастырь? И разве Эдюс не встретил мой страх снисходительной улыбкой?»
И вот уже стала видна светлая поляна, на которой они утоляли голод. Там должен был лежать нож. Но ножа там не оказалось. Эсташ огляделся вокруг в поисках и на краю поляны заметил под кустом человека в залитой кровью рубашке. Он видел, как тот согнулся на холодной земле. Затем Эсташ заметил рукоятку своего ножа, торчащего из спины этого человека. Он в ужасе соскочил с коня и склонился над раненым.
— Эй! — несколько раз позвал Эсташ, прикоснувшись к его плечу, — ты меня слышишь?
Он протянул руку к ножу. Однако тотчас же убрал ее: нож, торчащий из спины, невозможно выдернуть без того, чтобы раненый не захлебнулся кровью. Это известно всем воинам. Эсташ заплакал, внезапно почувствовав свою беспомощность. У него не хватит сил посадить человека на коня, но и оставить его лежать здесь он не мог.
Раненый не слышал Эсташа.
— Послушай! — попытался мальчик еще раз, — я привезу тебя в монастырь, там тебя выходят!
Человек перестал корчиться от боли. Спустя мгновение он поднял лицо, и Эсташ увидел, что он еще молод.
— У меня есть конь, — обратился юный паж к раненому.
Человек поднял голову, огляделся вокруг, увидел коня и хотел что-то сказать мальчику, но изо рта у него хлынула кровь. Эсташ подвел коня к ближнему пню и привязал его к кусту. Еще мгновение он был в оцепенении от страха: разбойники могли вернуться, напасть и на него и отобрать коня.
Раненый приподнялся. Ножкрепко сидел у него в спине.
— Если ты сможешь встать на колени, — сказал Эсташ, — я буду поддерживать тебя спереди, и ты, возможно, поднимешься.
Человек попробовал сделать это. Все тело его содрогнулось, когда он, наконец, встал на ноги. Тяжело опершись Эсташа, он поплелся в сторону пня, но почти сразу упал. Изо рта у него обильно текла кровь. Эсташ тяжело дышал. «Как мне посадить его на коня?» — думал он в отчаянии. Как только Эсташу удалось перевести дух, ой снова поднял раненого на ноги и помог ему взобраться на пень.
— Крепко держись за седло! — сказал он, развязал подпругу и сунул под нее ногу раненого. Затем он изо всех сил поднял его и положил животом на коня.
Отдышавшись, Эсташ натянул подпругу, вскочил в седло и медленно поехал по ухабистой дороге через лес. Страх перед разбойниками странным образом прошел.
Раненый стонал. Изо рта у него непрерывно текла кровь. Эсташ не знал, удастся ли ему привезти раненого в монастырь живым. Но он знал, что поступает правильно. В этом он был совершенно уверен.
Вдруг впереди он услышал стремительно приближавшийся топот копыт. По лесной дороге навстречу ему мчались два всадника, и тут же в одном из них он узнал Эдюса. Другой был господин де Монбар, обеспокоенный отсутствием своего пажа. Но как только де Монбар увидел раненого, облегчение на его лице сменилось ужасом: он ошеломленно смотрел то на нож, то на Эсташа. Это продолжалось очень недолго. Затем господин де Монбар повернул коня назад и помчался рысью в сторону монастыря. Побледневший Эдюс молча ехал вслед за Эсташем.
Зима в 1118 году была холодная ясная. Девять молодых графов со своими оруженосцами молча ехали сквозь ночь. Еще в полдень отправились они в путь из Труа, столицы Шампани, затем миновали Люзиньи, где стражник, стоявший на карауле в башне, затрубив в рог, подал сигнал закрыть ворота.
Серое небо постепенно чернело, снег был мертвенно бледный, и дорога расплывалась перед уставшими от напряжения глазами всадников. Вскоре ничего уже не было видно, и они остановились. Старший оруженосец неуклюже спрыгнул с коня, подышал себе на руки и начал зажигать просмоленную палку. Господа оставались на лошадях, нетерпеливо бивших копытами.
Наконец смола зашипела и стала потрескивать, взметнулись искры. Оруженосец вскарабкался на коня; держа в руке высоко над головой факел, он поскакал вперед. Красноватый свет факела освещал совсем небольшое пространство, выхватывая из темноты лица двух графов, ехавших впереди. То тут, то там в снегу сверкали кристаллы льда.
— Через час мы прибудем, — сказал один из графов, почти не разжимая губ. — Там за лесом уже начинается болото.
— При последней встрече с графом Шампанским на болотном острове вы тоже делали привал в Вандевре, господин де Пайен? — тихо спросил другой. — Меня не было с вами в тот раз.
Господин де Пайен кивнул головой:
— Только было тепло — не то, что сегодня, — и он показал на пар, шедший из конских ноздрей. Затем они опять замолчали.
Оруженосцы скакали позади всех, низко пригнувшись к шеям своих коней, чтобы не потерять след ехавших впереди. Свет факелов до них не доходил. Маленький Эсташ и толстый Эдюс, которым не было еще и двенадцати, ехали самыми последними. Здесь, между Труа и Вандевром, отсутствовала необходимость в арьергарде: это была дружественная земля графа Шампанского. Кони чуть приплясывали, почуяв болото. Они услышали, как оно хлюпает, и навострили уши.
— Стойте! — приказал господин де Пайен, а когда отряд остановился, добавил: — Оруженосец, передай факел господину де Монбару!
Оруженосец передал факел рыцарю, находившемуся рядом с господином де Пайеном.
— Там, справа от нас, — господин де Пайен указал в темноту рукой, державшей повод, — находится город Вандевр. Нам уже приходилось ночью располагаться здесь лагерем. Разведите костер, напоите коней, — сказал он оруженосцам, — на краю болота есть вода, и лед там тонкий. Сейчас я с другими господами вас оставлю. Рано утром мы сюда вернемся.
Рыцари сошли с коней и передали поводья своим оруженосцам. Затем они собрались вокруг господина де Монбара, высоко державшего факел, и под предводительством господина де Пайена вступили в кустарник, окаймлявший болото.
Оруженосцы прислушивались к затихавшему вдали шороху и видели, как исчезает во тьме свет факела. Но никто не промолвил ни слова. Они молча вели коней под уздцы и делали все так, как приказал господин де Пайен.
Костер разгорался с большим трудом, так как сучья, подобранные по дороге, заиндевели. Наконец зашипели подрагивающие языки пламени. Младшие оруженосцы сняли с коней поклажу и седла и положили их на некотором отдалении от костра. Постепенно костер запылал. Оруженосцы стреножили лошадей и повесили вокруг них торбы, расстелили у костра шкуры, опустились на них и, голодные, съели то, что нашлось у них в походных мешках. Эсташ и Эдюс устроились рядом. Присев на корточки, Эсташ толкнул друга в бок.
— Ночью на болоте? — пробормотал он. — Надеюсь, что они не увязнут!
— Они найдут дорогу даже во сне, — тихо ответил Эдюс.
— Что они там делают?
Эдюс пожал плечами:
— Неизвестно. Никто из младших оруженосцев об этом не говорит, ты, наверное, заметил. С уверенностью я могу сказать только одно: рано утром они вернутся со сверкающими глазами. Так было и в последний раз.
Мальчики плотно завернулись в плащи и приготовились, как следует поспать на расстеленных шкурах.
— Возможно, — сказал Эдюс Эсташу на ухо, — возможно, на этом болоте есть место, где твердая почва, и там они делают то, о чем не положено знать другим людям, — он перевернулся с боку на бок и заснул. Эсташ лежал, не засыпая.
Костер, некоторое время горевший ярким пламенем, теперь лишь чуть потрескивал. Вскоре от него остались только красные угли. «Ночью на болоте!»… По равномерно поднимавшимся и опускавшимся плащам Эсташ понял, что все остальные спали. Старший оруженосец храпел, прижавшись к седлу господина де Пайена. Слева за кустами были слышны шаги часового. Кричал сыч. «Ночью на болоте!»… Эсташ вдыхал запахи тлеющего костра, кожи, из которой были изготовлены седла, и гнилой болотной воды. Это был его первый ночной привал с тех пор, как он стал пажом у дружелюбно к нему настроенного господина де Монбара.
Недалеко от городка, где родился Эсташ и в котором жили его родители, также было болото. Но все избегали его, потому что там водились призраки и блуждающие огни, завлекавшие ночных странников в трясину. Разве не было их и в этом болоте? Но почему же тогда господа пошли туда? Разве они не боялись духов? И что у них была за тайна?
Эсташ размышлял еще некоторое время. Затем у него сами собой закрылись глаза. Ему снились докрасна раскаленные угли лагерного костра. Но этот костер был не на лугу рядом с ним, а в беззвездном небе, на которое он смотрел перед тем, как заснуть. Там он увидел великана с широко распростертыми крыльями и прекрасным, величественным, лицом, подобного которому еще не приходилось встречать Эсташу. На голове у великана сверкала золотом корона с ослепительным карбункулом в центре. Но внезапно этот величественный образ был низвергнут с небес и с ужасным, криком рухнул на землю.
Эсташ проснулся. Там, где ему привиделся светящийся образ, упавший на землю, догорали последние головешки лагерного костра. Товарищи спали; часового сменили. Все было так, как и должно было быть. Глядя на едва тлеющий костер, Эсташ снова уснул, и прежние видения вновь наполнили его сон. Он увидел маленького рыжего человека, одетого по-монашески. Своим посохом этот человек ворошил догорающие угли. Что он ищет у нашего лагерного костра? Почему его пропустили часовые? Возмущенный Эсташ хотел его прогнать. Тогда рыжий, улыбнувшись, подмигнул ему. Он сгреб в сторону обуглившиеся ветки, и Эсташ отпрянул, ослепленный — под углями лежал искрящийся карбункул, который был в короне у небесного великана, только расколотый на три части.
Самый маленький осколок можно было вставить в кольцо. Второй был размером с кулак, а третий — больше, чем первые два, вместе взятые. Эсташ вопросительно посмотрел на рыжего, но того уже не было. Мальчик открыл глаза. Лагерный костер стал серым пепелищем. Небо медленно бледнело. Оруженосцы ворочались под своими плащами, зевали. Они услышали шум, приближавшийся со стороны болота, и вскочили — рыцари возвращались в лагерь. Их глаза сверкали.
Эсташ и Эдюс подвели коней. Они помогали нагружать бочки и мешки, которые сняли накануне вечером: продовольствие было необходимо для недавно основанного монастыря, который хотели посетить их господа. Один молодой аббат с несколькими монахами того же возраста построил его в проклятом разбойничьем лесу Клерво. Звали аббата Бернар.
Господин де Пайен нетерпеливо торопил всех остальных. Рыцари сели в седла. Эсташ разбежался и под общий хохот одним прыжком вскочил на коня. Отряд отправился в путь.
Погода переменилась. Как только бледное солнце достигло зенита, на деревьях начал таять узорчатый иней. Эсташ не обращал внимания на признаки наступавшей весны. Сон, приснившийся ему ночью, стоял перед глазами, отчетливый, как картина: Эсташ видел тщедушного рыжего человека, откопавшего своим посохом сияющий камень. Чего хотел от него этот образ из сна, не отпускавший мальчика даже днем? Эсташ содрогнулся.
— Эй! — грубо закричал Эдюс, — ты еще спишь или с тобой что-то случилось?
— Если бы ты знал, — тихо сказал Эсташ, — что за сон я видел… — он некоторое время ехал рядом с Эдюсом молча, а затем добавил: — о карбункуле, — и пересказал весь сон.
Тем временем рыцари подъехали к краю леса. Господин де Пайен приказал им остановиться.
— Перед тем как въехать в лес Клерво, мы должны немного поесть, — сказал он.
Когда они сидели в лучах полуденного солнца и ели, Эдюс сказал Эсташу:
— Тот, кому приснился карбункул, делается причастным к такой тайне, которую он не должен никому доверять.
Он робко посмотрел на своего товарища. Эсташ, отрезавший себе кусок сала, в смятении выронил нож. В тот же миг господин де Пайен приказал снова отправляться в путь, и бойкий господин де Сент-Омер подозвал к себе Эдюса, своего пажа. Тесной группой отряд продвигался по ухабистой, недостроенной дороге через пользующийся дурной славой лес Клерво.
Эсташ не оглянулся на поляну, где они останавливались, и не увидел, как сверкает в снегу его нож, который он уронил в растерянности.
Лес был темный и густой, а дорога узкая. Зловеще вскрикивала сойка, и певчие птицы умолкали перед поступью конских копыт. Эсташ, озираясь, в страхе посмотрел на Эдюса, который опять ехал сзади. Разве там не шуршал подлесок? Разве у этих густых кустов не сто глаз?
Эдюс, увидев боязливый взгляд друга, покачал головой и, снисходительно улыбаясь, махнул рукой. Он и сам испытал подобный страх, когда впервые проезжал через этот лес. Но внезапно Эдюс пришпорил своего коня и закричал:
— Эсташ, у тебя за поясом нет ножа!
Эсташ ощупал привычное место — ножа, такого бесценного, такого необходимого, там не было. Ножа прапрадеда, подаренного ему на прощание старшим братом, который когда-то получил его в наследство в родном городке, Единственное оружие… Эсташ беспомощно посмотрел на Эдюса, а затем решительно повернул своего коня назад.
— Если ты поторопишься, — закричал Эдюс ему вслед, — то сможешь догнать нас еще до того, как мы въедем в монастырские ворота!
Эсташ скакал галопом назад сквозь густой лес. Он изо всех сил старался ехать как можно быстрее.
«Чего я боюсь? — спросил он себя, чтобы успокоиться. — Разве разбойники, обосновавшиеся когда-то в этом лесу, не ушли из него, когда Бернар начал строить монастырь? И разве Эдюс не встретил мой страх снисходительной улыбкой?»
И вот уже стала видна светлая поляна, на которой они утоляли голод. Там должен был лежать нож. Но ножа там не оказалось. Эсташ огляделся вокруг в поисках и на краю поляны заметил под кустом человека в залитой кровью рубашке. Он видел, как тот согнулся на холодной земле. Затем Эсташ заметил рукоятку своего ножа, торчащего из спины этого человека. Он в ужасе соскочил с коня и склонился над раненым.
— Эй! — несколько раз позвал Эсташ, прикоснувшись к его плечу, — ты меня слышишь?
Он протянул руку к ножу. Однако тотчас же убрал ее: нож, торчащий из спины, невозможно выдернуть без того, чтобы раненый не захлебнулся кровью. Это известно всем воинам. Эсташ заплакал, внезапно почувствовав свою беспомощность. У него не хватит сил посадить человека на коня, но и оставить его лежать здесь он не мог.
Раненый не слышал Эсташа.
— Послушай! — попытался мальчик еще раз, — я привезу тебя в монастырь, там тебя выходят!
Человек перестал корчиться от боли. Спустя мгновение он поднял лицо, и Эсташ увидел, что он еще молод.
— У меня есть конь, — обратился юный паж к раненому.
Человек поднял голову, огляделся вокруг, увидел коня и хотел что-то сказать мальчику, но изо рта у него хлынула кровь. Эсташ подвел коня к ближнему пню и привязал его к кусту. Еще мгновение он был в оцепенении от страха: разбойники могли вернуться, напасть и на него и отобрать коня.
Раненый приподнялся. Ножкрепко сидел у него в спине.
— Если ты сможешь встать на колени, — сказал Эсташ, — я буду поддерживать тебя спереди, и ты, возможно, поднимешься.
Человек попробовал сделать это. Все тело его содрогнулось, когда он, наконец, встал на ноги. Тяжело опершись Эсташа, он поплелся в сторону пня, но почти сразу упал. Изо рта у него обильно текла кровь. Эсташ тяжело дышал. «Как мне посадить его на коня?» — думал он в отчаянии. Как только Эсташу удалось перевести дух, ой снова поднял раненого на ноги и помог ему взобраться на пень.
— Крепко держись за седло! — сказал он, развязал подпругу и сунул под нее ногу раненого. Затем он изо всех сил поднял его и положил животом на коня.
Отдышавшись, Эсташ натянул подпругу, вскочил в седло и медленно поехал по ухабистой дороге через лес. Страх перед разбойниками странным образом прошел.
Раненый стонал. Изо рта у него непрерывно текла кровь. Эсташ не знал, удастся ли ему привезти раненого в монастырь живым. Но он знал, что поступает правильно. В этом он был совершенно уверен.
Вдруг впереди он услышал стремительно приближавшийся топот копыт. По лесной дороге навстречу ему мчались два всадника, и тут же в одном из них он узнал Эдюса. Другой был господин де Монбар, обеспокоенный отсутствием своего пажа. Но как только де Монбар увидел раненого, облегчение на его лице сменилось ужасом: он ошеломленно смотрел то на нож, то на Эсташа. Это продолжалось очень недолго. Затем господин де Монбар повернул коня назад и помчался рысью в сторону монастыря. Побледневший Эдюс молча ехал вслед за Эсташем.

Человек у костра
Привратник открыл монастырские ворота еще до того, как господин де Монбар постучал в них.
— Я вас узнал уже издалека, ведь вы — дядя нашего аббата с материнской стороны! — закричал он, обращаясь к господину де Монбару, — иначе я не открыл бы вам ворота так быстро. Господи! Как ужасно выглядит этот человек! — он указал на раненого. — Здесь вы найдете только одного лекаря: нашего аббата с его исцеляющей рукой!
Эсташ постарался как можно быстрее проехать в ворота. «Скорее, скорее, — думал он, — где же здесь можно приютить беднягу?»
— Аббат ожидает вас в келье у задней стены, — крикнул им какой-то монах.
Они проехали мимо мастерских, в которых слышался стук молотков, и подъехали к каменной стене без окон. Еще дальше стояло низкое деревянное здание. По мосту они миновали небольшой ручей, протекавший под дальней стеной монастыря, и увидели уединенную келью.
Рыжий тщедушный монах — ему могло быть около двадцати одного года — стоял у двери. Эсташ подумал, что он уже видел этого человека, но не помнил где.
Господин де Монбар спрыгнул с коня, и родственники, почти одного возраста, по-братски поцеловались. Не говоря ни слова, господин де Монбар указал на раненого. Бернар подошел к нему, слегка приподнял раненому голову, внимательно посмотрел в лицо и приказал подбежавшим монахам снять его с коня и посадить на землю. Человек не подавал никаких признаков жизни.
Бернар встал на колени перед раненым, которого двое монахов поддерживали сзади. Он воздел руки к небу и стал тихо молиться. Затем наклонился вперед, вдохнул в рот неподвижному человеку живую силу и, крепко обхватив его левой рукой, одним рывком правой вытащил нож у него из спины.
Эсташ пронзительно вскрикнул. В ужасе он закрыл лицо руками. Потом услышал, как аббат сказал монахам:
— Теперь хорошо за ним ухаживайте, он должен выжить.
Как только Эсташ нерешительно убрал руки от лица, взгляд его упал на рыжего монаха.
Аббат странно ему улыбался, и Эсташ сразу вспомнил, что видел его во сне: аббат был тем монахом, который ночью показал ему карбункул.
— Твой нож, — сказал Бернар, все еще улыбаясь, и протянул нож.
«Откуда ему это известно?» — смущенно спросил себя Эсташ. И, прежде чем мальчик объяснил все обстоятельства, связанные с ножом, аббат кивнул, словно что-то подтверждая. Эсташ долго смотрел на него, потеряв дар речи. Затем он медленно поднял руку и взял у аббата нож.
Эсташ не сразу разглядел человека, которого он спас, так как того окружили монахи; они его вымыли и набросили на него теплую рясу. Они выспрашивали его, кто он такой, откуда и кто на него напал, и то и дело допытывались, не болит ли у него что-нибудь.
Голос у раненого был еще слаб, поэтому Эсташ не слышал его ответов. Подошел слуга и увел коней, а аббат велел созвать других рыцарей, которые хотели послушать его рассказ о новых постройках монастыря, и не только о них.
— Я приглашаю всех господ в помещение, которое мы временно используем как трапезную, — сказал аббат. Он велел, двоим монахам отнести раненого в комнату, расположенную рядом с этой трапезной.
— Бедняга еще очень слаб, — добавил он, — и должен отдохнуть.
Но раненый встал на колени перед Бернаром и сказал взволнованным голосом:
— Господин, вы спасли мне с Божьей помощью жизнь: теперь она принадлежит вам. Распоряжайтесь ею.
— Может так случиться, — сурово ответил аббат, — что ты мне понадобишься для выполнения особой задачи, если ты тоже этого захочешь. А теперь вставай, — он помог раненому подняться. — Позволь проводить тебя в комнату. Мальчик, который тебя привез, пойдет с тобой и останется при тебе на случай, если что-нибудь будет нужно.
После этого несколько монахов, поддерживая раненого под руки, отвели его в небольшую комнату. Эсташ следовал за ними все еще в смущении, Уложив ослабевшего человека на мешок с соломой, монахи возвратились к своим обычным делам.
Эсташ огляделся. Комнатка была чисто побелена и имела маленькое окно. У стены напротив находилась еще одна дверь, заставленная узкой скамьей. Эсташ сел на эту скамью и стал смотреть на человека, лежавшего с закрытыми глазами.
Как же он молод! Руки и ноги у него были жилистые, а кисти рук — как у ремесленника. Раненый поднял веки и взглянул на Эсташа.
— Ты привез меня сюда?
Эсташ кивнул.
— Скажи мне, как тебя зовут?
И как только Эсташ назвал свое имя, человек сказал:
— Я Пьер, каменотес из Лиона, благодарю тебя за помощь.
Потом он опять закрыл глаза и уснул.
Эсташ прислонился спиной к двери. Расположенная рядом комната — трапезная — наполнилась голосами. Он знал, что трапезная — это монастырское помещение для еды. Оттуда доносились низкий голос господина де Пайена и мелодичный голос господина де Монбара. Звонкий голос с фламандским акцентом принадлежал господину де Сент-Омеру. Но отличить голос элегантного господина д'Альдемара от голоса господина де Сент-Амана Эсташ не мог. Наконец послышался и мощный голос господина де Мондидье. Затем собравшиеся расселись по скамьям.
— Любезные господа! — начал аббат. — Позвольте сердечно приветствовать вас в стенах монастыря Клерво. Благодарю вас за все ваши дары! Нас свела здесь общая забота. Это великая забота о нашей природе! Люди стали считать, что природа принадлежит им, и они могут делать с ней все, что заблагорассудится. Из арабских стран в нашу христианскую Европу проникают науки, которые, несмотря на свою занятность, трактуют наш прекрасный мир как мертвую материю, и это может привести к тому, что в один прекрасный день он будет разрушен. Мы хотим, чтобы природа осталась живой! Царь Соломон две тысячи лет назад познал тайны природы: ее законы, ее элементы, ее силы. Многое указывает на то, что он записал эти знания и сокрыл их, чтобы они не попали в руки к недостойным людям, которые стали бы ими злоупотреблять. Ибо тот, кто получит эти знания, приобретет громадную власть. Вы должны отправиться в путь, чтобы разыскать эти целительные знания. В глубинах горы Мориа, на которой царь Соломон построил Храм, есть зал с колоннами. И по сей день его называют «Конюшни Соломона». Многое указывает на то, что рядом с этим залом находится сокровищница мудрости, которую мы ищем. Бас девять человек. Король Иерусалимский — десятый в нашем союзе, а граф Шампанский, которого вы сегодня ночью посетили в тайном месте наших встреч, — одиннадцатый. Я же, ничтожнейший среди вас, — двенадцатый, и о моих силах лишь молиться за вас. Еврейские знатоки священных книг, занимающиеся здесь в монастыре переводом Писания, натолкнулись на заклинание, которое, вероятно, может послужить указателем для вас, когда вы окажетесь у цели путешествия — в Иерусалиме.
Сердце Эсташа учащенно забилось. Иерусалим!
— Но прежде, чем я скажу вам заклинание на древнееврейском языке, — продолжал аббат, — давайте все вместе дадим обет хранить эту тайну и не щадить ради нее своей жизни.
И все произнесли:
— Мы клянемся!
Затем аббат прочел заклинание на древнееврейском языке, и прозвучало оно чарующе и таинственно. После этого он перевел заклинание:
«Рядом со Святилищем
Скрыто двенадцать домов:
Жилища, где обитает Ничто,
Там найдешь ты слова,
Чтобы благословить мир.
Один-единственный ключ
Открывает эту тайну.
Именем Яхве
Он обозначается.
Если ты откроешь Ничто,
Не делай различия между домами!
Ибо в одном из них
Живет сила остальных одиннадцати».
Он повторил заклинание во второй и в третий раз, чтобы слова остались в памяти рыцарей. Затем благословил их в путь и попросил:
— Приветствуйте от моего имени короля Иерусалимского и передайте ему мою благодарность зато, что он пожелал отдать в ваше распоряжение здание, в котором вы нуждаетесь!
Вслед за этим Эсташ услышал, что местом встречи рыцари избрали Лион; больше он не смог понять никаких подробностей. Комната опустела, и голоса господ все менее отчетливо раздавались уже во дворе. Со двора донесся крик Эдюса, и когда Эсташ ему ответил, Пьер проснулся.
— Мы должны привести этого человека к аббату в келью, — сказал Эдюс, просунув голову в дверь.
— Привести? — стал сопротивляться Пьер. — Меня не нужно теперь вести!
Он один пошел к аббату монастыря Клерво. Эсташ увидел, как за Пьером закрылась дверь кельи, и стал ждать, но аббат с Пьером не спешили выходить оттуда.
— Пойдем, — нетерпеливо сказал Эдюс. — Пора ехать!
Когда они направились к своим коням, Эсташ рассказал другу, как он нашел Пьера, который оказался каменотесом, и то, что он видел аббата во сне.
Теперь, когда Эсташу стало кое-что известно о тайне рыцарей, он смотрел на них другими глазами. Какое торжественное у них, должно быть, настроение! Их лица были серьезны, и на коней они садились молча. Эсташ посадил Пьера на коня позади себя; прошло не более двух часов с тех пор, как он привез его сюда. Да, за два часа все изменилось: Эсташу еще никогда не приходилось хранить какую-либо тайну, и он даже не подозревал, что так скоро увидит Иерусалим.
Рыцари ехали сквозь лес Клерво. Они тоже думали об Иерусалиме. Их мысли уносились в неизвестность: они размышляли о необычном заклинании, смысл которого пока не постигли. Особенно загадочным казалось то место, где говорилось о скрытых домах, в которых находятся слова, и о каком-то Ничто. Вечернее солнце бросало огненные отблески на серебристые подвески коней. Вскоре сгустился туман, и с трудом можно было различать лес и лужайки.
Эдюс подъехал на своем коне к Эсташу.
— Разве можно держаться за такого малыша, каменотес? — обратился он к Пьеру. — Ты можешь пересесть на моего коня.
— Он крепко за меня держится! — возразил Эсташ. И подумал, что у него впервые в жизни есть тайна, которую нужно скрывать от Эдюса. За годы их дружбы такого еще не случалось. Эсташу казалось, что он совершает измену, омрачавшую их дружбу. Поэтому он робко добавил:
— Если Пьер хочет, он может проехать какую-то часть пути вместе с тобой. Тогда он тебе расскажет, как на него напали разбойники.
Когда Пьер сел позади Эдюса, Эсташ предался мечтам, тихо повторяя слово «Иерусалим» и наслаждаясь его звучанием. Только когда они выехали на широкую дорогу, он догнал всех остальных.
Темнота сгущалась, и рыцари остановились, чтобы зажечь факелы. Теперь Пьер сидел на коне Эсташа. Скоро графам предстояло разделиться на несколько групп. Уже виднелся перекресток дорог, где пути рыцарей расходились.
Одни из них ехали на север вместе с господином де Сент-Омером; господин де Пайен следовал в западном направлении; а господин де Монбар, который хотел взять каменотеса к себе в замок, отправился на юг. Каждый рыцарь видел факелы товарищей, исчезающие в вечернем воздухе. Из густеющих сумерек доносились крики прощания: «Через месяц в Лионе! До скорой встречи в Лионе!»
Эсташ улыбался во тьме: Лион? Нет, он думал о городе куда более далеком, чем Лион! Он видел себя на корабле посреди моря и в святом городе Иерусалиме. Пьер же вспоминал свой родной город Лион, где была его мастерская и где жила Сюзанна с их маленьким сыном.

К морю
Жители Лиона называли свой город воротами Средиземного моря, и по праву: Лион был важным узловым пунктом торговли, в особенности после того, как двадцать лет назад первые крестоносцы сделали торговые порты Святой Земли безопасными для христиан. Лион как вольный город не подчинялся никому, кроме германского императора. Это был почти неприступный город, построенный на крутых склонах окрестных гор, у подножия которых протекает Сона. В своей нижней части Сона течет параллельно Роне, а затем, к югу от города, впадает в нее. Поэтому жители старого Лиона из окон своих высоких домов могли видеть обе реки и лежащий между ними мыс.
Многие горожане плавали на своих судах вниз по течению до Марселя или вверх до Шалона. Они разбогатели благодаря шелку и пряностям. Почти все имели не одну лодку, и на каждой лодке был парус, прикреплявшийся к центральной мачте.
Зимой эти лодки приносили на мыс между двумя реками. Там их конопатили, и смолистый дым при восточном ветре стелился по улицам города.
У лионских каменотесов на этом мысе находился склад необработанных глыб; там было также помещение, где хранился инструмент для грубых работ, а мастерская для более тонких работ располагалась внутри городских стен, и рядом с ней был дом родителей Пьера, который теперь принадлежал его старшему брату. В верхнем этаже этого дома помещалась комната, где жили Пьер с Сюзанной с тех пор, как поженились. Здесь родился и их сынишка; Сюзанна назвала его Арнольдом в честь своего отца.
Вскоре после Рождества Пьер отправился в поездку, чтобы посмотреть в Шампани нужный ему известняк. Так он оказался в лесу Клерво, где попал в руки разбойников.
Сюзанна ждала его. Часто она стояла у окна в верхней комнате, откуда через городскую стену видна была Сона, и пристально вглядывалась, не плывет ли к ней Пьер в одной из лодок.
Но Пьер вес еще находился в замке господина де Монбара. Там его приодели и поселили у сторожа псарни. Эсташа он видел редко, так как тот должен был безотлучно сопровождать своего господина.
Иногда Пьер встречался с господином де Монбаром, тот смотрел на него испытующим взглядом, как бы спрашивая: «Все ли у тебя хорошо? У тебя уже ничего не болит?» Наконец он пригласил Пьера к себе.
— Я отпущу тебя домой, каменотес, так как ты выглядишь хорошо и, по-видимому, без труда перенесешь эту поездку. Возьми у моего слуги кожаную шляпу, куртку и дубину, а также нож и все, что тебе необходимо для такого путешествия.
— Господин, — сказал Пьер и, улыбаясь, покачал головой, — домой я, конечно, охотно поеду, но о том, чтобы вы меня отпустили насовсем, не может быть и речи! Я обещал аббату из Клерво оставаться с вами, куда бы вы ни поехали. Меня ожидает какая-то великая задача, я еще сам не знаю какая.
Господин де Монбар удивленно вскинул брови:
— Так сказал аббат? — он улыбнулся, повеселев. — Ну-ну…
— Теперь дайте мне отпуск, господин, если вы не против, и скажите мне, где и когда я смогу с вами встретиться.
— Будь восемнадцатого числа следующего месяца около полудня в Лионе у причала, возьми с собой в путешествие все, что пожелаешь. Мы отправимся в Святую Землю.
В Святую Землю! Пьер уходил из замка в прекрасном настроении. У ворот замка стоял Эсташ. Они еще долго махали друг другу руками на прощание. «Место встречи — Лион!» Весело насвистывая, Пьер вышел из ворот. Он знал, что возьмет с собой в это путешествие — свою семью! Часть пути он проехал в телеге крестьянина, потом один торговец посадил его под шатровую крышу своей повозки. Один раз ему пришлось ехать на осле, принадлежавшем слуге мельника, и таким образом он попал в город Шалон. В гавани этого города он нашел корабельщика из Лиона, и тот повез его вниз по реке.
С учащенным сердцебиением Пьер смотрел в сторону города, который больше не надеялся увидеть. Здорова ли Сюзанна? Что с ребенком? Перед его глазами медленно открывался Лион, и Пьер узнал окно своей комнаты. Может быть, машет ему рука? Он высоко поднял руку в знак приветствия. И почувствовал, как его переполнило счастье вновь обретенной жизни, которой он был обязан аббату из Клерво и маленькому Эсташу.
Восемнадцатого марта 1118 года перед полуднем Пьер вместе с Сюзанной и малышом долго стоял у лионского причала. С ними еще были угрюмый брат Пьера и его слуга, которые держали на поводках козу и двух тяжело нагруженных ослов. На боку одного из них висела плетеная детская кроватка. Жена брата, рыдая, прижимала к себе ребенка. Скоро рядом с ней уже не будет малютки, а собственных детей она иметь не могла.
Когда Сюзанна увидела, что ее свояченица так плачет, она тоже немного всплакнула. Кто знает, не расстаются ли они на всю жизнь? У нее не было ясного представления о Востоке. Правда, некоторые из жителей Лиона уже побывали в Святой Земле с тех пор, как двадцать лет назад ее завоевали крестоносцы. Но когда они возвращались, их восторженным рассказам верили только наполовину.
Не говоря уж об отрезах пурпурного шелка, крестоносцы привозили золотые украшения или чаши с драгоценными камнями, которые стояли в их комнатах на почетных местах. Некоторое время на вернувшихся домой крестоносцев посматривали косо, их боялись, так как считали, что благословение покинуло их дома.
Пьер вздрогнул: широкая лодка с восемью гребцами плыла по реке с севера. Она медленно приближалась.
— Они там! — воскликнул Пьер. Женщины обнялись на прощание. Свояченица еще раз прижала к себе ребенка и с неохотой передала его Сюзанне, а Пьер поблагодарил брата за все, что тот сделал для его подготовки к путешествию.
Лодка уже подплыла к причалу, и Пьер узнал всех девятерых рыцарей, оруженосцев и коней.
Господин де Мондидье возвышался над всеми остальными мужчинами. За ним на гребном ящике расположились Эсташ и Эдюс, которые махали Пьеру руками, показывая, что он может устроиться позади них. И как раз в тот момент, когда гребцы причаливали, раздался полуденный звон колоколов.
На берег сошел только господин де Пайен.
— А вот и ты! — сказал он. — Я слышал от господина де Монбара, что ты собираешься сопровождать нас. А это твоя жена? — он показал на Сюзанну. Но затем его взгляд упал на детскую корзиночку на ослиной подпруге, и брови его нахмурились. — Это что же, — он кивнул на корзинку, — ты собрался везти с собой всю семью?
— Простите, — резко сказал Пьер, — я получил разрешение господина де Монбара взять с собой в путешествие все, что захочу.
Господин де Пайен вопросительно посмотрел на господина де Монбара. Но тот лишь пожал плечами, словно хотел сказать, что пусть так и будет.
— Семья, — лукаво сказал он, — видимо, тоже включена в благословение аббата.
— Ну тогда садитесь в лодку! Я надеюсь, тебе не придется сожалеть о том, что ты взял их с собой.
Животные тяжело затопали по трапу. Их привязали с одной и с другой стороны шеста, расположенного в центре судна и образующего в продольном направлении нечто вроде перил. И теперь, когда Пьер с Сюзанной приближались к корме, пройдя мимо господ, животных и багажа, гребцы отчалили. Отплывающие бросили последний взгляд на причал: брат и свояченица выглядели как две забытые на берегу куклы величиной в одну пядь.
Гребцы вошли в бурную Рону, и судно некоторое время качало. Сюзанна в страхе прижала ребенка к груди. Она еще ни разу не путешествовала, теперь же ей приходилось плыть по бурной непредсказуемой реке, а вскоре — и по более коварному морю. Ища утешения, она потянулась к руке Пьера.
Ребенок сначала с удивлением смотрел на движение берегов, проплывавших справа и слева, затем это ему наскучило. Он немного похныкал, но, когда Сюзанна его побаюкала, быстро уснул. Сгущались ранние сумерки, поднимался туман. Но корабельщики хорошо знали речной путь; по очереди гребцы выкрикивали в темноту свой клич, обходя какие-то препятствия. Вскоре уже ничего не было слышно, кроме этих возгласов, путешественники укутались в плащи и молчали. Лишь изредка кони стучали копытами, или вода плескалась у руля, шуршали гребные шесты и снасти.
— Почему — тихо спросил Пьер, — все господа уже находились на корабле, когда он вошел в Лион? Разве сначала они не предполагали встретиться в Лионе?
— Это чистая случайность, — сказал Эдюс. — Когда в Шалоне мы садились на корабль, то вдруг увидели, что все они уже на нем, и мой господин громко расхохотался.
В небе сквозь рассеявшиеся облака показалась луна, и только на лугах виднелся тонкий слой тумана. Пьер заснул, обняв Сюзанну и прислонившись к гребному ящику, Сюзанна положила голову ему на грудь и тоже спала. Ребенок лежал у нее на коленях.
— Я полагаю, что только мы сейчас не спим, — тихо сказал Эдюс.
— Я слишком взволнован и не могу уснуть, — откликнулся Эсташ. — Что принесет нам это путешествие? Признаюсь тебе, я немного тревожусь. Надеюсь, что когда мы будем плыть по морю, на нас не нападут пираты. И надеюсь, что не будет бури!
Затем они стали говорить об Иерусалиме, и каждый признался, что совершенно не представляет себе этот таинственный город, чье имя известно всем.
Судно причалило в Арле, и господа высадились вместе со свитой. Маленький Арнольд лежал в своей корзиночке на боку осла, крепко привязанный лентой. Пьер посадил Сюзанну на осла, и путешественники отправились дальше. До Марселя было ровно два дня езды, но никто не обращал внимания на своеобразие местности, по которой они ехали, никто не удивлялся непривычным формам пиний и кипарисов, встречавшихся по пути. Каждый думал только о том, что через два дня все они окажутся на большом корабле и поплывут по морю.
Многие путешественники съезжались в этот портовый город. Купцы со своими повозками, авантюристы, а также паломники, у которых к плащу сбоку был пришит матерчатый крест: они стремились попасть в Святую Землю. Чем ближе был Марсель, тем оживленнее становилась дорога. Старый слуга господина де Пайена с трудом прокладывал путь рыцарям в толчее пешеходов. Наконец справа показалась странно блестевшая серая полоса, и господин де Сент-Омер воскликнул своим звонким голосом:
— Смотрите туда — это море!
Теперь предстояло долгое ожидание в толпе у городских ворот. Холодный морской ветер развевал плащи и головные платки. В городе столпотворение было не меньше.
Господин де Пайен ехал впереди, а своего старого слугу он отправил замыкать группу. В этом порядке они наконец попали на портовую улицу, на которой было расположено множество гостиниц. Посланник господина де Пайена находился в одной из них вот уже восемь дней и подготовил для путешественников комнаты.
Хозяин поприветствовал господ и дал знак своему слуге, который провел оруженосцев в крытые конюшни. Здесь они привязали коней и разгрузили поклажу, чтобы хранить под присмотром в сарае.
Когда они сняли поклажу и дали коням мешки с кормом, Эсташ сказал:
— Здесь мы всего на одну ночь. Завтра будем плыть по морю!
И вдруг понял, что не может больше ждать. Он даже не вспоминал о своем вчерашнем страхе.
Но корабли еще не отплывали: пора весенних штормов не прошла. Тем временем господин де Пайен с уверенностью бывалого путешественника закупал все, что могло понадобиться в дороге. В порту ему встретился заслуживающий доверия венецианский торговец, расхваливавший вместительность и боевые качества своего корабля.
— Идите, господин, сюда и посмотрите сами! — гордо воскликнул он и показал господину де Пайену борта, оснащенные пращами, откуда также торчали пики, булавы и багры на различных подставках.
— Я плыву в Яффу, — сказал торговец и пригладил взъерошенную бороду. — Путь туда столь же опасен, как и обратная дорога; и если дело дойдет до столкновения с пиратами, то предупреждаю, что пассажиры, способные с ними сражаться, обязаны защищать корабль. Ведь я везу в Яффу оружие и продовольствие, которые всегда привлекают морских разбойников. К тому же, паломники, следующие в Святую Землю, всегда везут полные кошельки денег; а возвращающимся оттуда людям часто приходится попрошайничать в сирийских портах, чтобы собрать деньги на обратный путь.
Затем торговец пригласил господина де Пайена под палубу и показал, какие мускулистые у него рабы-гребцы и как хорошо умащены их тела. Он представил ему надсмотрщика, командовавшего рабами. В чреве корабля были также бурдюки с водой, тугие копны сена и ящики с ячменем. Затем они стали договариваться о плате за проезд.
Через три дня — небо уже прояснилось, а море стало гладким и голубым — корабельщик отправил своего посланника в гостиницу, чтобы тот предупредил путешественников, что к вечеру нужно садиться на корабль, так как он намеревался отплыть на следующий день перед восходом солнца. Груз увязывался в тюки, поклажу нагружали на коней.
— Почему бы нам попросту здесь не продать наших боевых коней и не купить там несколько породистых арабских скакунов? — поинтересовался Эсташ.
— Эх ты, хитрец! — воскликнул Эдюс, — покрой арабского скакуна бронированным чепраком и посади на него рыцаря в полном вооружении! И тебе, малыш, достанется на орехи!
Как только они поднялись на корабль, господин де Пайен попросил своих людей, чтобы они не разбредались в разные стороны. Пьера с Сюзанной и ребенком он посадил в защищенное от ветра место, расположенное за рядом канатных: рулонов. Эсташ и Эдюс находились поблизости от них. На корабле было много паломников.
В эту ночь оба пажа не спали. Они стояли у поручней и смотрели, как гаснут огни портового города. На набережной мяукали кошки, а внизу, на волноломе, пищали крысы. Луна большими шагами устремилась к западу; тут же послышалась первая команда; одновременно на востоке в небе появилась яркая узкая полоса. Владелец корабля приказал звонить в колокол, висевший на балке в передней части корабля. Все путешественники опустились на колени и начали молиться о счастливом пути. Как только раздалось слово «аминь», корабль вышел из порта под монотонные команды надсмотрщика и теперь плыл по спокойному морю. Лишь изредка вздымались волны и падали на дощатый барьер. Курс корабля лежал вдоль побережья: из страха перед пиратами ни один торговец не отваживался плыть по открытому морю. Но и тут в течение всего путешествия на наблюдательном пункте стоял человек, всматривавшийся в сторону горизонта, не плывут ли пиратские корабли.

Путешествие
В первые дни путешествия на корабле было тревожно; но вскоре то, что раньше вызывало беспокойство, стало обычным. Никто больше не искал свой багаж; никто не терял своих соседей. За спальные места больше не нужно было бороться, так как каждый устроился по-домашнему между своими вещами и оставался на том же самом месте. Лишь по утрам у бочек с водой наблюдалась толкотня.
Бурь пока не было, и упругое солнце сияло на темно-синем небе. Бриз мало помогал от жары. Когда жара становилась невыносимой, владелец корабля раздавал простыни, защищающие от солнца, и матросы помогали их натягивать.
Эдюс и Эсташ сидели на небольшом отдалении от рыцарей под простыней семьи каменотеса. Эсташу пришло в голову обучать маленького Арнольда бегу; и он маршировал, держа малыша за ручку, по свободной части палубы размером не больше козьей шкуры. При этом он поглядывал на господ, усевшихся в круг и державших совет.
Время от времени Пьер приглашал Эсташа для беседы и обнимал его. И Эсташ тяжело вздыхал, ведь от толстяка Эдюса скрывать тайну было не сложно, но скрывать ее от Пьера было действительно трудно. От Пьера, которым он восхищался, у которого он научился так наматывать одежду на жердь, что получалась крепкая связка; который нарисовал на крышке ящика шахматную доску, а из хлеба изготовил фигуры. От Пьера, угощавшего его молоком своей козы; доверявшего ему одному своего маленького сына; следившего, чтобы Эсташ находился под тенью простыни, когда спал днем… Пьер разговаривал с ним так, словно между ними не было разницы в возрасте; веселый и надежный Пьер иногда очень серьезно всматривался вдаль и клал тяжелую руку Эсташу на плечо. Скрыть тайну от Пьера было почти невозможно. Или, может быть, аббат сам рассказал о ней Пьеру? Эсташ вопросительно смотрел ему в лицо и уже открывал рот для доверительного разговора.
На семнадцатый день путешествия Эсташ снова стал водить малыша по палубе. Но когда он склонился над ребенком, у него закружилась голова, и он упал ничком. Арнольд заплакал и стал звать маму.
«У меня морская болезнь?» — спросил себя Эсташ. Но на Ионическом море не было качки.
Пьер увидел издалека этот припадок. Впервые он удалился от семьи, чтобы получше рассмотреть сооружения, расположенные на корме корабля. Он подбежал к Эсташу и отвел на спальное место, уложил его там и повесил над ним защитное полотенце от солнца.
— Но я ведь не болен! — Эсташ пытался сопротивляться такому проявлению заботы, но у него снова закружилась голова. Он рухнул на матрац. Пьер подложил ему под голову что-то мягкое, это Эсташ еще чувствовал, затем он уснул. Пьер посмотрел на свободное место между кучами нагроможденного багажа, оставленное для корабельной команды, там прогуливались два паломника. Внезапно один из них зашатался, словно с ним тоже случился приступ головокружения. У борта лежала женщина, выглядевшая нездоровой, она стонала, прижав руку к животу. На некотором отдалении он увидел еще нескольких пассажиров болезненного вида; там был желтолицый человек, лежавший на палубе, а совсем поблизости, какую-то женщину укладывали на кучу тюков. Неужели это от питьевой воды, купленной в городе Реджо? Владелец корабля заплатил за нее большие деньги. Господин де Сент-Омер внезапно тоже скорчился и, шатаясь, рухнул на мешки.
Ночью Эсташ начал бредить. Зубы его стучали в лихорадке.
— Карбункул! — стонал он, — разве ты его не видишь? Он парит надо мной и над тобой! Пьер! — кричал он, — Пьер!
Затем он снова успокоился и, стуча зубами, натянул шкуру, расстеленную Пьером, до самого рта. После этого в бреду Эсташ вел бессвязные речи о костре и маленьком рыжем человеке и жалобно хныкал.
— Тайно, тайно спрятан, — слышал Пьер его шепот, — спрятан в болоте… нет, нет, рядом с храмом… он сияет! Пьер! Пьер!.. Ах, теперь он исчез.
Обессилев, Эсташ снова заснул.
Рыцари, которые остались здоровы, качали головами и озабоченно смотрели на него.
— Нам остался еще один день до Крита, — сказал господин д'Альдемар на своем непривычном провансальском диалекте, — и еще одна ночь.
Но что он мог ожидать от этого острова, — где был запланирован лишь краткий отдых по пути в Яффу? Возможно, он сказал это ради утешения, но утешать тут было нечем. Капитан приказал вылить в море оставшуюся питьевую воду, а на острове набрал новую. Больные, которые были достаточно крепки, медленно поправлялись. Те, у которых совсем не осталось сил из-за болезни, умирали, и их хоронили в море, читая над ними молитвы.
Пьер сидел, обняв Эсташа, и поил его козьим молоком. Жар ослаб, но Эсташ как-то странно изменился. Его лицо стало желтовато-бледным, как у старика. А когда он открывал глаза, они смотрели совсем уныло. Но самым большим изменением было то, что он совсем перестал разговаривать. Он ничего не отвечал на все вопросы Пьера, и наконец ошеломленный Пьер понял, что, не смотря выздоровление говорить Эсташ больше не может. Пьер склонился над мальчиком и рыдал.
Эдюс же, поняв, что произошло с Эсташем, шевелил бледными губами и произносил слово «карбункул». Он полагал, что в этом слове заключена великая тайна, вызвавшая болезнь у Эсташа и лишившая его дара речи.
Медленно, под песнопения корабль входил в порт Яффы, уставленный лесом рей. В час прилива капитан приказал спустить паруса, он сам стал звонить в колокол и запел благодарственную песню, которую подтянули все голоса. Паломники благодарили Господа за то, что Он дал им увидеть цель их путешествия. То, что некоторые из них умерли в пути, больше не имело особого значения. Кто знает, не предстоит ли им самим погибнуть во время этого великого паломничества? На все воля Божья… Только Пьер не принимал участия в этом ликовании. Он опечаленно смотрел на Эсташа, сидевшего на тюке и бессмысленно уставившегося в палубу.
По приказу капитана первыми сойти с корабля должны были те, у кого не имелось лошадей и ослов, он велел каждому сложить свой багаж на причал, где его можно было оставить под присмотром сторожа.
— Последними выводите лошадей, без поклажи, их нужно вывести на часовую прогулку, и только потом можно будет нагрузить. У них затекли ноги от долгого стояния на корабле.
Так и сделали. Эсташ вместе с Сюзанной и малышом сидел на куче рыцарского багажа. На набережной царила суета. Пробегали носильщики, громко расхваливая силу своих мускулов. Водоносы продавали питьевую воду. Погонщики ослов предлагали своих животных для доставки грузов. Женщины с широкими плоскими корзинами на головах продавали удивительные, невиданные фрукты.
Спустя час господа и оруженосцы привели лошадей, на которых погрузили поклажу, и все отправились в сторону гостиницы. Оруженосцы остались при лошадях в конюшне.
Но еще до полуночи господин де Пайен велел накормить и снова навьючить животных.
— Мы должны ехать, чтобы пройти значительную часть пути еще до наступления жары.
На улице перед гостиницей их ожидал проводник, который поехал впереди всех рыцарей. Это был человек средних лет. Белая рубаха свисала у него поверх шаровар до самых икр, Его коричневое лицо с резкими чертами обрамляло, словно вуаль, покрывало, прикрепленное к войлочному кольцу, которое он носил на голове. К поясу этого человека был привязан кусок вяленого мяса; на боку висел изогнутый нож. Его шелудивый осел вез небольшой бурдюк с водой. Все прочие вьючные животные также были нагружены бурдюками с водой. Пьер с удивлением заметил, что господа надели кожаные куртки, а мечи наискось положили на седла. Щиты их были привязаны ремнями к спинам. Господин де Пайен троих рыцарей отправил в арьергард, трое ехали между семьей каменотеса, рядом с которой был и Эсташ, и свитой. Сам он вместе с господами де Сент-Омером и д'Альдемаром ехал сразу вслед за проводником. Людям свиты он приказал держать дубинки наготове. Затем подал знак к отправлению.
Луна светила так ярко, что окружающая местность была видна очень хорошо. За спиной мерцало серебристое море, а впереди вздымались поросшие низкой растительностью горы. Небо казалось близким, на нем пылали огромные звезды. Всадники скакали молча — сначала через равнинные поля и сады, затем медленно в гору. Перед ними белели одежды проводника. Чем больше они удалялись от города, тем напряженнее вслушивались в звуки. Они научились различать шумы в эту непривычную для них ночь и не хвататься при каждом шорохе за дубинку или рукоятку меча.
На небе над горным хребтом появилась розовая полоска, она расширилась и стала желтой. Солнце бросало свои лучи на море и землю.
Час они поднимались в гору. Затем проводник спрыгнул с осла и повел их между кривоствольными деревьями.
— Отдыхать! — сказал он. Это было единственное известное ему французское слово.
Он показал на лошадей и на скудную траву, и оруженосцы стреножили коней. Проводник отрубил ломоть вяленого мяса, разрезал его на мелкие кусочки и принялся их жевать своими огромными белыми зубами. Он не усаживался для того, чтобы поесть, как это делают европейцы, а остался стоять, прислонившись к искривленному стволу дерева. Когда его блуждающий колючий взгляд устремлялся на кого-нибудь из паломников, он растягивал губы, изображая улыбку.
Пьеру этот человек казался подозрительным. Пьер боялся его. Озабоченно он смотрел на Сюзанну и ребенка. А вдруг этот «вуаленосец» тайно связан с бандой разбойников? Ему вспомнились слова господина де Пайена: «Я надеюсь, тебе не придется сожалеть о том, что ты взял их с собой».
Но он увидел, что даже за едой рыцари не расстаются с мечами, и немного успокоился. Они привыкли к сражениям; и несмотря на кажущуюся беззаботность, с которой они ели, бдительность не покидала их лиц.
Во время второго привала, высоко в горах, когда люди и животные изнемогали от жары и усталости, никто не присел на землю. Площадка для отдыха вся была утоптана лошадиными следами, оставленными маленькими копытами без подков. А во многих местах утрамбованный песок был окрашен в бурый цвет. Все видели эти пятна высохшей крови, просочившейся в песок, но промолчали. Пьер же почти не сомневался, что тут были турецкие кони и пролилась христианская кровь.
Утолив жажду, тотчас же поехали дальше. Пьер заметил на лице проводника странное выражение, похожее на досаду. Но тот по-прежнему ехал впереди остальных, и потом па его лице ничего подозрительного уже не было заметно. Оставалось два часа пути до Святого Города. В лучах заходящего солнца они увидели городскую стену, башни и арку гигантского акведука из пылающей в закате бронзы. Рыцари остановились в оцепенении, бросая друг на друга вопросительные взгляды. Они здесь! Они достигли цели! Но исполнится ли то, ради чего они сюда приехали? Путешественники молча перекрестились. Пьер и Сюзанна так же смотрели на город горящими глазами. Никто не обращал внимания на Эсташа.
Постепенно глаза мальчика веселели. Долго смотрел он на золотую местность, раскинувшуюся вокруг. Внезапно из глаз его хлынули слезы, лицо разрумянилось, Эсташ улыбался. Теперь он был в Иерусалиме, но никогда в жизни он не сможет рассказать о счастье, испытанном им в этот великий момент.

Святой город
Проводник жестом доказал господину де Пайену, что собирается вернуться. Из-за пазухи он достал кожаный кошелек и держал его раскрытым. Господин де Пайен, смеясь, отсчитал сумму вознаграждения, причитающуюся проводнику. На мгновение проводник в знак прощания приложил руку ко лбу. Затем он сел на осла и уехал, выкрикивая непонятные слова. Пьер, наблюдавший за ним, поймал его последний злобный взгляд и заметил, как проводник плюнул в сторону паломников.
Перед ними располагались Яффские ворота, но в город через них не пускали. Паломникам и путешественникам показали, что они должны ехать на север к Дамасским воротам, где с них требовали подать за ношение оружия. Там и вошел господин де Пайен в город вместе со своим отрядом. У всех учащенно бились сердца, лишь маленький Арнольд безмятежно спал в своей корзиночке.
Улицы были полны народа. Наступил час, когда городские ворота закрывались. Ослы упрямились под тяжестью нагроможденных на них мешков, лошади шарахались от толпы, верблюды с поднятыми головами и полуприкрытыми веками, раскачиваясь, приближались к поилке. Повсюду слышались возгласы: «Посторонитесь!» Уличные торговцы везли перед собой тачки, груженые товаром. Некоторые несли свои товары на голове. Кошки и собаки шныряли в поисках съестного вдоль стен домов, не имеющих окон. Соблазнительные запахи перемешивались с жутчайшим зловонием. Мусульманские монахи постукивали четками для молитвы, а христианские монахи напрасно пытались сплотить процессию поющих паломников.
Господин де Пайен, нагнувшись, вошел в городские ворота и оказался через несколько шагов во дворе с пальмами. Этот двор был ограничен подковообразным зданием, нижний этаж которого состоял только из колонн, соединенных между собой деревянными перилами. Там стояли на привязи верблюды, лошади, ослы, мулы, козы и овцы, уткнувшие морды в кормушки. К балкам были подвешены клетки с курами и гусями.
Над этими помещениями для животных располагался этаж с комнатами для паломников, куда можно было подняться по лестнице. У входов в некоторые комнаты лежали свернутые матрацы. Со двора было видно, что в комнатах находятся люди, а также их багаж и купленные ими товары. Из многих комнат слышались стоны больных или раненых. Туда спешили люди в длинных черных рясах, и стоны ненадолго умолкали. На рясах этих людей к плечу был пришит белый матерчатый крест.
— Это монахи иоанниты, — сказал господин де Пайен, — они ухаживают за больными паломниками. Дом принадлежит им, — с этими словами он подвел своего коня к водоему, вода в который поступала из древнего акведука, замеченного путешественниками, еще когда они приближались к городу. К ним подошел угрюмый монах гигантского роста.
— Господа, — сказал он на нормандском диалекте французского языка, — добро пожаловать в наш караван-сарай! Вы приплыли вчера?
— Благодарю и приветствую, — ответил господин де Пайен. — Вчера.
— Мы ожидаем гостей из Франции, — сказал иоаннит. — Возможно, вы их знаете и можете сообщить мне, когда они будут здесь?
— Возможно, — сказал господин де Пайен, пожав плечами.
— Речь идет о господах Гуго де Пайене, Андре де Монбаре, Жоффруа де Сент-Омере, Арчибальде де Сент-Амане, Пэ де Мондидье, Жоффруа д'Альдемаре и рыцарях Ролане, Эртфриде и Жоффруа Бизо, которые сопровождают вышеназванных.
— Вы видите их перед собой, — ответил господин де Пайен, улыбаясь.
Тогда иоаннит расхохотался и похлопал его по плечу. Но тут же лицо его снова помрачнело. Он пошарил в своей рясе, вынул письмо, на котором была печать короля Иерусалимского, и передал его господину де Пайену, затем он повернулся и ушел заниматься своими делами.
Господин де Пайен распечатал письмо, бросил быстрый взгляд на содержание и, складывая его и пряча у себя под курткой, сказал:
— Послезавтра король ожидает нас на аудиенцию.
Подошли другие иоанниты, взяли лошадей и отвели их на конюшню. Господаразместились в трех комнатах, а оруженосцам был отведен угол, где они стерегли багаж и ночевали.
Рано утром господин де Пайен повел по святым местам тех, кто вместе с ним приехали из Европы. Они зашли в маленькую церковь, выстроенную над Гробом Господним. Еще видна была могильная плита, на которой когда-то сидел ангел. Во время оно он спросил апостолов: «Что ищете вы живого между мертвыми?» Разве не было это предостережением для многих паломников, толпившихся у Гроба Господня?
Так думал Эсташ, серьезными и внимательными глазами наблюдавший за происходящим: паломники, рыдая, падали ниц перед священной могилой, другие приводили сюда больных в надежде их излечить. Некоторые делали богатые жертвоприношения, и высокомерные священники, служившие у Гроба Господня, милостиво их принимали. Нищие просили подаяние.
Господин де Пайен привел своих друзей и на Голгофу. Здесь он опустился на колени и поцеловал землю. Поднявшись, он сказал оруженосцам:
— На этом месте на нашу землю пролилась драгоценнейшая кровь.
На следующее утро в караван-сарае иоаннитов появился адъютант короля, чтобы доставить господ на аудиенцию. Он был элегантно одет. Прошитый серебряной нитью камзол из коричневого бархата обтягивал шелковую рубашку с большим количеством складок — костюм нельзя было назвать ни европейским, ни восточным. Походка его была манерной.
— Мой господин король, — сказал он по-французски с фламандским акцентом, — пожелал милостиво принять вас.
И хотя обороты его речи были смешны, рыцари отнеслись к этому снисходительно. Господин де Сент-Омер даже спросил у него с доверительной откровенностью:
— Вы случайно не фламандец, как и я? Рад встретить в вас земляка!
Но адъютант холодно ответил:
— Фламандцем был мой отец, пришедший сюда двадцать лет назад с первыми крестоносцами. Я называю себя сирийским дворянином и ожидаю от вас того же самого.
Рыцари в смущении переглянулись. Собравшись с мыслями и почистив свою одежду, они последовали за нетерпеливым посланцем короля. С отсутствующим выражением лица он повел их в крепость, граничившую с Яффскими воротами. Она называлась Башня Давида.
Оруженосцы наблюдали за господами, открыв рты. Манеры адъютанта им не понравились. А вдруг и король ведет себя так же? Качая головами, они вернулись к лошадям и продолжили чистить их скребницами. И тут Пьер взял Эсташа за руку и сказал:
— Пойдем со мной. Я каменотес и хочу посмотреть, как здесь на Востоке укладывают камни при постройке башен и стен.
Иерусалим стоит на нескольких холмах, разделенных впадиной, идущей с севера на юг. Он возвышается над долинами, окружающими его с востока, юга и запада. Мощная стена с бесчисленными башнями опоясывает все части города.
Пьер и Эсташ видели с этой стены далеко простирающуюся холмистую местность, где паслись на скудной траве овцы и верблюды, и крестьяне в белых головных платках работали на крошечных участках земли.
В пределах города Храмовая площадь возвышалась над низкими жилыми домами, как прямоугольный поднос. Со стены друзья увидели на этом подносе большой золотой шар и серебряный шар несколько меньших размеров, словно солнце и луна упали сюда с небес. Когда же они пришли на Храмовую площадь, шары оказались куполами. Золотой венчал такое великолепное здание, подобного которому невозможно было увидеть на Западе. В сине-зеленой роскоши красок он парил над площадью. Толпы людей стекались на площадь и расходились. Пьер узнал от какого-то молодого человека, что это была мечеть халифа Омара, превращенная христианами в церковь после Первого крестового похода. Христиане ее называли «Скальный храм».
— Я каменотес, — сказал Пьер этому человеку, — и тебе будет понятно, какое огромное впечатление производит на меня чудесная мозаика, которой украшаю здание. Она сверкает, словно сделана из драгоценных камней!
Тем временем рыцари пришли в Башню Давида. По небольшим лестницам адъютант привел их в сумрачный зал, куда из-за глубоких оконных ниш почти не проникал дневной свет. Адъютант постучал в тяжелую дверь и, как только она чуть-чуть приоткрылась, доложил о прибытии девяти господ, которых ожидали.
Дверь закрылась, но тут же под мощным толчком снова распахнулась, и король Иерусалимский радостно вошел в зал.
— Добро пожаловать, друзья! — воскликнул он и широко распростер руки.
Рыцари преклонили колени и в знак повиновения поцеловали ему руку. Он велел им подняться и сердечно обнял каждого в отдельности, так как со всеми находился в близком или отдаленном родстве.
Король был уже не молод. Его седая борода и волосы были подстрижены по-восточному. Зеленая шелковая рубаха опускалась поверх панталон чуть ли не до сандалий, украшенных кованым серебром. Он повел рыцарей в свои личные покои. Вошли слуги и поставили свечи. От света мрачные стены стали казаться уютными.
Король говорил не совсем о том, что волновало рыцарей, он рассказывал им о своей последней поездке к границам Иерусалимского королевства — или, как здесь было принято говорить, Франкского королевства в Сирии.
— Наше христианское королевство, — начал он, — состоит из графств и княжеств. Поэтому оно кажется большим. Но нам постоянно угрожают: с юга — египетский султан, с востока — дамасский атабег, а с севера — турки-сельджуки. Поэтому приходится часто осматривать пограничные укрепления. Они должны быть в боевой готовности, — он вглядывался в лица собеседников, стараясь понять, представляют ли они себе, в каком опасном положении находится его государство. Рыцари серьезно кивали. — Нелегко, — продолжал он, — быть королем Иерусалимским. Князья, графы и бароны полагаются на собственное мнение. Их мнение по политическим вопросам часто не совпадает с моим. Этому радуются наши враги. Ибо когда мы разобщены, мы слабы. В каждом случае они убеждаются, что прослойка христианской знати в нашей стране очень мала. Среди многочисленных нехристиан имеется много шпионов; и, очевидно, они передают по цепочке сообщения, которые доходят до ушей наших врагов. Теперь расскажите мне о Европе, хоть я и получаю оттуда множество писем, устные сообщения моих друзей для. Меня всё-таки дороже.
Рыцари передали королю привет от аббата из Клерво и рассказали о том, как выглядит его монастырь и как Бернар во время их последнего посещения монастыря вылечил раненого каменотеса. Они сообщили королю и то, что аббат отправил Пьера вместе с ними в Святую Землю.
— Мы приветствуем вас и от имени графа Шампанского, — сказал господин де Пайен, — с которым у нас была встреча на Вандеврском болоте. Он поведал нам, какую неприступную крепость хочет соорудить на острове, поросшем кустарником, чтобы там можно было скрыть любую тайну, не опасаясь, что она попадет в руки недостойных.
— Пусть вам будет суждено, — торжественно сказал король, так как теперь речь зашла об их тайной задаче, — найти то, что вы ищете. От этого зависит благополучие всего человечества, ибо оно тесно связано с благополучием и полнотой жизни природы. Вы поселитесь в больших зданиях, примыкающих с юга к Храмовой площади. Со своим двором я прожил в них неделю. Вы, вероятно, уже слышали, что вся Храмовая площадь стоит на фундаменте, поддерживаемом массивными колоннами. Это гигантское сводчатое сооружение, построенное при царе Соломоне и расширенное Иродом, называют Конюшнями царя Соломона. А в домах, где вы будете жить, есть лестница, ведущая туда. Итак, вы окажетесь у цели своих устремлений. Я запретил моим людям спускаться по лестнице в подземный зал с колоннами. Сам я лишь один раз спустился в самую глубину. Но нижняя часть лестницы засыпана огромными валунами, поэтому мне не удалось дойти до конца. Держите меня в курсе всего, что вы будете делать и что вам станет известно. То, что вы сможете найти при раскопках в пределах моего королевства, будет принадлежать мне. Я благословляю вас во всех ваших делах.
Они кивнули в знак благодарности. Затем король добавил:
— Нам надо обсудить еще одну вещь, дорогие друзья: кроме вашей тайной задачи вы должны выполнить ещё и общественную, которая была бы одобрена народом. Вы об этом уже подумали?
О да! — оживленно воскликнул своим звонким голосом господин де Сент-Омер, а рыцари радостно переглянулись.
— Мой племянник Бернар посоветовал нам, — заявил господин де Монбар, — дать обет отказа от всякой собственности, пока мы не докопаемся до драгоценных сокровищ. Мы решили стать монахами. Об этом я хотел бы сказать, прежде всего. Что же касается вашего вопроса, то я на него могу ответить следующим образом: как вам известно, мы все обучены боевому ремеслу. Теперь мы отдаем наши руки, привыкшие к мечу, на службу вам. Используйте их, как вам покажется нужным, во благо Святой Земли.
— Значит, впредь будут существовать монахи-воины? — спросил король, улыбаясь. — Вы об этом хорошо подумали?
— В нехристианской части Востока уже давно существуют воинствующие монахи, — возразил господин де Сент-Аман.
— Да, конечно, — сказал король, и после некоторого размышления добавил; — Было бы хорошо, если бы вы дали монашеские обеты патриарху Иерусалимскому. Этот первосвященник и высший церковный иерарх очень печется о своей чести, он имеет право и обязанность защищать Иерусалим, в то время как король — в данном случае я — должен сражаться за его пределами.
— Но это, — воскликнул господин д'Альдемар, — должно происходить только при осаде, которой — с Божьей помощью — никогда не будет!
— Я предлагаю, — сказал король, не останавливаясь на словах, произнесенных господином д'Альдемаром, — поручить вам обеспечение безопасности путей, по которым идут пилигримы, в особенности известной вам дороги в Яффу. На паломников и купцов то и дело нападают отряды турецких всадников, которые их грабят и даже убивают. Не проходит и дня без кровопролития. Еще я думаю вот о чем: вам потребуйся абсолютно безопасный путь в сторону порта, если удастся найти то, что вы ищете. Да поможет вам Господь в поисках!
Король встал. Он проводил гостей до двери и сердечно с ними попрощался. Открывая дверь, он едва не задел притаившегося за ней адъютанта. Рыцари молча прошли мимо часовых к воротам. И только когда они оказались на улице, господин де Мондидье в ярости воскликнул:
— Адъютант все подслушал!
Но господин де Монбар тихо ответил ему;
— Не беспокойтесь об этом, господин Пэ, дверь ведь тяжелая и плотная.
Здание, покинутое королем, находилось в южной части Храмовой площади. Когда на следующий день рыцари вместе с оруженосцами и поклажей вышли из караван-сарая, они услышали крик муэдзина, созывающего мусульман на молитву с минарета сверкающей серебром мечети алъ-Акса. Привратник, стоявший у ворот дома, передал господину де Пайену большой ключ. Тот отпер ворота, и путешественники скрылись за стеной переднего двора.
Теперь девять друзей аббата из Клерво наконец достигли места, где им предстояло выполнить великую задачу.

Конюшни царя Соломона
Слуга короля провел Пьера в маленький домик, расположенный между Храмовой площадью и церковью Гроба Господня.
— Мой господин отвел вам этот дом для жилья, — сказал он. — Скорее всего, его выстроил мусульманин, ибо, как видите, здесь нет окон, выходящих на улицу. Мусульмане не терпят, чтобы кто-нибудь наблюдал за их семейной жизнью, а женщины не смеют показывать себя чужим людям. Будьте здоровы в этом доме! — он дружески кивнул и ушел.
В глухой внешней стене домика была только одна узенькая дверца, расположенная над двумя ступеньками. Когда же Пьер с семьей вошел в эту дверь и провел осла через порог, они оказались в уютном внутреннем дворе, над которым можно было натянуть простыню от солнца. В центре двора прямо в земле была оборудована каменная поилка для птиц, окаймленная коричневатой сухой травой. Лестница у стены вела на каменную галерею над тремя стенами, выходящими во двор.
В этой галерее было две двери, по одной с каждой стороны двора; внизу размещалась кухня, в верхнем этаже над ней располагалась спальня. Над стойлом для ослов и коз находился амбар; а над входной дверью была кладовая. Стена напротив входа принадлежала уже другому такому же дому на соседней улице, и там не было галереи. Когда Пьер и Сюзанна распаковывали на кухне немногие вещи, привезенные ими из дома, довольный ребенок ползал по мощеному двору.
Спустя неделю Пьер впервые вошел в дом тамплиеров. Эсташ, стоявший на карауле в башне, впустил его. Во дворе Пьеру встретился господин де Монбар.
— А вот и ты! — сказал он и схватил Пьера за рукав. — Пойдем со мной!
Он провел его во внутренний двор по трем плоским ступенькам главного портала, который, как подумал Пьер, служил для въезда верхом, мимо складов для инструментов, расположенных по обе стороны внутреннего двора. Там он показал каменотесу остывший очаг.
— Во всем доме невозможно найти смолу, — сказал господин де Монбар. — Не видел ли ты в городе какого-нибудь торговца смолой? Нам необходимы факелы.
— Я поищу такого торговца, — ответил Пьер.
Но господин де Монбар потащил его на середину двора, не слушая ответа. На лестнице он отпустил рукав Пьера.
— Посмотри туда! — он указал на полуразрушенную лестницу, засыпанную мусором, которая вела в темные глубины. — Что ты об этом думаешь?
Пьер спустился на несколько ступенек, нагнулся и внимательно всмотрелся в темноту.
— Мне кажется, — сказал он, не выпрямляясь, — внизу находится подвал, опорные стены которого повреждены. Полагаю, господин де Монбар, следует учитывать эти повреждения, чтобы здания, находящиеся сверху, не обрушились.
— Тогда позаботься обо всем, что посчитаешь нужным для выполнения этих работ. Я не могу прислать тебе на помощь оруженосцев: они заняты своими делами. Обойдешься без них?
— Дело пойдет и без них, господин, вы только не спрашивайте, каков срок окончания работ.
— Тогда иди в город и купи себе все необходимое для работы. Что понадобится?
— Лопата и корзины для очистки лестницы от камней. Лестница. Чан для воды, песок и штукатурная лопаточка. Молоток, если камни выпали из стен и мне придется их вставлять обратно.
— И не забывай о смоле и факелах!
— О них я помню.
Наступило воскресенье, когда девять рыцарей собирались дать монашеские обеты. В последний раз они надели свои рыцарские одежды и приказали оруженосцам одеться в цвета господ.
Полные любопытства, стояли вдоль улиц иерусалимские христиане, когда рыцари направлялись в церковь: слух о том, что теперь будут существовать воины-монахи, стремительно распространился по городу.
Патриарх оказался мрачным человеком с суровым взглядом. Брови на его лице образовывали сплошную толстую темную черту. Он носил красную шапочку поверх черных как смоль волос, безо всякого перехода сливавшихся с густой бородой. Между двумя длинными кисточками бороды сверкал широкий золотой крест. Патриарх гордо называл себя шестьдесят седьмым преемником апостола Иоанна, любимого ученика Христа.
Богослужение отличалось большой пышностью. Король и господа свиты тоже были облачены в роскошные одеяния.
Девять рыцарей стояли перед алтарем. Левые руки они положили на евангелия, правые руки подняли для клятвы и дали обет охранять паломников, которым угрожали разбойники. Затем они дали три монашеских обета: бедности, послушания и целомудрия, — и патриарх благословил их.
Они повернулись к присутствовавшим в храме верующим и сообщили им девиз, под которым собирались провести дальнейшую жизнь: «Не нам, Господи, не нам, но все ради славы Имени Твоего!»
После того как монахи-рыцари произнесли свой девиз, они сняли с себя налобные повязки с драгоценными камнями, ожерелья и кольца и передали королевскому чиновнику, ведающему раздачей милостыни. Щиты и мечи они, однако, оставили у себя, хотя те и были украшены драгоценными камнями и благородными металлами. Поверх своих роскошных одеяний они надели серые рясы, на которых со стороны сердца был пришит маленький красный крест.
Когда рыцари-монахи выходили из церкви, собравшиеся в ней верующие в благочестивом молчании отошли в сторону, образовав для них проход. Домой они вернулись пешком. С тех пор они стали называть себя «Бедными Рыцарями Христовыми»; народ же их называл тамплиерами или храмовниками, поскольку жили они на Храмовой площади.
Вскоре им стали приносить милостыню; тамплиеров требовалось кормить, так как народ нуждался в защите. Но об их главной великой задаче никто ничего не подозревал.
Недалеко от дома тамплиерам будто бы случайно встретился королевский адъютант. Дружески улыбаясь, он поравнялся с ними. До чего же он изменился! Рыцари не понимали, что с ним произошло.
— Посмотрите, какое сегодня ясное небо! — воскликнул адъютант с преувеличенной веселостью. Когда же господин д'Альдемар, рядом с которым он шел, только пожал плечами, он сменил тему и заботливо спросил:
— Надеюсь, вы уже привыкли к вашему дому? Но и этот вопрос остался без внимания.
— Ну да, — наконец пробормотал шедший впереди адъютанта господин де Сент-Аман, немного обернувшись.
— Честно говоря, — продолжал адъютант, — честно говоря, я немного удивлен, что король вместе со своим двором удалился из этих прекрасных зданий — и все это ради вас!
Он показал на дом тамплиеров, до которого они уже дошли. Старый слуга вместе с Эдюсом распахнул перед ними огромные ворота. Рыцари отошли в сторону и сначала пропустили вперед оруженосцев с конями, потом обернулись к народу, сопровождавшему их до самого дома, и в знак приветствия подняли мечи. Только теперь они вошли в ворота.
После того как Пьер купил все необходимое, он тут же принялся убирать мусор на лестнице. Однако, там были такие завалы, что ему пришлось убирать их несколько недель. И вот однажды вечером рыцари, возвратившись с охраняемых ими путей пилигримов, зажгли факелы в очаге заднего двора и, когда факелы запылали ярким пламенем, спустились по ветхим ступенькам в Конюшни царя Соломона.
То, что они там увидели, потрясло всех. Пьеру тоже никогда в жизни не приходилось видеть такой гигантской подземной постройки. Свет факелов не охватывал и десятой части этого сводчатого помещения. Там стояли колонны, каждую из которых едва ли могли обхватить все девять рыцарей; и если в качестве масштаба можно было принять рост господина де Мондидье, то его нужно было пять раз поставить на самого себя, чтобы измерить высоту колонны.
Чего только эти колонны не поддерживали! Пьер подумал о Скальном храме, о доме тамплиеров, о мечети аль-Акса, о небольших колоннадах, разбросанных по Храмовой площади, и обо всех паломниках, торговцах и нищих, лошадях, ослах и повозках, передвигавшихся у них над головами.
Три арки этого свода обрушились.
— Смотрите, — сказал Пьер господину де Пайену, — для ремонта этих арок моя лестница оказалась недостаточной высоты. Мне нужно установить леса, а кроме того нужна древесина, чтобы соорудить кружала, расстояние между опорами которых я должен вычислить заранее.
Господин де Пайен шел впереди всех в северном направлении, освещая путь, а рыцари молча следовали за ним. Может быть, под ними хранились сокровища, которые они искали? Сначала они ощущали под ногами обтесанные камни. Спустя довольно продолжительное время плиты пола сменились каменистой почвой. Казалось, что это был скальный грунт внутри горы Мориа, расположенной в северном направлении. К стенам зала были приделаны железные кольца, подобные тем, которые используют для привязи лошадей, ослов к верблюдов.
— Тысяча пятьсот верблюдов, — пробормотал господин д'Альдемар, находясь под большим впечатлением от всего увиденного, — тысяча пятьсот, если считать еще места, оборудованные вдоль балок между колоннами.
Другие господа проверили эти цифры.
— Прекрасно, — согласился господин де Сент-Аман, — здесь мы можем разместить без особых хлопот тысячу пятьсот верблюдов или же две тысячи лошадей. Из этих конюшен должен быть какой-нибудь большой выход.
Пьер шел следом за господином. Размеры зала было почти невозможно себе представить. Арки свода просуществовали столько веков, и только три из них обрушились. «Мне нужна лебедка, — подумал каменотес. — Я не могу поднять выпавшие глыбы. Мне потребуется помощь». Может быть, это и есть задача, ради выполнения которой Пьер прибыл в Святую Землю? Он покачал головой: здесь всегда хватало каменотесов, и в каменотесах из Европы не нуждались. Значит, у него была более великая задача? Более великая? Сердце его громко забилось — более великая и, конечно, более трудная! Пьер сказал себе: «Более трудная, то есть более опасная». Он ощутил непонятную тревогу.
Рыцари-монахи остались в зале с колоннами. Они с сомнением смотрели друг на друга. Прежде чем им удалось осветить зал, каждый из них пристальным взглядом обшарил полы и стены. Но они увидели только камни, и больше ничего.
— «Рядом со Святилищем…» — произнес господин де Мондидье строку из заклинания. — Хотелось бы только знать, где находилось это Святилище! От Храма, построенного Соломоном, не осталось стен фундамента!
— Если вы, господин Пэ, уже сгораете от нетерпения, то вам придется пережить еще много неприятных минут, — возразил господин де Пайен, — пока вы не справитесь с этим нетерпением.
— Несомненно одно, — вмешался в разговор господин де Монбар, — поскольку мы сейчас находимся в постройках, расположенных внутри горы Мориа, то, надо думать, мы совсем недалеко от Святилища. Ибо Храм, как говорит Священное Писание, стоял на горе Мориа.
— Я уверен, — перебил его господин де Пайен, углубившись в свои мысли, — что в один прекрасный день мы откуда-нибудь получим знак, указывающий, где нам следует проводить поиски. Нужно только быть внимательными, чтобы не пропустить этого знака. Необходимо терпение, и нам следует его в себе воспитать.
— Любезный господин Гуго! — парировал господин де Мондидье, — вам легко об этом говорить, поскольку вы на три года старше меня, и у вас было достаточно времени приучиться к терпению. А в конце концов выяснится, что гору следует бурить снаружи.
Но господин де Пайен только похлопал его по плечу, успокаивая. Они шаг за шагом продолжали освещать гигантский зал. Причем господин д'Альдемар на своем провансальском диалекте напомнил, что настала пора посвятить каменотеса в то, что ему требуется выполнить. И, поглаживая растопыренными пальцами свои рыжевато — каштановые волосы, он заметил — Ведь аббат поведал Пьеру не все.
— Он и не мог ему все сказать, — проворчал господин де Пайен, — ему ведь не было точно известно, с чем мы здесь встретимся.
— Всегда хочется иметь рецепт, — вмешался в разговор господин де Сент-Омер, — предписывающий, что нужно делать. Но боюсь, что здесь нам самим придется решать.
— Господа, — твердо сказал господин де Пайен, — прошу вас, выбросите из головы мысли о тайной задаче для каменотеса, пока он не починит три обрушившиеся арки. Если на то будет Господня воля и мы окажемся у цели, то мы расскажем ему все. Не стоит устремлять мысли в одном-единственном направлении, ибо они застывают. Кроме того, отныне перед отходом ко сну нам следует проводить совместные молитвы, в которых мы будем призывать помощь Божью для природы, находящейся в опасности. Итак, будем полагаться на Господа.
Вместе они поднялись по лестнице во двор и опустили факелы в чан с водой, где те с шипением погасли.

Странная колонна
Пьер вышел из дома, ведя с собой ослов. Он выводил их через Дамасские ворота, направляясь к востоку от городской стены. Оставив за собой ворота Ирода и проехав мимо башни Аистов, образующей под острым углом северо-восточный изгиб городской стены, он спустился в долину Иосафата. Там находились мастерские плотников.
Плотники уже начали убирать свои инструменты, когда вошел Пьер и попросил у них древесину, необходимую ему для сооружения лесов.
— Зачем тебе, чужак, нужны леса? Мы тебя не знаем ни как плотника, ни как строителя. А мы знаем всех в этом городе.
— Я каменотес родом из Лиона, — объяснил Пьер, — работаю в доме тамплиеров. Несколько арок свода в Конюшнях Соломона провалились. Пока еще это не выглядит как развалины, но все же мне нужны леса, на которых я мог бы укрепить лебедку. Поэтому леса должны быть надежными.
— У тебя есть слуги, которые могут в этом помочь?
— Пока нет. Господа мои бедны и экономят деньги.
— Тогда ты, возможно, состаришься, пока будешь выполнять эту работу, — сказал один из плотников и сочувственно рассмеялся. — Значит, тебе нужна древесина. На какой высоте находятся эти арки?
— Поддерживающие их колонны имеют высоту приблизительно в пять человеческих ростов. Они находятся на расстоянии около тридцати футов друг от друга. Теперь ты можешь вычислить, как высоко должны располагаться арки, если учесть, что они держат всю Храмовую площадь.
— Невероятно! — воскликнули плотники. — Тебе придется несколько раз побывать здесь вместе с ослами, прежде чем ты соберешь все, что тебе нужно. Есть ли какие-нибудь инструменты в доме тамплиеров?
— Я обхожусь совсем немногими. Но прежде всего мне нужен топор. И не могли бы вы дать мне пилу?
— А сколько заплатят за это твои бедные господа? — закричал один из плотников.
Но другой возразил:
— Заткнись! Возможно, когда-нибудь ты еще будешь благодарить тамплиеров. Неизвестно, что за времена настанут!
Нагрузив своих ослов балками, Пьер сразу же отправился домой. На пути ему попался какой-то парень, сидевший на корточках у дороги. Когда Пьер поравнялся с ним, тот недовольно встал и угрюмо показал на ослов, продолжавших нести свою поклажу, равнодушно кивая головами.
— Ты что, те додумался нагрузить только одного осла и ехать на другом?
— Лучше уж мне идти пешком, — спокойно ответил Пьер.
— Интересно, — продолжал грубиян, — зачем вам такие толстые доски?
— Кому это «вам»?
— Ну, всему Иерусалиму известно, что ты работаешь на тамплиеров. Что ты собираешься делать с этими балками?
— Ремонтные работы, — неохотно ответил Пьер. «Всему Иерусалиму? — подумал он, — странно!»
— Если тебе случайно нужен помощник-каменотес, подумай обо мне.
— Так ты даже знаешь, что я каменотес!
— Но одного я не знаю: зачем тамплиеры привезли с собой каменотеса? Ведь здесь и так достаточно каменотесов!
Разговаривая так, они подошли к башне Аистов. Пьера преследовала мысль: зачем аббат послал его в Святую Землю? Парень продолжал идти рядом. Он был неприятен Пьеру тем, что коснулся темы, неясной для него самого. И смутный страх, уже знакомый Пьеру, стеснил его сердце.
— Почему ты не отвечаешь?
— Я не расположен вести беседу, — неприветливо отозвался Пьер. — Ты, пожалуй, лучше иди своей дорогой.
— Вот она, твоя неблагодарность, — закричал грубиян, — я предлагаю тебе помощь, а ты ведешь себя неискренне, как гадюка! — он повернулся назад и поспешил в долину Иосафат, откуда плотники уже возвращались.
Пьер погонял ослов в сторону дома тамплиеров. В ярости он стегал их хлыстом и обрадовался лишь тогда, когда Эсташ открыл перед ним большие ворота.
— Эй! — закричал Пьер, — помоги мне отнести балки в подземное помещение, если только такая работа не наносит ущерба чести стража ворот.
И, увидев, что Эсташ, смеясь, согласился, пообещал ему:
— После этого мы пойдем ко мне в гости! Ведь ты еще не знаешь, где мы живем. А малыш уже совсем неплохо бегает.
Пьер соорудил леса, доходившие до темного свода помещения, а господин де Пайен, как только понял, какой объем работ предстоит выполнить, дал ему в помощники обоих пажей. Если же нужна была особая сила, в Конюшни спускался господин де Мондидье, сбрасывал куртку и энергично делал нужную работу. С нетерпением он подгонял мальчиков, поскольку работы, как ему казалось, уже давно следовало закончить.
Пьер громко смеялся:
— Понять необходимость работы, сударь, и выполнить ее — это две разные вещи.
И действительно, наступила зима, когда арки стали выглядеть так, словно они не проваливались. Пьер брал факелы из железных колец, приделанных к стене, ходил с ними от колонны к колонне и придирчиво проверял каждую, нет ли в ней каких-либо повреждений. На него снова произвела впечатление массивность этих столбов, многие из которых были изготовлены из одной единственной глыбы. Колонна, находившаяся на северо-востоке зала, показалась ему особенно колоссальной. Когда он обошел ее, держа в руках факел, то заметил, что она лишь на две трети изваяна из единого куска скалы. Последняя треть ее в поперечном направлении была сооружена из того же самого иерусалимского камня, из которого был построен весь город. Машинально пальцы Пьера доставали песок из швов между камням и растирали его. Он вынул из-за пояса нож и стал ковырять им колонну. Камень лежал свободно, но это не имело никакого значения: даже если бы стенная кладка вообще отсутствовала, оставшаяся часть колонны легко держала бы свод. Пьер вынул камень из колонны.
Как же он удивился, когда смог просунуть в отверстие руку до самого плеча! Он не верил своим глазам: колонна оказалась полая! Его охватило профессиональное любопытство. В его роду были отличные каменотесы и строители. Но ни от кого из них ему не доводилось слышать, чтобы колонны в сводчатом помещении сооружались полыми. Факел уже угасал, и Пьер искал выход в сгустившейся темноте. Он подумал, что ему следует обо всем рассказать господину де Пайену перед тем, как идти домой. Но рыцари в надлежащий час собрались на молитву. Только Эсташ находился в своей башенке. Он открыл Пьеру ворота и затворил их за ним; и Пьер сразу почувствовал, до чего устал.
Улицы были темны и пусты. Он шел, погруженный в раздумья. Значит, колонна полая! Он покачал головой. Не осознавая того, что делает, он размахивал курицей, подаренной ему господином де Пайеном на ужин.
— Отнеси ее свой жене! — сказал господин де Пайен. — Один человек подал ее нам как милостыню. Я встретил твою жену несколько дней назад и обратил внимание, что она беременна. Поэтому она нуждается в усиленном питании.
Сначала Пьер не хотел принимать курицу, так как знал, что у монахов-рыцарей нет никаких доходов, и полагал, что деньги, привезенные ими из дома, уже на исходе.
Сюзанна спала, обняв малыша. Он тихо лег рядом с ней, но долго не мог уснуть. Когда же наконец задремал, снились ему причудливые сны.
Он увидел Соломоновы Конюшни с их гигантскими колоннами. При факельном освещении они отбрасывали жуткие густо-черные тени. Отверстая колонна зияла, как чья-то злобная пасть, из которой таращила горящие красные глаза белая лошадь. Между оскаленными зубами она держала карбункул, сияющий зловещим светом. Пьер проснулся в холодном поту. Кричали петухи, наступило утро.
С господином де Пайеном Пьер встретился в зале рыцарского дома.
— У меня есть новость для вас, господин, — сказал он и рассказал о колонне, оказавшейся полой.
Господин де Пайен внимательно выслушал сообщение, не спуская глаз с Пьера. Когда Пьер закончил свой рассказ, господин де Пайен предложил ему сесть на одну из скамей, которые стояли вдоль всех стен рыцарского зала.
— Садись, — сказал он, — мне хотелось бы с тобой поговорить.
В подавленном состоянии Пьер опустился на скамью. Он напряженно смотрел на господина де Пайена. Может быть, наступил тот самый момент, когда ему станет известна задача, про которую говорил аббат.
И действительно, господин де Пайен начал так:
— Настало время, каменотес, сообщить тебе кое-что о задаче, ради выполнения которой аббат Бернар послал тебя сюда. Мы приехали в Святую Землю в поисках сокровищницы знаний, более дорогих, чем все золото и все драгоценные камни мира. Может быть, нам не суждено их найти. Но это не должно удерживать нас от поисков. И нам нужна твоя помощь, ведь мы будем производить раскопки. Нам нужен человек, в чьем молчании мы бы не сомневались. Ибо множество людей стремятся к этим знаниям из любви к власти или жажды наживы, и они поставят на карту все, чтобы заполучить сокровища, едва только им что-нибудь станет об этом известно. Мы же хотим сохранить эти сокровища во благо человечества.
Несколько месяцев, в течение которых мы находимся в этой стране, меня не покидало предчувствие чего-то необычного. Полая колонна — именно то, чего я ожидал. Пусть это станет началом наших поисков! Итак, открой эту колонну, каменотес, чтобы мы увидели, что она содержит внутри!
Пьер вскочил на ноги. Выходит, это и есть та великая задача, которой он так опасался? Но она, по всей видимости, не труднее любой другой! И, конечно, она ничуть не угрожает ему. Успокоившись, он взял стамеску и молоток и, тихо насвистывая, спустился по лестнице.
Осторожно он вынимал из колонны один камень за другим, ставил их в ряд на полу, чтобы иметь под рукой, когда придется снова заделывать колонну.
И вскоре дыра оказалась такой огромной, что в нее мог влезть человек, приставив к колонне лестницу.
Небольшое происшествие заставило Пьера насторожиться.
Один из камней раскололся на кусочки, которые упали в отверстие в колонне. Но звука удара не последовало. Возможно, он не расслышал? Он взял горсть щебня и бросил в дыру. И опять ничего не услышал. Может быть, в дыре была та самая свирепая лошадь с красными глазами, приснившаяся ему прошлой ночью? Пьер медленно продолжал работать. Он заметил, что руки его слегка подрагивают.
К вечеру отверстие стало высоким, как дверь. Во время работы Пьер старался не глядеть в темный провал колонны, глубина которой пугала Пьера. Видимо, она была такой бездонной, что звука упавшего предмета уже не было слышно!
Пьер бросил молоток. Он вынул факел из кольца и поднялся в комнату для инструментов. Там он снял с крючка канат и направился к входу в рыцарский зал. Рыцари-монахи молились.
— Там уже достаточно большое отверстие, — сказал Пьер, войдя перед концом молитвы, — и господа могут попасть внутрь колонны.
С выражением ожидания на лицах рыцари последовали за ним в Соломоновы Конюшни. Перед колонной Пьер, не говоря ни слова, взял факел у господина де Пайена, но господин де Пайен заметил многозначительный взгляд каменотеса. Низко нагнувшись, Пьер просунул голову внутрь и, спустя мгновение, вынул оттуда факел, чтобы передать другим. Каждый из господ брал факел в руки, склонялся над отверстием, смотрел в бездонную глубину и уступал место следующему. Когда все заглянули в отверстие, господин де Сент-Омер сказал:
— Дай канат.
Пьер привязал канат к середине бревна, которое он положил наискось над отверстием. Другой конец каната господин де Сент-Омер обвязал вокруг своего туловища и, обвязанный таким образом, спустился в темную бездну. Вверху, затаив дыхание, его ожидали друзья. Наконец издалека послышался его голос:
— Бросайте факел вниз!
После того как они это сделали, снова долгое время ничего не было слышно. Затем канат задрожал, натянулся, и господин де Сент-Омер, опершись о край отверстия, выпрыгнул наружу.
С головы до ног он был покрыт серой паутиной. Едва переведя дух, он сказал:
— Это колодезная шахта, и больше ничего.

Пограничная земля на юго-востоке
В подавленном настроении возвратились они в рыцарский зал. «Что ожидали мы там встретить?» — думал господин де Пайен. Ведь никто и не рассчитывал, что сокровища, на поиски которых они отправились, найдутся без особого труда. Да, это была колодезная шахта, только и всего. Но если хорошенько подумать, находка имела огромное значение. Пусть даже этот колодец высох, с ним все же должен быть связан какой-нибудь водоем. А если обнаружить этот водоем, то у дома тамплиеров будет собственный источник, принадлежащий только им. Де Пайен намеревался в ближайшие дни вместе с Пьером исследовать стены шахты.
Поскольку его друзья пребывали в таком унынии, господин де Пайен, обратившись к ним, воскликнул:
— Любезные господа, почему вы столь удручены? То, что вы сегодня испытали, представляется мне великим предзнаменованием. В каждом из нас живет страсть к успеху, мы думаем лишь о том, как скорее прийти к цели. Где же наше смирение и терпение? Колодезная шахта — предзнаменование, напоминающее нам об этих добродетелях! — затем он описал преимущества собственного колодца и закончил свою речь такими словами: — Итак, будьте веселы, любезные господа, ибо вы сможете исполнять вашу службу наилучшим образом, лишь имея глубокую веру. Так как мы нашли доступ к воде, и это первая наша находка, мы попросим каменотеса вырыть вертикальные шахты в южной части зала, чтобы узнать, что там находится — под землей. Устраивает ли вас это предложение?
Все пробормотали, что устраивает. Только господин де Мондидье, тяжело вздохнув, пожал плечами. Он недовольно добавил, что распоряжения господина де Пайена, которого они избрали своим предводителем — так как он в свои двадцать четыре года был самым старшим среди них, — до сих пор всегда были правильны.
И все же на следующее утро, когда пажи снаряжали их для повседневных трудов, никто не говорил ни слова. И только Эсташ заметил, что когда рыцари выезжали из ворот, девиз ордена слетел с их уст несколько рассеянно:
— Не нам, Господи, не нам, но все ради славы Имени Твоего!
Едва они выехали за ворота — к ним подскакал королевский адъютант.
— Эй, немой! — нетерпеливо позвал он.
И не успел Эсташ взять за уздечку его коня, как услышал грубый вопрос:
— Где господин де Пайен? Король ожидает его. Эсташ неопределенно показал на дом; господина де Пайена, вероятно, можно было найти в одном из этих многочисленных помещений. Затем он привел коня в конюшню и задал ему корм.
Но почти сразу господин де Пайен вместе с адъютантом вышли из дома. Оба понукали своих коней. Эсташ придержал вороного коня своего господина: так сильно тот приплясывал. Затем он закрыл за всадниками ворота.
Король ожидал господина де Пайена в небольшом зале для аудиенций в Крепости Давида. Он обнял его, однако не смог скрыть какой-то озабоченности.
— У меня к вам просьба, господин Гуго, — начал король без предисловий. — На востоке иорданской земли произошли пограничные столкновения. Я намереваюсь поехать туда. Дело достаточно ясное: вероятно, граф Моавский пошел на уступки дамасскому атабегу, что затрагивает мои интересы. Я не хочу брать с собой никаких военных подразделений, мое появление там не должно носить воинственного характера. Но на всякий случай мне необходимо прикрытие. Не могли бы вы оказать мне услугу и обеспечить это прикрытие вместе с восемью вашими друзьями и их пажами? Мне нужны абсолютно преданные люди, а на вас я могу положиться. Пока вы мне не представили никаких сообщений о своих поисках. Я полагаю, что эта поездка не слишком повредит выполнению ваших задач. Вы согласны?
Господин де Пайен не замедлил с ответом. Сколько сделал для них король! Ему следовало отплатить услугой.
— К сожалению, — начал он, — мы до сих пор не нашли и следа того, что ищем. Подумайте только: наш каменотес в сводчатом помещении обнаружил колонну, оказавшуюся полой. Оказывается, она закрывает некий тайный колодец. Мы хотим исследовать эту шахту по возможности скорее. Вероятно, воду, которая некогда там находилась, можно снова направить туда. Тогда в доме тамплиеров будет собственный источник. Мы охотно отложим работу, если нам придется сопровождать вас в поездке. Я говорю от имени всех: мы искренне рады возможности послужить вам. Когда мы должны выехать?
— Немедленно, — ответил король и больше не пытался скрыть свою спешку. — Я опередил вас, — сказал он, — я отправил посланников к вашим друзьям, господин Гуго, находящимся на путях паломников, и они позовут тамплиеров сюда. Прошу вас простить меня за самоуправство. Полагаю, что через два часа рыцари будут дома. И когда мы сможем в этом случае выехать?
Господин де Пайен на миг задумался.
— Сегодня у нас дома господин д'Альдемар и рыцарь Ролан, а кроме того каменотес и немой оруженосец. Я полагаю, мы сможем отправиться в путь спустя примерно три часа, если предположить, что остальные через два часа будут здесь. Еще нужно будет накормить их коней.
— Я пошлю свою стражу, чтобы ваш дом не оставался без охраны, пока мы будем в пути.
— Это меня успокаивает, сир, сердечно благодарю вас.
— Не могли бы вы оставить вашего каменотеса помогать архитектору моих крепостей на это время? Нужно отремонтировать Яффские ворота, и ему требуется помощник.
Спустя три часа герольд прокладывал путь королю и его свите сквозь толпу пилигримов и торговцев до ворот святого Стефана, расположенных в северо-восточной части города. Стражи ворот отдали им честь, и вскоре они оказались на дороге, ведущей вдоль Масличной горы на восток. Время от времени с серого неба падали снежные хлопья и, ложась на спины коней, тут же таяли. На головах у рыцарей были остроконечные кожаные под мундирами на них было надето по несколько кольчуг. Мечи находились среди поклажи, нагруженной на вьючных животных, но спрятаны они были столь удобно, что их можно было достать одним движением руки. Итак, отряд рыцарей выглядел как группа мирных людей, но это была лишь видимость.
Горы, через которые они теперь ехали, покрывала скудная растительность. То и дело им попадались палатки бедуинов из черного войлока, мужчины в черных покрывалах и женщины с иссушенной кожей, встречались девушки с длинными черными косами, пасущие овец на обочине и что-то напевающие, и маленькие мальчики бедуины, попрошайничающие на дороге. Когда они достигли крутого склона, ведущего в долину Иордана, солнце уже клонилось к закату. Они остановились на утесе, образующем выступ, и посмотрели вниз, в жуткую глубину этой долины, расположенной значительно ниже уровня моря. Справа было видно несколько входов в пещеры среди круто вздымающихся утесов. Разведчики, которых король взял с собой, внимательно всматривались туда, словно там таилась опасность.
— Самое зловредное разбойничье гнездо, — сказал король. — В этом лабиринте пещер их не поймаешь. Они нападают в основном на пилигримов, направляющихся из Иерусалима к Иордану, чтобы креститься в этой воде и набирают ее в бутылочки, увозя с собой в Европу. Мне кажется, господин Гуго, было бы неплохо, если бы в будущем вы занялись этимразбойничьим сбродом, — он гневно усмехнулся.
Они спустились в долину и попросили перевезти их через реку, причем переправили их на другой берег не обычные перевозчики, а люди короля, охранявшие эту водную границу. На другом берегу им сразу же встретились несколько всадников, которые, узнав королевский герб, поприветствовали рыцарей и присоединились к отряду. Поехав в арьергарде, они проводили рыцарей до постоялого двора недалеко от пристани в долине Иордана.
На следующее утро эти всадники — люди графа Моавского, чье графство было включено в королевство Иерусалимское, — снова сопровождали отряд короля. С их господином король должен был провести переговоры, так как его территория имела продолжительную границу с землями атабега Дамасского, и на этой границе королевства происходило многое из того, что не нравилось королю.
Рыцари ехали целый день. Но еще до полудня они увидели впереди крепость, венчавшую горный отрог, далеко вдающийся в арабскую пустыню. Чем ближе они к ней подъезжали, тем неприступнее она выглядела: гигантское сооружение, возвышающееся над долиной и сверкающее огненными отблесками в лучах заходящего солнца — Моавский Крак.
Кони вымотались, преодолевая огромную разницу высот при спуске в долину Иордана и подъеме оттуда. Люди были покрыты потом и пылью и изнемогали от жажды. По отвесному склону они приближались к замку.
Поднялись решетчатые ворота, и рыцари въехали во двор крепости. Из ворот дворца навстречу королю вышел хозяин и в знак вассальной верности просунул руку в стремя его коня, при этом он опустился на колени и подставил королю плечо, чтобы тому было удобнее спешиться.
Поприветствовав его, король указал на свою свиту.
— У нас в Иерусалиме есть теперь новый орден, и эти люди к нему принадлежат. Они называют себя «Бедными Рыцарями Христовыми» — народ же прозвал их тамплиерами. Это рыцари-монахи. Прежде всего они охраняют пути паломников, ведущие от побережья к Иерусалиму.
Граф Моавский оценивающе оглядел каждого рыцаря.
На его лице чередовались удивление, уважение и недоверие. Ибо он увидел благородных, хорошо одетых молодых людей, и кулаки их едва ли были слабыми.
Король внимательно вгляделся в лицо графа Моавского, взял его за руку и сказал:
— Дорогой друг, впусти нас. Сегодня вечером нам еще предстоит провести долгий совет с тамплиерами и обсудить многие волнующие нас темы.
Этим самым он дал понять графу Моавскому, что тамплиеры являются его доверенными лицами и хозяину замка должно уважать их в качестве таковых.
Но то, что больше всего волновало короля, в этот вечер открыто не было: требовалось провести осмотр границы, выслушать послов из Дамаска — вестники приезжали и уезжали. Для тамплиеров пребывание в этой гигантской крепости оказалось познавательным: они познакомились с правовыми взаимоотношениями в королевстве, чьи отдельные части были в большой мере самостоятельными, и правители этих территорий могли предпринимать любые действия на свой страх и риск.
Прошло несколько недель, прежде чем рыцари смогли покинуть Моавский Крак и отправиться на запад. Без происшествий они переправились через Иордан и теперь поднимались в Иудейские горы. Бросив угрожающие взгляды на пещеры, в которых обитали разбойники, они направились к городу, окрыленные надеждой.
Во время пребывания в Моавском Краке исполнился ровно год со дня их приезда на Восток.
Перед Храмовой горой господин де Пайен остановил коня.
— Дорогие господа, — сказал он, посмотрев на каждого, — когда мы сегодня вернемся домой, мы продвинемся в наших поисках не дальше, чем это было год назад. И я боюсь, что пробные раскопки, которые сделает наш каменщик, чтобы отыскать какой-нибудь водоем, не приведут ни к чему, даже если он найдет этот водоем. Можете верить мне, а можете и не верить — у меня есть непоколебимое ощущение, что только те работы ведут к успеху, которые полагаются на случай. Ибо случаем управляет Господь.
Перед тем, как рыцари-монахи отправились в поездку вместе с королем, господин де Пайен закрыл на ключ обитую железом дверь дома тамплиеров, а ключ передал на хранение патриарху Иерусалимскому. Пьера он послал домой и попросил находиться в распоряжении городского архитектора на время их отсутствия. Затем он зашел к Эсташу в караульное помещение и велел ему перенести мешок, набитый соломой, в кухню, имевшую отдельный вход со двора. Оттуда он должен был перетащить скамьи в караульную башню для отдыха часовых, присланных королем. Он уже распорядился о том, чтобы Эсташ делился своим ежедневным рационом с часовыми.
— Эсташ, — начал господин де Пайен, — поскольку твой господин вместе с другими рыцарями еще находится в пути, а времени у нас мало, я буду обращаться с тобой как с собственным оруженосцем. Я позабочусь о твоем благополучии, чтобы, когда мы отправимся в поездку, ты ни в чем не испытывал нужды. Теперь я тебе скажу, что ты должен делать. Часть наших лошадей остается здесь; твоей задачей будет заботиться о них и каждый день выгуливать. Мне не хотелось бы, чтобы ты с какой-нибудь лошадью выходил за пределы двора. Я прошу тебя чистить наши кожаные вещи, седла, шапки и куртки. Не забывай почаще убирать навоз и готовить новые подстилки для лошадей. Было бы хорошо, если бы ты нашел время выстругать новые ручки для факелов и изготовить новые факелы, чтобы у нас был некоторый запас, когда мы вернемся. Если захочешь, можешь немного погулять по городу или пойти еще куда-нибудь. Воду в бак ты должен носить сам. Ты достаточно умен, Эсташ, что заметить, если что-нибудь окажется не в порядке. Тогда обращайся к патриарху. Он предупрежден. Все прочие необычные события записывай по мере возможности. Ты умеешь писать? — спросил он.
И когда Эсташ знаками показал ему, что для этого требуется, господин де Пайен передал мальчику восковую табличку и грифель.
Появились двое часовых и вошли в комнату Эсташа, словно он их с нетерпением ожидал. И стоило лишь рыцарям отъехать, как они высыпали игральные кости из кожаной кружки на стол и, не обращая внимания на Эсташа, со страстью предались азартной игре. Лишь на мгновение они бросили на него взгляд. Но, поняв, что мальчик немой, тут же о нем позабыли.
Эсташ выполнял все обязанности, возложенные на него господином де Пайеном. С утра до вечера он был занят.
Как-то вечером зашел Пьер.
Пойдем со мной! — сказал он, — я кое-что тебе покажу.
Он обнял Эсташа за плечи, как обычно это делал раньше и повел друга к себе домой. Лицо его радостно сияло. Навстречу ему, ликуя, выбежал толстый карапуз. Пьер схватил его и слегка подбросил. «Неужели это Арнольд?» — недоверчиво вопрошали глаза Эсташа.
— Да, тот самый Арнольд, которого ты учил бегать. По лестнице они поднялись на деревянную галерею, прошли через одну из дверей, и Эсташ оказался в небольшой комнатке. Чуть наклонившись, на высоком ложе сидела Сюзанна. В руках у нее был маленький спеленатый сверток. Эсташ не мог отвести взгляда от крошечного существа.
— Мы назовем его Филипп, — сказала Сюзанна тихим голосом.
Эсташ смущенно улыбнулся. Будет ли у него когда-нибудь своя семья? Очень долго стояла у него перед глазами прекрасная картина, увиденная им в доме Пьера, и как никогда в жизни он чувствовал себя всеми покинутым. Ах, поскорее бы возвращались рыцари! Но день их приезда был еще очень далек.
Когда же он наконец наступил, Эсташ чрезвычайно обрадовался. Больше всего его радовало то, что королевские часовые, которых он не выносил, должны были покинуть комнату в башне, ставшую, по мнению Эсташа, его собственностью.
Уже на следующий день рыцари-монахи вместе со своими оруженосцами отправились бороться с разбойниками, обитавшими в скальных пещерах над Иорданом. К ним присоединились и те трое, чья очередь была оставаться дома. Таково было пожелание короля, воспринятое ими как приказ. Путь к этим скалам пролегал по открытой местности, где ничто не затрудняло видимость. Поэтому случилось так, что лазутчик из шайки увидел кавалькаду рыцарей уже издалека. И как только они приблизились настолько, что можно было различить красные кресты на серых плащах, он поскакал к пещерам и издал пронзительный предупреждающий свист. Только эту шайку и видели!
Господин де Мондидье потребовал преследовать разбойников в пещерах, но господин де Пайен воскликнул:
— Вы хотите, чтобы нас там разбили поодиночке? Ходы «внутри пещер разветвляются, как нам сказал король, и многие из наших бойцов пропадут там навсегда. Поэтому я предлагаю спуститься в долину Иордана. Там на обрывистом склоне горы также есть пещеры, я их видел, они маленькие и безопасные. В одной из них мы сможем сделать привал. Мы подкараулим разбойничьи банды, когда они спустятся в долину, чтобы напасть на благочестивых паломников, идущих к Иордану креститься.
Господин де Мондидье, бросив последний гневный взгляд на пещеры, поспешил впереди других в долину, чтобы по крайней мере первым отыскать там пещеру, где можно было бы разместить вьючных животных и запасы оружия. Разбойники при этом должны были полагать, что рыцари-монахи поехали дальше к Мертвому морю.
Тамплиерам пришлось ждать чуть ли не целый день. Кони нетерпеливо били копытами. Большие и маленькие группы вооруженных пилигримов с песнопениями спускались мимо них в долину. Но разбойники вели себя осторожно и не показывались. Так ничего и не произошло.
Солнце уже медленно склонялось к западу, когда господин де Пайен посмотрел на небо, оценивая ситуацию, и отдал приказ ехать домой. С проклятьями господин де Мондидье сел на коня, не обращая внимания на уничтожающий взгляд господина де Монбара. Но и у всех остальных на лицах также было написано неудовольствие из-за потерянного дня. Молча они начали подниматься в гору и достигли ее куполообразной вершины, когда солнце садилось далеко за Иерусалимом.
В этот момент в воздухе что-то просвистело. Кони с бешеными глазами встали на дыбы. На закушенных удилах показалась пена.
Господину де Сент-Омеру первому удалось успокоить своего коня, и рассеявшиеся всадники начали собираться вокруг него. Из крупов коней господина де Сент-Амана и господина д'Альдемара торчали стрелы. Вынуть эти стрелы, однако, не представлялось возможным: от боли и страха лошади начинали лягаться, стоило лишь к ним приблизиться.
С этого дня тамплиеры стали совершать ежедневные инспекционные поездки к скальным пещерам — то с юга, то с севера. Они разделялись на несколько групп и прочесывали долину. Время от времени у них случались стычки с разбойниками. И так продолжалось до середины осени, когда местность, возвышающаяся над долиной Иордана, была полностью очищена от этих банд. Теперь они снова смогли направить все свое внимание на Конюшни Соломона, и надежда, о которой им на время пришлось забыть, опять завладела их сердцами.

Удивительное открытие
Рыцари Ролан и Жоффруа спускались на канате вслед за господином д'Альдемаром в колодезную шахту. Они обметали стены шахты метлой. Однако отверстия в каменной осыпи, под которым была бы вода, они не обнаружили. Чем глубже спускались рыцари, тем уже становилась шахта. На дне она имела в диаметре около двух шагов. Дно, однако, было не ровным, как это бывает в других колодцах; оно было образовано одним-единственным округлым булыжником, имевшим конусообразное завершение в центре. На этом горбу стоять было тяжело. Рыцари схватились за канат и снова стали карабкаться наверх, внимательно присматриваясь, нет ли где-нибудь в стене водного источника. Но ничего не обнаружили.
— Ничего! — раздосадованно сказали они вечером, когда другие тамплиеры спросили их о результатах поисков.
— Не каждому дано, — проворчал господин д'Альдемар, приглаживая волосы растопыренными пальцами, — получать указания перста Божьего.
— Как? — недоверчиво воскликнул господин де Мондидье, — вы действительно не обнаружили воды в каменной осыпи?
— Ни воды, ни мха, ни плесени, ни других следов того, что в этой шахте некогда находилась вода.
— Мы не знаем, — задумался господин де Сент-Аман, — сколько уже времени этот колодец находится в высохшем состоянии. А при таком климате…
— А!.. — прервал было его господин де Сент-Омер, но больше не сказал ничего, а сделал лишь пренебрежительный жест и вышел.
На заднем дворе он зажег факел. Затем один спустился в подземелье с колоннами, а потом — по канату в шахту. Он подумал, что все же должен найти какой-нибудь источник в каменной осыпи, который, по его мнению, там непременно был. Но для колодца с грунтовыми водами эта шахта располагалась слишком высоко над уровнем долины. Господин де Сент-Омер еще раз тщательно обмел стены, но в кладке никаких отверстий не было видно. Тогда он очистил неровное дно колодца — и ему бросились в глаза две дыры, столь округлые и глубокие, что в них можно было просунуть большие пальцы. На мгновение он удивился, насколько дыры симметричны, а затем наклонился совсем низко над четырехугольной плитой, на которой виднелись странные знаки.
— Удивительно! — сказал самому себе господин де Сент-Омер, — на дне колодца какая-то надпись!
Весьма озадаченный, он карабкался по канату, чтобы поделиться с друзьями своим открытием, и думал, что на Востоке многое, вероятно, совсем не так, как в Европе.
На следующее утро он спустился в колодезную шахту вместе с господином де Монбаром и рыцарем Жоффруа Бизо. У них была восковая табличка, и когда Жоффруа Бизо держал факел, господин де Монбар переписывал знаки.
Господин де Пайен сказал, что, вероятно, единственный иерусалимский христианин, который разбирается в письменностях Древнего Востока, это патриарх.
— Но мы не можем просить его спуститься в колодезную шахту, ибо, если мы найдем воду, то должны будем сохранить это в тайне.
Когда же господин де Монбар вечером показал другим рыцарям восковую табличку, господин де Мондидье спросил:
— Что же произойдет в дальнейшем с этой колодезной шахтой которая, вероятно, и не является таковой? Господин де Пайен лукаво улыбнулся.
— Ничего, — сказал он, — пока не узнаем, что же мы здесь обнаружили. Возможно, в надписи содержится предостережение, которое мы должны учесть, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги.
— Что? Ничего? — раздраженно закричал господин де Мондидье. Но потом вдруг спокойно добавил: — А ведь я так и думал, — он схватил свою одежду и ушел.
Остальные же задумались над содержанием надписи на камне. И каждый тайком задавал себе вопрос, не указывают ли эти знаки на драгоценные сокровища, поисками которых они занимались.
Патриарх Иерусалимский благосклонно принял табличку, когда господин де Пайен сказал ему:
— Мы уповаем на вашу мудрость, достопочтенный отец. Поэтому просим вас изучить эту табличку с тем, чтобы узнать, какая важная информация в ней содержится.
— Ну-ну, — пренебрежительно сказал патриарх, — я займусь этим в свободное время, в виде исключения. А то получается так, что каждый, кто найдет какую-нибудь глыбу, захочет прийти ко мне, чтобы я ее исследовал. Только имейте в виду, — он поднял указательный палец, — здесь находят сотни камней с надписями. Вся местность сплошь усеяна развалинами!
— Вероятно, вы правы, — согласился господин де Пайен, стремительно вскочив с места, — и я прошу вас заранее извинить меня, достопочтенный отец, зато, что беспокою вас по таким пустякам. Впрочем, истина выяснится только после расшифровки надписи.
Он поцеловал кольцо патриарха на протянутой ему руке и ушел. Где он обнаружил надпись и что это был за камень, он патриарху не сказал. По пути домой господин де Пайен даже насвистывал, будучи доволен собой, и в веселом настроении возвратился в дом тамплиеров. Если бы он, однако, знал, что патриарх, попрощавшись с ним, тут же забыл про восковую табличку с письменами, то господин де Пайен был бы слегка разочарован.
Еще перед тем, как он достиг ворот дома тамплиеров, его окликнул барственный молодой голос:
— Эгей, господин Гуго! Вы меня уже не узнаете?
Господин де Пайен увидел перед собой рыцаря с блестящими глазами и столь густыми локонами, что его шевелюра напоминала каракуль. Де Пайен озадаченно смотрел на рыцаря.
— Это невозможно! — воскликнул он, не веря своим глазам. — Господин Фулько Анжуйский! Что вы тут делаете?
— То же, что и вы, дорогой друг. Мне бы хотелось быть чем-нибудь полезным для королевства.
— Идите к нам, если пожелаете. Остальные тоже удивятся.
— Этого я, к сожалению, не смогу, господин Гуго, так как король хочет со мной немедленно поговорить, а завтра я должен буду ехать вместе с ним осматривать королевство.
— Я знаю об этой поездке, — сказал господин Гуго, усмехаясь, — с собой он возьмет кронпринцессу.
Граф Анжуйский очень спешно попрощался. Господин де Пайен опять принялся насвистывать песенку, которую перед этим насвистывал с таким удовольствием. Ему нравился Фулько Анжуйский, даже несмотря на то, что симпатии короля поощряли в Фулько барские манеры. Возле помещения для седел господин де Пайен встретил господина де Мондидье, который пребывал в самом мрачном настроении.
— Кто вам так насолил, господин Пэ? — спросил он, улыбаясь.
— Вы насолили мне, господин Гуго, вы и никто иной.
Глаза господина де Мондидье гневно метали молнии в тамплиеров.
— Я не сознаю за собой никакой вины, — сказал господин де Пайен, высоко подняв брови.
— Вы мучаете нас без всякой пользы! Разве мы не можем за то время, которое понадобится патриарху на расшифровку знаков этой надписи, по крайней мере произвести пробные раскопки в южной части зала с колоннами?
Лицо господина де Пайена на миг нахмурилось, он сказал, пожав плечами:
— Пусть будет так, как вы хотите, господин Пэ. Давайте выроем три ямы для раскопок и посмотрим, что находится под полом зала с колоннами.
И, увидев, что лицо господина де Мондидье повеселело, он снова улыбнулся и сообщил ему, что встретил на улице господина Фулько Анжуйского.
— Ага! — воскликнул господин де Мондидье, а затем добродушно сказал: — Надеюсь, что принцесса с ним поладит! Как наследник трона Фулько мне кажется идеальным!
На следующий день тамплиеры начали проводить пробные раскопки в южной части зала с колоннами. На эти раскопки они потратили много недель. Но ничего там не обнаружили, кроме каменных осыпей.

Знаки на камне
Снова исполнилась годовщина со дня их приезда на Восток, когда патриарх за завтраком обратил внимание на восковую табличку, обнаруженную его слугой в дровяном складе. Патриарх был болен, он кашлял и оставался в постели. Хотя в этот день было на редкость душно, он велел поставить перед кроватью жаровню. Слуга усердно ворошил кочергой дрова и между ними увидел восковую табличку. Она была покрыта черной пылью.
— Не знаю, святой отец, имеет ли это отношение к вашим склонностям.
Патриарх держал табличку двумя пальцами и, пораженный, разглядывал ее. Ему было совершенно ясно, что перед ним — знаки надписи, которую он уже однажды видел. Только когда это было? Он приказал слуге отмыть табличку и пригласить раввина из еврейского квартала. Еще до полудня раввин предстал перед патриархом, почтительно его поприветствовав.
— Шолом, — начал патриарх, избегая принятого обращения «учитель», — вы ведь разбираетесь в старой писанине. Посмотрите на эти знаки… которые мне… которые… ах да, мне принес их один тамплиер, чтобы я их истолковал. Какого вы об этом мнения?
Все еще вежливо согнувшись, еврей подошел ближе. Он бросил быстрый, но точно оценивающий взгляд на надпись и сказал:
— Она сделана по-идумейски.
— Иудейский язык? Язык царя Ирода?: —Так мне представляется.
— И что же говорит эта иудейская надпись? Еврей взял табличку в руки, поднес ее к лицу почти вплотную и, прищурив глаза, прочел:
— «Тот, кто ищет воду, заблуждается. Тот, кто идет с водой, станет мудрым. Так говорит Иса, строитель колодца».
— Что за бессмыслица! — сказал патриарх, грея бледные руки над огнем. Он разгневался на самонадеянного тамплиера, принесшего эту чепуху к нему в дом. В гневе он начал обращаться к раввину на «ты»: — Возьми эту штуку, Шолом, и отнеси ее туда, откуда она взялась.
Раввин прикусил губу. Не говоря ни слова, он отвесил поклон и ушел, унося с собой табличку. Но по пути в дом тамплиеров, пролегавшему по оживленным узким улочкам, он то и дело вынимал табличку и читал надпись. «Тот, кто ищет воду, заблуждается». Он покачал головой. Напрасно ищут воду в пустыне, если колодец занесен песком. «Так говорит Иса, строитель колодца». Для чего же он строит колодец, если там нет воды? Может быть, это какой-то ложный колодец? Но о таких ему ничего слышать не приходилось. И все же там должна быть вода. «Тот, кто идет с водой, станет мудрым», — недоверчиво читал он. Вероятно, раньше в этом колодце была вода, но позднее воду отвели. Или же он высох.
Если он высох, то по крайней мере возможно найти русло, где прежде протекала вода. Может быть, это русло еще сохраняет какую-то влажность? Во всяком случае, думал раввин, оно должно идти от колодезной шахты вниз под уклон. Станет мудрым… станет мудрым? «Тот, кто идет с водой, станет мудрым!» Кто же под землей уже идет с водой! Он засмеялся. Какое-то время и он был близок к тому, чтобы посчитать это заклинание бессмыслицей, как сделал патриарх. Но он подумал, что под землей вполне возможно идти с водой, если там есть пещерный ход, ведущий под уклон. Но почему при этом человек должен стать мудрым — этого раввин не понимал. Значит… значит, в пещере было нечто приносившее мудрость тому, кто шел по пещере под уклон, сокровищница мудрости! Внезапно Шолом застыл на месте. Ведь это — ошеломляющее открытие!
Теперь все сводилось к тому, где тамплиеры обнаружили камень: лежал ли он среди многих других, или же у этого камня было какое-то строго определенное место? В этом случае ценность его была поистине неизмерима!
В доме тамплиеров камень не мог быть найден, продолжал размышлять раввин. А если он действительно лежал на дне колодезной шахты… но нет, только не там! Ведь под домом тамплиеров не было колодца, там располагались большие Конюшни Соломона.
Теперь раввин Шолом дошёл до северной стороны Храмовой площади. Он зашел в лавку сирийского торговца, которого дружески поприветствовал.
— Ты что-то давно не заходил сюда, — благодушно забрюзжал лавочник, глядя на него снизу вверх. — Я уже начал подумывать: великий раввин забыл про меня, маленького мусульманина.
Раввин Шолом похлопал его по плечу, успокаивая. Он показал торговцу табличку:
— Окажи мне услугу, Хасан, пусть твой слуга отнесет эту штуку тамплиерам. Патриарх, правда, велел это сделать мне самому, но ты ведь знаешь…
Пока он вырезал своей палочкой на табличке перевод, углы его рта горестно опустились.
— Я бы никогда не простил патриарху этого, будь я евреем! — гневно воскликнул Хасан, ибо ему, как и всем, было известно, что ни один благочестивый еврей не смеет ходить по Храмовой площади: смирение не позволяет зайти на место, где некогда находилась святая святых Храма, даже, несмотря на то, что со времени разрушения Храма прошло уже более тысячи лет.
— Патриарх болен, — сказал раввин, — поэтому ему нужен был кто-то, на ком он мог бы разрядить свое дурное настроение. Кроме того, сегодня на редкость душно. Разозлился же он не на меня, а на главного тамплиера, но того не оказалось под рукой.
Раввин вышел на улицу и тут же отпрянул назад. Внезапный порыв ветра поднял облако пыли прямо ему в лицо.
С пропыленными лицами и с растрескавшимися губами рыцари-монахи возвращались с путей паломников. Они устало слезали с коней и разминали ноги, затекшие от верховой езды. Без слов, одними кивками они просили снять с них кожаные шапки и взять оружие.
Эсташ снял куртку с господина де Монбара и, высоко подняв указательный палец, дал ему понять, что сегодня особенный день. Но еще до того как господин де Монбар успел поинтересоваться, что же сегодня за день, подошел господин де Мондидье. Он спросил как всегда нетерпеливо:
— Нет ничего связанного с надписью?
Каждый понимал, что он имеет в виду восковую табличку. Эсташ посмотрел на него большими глазами и кивнул головой: теперь перевод, который с таким нетерпением ожидал господин де Мондидье, был у них.
Как раз накануне сириец послал к ним слугу с табличкой. Эсташ чуть не вырвал ее у него из рук и спешно прочел перевод еврея. Его сердце забилось громко и учащенно. «Теперь, — думал он, — теперь должны действительно начаться поиски, а которых говорил аббат из Клерво. Ибо совершенно ясно, что этот текст имеет какое-то отношение к тайне».
Рыцари-монахи заторопились вслед за Эсташем в комнату в башне, чтобы тотчас же услышать, что прочтет на табличке господин де Пайен. Но тот лишь бегло поглядел написанное, поднял голову и долго смотрел через бойницы на пыльный смерч, бушевавший на улице.
Только тогда, когда люди, стоявшие за ним, начали притопывать ногами от нетерпения, он обернулся и передал им табличку.

Тот, кто ищет воду, заблуждается
Пьер возвратился после работ у Яффских ворот и спустился в полую колонну, охваченный любопытством относительно найденных в ней письменных знаков, о которых ему рассказывали рыцари. Он должен был убедиться в этом собственными глазами, ибо никогда в жизни ему не приходилось еще слышать о колодце, на дне которого была бы обнаружена надпись. Но на Востоке, очевидно, встречаются удивительнейшие вещи! Он сразу же нашел надпись, но вдруг она показалась ему не столь важной, взгляд его упал на два отверстия, в которые можно было просунуть большой палец.
— Ну и дела! — воскликнул он, — это же отверстия для щипцов!
И тогда он обратил внимание на то, что конусообразное дно шахты было сооружено из одного-единственного округлого тесаного камня, вложенного туда подобно пробке.
В последующие дни Пьер поставил леса, к которым прикрепил лебедку. К толстому тросу он привязал щипцы. Господин де Сент-Омер спустился в шахту, вставил зажимы щипцов в отверстия конусообразного булыжника и снова вскарабкался наверх.
Трос натянулся, и за дело взялся господин де Мондидье. У него были могучие мускулы. Но и он, и другие напрасно кряхтели вокруг колеса, которое никак не вертелось. Вдруг они почувствовали резкий рывок, и из глубины донеслось хриплое шуршание. Медленно-медленно на лебедку стал наматываться канат. Балки скрипели, козлы дрожали, словно вся эта постройка вот-вот должна была разлететься на части. Несколько раз приходилось останавливать колесо, и люди с ужасом смотрели в бездну. Наконец булыжник показался в верхней части полой колонны. Соблюдая осторожность, его вытащили.
— На сегодня достаточно! — сказал господин де Пайен. — Завтра на рассвете мы исследуем эту шахту.
Рыцари долго молились. Затем они молча поужинали. Не обсуждая это вслух, каждый думал о колодезной шахте под полой колонной и глубоко вздыхал, уносясь в мечтах куда-то вдаль. Ветер пригнал грозовые тучи. То тут, то там яркие молнии освещали комнату, в которой горели лишь лучины, и рыцари подходили к окнам в ожидании ливня. Но с неба не упало ни одной капли.
Наконец они прочли благодарственную молитву и велели внести факелы. Но в тот же момент раздались раскаты грома, будто удар гигантского кулака потряс стены. Люди попадали на пол. Землетрясение продолжалось какой-то миг, и все стало спокойным, как прежде.
Рыцари осмотрели все комнаты в доме, но никаких повреждений не обнаружили. Они вышли на Храмовую площадь, но и здесь все выглядело так же, как и прежде. Только внизу в долине они увидели, что полукруглые каменные и глиняные крыши низеньких домов во многих местах обрушились. И больше ничего.
Успокоенные, они вернулись домой, где оруженосцы передали им факелы. В мерцании света факелов рыцари спустились по каменной лестнице во внутреннем дворе; и, когда обошли весь зал с колоннами, вероятно, каждый из них удовлетворенно смеялся, глядя на эти гигантские колонны, которые пережили столько землетрясений.
Полая колонна так же крепко и непоколебимо стояла на своем месте. Когда рыцари заглянули в отверстие, они увидели только беспорядочное нагромождение кусков стен и щебня. Колодезной шахты больше не было — она обвалилась во время землетрясения.
Как раз в момент землетрясения жена Пьера родила девочку. Пьер назвал ее Сюзанной в честь матери. А в сердце своем он называл ее «маленькой восточной принцессой». Она была похожа на своих братьев и вскоре стала пухленькой, как Филипп; Арнольд же начал вытягиваться. Когда Пьер на следующий день зашел в дом тамплиеров и сообщил о рождении дочурки, он поразился тому, с каким безразличием господа восприняли это событие. Может, их интересовало только мужское потомство? Нет, этого быть не могло.
— Пьер, — начал господин де Пайен, тяжело вздыхая, — колодезная шахта, которую ты обнаружил, оказалась засыпанной при землетрясении. Возможно, что ничего не случилось бы, останься на месте камень, который мы подняли.
— Господин, — ответил Пьер, сохраняя самообладание, — то, что вы рассказали о шахте, — всего лишь небольшой неприятный сюрприз. Я уверен, нам удастся прорыть новый колодец сквозь осыпь. Для этого прежде всего необходимы несколько шестов и клиньев для опоры. Лебедка для поднятия осыпи у нас уже есть. Но что касается троих господ, которые будут со мной работать, для них понадобятся кожаные наколенники и подлокотники. Шорник может легко изготовить их к завтрашнему дню, а шлемы, закрывающие затылок, у господ и так есть. Остается решить, куда мы будем девать осыпь из шахты?
Господин де Пайен ненадолго задумался, а затем решил: все, что они достанут, можно будет ссыпать в гигантском зале с колоннами, по крайней мере на какое-то время. Что с этим делать в дальнейшем, будет видно.
На следующее утро господа де Монбар, де Пайен и де Сент-Омер были готовы к работе. Господин де Пайен накануне вечером долго молился. Теперь он, как и остальные, стоял перед отверстием, раздетый до пояса, в кожаном шлеме и кожаных наколенниках и подлокотниках. Глядя на мускулистых воинов, каменотес удовлетворенно кивнул головой. Такие люди от работы быстро не устанут!
Они пролезли в отверстие и, пока их туловища еще виднелись, доставали мусор без помощи лебедки. В опорных балках также пока необходимости не было.
К вечеру Пьер со своими ослами, как обычно, спустился к плотникам в долину Иосафат. Теперь они были уже хорошо знакомы, во время ремонта Яффских ворот ему приходилось иметь с ними дело.
— Привет, Пьер! — кричали плотники, встречая его. Когда же он попросил у них шесты, они поинтересовались, много ли ущерба причинило землетрясение дому тамплиеров.
— Очень много, — торжественно уверил Пьер. Когда же они спросили, что же там собственно оказалось разрушено, он заметно смутился.
— Стены, — сказал он без всяких уточнений, — только стены.
Затем он погнал в город своих ослов, нагружен поклажей.
Господин де Пайен желал бы рассказать королю об обвале, происшедшем в колодезной шахте, но тот находился Антиохии, незадолго до этого подвергшихся опустошительному нашествию турецкого правителя Алеппо и его всадников.
Теперь король возвратился и пригласил тамплиеров в беседу. Они постарались надеть на себя лучшее, что у них еще оставалось. Оруженосцам велели, чтобы те подрезали им бороды и умастили их. Волосы у них также были подстрижены.
Король принял тамплиеров в своих личных покоях, как это уже не раз бывало. Он сердечно с ними поздоровался и угостил их вином, фисташками и авокадо.
— Дорогие господа, — сказал он с дружелюбной серьезностью, — я предполагаю, что вы уже начали с поиски. Но задумывались ли вы когда-нибудь об их окончании — король сделал паузу и посмотрел каждому в лицо. — Предположим, что вам удастся найти сокровища великой мудрости, которые, как предполагает аббат из Клерво, хранятся под Храмовой площадью, предложим также, что вы благополучно доставите эти сокровища по морю и в неприкосновенности спрячете их на Вандеврском болоте, где будут храниться и исследоваться тайны, обладающие колоссальным могуществом, и же, как именно намереваетесь вы использовать во благо человечества ту часть премудрости царя Соломона, которая станет вам известной?
Рыцари переглянулись. Да, вопрос короля казался резонным: как могли десять или одиннадцать человек, если считать еще графа Шампанского, изменить мир в лучшую сторону? Но все теперь уже не могло оставаться таким, как прежде. Каждый из них знал планы, а та из Клерво: орден тамплиеров должен был впоследствии разрастись. «Впоследствии» означало тот день, когда сокровища мудрости в неприкосновенности доставят в Европу. К тому времени количество тамплиеров увеличится для распространения по всему миру света премудрости.
Король, разгадав их мысли, сказал:
— И на Востоке, то есть в королевстве Иерусалимском, должно находиться войско рыцарей-монахов, чтобы вместе со мной оборонять эту Святую Землю. Поэтому, дорогие друзья, — продолжал он, — я считаю необходимым для вас уже сегодня познакомиться со всем королевством, в особенности с его границами. Для этой цели я попрошу вас сопровождать меня, когда я отправлюсь в октябре осматривать внешние границы. Уже в Антиохии я пожалел о том, что вас со мной не было. Таким образом, вы сможете составить себе впечатление о ситуации в нашем франкском королевстве. Когда наступит весна, мы снова будем здесь. И тогда вам придется избрать кого-нибудь, с кем бы я мог советоваться по вопросам, не подлежащим обсуждению с другими людьми, — и он пристально посмотрел на господина де Пайена.
— Аббат из Клерво, — ответил господин де Пайен, — дал нам понять, что интересы королевства мы всегда должны считать первоочередными. Если бы ваш отъезд, сир, был близок, то нам было бы тяжело ехать вместе с вами. Но поскольку эта поездка предстоит в достаточно отдаленном будущем, то, вероятно, к тому времени мы добьемся долгожданного успеха и после этого будем свободны. Еще я должен сообщить, что колодезная шахта при землетрясении оказалась засыпанной и ее нужно расчистить.
Король немного помолчал, глядя на господина де Пайена. Потом тихо сказал:
— Пожалуй, будет лучше, если до октября вы не добьетесь успехов, господин Гуго.
Рыцари нахмурились.
— Видите ли, мои дорогие, — король попытался пояснить только что сказанное, — как только вы обнаружите эту чудесную сокровищницу мудрости, все ваши помыслы и стремления будут направлены на то, чтобы доставить ее в Европу в целости и сохранности. И тогда вы не сможете сделать и шага, не подвергая ее опасности. Поэтому позвольте мне пожелать вам, чтобы до октября у вас не было никаких удач.
— Мы вас понимаем, сир, — сказал господин де Монбар от имени всех. И когда король кивнул в знак благодарности, добавил: — Все мы в руках Божиих.
С подавленным сердцем возвратились они в дом тамплиеров. Господа д'Альдемар, де Сент-Аман и де Мондидье не сказали друг другу ни слова, когда снимали с себя одежду и надевали кожаные наколенники. Каждый из них неподвижным взглядом смотрел в глубь шахты, прежде чем спуститься и с тяжелым вздохом взяться за лопату. И так было изо дня в день.
— Ну что ж, через полгода у нас будет свободное время, — сказал господин де Пайен.
И многие из господ подумали, что полгода — это большой промежуток времени. Но чем глубже они вгрызались в колодезную шахту при раскопках, тем медленнее шла работа. Пришлось подпиливать шесты и обрубать клинья, поскольку Пьер был крайне озабочен тем, чтобы поставить в расчищенной шахте подпорки, не дающие никому возможности туда свалиться и получить увечье. В конце концов, сверху колодезная шахта стала выглядеть как какая-то вертушка.
Очистка шахты от осыпи была чрезвычайно трудной. И даже спуск в шахту и подъем из нее стали сложнее, чем прежде. Все это требовало длительного времени. Уже подошла последняя неделя сентября, когда лопата господина де Сент-Амана с пронзительным скрежетом коснулась дна шахты, состоящего из скального грунта. Неужели их работа закончилась? Тяжелое подозрение появилось на ошарашенных лицах мужчин: если здесь просто высох колодец, то не было никакой надежды на то, что с какой-нибудь стороны есть приток или отток воды. Воды не было. Заклинание на камне оставило их в дураках.
— Да, да, — заметил господин д'Альдемар с подчеркнутой медлительностью, — тот, кто ищет воду, заблуждается. Но можно ли считать, что не заблуждается тот, кто ищет что-либо иное?
— Господа, — сказал Пьер, вытерев пот со лба, — если вам угодно, позвольте нам достать из шахты последние остатки осыпи.
Не унывая, он продолжал работать лопатой. Господин д'Альдемар держал факел. Вдруг мерцающее пламя отклонилось в сторону.
Господин д'Альдемар обнаружил расщелину между двумя каменными глыбами, неплотно пригнанными друг к другу. Здесь явно ощущалась воздушная тяга.
— Действительно воздух! — пробормотали рыцари почти одновременно.
Они слегка отодвинули камни и просунули факелы в отверстие. Пламя осветило низенький коридор, ведущий из шахты к востоку. Повеяло влажной прохладой. Этот коридор также пострадал от землетрясения, камни и осыпь загромождали его почти до самого свода.
— Здесь следует поставить опоры, — сказал Пьер, — прежде чем начинать работы.
На следующий день он принес туда балки и клинья. Но рыцари уже начали готовиться к поездке. А Пьер должен был снова работать вместе с каменотесами, проверявшими крепость городских стен. Эсташ, так боявшийся одиночества, с удовольствием помогал рыцарям надевать доспехи: на этот раз он мог поехать вместе с ними, так как они брали в поездку всех лошадей.

Еще одно разочарование
Сильная жара еще не спала, когда король со свитой выступил в поход. Впереди ехал герольд, одетый в цвета королевского флага, за ним следовали два молодых королевских рыцаря. Сам король ехал вместе с коннетаблем Эсташем Гарнье, грубым на вид, но очень порядочным человеком. После них — тамплиеры.
Они избрали кратчайший путь на север: древнейшую военную дорогу, которая взбиралась в горы через Наблус. Там она слегка отклонялась к западу и снова устремлялась на север, проходя мимо Назарета. Повсюду были видны разбросанные стада овец, верблюдов и ослов, которые щипали скудную жесткую траву. Всадники спустились к Генисаретскому озеру в сухую долину Хосбами у подножия Ливанских гор, где с запада на восток пролегала граница графства Триполи. Королевский отряд находился в пути четыре дня, на пятый день он въехал в столицу графства Триполи. Город, окруженный апельсиновыми рощами, лежал у подножия Ливанских гор, и из него открывался вид на море. Караваны, проезжавшие через него по прибрежной дороге, были нагружены губками, шелковыми тканями, мылом и табаком. С песнями торговцы расхваливали свой товар перед каждым проезжающим.
Граф Триполитанский выехал навстречу королю, ибо ему доложили о его прибытии. И король сердечно обнял жизнерадостного уроженца Южной Франции, когда тот просунул руку в королевское стремя и подставил свое плечо, чтобы королю было удобнее сходить с коня. Он принимал у себя королевский отряд до тех пор, пока господам не удалось выработать единую тактику по отношению к Дамаску. Ибо Дамаск имел протяженную границу как с землями короля Иерусалимского, так и с территорией графа Триполитанского. Давление с востока было ощутимым. Все средиземноморские порты, за исключением Тира, находились в руках франков, и, если Дамаск имел намерение отправить товары по морю в Бейрут, он должен был платить за это большие пошлины.
Наконец путешествие на север было продолжено, дорога все время шла вдоль моря, на котором то тут, то там поднимались осенние штормы, так как пора бурь еще не прошла. Граф Триполитанский проводил короля до северной границы своего графства. После этого король оказался в пределах княжества Антиохийского, чьим властителем являлся он сам, после того как князь этой страны был убит турецким правителем Алеппо. Здесь также проходили утомительные переговоры с должностными лицами, понимавшими, однако, короля с полуслова. Он осмотрел границу с владениями Дамаска, совсем короткую. Более длинной была граница княжества Антиохийского с территориями, принадлежащими городу Алеппо, которые в свою очередь граничили с христианским графством Эдессой.
Величественный город Антиохию построили с большим искусством. И это было заметно, несмотря на все разрушения, которые городу пришлось испытать. Особое восхищение тамплиеров вызвал железный мост через Оронт. Впоследствии король намеревался передать графство Антиохийское какому-нибудь принцу благородной крови. Неплохо, если бы он оказался еще и предусмотрительным политиком!
Когда они пересекли границу графства Эдесского, стояла морозная зима. Густой снег лежал на немногочисленных в этой гористой местности тропах. Графство Эдесское было предметом постоянных забот короля, ибо только на юго-востоке — да и то каким-то краешком — оно соединялось с его страной. Со всех остальных сторон его окружали чуждые народы, ведущие суровый образ жизни и обладавшие могучей волей: в Алеппо господствовал тюркский род Ортокидов, на востоке и севере страх внушали другие тюркские племена, а кроме того соперничавшие с ними греки, которые с незапамятных времен отстаивали свое право на принадлежавшие им поселения в Малой Азии. На западе жили армяне.
Здесь король задержался дольше всего. Для графа Эдесского пребывание короля означало повышение авторитета в глазах врагов, и поэтому он всячески старался затянуть королевский визит.
Когда же зацвели нарциссы и на горных вершинах растаял снег, наступил день прощания, и король с озабоченным лицом уехал из Эдессы. Граф предложил его проводить, но король наотрез отказался: для него было важнее, чтобы граф находился в состоянии боевой готовности, ведь с наступлением весны могли возобновиться военные действия.
Без задержек отряд спешил к югу. Король не пожелал останавливаться во второй раз ни в Антиохии, ни в Триполи и избрал не горный путь через Наблус, по которому они ехали прежде, а прибрежную дорогу, соединявшую портовые города: Бейрут, Сидон,Аккон, Атлит и Яффу. Портовый город Тир королевскому отряду пришлось обогнуть, так как и порт, и город все еще принадлежали султану Египетскому. Только начиная от Яффы они стали подниматься в горы. В закатных лучах апрельского солнца показался Священный Город, каким тамплиеры его уже видели, впервые приехав на Восток. Этот день стал третьей годовщиной их прибытия в Иерусалим.
Уже на следующее утро господин де Пайен задержал в доме шестерых рыцарей, несших охрану на путях паломников.
— Дорогие господа, — он смотрел на друзей, улыбаясь, — мне и в голову не могло прийти то, что у вас были переживания, отличающиеся от моих; на протяжении всей нашей поездки, в которой мы так много узнали о ситуации в этом королевстве, я не мог забыть о ходе в пещеру. Именно сегодня настала пора продолжить его исследования. Наш каменотес сообщит нам кое-что важное по этому поводу. Однако у меня есть к вам просьба, — он немного помолчал, затем сказал с настойчивой интонацией: — Давайте оставим все надежды на то, что мы ожидаем от этого потайного хода! Если нам посчастливится его расчистить, то мы это будем делать не с жаждой успеха, а ради испытания нашего смирения, нашего терпения и нашей выносливости! Давайте начнем работать с такими мыслями.
Он отпустил тех рыцарей-монахов, которые должны были охранять паломников и наводить порядок на их путях, и вместе с господином де Монбаром и господином де Сент-Омером пошел в Конюшни Соломона.
Они разделись, надели кожаные наколенники и подлокотники и между опорами спустились в шахту.
Пьер, остававшийся на дне шахты, бросал лопатой камни через отверстие, расчищая находившийся за ним ход. Корзина мгновенно наполнилась.
— Там, снаружи, нужно будет также сделать подпорки, — сказал он, не добавив, как обычно, «если вам будет угодно».
В колодезной шахте рыцари работали, как бы передавая друг другу эстафету: господин де Сент-Омер карабкался до половины высоты шахты с полной корзиной и передавал ее господину де Пайену. Тот лез с ней до самого верха шахты, где корзину брал господин де Монбар и высыпал ее содержимое у северной стены подземного зала. Тем временем Пьер наполнял новую корзину.
Примерно после часа работы Пьер очистил весь пещерный ход до самого дна, выложенного вертикально стоящими обожженными плоскими кирпичами. Господин де Пайен всмотрелся в него в свете своего факела: может быть, это было русло некогда протекавшего здесь потока? Если да, то откуда он тек? Господин де Пайен выпрямился. «Вода, — подумал он, — могла течь только с севера, ибо уклон идет оттуда». Но этот ход вел из шахты к востоку, по крайней мере насколько можно было разобрать при свете факелов. Он предложил:
— Давайте вынем еще один кусок почвы, чтобы посмотреть, есть ли там уклон.
После нескольких часов работы расчищенная поверхность стала настолько обширной, что они увидели уклон к востоку — хотя и небольшой.
— Тот, кто идет с водой, — пробормотал господин де Сент-Омер, но не закончил изречения безвестного строителя колодца, так как, устыдившись, вспомнил просьбу, высказанную господином де Пайеном.
День за днем в подземном ходе теперь работали трое тамплиеров. Они расчищали его, в то время как Пьер ставил опоры для стен и крыши. Работы были крайне затруднительны, пещера имела столь низкий свод, что стоять в ней можно было только согнувшись.
Обливаясь потом и кашляя, они продвигались вперед дюйм за дюймом. Проходили недели, и однажды — где-то в июне — внезапно показался конец туннеля, который выводил на поверхность земли. Факел потух, когда Пьер, держа его в руке, подошел к выходу из туннеля. Спотыкаясь на каждом шагу, ощупью, выбрались они на свет.
Господин де Мондидье, работавший в тот день внутри пещерного хода, сказал:
— Если бы этот туннель был проложен немного глубже, то он, несомненно, оканчивался бы в одной из мусульманских могил, расположенных под восточной стеной Храмовой площади над долиной Иосафат. Вероятно, этот канал, в котором нам так долго пришлось торчать, в прежние времена служил тайным путем для бегства, и слова строителя колодца имеют только один смысл: ввести в заблуждение того, кто откроет этот ход.
Господин д'Альдемар пожал плечами.
— Несомненно одно, — сказал он, — из наших поисков опять ничего не вышло, и господин де Пайен проведет еще много часов в молитве, прежде чем ему что-нибудь сообщит указующий перст.

Обессиливающее отчаяние
Патриарх Иерусалимский запланировал новую инспекционную поездку. Он намеревался посетить все города королевства и прежде всего проследить, как там обстоит дело с соблюдением прав. Ведь приверженцы римско-католической веры составляли на Ближнем Востоке меньшинство. Там были христиане, именующие себя греко-католиками, и те, кто называл себя сиро-католиками. Кроме них на христианских территориях проживало множество мусульман и некоторое, хотя и незначительное, количество иудеев. Поэтому ничего удивительного не было в том, что одни у других перенимали различные обряды, которые патриарх для своей Церкви допустить не мог. Помимо этого, он имел намерение в ходе этой поездки назначить епископами Сидона и Бейрута людей, считавшихся в Иерусалиме его друзьями. Еще он хотел встретиться с патриархом Антиохийским и обсудить с ним самые насущные проблемы Церкви на Ближнем Востоке. Поэтому он пригласил к себе господина де Пайена и сказал ему:
— Любезный господин, вероятно, до ваших ушей уже дошло, что я намерен использовать полномочия, соответствующие моей должности, ради инспекционной поездки. Я проеду страну вдоль и поперек, чтобы воздавать хвалу и возводить хулу подобающим образом, и воспользуюсь своим правом назначать пастырей для христианского народа. В этой поездке мне необходимо вооруженное прикрытие, и я подумал о своих рыцарях-монахах. Ведь вы теперь свободны. Как вы относитесь к идее сопровождать меня в поездке?
Господин де Пайен прикусил губу. Спустя мгновение он ответил:
— Позвольте мне, достопочтенный отец, высказать мнение, противоположное вашему: ведь вы считаете, что у нас нет обязанностей перед королем, но есть обязанности только перед вами. Как вам известно, на нас возложена двойная задача: с одной стороны, монашеский долг, скрепленный нашим обетом, с другой же стороны, светский долг перед нашим королем. Поскольку, однако, вы также занимаетесь защитой нашего королевства, было бы, вероятно, справедливым, если бы вы попросили короля предоставить нам отпуск. Может случиться и так, что наши руки, держащие мечи, в эту пору понадобятся для политических дел. Если король примет решение дать нам отпуск, тогда, разумеется, мы будем вас сопровождать.
Патриарх нахмурил брови.
— Смотрите-ка! — закричал он, — вот ведь что придумали! Ладно! Не забывайте только, что я могу вам попросту приказать, ведь когда вы давали мне монашеские обеты, то клялись и в послушании.
— Да, достопочтенный отец, и этого мы будем придерживаться. Позвольте мне, однако, указать на то, что в наших обетах речь идет о вещах, необходимых для Церкви, и о вопросах монашеской дисциплины.
— А разве, — спросил патриарх, выпрямившись, — инспекционная поездка патриарха не является необходимой для Церкви?
— Прошу прощения, — вынужден был уступить господин де Пайен.
Затем патриарх с неприветливым видом отпустил его.
Король пошел навстречу патриарху, и поэтому в последние дни августа тамплиерам поневоле пришлось прийти во дворец достопочтеннейшего, чтобы сопровождать в поездке его и двоих епископов. Впереди ехал герольд, одетый в цвета патриаршей хоругви, за ним следовал обыкновенный священник с крестом. И далее — господа, ибо патриарх отказался путешествовать в паланкине. Верхом на коне он выглядел великолепно. Это был высокий, еще не старый человек с гордой осанкой и темными, пылающими глазами. Драгоценный крест у него на груди сверкал ярче кольца на руке, а шпоры были из золота.
Всадники выехали из города через Дамасские ворота. Они рассчитывали двигаться по старой военной дороге на север. В горах, правда, было мало воды, но по ночам страшная жара ослабевала, и свежий ветерок давал новые силы и всадникам, и коням. Тамплиерам эта местность была уже знакома: в Наблусе дорога делала изгиб к западу, пока в Самарии вновь не поворачивала на север, спускаясь на плодородную равнину Иезреель, которую нужно было пересечь, направляясь в расположенный над ней Назарет. На этот раз, однако, по этой долине поехали к северо-западу, и к вечеру второго дня пути всадники въехали в портовый город Хайфу. В лучах заходящего солнца вся бухта была окрашена в красный цвет так, что непокорная крепость Аккон на ее северном мысу казалась объятой пламенем.
На следующее утро патриарх и сопровождавшие его рыцари уже за Хайфой очутились в непроходимой толчее среди караванов, и пришлось оставить всякую надежду на быструю поездку. Тысячи верблюдов устремлялись к перевалочному пункту Аккон: купцы, чьи корабли стояли там в гавани, устроили рынок зерна.
Еще накануне хозяин гостиницы в Хайфе предупреждал:
— Вы должны вернуться, святой отец, и продолжать ехать по верхней дороге в горах.
Но патриарх в ответ презрительно махнул рукой. Он велел герольду прокладывать дорогу среди верблюдов, целые вереницы которых всегда были связаны одной веревкой. Но звон, колокольчиков и крики погонщиков заглушали возгласы герольда и звуки его рога; а равнодушия погонщиков ничем невозможно было нарушить. Поэтому по городу отряд, сопровождавший патриарха, двигался ничуть не быстрее караванов, идущих мелкой рысью.
Еще хуже сложились дела, едва всадники выехали из города. Когда они наконец оказались на прибрежной дороге, ведущей к северу, был уже поздний вечер. Гнев господина де Мондидье из-за упрямого поведения патриарха достиг точки кипения, когда господин де Пайен подъехал к нему и сказал:
— Дорогой брат, это превосходная возможность для нас воспитать смирение, без которого ничего хорошего не выйдет. Я уверен, что вы тоже вспомните об этой монашеской добродетели.
Господин де Мондидье многозначительно вздохнул. Кто знает, что еще может случиться в этой поездке, пока рыцари не вернутся домой! И кто знает, когда это* произойдет!
В своих сомнениях господин де Мондидье был действительно прав. Вместе с правителем города путешественники осмотрели городской порт, из которого в Европу отправляли тонкое полотно и стекло, а также школу, где изучали движение звезд и ночное ориентирование кораблей. С незапамятных времен жители города Сидона были мореплавателями; и патриарх получил предсказание, согласно которому он не мог продолжать поездку, пока не посетит могилы своих далеких предков-мореплавателей, расположенные в скалах. Там, в пещерах, он простудился. На следующее утро у патриарха начался сильный жар, и поездку пришлось прервать.
Прошла зима, и, когда тамплиеры вернулись к себе домой в Иерусалим, наступил день четвертой годовщины их приезда на Восток. Что касается патриарха, то он в Сидоне слишком рано встал на ноги после болезни, и в Антиохии, в доме тамошнего патриарха, с ним случился новый тяжелый приступ.
Начался сезон дождей с мелким градом и снегом. При таких обстоятельствах нечего было и думать о продолжении поездки в сторону Эдессы, равно как и о возвращении.
Дома тамплиеры проводили время в молитвах и трудах. Но в шахте, расположенной под Конюшнями Соломона, происходили иные события: на следующий день после прибытия тамплиеров Пьер спустился туда один и стал медленно исследовать пещеру. Ему не давало покоя то, что факел в прошлый раз погас у выхода из пещеры. Последние месяцы он снова и снова думал об этом: почему у входа в пещеру факелы горели ярко, но внезапно погасли, оказавшись в конце туннеля?
Теперь, попробовав осветить этот туннель еще раз, Пьер заметил, что факелы начинали мерцать и потрескивать, когда он держал их примерно за тридцать шагов до конца туннеля, у правой стены пещеры. Здесь был сквозняк. Осторожно он исследовал стену. Она выглядела так, словно была сооружена из каких-то искривленных камней. Осветив своим факелом ее поверхность, Пьер обнаружил, что за искривленную стену он принял скальную плиту неправильной формы, которая была пригнана к стене. Она неплотно примыкала к другим камням, и сквозь эти щели проходил воздух. Пьер глубоко дышал. Грудная клетка казалась ему слишком узкой. Может быть, он наткнулся на проход, и за этой глыбой таится как раз то, что ищут тамплиеры? Почему сердце его билось так громко?
«Но ведь это не я занимаюсь здесь поисками», — напомнил Пьер себе, собравшись с мыслями. Однако, впервые после долгого перерыва он ощутил тот особый страх, который овладевал им всякий раз при упоминании о его задаче. Это чувство не покидало Пьера и тогда, когда он карабкался вверх по шахте, и когда привел тамплиеров» в пещерный коридор, чтобы они помогли вынуть из стены скальную плиту.
При помощи канатов и рычагов они работали, покашливая, в нижнем коридоре, пока наконец не удалось сдвинуть эту скальную плиту настолько, что между ней и стеной образовался зазор, в который мог пролезть человек. Господин де Сент-Омер протиснулся туда, держа в руке факел, и вдруг оказался в узком помещении, из которого каменная лестница поднималась в западном направлении. По его расчетам, она должна была вести куда-то назад, доходя примерно до половины высоты шахты. А поскольку нижняя часть шахты не была затронута землетрясением, нижняя часть лестницы также осталась в целости и сохранности. Наверху, однако, лежала осыпь, освещенная слабым светом. Прежде всего было совершенно не ясно, откуда он исходил. Господин де Сент-Омер уже видел такие вырубленные в камне лестницы во многих скальных крепостях Европы. Чаще всего они использовались как пути для бегства, выходившие на поверхность земли вдали от замка, часто на берегу какой-нибудь речки. Господа де Сент-Аман и д'Альдемар также считали, что такая лестница может служить путем для бегства. Или они только так говорили, чтобы скрыть друг от друга свои надежды на нечто иное? Они не торопились принимать дальнейших решений, ожидая, пока господин де Пайен вернется с путей паломников. Когда же тот, стоя вместе с Пьером у подножия этой лестницы, вырубленной в скале, спросил у каменотеса, что нужно сделать, чтобы расчистить верхнюю часть лестницы, Пьер с факелом в руке показал вверх на боковую стену и сказал:
— Смотрите сюда, господин, если вам угодно, и вы увидите, что только нижняя часть этой лестницы сооружена из скальных плит неправильной формы. В верхней ее части стены выложены обычной кладкой — там, где они обрушились во время землетрясения. Я предполагаю, что грунт, покоящийся на этом скальном основании, тот, на котором построена часть зала с колоннами, представляет собой не что иное, как обломки сооружений тысячелетней давности. Я слышал, что города в Святой Земле возводились над руинами более древних городов. Это мне сказали каменотесы, ремонтировавшие городскую стену. Если же вы меня спрашиваете, что делать дальше, то отвечу: делать нужно то же самое — ставить подпорки и расчищать верхнюю часть лестницы. Куда убирать мусор, решайте сами.
— Нам не остается ничего иного, — задумчиво сказал господин де Пайен, — как поднимать мусор в зал с колоннами и складывать его там. Ведь в пещерном коридоре осыпь будет мешать ставить подпорки и укреплять канаты. Итак, мы будем продолжать нашу обычную работу.
В течение ближайших недель тамплиеры вычистили всю лестницу, тщательно укрепив стены и потолки. С помощью канатов они скрепляли бревна и волочили их по низкому коридору до самого подножия лестницы, очистка которой от мусора происходила следующим образом: в корзинах его несли по коридору, затем прикрепляли корзину к канату, висевшему в шахте, один из тамплиеров, находясь у верхнего края шахты, наматывал канат на лебедку, другой карабкался по опорным стойкам и продвигал наполненную корзину между опорными балками.
Работая таким образом, в конце июля они оказались в верхней части лестницы у крутого поворота на восток. Там сквозь расщелину в скале свет падал внутрь пещеры, пол был завален камнями и осыпью. По-видимому, обрушился свод. Наконец настал день, когда господин де Мондидье, спотыкаясь на каждом шагу, переползая через кучи мусора, добрался до расщелины в скале и выглянул наружу.
— Мы находимся под восточной стеной Храмовой площади! — закричал он своему напарнику. — Если сдвинуть эту каменную плиту, то здесь будет выход в долину Иосафат!
— Господин, — возразил Пьер, — возвращайтесь к нам, если вам угодно! Эта стена там, впереди, в любой момент может обрушиться на вас, так как мы ее еще не укрепили. К тому же я не уверен, что нам удастся сдвинуть эту глыбу. Как правило, существуют такие скальные плиты, которые под землей сомкнулись друг с другом.
Итак, господин де Мондидье вернулся к ним; и они ставили подпорки и работали лопатами, наполняли корзины и выносили их, и с каждым днем это становилось все труднее. Но однажды господин де Мондидье резко отставил наполненную корзину, которую должен был вынести. Минуту он молчал. Затем воскликнул:
— Для чего все это? — поскольку никто его не понял, он пояснил: — Зачем мы расчищаем эту штольню? Какой толк будет от того, что мы все расчистим и сможем подойти к окошечку в скале?
Остальные лишь пожали плечами. Очистка пещеры от мусора и укрепление стен стали настолько обыденным делом, что никто уже не задумывался, какой от этого прок. Но ведь господин де Мондидье был прав: там, у окошечка в Скале, этот коридор заканчивался тупиком, и не имело значения, был ли он расчищен или же забит мусором. Сразу вся их работа показалась тамплиерам совершенно бессмысленной: они давно уже почти перестали думать о грандиозной сокровищнице премудрости.
Господин де Пайен, уловивший такое настроение, велел сделать перерыв в раскопках, и даже нетерпеливый господин де Мондидье на этот раз ничего не имел против. Все были сыты по горло разочарованиями. Они ощущали только одно: обессиливающее отчаяние.

Несчастье короля
Граф Эдесский пригласил короля к себе в гости. В северо-западных горах он хотел устроить для него большую соколиную охоту, которую король страстно любил. Во время отсутствия короля на тамплиерах лежала обязанность следить за границами королевства в Трансиордании. Так однажды они приехали в Моавский Крак, который был для них уже знакомым местом. Это совпало с пятой годовщиной со дня их прибытия на Восток.
Граница с Египтом в то время находилась под контролем коннетабля Эсташа Гарнье, а в Иерусалиме правил патриарх.
Когда тамплиеры поднялись к замку графа Моавского, они услышали плач и крики. Полные дурных предчувствий, они пришпорили коней. На переднем дворе тамплиеры встретили рыцаря, который рыдал и рвал на себе волосы. Из-за рыданий было почти невозможно разобрать его слов. Когда же они узнали, в чем дело, им тоже захотелось заплакать.
— На короля на охоте напали всадники турецкого эмира Балака и взяли его в плен; короля выдал его сокол, перелетевший через границу охотничьих угодий!
Тамплиеры оставались у графа Моавского до тех пор, пока не узнали, что коннетабль возвратился египетской границы и установил в Иерусалиме собственное регентство. Он вызвал их в город. Господина де Пайена он освободил от службы, которую тот нес на путях пилигримов, и назначил собственным советником. Теперь ему был нужен рассудительный и суровый человек, ибо требовалось пойти на такие политические уступки туркам, которые не наносили бы слишком большого ущерба интересам королевства.
Тут же начали сбор золота, денег и драгоценных камней, так как эмир требовал огромный выкуп. Ведь в его руках в качестве залога было самое дорогое, чем обладало Иерусалимское королевство — сам король.
Тамплиеры вынули все драгоценные камни из рукояток своих мечей.
— Зачем нам дорогие мечи, если мы уже давно не носим роскошных одежд, — сказал господин де Монбар.
Все драгоценности, которые у них еще оставались, они сложили в чашу для пожертвований.
В то время, когда король Иерусалимский был в плену, в Иерусалим прибыло тайное посольство из Венеции с известием, что весь венецианский торговый флот отплыл на Восток, чтобы дать сражение набирающему мощь египетскому флоту.
Коннетабль немедленно собрал воинов и отправился, с ними на равнину. Там он намеревался сковать египетские сухопутные силы.
Он взял с собой и тамплиеров, но не собирался бросать их в атаку, так как знал, что не должен подвергать их опасности. Ему было известно, что в Иерусалимском королевстве у тамплиеров какая-то секретная миссия, которую поручил им король. «Когда-нибудь этот орден, вероятно, станет могущественным, — однажды сказал ему король. — Тогда мы вверим ему защиту королевства». У городка Ибелин произошла первая стычка между франкским и египетским войсками, но тамплиеры непосредственного участия в боевых действиях не принимали. С моря доносились, смешиваясь с шумом битвы на равнине, громкие крики и грохот. Над водой клубились черные огненные тучи, а на равнине сверкали и звенели мечи.
Тамплиеры стояли на небольшом возвышении в тылу франков. По крайней мере, им удалось добиться разрешения коннетабля на обеспечение тылового прикрытия. Но этого не понадобилось, поскольку вскоре египтяне начали отступать: они отступали все дальше и дальше, и еще перед тем, как солнце окрасило морские волны в красный цвет, обратились в бегство. Победу одержали христиане.
На следующее утро они узнали, что египетский флот уничтожен венецианскими купцами. Вот уже два года египтяне пытались взять в свои руки торговлю между Европой и Азией. Теперь ее снова безраздельно контролировали венецианцы. Узнает ли король в своей темнице о разгроме врага?
Когда тамплиеры вернулись домой, все их помыслы были связаны с полой колонной в Конюшнях Соломона, и страсть к раскопкам возобновилась в них с такой силой, что они не стали дожидаться указаний господина де Монбара. Да, Андре де Монбар возглавлял теперь рыцарей-монахов вместо господина де Пайена, ибо последнего редко можно было видеть в доме тамплиеров. Коннетабль ожидал его сразу же после заутрени и только после вечерни отпускал из Крепости Давида.
Господин де Мондидье стоял вместе с Пьером в том коридоре, где перед отъездом бросил лопату, и теперь вернулся к работе с нетерпеливым ожесточением. Когда? Когда наконец они наткнутся на сокровищницу, которую разыскивают? Только благодаря аккуратности Пьера они не прекратили расчищать этот коридор, как некогда предлагал сделать господин де Мондидье. Если теперь он с Божьей помощью должен быть расчищен, то оставалось ждать недолго.
Господин де Мондидье вонзил лопату в осыпь, и лопата на что-то наткнулась. Он вытащил ее и снова начал копать в том же месте. Лопата опять на что-то наткнулась. Господина де Мондидье обуяло любопытство. Согнувшись и обливаясь потом, он яростно отгребал землю. На полу в штольне оказалась каменная плита почти правильной округлой формы. Землетрясение слегка приподняло плиту, и теперь, убрав землю по краям, ее можно было отодвинуть в сторону. Пораженные, они встали на колени и заглянули под плиту. В свете факела был виден узкий каменный желоб, ведущий к юго-западу и спускавшийся плоскими ступеньками. Господин де Мондидье вполз в этот желоб — настолько низкий, что в нем невозможно было выпрямиться. Держа перед собой факел, он полз, как ему казалось, довольно долго. Затем попытался сориентироваться. На всем ли протяжении этот желоб был направлен к юго-западу? Или же он делал изгиб, который остался незамеченным? Как отсюда вылезать, если тут едва можно повернуться? И хватит ли сил на обратный путь, который придется проделать ногами вперед? Эти вопросы терзали рассудок господина де Мондидье.
И все же, словно в опьянении, он продолжал ползти дальше. И вдруг очутился в месте, где желоб разветвлялся. Здесь де Мондидье задумался.
У развилки желоба было достаточно просторно, и ему удалось повернуть обратно. Кряхтя, он пополз назад в верхний коридор, где Пьер встретил его с гневно озабоченным лицом. Господин де Мондидье вскарабкался к окошечку в скале, оперся локтями о каменный выступ, похожий на подоконник, и глубоко вздохнул. Под ним в пронзительно ярких лучах солнца лежала долина Иосафат.
— Желоб разветвляется, — сказал он. Пьер ничего ему не ответил.
Когда господин де Пайен вечером вернулся домой из Крепости Давида, господин де Мондидье повторил рассказ о своем открытии:
— Желоб разветвляется, и кажется, что правый его рукав ведет под Храмовую площадь, а левый — к югу. Каменотес не знает, использовался ли этот желоб для воды, так как, несмотря на уклон и пологие ступени, начинается он не в колодезной шахте, вырытой строителем колодца Исой. Он начинается вообще не в колодце. Он начинается там, где не должен начинаться желоб для воды, то есть…
— То есть где? Продолжайте, господин Пэ.
— То есть вода, по всей видимости, поступала в него из акведука.
— Думаю, что акведук мог заканчиваться только на западной стороне Храмовой площади, — сказал господин д'Альдемар.
— Мы этого не знаем.
— «Тот, кто ищет воду, заблуждается, — пробормотал господин де Сент-Омер. — Тот, кто идет с водой, станет мудрым».
Что же касается господина де Пайена, на которого были устремлены все взгляды, то он спросил господина де Мондидье, не слабее ли стал гореть у него факел, когда он проползал по узкому желобу. Но господин де Мондидье тогда не обратил на это внимания.
В который раз тамплиерам пришлось прекратить поиски сокровищницы мудрости. Коннетабль пригласил их к себе в Крепость Давида.
— Благородные господа и воинствующие монахи, — начал он после того, как попросил их сесть, — наш король все еще томится в турецком плену в Курдистане. Сумма, собранная нами для его выкупа, не составляет и шестой части той, которую требует эмир Балак. У меня же нет прав взять недостающие деньги из казны королевства. Поэтому необходимо провести второй сбор пожертвований, хотя бы для того, чтобы спасти честь нашего королевства. Этот второй сбор я хотел бы поручить вам, ибо вы пользуетесь доверием народа. Вам доверяют не только паломники и торговцы, но также крестьяне и кочевники, чью собственность вы неоднократно защищали от разбойников. Теперь, пока вы будете обдумывать мое предложение, я покину эту комнату.
Коннетабль встал, собираясь выйти. Но тамплиеры уже обменялись взглядами, выражавшими согласие выполнить эту просьбу, ибо что могло быть важнее для Иерусалимского королевства, чем присутствие в нем короля! Страна без короля не имела никакого авторитета. И Европа могла еще подумать, стоит ли посылать Иерусалиму помощь.
Господин де Пайен поднялся с места, как только коннетабль собрался выйти, и сказал:
— Оставайтесь с нами, господин, ибо мы единодушны в том, что вашу просьбу следует исполнить, как только вы сочтете это нужным. Есть ли у вас какой-нибудь определенный план?
— Сбор средств я предоставляю на ваше усмотрение.
Коннетабль поблагодарил рыцарей-монахов, и они ушли. В тот же день тамплиеры начали снаряжаться в поездку.
На следующее утро, по решению господина де Пайена, они отправились по трое в предназначенные для них области. На тот случай, если им придется защищать собранные богатства, тамплиеры имели при себе оружие. Отправились вместе с ними и оруженосцы, так как помимо провианта, палаток и оружия нужно было вести лошадей, которые — в случае успешного окончания мероприятия — должны были вернуться в Иерусалим с поклажей.
Господам де Сент-Аману, де Сент-Омеру и де Мондидье пришлось ехать на юг королевства, представлявший почти исключительно пустыню. Они спустились в долину Иордана и поехали по западному берегу Мертвого моря. В оазисе Энгеди они набрали еще раз питьевую воду в свои бурдюки; миновав Энгеди, перешли на мерную рысь, характерную для всадников, привыкших ездить по пустыне. Дорога превратилась в своего рода верблюжью тропу, окаймленную слева и справа каменистыми горами. То и дело им попадались отряды всадников графа Моавского, на чьей территории они находились. У них рыцари выясняли, где находятся бедуинские пастбища.
Сейчас, в разгар лета, поездка давалась так мучительно, что тамплиеры прежде и представить себе не могли: солнце палило во всю мощь, оводы были как бешеные и буквально истязали людей и лошадей. Вода, которую они везли с собой, стала почти кипятком и едва утоляла жажду. По ночам перед входом в палатку необходимо было разводить костер, отпугивающий львов и змей. Так тамплиеры продвигались от одного бедуинского шатра к другому, от оазиса к оазису. Иногда им встречались площадки размером с коровью шкуру, на которых стояли колодцы, поблизости паслись стада. То пастух клал им в корзину свои серьги, то женщина приносила какую-нибудь серебряную пластинку, оторвав ее от своей одежды. Как же они удивлялись тому, что даже спустя три дня после начала поездки им встречались бедуины, узнававшие их по красным матерчатым крестам, нашитым на рясы. Повсюду они были желанными гостями. Каждый давал сколько мог, потому что короля любили не только христианские подданные.
Тамплиеры ехали по широкой сухой долине от ложбины, где течет Иордан, к югу. Справа от них была египетская граница, за которой наблюдали конные отряды графа Моавского.
— Куда вы едете? — спросили они.
И когда тамплиеры объяснили им, какое задание выполняют, всадники графа Моавского сказали:
— Приходите и к нам.
Они показали на мощные крепости на востоке, расположенные на горных отрогах, вклинивающихся в пустыню подобно Моавскому Краку:
— Эта ближняя крепость называется Монреальский Крак. А вон та дальняя на юге, которая едва видна отсюда, называется Махан. Находящиеся в ней часовые могут обозревать границу с Египтом до самого Красного моря.
Поскольку их кони, проявляя нетерпение, не стояли на месте, всадники закричали:
— До скорого свидания! — и умчались прочь. Их покрывала, и белые бедуинские рубахи развевало ветром.
— Было бы разумно, — сказал господин де Сент-Омер, — если бы и мы ездили в такой практичной одежде.
Так как остальные согласились с ним, они купили себе бедуинские рубахи и покрывала. И когда добавили еще кривые кинжалы за поясом, то по возвращении в Иерусалим осенью с собранными пожертвованиями в них почти невозможно было узнать тамплиеров. Их лица настолько потемнели от жаркого солнца пустыни, что все принимали их за арабов. В особенности был похож на араба благородной крови господин де Сент-Омер.
Господа де Сент-Омер, де Сент-Аман и де Мондидье первыми вернулись в Иерусалим. В напряжении они ожидали остальных. Когда же те появились в Иерусалиме и казначей в присутствии господина де Пайена и коннетабля подсчитал общую сумму собранных средств, то выяснилось, что ее было недостаточно для выкупа короля Иерусалимского из плена.
По совету господина де Пайена коннетабль написал письмо папе, в котором просил его разрешить в торговых конторах генуэзских и венецианских поселений. Поэтому зимой можно было видеть, как они едут на север по прибрежной дороге, их встречали в торговых домах европейских купцов, расположенных в портовых городах сирийского Леванта. Город Тир, однако, им пришлось обойти стороной.
Одновременно с тамплиерами средства собирали иоанниты в своих гостиницах, караван-сараях и больницах. С богатой добычей представители двух орденов возвратились к весне в Иерусалим. Теперь собранная ими сумма, если к ней прибавить налоги, собрать которые должны были осенью, оказалась достаточной для выкупа короля. Но насчет территориальных притязаний, выдвинутых эмиром, переговоры пока еще не велись. Король будет освобожден только после удовлетворения территориальных притязаний — это знал каждый.
Для тамплиеров наступила шестая годовщина со дня их приезда в Святую Землю.
Было воскресенье, когда тамплиеры, собрав пожертвования, вернулись в Иерусалим. Эсташ не заметил их прибытия; вечер он проводил в доме Пьера. Арнольд превратился в юркого мальчишку семи лет, который всячески старался избегать материнской опеки. Но он все еще любил сидеть на коленях у своего немого друга, прижавшись к его груди. Он рассказывал Эсташу о своих друзьях и шалостях, не ожидая ответа. Время от времени он лишь вопросительно смотрел Эсташу в глаза. Мальчик заметил, что худое лицо Эсташа в последнее время выглядит так, словно он прислушивается к неведомым сигналам какого-то приближающегося события.
На следующий день тамплиеры, свободные от службы на путях пилигримов, возобновили свои поиски в Конюшнях Соломона. Они протискивались через южный желоб — если только это действительно был желоб для стока воды. Желоб, который вел в западном направлении, оказался тупиковым и коротким. Но тот, в котором они находились, расширялся, становился выше и светлее и приводил опять же к расщелине в скале, похожей на окошечко в долину Иосафат.
В этом месте коридор, теперь уже высотой в человеческий рост, резко поворачивал на запад. Через двадцать шагов он снова расширялся. Но после землетрясения штольню загромождали кучи камней и осыпи. Здесь так же приходилось шаг за шагом расчищать мусор и ставить подпорки. Но как этот мусор выносить по узкому желобу?
— Нам нужны кожаные мешочки, — сказал Пьер, — ведь с корзинами мы сюда не пролезем!
Рыцари продолжали раскапывать штольню, настойчиво продвигаясь вперед. Только по воскресеньям они отдыхали от работы, которая становилась тем упорнее, чем ближе они были к концу коридора. Ибо здесь при свете высоко поднятых факелов они увидели нечто неожиданное: штольня расширялась высокой полукруглой комнатой. Задняя стена была выложена из огромных тесаных камней. На центральном из этих гигантских камней была высечена Звезда Давида, которая в мерцающем свете факелов казалась живой, она напоминала магический знак, предупреждение для тех, кто прежде сюда стремился.
Находились ли они в Святилище давно прошедших времен? Могла ли рука человека касаться этой святыни? Отчаявшись, рыцари выронили свои инструменты.
Господин де Пайен велел подождать неделю. Затем они решили взломать стену.
Они спустили в шахту чурбан, протащили его за собой на канате по коридору, подняли по лестнице и стали продвигать по желобу и так волочили до самой стены со Звездой Давида.
Они вплотную поставили его продольной стороной к стене, так что получилась опора для железных ломов, передние концы которых можно было вгонять под гигантские камни. Затем вставили концы ломов в щель под плитой со Звездой Давида и стали стучать по ним толстыми деревянными молотками, изготовленными Пьером, загоняя ломы внутрь. Они работали, тяжело дыша, и их дыхание гулко отражалось от стен.
Затем Пьер закричал: «Нажимайте!» — и изо всей силы они надавили на ломы. Кровь хлынула к их ушам; мокрые от пота тела сверкали в рубиновом свете факелов. Камень не двигался с места. — Давайте споем!
Господин де Сент-Омер затянул песню, и в этом ритме они стали нажимать на ломы. Глыба неожиданно слегка приподнялась и сдвинулась с места.
— Давайте соорудим какую-нибудь наклонную плоскость, чтобы глыба могла по ней сползти, как только, мы вынем ее из стены.
С огромным напряжением они приволокли четырехугольные куски дерева, доски и колеса и построили наклонную плоскость, подняв ее до самой глыбы. Так как при этом они не могли сдвинуть глыбу, то стали нагромождать у ее подножия кучи земли, которые из зала с колоннами спускали в корзинах снова через шахту, затем насыпали в кожаные мешочки и тянули по желобу. И опять они принялись орудовать ломами, и господин де Сент-Омер затянул песню. Но вскоре их пение превратилось в хриплые стоны. Железо горело в руках, ломы гнулись. Дюйм за дюймом гигантский камень начал сдвигаться.
— Осторожно! — закричал Пьер. Камень перевернулся, тяжело заскользил по наклонной плоскости и с силой врезался в кучу осыпи. Люди отскочили в сторону. Песчаная пыль забивалась в глаза, носы и рты. Факелы погасли. Кашляя, тамплиеры побежали назад к расщелине в скале.
— На сегодня достаточно, — сказал господин д’Альдемар. Но господин де Мондидье, ни слова не говоря, повернулся и пошел назад. Его нетерпение не могло допустить того, что камень из стены вынули, а дальше не заглянули. Но он то ли споткнулся, то ли после тяжелой работы у него закружилась голова — он упал, растянувшись во весь рост, и больше не мог встать.
Остальные молча смотрели на него, и каждый ощущал какое-то необычное беспокойство. Спустя мгновение они помогли ему подняться и отряхнули.
Но господин де Мондидье не мог ступать левой ногой. Обратный путь до шахты он проделал на коленях, издавая непрерывные стоны. Там господина де Мондидье привязали к канату, и с помощью лебедки вытащили наверх. У него оказалась сломана нога в верхней части щиколотки.
Теперь никто не смотрел на стену, из которой удалось вынуть такую гигантскую глыбу. Но каждый унес с собой смутное чувство страха.
Пьер шел домой, предвкушая, как обычно, встречу с Сюзанной и детьми. Но внезапно он остановился. Что же находилось за этой стеной? Он хотел и должен был это знать. А разве любопытство каменотеса чем-нибудь отличалось от любопытства рыцарей-монахов? Пьер ненадолго задумался о странном падении господина де Мондидье. Но тут же отбросил эту мысль.
Он повернул назад и направился к дому тамплиеров. Ворота ему открыл конюх. Где Эсташ? Не найдя Эсташа, Пьер поспешил домой. Он взял факел с подставки, понес его к колодцу и спустился по лестнице в Конюшни Соломона.
С учащенным сердцебиением он пробрался в шахту, прошел по коридору, согнувшись, и начал подниматься по каменной лестнице. Взглянув в окошечко в скале, он увидел, что наступили сумерки. Держа факел перед собой, Пьер полез по желобу и свернул по западному его ответвлению. Тяжело дыша, он встал у стены. У подножия наклонной плоскости лежал камень со Звездой Давида, крепко застряв в осыпи. Дыра, проделанная в стене, была очень большая. Пьер лег на живот у ее края и протянул факел далеко вперед. Света факела хватило на то, чтобы рассмотреть квадратную комнату.
В этой комнате не просматривалось двери ни в одной из четырех стен. Свод в ней был цилиндрический, но и он не имел ни лаза, ни входа, ни даже маленького круглого отверстия, какие бывают в тюрьмах. На полу ни костей, ни цепей. Только осыпь. За все время, пока Пьер работал каменотесом, ему еще не приходилось видеть комнату, в которую невозможно войти. Но на Востоке — сказал себе Пьер — все не так, как он привык.
Он убрал факел из дыры и пополз назад. Качая головой, он поспешил домой. На следующий день была суббота, и Сюзанна хотела пойти на большой базар в христианский квартал. Арнольд обычно гордо шествовал впереди, неся корзину с покупками на голове, а малышей Сюзанна вела за руку. Как прекрасно иметь жену и детей, и Пьер слегка улыбнулся, ему снова вспомнилась фраза господина де Пайена: «Я надеюсь, тебе не придется сожалеть о том, что ты взял их с собой». До сих пор сожалеть ему не приходилось.
На следующий день в Иерусалим приехал граф Шампанский, друг аббата из Клерво. Арнольд сидел на пороге дома и наблюдал за людьми и вьючными животными, которые шли на рынок в христианской части города. У иерусалимских мусульман большой базар был только в воскресенье. Сквозь крики, раздававшиеся со всех сторон, послышался клич герольда:
— Прочь с дороги! Дорогу графу Шампанскому!
Арнольда это мало заинтересовало. Ведь иностранные рыцари очень часто приезжали в Святую Землю, чтобы служить королю Иерусалимскому. Всегда где-то у границ шла война. И Арнольд, совершенно не придавая значения этому событию, закричал, войдя в дом:
— Приехал какой-то граф Шампанский, — и очень удивился, что отец, не сказав ни слова, выбежал на улицу.
— Граф Шампанский, — сказал господин де Монбар Пьеру за неделю до этого, — чья страна больше земли, принадлежащей королю Франции, скоро приедет к нам навсегда. Он вверит свою страну умному и дельному племяннику. Даст, как и мы, монашеский обет патриарху и станет нашим братом.
Пьер побежал к дому тамплиеров. Там он стал свидетелем сердечного приема. Граф Шампанский обнимал тамплиеров с такой радостью, словно он их потерял и снова нашел, не надеясь на это. Каждого он оглядел с головы до ног. Затем все стали весело смеяться: как изменились старые друзья за это время! От присущей им когда-то элегантности теперь не осталось и следа они стояли в подаренной им одежде, лишь частично прикрытой серыми рясами. Оруженосцы также с удивлением смотрели друг на друга, за прошедшие годы они выросли и стали настоящими мужчинами. Они опечалились, узнав о том, что случилось с Эсташем, ведь каждый помнил его веселым мальчиком.
Пьер поплелся к себе домой. Сегодня, конечно, он не был нужен для подземных работ. Он мог пойти вместе с Сюзанной на рынок и понести туда на плечах «маленькую восточную принцессу», ставшую толстенькой девочкой. Арнольд все еще сидел на пороге.
— Граф Шампанский, — сказал Пьер, сев рядом с ним, — это друг монаха, который исцелил меня от смертельной раны. Графу, должно быть, чуть больше пятидесяти лет, волосы у него седые. Он имеет величественную осанку, именно такую, с которой обычно представляют себе рыцаря. Если же посмотреть ему в глаза, можно заметить, что он не просто старый рубака, они светятся мудростью и добротой. Ходят слухи, что граф попросил аббата из Клерво, чтобы тот считал теперь его племянника и наследника своим другом вместо самого графа. И поскольку аббат дал ему на это согласие, он сел на корабль и приплыл сюда. Теперь граф Шампанский здесь и станет тамплиером. Вероятно, он даст монашеский обет уже завтра.
Пока Пьер говорил это сыну, тамплиеры ввели друга к себе в дом и приготовили ему ванну. Оруженосцы графа поспешно развьючивали лошадей и вносили в комнаты багаж.
Когда же десять господ собрались для беседы, граф Шампанский рассказал о том, что случилось за прошедшие шесть лет. Ведь не напрасно он остался в Европе.
— Дорогие господа, — начал он, — когда мы виделись в последний раз, а было это на Вандеврском болоте, я поделился планами, как следует оборудовать остров на болоте, чтобы мы смогли там скрыть и сохранить великие богатства, найти которые надеемся. Сразу после вашего отъезда прибыли арабские архитекторы, я пригласил ихиз южной части Испании. Сначала они построили на острове низкое здание, обнесенное мощными крепостными стенами. В пределах этих стен есть тайное подземное сводчатое помещение, соединенное подземным ходом с основным зданием. Болото и деревья, окружающие эту крепость, теперь выглядят по-иному, чем в то время, когда вы там были. По болоту я проложил две хорошие дороги, и обе ведут к воротам замка. Ворота я снабдил устройствами, с помощью которых можно будет затопить дороги в случае опасности. При помощи этих устройств можно и убрать воду с затопленных дорог. В лесу, окаймляющем болото, я выкопал целую сеть искусственных прудов, и теперь находящиеся рядом искусственные и естественные водоемы нельзя отличить. Между ними я посадил на больших пространствах буковые кустарники, очень низкие и буйно разросшиеся, и сквозь них пройти невозможно. Никакую лошадь не провести по узким дамбам, которые я построил между этими низкорослыми буковыми лесами. Всю эту сложную систему я назвал «Замок Железных Часовых». И безопасность в ней обеспечена настолько, что она с успехом может служить целям, ради которых построена.
Граф Шампанский посмотрел на собравшихся в ожидании ответа.
Какое-то мгновение все молчали. Затем господин де Пайен сказал:
— Вчера мы пробили стену, на которой изображена Звезда Давида. В понедельник посмотрим, нет ли за ней того, что мы ищем.

Тот, кто идет с водой
В этот вечер Пьер долго не мог уснуть и прислушивался к дыханию жены и детей. В ясной весенней ночи звучали крики ночного сторожа. Ему оставалось крикнуть еще три раза, затем муэдзин из мечети аль-Акса созовет мусульман на утреннюю молитву «Аллах велик!». Сразу после этого колокола христианских монастырей возвестят о наступлении воскресенья, а улицы наполнятся толкотней и шумом.
Пьер осторожно встал и начал пробираться к двери. На цыпочках он спустился по деревянным ступенькам во внутренний двор. Дверь, которая вела на улицу, громко скрипнула. Он запер ее за собой и про связку ключей сквозь отверстие в стене. «Динь!» — прозвенели ключи, упав на землю.
Ночной воздух был чист и прохладен, как это обычно и бывает в горах. Где-то на заднем дворе кукарекал петух. Лунный свет ложился на башни, стены и полукруглые крыши низеньких домов. В городе было что-то призрачное, и Пьер ощущал себя так, словно он перенесся в стародавние времена. Как во сне, он видел Храм, возведенный царем Соломоном для своего бога Яхве. С обеих сторон его окружали строения, расположенные одно над другим в три этажа, в них были спрятаны сокровища Храма. Две бронзовые колонны стояли у входа, они назывались «Сила» и «Долговечность». И, даже не осознав этого, Пьер забормотал удивительные слова, которые произносили тамплиеры, когда отправлялись на расчистку Конюшен Соломона: «Рядом со Святилищем скрыто двенадцать домов…»
«Вздор! — всегда думал он, — никогда во всем мире не было таких людей, которые скрывали бы целые дома! Никогда!»
Но вдруг он понял. Ведь это не должны быть дома в буквальном смысле слова! Он поспешил к дому тамплиеров и постучался в ворота так, как стучались люди, чтобы их узнали. Сонный Эсташ подошел к воротам и открыл засов. Пьер стремительно пробежал мимо него. На заднем дворе он зажег свой факел от жаровни и спустился в зал с колоннами. И, как вчера, с учащенно бьющимся сердцем Пьер зашел в шахту, согнувшись, пробрался через коридор, спотыкаясь, побежал вверх по лестнице. Небо за первым окошечком в скале было серое. Покашливая, он пролез с факелом в руке по желобу, сквозь вторую расщелину в скале взглянул на небо и поспешил по ответвлению коридора, ведущему к западу. Затем Пьер, как и накануне, тяжело дыша, остановился у стены, из которой был выломан гигантский камень.
Никаких изменений не произошло: наклонная плоскость, колеса, куча осыпи, на которую упала глыба. Пьер заглянул в дыру, проделанную в стене, и осветил факелом расположенную за ней небольшую комнату. На полу валялась осыпь, вероятно, обвалившаяся с потолка во время землетрясения. Осветив потолок, Пьер увидел на нем повреждения. Значит, и в этой комнате следует поставить опоры.
Долго он разглядывал комнату. Да, действительно, дверей нет. Внезапно у него появилась мысль, что в эту комнату можно было проникать снизу сквозь люк.
Пьер просунул ногу в дыру в стене, забрался в комнату и, высоко подняв факел, разгреб ногой мусор. Под ним он обнаружил искусно отполированные плиты пола из черно-красного камня. «Этот камень, — подумал Пьер, — должно быть, привезли издалека, ведь здесь в горах добывают только белый или желтоватый иерусалимский камень. Итак, перед нами драгоценная облицовка пола. Вот комната, которая не является комнатой, у нее нет ни входа, ни окна. И пол в ней сделан | так искусно, что это заставляет сердце любого каменотеса биться сильнее. Никто никогда не ступал на этот пол, так как никто не мог попасть сюда. Тогда для чего все это?» Ногой Пьер отодвигал в сторону все больше и больше мусора. Затем стал разгребать его руками и выкидывать через дыру в коридор. И наконец, уже бездыханный от напряжения, он выбрался наверх и принес лопату. Как одержимый, Пьер орудовал лопатой, пока не выкинул в дыру весь мусор.
Под его ногами был пол, подобного которому Пьер еще не видел. Но никакого люка он не обнаружил. Для чего же тогда нужны эти великолепные плиты Некоторые из них имели длину в человеческий рост И такую же ширину. Пьер пересчитал огромные, плиты Их оказалось двенадцать. В центре находилась плита меньшего размера, чем все остальные. Она была величиной с ладонь. Пьер заметил, что она лежит неровно. Он попробовал вытащить плиту, она с трудом поддалась, и он увидел, что это отполированный со всех сторон камень. Ничего, не понимая, Пьер покачал головой.
Под камнем в полу находилась небольшая четырехугольная ямка. Пьер пошарил в ней рукой. И действительно, в ямке что-то было… И вдруг из глубины в глаза ему ударил ослепительный блеск.
В ужасе Пьер отшатнулся. Может быть, из земных глубин на него глядел сверкающий глаз? От сказочников, приходивших в город с арабскими торговыми караванами, он слышал, что опасно, если кто-то сверкающим взглядом смотрит на тебя из глубины земли. Вдруг это смотрел гном или джинн?
Но любопытство не давало Пьеру покоя. Он осторожно положил руку на сверкающий предмет. Может быть, именно это так долго искали тамплиеры?
Пьер, не шевелясь, глубоко вздохнул. Предмет под его рукой на ощупь напоминал стержень, вверху и внизу имевший утолщения. Каменотес закрыл глаза. Поскольку ничего страшного не произошло, он стал медленно-медленно его вытаскивать. Затем Пьер открыл глаза. То, что он увидел, напоминало бронзовый ключ. Но плоская треугольная ручка была изготовлена из золота и сверкала благороднейшими драгоценными камнями. В центре было выгравировано имя Яхве. Пьер узнал эту надпись. Он видел ее в иудейском молельном доме.
На обратной стороне треугольника было очень много мелких письменных знаков, не известных Пьеру. Однако вместо бородки ключа стержень имел простой изгиб и кованую плоскость.
Для чего нужен был этот крючок? И почему его здесь спрятали? Как можно скорее Пьер хотел показать его рыцарям! Он пролез через дыру и побежал по коридору. Сквозь расщелину в скале падали лучи утреннего солнца. И тут он вспомнил о двенадцати плитах размером в человеческий рост, которыми был выложен пол. А ведь и под ними тоже может оказаться нечто неожиданное?! Он снял один из своих наколенников, подвинул его к окошечку в скале, куда попадал солнечный свет, и тщательно завернул в наколенник крючок. Затем поспешил обратно в комнату.
Факел все еще горел, громко потрескивая, эхо по-мышиному шуршало в щелях свода. Пьер взял свое долото, стал долбить пол вокруг одной из плит и со скрипом слегка отодвинул ее в сторону. Под плитой оказались глиноподобные камни величиной с кулак, похожие на те, которые встречаются в руслах рек. Среди них Пьер увидел тесаный камень из темно-красного песчаника длиной в два локтя.
— На Востоке, — пробормотал Пьер, теряясь в догадках, — всегда все не так!
Один за другим он побросал глиноподобные камни в коридор, и в яме остался один тесаный камень. Когда Пьер осмотрел его со всех сторон, он обнаружил очень тонкую борозду, опоясывающую камень на расстоянии примерно четырех пальцев от верхнего ребра. В двух местах эта линия прерывалась глубокими отверстиями размером с большой палец.
Может быть, на самом деле это какой-то ларец? Каменотесы, обтесавшие его, так тщательно подогнали верхнюю часть к нижней, что только отверстия указывали, что этот ларец открывается.
И тут словно пелена упала у Пьера с глаз: крючок! Вероятно, его можно использовать как ключ! Пьер уже собирался лезть в дыру в стене, чтобы принести крючок обратно. И тут он подумал: «А дозволено ли мне открывать этот ларец? Содержимое ларца должно быть очень ценным, иначе его бы так тщательно не прятали». Ибо теперь Пьеру стало ясно, что не ларец принесли в эту комнату и в ней закопали, а комнату построили вокруг ларца. Сомнений больше не оставалось. И открыть ларец было дозволено только господину де Пайену или же королю Иерусалимскому. Но, может быть, этот ларец не единственный, если на полу лежало двенадцать плит размером в человеческий рост?
Пьер снова взял в руки лом и слегка приподнял другую плиту пола. Да, здесь среди глиноподобных камней тоже лежал ларец. Одним рывком Пьер поставил плиту на место. Он достаточно уже насмотрелся! Здесь находилась сокровищница, сомнений быть не могло. Но та ли это сокровищница знаний, которую искали тамплиеры и о которой Пьер не имел решительно никакого представления, — этого он не знал. Только теперь он впервые до конца понял заклинание, так часто повторяемое тамплиерами: «Рядом со Святилищем скрыто двенадцать домов…»
Но он не верил, что это были жилища, где обитает Ничто. Один только ключ представлял собой такую ценность! Даже ключ от ратуши города Лиона не был украшен столь дорогими камнями!
Пьер разволновался до крайности. Он бросил лом, чтобы немедленно бежать к рыцарям и сообщить им об этом грандиозном открытии. Но внезапно раздался шум, что-то затрещало, загремел гром, и, прежде чем Пьер сообразил, что свод, простоявший столько лет, рушится, обвал погреб каменотеса под собой.
Граф Шампанский в то воскресенье на богослужении давал монашеский обет в присутствии патриарха Иерусалимского. Друзья набросили на графа серую рясу, на плечо которой был нашит красный крест. Теперь граф Шампанский будет нести службу на путях пилигримов подобно своим братьям. Он повернулся к собравшимся в церкви и медленно, отчетливо произнес девиз тамплиеров: «Не нам, Господи, не нам, но все ради славы Имени Твоего!»
Когда он, окруженный рыцарями-монахами, подошел к дому тамплиеров, господин де Пайен сказал ему:
— Думаю, что мы немедленно должны провести вас в подземные коридоры, господин Гуго, — и слегка улыбнулся, так как граф Шампанский носил то же имя, что и он. Вскоре они стояли в гигантском зале с колоннами, о котором граф Шампанский уже давно знал, ибо в Святую Землю он приезжал и раньше. Только теперь ему впервые довелось увидеть зал собственными глазами, и он был поражен его размерами.
Мужчины надели наколенники и подлокотники. Надели они и кожаные шапки. Господин де Пайен сказал:
— Дорогой господин, только Богу известен час, когда мы найдем то, что ищем, — после этих слов он спустился в шахту.
Граф Шампанский изо всех сил старался поспеть за ним, пробираясь между стойками колодезной шахты. С большим трудом он прополз по желобу после того, как они миновали узенький коридор и поднялись по лестнице. Подойдя к расщелине в скале, он бросил взгляд на долину Иосафат, сверкавшую в лучах солнца. Когда же они подошли к другому окошечку в скале, граф с жадностью глотал воздух. Но что это там сверкнуло?
В изумлении господин де Пайен уставился на блестящий предмет.
— Крючок? — пробормотал он.
Откуда попала сюда эта вещица? Кто положил ее здесь? Кто так тщательно завернул ее в наколенник Пьера?
Они рассмотрели находку более пристально, и господин де Пайен сказал почти шепотом:
— Здесь написано имя Яхве… — и побежал по ответвлению коридора к стене, из которой они вчера выломали камень со Звездой Давида. Сделанное ими отверстие оказалось замуровано осыпью и обломками камней. Господин де Пайен с ужасом начинал понимать, что произошло. Люди молча смотрели в глаза друг другу, и взгляды их блестели не только от факельного света.
— Кажется… — сказал господин де Пайен после долгого молчания, — кажется, нам суждено провести под землей еще много лет. Но где же Пьер?
Так как Пьера нигде не было, тамплиеры стали догадываться, что произошло. Эсташ, потерявший друга, долго рыдал о нем, сидя в одиночестве в караульной будке. Его лицо приняло такое выражение, будто он непрерывно прислушивается к чему-то внутри себя. И когда однажды Эсташ снова сидел, погруженный в глубокую печаль, он внезапно поднял голову и кивнул, словно что-то поняв. Неведомо откуда к нему пришла мысль: «Пьеру, подумал он, — суждено было уйти, ведь он являлся только своего рода «заместителем» графа Шампанского, а количество людей, знающих тайну, должно оставаться неизменным: их было одиннадцать, считая короля на Востоке. Двенадцатым же был аббат из Клерво, спасший Пьеру жизнь».
Эсташ пошел к Сюзанне и стал утешать детей своим безмолвным присутствием. Большего сделать для них он не мог.
Миновало еще четыре года. Много событий произошло за это время в королевстве Иерусалимском. Коннетабль Эсташ Гарнье завоевал портовый город Тир, еще когда король находился в плену. Год спустя король совершил побег из своей курдистанской тюрьмы и с радостью и торжеством был встречен как христианами, так и своими мусульманскими подданными.
Вскоре после этого он заключил союз с бедуинами из Аравийской пустыни, и с тех пор их часто можно было видеть в городе. Они приезжали в город на верблюдах, их кинжалы и тонкие блестящие копья придавали им отважный вид. Впереди обычно скакал герольд. В отличие от европейских герольдов, пользовавшихся коровьим рогом, он трубил в рог горного козла, издававший пронзительные и жуткие звуки.
Третий год после смерти Пьера принес королю войну с сельджуками, которые жили к северу от его королевства; а на четвертый год кровавый предводитель турок захватил трон атабега Мосульского в непосредственной близости от графства Эдесского. Теперь граф Эдесский должен был хорошенько позаботиться об укреплении своих восточных границ.
Затем тамплиеры наткнулись на слегка приподнятую плиту пола и увидели каменный ларец, обнаруженный Пьером. Они нашли останки Пьера и похоронили. Теперь им предстояла самая тяжелая за все годы пребывания под землей работа: сохранить каменные ларцы.
Сначала их нужно было пронести через подземные коридоры и по желобу, протащить через шахту между опорными стойками наверх.
Но вот прошел Иванов день в 1127 году, и все двенадцать ларцов из тесаного камня наконец стояли в рыцарском зале дома тамплиеров.
— Дорогие господа и братья! — господин де Пайен высоко поднял драгоценный крючок, — в заклинании, которое мы около десяти лет назад унесли с собой из Клерво, есть такие слова:
«Один-единственный ключ
Открывает эту тайну».
Теперь мы без труда можем узнать тайну ларцов. Но верите ли вы в то, что мы постигнем ее? Вряд ли она заключена в каком-то одном слове или фразе. Скорее, мне кажется, мудрейшие из мудрецов всего мира должны долго и кропотливо исследовать содержимое этих двенадцати ларцов. Разумеется, такие мудрецы есть уже сегодня. Об этом позаботился аббат из Клерво. Но к работе нужно привлекать новых и новых мудрецов, чтобы одни сменяли других в своих исследованиях. Наша задача — доставить эту грандиозную сокровищницу мудрости, которую нам удалось отыскать, в Европу. Ибо стены этого дома недостаточно прочны для того, чтобы служить хранилищем. И королевство Иерусалимское не является достаточно безопасной территорией: со всех сторон ему угрожают враги. Давайте же в последний раз проявим выдержку, незаметно доставив каменные ларцы в Замок Железных Часовых! Хотите ли вы, чтобы так было?
— Да будет так, — согласились рыцари, находясь под впечатлением этой речи; и среди них не оказалось ни одного, кто не смог бы обуздать свое любопытство.

Великий крестовый поход

Чужой на Западе
 Холодным январским днем 1128 года странная группа людей, растянувшаяся по долине Сены, двигалась в направлении течения реки. Путешественники редко выбирали дорогу по этой глухой местности, и уж конечно, не зимой. Хорошо еще, что в тот год здесь не выпало снега! Так думали пастухи в горах Лангра, поившие своих овец водой из Сены. Они могли узнать контрабандистов, переправлявших свой жалкий товар из Бургундии в графство Шампань. Но те обычно тащили все, что было предназначено для продажи, в деревянных ящиках на спине.
Пастухи могли также узнать многих господ и рыцарей, проезжавших через горы со своей свитой, отправляясь на войну. Но у них никогда не было повозок, нагруженных скарбом. С повозками путешествовали обычно торговцы или бродячие актеры.
Из любопытства пастухи занялись подсчетом: всего было шесть повозок, и каждую тащил мул, на котором сидел рыцарь. Вытянув шеи, они увидели на каждой телеге по два тюка, прикрытых мешками. «И если все это не ради смеха, то похоже, что на повозках везут тесаные камни», — думали пастухи.
На рыцарях были остроконечные кожаные шапки и нагрудные панцири; у каждого с седла свисал обнаженный меч, а ведь на здешних границах сейчас царило спокойствие. Часть свиты ехала впереди повозок, образуя авангард, другая часть ехала в арьергарде — нет, ни о каких путешественниках здесь не могло быть и речи!
«Гей!» — кричали пастухи, обращаясь друг к другу, они жестикулировали и тихо свистели, продолжая наблюдать за проезжающими, пока те не скрылись из виду.
В арьергарде ехал Арнольд, сын Пьера. Украдкой он вытирал слезы со щек. Страну, где он родился, Арнольд находил ужасно безобразной. Эти черные деревья без листьев, эта гнилая и мокрая трава и туман, проникающий сквозь одежду, — и это в январе, когда в Святой Земле уже цветут деревья и от них распространяется великолепный аромат! А вскоре на них появятся золотые плоды. Огромные караваны воздухе только дурные запахи. И никто здесь не носит тюрбанов. Последние тюрбаны он видел в портовом спускаются к морю, звеня колокольчиками, и воздух пахнет пряностями, которые везут верблюды. Здесь же в городе Марселе, куда пришел королевский флот с прибывшими в Европу тамплиерами. С ними вернулась и семья Пьера. Арнольд был очень опечален, что мать так легко рассталась с маленьким домиком, с таким уютным внутренним двором. Ведь там они все-таки жили вместе с отцом! И Арнольд снова заплакал.
— Не плачь, малыш! — утешал его толстый Эдюс. — Ты еще увидишься с мамой.
Но Арнольд плакал не из-за матери. Ей эта страна нравилась. В первый раз после смерти отца Арнольд увидел радость на ее лице, когда в Лионе они встретились с каменотесами. Радость, конечно, омрачили слезы, но все же это была радость. Она не исчезла даже в тот момент, когда с матерью поздоровался хмурый дядя Арнольда и спросил: «Где мой брат?» Узнав, что Пьера больше нет в живых, он посмотрел на мальчиков испытующим взглядом, словно желая понять, сгодятся ли они когда-нибудь в каменотесы, и сказал:
— Моей хозяйки тоже больше нет в живых, — повернулся и прошел в дом впереди них.
Кухня была темная, но теплая. Обратившись к деверю, мать сказала:
— Арнольд завтра рано утром должен ехать. Тамплиеры хотят взять его к Пайену. Он встретится со своим господином. У тамплиеров работал твой брат.
И так как она поняла, что ему ничего не было известно о тамплиерах, она добавила:
— В Иерусалиме.
Деверь кивнул головой.
— Я хотел бы работать со старшим из твоих сыновей, — сказал он, — потому что он сильнее младшего.
На следующее утро Филипп проводил брата до ворот. Тамплиеры уже ожидали его. Толстый Эдюс подвел к Арнольду его коня, и братья, сжав губы, стали прощаться; они положили ладони на лоб, как это делают мусульмане, и слегка поклонились друг другу.
Когда Арнольд уже сидел в седле, Филипп что-то вынул из кармана и поднес к губам. Это был один из двух маленьких бедуинских рожков, подаренных королем на прощание сыновьям Пьера. «Это для того, чтобы вы не забывали Иерусалим», — сказал им тогда король дружеским тоном.
Филипп затрубил в рог, и Арнольд ответил. И это означало: «Мы никогда не забудем Иерусалим и, когда вырастем, вместе вновь его увидим!»
Господина де Пайена не было в обозе, проезжавшем через горы Лангра. Из Марселя он направился прямо в Труа, столицу Шампани, где 13 января по приглашению аббата из Клерво собрались высокопоставленные духовные и светские лица. В тот же день тамплиеры должны были утвердить устав ордена и право по собственному выбору принимать мужчин в орден Бедных Рыцарей Христовых.
Господин де Пайен спрыгнул с коня и пошел в кафедральный собор. Многочисленные свечи распространяли сладковатый аромат и золотистый свет, которого, однако, не хватало для того, чтобы осветить огромное пространство до самых сводов. Приглушенный шум голосов обволакивал собор.
Жан Мишель, который вел протокол, уже приготовил гусиные перья и разложил их перед собой на кафедре. Он смотрел на собравшихся и видел в первом ряду молодого графа Шампанского, которому дядя передал управление страной, епископа Оксерского, главного аббата цистерцианцев, и рядом с ним — Бернара Клервоского, надвинувшего капюшон на лицо в знак глубокой сосредоточенности. Никто из сидевших рядом не мог нарушить хода его мыслей. Когда же со стороны главного портала стал приближаться звон шпор, он приподнял капюшон и сказал:
— Это господин де Пайен.
Присутствующие встали, не прерывая своих разговоров, и приветственно поклонились вошедшему.
После того как господин де Пайен так же отвесил поклоны во все стороны, он сел рядом с Бернаром Клервоским. Звон колокольчика возвестил о начале заседаний Труаского Собора.
Разговоры тотчас же умолкли. В центр алтарных ступеней встал папский нунций, а слева и справа от него — архиепископы Реймсский и Санский. Нунций поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение. Затем последовали слова, которыми он открыл Собор.
Тем временем странный обоз тамплиеров добрался до крепости Шатийон, где они должны были оставаться до утра. Здесь их ожидали. Было условлено, что на следующий день они продолжат свой путь в сторону монастыря Клерво, ибо граф Шатийонский желал передать им продовольствие для монастыря.
Граф Шатийонский велел оруженосцам разместить повозки в сарае и пригласил тамплиеров на скромную трапезу. Его приказы звучали кратко и нетерпеливо, а приглашения — как приказ. И когда он сказал:
— Сегодня вечером пойдем на охоту, — никто не осмелился противоречить.
Трое тамплиеров остались в сарае стеречь ларцы. Когда же шумное общество в окружении свирепо лающих псов возвратилось вечером с охоты, то этих троих сменили господа де Сент-Омер, де Сент-Аман и де Мондидье.
Арнольд вечером, будучи в дурном настроении, ходил взад-вперед по конюшням. Он предавался ностальгии, ведь замки на Востоке были совсем не такими, как этот, который выглядел чуть лучше конюшни — тесный и грязный; и если посмотреть в зал, то там не было ничего, кроме тьмы. Нигде не стояло курильниц, распространявших ароматы, а под ногами шныряли куры. Слуги кричали друг на друга, не обращая внимания на господ, а дети графа возились в грязи, как щенки.
Как только стемнело, Арнольд заполз к повозкам в сарай. За ними он обнаружил кучу шестов, из которых смастерил себе лежанку. Он был так печален, что не мог даже заснуть. Если бы хоть Филипп был рядом с ним! Арнольд ворочался и смотрел в темноту. Затем услышал голоса рыцарей, стерегущих сокровища, господа сидели у входа на связках соломы. Их беседа успокоила его.
— У нас еще один день пути до болота, — это был низкий голос господина де Сент-Амана.
— Надеюсь, что перед самым концом ничего не случится! — господин де Мондидье вздохнул.
— Тогда бы нам не нужно было девять лет рыться в земле, как кротам, и наш любимый каменотес был бы жив! — прозвучал голос господина де Сент-Омера.
Наш любимый каменотес? Арнольд вздрогнул, напряженно прислушиваясь.
— Вы не смеете так говорить, — сказал господин де Сент-Аман. После этого в течение некоторого времени было тихо. — Каменные ларцы, — наконец продолжил он, — по мне, лучше бы их вообще не открывать.
— Как вы только можете такое говорить! — закричали двое остальных.
— Если там действительно записаны законы, по которым Господь сотворил мир, то вы должны понять мой страх!
— Чего вы боитесь? — спросил господин де Мондидье. — «По мере, числу и весу сотворил Я мир», — говорит Господь. Это ведь не значит, что человек сам без Его помощи может сотворить мир, как только узнает истинную меру, число и вес. Ваш страх я нахожу совершенно необоснованным. Разумеется, царь Соломон знал, для чего ему прятать свою мудрость.
Снова стало тихо, и казалось, что каждый погрузился в свои мысли.
— В то, что человек не может создать мир без помощи Господа, я охотно верю, — задумчиво сказал господин де Сент-Аман, — но разрушить наш мир человек может и без Господа, и этого я боюсь.
Господин де Сент-Омер откашлялся.
— В нашем ордене будет школа, — сказал он, — мудрейшие из наших братьев будут проходить посвящение в законы природы, исследованные царем Соломоном. И это будут люди, умеющие молчать. Могущественнее, чем тайны природы, воскресение из мертвых, дорогие друзья, ибо природа смертна. Итак, мы надеемся, что нашему ордену удастся постичь смертную природу с помощью силы Воскресения Спасителя нашего.
— Да будет так, — сурово ответили друзья.
Когда же Арнольд на следующее утро проснулся, разговоры рыцарей представились ему приснившимися.
Бледное солнце повисло в тумане над деревьями, когда обоз покинул Шатийонский замок и отправился в Клерво. Навстречу обозу выходили крестьяне, желавшие поехать на рынок, чтобы купить сено и зерно, так как последний год принес неурожай. Лица у них были скорбные. Повсюду одно и то же: того, что зарабатывали своим трудом, не хватало. Жены болели, а дети умирали еще в младенчестве. Хорошо жить хотя бы по соседству с монастырем, поскольку иногда там была земля, раскорчеванная под пашню, которую можно взять в аренду, или же давали работу и расплачивались продовольствием, в крайнем случае можно было просить милостыню.
К вечеру обоз въехал в Клервоский монастырь, и сердце у Арнольда горестно сжалось: здесь спасли от смерти его отца. Здесь его исцелили, и он выжил. Но почему же сейчас отца не было в живых? Арнольд подумал, что если бы здешний аббат находился в Иерусалиме, то отец был бы еще жив. Но он не хотел видеть аббата, испытывая страх перед его чудотворной силой.
У них взяли коней и повели на водопой; оруженосцы передали монахам привезенные от графа Шатийонского свертки, корзины и бочонки. Некоторые монахи выстроились длинной вереницей у корыта с водой — там, где ручей, протекавший через монастырь, был перегорожен плотиной. Чего они ждали, Арнольд не знал. Издалека доносились веселые трели пастушеской флейты. Блеяние и лай приближались, и в ворота протиснулись овцы, собаки и пастухи. Монахи стояли у корыта в два ряда. Палками они гнали овец сквозь этот проход в воду. Собаки плескались, отряхивались и обдавали брызгами стоявших вокруг. В первый раз после отъезда из Иерусалима Арнольда хоть что-то развеселило. Он попросил палку, и сам окунул какую-то овцу в воду, как это делали монахи. Потом он наблюдал за стрижкой овец. Внезапно Арнольд спохватился. Где же повозки и кони? Он бросил палку и побежал к воротам.
— Вот ты где! — услышал он позади голос привратника. — Твои господа искали тебя. Теперь они все поехали дальше. Но тебе нечего грустить, — утешал его монах, стерегущий ворота, — потому что они сказали, что ты хорошо умеешь ездить верхом и догонишь их. Вон там твой конь.
Арнольд стоял с испуганными глазами. Он ведь не знал, куда отправились тамплиеры со своими повозками.
Привратник, разгадавший мысли Арнольда, сказал:
— Поезжай прямо через этот лес, тогда ты быстро их догонишь. Тебе не нужно ничего опасаться. Здесь давно уже нет разбойников.
— Ты это точно знаешь? — спросил Арнольд дрожащим голосом. — Я беспокоюсь потому, что здесь в лесу напали на моего отца.
— На твоего отца?
— Да, на Пьера, лионского каменотеса.
Монах-привратник изумился и посмотрел на Арнольда с сомнением.
— Это произошло десять лет назад, — сказал Арнольд. — Аббат из этого монастыря спас ему жизнь.
— Что? — воскликнул монах, — ты сын Пьера? Да, тогда я понимаю, почему господин де Пайен хочет, чтобы ты был при нем до тех пор, пока он не возвратится в Святую Землю, — большими шагами монах подошел к коню, взял его за недоуздок и подвел к Арнольду. — Садись! — сказал он, и сам посадил мальчика в седло. — Ты догонишь их еще до Вандевра. Поезжай с Богом! — с этими словами он открыл ворота.
Когда Арнольд проезжал через лес, ему было страшно. Лес выглядел в точности так, как его описывал отец. Вопреки уверениям привратника Арнольду казалось, что из-за каждого куста за ним следят злые глаза. О, поскорее бы уже миновать этот лес! Он ударил коня хлыстом. Показалась лужайка, и вскоре Арнольд услышал голоса оруженосцев и смех толстого Эдюса. Но дрожь в коленях, начавшаяся еще там, в разбойничьем лесу, не прекращалась на протяжении всего дня; когда Арнольд вечером слез с коня в давно знакомом оруженосцам месте привала — лагере под Вандевром, — он едва держался на ногах.
И на этот раз оруженосцы развели костер и стали подбрасывать поленья в разгорающееся пламя. Они напоили коней водой из болота. Но рыцари снова запрягли лошадей в повозки и оставались рядом с ними. Казалось, они чего-то ожидают.
Издалека послышался стук копыт; он все приближался, с коней спрыгнули двое всадников и подошли к костру. Арнольд узнал господина де Пайена. Другой был рыжий монах небольшого роста. Арнольд поразился тому, что господин де Пайен принял в свое общество такого невзрачного человека в рясе. Однако рыцари подъехали к монаху и поцеловали ему руку, — тонкую белую руку, которой он слегка надвинул капюшон, как будто ему было холодно. Он улыбнулся и поднял голову, Арнольд посмотрел ему в глаза и больше не мог отвести от них взгляда.
— Это аббат из Клерво! — шепнул Эдюс на ухо Арнольду.
Но Арнольд, как только до него дошло, что сказал Эдюс, громко вскрикнул и разразился рыданиями. Как бы издалека он услышал голос господина де Пайена:
— Это сын того Пьера, которого вы исцелили, аббат Бернар.
Затем Арнольд почувствовал прикосновение к волосам узкой белой руки, и всего его словно окутало мягкое, теплое облако.
Долго Арнольд стоял неподвижно, не слыша, что происходило рядом с ним. Когда он открыл глаза и огляделся, рыцари и повозки исчезли. Аббата также не было поблизости. Костер трещал, разгораясь, а оруженосцы сидели вокруг него и ели.
Холодным январским днем 1128 года странная группа людей, растянувшаяся по долине Сены, двигалась в направлении течения реки. Путешественники редко выбирали дорогу по этой глухой местности, и уж конечно, не зимой. Хорошо еще, что в тот год здесь не выпало снега! Так думали пастухи в горах Лангра, поившие своих овец водой из Сены. Они могли узнать контрабандистов, переправлявших свой жалкий товар из Бургундии в графство Шампань. Но те обычно тащили все, что было предназначено для продажи, в деревянных ящиках на спине.
Пастухи могли также узнать многих господ и рыцарей, проезжавших через горы со своей свитой, отправляясь на войну. Но у них никогда не было повозок, нагруженных скарбом. С повозками путешествовали обычно торговцы или бродячие актеры.
Из любопытства пастухи занялись подсчетом: всего было шесть повозок, и каждую тащил мул, на котором сидел рыцарь. Вытянув шеи, они увидели на каждой телеге по два тюка, прикрытых мешками. «И если все это не ради смеха, то похоже, что на повозках везут тесаные камни», — думали пастухи.
На рыцарях были остроконечные кожаные шапки и нагрудные панцири; у каждого с седла свисал обнаженный меч, а ведь на здешних границах сейчас царило спокойствие. Часть свиты ехала впереди повозок, образуя авангард, другая часть ехала в арьергарде — нет, ни о каких путешественниках здесь не могло быть и речи!
«Гей!» — кричали пастухи, обращаясь друг к другу, они жестикулировали и тихо свистели, продолжая наблюдать за проезжающими, пока те не скрылись из виду.
В арьергарде ехал Арнольд, сын Пьера. Украдкой он вытирал слезы со щек. Страну, где он родился, Арнольд находил ужасно безобразной. Эти черные деревья без листьев, эта гнилая и мокрая трава и туман, проникающий сквозь одежду, — и это в январе, когда в Святой Земле уже цветут деревья и от них распространяется великолепный аромат! А вскоре на них появятся золотые плоды. Огромные караваны воздухе только дурные запахи. И никто здесь не носит тюрбанов. Последние тюрбаны он видел в портовом спускаются к морю, звеня колокольчиками, и воздух пахнет пряностями, которые везут верблюды. Здесь же в городе Марселе, куда пришел королевский флот с прибывшими в Европу тамплиерами. С ними вернулась и семья Пьера. Арнольд был очень опечален, что мать так легко рассталась с маленьким домиком, с таким уютным внутренним двором. Ведь там они все-таки жили вместе с отцом! И Арнольд снова заплакал.
— Не плачь, малыш! — утешал его толстый Эдюс. — Ты еще увидишься с мамой.
Но Арнольд плакал не из-за матери. Ей эта страна нравилась. В первый раз после смерти отца Арнольд увидел радость на ее лице, когда в Лионе они встретились с каменотесами. Радость, конечно, омрачили слезы, но все же это была радость. Она не исчезла даже в тот момент, когда с матерью поздоровался хмурый дядя Арнольда и спросил: «Где мой брат?» Узнав, что Пьера больше нет в живых, он посмотрел на мальчиков испытующим взглядом, словно желая понять, сгодятся ли они когда-нибудь в каменотесы, и сказал:
— Моей хозяйки тоже больше нет в живых, — повернулся и прошел в дом впереди них.
Кухня была темная, но теплая. Обратившись к деверю, мать сказала:
— Арнольд завтра рано утром должен ехать. Тамплиеры хотят взять его к Пайену. Он встретится со своим господином. У тамплиеров работал твой брат.
И так как она поняла, что ему ничего не было известно о тамплиерах, она добавила:
— В Иерусалиме.
Деверь кивнул головой.
— Я хотел бы работать со старшим из твоих сыновей, — сказал он, — потому что он сильнее младшего.
На следующее утро Филипп проводил брата до ворот. Тамплиеры уже ожидали его. Толстый Эдюс подвел к Арнольду его коня, и братья, сжав губы, стали прощаться; они положили ладони на лоб, как это делают мусульмане, и слегка поклонились друг другу.
Когда Арнольд уже сидел в седле, Филипп что-то вынул из кармана и поднес к губам. Это был один из двух маленьких бедуинских рожков, подаренных королем на прощание сыновьям Пьера. «Это для того, чтобы вы не забывали Иерусалим», — сказал им тогда король дружеским тоном.
Филипп затрубил в рог, и Арнольд ответил. И это означало: «Мы никогда не забудем Иерусалим и, когда вырастем, вместе вновь его увидим!»
Господина де Пайена не было в обозе, проезжавшем через горы Лангра. Из Марселя он направился прямо в Труа, столицу Шампани, где 13 января по приглашению аббата из Клерво собрались высокопоставленные духовные и светские лица. В тот же день тамплиеры должны были утвердить устав ордена и право по собственному выбору принимать мужчин в орден Бедных Рыцарей Христовых.
Господин де Пайен спрыгнул с коня и пошел в кафедральный собор. Многочисленные свечи распространяли сладковатый аромат и золотистый свет, которого, однако, не хватало для того, чтобы осветить огромное пространство до самых сводов. Приглушенный шум голосов обволакивал собор.
Жан Мишель, который вел протокол, уже приготовил гусиные перья и разложил их перед собой на кафедре. Он смотрел на собравшихся и видел в первом ряду молодого графа Шампанского, которому дядя передал управление страной, епископа Оксерского, главного аббата цистерцианцев, и рядом с ним — Бернара Клервоского, надвинувшего капюшон на лицо в знак глубокой сосредоточенности. Никто из сидевших рядом не мог нарушить хода его мыслей. Когда же со стороны главного портала стал приближаться звон шпор, он приподнял капюшон и сказал:
— Это господин де Пайен.
Присутствующие встали, не прерывая своих разговоров, и приветственно поклонились вошедшему.
После того как господин де Пайен так же отвесил поклоны во все стороны, он сел рядом с Бернаром Клервоским. Звон колокольчика возвестил о начале заседаний Труаского Собора.
Разговоры тотчас же умолкли. В центр алтарных ступеней встал папский нунций, а слева и справа от него — архиепископы Реймсский и Санский. Нунций поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение. Затем последовали слова, которыми он открыл Собор.
Тем временем странный обоз тамплиеров добрался до крепости Шатийон, где они должны были оставаться до утра. Здесь их ожидали. Было условлено, что на следующий день они продолжат свой путь в сторону монастыря Клерво, ибо граф Шатийонский желал передать им продовольствие для монастыря.
Граф Шатийонский велел оруженосцам разместить повозки в сарае и пригласил тамплиеров на скромную трапезу. Его приказы звучали кратко и нетерпеливо, а приглашения — как приказ. И когда он сказал:
— Сегодня вечером пойдем на охоту, — никто не осмелился противоречить.
Трое тамплиеров остались в сарае стеречь ларцы. Когда же шумное общество в окружении свирепо лающих псов возвратилось вечером с охоты, то этих троих сменили господа де Сент-Омер, де Сент-Аман и де Мондидье.
Арнольд вечером, будучи в дурном настроении, ходил взад-вперед по конюшням. Он предавался ностальгии, ведь замки на Востоке были совсем не такими, как этот, который выглядел чуть лучше конюшни — тесный и грязный; и если посмотреть в зал, то там не было ничего, кроме тьмы. Нигде не стояло курильниц, распространявших ароматы, а под ногами шныряли куры. Слуги кричали друг на друга, не обращая внимания на господ, а дети графа возились в грязи, как щенки.
Как только стемнело, Арнольд заполз к повозкам в сарай. За ними он обнаружил кучу шестов, из которых смастерил себе лежанку. Он был так печален, что не мог даже заснуть. Если бы хоть Филипп был рядом с ним! Арнольд ворочался и смотрел в темноту. Затем услышал голоса рыцарей, стерегущих сокровища, господа сидели у входа на связках соломы. Их беседа успокоила его.
— У нас еще один день пути до болота, — это был низкий голос господина де Сент-Амана.
— Надеюсь, что перед самым концом ничего не случится! — господин де Мондидье вздохнул.
— Тогда бы нам не нужно было девять лет рыться в земле, как кротам, и наш любимый каменотес был бы жив! — прозвучал голос господина де Сент-Омера.
Наш любимый каменотес? Арнольд вздрогнул, напряженно прислушиваясь.
— Вы не смеете так говорить, — сказал господин де Сент-Аман. После этого в течение некоторого времени было тихо. — Каменные ларцы, — наконец продолжил он, — по мне, лучше бы их вообще не открывать.
— Как вы только можете такое говорить! — закричали двое остальных.
— Если там действительно записаны законы, по которым Господь сотворил мир, то вы должны понять мой страх!
— Чего вы боитесь? — спросил господин де Мондидье. — «По мере, числу и весу сотворил Я мир», — говорит Господь. Это ведь не значит, что человек сам без Его помощи может сотворить мир, как только узнает истинную меру, число и вес. Ваш страх я нахожу совершенно необоснованным. Разумеется, царь Соломон знал, для чего ему прятать свою мудрость.
Снова стало тихо, и казалось, что каждый погрузился в свои мысли.
— В то, что человек не может создать мир без помощи Господа, я охотно верю, — задумчиво сказал господин де Сент-Аман, — но разрушить наш мир человек может и без Господа, и этого я боюсь.
Господин де Сент-Омер откашлялся.
— В нашем ордене будет школа, — сказал он, — мудрейшие из наших братьев будут проходить посвящение в законы природы, исследованные царем Соломоном. И это будут люди, умеющие молчать. Могущественнее, чем тайны природы, воскресение из мертвых, дорогие друзья, ибо природа смертна. Итак, мы надеемся, что нашему ордену удастся постичь смертную природу с помощью силы Воскресения Спасителя нашего.
— Да будет так, — сурово ответили друзья.
Когда же Арнольд на следующее утро проснулся, разговоры рыцарей представились ему приснившимися.
Бледное солнце повисло в тумане над деревьями, когда обоз покинул Шатийонский замок и отправился в Клерво. Навстречу обозу выходили крестьяне, желавшие поехать на рынок, чтобы купить сено и зерно, так как последний год принес неурожай. Лица у них были скорбные. Повсюду одно и то же: того, что зарабатывали своим трудом, не хватало. Жены болели, а дети умирали еще в младенчестве. Хорошо жить хотя бы по соседству с монастырем, поскольку иногда там была земля, раскорчеванная под пашню, которую можно взять в аренду, или же давали работу и расплачивались продовольствием, в крайнем случае можно было просить милостыню.
К вечеру обоз въехал в Клервоский монастырь, и сердце у Арнольда горестно сжалось: здесь спасли от смерти его отца. Здесь его исцелили, и он выжил. Но почему же сейчас отца не было в живых? Арнольд подумал, что если бы здешний аббат находился в Иерусалиме, то отец был бы еще жив. Но он не хотел видеть аббата, испытывая страх перед его чудотворной силой.
У них взяли коней и повели на водопой; оруженосцы передали монахам привезенные от графа Шатийонского свертки, корзины и бочонки. Некоторые монахи выстроились длинной вереницей у корыта с водой — там, где ручей, протекавший через монастырь, был перегорожен плотиной. Чего они ждали, Арнольд не знал. Издалека доносились веселые трели пастушеской флейты. Блеяние и лай приближались, и в ворота протиснулись овцы, собаки и пастухи. Монахи стояли у корыта в два ряда. Палками они гнали овец сквозь этот проход в воду. Собаки плескались, отряхивались и обдавали брызгами стоявших вокруг. В первый раз после отъезда из Иерусалима Арнольда хоть что-то развеселило. Он попросил палку, и сам окунул какую-то овцу в воду, как это делали монахи. Потом он наблюдал за стрижкой овец. Внезапно Арнольд спохватился. Где же повозки и кони? Он бросил палку и побежал к воротам.
— Вот ты где! — услышал он позади голос привратника. — Твои господа искали тебя. Теперь они все поехали дальше. Но тебе нечего грустить, — утешал его монах, стерегущий ворота, — потому что они сказали, что ты хорошо умеешь ездить верхом и догонишь их. Вон там твой конь.
Арнольд стоял с испуганными глазами. Он ведь не знал, куда отправились тамплиеры со своими повозками.
Привратник, разгадавший мысли Арнольда, сказал:
— Поезжай прямо через этот лес, тогда ты быстро их догонишь. Тебе не нужно ничего опасаться. Здесь давно уже нет разбойников.
— Ты это точно знаешь? — спросил Арнольд дрожащим голосом. — Я беспокоюсь потому, что здесь в лесу напали на моего отца.
— На твоего отца?
— Да, на Пьера, лионского каменотеса.
Монах-привратник изумился и посмотрел на Арнольда с сомнением.
— Это произошло десять лет назад, — сказал Арнольд. — Аббат из этого монастыря спас ему жизнь.
— Что? — воскликнул монах, — ты сын Пьера? Да, тогда я понимаю, почему господин де Пайен хочет, чтобы ты был при нем до тех пор, пока он не возвратится в Святую Землю, — большими шагами монах подошел к коню, взял его за недоуздок и подвел к Арнольду. — Садись! — сказал он, и сам посадил мальчика в седло. — Ты догонишь их еще до Вандевра. Поезжай с Богом! — с этими словами он открыл ворота.
Когда Арнольд проезжал через лес, ему было страшно. Лес выглядел в точности так, как его описывал отец. Вопреки уверениям привратника Арнольду казалось, что из-за каждого куста за ним следят злые глаза. О, поскорее бы уже миновать этот лес! Он ударил коня хлыстом. Показалась лужайка, и вскоре Арнольд услышал голоса оруженосцев и смех толстого Эдюса. Но дрожь в коленях, начавшаяся еще там, в разбойничьем лесу, не прекращалась на протяжении всего дня; когда Арнольд вечером слез с коня в давно знакомом оруженосцам месте привала — лагере под Вандевром, — он едва держался на ногах.
И на этот раз оруженосцы развели костер и стали подбрасывать поленья в разгорающееся пламя. Они напоили коней водой из болота. Но рыцари снова запрягли лошадей в повозки и оставались рядом с ними. Казалось, они чего-то ожидают.
Издалека послышался стук копыт; он все приближался, с коней спрыгнули двое всадников и подошли к костру. Арнольд узнал господина де Пайена. Другой был рыжий монах небольшого роста. Арнольд поразился тому, что господин де Пайен принял в свое общество такого невзрачного человека в рясе. Однако рыцари подъехали к монаху и поцеловали ему руку, — тонкую белую руку, которой он слегка надвинул капюшон, как будто ему было холодно. Он улыбнулся и поднял голову, Арнольд посмотрел ему в глаза и больше не мог отвести от них взгляда.
— Это аббат из Клерво! — шепнул Эдюс на ухо Арнольду.
Но Арнольд, как только до него дошло, что сказал Эдюс, громко вскрикнул и разразился рыданиями. Как бы издалека он услышал голос господина де Пайена:
— Это сын того Пьера, которого вы исцелили, аббат Бернар.
Затем Арнольд почувствовал прикосновение к волосам узкой белой руки, и всего его словно окутало мягкое, теплое облако.
Долго Арнольд стоял неподвижно, не слыша, что происходило рядом с ним. Когда он открыл глаза и огляделся, рыцари и повозки исчезли. Аббата также не было поблизости. Костер трещал, разгораясь, а оруженосцы сидели вокруг него и ели.

Тайник
Стремительно наступили сумерки. На небе не было видно ни одной звезды. Рыцари-монахи с повозками двигались в ночной тьме к северу. С левой стороны от них хлюпало болото. Они не слышали ничего, кроме стука тележных колес и глухого топота копыт. Время от времени кричали совы.
Так они проехали сквозь ночь около часа, когда аббат остановил своего коня. Развели костер и зажгли факел. Как только он разгорелся ярким пламенем, господин де Пайен поднял его высоко над головой и стал им как-то по-особому размахивать. В течение некоторого времени ничего не происходило. Вдруг на середине болота вспыхнул другой факел. Никто из присутствовавших не произнес ни слова. Полевая дорога, по которой они ехали, заканчивалась в заболоченном пруду. Когда же они посмотрели назад, им показалось, что уровень болота опустился. Затем им удалось точнее рассмотреть это. Дюйм за дюймом дорога поднималась из лужи, и был виден ее тяжелый фундамент. Господин де Пайен первым завез повозку на дамбу. С обеих сторон булькала гнилая вода.
Они рассчитывали проехать по дамбе за четверть часа, но господин де Пайен начал их торопить, вода уже снова поднималась. Перед ними в темноте теперь вырисовывался черный лес.
— Остров на болоте! — пробормотал господин де Сент-Омер.
На острове находился Замок Железных Часовых. Десять лет ожидали тамплиеры этого момента, считая его окончанием дела. Но в действительности это было только начало.
Едва последние повозки достигли острова, как вода уже обрушилась на дамбу. Рыцари подъехали к колючей живой изгороди, за которой находились ворота. Затем поехали через мелкий кустарник, доходивший до края рва.
По ту сторону рва они увидели огромную стену. Заскрипели цепи подвесного моста, и он опустился через ров. Пока рыцари ехали по мосту, со скрипом поднялась решетка ворот замка. Повозки, треща, вкатились на пустой двор, освещенный факелами, вставленными в железные кольца.
Когда тамплиеры собрались на этом дворе, они увидели, что аббат Клервоский не последовал за ними через дамбу. Они остались одни.
Ворота перед главным зданием были открыты, и здесь также горел факел. Свет его падал на лестницу, которая вела в подземный коридор — длинный и узкий, в конце его была видна висячая решётка, а за ней — небольшая комната.
Господин де Пайен вошел в эту комнату и обнаружил там двенадцать высоких деревянных табуретов. Он понял, что должен поставить на них каменные ларцы. Господин де Пайен увидел на стене надпись, сделанную большими буквами:
«ДА СВЯТИТСЯ И ЖИВЕТ ПРИРОДА! ТОТ, КТО ЕЙ ПОВРЕДИТ, ДА БУДЕТ ПРОКЛЯТ!»
А на противоположной стене было написано:
«КРОВЬ ХРИСТОВА ДА ПРОСВЕТИТ ПРИРОДУ В НАС И ВНЕ НАС!»
Тамплиеры молча внесли ларцы в комнату и установили их на табуреты. Господин де Пайен высоко поднял драгоценный крючок, найденный Пьером четыре года назад, и сказал:
— Дорогие господа! Настал момент, о котором мы столько лет мечтали.
Он повторил последнюю часть того заклинания, которое Бернар Клервоский дал им в путешествие:
— «Один-единственный ключ
Открывает эту тайну!»
Он подождал немного: голос его не слушался: Затем продолжил:
— «Если ты откроешь Ничто,
Не делай различия между домами,
Ибо в одном из них
Живет сила остальных одиннадцати».
Эхо этих слов все еще звучало в подземелье, когда господин де Пайен открыл ключом первый ларец. Рыцари смотрели на него, затаив дыхание. Господин де Сент-Аман помог открыть крышку. Ларец был пуст.
С неподвижным лицом господин де Пайен пригласил господина де Сент-Амана открыть второй ларец. Этот тоже был пуст. Когда они сняли крышку с третьего, то увидели, что и он пуст. И все остальные были пусты.
— «Если ты откроешь Ничто», — машинально пробормотал один из рыцарей.
Двенадцатый ларец стоял на табурете еще не открытый. Господин де Пайен медлил: а если и в нем ничего нет?! Неужели напрасны их многолетние скитания и поиски? И напрасно они надеялись вместе с аббатом Клервоским спасти природу.
Вставив ключ в отверстие, он посмотрел испытующе в лицо каждому из братьев. В их глазах он увидел такое же сомнение. Он молча склонился над каменным ларцом, уперся в крышку и сдвинул ее в сторону. Тогда из глубины ларца заструилось настолько яркое сияние, что рыцари на мгновение потеряли зрение.
Во всех одиннадцати ларцах теперь сияла надпись, сделанная неизвестными буквами. Светились и картины, показывающие устройство мира с незапамятных времен. Потом свет погас, и только горящие факелы освещали комнату.
Господин де Сент-Аман помог господину де Пайену закрыть ларцы.
— Пройдет много времени, дорогие господа и братья, — сказал господин де Пайен, — пока мы или мудрейшие из наших братьев, принадлежащие к нашему ордену, поймут, чему могут нас научить эти изображения и письменные знаки. Давайте же теперь поднимемся в рыцарский зал и возблагодарим Господа за то, что Он до сих пор способствует процветанию нашего дела.
Он положил ключ на двенадцатый ларец, и они в молчании вышли из комнаты. Дойдя до лестницы, тамплиеры услышали за собой грохот и увидели, что висячая решетка перед потайной комнатой опустилась.
В рыцарском зале горели сотни свечей. Они были укреплены в одном подсвечнике, имевшем форму колеса, который висел над большим круглым столом. Вокруг стола стояли тринадцать стульев с высокими спинками, и на каждом из них было написано имя одного из посвященных в тайну. Господин де Пайен предложил всем сесть. Не занятыми остались четыре стула: короля Иерусалимского, графа Шампанского, который остался в Святой Земле, Бернара Клервоского и еще кого-то, чье имя не было написано. Ни один из рыцарей не удивился, глядя на тринадцатый стул. И тут появилась светящаяся надпись вдоль края стула: «ИЕРУСАЛИМ В ПЕЧАЛИ, КТО ОСУШИТ ЕГО СЛЕЗЫ?»
Собравшиеся вопросительно посмотрели друг другу в глаза. И внезапно они сказали словно едиными устами:
— Мы! Мы осушим его слезы! Мы, Бедные Рыцари Христовы.
Не успели они это произнести, как надпись исчезла.
В ту же ночь господин де Пайен отправился в Труа. Вместе с церковными иерархами он широкими шагами подошел к кафедральному собору.
На хорах сидел тщедушный аббат Клервоский в надвинутом на лицо капюшоне. Аббат поднял его, услышав шаги господина де Пайена.
Он встал навстречу тамплиеру.
— Иерусалим в печали! — воскликнул аббат. — Кто осушит его слезы?
— Бедные Рыцари Христовы, — тихо ответил господин де Пайен.
Он сел рядом с аббатом, не слыша призывов других господ. Он думал о том, как странно было услышать от аббата слова, загоревшиеся на стуле в рыцарском зале.
Огромное войско собралось под предводительством тамплиеров у стен портового города Марселя. Два года уже прошло с тех пор, как флот короля Иерусалимского, вместе с которым тамплиеры вернулись в Европу, находился в Марселе. Там они приняли на главный корабль графа Фулько Анжуйского, и на всех кораблях слышно было ликование. Флот, украшенный разноцветными вымпелами, вышел в открытое море, и музыканты исполняли свои лучшие произведения. Граф Анжуйский, сев на этот корабль, символически становился королем Иерусалимским. Как только граф прибудет в Святую Землю, король обещал обвенчать его с кронпринцессой Мелисандой, и тогда граф станет наследником короля Иерусалимского Бодуэна II.
С тех пор прошло два года — два года, в течение которых господин де Пайен объездил Англию, Шотландию и Испанию, где он принимал храбрых людей в свой орден. Братья его делали то же самое во Франции и Аквитании. Они привлекали людей к ордену, в котором не было различий между сословиями, ибо только свободная воля могла сделать из мирского человека монаха, будь то рыцари, графы или ремесленники. В орден принимались даже убийцы и преступники. Таково было желание аббата Клервоского. Для всех действовал устав, разработанный в Труа.
Мудрецы и учёные также вступали в орден Бедных Рыцарей Христовых. Всех их объединяло общее желание: самоотверженно служить Святой Земле. И мысли их уносились к Иерусалиму.

Происходит хорошее и плохое
Господин де Пайен стоял, слегка возвышаясь над воинами, и размышлял о боях, в которых придется участвовать этим людям в Святой Земле. Иерусалим находился под угрозой.
Он мысленно возвратился еще раз в годы своей поездки по странам Европы, в которой Арнольд сопровождал его. Господин де Пайен подумал о юноше, и острая боль пронзила его грудь. Всего лишь несколько дней назад он передал Арнольда дяде, жившему в Лионе. Единственная услуга, которую он смог оказать юноше на прощание, состояла в том, что он снабдил его рекомендательным письмом со своей гербовой печатью. Тем самым Арнольду обеспечивалось покровительство ордена. Когда Арнольд станет взрослым, эта ему поможет в трудном положении.
На мгновение господин де Пайен прижал Арнольда к груди и поспешил к своему коню. Но Филипп, видевший горе брата, приставил к губам бедуинский рожок и пронзительно затрубил. Арнольд еще раз обернулся и помахал на прощание рукой.
У дяди Арнольд учился ремеслу каменщика. Он любил находиться в мастерской, в которой еще его отец постигал ремесло каменотеса. И, если даже дядя бывал мрачен, он все-таки давал ответ, когда Арнольд спрашивал во время совместной работы: «Быстро ли мой отец понял, куда нужно вставлять пилу, чтобы камень не растрескался?» Или: «В каком возрасте был мой отец, когда ты его впервые послал в каменоломни?»
Братья по-прежнему прислушивались к новостям из Святой Земли. Граф Шампанский, как они узнали, скончался в Иерусалиме. Вскоре после него умер добрый король Бодуэн II. Теперь королем был Фулько Анжуйский. Да поможет ему Бог выполнить его тяжелую задачу! Когда Арнольд отпраздновал свой пятнадцатый день рождения, с Востока пришло известие, что королевская дочь Мелисанда нарушила верность своему супругу Фулько. Через год ее фаворит был убит народом.
В Иерусалиме дела шли скверно! Когда Арнольду исполнилось двадцать лет и его избрали странствующим подмастерьем, король Фулько был осажден воинственным атабегом Мосульским. Когда Арнольду было двадцать три года, прошел слух, что Фулько Иерусалимский доверил тамплиерам, теперь ставшим дисциплинированной боевой силой, охрану крепостей Сафет и Галилея. Ибо он считал, что только они смогут надежно охранять этот отрезок границы.
Когда Арнольд со всеми знаниями и опытом, собранными в странствиях, вернулся в Лион, в странствие отправился Филипп. Сюзанна вышла замуж, дядя лежал больной в постели. Вскоре он умер, и Арнольд остался единственным мастером-каменотесом в Лионе.
Всему удивляясь, Филипп странствовал по миру. В Европе многое изменилось: здесьтакже были тамплиеры из различных слоев населения. Богатые приносили свое добро, бедные радовались, что им больше не нужно попрошайничать. Орден построил дороги, которые способствовали торговле, а торговля должна была обеспечить стране благосостояние. На перекрестках дорог тамплиеры строили комтурии, окружные управления для их конных войск, где могли также переночевать путешественники и купцы, и за их лошадьми там обеспечивался уход. Тамплиеры изгоняли разбойных баронов, творивших свои бесчинства. Тамплиеров знал каждый ребенок и чувствовал себя под их опекой.
Возникли также и такие дома ордена, где принимали новых тамплиеров. В соответствии с наклонностями из них готовили воинов, которых затем посылали на Восток, или которые завоевывали непокорные замки на границе с испанскими маврами. Они могли стать администраторами и казначеями, или же мудрецами, чьей обязанностью было охранять тайну в Замке Железных Часовых.
Однажды навстречу Филиппу выскочила кавалькада тамплиеров. Она оставляла за собой длинное облако пыли. В окружении двух герольдов на своем белом коне ехал господин де Мондидье. Господин де Пайен назначил его начальником над всеми тамплиерами во Франции. Теперь орден в этой стране подчинялся ему. Господин де Мондидье, однако, выглядел так, словно не терял своего нетерпения.
Незадолго до Рождества в 1143 году Филипп возвратился домой из своих странствий. До него донесся колокольный звон, он услышал его издалека. Почему колокола звонили не вовремя? Народ уже стекался со всех сторон и толпился перед домом тамплиеров в Лионе. Всем хотелось узнать, что нового произошло.
Глава лионских тамплиеров вышел из ворот и поднял руку, в толпе стало тихо.
— Король Иерусалимский Фулько упал с коня и умер. Да ниспошлет Господь Святой Земле опытного регента, управляющего страной, вместо малолетнего королевского сына Бодуэна! Идите со мной в церковь, мы помолимся за усопшего и за осиротевший Иерусалим!
— Да будет так! — глухо прозвучало в толпе. Длинная вереница опечаленных людей окружила главу лионских тамплиеров. Филипп тоже был среди них.
Но вскоре стало известно, что сирийские бароны из королевства Иерусалимского избрали королевскую вдову Мелисанду регентшей при ее двенадцатилетнем сыне Бодуэне. Как дальше будут складываться дела на Востоке? У королей, Бодуэна II и Фулько, тамплиеры всегда были советниками. Но послушает ли Мелисанда советы какого-нибудь опытного тамплиера?
Уже в следующем году атабег Мосульский, прозванный Кровавым, во имя Аллаха отторг от христианского королевства графство Эдесское, причинявшее столько забот Бодуэну II.
Бедная Святая Земля! Как хорошо, что по крайней мере оставался еще союз с Дамаском, заключенный королем Фулько! Во всех западных церквах призывали к новому крестовому походу, чтобы вернуть Эдессу.

Новый крестовый поход
Пасха в 1146 году пришлась на 31 марта, и вся Франция знала, что аббат Клервоский призвал в тот день на холме Везеле к крестовому походу, чтобы вернуть королевству Иерусалимскому графство Эдесское.
Аббат стал еще более тщедушным, и на его бледном худом лице глаза светились ярче, чем прежде. На склоне холма он видел перед собой целый лес пик. Многоцветьем сверкали драгоценные камни рыцарей и дам.
Блестели золотые и серебряные украшения. В толпе стояли князья и нищие, старики и дети, мужчины и женщины, монахи и воины, и все объединились в едином порыве от пламенных слов аббата: «Господь хочет этого!»
Рядом с Бернаром стоял юный король Франции со своей возлюбленной — королевой Элеонорой. Он, как и все остальные, был охвачен жаждой деятельности. «Господь хочет этого!» — кричал он.
Из Везеле воодушевленные люди возвращались в свои города и замки. «Господь хочет этого!» — кричали они на улицах родных городов. Таким же был клич участников Первого крестового похода, состоявшегося пятьдесят лет назад. «Господь хочет этого!»
В Лионе тоже кричали на улицах: «Господь хочет этого!» С этим криком люди проходили мимо мастерской каменотесов, в которой работали Арнольд и Филипп.
— Пойдете ли вы с нами в Святую Землю? Идите с нами! Господь хочет этого, — поскольку каменотесы не ответили сразу, они продолжали: — В следующем году весной начнется поход. Король намеревается подготовиться к нему до Пасхи. Он примет крест в Пасхальное воскресенье в церкви Сен-Дени под Парижем. Да убедит вас это!
Братья молча продолжали работать. Оба всеми фибрами души тянулись в Святую Землю. Все эти годы они не переставали думать об Иерусалиме. Но ехать мог лишь один из них. Другой должен был вести дела в мастерской и заботиться о матери. Кто же это будет?
— Мы еще решим, — сказал Филипп.
— Тогда давай решать.
Они бросили монетку, но, еще когда она крутилась на полу, Филипп наступил на нее ногой.
— Брат, — твердо сказал он, — мы должны договориться: тот, кто останется дома, не будет завидовать тому, кто поедет. Каждый должен принять выпавший ему жребий как справедливое решение.
— И я того же мнения. Теперь убери ногу с монеты!
Филипп убрал ногу. Он посмотрел на монетку и повесил голову. Арнольд похлопал брата по плечу, но тот отвернулся.
— Так лучше, Филипп. Ты помолвлен, и вы в этом году должны пожениться. Я же о девушках не думаю, ибо мои мысли непрестанно занимает смерть отца. Я смутно чувствую какую-то тайну, но не могу найти в воспоминаниях ничего проясняющего. Вероятно, поэтому меня так и тянет в Иерусалим. Кто знает, может быть, там мне удастся узнать то, что так меня мучает. Если я останусь в живых и вернусь здоровым, ты сможешь туда поехать, как только захочешь. Это я тебе обещаю.
Со всех уголков страны паломники и крестоносцы стекались накануне Пасхи в Сен-Дени. Даже папа, когда-то любимый ученик аббата Клервоского, приехал туда, чтобы благословить поход крестоносцев. Бесчисленные свечи освещали церковь и распространяли медовый аромат. Аббат из Сен-Дени, бывший канцлером у короля, взял с алтаря освященный паломнический жезл и высоко поднял его. Он передал жезл королю, который принял его для всех крестоносцев. Короли вручил жезл королеве, также желавшей принять участие в крестовом походе.
Рядом с гигантскими пасхальными свечами стояла орифламма — хоругвь церкви Сен-Дени. Ее древко, покрытое медью и золотом, блистало огнем в сиянии свечей, и полотнище из красного шелка с пятью кисточками казалось пламенем. Теперь орифламма должна была привести крестоносцев к победе.
Аббат Сугерий Сен-Денийский вынул ее из подставки и наклонил вперед. Король подошел к ней, преклонил колени и кисточкой знамени коснулся своей груди в области сердца, а затем — меча. Он встал рядом с Сугерием и возложил руку на древко знамени. Все рыцари, находившиеся в церкви, один за другим подходили к знамени, становились на колени и делали то же самое. Распевая песнопения, монахи выходили из церкви впереди них. В центре шел папа.
Это была кульминация празднества для толпы, ожидавшей на площади перед церковью возможности присоединиться к крестовому походу.
«Господь хочет этого! — кричали они, словно обезумев. — Вперед в Святую Землю!» В толпе находился и Арнольд. Человек, стоявший рядом с ним, воскликнул:
— Смотри-ка, вон тот тамплиер между двумя высочайшими церковными иерархами! Это новый Великий магистр тамплиеров Франции. Зовут его Эверар де Барр.
По площади двигалась процессия из ста тридцати бородатых тамплиеров, одетых в белые плащи, положенные им по уставу. Их черные мечи выглядели угрожающе.
— Смотри! — закричал сосед Арнольда, — они не должны носить оружия, украшенного серебром или золотом! А если им достается дорогой меч в качестве добычи, они обязаны покрасить его в черный цвет.
— Магистр Эверар привез этих тамплиеров из Пиренеев, — сказал другой сосед. — Они сражались в Испании против мусульман, которых там называют маврами.
— Этих не проведешь, — воскликнул первый, — можете мне поверить!
Как только Эверар де Барр вместе с процессией подошел поближе, Арнольд преклонил колени и протянул ему рекомендательное письмо от господина де Пайена, которое он столько лет берег как величайшую ценность.
Магистр тотчас же узнал печать и удивленно вскинул брови. Он вышел из процессии и спросил юношу, как его зовут.
— Я Арнольд, сын Пьера, каменотеса из Лиона. Я прошу вас позволить мне отправиться в Святую Землю, чтобы сражаться с врагами на вашей стороне. Возможно, для вашей свиты нужен оруженосец.
— Сын Пьера? — удивленно спросил магистр. — Орден помнит твоего отца так же, как и господина де Пайена, которого уже нет в живых, — и, не обратив внимания на то, что Арнольд вздрогнул от горя, он продолжал: — Итак, приходи через неделю в дом тамплиеров в Париже. Там ты можешь пожить у моего оруженосца Грегуара до тех пор, пока мы не отправимся в поход.
Большими шагами он поспешно устремился к остальным. Народ толпился в храме в ожидании благословения папы.
Арнольд, охваченный восторгом, стоял совсем рядом с королевой, зажатый между епископами и рыцарями. Он видел ее перед собой очень отчетливо. На ней было ярко-красное шелковое платье, на которое ниспадали золотые волосы, покрытые тонкой вуалью. На обруче вокруг головы висел изумруд величиной с вишню, который хорошо подходил к цвету ее больших глаз. Темные ресницы и тонко очерченные брови усиливали сияние взгляда. Щеки у нее были мило округлены и слегка подрумянены, и Арнольд подумал, что он никогда еще не видел столь прекрасных щек. То же самое он думал и об ее устах. Он не мог отвести взгляда от королевы. На благословение папы Арнольд не обратил внимания. «Она будет рядом в крестовом походе», — ликовал он.
Церковь опустела, свечи погасили, но Арнольд, улыбаясь, все еще стоял там, где увидел королеву.
Стена вокруг дома тамплиеров в Париже охватывала здание управления, конюшни, амбары, мастерские и постоялые дворы. В центре высился массивный замок — дом тамплиеров в полном смысле этого слова. Четыре его угла были укреплены круглыми башнями, подобными тем, которые тамплиеры видели на Востоке. Ни один орден в то время не имел такого огромного дома.
Арнольд стоял у ворот и смотрел во двор. Там он снова увидел тамплиеров, как видел их на Востоке и в церкви Сен-Дени. Как и прежде, они носили белые плащи, но теперь на каждом светился кроваво-красный крест.
— Чего ты так уставился? — спросил один из привратников. — Разве тебе никто не говорил, что папа пожаловал нашим рыцарям красный крест с иерихонскими трубами?
— Первые девять рыцарей, — сказал Арнольд, не поворачиваясь к монаху, — имели маленький красный крестик на рясе, но он был тонкий и скромный.
— А теперь он со всех сторон украшен четырьмя иерихонскими трубами. Ты, вероятно, знаешь то место из Священного Писания, в котором говорится, как трубы своим звуком разрушили вражеские городские стены?
— О да! — сказал Арнольд, все еще глядя на четырех тамплиеров во дворе. — Я вижу не только белые, но также коричневые и черные плащи и рясы. Но у всех крест с иерихонскими трубами на левой стороне груди и сзади на левой лопатке. Эти одетые в черное люди тоже тамплиеры? А вон те, одетые в коричневое?
— Все, у кого есть крест, — тамплиеры. Коричневых мы называем «присоединившимися», так как они служат ордену всего лишь год. Черные, которые выполняют для нас необходимую работу, называются сервиентами. И только одни белые — рыцари. Кроме того, мы, тамплиеры, помимо креста с иерихонскими трубами, имеем собственное знамя. Оно черно-белое.
— Известен ли тебе смысл этих цветов?
— Белый означает Европу, а черный — Азию; и эти цвета так крепко соединены друг с другом, как Азия и Европа связаны орденом тамплиеров.
— Теперь ясно.
— Но это самое простое объяснение. Точнее говоря, черный цвет означает землю, нашу юдоль слез, а белый — Новый Иерусалим. Нашим орденом они связаны между собой точно так же, как белая и черная части полотнища знамени.
— Я еще подумаю о том, что под этим подразумевается, — сказал Арнольд.
— Существует и третье объяснение, — сказал привратник. — Оба этих цвета означают воинов и монахов, ибо мы, тамплиеры, представляем собой одновременно и тех и других. Поэтому на печати нашего Великого магистра, если когда-нибудь она тебе попадется, ты увидишь двоих рыцарей на одном коне.
— Теперь я понимаю, что ваше знамя хорошо продумано. Спасибо, что ты мне все так терпеливо и доходчиво объяснил. Я каменотес, родом из Лиона и в таких вещах разбираюсь не столь хорошо, как ты. Если ты мне еще скажешь, где можно найти Грегуара, оруженосца магистра Эверара, я буду очень рад.
— Вон он идет по двору! С седлом на плече, — привратник показал на коренастого мужчину в возрасте около сорока лет с рыжей взъерошенной бородой. Как все тамплиеры, оруженосец имел наголо обритый череп. Арнольд подбежал к нему и схватил за рукав.
— Гопля! — Грегуар придирчиво оглядел Арнольда с головы до пят. — Ты, вероятно, тот каменотес из Лиона, о котором говорил магистр? Вот и держи! — и он передал Арнольду седло, которое до этого нес сам, и повел его в шорную мастерскую. — Повесь седло на этот гвоздь! — невозмутимо сказал Грегуар.
Два других сервиента, находившихся в мастерской, насмешливо улыбнулись: вот он и нашел того, с кем можно делать дело!
— Больше нет времени с тобой возиться, — проворчал Грегуар. — Я еще не прочел тридцать раз «Отче Наш». Я должен молиться.
— Если этого для тебя слишком много, — не моргнув глазом предложил Арнольд, — то я помогу тебе молиться. Ведь каждому можно повторить молитву по пятнадцать раз, и тогда получится тридцать.
На это тамплиеры разразились звонким смехом.
— Вы только послушайте! — фыркнул Грегуар, — он хочет взять на себя половину моего молитвенного долга! Что вы на это скажете?
— Если все так и пойдет, — смеялись сервиенты, — то такой нам и нужен! Если бы это было возможно, то каждый из нас охотно нанял бы слугу для чтения молитв! Ха-ха-ха-ха!
Грегуар похлопал Арнольда по плечу:
— Ты хороший парень, каменотес, и я рад буду поехать вместе с тобой в Святую Землю, как сказал магистр Эверар.
— Если предположить, что тамошний воздух подходит каменотесу! — весело воскликнул один из сервиентов.
— Это меня не беспокоит, ведь именно там я вырос! — возразил Арнольд.
Тамплиеры посмотрели на него с любопытством.

Могучее войско
Войско для крестового похода формировалось на широком поле вблизи города. Впереди шли тамплиеры, за ними следовали французские бароны, а в центре расположились король и королева со свитами. В арьергарде ехали рыцари из Бретани и Фландрии. Простые парижские граждане ликовали и махали на прощание руками, когда войско выступило в поход. Бесконечная вереница паломников и семей переселенцев со своими повозками и тележками замыкала шествие. «Господь хочет этого!» Сердце Арнольда едва не разрывалось от радости.
Почти в каждой деревне и в каждом городе, мимо которых продвигались участники похода, к ним присоединялись новые крестоносцы. Очень медленно эта гигантская людская сороконожка ползла сначала в Мец, и дальше — в Шпейер и Фрайзинген, до тех пор пока они не вступили в пределы Венгерского королевства, где им встретились участники немецкого крестового похода, незадолго до этого выступившие из Регенсбурга. Затем начался сильный голод, так как немецкие крестоносцы, шедшие впереди, съедали все, что им попадалось на пути. Пока было лето, эта чудовищная вереница людей утоляла жажду водой из рек и ручьев. Но лишь только зарядили осенние дожди, все водоемы стали грязными и начались тяжелые эпидемии. Ослабленные болезнями, крестоносцы оказались на территории, подчинявшейся византийскому императору. Тот пообещал папе обеспечить в Константинополе уход за больными и предоставить зимний лагерь в Греции, и надежда на это слегка воодушевила изможденных людей.
— В Константинополе, — сказал Арнольд, стряхивая капли дождя с плаща, — я просплю три дня подряд.
Грегуар мрачно посмотрел на него:
— Если только мы пробудем в Константинополе три дня.
Но император Мануил рассудил по-иному. Не сдержав обещания, он переправил крестоносцев через пролив и совсем не дал им продовольствия, в котором они так нуждались. Грегуар ехал рядом с Арнольдом молча. Шутки, которыми он сыпал в начале путешествия, теперь застревали у него в горле.
Как-то вечером, укрывшись вместе с Арнольдом от дождя под одной плащ-палаткой, Грегуар сказал:
— Я напряженно ожидаю, какой из путей по Малой Азии изберет король, — поскольку Арнольду не был известен ни один из этих путей, Грегуар пояснил: — Существует западный путь, он проходит вдоль побережья. Известен еще восточный, по нему шли участники Первого крестового похода пятьдесят лет назад. Еще есть центральный, который ведет почти точно с севера на юг и находится примерно посередине.
Вскоре они узнали, что идут по центральному пути. Море, которое раньше всегда виднелось на востоке, отступало все дальше и дальше; крестоносцы поднимались в горы. Лазутчики вернулись в лагерь и сообщили, что немецкий крестовый поход, находившийся впереди, разделился: король Конрад с одной частью немцев шел по восточному пути, другая же часть, под руководством епископа Фрайзингенского, шла по побережью. На юге полуострова Малая Азия три крестовых похода должны были объединиться в городе Саталия.
Арнольд находился в свите тамплиеров и выполнял необходимые работы, когда участники похода располагались лагерем. Великий магистр Эверар то и дело подзывал к себе Грегуара, когда нуждался в его услугах.
Арнольд больше не видел королеву так близко, как это было в церкви Сен-Дени. Он видел только три повозки в королевской свите, украшенные буквой «Е» с витиеватым орнаментом. Может быть, в одной из них мелькнет ее ярко-красное шелковое платье? А диадема, украшенная изумрудами? Совершенно ясно, что королева на Востоке должна была олицетворять Францию.
Как-то вечером, когда полководцы собрались в палатке магистра Эверара, которую с поспешностью раскинули Грегуар и Арнольд, очаг долго не разгорался. Дрова намокли от дождя, они потрескивали над затухающим огнем. Арнольд разложил вокруг костра подушки и шкуры, потому что в палатку пришла королева и села у огня. Движением руки она ответила на его низкий поклон. Арнольд старательно ворошил кочергой в едва тлеющих поленьях и, кашляя, пытался их разжечь. Развести большой жаркий костер никак не удавалось, из чадящей кучи дров струился лишь пар, тепла они не давали, и королева не могла согреться.
Арнольд украдкой взглянул на нее.
Королева была по-прежнему прекрасна, хотя в воспоминаниях он представлял ее по-иному. Щеки ее впали и побледнели, но изумрудные глаза от этого стали еще больше.
— У меня замерзли ноги! — пожаловалась она. Дрожа от холода, королева сняла башмаки и поднесла их к огню. Арнольд взял овечью шкуру с палаточного шеста. Стоя на коленях, с опущенными глазами, он протянул шкуру королеве.
В палатку вошел король Людовик вместе со своим секретарем. За ним следовали магистр Эверар, маршал тамплиеров и несколько рыцарей из королевской свиты. Отвесив поклоны королеве, они со вздохами опустились на подушки. Взгляды их жадно устремились на котел с вином, который Грегуар поставил на огонь. Затем горячее вино с пряностями оживило их и согрело им кровь, и король медленно начал разговор:
— Мы находимся на возвышенности, принадлежащей грекам, и сегодня нам нечего бояться нападения. Ведь не может же император Мануил быть столь дерзким, чтобы допустить турок на свою землю, откуда они начнут вредить нам.
— И все же мне не нравится, сир, что два немецких войска идут отдельно друг от друга, — возразил магистр Эверар. — К тому же, путь вдоль побережья, избранный епископом Фрайзингенским, весьма опасен. Я знаю по Пиренеям, что в это время года горные ручьи превращаются в ревущие водопады. А реки, берущие начало в горах Малой Азии, гораздо опаснее и несут с собой много ила.
Магистр еще продолжал говорить, когда Арнольд увидел подъехавшего всадника. Он тяжело слез с коня перед палаткой.
— Где король? — закричал он, задыхаясь. — Ради Бога, сир!
Король вскочил с места, ввел чужого рыцаря в палатку и усадил на подушки. Человек был в полном изнеможении. На лице у него запеклась кровь, она залила и его доспехи.
— Выпейте, мой друг, — настойчиво сказал король, протянув ему кубок, — это придаст вам сил.
Отрывочными фразами человек передал известие:
— Войско немецкого императора заблудилось из-за греческих проводников! — он громко застонал. — Продовольствия нет уже несколько дней. Нет выхода из скалистых гор. Внезапно появились сарацины — все больше и больше — чудовищно быстро! Они пролетели на своих маленьких лошадках, выпустили стрелы — и исчезли. Тридцать тысяч наших погибло в горах и пропастях. Их трупы лежат вдоль дороги. Повсюду валяются мертвые кони. Сир, от имени императора Конрада заклинаю вас: идите с вашим войском в город Эссерон, чтобы остатки нашего войска могли объединиться с вами!
В утренних сумерках палатки были Собраны и уложены на вьючных животных. Как марш молчания крестовый поход еще два дня шел на восток, пока посланник, ехавший впереди, не привел их в город Эссерон.
Что это была за печальная встреча! Когда Арнольд в первый раз увидел германского императора в палатке господина Эверара, он подумал, что император очень старый и больной человек. Свита его была почти вся уничтожена, небольшая кучка рыцарей, оставшихся в живых, напоминала группу нищих.
Эти люди расположились у столь же жалкого костра, как тот, к которому на днях приходила королева. Согревшись, они начали советоваться, что делать дальше. Поскольку из войска епископа Фрайзингенского, брата германского императора, пока еще не было дурных вестей, полководцы приняли решение спуститься на прибрежную дорогу вопреки мнению магистра Эверара.
— Вы, конечно, знаете Пиренеи, дорогой магистр, — сказал король, вкрадчиво улыбаясь, — но кто вам сказал, что в Малой Азии реки подобны пиренейским? Поэтому присоединяйтесь к нам и не спорьте с остальными полководцами, так как они победили большинством голосов.
Итак, на следующее утро авангард устремился к юго-востоку. И этого направления крестоносцы придерживались все ближайшие дни. Однако начались затяжные дожди, на пути встречались и снежные завалы, а реки несли массу ила, как и предсказывал Эверар де Барр. Когда же участники крестового похода спустились на прибрежную дорогу, трудностей не стало меньше. Рыцари были вынуждены спешиться, множество коней пало от истощения. Стадо баранов, которых они вели с собой для пополнения запасов продовольствия, утонуло в реке. Потоки воды вырывали детей из рук родителей. Многие рыцари были настолько слабы, что не могли держать меч.
Однажды утром Арнольд в который уже раз вытаскивал лошадь с поклажей из илистой реки. На берегу и Арнольд, и лошадь упали совершенно обессиленные. Когда же Арнольд посмотрел на реку, он увидел повозку, которую нес желтый поток. Она закружилась в водовороте, из нее вывалились дорожные сундуки и сразу же были подхвачены течением. Они приближались к берегу, то погружаясь под воду, то всплывая. На них хорошо была видна огромная буква «Е», украшенная завитушками.
Снова поставили мокрую палатку, у костра разложили мокрые шкуры, а люди сидели в мокрых одеждах, пили горячее вино с пряностями, пытаясь согреться, и обсуждали ситуацию. От посла узнали, что император Мануил имеет своих лазутчиков в непосредственной близости от участников крестового похода, и эти лазутчики держат его в курсе всех событий. Как-то одного шпиона поймали и устроили ему допрос. Он язвительно смеялся, что императору Мануилу нечего беспокоиться за свои владения в Сирии, так как войско крестоносцев уже не представляет опасности. Теперь император может выполнить свое обещание и предоставить крестоносцам город Эфес в качестве зимнего лагеря. Лазутчик сказал, что греческий император предупреждает крестоносцев о риске наткнуться на многочисленное турецкое войско, которое блокирует прибрежную дорогу дальше на юге. Императорский посланник уже спешит с этой вестью к императору Конраду.
Император Конрад больше не доверял Мануилу и вернулся с остатками немецкого войска на зимовку в Константинополь. Что же касается Людовика Французского, то он, движимый упрямством и честолюбием, продолжал свой путь.
В последующие дни без перерыва шел снег с дождем. Когда Арнольд, утомившись, склонился к шее своей истощенной лошади, в его воображении предстали разноцветные и прекрасные картины. Он вспомнил кухню в родном доме, в очаге потрескивали дрова, от яркого огня летели искры. За столом сидела мать, она подкладывала Филиппу румяную лепешку. Молодая жена Филиппа готовила фруктовое пюре. Арнольд вздрогнул и очнулся. Явь была серой: серые деревья, скалы, море, по берегу которого они ехали. И люди были серые, и снег — серый.
Лошади были серые от дождя и ила, и поклажа была серая. Хорошо Филиппу! Если бы он знал, как здесь ужасно, он не ходил бы повесив голову.

Невыполненный приказ
Через четыре дня после Рождества крестоносцам встретились остатки немецкого войска под командованием епископа Фрайзингенского. Как же жалко выглядели его рыцари! Грязные, в лохмотьях, без коней. Раненые сидели на немногочисленных повозках, крича от боли, теснимые со всех сторон детьми с пустыми взглядами, чье место они заняли.
Как только король со своей свитой достаточно приблизился, Отто Фрайзингенский закричал ему не своим от ужаса голосом:
— Остановитесь, сир! На том участке гор, который вам предстоит преодолеть, стоит большое турецкое войско, готовое напасть на вас, как оно напало на нас. Вы можете пересчитать, сколько нас осталось. Скалы так обагрены кровью моих товарищей, что можно подумать, будто их раскрасил художник.
Тотчас же король призвал посланников и отправил их к командующему арьергардом Жоффруа де Рансоню со следующим приказом: «Сегодня вечером не отправляться ни в одну из горных долин!»
Посланник звонким голосом повторил приказ:
— Сегодня вечером не отправляться ни в одну из горных долин!
Затем он сел на своего коня и поскакал вперед.
В тот день Арнольд вместе с Грегуаром ехали позади свиты короля, в которой находился магистр Эверар. Они тоже слышали королевский приказ, так как посланник повторил его достаточно громко. Поэтому они удивились, что в течение часа все еще не был подан сигнал к привалу. Эверар отделился от свиты, подмигнул Арнольду и Грегуару, чтобы они следовали за ним, и присоединился к когорте тамплиеров. Юноши заметили, как Эверар обменялся со своим слугой взглядами, полными понимания.
Арнольд чувствовал, что эти люди могут без слов передавать друг другу свои мысли. Правда, тамплиеры всегда ехали молча; и все же здесь царило особенно многозначительное молчание. Молчал и Грегуар.
К вечеру пришло сообщение, что Жоффруа де Рансонь не выполнил приказ короля. Он уже отправился с авангардом в полном составе в одну из высокогорных долин. У короля не было выбора: чтобы не потерять свой авангард, ему следовало догонять де Рансоня.
— Теперь ты можешь помогать мне молиться, товарищ! — мрачно сказал Грегуар, — скоро у меня для этого не будет времени.
Войско поднималось в межгорную долину, которая становилась все более скалистой, узкой и непроходимой. Своих коней тамплиеры осторожно вели под уздцы. Багаж им не мешал, потому что ни у кого не было более двух плетеных кожаных мешков — из одного торчали тяжелые доспехи, в другом находились постельные принадлежности, полотенце, посуда и одна смена нижнего белья.
Все остальные, рыцари, дамы и пилигримы побогаче, путешествовали с сундуками и ящиками и мучились на этой страшной дороге. Слева вздымались крутые утесы, справа зияли жуткие пропасти. Падали глыбы камней, с грохотом катились в пропасть, увлекая за собой все, что попадалось на пути: людей, коней, повозки.
Греки и турки с единодушным злорадством смотрели на это ужасное зрелище с горных круч.
Вскоре стало ясно, что расщелина полностью перекрыта. Начало смеркаться. Этот момент сарацины избрали для атаки. Они рассчитали точно, поскольку авангард был уже по ту сторону перевала, а арьергард застрял в межгорной долине. Своими меткими стрелами турки разили крестоносцев, и те летели в пропасть, как подстреленные зайцы. Вопли пронзали небо, но небо оставалось безучастным. Единственным спасением, которое оно могло принести, была ночь. Изможденные до полусмерти, люди падали там, где стояли, и тотчас же засыпали. Войску — или тому, что от него осталось, — требовалось три дня для прохождения перевала. То и дело оно натыкалось на засады турецких лучников, стервятниками нападавших на обессиленных и беспомощных крестоносцев. Наконец войско вышло на более широкое плато. Когда они подсчитали, сколько осталось людей, то выяснилось, что лишь тамплиерам удалось сохранить своих воинов, коней и поклажу. Только они оказались бойцами, готовыми к суровым условиям, и у них были необходимая осмотрительность и осторожность, а кроме того, непревзойденная дисциплина.
Король с совершенно осунувшимся лицом вышел перед войском и, взяв за руку магистра Эверара, обратился к рыцарям с такими словами:
— Господа! Мы потеряли почти все, что у нас было. Большинство наших рыцарей погибло. Многие тяжело ранены. Трупы наших коней устилают этот путь скорби. Много наших товарищей в страхе покинули нас. На всех горных вершинах подстерегают сарацины и греки, ожидая окончательной нашей гибели. И все-таки сердца наши бьются за дело Святой Земли, и нам нужно следить за тем, как выполняем мы наши обеты. Поэтому я прошу вас, прислушавшись ко мне, избрать самого достойного из вас, магистра ордена тамплиеров господина Эверара де Барра, командующим нашим войском в этот момент, когда, по сути дела, мы уже потерпели поражение. Если вы желаете, чтобы так было, отвечайте мне!
— Да будет так! — сурово прозвучало из толпы.
— Никто не имеет права, — продолжал король, — принуждать к чему-нибудь тамплиера. Поэтому я спрашиваю вас, магистр Эверар, согласны ли вы исполнять это поручение безо всякого принуждения и насилия с нашей стороны? Так отвечайте же мне!
— Я буду выполнять возложенное на меня задание всеми силами моего сердца, моего разума и моей руки, держащей меч, и да поможет мне Господь.
— Давайте же поклянемся быть заодно во всех грядущих опасностях. Давайте поклянемся — независимо от того, к какому сословию относится каждый из нас, — никогда не бежать с поля боя, но во всем слушаться указаний господина Эверара! — в знак клятвы король высоко поднял руку, чтобы все ее увидели.
После этого то же самое сделали богатые и бедные, рыцари и оруженосцы, и все пилигримы. Они подняли руку в знак клятвы и сказали: «Клянемся!»
Магистр Эверар велел своему маршалу организовать крестовый поход по-новому, и каждый должен был подчиняться его приказам. Ненужные для похода вещи были брошены. Оружие распределили поровну, и в боевом порядке под руководством тамплиеров участники похода покинули плато и начали спускаться с нагорья.
Тамплиеры шли в авангарде. Замыкали их строй оруженосцы со связками копий, и у каждого был запасной конь.
Маршал тамплиеров шел впереди основного войска. За ним следовал его заместитель с черно-белым знаменем тамплиеров, его прикрывали десять рыцарей-монахов. Так как в левой руке он должен был держать знамя, а в правой руке — поводья, то не мог сам защищаться.
В группе знаменосцев находился комтур, который на случай необходимости нес второе знамя тамплиеров, обернутое вокруг копья.
Знаменосец с орифламмой шел первым в основном войске. В центре его ехали король и королева со своими свитами. Позади основного войска двигались траурная процессия пилигримов и обоз раненых, которые могли надеяться только на арьергард. Видя, что и арьергард у тамплиеров готов к боевым действиям, они приободрились.
Турки заметили перегруппировку в рядах крестоносцев. Из страха перед тамплиерами они больше не отваживались на нападения. В последующие дни, встречая все меньше турецких и греческих лазутчиков, крестоносцы воспряли духом, и даже страсть Грегуара к шуткам постепенно возвратилась.

Голод
Портовый город Саталия на юге полуострова Малая Азия, как и многие подобные города, за свое долгое существование сменил не одно название. Каждый, кому он принадлежал, перекрещивал его на свой лад. В то время он принадлежал грекам.
Крестовый поход под предводительством тамплиеров достиг этого города без каких-либо происшествий.
Под стенами города Эверар де Барр подъехал к Арнольду.
— Каменотес, — сказал он ему приглушенным голосом, — в ближайшие дни я отплываю вместе с королем и его свитой в Антиохию, несмотря на то, что пора весенних штормов еще не прошла. Французские бароны больше не хотят идти сухопутными дорогами и угрожают королю мятежом. Поэтому мне с братьями необходимо быть рядом с королем. Это означает, что больше не останется подразделений нашего войска, защищающих пилигримов. Поэтому я согласился поехать с ними с одним условием: король должен нанять у правителя этого портового города вооруженных людей, которые обеспечивали бы охрану наших пилигримов на их пути в Антиохию.
Иди вместе с этими паломниками; и, когда мы снова увидимся в Антиохии, ты должен будешь точно описать пройденный вами путь. Я хочу также знать, допускает ли греческий правитель турецких воинов на свою территорию и попадутся ли вам по пути отряды греческих всадников, направляющиеся в сторону Антиохии. Надеюсь, что паломники доберутся до Антиохии в добром здравии и в полном составе, и прошу на это благословения Господня. Ты все понял, что я сказал?
— Я понял вас, господин.
— У тамплиеров, — продолжал магистр Эверар, — на Востоке имеется обширная сеть осведомителей. Но в этой области, где тыл принадлежит туркам и лишь прибрежная полоса — грекам, у нас осведомителей нет.
Он вынул из мешка кошелек и передал его Арнольду.
— Никогда не клади эти деньги в свой багаж! — предупредил он. — Для тебя и твоего осла провианта хватит на восемнадцать дней. Если тебе захочется поесть по дороге, проследи за тем, чтобы часть еды у тебя оставалась. Покупай по возможности вяленое мясо, но не подвешивай его к седлу, а заворачивай в овечью шкуру. Ночевать же ты должен в стороне от главного лагеря, как ночуют тамплиеры.
Магистр Эверар озабоченно смотрел на паломников, расположившихся лагерем под городскими стенами Саталии. Потом с глубоким вздохом перевел взгляд и обратился к Арнольду:
— У тебя есть посуда?
Когда Арнольд ответил, что есть, он попрощался:
— С Богом, каменотес! — повернул своего коня и снова присоединился к свите короля.
Первые рыцари уже въезжали через ворота Саталии в этот портовый город. Среди них Арнольд заметил и королеву. Согнувшись, она сидела на кляче. Плащ, в который она закуталась, совершенно выцвел и был покрыт толстым слоем грязи. Волосы королевы прикрывал грубый платок. Ее впалые щеки прорезали глубокие морщины. Изумрудные глаза были тусклы, она мрачно смотрела на короля, похожего в своих лохмотьях на обнищавшего священника. Куда пропало сияние ее глаз? Где ее красота, так поразившая Арнольда? На веселых праздниках во Франции трубадуры слагали в ее честь стихи и песни. Теперь в это с трудом верилось. Исполненный сострадания, Арнольд смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду в городской сутолоке. Затем он обернулся, так как Грегуар тронул его за рукав.
— Каменотес, — сказал он хрипловатым голосом, — я не стану сожалеть о том, если буду трижды в день читать «Отче Наш» ради нашего свидания.
— Я тоже, — ответил Арнольд печально. Он передал оруженосцу магистра Эверара коня, одолженного у тамплиеров, и Грегуар со свитой отправился в город, не оглядываясь назад.
После того как рыцари вошли в Саталию, городские ворота закрылись, и Арнольда, который как раз хотел купить осла, не пропустили в город. Ему сказали, что паломники в городе нежелательны. Если же он намеревается что-нибудь купить, то должен ждать, пока торговцы не выйдут за ворота.
В замешательстве Арнольд повернул обратно. То, что он услышал у ворот, совсем ему не понравилось. Еще меньше понравился ему тон, каким это было сказано. Он забросил свои пожитки на спину и побрел обратно по той дороге, где шли крестоносцы. Арнольд вспомнил, что недалеко от города ему встретилась деревня. Вероятно, здесь ему кто-нибудь продаст осла, хотя бы не слишком дряхлого.
И действительно, ему удалось раздобыть вполне приличного осла. Крестьянин, которому принадлежал осел, дал в придачу какое-то подобие седла, подпругу и недоуздок. Совершенно неожиданно к нему пришла удача, и он сделал доброе дело. Потирая руки, крестьянин глядел вслед отъезжающему Арнольду, который торопился не пропустить момент, когда паломникам откроют городские ворота.
Но у ворот никакой спешки не было, и пилигримы неделю за неделей ожидали обещанную когорту наемников, которым заплатил король Франции. Первую неделю они ждали с нетерпением, затем навалилось равнодушие. И, наконец, они почти перестали верить в то, что их пропустят.
День ото дня продовольствие становилось все дороже. Паломники получали только то, что торговцы выносили за городскую стену. Чем сильнее становился голод, тем больше свирепствовали ростовщики. Тому, кто израсходовал все деньги на пропитание и распродал все свое имущество, оставалось только умереть, ибо паломники давно утратили сострадание друг к другу. По оставшемуся имуществу каждый мог отсчитать, сколько ему еще суждено прожить. День ото дня умирало все больше людей, и ни у кого не было сил хоронить их. Трупы просто бросали в море. Детей приучали к воровству. Они обворовывали не только паломников, их посылали красть и в город. Часто они не возвращались после таких вылазок, так как малолетних воришек, особенно не раздумывая, убивали.
В лагере паломников образовались две группы. Одна из них не хотела идти дальше. Лучше погибнуть здесь, под стенами этого портового города, чем навлечь на себя новое, вероятно, еще большее зло! Другие, которые были немного покрепче, хотели продолжать поход.
В конце концов из ворот выехали наемники, выкрикивая громкие команды. Пилигримы спешно попытались встать в строй. Но до чего же жалкой была кучка этих людей! Почти все они были пешими, большую часть багажа они продали ростовщикам. Арнольду с невероятным трудом удавалось прокормить осла, хотя каждый день он водил его в речную долину, где поил пресной водой. К тому же он обнаружил дерево с сухими сливами, оставшимися с прошлого года. Но все равно содержимого его кошелька больше не хватало на пропитание. Арнольд хотел сохранить несколько динариев на черный день. Но могут ли быть дни чернее тех, которые они переживали?
Рядом с Арнольдом стоял человек могучего сложения. Он пытался отцепить от своей ноги тощую девочку лет восьми, которая крепко за нее ухватилась.
— Ты от меня отцепишься, дура? — он сильно ударил ребенка. — Дал этому карлику погрызть кость, — хрипло сказал он, — с тех пор не отходит от меня, — мужчина поднял ребенка, чтобы швырнуть на землю, в которой уже нашел покой его друг.
И тут Арнольд в непонятном порыве бросился к нему и схватил девочку, он прижал ее к своим лохмотьям и посадил на осла.
— Ты, парень, сошел с ума от голода! — закричал его сосед. — Разве ты не понимаешь, что берешь себе дармоедку, которая высосет из тебя кровь! Ее родители были точно такими же. На прошлой неделе они издохли!
Девочка, сжавшись, сидела на осле. Она цеплялась за его гриву, словно за последнюю соломинку, и в ужасе искоса смотрела на мужчин.
Процессия паломников тронулась в путь. Огромный мужчина шел в их рядах со своей тележкой. И для Арнольда с его ослом также нашлось свободное место.
Арнольд уже пожалел о своем поступке. В дурном настроении плелся он вместе с остальными паломниками. Зачем он взвалил на себя эту обузу? Ведь ему самому едва удается выжить. Он бросил на девочку недовольный взгляд: она неподвижно сидела на спине осла. «Это не дитя, — говорил себе Арнольд, — скорее, это звереныш!» И он решил как можно быстрее избавиться от нее. Как-то вечером, когда они расположились лагерем на берегу моря, он пробормотал:
— Вот теперь я это сделаю!
Но он взял спрятанный кусок мяса, оторвал от него небольшой ломтик и бросил девочке. Она стала молча жевать, и жевала очень медленно, чтобы еда подольше оставалась во рту.
Так проходил день за днем: не разговаривая, ехали вперед, по вечерам устраивали привалы; когда находили что-нибудь съестное, жевали и вновь пережевывали. Никого больше не заботило, сколько осталось проехать до Антиохии. Молча и равнодушно паломники передвигали ноги. Тот, кто не мог идти дальше, оставался лежать на дороге. Никто не возвращался к этим людям. Все стало безразлично.
И гнев Арнольда на ребенка, заботу о котором он взял на себя, сменился равнодушием. Со временем у девочки смягчились ее звериные повадки. На привалах Арнольд бросал ей пищу, без которой мог обойтись. По ночам он подстилал ей шкуру. И даже не задумывался о том, что она занимает его место на осле.
Как-то вечером — они уже не помнили, какой по счету это был вечер их пешего пути, — Арнольд как обычно лег спать за пределами лагеря. Густой и высокий прибрежный кустарник доходил до самого лагеря. Арнольд привязал осла к кустам и, как обычно, прикрепил камень к его хвосту, чтобы осел не бродил и не беспокоил людей своим криком. Все стихло. Только запах костра все еще висел в воздухе. Ребенок спал, и Арнольд склонился над ним в полузабытьи. Он тоже заснул.
Арнольд не знал, долго ли спал, как вдруг что-то закрыло ему рот. В испуге он проснулся и увидел, что ребенок стоит рядом с ним на коленях и держит руку у его рта:
— Тсс! — сказала девочка, прежде чем Арнольд успел дать выход своему гневу. Она указала на кустарник. Арнольд прислушался к звукам, доносившимся из темноты. За кустами он услышал негромкое бряцание оружия и приглушенные мужские голоса: обрывки разговоров на греческом языке,которого Арнольд не понимал.
Немного погодя собравшиеся покинули место, где они держали совет, и снова воцарилась ночная тишина. Арнольд встал и потянулся.
— Ты храпел, — сказала девочка, прежде чем Арнольд успел спросить ее, что все это значит. — Это могло быть опасно, — добавила она. — Там были греческие наемники.
— Откуда тебе это известно? — поинтересовался Арнольд.
— Сквозь ветви я видела их фигуры. Они говорили странные вещи.
— Они же говорили по-гречески, — напомнил Арнольд.
— Я знаю.
— Значит, ты понимаешь их язык?
— Я понимаю не все слова, но довольно много. Моя мать была дочерью греческого купца. А в порту Саталии я дралась с греческими детьми за объедки с корабля.
— И о чем же они говорили, эти наемники?
— Один сказал: «Это так далеко», а остальные хихикали.
— По-видимому, это не наше дело, — грубо сказал Арнольд.
— Затем еще один сказал: «Мы договоримся, как только окажемся в Киликии».
— В географии здешних мест я не силен, — пробормотал Арнольд.
— И еще один сказал, — уверенно продолжала девочка: — «Для крыс не требуется слишком много. Их нужно только кормить, и тогда из них вырастут львы!» В конце концов они договорились.
— О чем договорились?
— О каком-то знаке. Больше я ничего не поняла.
— А я вообще ничего не понимаю, — сказал Арнольд и задумчиво покачал головой.

Великое преступление
На следующее утро Арнольд двигался в середине вереницы пилигримов. День прошел, как и все предыдущие: ничего необычного не случилось. Арнольд и девочка собрали немного дров, поскольку в тот вечер они намеревались сварить мясо, которое у них еще оставалось. В первый раз солнце сияло долго, и пилигримы слегка воспряли духом и ускорили шаг.
Ночной привал они устроили в устье горного ручья. Чуть в стороне Арнольд разложил костёр из дров, которые они принесли. Огонь ярко разгорелся, и Арнольд поставил на него котелок с едой. Скоро бульон начал аппетитно пахнуть. Девочка с жадностью смотрела на высоко поднимающийся пар. Наконец она молча и сосредоточенно стала жевать то немногое, чем с ней честно поделился Арнольд. После этого каменотес засыпал песком горячий пепел, и на этом месте они улеглись спать. Тепло, проходившее сквозь песок, убаюкивало.
Такой же теплой была кухня каменотесов в Лионе. Филипп стоял у очага и махал рукой брату. Молодая женщина укачивала ребенка. Что это за ребенок?
— Ты ведь знаешь, — сказал Филипп, — это мой сынишка.
«А где же его мать?» — хотел спросить Арнольд. И тут он проснулся. Луна струила белый свет и бросала черные тени на прибрежный песок. Некоторое время Арнольд смотрел в высокое небо, на котором виднелись созвездия ранней весны. Они выглядели не так, как у него на родине. Он посмотрел на место, где обычно спал ребенок. Оно было пусто.
Арнольд почувствовал щемящую боль в груди. Ему не хотелось думать, что девочка ушла к другим людям, у которых было больше еды. И все же он в это поверил. Но почему она покинула его тайно? С горечью он думал о том, что сделал для девочки. Да, такова жизнь. А что же он предполагал? Человек всегда ищет, где лучше. Пока он предавался этим мыслям, за его спиной послышалось шуршание. Он надвинул кожаную шапку на затылок и схватил дубину. Затем осторожно обернулся.
Сквозь кусты к нему пробирался ребенок. Молча девочка положила рядом с Арнольдом какой-то предмет. Ножны от турецкого кинжала!
— Где ты это стащила? — сердито спросил Арнольд. Ребенок смотрел на него большими глазами, не понимая причины его гнева.
Арнольд отвернулся, испытывая чувство стыда. Он внезапно понял, что привязался к этому ребенку. «Она могла бы быть моей дочерью», — мимолетно подумал каменотес. Он посмотрел на девочку и сказал:
— Прости меня, я не должен был обижать тебя.
Девочка медленно кивнула, словно обдумывая, что Арнольд имеет в виду. Затем сказала:
— В лагере турки.
— Что? — воскликнул Арнольд и тут же вскочил. Девочка подозвала его поближе.
— Они дали наемникам короткие веревки, — прошептала она. — Они называют их «крысиные хвосты», и все при этом смеются.
Арнольд ничего не понял. Может быть, девочка сошла с ума от голода? Но ведь нет, вечером она ела.
— Затем турки дали им еще половину суммы, — уверяла девочка.
— Какую половину, какой суммы?
— Другую половину они должны получить завтра.
— А за что они должны получить деньги?
— За крыс, — твердо сказал ребенок. Затем девочка легла, завернувшись в шкуру, и уснула в тот же миг.
Арнольд покачивал ножны от кинжала в руке, словно пытаясь определить их вес, и размышлял над загадочным рассказом девочки. Наконец он недовольно бросил ножны на песок. «Кто знает, — подумал он, — что мог сочинить этот ребенок!» Он с сочувствием посмотрел на маленькое существо, свернувшееся у его ног. Арнольд признался себе, что очень рад возвращению девочки. Но даже если он и не совсем верил в то, что она сообщила, на следующий день он решил быть особенно осторожным.
Утром чуть свет он прошел со своим ослом через весь лагерь. Паломники еще не были готовы отправиться в путь.
— Эй вы там, куда это вы собрались? — закричал наемник Арнольду с девочкой таким тоном, словно они сделали что-то недозволенное.
— К ручью!
Арнольд заметил, что в последний вечер ни один из пилигримов не развел костра. Возможно, они для этого были слишком обессилены. Возможно, у них совершенно не осталось ничего съестного, что можно было бы приготовить на огне.
У ручья паслись кони наемников. К их седлам были привязаны веревочки. Раньше веревочек не было. Откуда они взялись? Выходит, что ребенок все же был прав? Он посмотрел на девочку, и она кивнула головой.
— Крысиные хвосты! — сказала девочка.
Пока осел переходил ручей вброд, девочка сидела на нем, вцепившись в гриву, как тогда в Саталии. Осел своей обычной рысцой перешел на другую сторону ручья. Мысли Арнольда путались. В это утро он настолько устал, что уснул на ходу.
Над крутым откосом, возвышавшимся слева от дороги, взошло яркое солнце, и его сияние было таким сильным, что сразу же стало надоедливым. Ребенок хотел пить, и по пути они пили из кожаной фляжки, которую утром наполнили водой из ручья. От остальных паломников они значительно удалились. Когда Арнольд остановил осла, солнце уже поднялось высоко. Создалось впечатление, что этим утром у них выветрились все воспоминания о шествии паломников.
Впервые он огляделся. Холм, мысом выдающийся в море, скрывал от него паломников. Но вскоре передняя часть их колонны должна была достигнуть извилины мыса.
Море виднелось глубоко внизу, так как дорога вилась серпантином высоко по холму. Девочка показала Арнольду в даль, где на фоне пурпурной синевы вырисовывался парусник. Затем они снова посмотрели на дорогу, по которой вслед за ними шли паломники. Очень далеко можно было разглядеть множество точек, спускавшихся на прибрежную дорогу. Возможно, это были всадники, приехавшие со стороны боковой долины. Прибрежная дорога в этом месте сужалась, как в тисках, между крутым мысом и морем.
Точки остановились по обочинам дороги, словно чего-то ждали. Арнольд всматривался в даль как зачарованный. Ребенок также не двигался.
— Турки, — почти беззвучно сказала девочка, — разве ты их не видишь?
Среди турок на дороге возникло еще множество точек: вереница паломников! Глаза у Арнольда начали слезиться. Там, на изгибе мыса движение замерло. Отдельные точки теперь невозможно было различить. Так продолжалось довольно длительное время, а солнце поднималось все выше. Тень осла теперь лежала на земле прямо под его копытами.
Наконец точки, подобно длинной гусенице, поползли по дороге, и вскоре можно было разобрать отдельные детали обоза пилигримов. Всадники в разноцветных одеждах сопровождали его с флангов, но это были не наемники, посланные королем для защиты пилигримов.
Арнольд потянул осла за уздечку, но тут же снова остановил его. Он не мог уйти, поскольку обещал магистру Эверару наблюдать за всем, что будет происходить с пилигримами, и проследить, откуда появятся турки. Он заметил, что девочка внимательно смотрит ему в лицо. Она показывала вверх на крутой склон, нависавший над дорогой. Девочке удалось разгадать мысли Арнольда. Арнольд кивнул головой.
Он слез с осла и начал карабкаться по склону. Но разве осел туда взберется? Арнольд понял, что должен бросить осла, если желает в безопасности подняться на гору. Поспешно он отвязал от подпруги шкуру и фляжку с водой.
— Во имя Господа! — сказал Арнольд, тяжело дыша, и дал ослу такого пинка, что тот взревел и помчался галопом. Затем Арнольд полез вверх по обрыву и устроился под деревом на полдороге к вершине.
Вереница паломников медленно приближалась, вели ее вооруженные турки Наемников больше не было видно. Пилигримы теперь шли вообще налегке: без багажа, без ослов, без собак, тянувших тележки. Крайние в каждом ряду были связаны веревками, таким образом шеренги были как бы ограждены забором.
Турки выкрикивали непонятные слова и избивали бичами несчастных людей. С сарацинскими словами они перемешивали обрывки французских фраз: «Подонки! Собаки! Крысы!»
Крысы? Арнольд вздрогнул. Кажется, о крысах что-то говорила девочка. «Их нужно только кормить, и тогда из них вырастут львы!» Внезапно он понял, что здесь было совершено предательство: греческие наемники из Саталии, посланные королем Людовиком для защиты пилигримов, продали их всех в рабство туркам. Словно в видении, перед Арнольдом предстало озабоченное лицо магистра тамплиеров Эверара де Барра в тот момент, когда он прощальным взглядом окинул войско пилигримов.
Жители Саталии, которые сами были христианами, воистину хорошо подготовили это мошенничество! Как пиявки, высосали они пилигримов, и теперь эти бедные, изголодавшиеся, эти равнодушные и потерявшие присутствие духа люди больше не могли оказывать сопротивление. Так вот зачем их продержали больше недели за пределами городских стен!
Что же теперь оставалось от войска крестоносцев, отправившихся в поход из Франции и немецких земель? Как насмешку и издевательство воспринимал теперь Арнольд пламенный, воодушевленный призыв аббата Бернара к крестовому походу: «Господь хочет этого!» Разве Господь этого хотел?
Солнце уже висело далеко над морем, когда Арнольд решился покинуть свою засаду и спуститься на дорогу. Девочка шла за ним, хотя он ее не звал. Арнольд тяжело ступал со своим узелком, ничего не видя вокруг себя.
Там, где исчезли проданные пилигримы, дорога делала изгиб влево и шла теперь вдоль реки. Золотое море пропало из виду. Там вверху, подумал Арнольд, оно, вероятно, снова будет видно. Вероятно, там должен быть и мост через эту реку. Мост оказался для него бесценным подарком! Он обернулся к ребенку: наверное, девочка также обрадуется мосту.
Но ребенок лег на землю и издал столь жалобный стон, что Арнольд содрогнулся. Девочка свернулась клубочком и, прежде чем Арнольд дошел до нее, заснула.
Да, она спала. Слава Богу, она только спала: она не была ни обессилена, ни мертва. В своем сердце Арнольд ощущал большую благодарность. Он уложил ее под кустом и накрыл шкурой. Затем он сел в тени рядом с ребенком и задумался. Арнольд размышлял обо всем, что произошло с тех пор, как он покинул родной город. Ему показалось, что в пути он находится уже сотни лет. Все воспоминания были какими-то бледными и незначительными: лишения, опасности, ужасы войны. Только медленно тянущаяся вереница пленных будоражила его душу. Но с каждой минутой безразличие все больше овладевало Арнольдом, и даже мысль о том, что он сам чуть не попал в ряды проданных, не трогала его.
Солнце скрылось в море, оставив на небе узкую полосу заката. Арнольд почувствовал голод, но есть было нечего. Тяжело вздыхая, он лег. Засыпая, он думал о том, как молился, будучи ребенком. Но о чем — этого Арнольд уже не помнил.
Ночь была очень холодная. Девочка во сне хныкала. Арнольд плотнее завернул в шкуру ее тщедушное тельце. Затем с открытыми глазами он стал дожидаться утра.
Они лежали, пока солнце не поднялось над горой. Зачем им вставать? Подумав о том, как мала та часть пути, которую они смогут пройти за день, они остались лежать. Утреннее солнце так хорошо согревало их окоченевшие руки и ноги! Мысль о смерти не пугала. Поблизости они услышали какой-то звук и в тревоге вскочили.
— Осел! — закричала девочка, — разве ты его не слышишь? — до них уже отчетливо доносились крики «иа».
Серый их друг пасся на берегу. Выглядел он сытым и умиротворенным. Какое-то растение с крохотными блестящими листочками росло у самой воды. Арнольд подполз на животе и оборвал листочки. Девочка вслед за ним сделала то же самое. Они сели на камень и съели листья, словно большой деликатес. Затем поймали осла.
Арнольд сел на осла, который теперь был навьючен только фляжкой с водой, шкурой и горшком для еды, и посадил девочку впереди себя. Ровно и уверенно осел перебирал копытами, и от этой мерной рыси ребенок вскоре заснул, мысли Арнольда начали путаться, и он оказался между бодрствованием и сном.
Через день они подъехали к деревянному столбу, который был вбит в землю около дороги. На его верхнем конце был вырезан крест тамплиеров, под ним — арабская пятерка. Арнольд остановил осла. Он разбудил ребенка, который последние дни почти все время спал, и сказал:
— Посмотри на этот столб! Это прекраснейший подарок из всех, которые нам могло сделать Небо.
Девочка не поняла его. Но Арнольд дрожащим голосом сказал:
— Мы въехали в пределы христианских владений на Востоке, — и спустя некоторое время добавил: — Еще пять дней пути до дома тамплиеров в Антиохии. На это указывает колонна. Тамплиеры расставили такие указатели по всему христианскому Востоку.
Девочка ничего не ответила. У нее просто не было Сил радоваться.
Франкские пограничники вышли им навстречу на дорогу.
— Куда? — закричали они уже издалека.
— Магистр тамплиеров Франции ожидает меня в Антиохии, — ответил Арнольд, когда они поравнялись с ним.
— Тебя? — пограничники недоверчиво осмотрели с головы до ног ребенка, осла и молодого человека. — Ты что-нибудь знаешь о крестовом походе паломников? — поинтересовались они. — Дело в том, что мы ждем его участников.
Язык Арнольда внезапно стал сухим.
— Похода паломников больше нет.
— Послушай-ка! — сказал другой стражник первому, — разве ты не видишь, что парень с девочкой скоро могут отдать концы! Не расспрашивай их долго, а лучше дай им напиться!
Стражники дали им напиться из своих бутылок и бросили им в руки сушеные фрукты. Арнольд сбивчиво рассказал о том, что он пережил. Затем всадники отвезли Арнольда к старой женщине, которая жила в ближней деревне; язык этой женщины он не понимал. Они объяснили, что она должна как следует позаботиться о путниках, и на двери ее дома нарисовали тамплиерский крест. К тому же они добавили, что заплатят.
Старуха поняла и засмеялась. Ее это устраивало. Что-то ласково приговаривая на своем языке, она сняла девочку с осла, завернула в полотенце и прижала к груди. Она отнесла ребенка в хижину и положила на свой соломенный мешок. Затем она показала Арнольду на небольшое полуразрушенное стойло за домом, куда он мог поставить осла. Она сварила похлебку, добавила туда немного молока и придвинула к Арнольду глиняный горшок. Девочку старуха кормила деревянной Ложкой, и малышке казалось, что она находится в раю.

Добрый город
У старухи они жили до тех пор, пока не обрели силы для путешествия. Девочка помогала пасти козу. Арнольд привел в порядок обветшавший хлев. Когда они расставались, старуха дала им сушеных фруктов, мешочек зерна и вяленую рыбу.
Арнольд уехал от старухи довольный. Однако по дороге он вдруг заметил, что ребенок тихо плачет.
— Я должен был оставить тебя у старухи, — сказал он с некоторой горечью.
Но девочка вытерла слезы, гордо выпрямилась и сказала:
— Мне хорошо с тобой.
Больше они ни о чем не говорили друг с другом.
К вечеру пятого дня путники добрались до выступа скалы, с которого открывалась широкая перспектива. У их ног простиралась плодородная долина, пересеченная блестевшей серебром рекой. На берегу ее был расположен город с многочисленными башнями и мощными крепостными стенами. Центр города был также обнесен стенами.
Арнольд не отрывал глаз от города.
— Я каменотес, — сказал он, — поэтому мне хочется смотреть и смотреть на этот город. Я представляю, как возводились эти башни и стены.
— Где у тебя семья, каменотес?
— В Лионе. А этот город называется Антиохия. Он очень красивый.
— Ты уверен, что с нами ничего не случится, если мы войдем в этот город?
— Б этом я уверен, поскольку вот уже тридцать лет он безраздельно находится в руках французских крестоносцев.
— Разве это справедливо, когда других людей лишают права обладать таким прекрасным городом? Разве это нельзя назвать кражей? Когда в Саталии мы занимались воровством, нас могли убить, если бы поймали; И многих из нас, детей, действительно убивали, только ты этого не знаешь.
Арнольд ничего не смог на это ответить.
Спустя мгновение девочка сказала:
— Если этот город окажется добрым ко мне, я в нем останусь.
Молча они проехали по большому мосту, миновали массивные ворота и оказались среди прекрасных дворцов и домов. Улицы города были вымощены. На одной из площадей стоял высокий фонтан с водой, падающей на каменную тарелку.
Дом тамплиеров, к которому их подвел житель города, был огромен и хорошо защищен, он имел широкий двор, обнесенный галереей со сводом. В центре двора на стойках висел над костром гигантский котел, из которого распространялся запах мяса и овощей. Прислонившись к колоннам галереи, сидели нищие. Девочка, которую Арнольд снял с осла, подошла прямо к одному из них и спросила его, не обеда ли он ждет, что готовится в этом котле. Нищий сказал:
— Оставайся здесь, скоро мы будем делить еду. Тамплиеры три раза в неделю наливают похлебку в наши миски. Так положено им по уставу. У тебя, наверное, нет миски?
Девочка не ответила. Минуту она смотрела в землю, затем сказала, обращаясь скорее к себе, чем к нему:
— Этот город оказался добрым ко мне.
У привратника Арнольд спросил о магистре Эвераре.
— Я — Арнольд, каменотес из Лиона. Есть ли у тебя какое-нибудь известие для меня?
Привратник почесал голову:
— У меня есть для тебя известие, даже два. Но магистр, о котором ты говоришь, не здесь. Он ждет тебя в иерусалимском доме тамплиеров. Отсюда он только что уехал на военный совет коронованных особ в Аккон. Перед этим он собрал множество золотых слитков в венецианских торговых конторах для короля Франции, поскольку тот все потерял. Если бы это был не магистр тамплиеров, а кто-нибудь другой, то ему не дали бы золота. Только тамплиеров венецианские купцы считают платежеспособными клиентами.
После этой длинной речи он снова поскреб лысый череп.
— А какое другое известие? — быстро спросил Арнольд, — ведь ты говорил и о втором, не так ли?
— Да, да, вот и второе: тебя приветствует тот, кто не забывает трижды в день читать «Отче Наш». Тебе это о чем-нибудь говорит?
— Конечно, говорит! — воскликнул Арнольд. Взгляд его упал на девочку, пытавшуюся снять горшок с осла. Тамплиеры начали распределять еду для бедных.
— Это твой ребенок? — спросил привратник, следивший за взглядом Арнольда. — Здесь есть монастырь «У Святого Копья», там много таких детей. За ними присматривают монахини, — и, заметив, что Арнольд тяжело вздохнул, он сказал: — Теперь иди в наш дворец, а я позабочусь о девочке. Кроме нищих во дворе, мы кормим еще четверых бедняков за столом, а когда в доме находится правитель этой области, то пятерых. Таковы наши правила.
Арнольд пошел в трапезную, которую тамплиеры называли дворцом. Дежурный монах подвел его к длинному столу и предложил сесть. Почти все места за столом были уже заняты. Там сидели монахи, простые воины и люди, у которых на лицах было написано, что они проводят жизнь в углубленных размышлениях, молитвах и заботах о бедных. Все собравшиеся еще раз встали и прочли молитву перед едой. Затем они сели за стол без учета чинов и положения.
Еду подавали в глиняных мисках, по одной на двоих едоков, что чрезвычайно удивило Арнольда.
Бедняк, сидевший рядом с ним и делившийся с каменотесом содержимым миски, толкнул его в бок.
— Ты, наверное, впервые здесь у тамплиеров и поэтому не знаешь их обычаев, — прошептал он. — Во время еды они должны хорошенько следить за тем, чтобы каждый из них ел поровну и оставлял точно такую же часть пищи третьему. Третьим считается неизвестный бедняк.
Арнольд устыдился, что он с такой жадностью набросился на еду, и убрал ложку, хотя сосед пытался помешать ему это сделать.
После еды он взял за руку ребенка, и они отправились в город. Девочка весело подпрыгивала.
— Этот город — добрый город! — то и дело восклицала она. — Совсем не такой, как Саталия, где нас хотели убить. Я два раза получила еду в свой горшок, каменотес, два раза, я не вру.
Они остановились перед монастырем «У Святого Копья», и Арнольд сказал хриплым голосом:
— Мне тяжело с тобою расставаться, но лучше ты останешься у монахинь в городе, который так тебе нравится, — и он дернул за звонок.
Долгого прощания с девочкой не получилось, так как привратница, открывшая им, бросила стремительный взгляд на девочку и все поняла. Она впустила ее и закрыла ворота.
Арнольд поспешил в дом тамплиеров, где ему обещали ночлег. Он печалился о девочке, ставшей ему такой дорогой. Лежа на соломенном мешке и уставившись на керосиновую лампу — такие лампы висели в каждом спальном зале тамплиеров и горели всю ночь, — он думал о том, что завтра отправится к цели своего путешествия — в Иерусалим! Который раз он вспомнил об отце и о собственном детстве в Святом Городе. Теперь он поедет на осле в одиночестве, поскольку ребенок ему уже не принадлежал.
Антиохийский комтур тамплиеров выдал Арнольду документ, разрешавший ночевать в домах тамплиеров, расположенных на побережье. Комтур считал необходимым обеспечить Арнольду, как посланнику магистра Эверара, быстрое и безопасное продвижение.
— Тебе не обязательно, — сказал он Арнольду, — пользоваться этой охранной грамотой. Я дал ее тебе только на крайний случай.
Арнольд спустился к морю и по прибрежной дороге поехал на юг. Хотя этот путь был и длиннее проложенного через горные отроги, но в горах обитали дикие асассины, оставившие христианскому королевству только узкую полоску земли вдоль моря.
Много путешественников проезжало по этой дороге: воины, крестьяне, погонщики верблюдов, пастухи, паломники и бродячие артисты. Часто встречались здесь когорты тамплиеров, охранявшие этот торговый путь. Когда они мчались на своих конях, караваны уступали им дорогу или останавливались, и равномерный звон верблюжьих колокольчиков тут же стихал.
Обычно Арнольд ночевал под открытым небом, так как воздух весной был приятен и по ночам. Только в Акконе, куда он прибыл на седьмой день после своего отъезда из Антиохии, он остановился в крепости тамплиеров, расположенной за пределами города.
Утром, когда Арнольд вместе со своим соседом умывался водой из уличного колодца, к нему подъехал какой-то тамплиер, предложив провести следующую ночь в касале тамплиеров в Какоуне.
— Я не знаю, что такое касаль, — ответил Арнольд.
— Касаль — это тяжелая и крепкая башня, в которой при необходимости может жить до 80 воинов. В касале имеется собственный колодец. В мирное время в касале меньше обитателей, и тамплиеры, живущие там, главным образом обязаны следить за прибрежной дорогой. Через короткие промежутки времени они сменяются.
Утром над городом висел туман. Но затем солнце поднялось высоко, и стало жарко, как в разгар лета. Шкура осла потемнела от пота, а грива спуталась в толстые мокрые жгуты. В морских городках у колодцев стояло множество других жаждущих, и бедное животное истошно кричало до тех пор, пока не приложилось губами к воде.
На девятый день Арнольд прибыл в Яффу и поехал по портовой улице. Он сидел на осле и разглядывал лес мачт, качавшихся в порту. Теперь он вернулся туда, откуда мальчиком покинул Святую Землю. Слезы подступали к горлу. Тогда Филипп был совсем маленький, и Сюзанна от волнения кусала кончики своих белокурых косичек. Королевский флот поджидал тамплиеров в открытом море. Был ли у них тогда какой-то багаж? Ему врезались в память выкрики капитана и многочисленные гребцы, которые по команде повели судно навстречу волнам. Берег все больше и больше пропадал в дымке, и они с Филиппом заплакали.
Арнольд, тяжело дыша, отвернулся. Он покинул город, хотя наступил уже поздний вечер, и нашел себе ночлег неподалеку от дороги, ведущей в Иерусалим, в заброшенной хижине. Осла он отпустил ненадолго попастись, потом привязал его к забору за хижиной.
В хижине не было ни очага, ни чего-либо другого в этом роде. Вероятно, она служила пристанищем для крестьян, работавших в поле в самое жаркое время года. Он лег на пол, подложив себе под голову свернутую овечью шкуру. Сквозь дырявый потолок и щели в двери, виднелось яркое ночное небо, по которому неторопливо плыла луна.
Арнольд мгновенно перенесся мыслями в шатийонский амбар, где на куче шестов когда-то соорудил себе лежанку. «Почему же, — думал он теперь, — почему в ту ночь рыцари спали в амбаре?» Теперь ему опять вспомнился багаж, который грузили в Яффе на королевские суда. Этот груз был похож на ларцы.
Наконец луна уже не заглядывала ни в одну из щелей, и комната медленно наполнилась темнотой. Также темно было и в Шатийоне. Кажется, что и сам Арнольд слышал беседу рыцарей: «Ларцы!»
Арнольд вскочил. Что это были за ларцы? Рыцари из знатнейших родов тогда сами стерегли их. Значит, они были столь драгоценны! Арнольд напряг память: во всех подробностях он вспомнил, как выглядели ларцы. Он подумал о том, как в Марселе тамплиеры грузили их на корабль и прикрывали мешками. А потом их везли через горы, и пастухи за спинами тамплиеров делали какие-то знаки. Все это было удивительно. Но чем больше Арнольд размышлял, тем меньше от этого было толку, и наконец его одолел сон.

У цели?
На рассвете Арнольд встал и снова пустил осла попастись. Сам он съел то, что еще оставалось у него в сумке, затем привязал шкуру к подпруге. Когда Арнольд взглянул на небо, то увидел равномерную голубизну, и сердце его возликовало, как только он подумал, что уже сегодня — уже сегодня! — будет в Иерусалиме.
По дороге двигались пилигримы и торговцы, которые с таким же веселым сердцем стремились по межгорной долине на восток. Ведь пилигримы были наконец почти у цели: все они жаждали попасть к Гробу Господню, из которого Он воскрес. Они пылко верили в то, что, как и Он, когда-нибудь воскреснут все люди — и не только люди, но и сама земля. Вместе с Ним они хотели вечно жить в лучшем мире в качестве лучших людей. Этот лучший мир с его лучшими людьми они называли «Новый Иерусалим». Святая Земля, из которой Христос вознесся на небеса, и воспринималась как первый Новый Иерусалим.
Торговцы также радовались, ибо они предвкушали хорошие сделки. В портовых городах они покупали товары, в иерусалимских горах рассчитывали выгодно продать их. Каждый посылал другому вслед дружеские приветствия; и вряд ли кто-нибудь из них думал, сколь опасна была эта дорога до того, как тамплиеры стали ее охранять.
Осел стремительно взбирался в гору: ему тоже открылась цель, достойная стремлений паломников. B стороне от дороги оказался колодец, какой-то торговец поил свою лошадь и сказал, что не помнит случая, когда бы он отправлялся в сторону гор без двух бурдюков, наполненных водой.
Солнце быстро склонялось к западу. Арнольд, широко раскрыв глаза, вбирал его свет, золотивший низкие деревья, беловатые камни, серые травы. Свет был так прекрасен, каким бывал только в воспоминаниях Арнольда. Ничего не изменилось. Да, вот он и вернулся. Ужасные картины крестового похода совсем исчезли из его души. Он не придавал им значения. Теперь он видел перед собой только город, пылающий в лучах вечернего солнца.
Арнольд остановил осла, ему послышался детский голосок: «Разве это справедливо, когда других людей лишают права обладать таким прекрасным городом?»
В задумчивости он устремился к Дамасским воротам.
Путь к дому тамплиеров Арнольд еще хорошо помнил: там была главная улица, полная телег, всадников и носильщиков. Через некоторое время с нее можно свернуть налево в узкий переулок, расширявшийся после перекрестка. В этом широком переулке находилась лавка пряностей какого-то сирийца, которую он смог узнать, а затем Арнольд повернул направо и с северной стороны вышел на Храмовую площадь. Все осталось как прежде: роскошная мечеть Омара, называемая христианами Наскальным храмом, сверкала голубым цветом, а ее золотые купола сияли красным цветом. Из мечети аль-Акса, расположенной на южной стороне Храмовой площади, слышались призывы муэдзина, собиравшего мусульман на вечернюю молитву; Арнольд увидел стену, окружавшую двор дома тамплиеров, где в правом углу находилась башенка с бойницами. Он дернул за колокольчик у двери и подождал, пока тот звякнет. Да, именно так и звенел колокольчик, когда в него звонил отец. Затем отец посылал Арнольда обратно домой и входил один.
Ворота открылись. Арнольд был охвачен радостным волнением: перед ним стоял Эсташ, его немой друг, с которым он двадцать лет назад расстался в слезах.
— Эсташ! Ты узнаешь меня?
Они заключили друг друга в объятия. Теперь Арнольд окончательно убедился, что вернулся домой. Они рассматривали друг друга с головы до пят. Эсташу было за сорок, его уважали за то, что он не чурался никакой работы. Только глаза его глядели столь же задумчиво, а в лице, как и двадцать лет назад, было выражение, словно он к чему-то прислушивается.
— Я должен пройти к магистру Эверару де Барру.
Эсташ покачал головой и показал своей широкой ладонью на северо-восток. Затем он взял у Арнольда осла и отвел животное в стойло. Он привязал осла и указал другу на большую обитую железом дверь дома тамплиеров.
Мимо мастерских они прошли на задний двор, и Эсташ провел Арнольда прямо мимо жаровни и корыта с водой в рыцарский зал, который теперь назывался дворцом тамплиеров.
У входа Эсташ остановил Арнольда, поискал кого-то глазами среди многочисленных тамплиеров, собравшихся во дворце, его лицо просияло, и он подвел Арнольда к пожилому человеку. Арнольд узнал в нем господина де Монбара, чьим оруженосцем был Эсташ.
— Кого это ты ко мне привел? — спросил господин де Монбар и повернулся к Арнольду, чтобы услышать от него ответ.
— Я Арнольд, сын Пьера, каменотеса из Лиона.
С ожиданием смотрел Эсташ в лицо господина де Монбара и удовлетворенно кивнул, когда господин де Монбар сказал Арнольду:
— В тебе я приветствую твоего отца. Память о нем никогда не исчезнет в нашем ордене. Есть ли какая-нибудь особая причина, из-за которой ты посетил меня?
— Здесь меня ожидает магистр Эверар де Барр. Я участвовал в крестовом походе в его свите и хочу рассказать ему о том, что видел в пути.
— Господина магистра Эверара нет в Иерусалиме, — сказал господин де Монбар с печальным выражением лица. — Он отправился осаждать Дамаск вместе с войсками германского и французского королей. Наш король тоже с ними. Магистр Эверар возглавляет подразделения нашего ордена, — он сделал паузу, в течение которой смотрел куда-то вдаль, и сказал: — От этой осады мы едва ли много получим, но полководцы из Европы победили нас большинством голосов. Как правило, от европейских крестоносцев не стоит ждать ничего хорошего. Они приезжают в нашу страну только для того, чтобы бить неверных и наживаться. Все усилия, направленные нами, тамплиерами, на установление мира, они сводят на нет. Ведь, по мнению западных христиан, заключать договоры с иноверцами достойно презрения. К сожалению, иерусалимские короли должны придерживаться того же мнения, в противном случае они не получат помощи из Европы. Поэтому они считают справедливым, что мы, тамплиеры, берем на себя всю ответственность и сами заключаем договоры с мусульманами. Ведь только у нас одних есть такая военная мощь, которая позволяет обеспечивать соблюдение этих договоров. Видишь ли, подобный мирный договор мы заключили и с атабегом Дамасским, но королева Мелисанда разорвала отношения с Дамаском, — как только Арнольд начал понимать слова господина де Монбара, тот добавил: — К сожалению, они получили благословение патриарха.
Вечером Арнольд сидел у Эсташа в караульной будке и рассказывал ему о том, что он пережил после того, как уехал из Иерусалима. Он рассказал о странствиях своих и Филиппа, о замужестве Сюзанны, о том, как они с Филиппом бросали жребий, кому ехать в Святую Землю, и как Филипп был расстроен. Он рассказал о роскошных празднествах в Сен-Дени, о начале крестового похода, исполненном ликования, и об ужасном уничтожении его участников. Говорил они о походе пилигримов, которых вероломные греки продали в рабство. Он также сказал, что все это он должен сообщить магистру Эверару, у которого сейчас совершенно иные заботы.
Эсташ слушал его с серьезным выражением лица. Когда же Арнольд рассказал о Грегуаре и его веселых шутках, он слегка улыбнулся. Потом они шли по вечернему городу, так как Арнольд обещал Эсташу пойти вместе с ним в дом, где жила семья Пьера.
Этот дом они нашли, но не рискнули в него постучаться, поскольку не знали, не арендует ли его у тамплиеров какой-нибудь мусульманин. Но Арнольд немного посидел на пороге, как он любил делать в детстве.
Когда же он снова встал и они собрались продолжить свой путь в потемках, Эсташ придержал его за рукав.
Из-под какой-то арки они услышали голоса:
— Тамплиеры, должно быть, — голос стал тише, — предали крестоносцев под Дамаском! Как вам кажется, любезный брат во Христе? Вы, наверное, полагаете, что они не могут быть предателями?
— Само собой разумеется, они предатели! Разве вы не помните о визите к ним турецкого посланника Усаммы ибн Мункиза Шайзарского? Он жил у тамплиеров, потому что они его друзья. Об этом я подумал уже тогда.
— Как вы полагаете, приезжал ли он к ним с тайной миссией?
— А знаете ли вы, что тогда случилось в Акса-мечети? Нет? Тогда я вам об этом напомню. При этом мне нет необходимости говорить тише, так как все, что я говорю, правда: Усамма, как вам известно, благочестивый мусульманин — да избавит его Господь от этого заблуждения! Он молился в Акса-мечети, которая принадлежит дому тамплиеров. В то же самое время там молился некий паломник, глубоко мною уважаемый. Именно тогда тамплиеры постановили сделать эту мечеть Божьим домом для обеих религий, что мне глубоко противно. К сожалению, у нас, священников, нет достаточной власти искоренить эту достойную осуждения практику. Мой пилигрим разозлился на то, что Усамма во время молитвы обратил свое лицо на юг, где находился святой город Мекка. Он схватил его за плечи и, поворачивая лицом к востоку, совершенно справедливо воскликнул: «Так следует молиться!» Ведь поскольку христиане устраивали свои богослужения в этой мечети, они должны были считать ее христианской церковью. А в христианских церквах никогда не молились иначе, как лицом к востоку! Этот инцидент заметил один из тамплиеров. Он вышвырнул моего пилигрима из Божьего дома. И так случилось два раза. Ведь как только тамплиеры начали молиться своими особыми молитвами, мой пилигрим в святом усердии вынужден был приплестись обратно в церковь и сделать ради чести Божьей то же самое.
— Да, это чудовищно!
— Теперь вы видите, каким образом тамплиеры предают христиан в пользу своих мусульманских друзей. Кроме того, ходят слухи, что они потребовали у жителей Дамаска за эту измену три бочонка золота. Когда же они получили эти бочки, то обнаружили в них только медь.
— Если так, то это меня радует! — воскликнул другой. — Правда, я не могу представить, чтобы кто-нибудь из них позволил себя провести. Для этого эти… — он стал искать подходящее слово, — эти дьяволы слишком отпетые мошенники. И вообще, меня бы обрадовало, если бы их богатство слегка уменьшилось! Каждый король дарит им свои земли, а из-за необъяснимой доброты папы они вообще освобождены от церковных налогов!
Затем голоса удалились. Друзья еще некоторое время постояли в потемках, и Арнольд предложил:
— Пойдем дальше, Эсташ. Для меня нет большего удовольствия, чем гулять по Иерусалиму.
Когда они переходили через Храмовую площадь, он сказал приглушенным голосом:
— Как хотелось бы мне, чтобы Грегуар вернулся из Дамаска! Он мне скажет, предатели тамплиеры или нет.

Воспоминание возвращается
В последующие дни Арнольд помогал в кузнице, находившейся во дворе у внешней стены; едкий запах оттуда при южном ветре распространялся по всей Храмовой площади. Кузнец был коренастый сервиент, подоткнувший свою тамплиерскую рясу так высоко, что виднелись его крепкие ноги.
В дальнем углу двора стояли три лошади, которых следовало подковать, и Арнольд подводил их одну за другой и крепко держал, когда раскаленное железо шипело в тазу с водой и в копыта им вбивали гвозди.
— Теперь уведи их! — велел кузнец, показав молотом на дверь. Когда же он заметил, что Арнольд его не понимает, то спросил: — Ты, наверное, не знаешь, где наша большая конюшня?
Арнольд покачал головой. Кузнец указал молотом вниз.
— Конюшни там, внизу, неужели ты их не знаешь? Когда Арнольд снова покачал головой, кузнец объяснил:
— Сначала иди в Долину Сыроделов, там есть большой вход в подземные конюшни. Об этом входе долгое время никто ничего не знал, но вот уже много лет он расчищен. Ты не можешь его не заметить.
Арнольд повел лошадей в Долину Сыроделов. У цоколя, на котором стоял прямоугольник Храмовой площади, он увидел высокие широкие ворота, через которые вводили и выводили лошадей — боевых коней, коней для верховой езды и ломовых лошадей. Сервиенты, чьи рясы были закатаны точно так же, как и у кузнеца, уводили лошадей дальше в Долину Сыроделов и на окрестные холмы; эти лошади не были нужны в тот день. Арнольд очень точно помнил, что прежде в Иерусалиме не было такого количества лошадей. И ворота в то время располагались не там.
Он вел лошадей, предъявляя свою охранную грамоту: «Я — Арнольд, каменотес из Лиона, и работаю у кузнеца там наверху». Тогда его пропускали. Один сервиент, принимая лошадей, бормотал про себя номера, которые были отмечены на поводьях каждой лошади. Арнольд вошел в помещение, освещенное множеством факелов. Большинство из них были вставлены в железные кольца на гигантских колоннах. Ему ударил в лицо горячий чад, слышались сопение и звон цепей. Сервиенты сновали туда-сюда, вносили и выносили седла и упряжь, скребницы и ведра с водой. Некоторые из них были ему уже знакомы. Возможно, что они ночевали в той самой спальне, куда провели и его. Это была спальня в здании для свиты, в продольном направлении примыкающем к Акса-мечети.
Арнольд нерешительно шел через это громадное помещение, с любопытством глядя по сторонам. На поперечных брусьях, соединявших колонны между собой, через определенные промежутки были прикреплены железные кольца, на брусьях Арнольд увидел арабские цифры и догадался, почему сервиент, взявший у него лошадей, пробормотал их номера: у каждой лошади в этой гигантской конюшне имелось свое место, и, если требовалась какая-то Лошадь, ее можно было сразу же найти. И на узких внешних стенах торчали железные кольца. Здесь лежали верблюды, поджав под себя передние ноги, и жевали жвачку. В углах сводчатого помещения были насыпаны большие кучи овса и сена, а у стен с продольной стороны тянулись длинные ряды седел. Порядок здесь соблюдался самый педантичный. В центральном проходе, который был оставлен свободным, стояли тачки для навоза, на каждой лежали вилы с тремя зубьями.
Арнольд прислонился к одной из колонн и, глядя на нескончаемое движение людей и животных, думал: «Каким видел это помещение отец? Был ли это сказочный подземный зал, о котором он рассказывал? Он говорил о каменных великанах, поддерживавших колоссальный свод, которые могли так рычать, что эхо еще долго отражалось от стен. А факелы, наверное, и были теми шипящими духами огня, которые околдовывали каждого вошедшего? Видел ли отец здесь молочно-белых призрачных коней, на которых могли ездить только мертвые рыцари?» Арнольд протер глаза. Он обнаружил лестницу, поднимавшуюся во двор дома тамплиеров. Перед ней была установлена железная опускающаяся решетка, цепи ее приводились в движение большими колесами — конюшню при желании можно было отделить от дома тамплиеров.
Картины этого гигантского зала с его колоннами, опорными стойками, лошадьми и людьми преследовали Арнольда весь вечер и даже во сне.
Среди ночи он проснулся. На улице сменились часовые, и опять стало тихо. Широко раскрытыми глазами Арнольд уставился в потолок. Он думал об отце, чьи останки были захоронены только спустя четыре года после гибели. Где же его засыпало? Здесь ли вообще это произошло? Но уж, конечно, не в гигантском зале: его каменные исполины простоят еще несколько тысячелетий!
Глаза у Арнольда защипало, ему пришлось их закрыть. Он слышал дыхание спящих тамплиеров. Это было похоже на происходившее в Шатийоне, когда он лежал на куче шестов и слышал тихие голоса трех рыцарей. Кто же там был? Он задумался. Господа де Сент-Омер, де Сент-Аман и де Мондидье… Перед Арнольдом всплыли воспоминания той ночи в Шатийоне, и он снова услышал слова:
— Завтра мы отвезем ларцы на болото. Надеюсь, что под самый конец ничего не случится.
— Тогда бы нам не пришлось девять лет рыться в земле, как кротам, и наш любимый каменотес был бы жив.
Наш любимый каменотес! Арнольд вздрогнул. Кровь прихлынула к ушам. Значит, отец его имеет какое-то отношение к ларцам! Значит, он тоже ползал под землей, как крот? Где же это под землей? Все непостижимее казалось Арнольду, что ларцы пришлось откапывать. Здесь ничего невозможно было понять!
На улице затрубили в рог, и тамплиеры проснулись.Начинался день. Арнольд встал.
Увидев Эсташа, он сказал:
— Я почти не спал, так как все время думал об отце.
Ты привез его в монастырь Клерво, когда он умирал. Ты встречался с ним и здесь и видел его каждый день, когда он уходил на работу. Теперь ответь мне честно, Эсташ, его засыпало в этом доме? — Арнольд вопросительно посмотрел в глаза Эсташу.
Сначала Эсташ задумчиво покачал головой. Затем решительно кивнул.
— Это случилось в Соломоновых Конюшнях?
И опять Эсташ покачал головой туда-сюда, прежде чем утвердительно кивнуть. В глазах его появилось какое-то беспокойство, которого Арнольд прежде за ним не замечал.
— Раскопки происходили здесь? — продолжал настойчивые расспросы Арнольд.
Эсташ огляделся вокруг и пожал плечами.
— Эсташ! — сказал Арнольд еще настойчивее, — что тебе известно о ларцах, в поисках которых мой отец вместе с рыцарями раскапывал Соломоновы Конюшни?
При этих словах Эсташ отшатнулся и посмотрел на Арнольда глазами, полными ужаса. Нет, нет! Он поднял руку, словно защищаясь.
— Я знаю, — сказал Арнольд на этот раз тихо, но уверенно, — речь идет о какой-то тайне.
Эсташ кивнул головой.
— Ты знаешь об этой тайне от моего отца, Эсташ?
Немой покачал головой.
— Ты знаешь о ней от человека, исцелившего моего отца?
Большими глазами Эсташ смотрел на Арнольда. Как ему удалось сделать этот вывод? Немой медленно кивнул: «Да, от человека, который исцелил твоего отца».
— Я так и думал, — сказал Арнольд, глубоко вздохнув. — А я знаю часть этой тайны и знаю место, где могу узнать другую ее часть, — это Клерво или окрестности Клерво. Теперь, когда это воспоминание я восстановил полностью, мне стало намного легче.
Эсташ проводил Арнольда удрученным взглядом, когда тот отправился в кузницу. Ему было известно, что целиком эту тайну не должны знать непосвященные. Приобщенными к тайне могли быть только тамплиеры — и не просто тамплиеры, а мудрейшие из них.
Магистр Эверар и его рыцари возвращались в авангарде объединенного войска трех королей после осады Дамаска в Иерусалим. Арнольд напряженно следил за ними с городской стены. Сурово сжав губы, он проверял одну повозку за другой. Наконец Арнольд, облегченно вздохнул: нигде он не заметил трех бочонков, о которых в тот вечер говорили священники.
Прошло еще несколько дней, прежде чем у магистра нашлось время принять Арнольда. Тогда он попросил рассказать подробно и точно обо всем, что Арнольд испытал и увидел, и не прерывал его рассказа до самого конца.
— Все, что ты сообщил мне, каменотес, — сказал он, выслушав Арнольда, — должны обдумать тамплиеры на Востоке и в Европе! Благодарю тебя за этот рассказ.
Арнольд спроси магистра о Грегуаре, которого он не нашел среди возвратившихся тамплиеров. Но Грегуар сложил свою голову под Дамаском. Он, наверное, забыл о трехразовом чтении «Отче Наш» за успешное свидание.
Магистр тамплиеров направил Арнольда к своему маршалу, отплывавшему в ближайшие дни с испанским войском в Европу. Сам он оставался на Востоке, поскольку предстояли выборы нового Великого магистра. Еще перед тем как испанские тамплиеры возвратились к себе на родину, им стало известно, что Эверар де Барр был снова избран Великим магистром. Теперь ему подчинялся весь орден тамплиеров и на Западе, и на Востоке; и повсюду тамплиеры радовались, так как способности Эверара де Барра были им известны.

Решение Арнольда
В Марселе Арнольд сошел с корабля и тотчас же совершил прогулку по городу. У ворот он смастерил себе посох и направился по дороге, ведущей на север. Он не сомневался, что в любом случае найдет себе попутчиков. Так и произошло. Несколько дней спустя он был в Лионе: баржа, которую бурлаки тянули вверх по Роне, подобрала его.
Как только с причала Арнольд взглянул на город, где родился, у него учащенно забилось сердце — вот крыша дома каменотесов! Там был Филипп, владевший мастерской. Там была седая мать, которая сидела у очага и ждала его, поникнув головой.
Войдя в кухню, он увидел, что стул матери пуст. Молодая жена Филиппа поздоровалась с Арнольдом, как с чужим.
— Каменотес вот-вот должен прийти.
Она не узнала Арнольда. Он сел на скамью рядом с камином у стены, и увидел маленького мальчика, играющего на полу с кошкой.
— Это Ролан, наш сын, — робко сказала жена Филиппа. Затем она спросила, не желает ли чужак что-нибудь поесть. При этом она впервые посмотрела на него пристально и поняла, что это Арнольд.
— Боже мой, деверь! — воскликнула она, — до чего же ты изменился!
Она бросилась к двери, затем через двор выбежала на улицу и все время кричала: «Филипп! Филипп!»
Когда мать столь внезапно исчезла, мальчуган зарыдал. В конце концов Арнольд с трудом успокоил его и тот сидел у дяди на коленях и увлеченно крутил посох.
«Как хорошо, — подумал Арнольд, — держать на коленях ребенка». Он долго вглядывался в мальчика. В его каштановых волосах была светлая прядь. Больше он походил на свою мать, чем на лионских каменотесов. Но когда мальчик засмеялся, он напомнил Арнольду Сюзанну, «маленькую восточную принцессу», у который уже давно был свой ребенок. Кажется, звали его Жан.
Дверь распахнулась. Братья сердечно обнялись, весело похлопывая друг друга по спине. Это было приятное свидание! Филипп сказал:
— Если бы я знал, сколько невзгод пришлось тебе перенести во время крестового похода, я не был бы столь опечален, что остаюсь дома!
Вечером, когда жена Филиппа с сыном уже спали, братья сидели за большим дубовым столом и рассказывали друг другу, что произошло за время их разлуки. То и дело Филипп подбрасывал поленья в очаг и подливал горячее вино в бокалы.
— Напал ли ты на след той тайны, которую желаешь разгадать, брат? — обратился он к Арнольду.
— На след тайны я напал, — сказал Арнольд, помедлив. — Но тайна смерти нашего отца настолько тесно связана с тайной ордена тамплиеров, которую я пока не знаю, что могу сказать тебе лишь одно: отец был засыпан, когда докопался до тайны, — Арнольд замолчал. Но в воспоминании он увидел ларцы, привезенные рыцарями темной ночью на болото. Почувствовав на себе испытующий взгляд Филиппа, он сказал:
— Мне хотелось бы стать тамплиером.
Братья долгое время молчали.
— Между нами было заключено соглашение, — наконец продолжил Арнольд, — о том, что после того как я вернусь с Востока, я позволю тебе также поехать в Святую Землю. Не хочешь ли ты выполнить условия этого соглашения? — произнося эти слова, он смотрел в бокал.
Филипп тяжело вздохнул, а Арнольд, не шелохнувшись, ждал ответа.
— Я… — начал было отвечать младший брат сдавленным голосом, но опять замолчал. И все же он собрался с духом и сказал: — Я останусь здесь.
Уже на следующее утро Арнольд явился в лионский дом тамплиеров. Он передал комтуру истлевшую, потемневшую бумагу, на которой почти ничего невозможно было разобрать, — письмо господина де Пайена, врученное Арнольду двадцать два года назад. Во всех опасностях крестового похода Арнольд носил письмо на груди. Печать еще можно было с трудом рассмотреть. Когда комтур узнал ее, он любезно пригласил каменотеса вступить в орден и немедленно послал его вместе с другими молодыми людьми в горы, где тамплиеры имели уединенный дом. Здесь воспитанники ордена приучались к железной дисциплине, на которой были основаны все успехи ордена.
В период обучения все мысли о тайне ларцов отступили в душе Арнольда на задний план. Он все больше и больше проникался мыслью, что сначала ему нужно еще созреть, чтобы постичь эту тайну. Чем возвышеннее была тайна, тем более высокой должна стать степень этой зрелости.
Клервоские монахи занесли в свой календарь новейшие известия с Востока:
Окончание регентства королевы-матери Мелисанды в Иерусалиме.
Правление Бодуэна III.
Война между Бодуэном III и его матерью.
В лето господне 1152.
Посланник с Востока передал эту весть Великому магистру Эверару де Барру, вот уже два года сложившего с себя свои полномочия с тем, чтобы окончить жизнь в Клерво. Пока в его теле, измученном военным ремеслом, еще сохранялась жизнь, он желал находиться поблизости от Бернара Клервоского и умереть рядом с ним и его любовью. Но аббат сам уже был при смерти. Он больше не мог вставать с постели без посторонней помощи, монахи носили его на молитвы. По ночам у аббата почти всегда была бессонница, он стонал, ворочаясь на соломе. Мысли и воспоминания, пугающиеся дневного света, мучили его во тьме, а картины потерпевшего поражение крестового похода заставляли содрогаться. Сколько мужества и героизма было проявлено для защиты Святой Земли, чтобы на ней мог впоследствии возникнуть Новый Иерусалим — преображение земной природы! Полный горечи, он спрашивал себя, действительно ли сегодняшний Иерусалим когда-нибудь сможет стать средоточием лучшего мира?
Этот Иерусалим был слаб, правители его погрязли в междоусобицах. Бернар повернул лицо к окошечку, за которым брезжил рассвет. Больной ощущал себя всеми покинутым. Он с нетерпением ожидал господина де Монбара, своего брата по матери. Когда стало светло, он позвал к себе писца и продиктовал ему следующие строки:
«Господину Андре де Монбару, сенешалю ордена тамплиеров иерусалимских.
Письма, которые Вы мне написали, я получил, будучи прикованным к постели, но, преисполненный страстного стремления, я прочел их и с жадностью перечитал еще несколько раз. Но насколько же более страстно я желаю видеть Вас!
Вы также хотите меня видеть и ждете лишь моих указаний, что Вам для этого следует сделать. Теперь я колеблюсь, поскольку знаю, как Святая Земля в Вас нуждается. При этом я осмеливаюсь напомнить, сколь страстно я желаю видеть Вас перед смертью. Вот то немногое, что я могу сказать: если Вы желаете приехать, то не мешкайте; в противном случае Вы не застанете меня на этой земле. Я безнадежно болен.
Смилостивится ли надо мной Воля Господня, даст ли увидеть Ваш взгляд еще раз? Я все больше теряю силы и, вероятно, должен буду покинуть этот мир, прежде чем вновь увижусь с Вами».
Не успели еще отправить письмо господину де Монбару, как с Востока прибыл посланник тамплиеров, но клервоские монахи не пустили его к аббату Бернару.
— Христианское войско, — сообщил посланник, — предприняло штурм Аскалона. Штурм оказался неудачным. Наши братья были в авангарде. Они штурмовали город так воодушевленно, что основная часть войска не смогла последовать за ними. Поэтому они были отрезаны и побеждены. Для устрашения идущих на штурм христиан египтяне из Аскалона повесили сорок тамплиеров на зубцах крепостной стены. Среди них был и преемник Эверара де Барра, Великий магистр Бернар де Тремеле.
Монахи разрыдались. С плачем передали они письмо аббата господину де Монбару, сенешалю тамплиеров в Иерусалиме.
20 августа 1153 года аббат Бернар Клервоский умер, так и не свидевшись со своим племянником. Андре де Монбар стал новым Великим магистром. Святая Земля не отпускала его.
За несколько дней до кончины аббата египетский порт-крепость Аскалон наконец был покорен христианами. Взял эту крепость молодой король. Теперь у Египта больше не было форпостов в Сирии, так как город Газа вот уже более года находился в руках тамплиеров.

Иерусалим потерян!

Рядом с сокровищами тамплиеров
 Замок Железных Часовых был воздвигнут графом Шампанским более пятидесяти лет назад. С большой предусмотрительностью граф выбрал это место, где с тех пор находилась тайная сокровищница тамплиеров; болото с его естественными и искусственными водоемами защищало замок так же надежно, как и непроходимый буковый кустарник, препятствовавший проникновению в замок в обход трясины. Ни один нежелательный гость не мог без ухищрений попасть на остров: механизм затопления срабатывал, и людей и коней засасывало хлюпающее, пузырящееся болото.
Со скрежетом опустился подъемный мост, и группа всадников выехала из замка. Они стремительно достигли оконечности острова и поехали по дамбе, с которой только что убрали воду. Плащи всадников развевались на ледяном утреннем ветру. Ещё перед тем как их кони совершили последний прыжок на сушу, вода снова стала прибывать, и дорога погрузилась под ее солоноватое зеркало.
Это были тамплиеры, впереди ехал Арнольд, сын Пьера — каменотеса из Лиона. Двадцать пять лет назад он вступил в этот рыцарский орден и вскоре получил титул «прюдома» — специалиста, ответственного за сооружение крепостей. В ордене о нем сложилось хорошее мнение.
Всадники ехали молча. Но каждый не раз огляделся вокруг, ибо эту болотистую местность они покидали навсегда.
Когда Арнольд возвратился с Востока, у него не было более страстного желания, чем докопаться до сути тамплиерской тайны, с которой столь тесно оказалась связанной судьба его отца. Поскольку Арнольд полагал, что постичь ее можно, лишь созрев для этого, он все время занимался самосовершенствованием. Но чем мудрее становился Арнольд, тем меньше он стремился к тайне и в конце концов понял, что никогда не сможет постичь её. Его способности ограничивались исключительно искусством каменотеса и архитектора, как это было и у всех его предков.
Но именно в тот момент, когда Арнольд достиг такой ступени самопознания, лионский магистр тамплиеров послал его в Замок Железных Часовых.
С тех пор Арнольд вместе с группой мастеров укрепил стены замаскированного замка и защитил фундамент всех дамб от болотной воды, которая в нескольких местах подмывала его. Еще никогда в жизни он так не приближался к сокровищнице тамплиеров, как сейчас! Но сердце его было спокойно и лишено желаний, и он без всякой горечи смотрел на мудрецов, избранных для того, чтобы воспользоваться великой тайной на благо мира.
То и дело некоторые из них выезжали из замка, отсутствовали несколько ночей и снова внезапно возвращались. Так и Арнольд однажды покинул замок и, как и они, вернулся. Незадолго до этого, однако, мудрецы собрались в большом зале, где стоял скромный круглый стол, за которым редко что-нибудь устраивали.
— Прюдом, — начали они, — вы знаете, что нашей задачей является так очистить мир, чтобы Христос в день Второго Пришествия мог принять его в Новый Иерусалим. К миру относится природа, которая окружает нас. Ему принадлежат и наши сердца, все наши помыслы, и одно зависит от другого. До сих пор вы, строители, возводили церкви, напоминающие могилы, до того они были темны нетяжелы. Столь же темными и тяжелыми были и мысли людей. Теперь мы хотим устранить тяжесть камня; вы должны строить церкви высокими и светлыми, чтобы мысли людей стали тоже высокими и светлыми — мысли о Воскресении! Поэтому мы хотим, чтобы вы основали архитектурную школу, в которой обучали бы новому способу возводить постройки. Вы должны разъяснять архитекторам смысл и цель сооружения высоких церквей и наставлять их в этой работе.
— Внешние стены следует ставить на такие опоры, чтобы на них не давил высокий свод. Поэтому части свода следует укреплять балками крест-накрест, — сказал Арнольд.
— Тайна высокого свода, прюдом, — камень, находящийся на его вершине. Вы можете также называть его замковым камнем, так как он замыкает вершину свода. Он поддерживает постройку сверху, подобно тому, как Господь держит мир.
С тех пор Арнольд обучал строителей, и они его понимали. Когда однажды он уезжал со своими сервиентами к югу, то спросил себя, нельзя ли ему теперь передать строителям часть той великой тайны, узнать которую он когда-то жаждал. Конечно, мудрецы, время от времени выезжавшие из Замка Железных Часовых, интересовались и другими областями жизни. Высокое чувство охватило Арнольда, как только ему стало ясно, что он уже находится в рядах тех, кто на болотистом острове служит человечеству и земле.
Эти мысли занимали Арнольда в течение всего пути на юг до тех пор, пока он не заметил, что отряд въехал в тот самый лес, где когда-то на Пьера напали разбойники. Одиннадцатилетним мальчиком Арнольд впервые увидел аббата, того самого чудотворца, который спас от смерти его отца. Но отца уже не было в живых; останки его похоронены на Востоке.
Мысли о прошлом постепенно поблекли; и по мере того, как Арнольд приближался к своему родному городу Лиону, в котором он не только родился, но и стал тамплиером, он все настойчивее спрашивал себя — какое у него будущее, что предложит ему орден в дальнейшем?
Замок Железных Часовых был воздвигнут графом Шампанским более пятидесяти лет назад. С большой предусмотрительностью граф выбрал это место, где с тех пор находилась тайная сокровищница тамплиеров; болото с его естественными и искусственными водоемами защищало замок так же надежно, как и непроходимый буковый кустарник, препятствовавший проникновению в замок в обход трясины. Ни один нежелательный гость не мог без ухищрений попасть на остров: механизм затопления срабатывал, и людей и коней засасывало хлюпающее, пузырящееся болото.
Со скрежетом опустился подъемный мост, и группа всадников выехала из замка. Они стремительно достигли оконечности острова и поехали по дамбе, с которой только что убрали воду. Плащи всадников развевались на ледяном утреннем ветру. Ещё перед тем как их кони совершили последний прыжок на сушу, вода снова стала прибывать, и дорога погрузилась под ее солоноватое зеркало.
Это были тамплиеры, впереди ехал Арнольд, сын Пьера — каменотеса из Лиона. Двадцать пять лет назад он вступил в этот рыцарский орден и вскоре получил титул «прюдома» — специалиста, ответственного за сооружение крепостей. В ордене о нем сложилось хорошее мнение.
Всадники ехали молча. Но каждый не раз огляделся вокруг, ибо эту болотистую местность они покидали навсегда.
Когда Арнольд возвратился с Востока, у него не было более страстного желания, чем докопаться до сути тамплиерской тайны, с которой столь тесно оказалась связанной судьба его отца. Поскольку Арнольд полагал, что постичь ее можно, лишь созрев для этого, он все время занимался самосовершенствованием. Но чем мудрее становился Арнольд, тем меньше он стремился к тайне и в конце концов понял, что никогда не сможет постичь её. Его способности ограничивались исключительно искусством каменотеса и архитектора, как это было и у всех его предков.
Но именно в тот момент, когда Арнольд достиг такой ступени самопознания, лионский магистр тамплиеров послал его в Замок Железных Часовых.
С тех пор Арнольд вместе с группой мастеров укрепил стены замаскированного замка и защитил фундамент всех дамб от болотной воды, которая в нескольких местах подмывала его. Еще никогда в жизни он так не приближался к сокровищнице тамплиеров, как сейчас! Но сердце его было спокойно и лишено желаний, и он без всякой горечи смотрел на мудрецов, избранных для того, чтобы воспользоваться великой тайной на благо мира.
То и дело некоторые из них выезжали из замка, отсутствовали несколько ночей и снова внезапно возвращались. Так и Арнольд однажды покинул замок и, как и они, вернулся. Незадолго до этого, однако, мудрецы собрались в большом зале, где стоял скромный круглый стол, за которым редко что-нибудь устраивали.
— Прюдом, — начали они, — вы знаете, что нашей задачей является так очистить мир, чтобы Христос в день Второго Пришествия мог принять его в Новый Иерусалим. К миру относится природа, которая окружает нас. Ему принадлежат и наши сердца, все наши помыслы, и одно зависит от другого. До сих пор вы, строители, возводили церкви, напоминающие могилы, до того они были темны нетяжелы. Столь же темными и тяжелыми были и мысли людей. Теперь мы хотим устранить тяжесть камня; вы должны строить церкви высокими и светлыми, чтобы мысли людей стали тоже высокими и светлыми — мысли о Воскресении! Поэтому мы хотим, чтобы вы основали архитектурную школу, в которой обучали бы новому способу возводить постройки. Вы должны разъяснять архитекторам смысл и цель сооружения высоких церквей и наставлять их в этой работе.
— Внешние стены следует ставить на такие опоры, чтобы на них не давил высокий свод. Поэтому части свода следует укреплять балками крест-накрест, — сказал Арнольд.
— Тайна высокого свода, прюдом, — камень, находящийся на его вершине. Вы можете также называть его замковым камнем, так как он замыкает вершину свода. Он поддерживает постройку сверху, подобно тому, как Господь держит мир.
С тех пор Арнольд обучал строителей, и они его понимали. Когда однажды он уезжал со своими сервиентами к югу, то спросил себя, нельзя ли ему теперь передать строителям часть той великой тайны, узнать которую он когда-то жаждал. Конечно, мудрецы, время от времени выезжавшие из Замка Железных Часовых, интересовались и другими областями жизни. Высокое чувство охватило Арнольда, как только ему стало ясно, что он уже находится в рядах тех, кто на болотистом острове служит человечеству и земле.
Эти мысли занимали Арнольда в течение всего пути на юг до тех пор, пока он не заметил, что отряд въехал в тот самый лес, где когда-то на Пьера напали разбойники. Одиннадцатилетним мальчиком Арнольд впервые увидел аббата, того самого чудотворца, который спас от смерти его отца. Но отца уже не было в живых; останки его похоронены на Востоке.
Мысли о прошлом постепенно поблекли; и по мере того, как Арнольд приближался к своему родному городу Лиону, в котором он не только родился, но и стал тамплиером, он все настойчивее спрашивал себя — какое у него будущее, что предложит ему орден в дальнейшем?

Ролан в коричневом плаще
Когда они плыли вниз по Соне на речном корабле, Арнольд размышлял: будет ли орден пользоваться его услугами на Западе или же отправит на Восток? Он чувствовал, как сердце его при мысли о Востоке бьется сильнее. Что там происходит на Востоке спустя двадцать пять лет? Арнольд стоял в задумчивости, прислонившись к мачте.
В тот год, когда тамплиеры вместе с магистром Эвераром покидали Восток, королем был молодой Бодуэн третий, правда, еще при регентстве его матери. Да, давно это было! Арнольд невольно пригладил рукой свои седые волосы. С тех пор во франкском Иерусалимском королевстве скончались два короля: Бодуэн третий умер в тридцать три года, а в прошлом году в июле его преемник Амальрик I отошел в мир иной после тяжелой болезни. При его правлении политическое положение королевства неожиданным образом ухудшилось, поскольку грекам удалось захватить власть в Малой Азии, а франкская Сирия вынуждена была стать их вассальным государством. Без сомненья, теперь, когда орден переправит его через Средиземное море, Арнольд увидит другой Иерусалим!
«С другой стороны, — продолжал он размышлять, — король Амальрик первый превратил Египет во франкский протекторат, хотя Каиру удалось отбить его натиск».
Ниже по течению Соны вдали виднелся город. Человек у гребного ящика показал на восток, где между горами поблескивала Рона.
— Вон там, — сказал он, повернувшись к Арнольду, — где Рона делает изгиб, есть Лебединое озеро, мастер, вы помните его? — когда Арнольд кивнул, он продолжил: — Там, на острове, тамплиеры строят укрепленный замок, потому что их городской дом в Лионе стад слишком тесен.
Теперь город находился совсем рядом и открывался взорам путешественников. Глаза Арнольда искали остроконечную крышу дома каменотесов; когда-то он уже высматривал эту крышу. Но теперь за маленьким окошечком ему не махала рука. Никто не ждал его. Филипп умер несколько лет назад вслед за своей женой. Ролан, который представлялся Арнольду все еще малышом, каким он был, когда играл с посохом, теперь владел мастерской вместе со своим кузеном Жаном. Домашнее хозяйство уже давно вела супруга Жана. Арнольд узнал это от одного из строителей, которых он обучал ремеслу в Замке Железных Часовых. Еще раз он посмотрел на знакомую с детства крышу и сказал себе: «Завтра, как только освобожусь от дел, я приду к ним». Он отвязал коня; корабль причалил, и пассажиры вышли на берег. Арнольд повел своих учеников в городской дом тамплиеров.
Но только через две недели ему представилась возможность посетить дом лионских каменотесов. Когда кончился рабочий день, Арнольд вошел в кухню. Двое мужчин прикрепляли к большому дубовому столу новые ножки, за этой работой наблюдали три малыша. Старшему из них было не больше восьми лет. У очага хлопотала молодая женщина, которая даже не повернулась к вошедшему. Никто не обратил внимания на его приход.
Арнольд с любопытством разглядывал своих племянников. Вот это Жан, — старший, широкоплечий блондин с крупным носом. Похож ли он на «восточную принцессу»? Вряд ли… Арнольд вычислил, что Жану сейчас около тридцати трех. А вот — Ролан, сын Филиппа. Он уже давно не тот мальчуган, игравший с посохом. Как быстро летит время! Ролан стал высоким спокойным мужчиной лет двадцати восьми; движения его выражали уверенность. Но в густых каштановых волосах Ролана по-прежнему выделялась светлая, почти белая прядь. Арнольд вспомнили о ней. Дети заметили вошедшего и робко стали на него показывать. Затем его увидел Ролан, который узнал дядю и радостно назвал по имени.
Этот вечер в теплой кухне дома каменотесов Арнольд вспоминал холодной весной 1175 года, стоя у поручней корабля тамплиеров, державшего курс на Яффу. Заботливо и испытующе Арнольд смотрел на Ролана, своего племянника, стоящего рядом в коричневом плаще побратима.
Да, Ролан в Лионе год назад вступил в орден и теперь носил тамплиерский коричневый плащ. Какие опасности его поджидали? Останется ли он цел и невредим и вернется ли через год в Европу? За себя Арнольд совершенно не боялся: ему уже 58 лет, такого возраста тамплиеры, жившие на Востоке, никогда не достигали. Как правило, они обагряли своей христианской кровью Святую Землю и готовили её к Воскресению.
Теперь морское путешествие продолжалось всего одиннадцать дней, поскольку тамплиеры успешно боролись с пиратами, и корабли ради безопасности больше не должны были плыть на Восток в непосредственной близости от берегов. Они избирали прямой и кратчайший курс. На исходе одиннадцатого дня Ролан громко закричал: «Вот! Вот, я его вижу!» Он имел в виду побережье Святой Земли, которое всё четче вырисовывалось из туманной дымки.
Сердце Арнольда наполнилось радостью. Он и думать не мог, что, когда снова увидит Святую Землю, будет так глубоко тронут. Да, приезд сюда — величайшее счастье! Если бы Филипп пережил это хотя бы один-единственный раз! Арнольду все здесь виделось прекрасным: освещенные солнцем стены порта, множество людей в тюрбанах, верблюды, позванивающие колокольчиками, суета на портовой улице, восточные ароматы, женщины с плоскими корзинами на голове; он находил прекрасными даже пыль и желтоватые булыжники, покрывавшие землю.
Покинув город, Арнольд с Роланом поехали через сады; на них нахлынул аромат цветения и созревающих плодов, и Арнольд сказал, охваченный счастьем:
— Это — Восток!
Уже на следующее утро они въехали в Иерусалим через Дамасские ворота, ибо теперь паломники могли спокойно двигаться и ночью: дорога была очищена от всякого разбойничьего сброда.
Крайне возбужденная толпа заполнила узкие улочки Иерусалима, и Ролан, впервые очутившийся среди восточной сутолоки, бросил вопросительный взгляд на своего дядю.
— Что случилось? — закричал Арнольд в толпу, не слезая с коня, — что вас так взбудоражило?
К нему подошел старик, взял коня Арнольда под уздцы и воскликнул.
— Пойдем к воротам. Там я тебе все объясню.
Всадники спешились и пошли за этим человеком! Он начал свой рассказ, но Ролан плохо понимая его речь. Арнольд же быстро вспомнил язык.
— Наш король Бодуэн четвертый вступил на трон полтора года назад, когда ему еще не было тринадцати лет. Бароны страны избрали графа Триполитанского его опекуном до тех пор, пока король не будет в состоянии сам управлять страной. Но, вероятно, этого так никогда и не произойдет.
Арнольд хорошо разбирался в делах королевства Иерусалимского. Ведь даже подолгу находясь в Европе, он всегда прислушивался к известиям с Востока и знал, что юный король болен.
— Тогда, — продолжал старик, — на Востоке появился рыцарь из Фландрии по имени Жерар де Ридфор. Слава о его великих подвигах опережала его приезд. Граф Триполитанский призвал де Ридфора ко двору, сделав рыцаря маршалом Иерусалимским. Он обещал отдать ему в жены наследницу богатого дворянского поместья. Ведь у нас все это происходит иначе, чем в Европе: властелин обязан женить своих вассалов по возможности с большим почетом. Когда же богатый граф умер, и графство перешло к его дочери, опекун молодого короля выдал ее замуж не за маршала, а за некоего богатого рыцаря из Пизы, у которого оказалось больше золота.
— Но это ведь невозможно! — воскликнул Арнольд.
— Маршал Жерар де Ридфор счел свое достоинство столь ущемленным, — продолжал старик, не обращая внимания на реплику Арнольда, — что заболел тяжелой нервной лихорадкой. Тамплиеры его вылечили. Ты ведь тоже тамплиер, как я погляжу. Сегодня маршал как раз вступил в ваш орден и принял три монашеских обета.
— И по этой причине, — недоверчиво спросил Арнольд, — вы так взволнованы?
Старик покачал головой. Была заметна его затаенная радость, что главного он еще не выложил.
— Маршал принял не только три обета, — сказал он наконец, потирая руки, — он принял еще и четвертый: поклялся мстить графу Триполитанскому до конца жизни.
Арнольд так гневно взглянул на рассказчика, что Ролан испугался, как бы он не ударил старика. Но у дяди только побелели губы, и он велел дать этому сплетнику медную монетку. Сев на коней, они стали протискиваться сквозь толпу к дому тамплиеров.
Арнольд приподнял звоночек и стал ждать, Пока тот медленно упадет, прислушиваясь к знакомому звучанию. Небольшие ворота распахнулись, и Арнольд не поверил своим глазам: перед ним стоял Эсташ — худой семидесятилетний старик с выражением на лице, будто он к чему-то прислушивается. Двое седовласых мужчин заключили друг друга в объятия. Они немного смущенно рассмеялись и с удовлетворением кивнули, словно в подтверждение того, что не забыли друг друга. Это был сердечный разговор без слов; и при нем присутствовал изумленный Ролан. Наконец Арнольд потянул своего племянника за рукав и сказал:
— Это сын Филиппа, и зовут его Ролан.
Эсташ коснулся коричневого плаща Ролана и кивнул головой. Он сравнил лица родственников и нерешительно пожал плечами, дав тем самым понять, что между ними не так уж много сходства. Затем, очертив рукой контуры фигуры Ролана, он кивнул, признав сходство в телосложении. После этого все трое засмеялись, и Эсташ отвел коней. Он поставил их в деревянных конюшнях, которые по-прежнему были расположены в восточной части переднего двора. Тем временем каменотесы вошли в дом тамплиеров, и их провели к комтуру.
Комтур сидел в зале с тремя рыцарями и был занят разговором, так что когда в рыцарский зал вошли оба каменотеса, он дал им знак расположиться на скамьях у стен комнаты, и продолжил свою речь:
— Когда мы слышим имя султана Саладина, господа, то знаем, что нам придется иметь дело с человеком ярким, как метеор, и совершившим головокружительную карьеру. Но никто не помнит, что он родился в маленьком курдском городке в горах, совсем недалеко от замка, где так много лет томился наш король Бодуэн второй. Кто помнит сегодня о том, что его отец был всего лишь комтуром курдского замка? А кто он сам? Разве он когда-нибудь занимался стратегией?
Комтур смотрел на трех рыцарей, словно бросая вызов, пока один из них не согласился с ним, сказав:
— Вы правы. Он занимался только науками и наслаждался жизнью. Лишь когда он вместе со своим дядей покорил Египет, проявились его способности к военному искусству.
— А теперь он властелин Египта; и Сирию, во всяком случае нехристианскую, он тоже получил в наследство.
— Не удивляюсь, — добавил третий, — что он присвоил себе титул султана.
— На это он имеет право, — сказал комтур, — ведь он глава не только государства, но и его религии.
— Мы со всех сторон окружены его великими империями как жемчужина внутри раковины, и при этом я позволю спросить себя, а стоит ли нам вообще считаться жемчужиной. Как вы думаете, сможем ли мы воспользоваться нашим союзом с правителем города Алеппо против Саладина?
— У меня нет доверия к каким бы то ни было союзам между христианами и нехристианами, — после секунды молчания комтур тихо пояснил свою мысль: — Но не из-за нехристиан, а из-за христиан. Ведь они считают, что союз с неверными ни к чему их не обязывает, так как не станут же мусульмане клясться на Библии, — затем комтур повернулся к каменотесам. Как только он услышал, что они прибыли из Лиона, он сразу спросил, не осталось ли там у Пьера потомства.
— Конечно, осталось! — смеясь, воскликнул Арнольд, — оно есть и здесь, и там.
Комтур понял намек и тоже засмеялся. Потом снова стал серьезен и сказал, Арнольду:
— Для вас, прюдом, в ближайшее время будет очень ответственная работа: мы планируем построить крепость у Брода Иакова. Но сначала мы должны созвать совет. Нам необходимо ваше суждение, — затем он обратился к Ролану: — А ты, молодой человек, пришел ко мне как нельзя кстати! У нас на Востоке — это хорошо известно твоему дяде — на всех христианских территориях расставлены придорожные столбы, указывающие расстояние в милях. Деревянные столбы незамедлительно следует заменить на каменные. Итак, твоей задачей будет вместе с рабочими продвигаться от столба к столбу, в близлежащих каменоломнях находить камни, высекать из них стелы, на которых будет написано то же самое, что и на деревянных столбах. Высота этих стел должна быть такой, чтобы они по меньшей мере на локоть погружались в землю и поднимались из земли примерно на человеческий рост Справишься с такой работой?
Но прежде чем Ролан успел ответить, комтур воскликнул:
— Ах, да ведь ты у нас всего на год! А этого недостаточно для подобной работы!
К такому же выводу пришел и сам Ролан, а кроме того, убедил себя, что дома его никто не ждет. Здесь же, на Востоке — это он заметил в первый же день, ступив на здешнюю землю, — все гораздо интереснее. Поэтому он сказал комтуру:
— Господин, я свободен. Располагайте же моим временем, как вам будет угодно.
На следующий день был снаряжен целый караван для Ролана и рабочих, которыми он должен был руководить, — с инструментами, палатками и посудой, с продовольствием, достаточным, чтобы дойти до следующего дома тамплиеров, и прочими принадлежностями. Расставание с Арнольдом было быстрым, поскольку Ролан уже думал о том, что предстоит ему, и он был уверен, что стал достаточно взрослым для любой задачи.
Арнольд же смотрел ему вслед взглядом, полным заботы. Он, старший и более опытный, думал о том, сколько разных событий может произойти и, возможно, они с Роланом больше не увидятся.

Придорожные столбы
Ролан со своими людьми передвигался с места на место, находя деревянные придорожные столбы, которые ему следовало заменить на каменные стелы. Рабочие устанавливали стелы, а он ставил свою палатку в каменоломнях, так как сначала требовалось найти камень и обтесать его, а затем перевезти готовую стелу на место, где ей надлежало стоять. Как и их деревянные предшественники, эти стелы в верхней части имели выдолбленный тамплиерский крест, а в нижней — арабские цифры со стрелкой, указывающей направление к ближайшему дому тамплиеров и расстояние до него.
Время от времени эта группа людей ночевала в каком-нибудь доме тамплиеров. Но здесь также разбивали палатки, поскольку вместе с рабочими были и их семьи. Вечерами узнавали новости, случившиеся за то время, пока они, находясь в каменоломнях, были оторваны от всех событий.
Молодой король Бодуэн четвертый — храбрый и бесстрашный воин — в битве при Аскалоне разгромил войско великого султана Саладина; уже поговаривали о том, что летописцы великого султана отметили мужество юного христианского короля в своих хрониках. Ибо, несмотря на тяжелую болезнь, он проявил себя как противник султана, равный ему но силам.
Слышали они и о том, что участники крестового похода, выступившие из Фландрии, возвратились в Европу ни с чем. Эти крестоносцы представляли себе Восток совсем не таким, каким он оказался.
Еще одним вечером они узнали, что король Бодуэн в битве на севере королевства подорвал господство греков в Сирии. Христиане как Востока, так и Запада, с надеждой следили за юношей, в котором они видели спасителя Святой Земли.
В один из вечеров Ролан вместе со своей колонной добрался до Антиохии. Все они устали, были покрыты грязью и хотели пить. В окрестностях Антиохии им пришлось долго работать, поскольку этот город был узловым торговым пунктом, где перекрещивалось множество дорог со столбами-указателями.
С высоты они увидели реку, в лучах вечернего солнца блестевшую как зарево пожара. Поблизости от городских стен на ее берегу виднелось много белых пятен. Жены рабочих сразу же поняли, что это — полотно, расстеленное для отбеливания. Показались и женщины, стиравшие в реке. Но вскоре страж городских ворот затрубил в рог, и они торопливо начали грузить поклажу на ослов или ставить на голову корзины с бельем.
Ролан торопил рабочих. У него не было ни малейшего желания платить деньги за целую колонну, что полагалось делать всякому, кто приезжал после закрытия ворот.
Со всех сторон к воротам устремлялись люди, конные и пешие, началась давка, толкотня, раздавались проклятия. Лошади вставали на дыбы, ослы брыкались, верблюды издавали гортанные звуки, а собаки визжали.
Конь Ролана испугался, принялся лягаться и задел осла одной прачки. Белье, уложенное у того на спине, полетело на землю под ноги толпе. Никто не обращал на это внимания. Каждый стремился только протиснуться к воротам. Женщину толкали со всех сторон, но она лишь судорожно держалась за веревку, к которой был привязан ее осел, до тех пор, пока площадь перед городскими воротами не опустела. Затем она успокоила осла и стала подбирать валявшееся в грязи белье. Прачка на мгновение подняла взгляд, и Ролан увидел ее большие глаза.
Колонна рабочих уже давно была в городе, а Ролан за городскими стенами все еще помогал женщине. Она молча принимала его помощь. Они нагрузили поклажу на осла, который в поисках травки мирно обнюхивал землю, и повели его через городские ворота. Как только они вошли в город, Ролан положил женщине в ладонь серебряную монету и сказал сдавленным голосом:
— За ущерб.
Деньги она взяла, однако не поблагодарила Ролана, Больше она на него не смотрела. Потянула осла за веревку и ушла неторопливыми шагами. Краешек ее белой косынки развевался на ветру.
«Какого же Цвета у нее волосы? — думая Ролан, следовавший за ней на расстоянии. — Какие у нее глаза?» Он помнил только одно: они очень большие. Возможно, серые. Он видел, что она стройна, а рука, державшая осла, — тонкая и смуглая. Ролан посчитал, что женщина на несколько лет старше его. Когда она постучалась в ворота какого-то продолговатого здания, он остановился. Ей открыли и впустили вместе с ослом.
Тотчас же из-за ворот послышались восклицания: «Прекрасная прачка! Хорошая прачка!» Но голоса вошедшей женщины Ролан не слышал, хотя очень хотел узнать, какой он. Взгляд его скользнул по фасаду дома без окон; на нем он увидел копье и надпись, безыскусно намалеванные на стене. Ролан не мог прочесть надпись, и прохожий объяснил ему:
— Ты стоишь перед монастырем «У Святого Копья». Во время Второго крестового похода сюда приняли много детей-найденышей, — и пошел дальше.
Несмотря на то, что был еще только март, следующий день выдался очень жарким. Женщины и дети находились в палатках рядом с домом тамплиеров, где ночевала колонна рабочих. Каменотесы натягивали свои головные платки на лицо, когда рубили в каменоломнях, а потом обтесывали камни. Пыль забивала дыхательные пути и засыпала глаза. Чем выше стояло солнце, тем чаще они пили воду из бурдюков, но вода становилась все горячее, и вскоре уже не утоляла жажду. Снова и снова обращали они свои взоры к небу: неужели это страшное солнце сегодня вообще не зайдет!
Смертельно усталые, они возвращались вечером ©город. И как только на берегу реки показались белые точки, сердце Ролана начало учащенно биться. Он пришпорил своего коня, не замечая, что едет далеко впереди колонны рабочих, которая передвигалась медленной трусцой.
Та женщина была на берегу, она уже нагрузила поклажу на осла. Ролан подъехал к ней поближе. Она спокойно посмотрела на него и опустила взгляд. Он тихо сказал:
— Я надеялся снова встретиться с тобой.
Она кивнула головой, не поднимая глаз.
— Через три дня выходной, — сказал Ролан, — тогда я не поеду в каменоломни с рабочими. Если хочешь, мы встретимся с тобой в церкви после мессы, — не дождавшись ответа, он спросил: — Ты хочешь этого?
Она подняла глаза и долго смотрела на него испытующим взором. Затем просто сказала:
— Хочу.
На следующий вечер и после Ролан не смотрел на берег. Он знал, что и женщина не высматривает его. Оба были уверены, что увидятся. Уверенность эта была чудесной — от Бога.
Восемнадцатого марта на Востоке празднуют День святого Николая, покровителя мореплавателей. Всё колокола Антиохии созывали верующих в храмы. Мессу проводил патриарх, который прочёл литанию за больного короля: «Господи Боже наш, храни страну нашу! Господи Боже наш, храни нашего больного короля! Святой Николай, проси за нашего больного короля!»
Свечи погасли, церковь опустела. Только теперь Ролан увидел женщину у колонны. Он заметил, что она очень бледна.
Ролан подошел к ней и сказал:
— Благодарю тебя за то, что ты меня ждала.
— Так мы условились.
— Наверное, у тебя нет мужа или того, с кем ты обручена, иначе ты не пришла бы сюда?
— У меня нет мужа, и я ни с кем не обручена.
— Ты живешь в монастыре «У Святого Копья»?
— Я живу там уже очень давно.
— Связана ли ты какими-либо обетами?
— Никакими обетами я не связана. Я живу в этом монастыре, потому что чувствую себя там в безопасности, которой раньше была лишена.
— Значит, ты сирота?
— Мои родители умерли во время Второго крестового похода; Один человек из отряда тамплиеров взял меня с собой, а милосердные женщины приютили меня. Тот человек был каменотес.
— Странно. Я тоже каменотес. Ты еще что-нибудь знаешь об этом человеке?
— Он родом из Лиона. Больше мне о нем ничего не известно. Он со мной всем делился. Он был добрый.
Тут Ролан понял, что девочку в монастырь привел Арнольд.
— Не скажешь ли ты, как тебя зовут? — спросил он, обрадовавшись.
— Меня зовут Анна, Все мои предки были купцами.
Минуту они стояли друг перед другом молча. Наконец Ролан сказал:
— Я хотел бы с тобой всем делиться, как тот каменотес о котором ты сказала, что он был добрый.
Анна подняла глаза. Долго она смотрела на него, и произнесла:
— Хорошо.
— У меня есть стадо овец, которое пасется недалеко от Лиона за капеллой святой Магдалины. Пока я вернусь домой, оно станет большим. Мой двоюродный брат Жан заботится о нем. Ему принадлежит часть моей мастерской. Кроме того, мой дом и мое стадо находятся под защитой тамплиеров, так как я стал их побратимом, о чем ты можешь судить по моему коричневому плащу. Я работаю на иерусалимских тамплиеров.
После этого рассказа он вопросительно посмотрел ей в лицо. Ему пришлось долго ждать. Так они и стояли: он следил за выражением ее лица, наклонившись вперед; она же глубоко погрузилась в свои мысли. Наконец он не выдержал:
— Ответь же мне что-нибудь, Анна!
— Я хочу того же, чего хочешь ты, — сказала она просто.
Ролан глубоко набрал в легкие воздух. Он прижал Анну к себе и поцеловал ее в уста. Держась за руки, они вышли из церкви.

Султан Саладин просчитался
Когда Ролан обтесывал первые стелы, Великий магистр тамплиеров Одо де Сент-Аман созвал в Иерусалиме собрание главных тамплиеров христианского королевства и велел явиться туда Арнольду, чтобы провести совет по поводу строительства мощного укрепления у Брода Иакова; для этого требовалось профессиональное суждение Арнольда. Он осмотрел старый замок и подготовил планы нового.
Одо де Сент-Аман был энергичный человек высокого роста с умными глазами, излучавшими доброту; и резкими чертами лица. Поприветствовав собравшихся, он начал свою речь:
— Как вы уже достаточно часто на себе испытывали, к нашему сожалению, сарацины каждый год нападают с восточного берега Иордана на христианские земли. Поэтому я счел достойным обсуждения вопрос о том, не следует ли нам существенно расширить небольшую крепость у Брода Иакова и превратить ее в мощный бастион. Эта крепость, однако, не будет принадлежать одному лишь вашему ордену; король будет строить ее и укомплектовывать личным составом вместе снами. Всем вам известно, что молодого короля связывает со мной личная дружба и он прислушивается к моим советам. Бастион, возведенный совместно орденом тамплиеров и королевством, будет символом верности, сблизит короля с орденом. Ведь сегодня дела обстоят точно так же, как и в дни, когда только образовался орден: король ваш близкий друг.
Великий магистр развернул план, и Арнольд вкратце обрисовал рыцарям стратегические возможности будущей крепости. То в одном, то в другом месте он что-нибудь исправлял по совету опытных воинов, так что в итоге все оказались удовлетворены этим планом и выразили согласие на сооружение крепости.
Великий магистр произнес заключительное слово:
— Дорогие господа, — сказал он, — завтра вы должны быть там, где мы — король и я — подпишем договор, который доставит нам обоим столь великую радость. Он выбрал десять тамплиеров, чтобы они подписали договор в качестве свидетелей.
На следующее утро король вместе с коннетаблями и несколькими рыцарями из свиты пришел в дом тамплиеров, и торжественный акт подписания договора состоялся. Печально глядел молодой король в глаза Великому магистру, когда тот протянул ему руку в знак вступления договора в силу. На мгновение, отвернувшись от собравшихся; он сказал, Тяжело вздыхая, господину Одо де Сент-Аману:
— Часто ли мы будем предпринимать совместные дела на благо этой страны?
Великий магистр невольно взглянул на несоразмерно короткую руку, которую он держал в своей. Она была перевязана бинтами. Юный король страдал самой коварной из всех болезней — проказой.
Арнольду поручили руководство строительством крепости у Брода Макова.
Ему подчинялось целое войско ремесленников и подсобных рабочих. С наступлением весны, когда возобновлялись боевые действия, крепость должка была быть построена: работа не терпела промедления.
Однажды к нему, прихрамывая, подошел нищий. Арнольд бросил ему медную монетку. Но нищий не стал ловить ее, и монетка упала в пыль. Покачав головой, Арнольд пошел дальше. Его мысли были поглощены работой: скоро крепость должна быть готова, состоится праздник передачи ее королевскому и тамплиерскому гарнизонам. Носначала…
Нищий снова попался ему на глаза. Что ему нужно? Разве он не получил медную монетку? Арнольд бросил ему вторую, чтобы тот окончательно отвязался. Но и вторую монетку нищий ловить не стал. Она покатилась по песку между камнями.
— Что тебе нужно? — не сдержавшись, закричал Арнольд, — разве тебе недостаточно двух медных монет?
— Я хочу поговорить с вами наедине, — прошептал нищий и достал из-за пазухи письмо.
Арнольд внимательно оглядел этого человека с головы до пят.
— Иди туда, — приказал он ему, так как вблизи человек казался отнюдь не нищим. «Следует ли мне его бояться?» — на миг подумал Арнольд.
Но они уже были одни на углу улицы.
— Говори же! — приказал Арнольд.
Нищий опять вытащил из-за пазухи письмо и протянул его Арнольду. Увидев на письме печать султана Саладина, Арнольд вздрогнул. Он стал медленно читать.
«Архитектору ордена тамплиеров в Иерусалиме, — начиналось письмо, — знаменитому строителю крепостей Арнольду Лионскому! Мы оценили твои способности в искусстве сооружения крепостей; а наши разведчики, сообщив нам об объеме и качестве планируемых не ведущихся работ по строительству укреплений замка, расположенного неподалеку от брода через Иордан, подтвердили эти способности. Крепость, однако, в том виде, как ты ее задумал, может нанести ущерб нашим интересам. Поэтому мы предлагаем тебе сумму в 100 000 золотых сарацинатов с тем, чтобы ты велел срыть эту крепость. Нашему посланнику дано поручение привезти к нам твой ответ.
Саладин, султан Сирии и Египта». Арнольд оторвался от чтения письма. Посланник не сводил с него глаз, требуя ответа. Тогда Арнольд скомкал письмо и швырнул его мнимому нищему в лицо.

Султан Саладин
На следующей неделе торжественная процессия всадников направилась к Броду Иакова: новая крепость должна была принять свой христианский гарнизон. Впереди ехал король со свитой. Великий магистр Одо де Сент-Аман возглавлял шествие шестидесяти рыцарей тамплиеров, за которыми следовали оруженосцы и сервиенты. Во главе тысячи пятисот наемников ехали королевские полководцы. Как рой пчел наполняет улей, так воины заполнили свой гарнизон. Они по достоинству оценили каждую деталь постройки и гордились тем, что будут служить в крепости, за которую султан давал целое состояние. Однако многие из них с завистью глядели на каменотеса Арнольда: он нашел в себе силу противостоять этому искушению.
Праздник получился веселый и красивый, в рыцарских играх приняли участие даже король и Великий магистр. Арнольд заметил, что торжества были им по душе. На следующее утро Великий магистр и король стали собираться домой. Теперь их свита была небольшая: все тамплиеры и другие воины остались праздновать.
Но не успели они подняться в горы, как на них напало войско сарацинов. Лишь только король и Великий магистр заметили численное превосходство врагов, им стало понятно, что исход битвы предрешен еще до ее начала. Одо де Сент-Аман прикрывал короля своим телом и мечом. Он рубил врагов как одержимый. Чего стоит жизнь тамплиера, когда речь идет о жизни короля, о правлении христианским королевством! Только убедившись, что король находится в относительной безопасности, героический рыцарь-монах начал терять силы и был взят в плен.
Впервые султану удалось захватить в плен Великого магистра тамплиеров. Что за драгоценная добыча! На Великого магистра он с радостью и удовольствием обменял бы целый хорошо укрепленный город! Гораздо больше, чем о крепости Брод Иакова, Саладин думал об Ас-калоне! Один, без свидетелей, султан спустился в темницу своего замка, где держал Великого магистра. Молча он ждал, пока начальник темницы не затворит за ним дверь, затем сказал:
— Господин Одо, от вашей мудрости невозможно скрыть то, что в вас мы видим залог, который может быть использован в нашей политике. По этой причине мы предоставляем в ваше распоряжение писца, чтобы вы, продиктовали письмо вашему королю, в котором обратитесь к нему с просьбой выкупить вас. Как эта просьба будет выражена, решайте сами. Ваши военные способности я оцениваю столь высоко, что даю вам возможность и впредь использовать их против нас. Итак, если вы хотите остаться в живых, обращайтесь с просьбой о выкупе.
Великий магистр Одо де Сент-Аман встал, звеня цепями, и выпрямился перед султаном во весь свой громадный рост.
— Разве вы не знаете, господин султан, — язвительно сказал он, — что ваше предложение не соответствует уставу нашего ордена? У тамплиера деньги для выкупа — это пояс и кольчуга. Остальное не в моей компетенции, — и он отклонял предложение султана.
Султан пожал плечами:
— Как вам угодно, господин Одо но не думайте, что я не получу того, чего желаю! Первой моей целью будет крепость у Брода Иакова, и уже завтра я начну вооружаться для ее осады.
Ролан все еще находился в Антиохии и проводил работы в ее окрестностях, когда от какого-то тамплиера он узнал о пленении Великого магистра и об осаде крепости Иакова. Он знал, что спланировал и построил эту крепость его дядя, и теперь опасался за его жизнь, так как Розану сообщили, что Арнольд был в числе осажденных. Затем работа рассеяла его печальные мысли, и пришли другие сообщения, но никто не знал, какие выводы следует из них делать. Речь шла о том, что Жерар де Ридфор, поклявшийся мстить графу Триполитанскому до конца жизни, был избран сенешалем ордена тамплиеров. Теперь это был второй по своему иерархическому положению тамплиер на всем Востоке.
Ролан закончил работы в окрестностях Антиохии и отправился с Анной, которая стала его женой, и своими помощниками домой. Но не успела колонна рабочих выйти из дома тамплиеров в Антиохии — это был день, когда во дворе дома кормили нищих, — пришло ужасное известие о том, что Саладин захватил крепость у Брода Иакова, хотя гарнизон ее сопротивлялся не на жизнь, а на смерть. Тамплиерам, оставшимся в живых, султан велел отрубить головы, поскольку считал орден самой могущественной военной силой на Востоке, и стремился всеми средствами ослаблять его.

Кто должен править Иерусалимом?
Ролан получил небольшой дом, некогда подаренный тамплиерам королем Бодуэном вторым, когда Пьер с семьей прибыл на Восток. Вскоре после того как они с Анной в нем обосновались, Анна родила дочь — в той самой комнате, где Сюзанна некогда родила Филиппа. Они назвали дочь Марией.
Ролан вступил в отряд королевских строителей. Незадолго до этого он отдал свой, коричневый плащ побратимов ордена новому Великому магистру Арнольду де Тюрру и теперь был ремесленником, ничуть не отличающимся от остальных. Он работал по укреплению городских стен, вместе с рабочими его посылали в замки, окружавшие Иерусалим, и вскоре он своим мастерством и профессионализмом заслужил авторитет и мог самостоятельно выполнять различные работы.
В то время больному королю удалось заключить перемирие с султаном Саладином, и христианская Сирия вздохнула спокойно. Сразу же жизнь потекла по-иному: у мужчин исчез напряженный взгляд, во время работы они перестали прислушиваться к тому, что происходит у городских ворот. Девушки вновь могли пасти овец в отдалении от городских стен, а женщинам не приходилось столь поспешно уносить свои ведра от бочек с водой. Даже количество часовых на городских стенах уменьшилось. Да, жизнь снова стала прекрасной. Караваны верблюдов, беззаботно позванивая колокольчиками, благополучно приходили из арабской пустыни.
В это прекрасное время Анна родила вторую девочку и назвала ее Леной. Ролан и Анна счастливо жили в маленьком домике, не обращая внимания, как проходят год за годом, пока однажды не был нарушен мир.
Граф Моавский, расширивший свою территорию до Красного моря и проникший в глубь Аравийской пустыни, однажды напал на торговый караван, подчинявшийся самому султану. Саладин не замедлил воспользоваться этим нарушением перемирия и тотчас же приступил к осаде Моавского Крака, который уже давно хотел отнять. Теперь право было на стороне султана, и если бы ему удалось покорить этот выдвинутый на восток бастион христиан, он лишил бы королевство Иерусалимское щита, и рана могла оказаться неисцелимой.
Больной король уже готовился снимать осаду с крепости. Великий магистр Арнольд де Тюрр с отрядом тамплиеров двинулся в поход. Бодуэн четвертый отправился на эту войну в паланкине: он уже не мог держаться в седле. Здоровье его стремительно ухудшалось. Два самых могущественных человека в королевстве, тяжело вздыхая, размышляли о течении событий в Святой Земле.
— Если бы, сир, у нас было еще пять мирных лет — сказал Великий магистр, — у иоаннитов и у нас подросли бы молодые воины. Но сейчас мы обескровлены, сир!
А король жаловался на корыстную политику христианских баронов, которые все еще не научились подчинять свои личные желания интересам всего королевства.
— Дорогой друг, — сказал он, наклонившись к Великому магистру, — что же будет, если корону этой страны унаследует у меня сын моей сестры? Я предвижу крупные внутренние конфликты, поскольку, когда я умру, мальчику будет еще далеко до совершеннолетия.
Великий магистр беспомощно пожал плечами. Он не обнадеживал короля в отношении его болезни. Оба они считали недостойной ложь из вежливости.
— Видите ли, — снова начал король, — если я с этой войны вернусь домой живым, то силы мои будут столь истощены, что я не смогу больше управлять государством. Мне опять будет нужен регент, как в годы моего несовершеннолетия. Этим регентом не может быть никто, кроме графа Триполитанского, которому ваш сенешаль поклялся мстить до конца жизни. Я вынужден мириться с этим: его уже избрали бароны моей страны. Теперь подумайте, какие возможны последствия!
Король наклонился из своего паланкина немного вперед. Он шепотом подозвал магистра еще ближе.
— Я прошу и обязываю вас, дорогой друг, чтобы вы я — поскольку вы видите, что я долго не протяну, — совершили поездку в Рим к папе и только с ним одним посоветовались о том, кого избрать на иерусалимский престол в качестве моего преемника. На Западе существует много семей, состоящих с нами, королями иерусалимскими, в родстве. Среди них, конечно, найдется такой человек, у которого окажется достаточно сил, чтобы управлять этой страной, избегая внутренних конфликтов. Если у него будет рекомендация папы, никто не сможет возражать. Я говорю это, дорогой друг, не для того, чтобы ущемлять в правах моего маленького племянника, ведь я его очень люблю. Но говорю это из любви к своей стране: ребенок очень слаб, и ноша управления государством окажется для него непосильной.
Произнеся эти слова, король в изнеможении откинулся на носилках. С вопросительным выражением лица он протянул Великому магистру правую руку в перчатке, и Великий магистр Арнольд де Тюрр поцеловал ее в знак заверения, что он все сделает именно так, как велел король. И в молчаливом взаимопонимании они следовали рядом друг с другом по направлению к осажденной крепости Моав.
Христианам под умелым руководством больного короля удалось снять осаду с Моавского Крака. Когда же победители возвратились в Иерусалим, силы короля — как он и предвидел — были исчерпаны, и граф Триполитанский приступил к своему второму регентству во франкском королевстве.
Король все больше чах, и весной 1185 года умер в возрасте двадцати четырех лет. Великий магистр немедленно стал собираться в поездку в Рим.
Как предвидел король, сирийские бароны сразу же после его смерти разделились на два лагеря. Одни хотели сохранить в роли регента графа Триполитанского, другие выступали в поддержку Ги де Люзиньяна, приемного отца шестилетнего Бодуэна. Что же касается Великого магистра Арнольда де Тюрра, который должен был провести переговоры с папой относительно избрания достойного короля для христианского Востока, то он умер по пути в Рим. Положение дел в империи вряд ли могло быть более запутанным. К тому же граф Триполитанский выторговал сепаратный мир с султаном Саладином, но это касалось только его графства Триполитанского. Если теперь иерусалимские воины ехали в Антиохию, то могло случиться так, что им попались бы воины султана Саладина, как раз собиравшиеся пересечь графство Триполитанское и спуститься к морю.
Ролан в это время работал у Яффских ворот. Однажды он увидел, как в город въехала кавалькада рыцарей тамплиеров из Европы. По размерам свиты он догадался, что прибыли важные иерархи Ордена.
Да, это были все магистры, которые только имелись в Европе. От своего дяди Арнольда он знал, что они должны были собираться в главном ордене в Иерусалиме для выборов каждого Великого магистра. Так им предписывал устав. Он всё ещё слышал слова, сказанные Арнольдом: «Братья должны избрать только мудрейшего из мудрых».
Мудрейшего? Ролан считал, что для Востока необходимо скорее избрать полководца, чем мудреца. Папа также по слухам желал видеть во главе ордена человека, который наводил бы ужас на врагов.
У тамплиеров, проезжающих мимо Ролана, были суровые, почти отсутствующие лица. Как статуи, сидели они на конях.
На следующий день они заперлись в Акса-мечети, чтобы в обстановке строжайшей тайны выбрать нового Великого магистра. Казалось, весь народ Иерусалима затаил дыхание. С нетерпением иерусалимские тамплиеры ожидали начала заседания в рыцарском зале своего дворца.
— Дорогие господа, — начал магистр восточных областей, — слава и хвала Богу, с Его помощью и решением уполномоченных на это рыцарей мы избрали нового Великого магистра для нашего ордена. Это, — тут он сделал небольшую паузу, во время которой ни одно движение, ни единый звук не нарушили напряженную тишину, хотя в зале находилось более сотни рыцарей тамплиеров, — это Жерар де Ридфор, и мы просим нового Великого магистра принять от нас обет послушания!
Великий магистр — коренастый человек с живыми чертами лица, с бородой, как и все тамплиеры, — вышел вперед. В глазах его светился огонек.
— Дорогие господа и братья! — голос Жерара де Ридфора звучал мощно и глубоко. — благодарю вас за этот выбор! Мне известна большая ответственность, которую должен нести за свой орден Великий магистр. Да поможет мне Господь нести ее с достоинством. Ибо не нам, Господи, не нам, а все ради славы Имени Твоего!
Произнеся девиз тамплиеров, он вышел из зала и во главе процессии магистров на встречу толпе, ожидавшей на храмовой площади; и народ Иерусалима понял, что с этих пор тамплиеры будут сражаться на стороне Люзиньяна, по тому, что Жерар де Ридфор поклялся мстить графу Триполитанскому до конца жизни.
— Теперь можно только надеяться, — сказал сосед Ролана, когда они расходились по домам, — что господин де Лузиньян всегда будет поступать согласно советам тамплиеров. Тогда по крайней мере ничего не пойдет вкривь и вкось. То, что Лузиньян ни на что не годный полководец, было известно еще нашему покойному королю.
Мусульманин, живший на той же улице, что и Ролан, услышав, эти слова многозначительно кивнул.
Но не Жерар де Ридфор, ни мудрейшие из магистров, избравшие его, словом ни один человек не мог представить себе что это был последний Великий магистр избранный в главном доме ордена.
Уже в следующем году умер король-мальчик Бодуэн V племянник прокаженного короля наследник иерусалимского королевства. Город и страна горевали об этом маленьком, всеми любимом мальчике и о надежде, которую для многих он воплощал. Похороны его прошли с большой торжественностью. Похоронная процессия, заполнившая улицы Иерусалима, покинула город через Дамасские ворота и снова вошла в него через Золотые. Можно было подумать, что все эти роскошно одетые рыцари, дамы, каноники и рыцари ордена в последний раз показывают своему мертвому королю-ребенку его страну и его город перед тем, как он уйдет в мир иной.
Ролан с соседом также вышли на улицу. Темноволосую стройную Марию Ролан держал за ручку, голубоглазую пухленькую Лену нес на руках.
— Графа Триполитанского, — неожиданно сказал сосед, — на похоронах нет.
— Он болен, — отозвался другой, — об этом известно уже целую неделю. Вы идете со всеми до церкви Гроба Господня?
— Там будет ужасная толкотня.
Ролан отправился с детьми домой. Во внутреннем дворе он играл с ними в арабскую игру в шары, которую так любили дети. Но Анна заметила; что его мысли где-то далеко.
— Что случилось? — спросила она, положив руку мужу на плечо.
— Я думаю о родном доме.
— В Лионе?
Он кивнул головой:
— Для детей будет лучше, если они вырастут там. Там, в Лионе, нет таких внутренних дворов, — взгляд его скользнул по солнцезащитной простыне и деревянной галерее, — но в вольном городе Германской империи спокойнее и безопаснее.
Вечером сосед рассказал ему о тягостной стычке, которой была омрачена заупокойная месса по маленькому Бодуэну:
— Мать покойного маленького короля и господин де Люзиньян короновались патриархом как законные король и королева Иерусалимские.
— В отсутствие графа Триполитанского?
Сосед многозначительно кивнул.
— Для коронации, — продолжил он, необходимы три государственные инсигнии: корона, скипетр и держава. Они хранятся в сундуке с тремя замками. Ключ от одного из них находится у патриарха, другой ключ — у иоаннитов, третий — у тамплиеров. Тамплиерам в конце концов пришлось отдать ключ. Они вообще считают коронацию господина де Люзиньяна событием незначительным, так как все еще надеются на претендента на престол, которого им предложит папа. Но Великий магистр иоаннитов оказал сопротивление и долго не хотел передавать ключ. Ведь иоанниты — сторонники графа Триполитанского. Только когда патриарх пригрозил им народным бунтом, Великий магистр иоаннитов принес ключ и гневно бросил его рядом с алтарем.
— Следовательно, у нас теперь есть король, — тихо произнес Ролан, — но для его избрания приехали уполномоченные лица, которых обманули. Что по этому поводу сказал предводитель дворянского сословия?
— Граф Ибелинский? К счастью, он сейчас вместе с семьей находится здесь — в своем городском доме. Он предпринял попытку примирить короля с графом Триполитанским, чтобы положить конец их соперничеству.
— Граф Ибелинский, — сказал Ролан, — рассудительный человек со здравым политическим мышлением. Благодаря его содействию я буду строить замковую капеллу под Назаретом. Хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем я закончу работы здесь, у Яффских ворот.
Ролан узнал, что графу Ибелинскому удалось добиться согласия обоих противников на встречу с целью примирения. Она должна была состояться в Тиберии, на берегу Генисаретского озера. Народ с ликованием толпился у городского дома предводителя дворянского сословия.
— Слава графу Ибелинскому! Он знает, что нужно королевству!
Войско, собранное для участия в торжествах, состояло из иоаннитов и тамплиеров; им предстояло стать свидетелями примирения. Рыцари надели самые роскошные доспехи, на конях были самые драгоценные украшения. Примирение графа Триполитанского с Великим магистром Жераром де Ридфором должно было состояться в Триполи. Освободил ли патриарх Великого магистра от его пагубного четвертого обета? Если думать о столь необходимом единстве королевства, то сделать это не представляло труда.
Ролан мог стать участником торжественного войска, в котором собирался доехать до замка графа Ибелинского.
— Не печалься, — сказал он Анне, — ведь я еду не на войну. Наконец будет заключен мир, которого веемы так долго ждали.
С любовью он обнял жену и детей:
— До скорого свидания!
Затем он присоединился к торжественному войску, и Анна потеряла его из виду в толпе.
Рыцари из многочисленных домов и касалей иоаннитов и тамплиеров еще по пути вступали в войско, возглавляемое Жераром де Ридфором. Вечером они раскинули свои палатки у какого-то горного замка. Но не успели еще разжечь лагерный костер, как от управляющего замком прибыл посланник, пожелавший, чтобы его провели к самому Великому магистру.
— Знайте же, господин, — сообщил он, — что завтра авангард турецкого войска будет продвигаться поблизости от этого замка, ибо граф Триполитанский, заключивший сепаратный мир с султаном, обязан пропускать турок через эту местность.
Тогда Великий магистр выбрал одного из своих тамплиеров и послал его в расположенный неподалеку касаль Какоун.
— Скажи там, — приказал он ему, — что все девяносто рыцарей в полном вооружении уже этой ночью должны явиться сюда!
Около полуночи Ролан проснулся от какого-то беспокойства в лагере. Тамплиеры из Какоуна разбивали свои палатки.
Рано утром войско тронулось в путь и без происшествий попало в Назарет, где к нему присоединились еще сорок рыцарей-мирян. На всех были надеты самые дорогие доспехи. Торжественное войско выглядело теперь весьма внушительно.

Великий ужас
Наступило первое мая — День святого Иакова, покровителя пилигримов. Над иссушенными горами солнце палило, как в июле. Вскоре и людей, и коней стала мучить жажда. Ролан, у которого пересох язык, утешал какого-то мальчика из свиты, первый раз оказавшегося в таком походе.
— Через час, — сказал Ролан, — ты сможешь выпить столько воды, сколько захочешь. Ведь мы будем проходить мимо источника Крессон, а он не высыхает даже летом.
Поскольку мальчик был безутешен, Ролан поклялся ему:
— Ты можешь верить тому, что я говорю: я знаю эту местность. Да будет тебе известно, что все эти стелы, которые ты видишь у дороги, поставил я. Поэтому мне знакома вся христианская Сирия. Если бы Великий магистр не послал в Какоун этих тамплиеров, он отправил бы туда меня, потому что и там я установил все придорожные столбы.
Когда же они взглянули вниз на источник Крессон, то увидели многотысячное войско всадников-мамелюков, они поили там своих коней. Это и был авангард султана, о котором доложил посланник.
Жерар де Ридфор намеревался дать бой. Он был полностью уверен в том, что одной внезапной атакой вынудит к сдаче эту могучую силу. Пусть граф Триполитанский видит, как разделаются с его сепаратным миром! Но остальные полководцы настояли, что вначале нужно провести совет, подготовившись к возможному отступлению. После этого было развернуто знамя тамплиеров, и за ним торжественное войско устремилось в долину. В атаку отправились 140 рыцарей.
Ролан остался в обозе, в его задачу входило удержать на месте лошадей. Шум боя все приближался. Ролан начал стегать лошадей, отгоняя их в безопасное место.
И тут мимо промчались мамелюкские рыцари, держа свои луки наготове. На всем скаку они стреляли прямо по крупам лошадей, которые шарахались в разные стороны и неслись, сметая все на пути.
Ролана швырнуло на землю. Лошади бешено мчались через него. Он еще успел увидеть, как маленький мальчик из обоза отлетел в сторону от сильнейшего удара, копытом и как магистр Жерар де Ридфор, уронив поводья, спасался бегством в сторону Назарета. Потом Ролан потерял сознание.
Мамелюки собрались на поле сражения и начали спускаться к источнику. К их седлам были приторочены бритые головы павших тамплиеров, Из всего войска, относящегося к ордену тамплиеров, в живых остались только двое рыцарей и Великий магистр. Все остальные, верные своему уставу, боролась против превосходящих сил противника, пока не погибли.
Ролан лежал среди павших, без сознания. Он не заметил, как мародеры сняли с него одежду. Не видел и того» как они добивали раненых лошадей. На грани яви и забытья ему казалось, что он находится во внутреннем дворе своего иерусалимского дома, и в то же время он видел, как под раскаленным солнцем над ним кружатся коршуны. Тело его совершало то, о чем рассудок не мог и помыслить: Ролан дополз до тенистого места и остался лежать в прохладе. Он совсем не думал о том, что может умереть. Не ощущал он также ни голода, ни жажды, ни даже боли. Не заметил Ролан и того, как его унесли с поля боя. Тело его было как бы отделено от него.
Когда Ролан пришел в себя, то не знал, сколько прошло времени. Над ним склонился какой-то человек и спросил его имя. Больше Ролан ничего не помнил. Но он смутно понимал, что лежит в пещере, и догадывался, что находится у отшельника. Тот ухаживал за его ранами, приносил похлебку. День миновал за днем, и ничего, кроме этого, не происходило. Ролан находился в полузабытьи, тело его было похоже на тело мертвеца.
Однажды Отшельник поднял его с постели, и, словно издалека, больной услышал повелительный голос:
— Встань на ноги!
Ролан послушно встал, но тут же зашатался и опять упал на постель. На следующий день ему удалось простоять на мгновение дольше. Еще через день он простоял целую минуту и не закачался.
— Теперь ты здоров, — сказал отшельник, и Ролан, который за все время, что лежал в пещере, не проронил ни слова, произнес: «Да».
Отшельник испытующе посмотрел на него. Поскольку он был уверен, что Ролан дал ему ответ в полном сознании, он с тех пор поручал Ролану незначительную работу. Так больной постепенно выздоравливал. Однажды, сидя у очага и раздувая жар, Ролан впервые осознал, что он делает.
— Я сижу здесь и раздуваю жар, — сказал он, не оборачиваясь к отшельнику.
— Кто же этот «я»? — спросил отшельник. Ролан напряг свою память.
— Я… я?.. — он беспомощно посмотрел на отшельника.
— Произошла битва с семью тысячами мамелюков, — осторожно напомнил старец.
— Битва? Что это такое?
Спустя неделю в пещеру вошел сурового вида человек, весь в пыли, плохо одетый и измученный. Ноги его распухли. Башмаков на нем не было. Молча он встал перед стариком. Отшельник долго разглядывал его, не произнося ни слова. Внезапно он схватил вошедшего обеими руками за плечи и стал в упор смотреть ему в лицо.
— Все потеряно, — глухо сказал пришелец.
Старик напоил его и усадил на скамью. Он вымыл ему ноги и дал поесть. Ролан наблюдал за этим очень внимательно.
— Теперь говорите, если вам угодно, — тихо попросил старик.
Ролан прислушивался, но не понимал смысла слов, которые говорил этот человек:
— Все христианские войска собрались на военный совет у источника Сефория. Впервые за всю историю нашего королевства между баронами не было разногласий, — он тяжело вздохнул, сделал паузу и продолжил рассказ: — Как только до ушей султана дошло, что в поход отправилось войско, равного которому не было на христианском Востоке, он тут же подошел к Тиберии, принадлежащей, как вам известно, супруге графа Триполитанского. Тем самым он рассчитывал наказать графа за то, что тот вместе со своими рыцарями принял участие в военном совете у источника Сефория. Ибо, даже служа своему королю, он обязан соблюдать и условия мирного договора, заключенного им с султаном для города Триполи. После затяжной паузы гость вновь продолжил рассказ:
— Патриарх Иерусалимский лежал больной в постели. Он не смог сопровождать своим благословением поход объединенного войска. Поэтому он дал воинам крест, на котором умер наш Спаситель.
Пришелец замолчал и прикрыл глаза рукой. Из всего сказанного до Ролана дошло только слово «Иерусалим»: оно показалось ему до странности знакомым, но что это означало — Иерусалим?
— Супруга графа Триполитанского находилась одна в своем имении в Тиберии, когда город был осажден султаном Саладином. Поэтому король приказал первым делом снять блокаду с города.
— Но — воскликнул отшельник, — по дороге в Тиберию на большом участке пути в горах нет воды!
Чужак не услышал этого возражения и, как во сне, продолжал:
— На небе светило безжалостное солнце, и раскаленные чепраки из кольчуги прожгли дыры в спинах коней. Сарацины измучили наше войско неожиданными короткими атаками. Много людей и коней погибло от солнечного удара. Когда воины добрались до Хаттинского Рога, они были смертельно истощены. Единственную надежду давала ночная прохлада. Но сарацины разожгли гигантские костры из хвороста и окружили ими христианское войско так, что и кошке не удалось бы выбежать за пределы кольца. Несчастные люди, попавшие в окружение, почти задохнулись. Чужака не слушался голос. Он склонил голову низко над столом.
— В эту ночь, — еле выдавил он из себя, всхлипывая, — тамплиеры закопали в землю крест, который вручил им патриарх, чтобы тот не попал в руки неверных.
— Они потеряли последнюю надежду, — пробормотал отшельник.
— Утром события развивались еще плачевнее, чем в предыдущий вечер. Графу Триполитанскому передали авангард, так как войско находилось на его территории. В меру своих сил граф с рыцарями атаковал врага. Придерживаясь определенной тактики, сарацины открыли свои ряды. Но граф с отрядом уклонился от боя и бежал. Все остальные попали в «клещи», то есть в руки султана Саладина…
— Слышно ли было с тех пор что-нибудь об этих храбрецах?
— Христианских баронов султан принял с изысканной вежливостью. Но графу Моавскому он собственноручно отрубил голову, так как тот во время его перемирия занимался грабежом египетских торговых караванов.
— Как вел себя султан по отношению к тамплиерам? — дрожащим голосом спросил отшельник.
— Он передал их своим дервишам для пыток. Привязав тамплиеров к столбам, они содрали с них кожу. Незадолго до их гибели султан пообещал сохранить им жизнь, если они откажутся от веры во Христа. Теперь и старик низко склонил голову, и Ролан увидел, как из глаз его закапали слезы.
— Да простит Господь всех, кто в час большой беды отрекся от Него, как простил Он Своего апостола Петра!
— Их было двести, — сказал чужак, запинаясь, — и никто из них не отрекся от Христа. Все они погибли как мученики.
После этих слов наступило долгое молчание.
— Что произошло с Великим магистром Жераром де Ридфором? Его тоже взяли в плен?
— И его. И даже короля. Но этих двоих султан пощадил с какой-то своей целью. Теперь султан стоит у стен Иерусалима.
— Страна осталась без короны, — почти неслышно произнес старик, — а Иерусалим — без людей, которые могли бы его защитить!
Ролан громко закричал и упал на пол. При слове Иерусалим к нему возвратилась намять, и он тут же потерял сознание.
— Теперь он выздоровеет, — сурово сказал старик. — Как хорошо, однако, тому, кто не понимает всего ужаса происходящего!

Иерусалим рыдает
Очень скоро Анна узнала о поражении торжественного войска. День за днем она ждала Ролана, внутренний голос ей подсказывал, что он не погиб. Она так долго спорила с мрачными предсказаниями соседки, что у нее не осталось сил защищаться от них. Тогда вера Анны была поколеблена: нет, Ролан больше не вернется, если он не вернулся до сих пор. Ибо если даже сейчас, когда жизнь ее была в опасности из-за осады, он не возвращался, значит, он мертв, и им не суждено больше увидеться.
Она надела на детей белые траурные одежды и закрыла свое лицо, как турчанка, ибо надежды не осталось — ни для нее, ни для детей: рано или поздно город, который защищали только изможденные старцы и мальчики, должен был сдаться, Среди женщин Иерусалима царило великое отчаяние. Встречаясь у цистерны с питьевой водой, они рыдали. Само собой разумеется, никто не произносил имени султана.
Как-то утром одна из соседок Анны, размахивая руками, подбежала к цистерне.
— Граф Ибелинский, — возбужденно воскликнула она, — граф Ибелинский в городе! Он получил от султана разрешение вывезти отсюда свою семью! — поскольку женщины оставались безучастными, она закричала: — Неужели вы не понимаете, что это для нас означает?
— Мы все понимаем, — горько ответила Анна и отвернулась.
— Ты думаешь, граф возьмет нас с собой? — насмешливо спросила другая женщина — Мы можем умереть от голода, а наши юноши и достопочтенные старцы падут на городских стенах — какое ему до этого дело?
— Только граф может нам помочь! — упрямо настаивала первая, — Я полагаюсь на него! Он может договориться с султаном, и тот не будет ни штурмовать, ни грабить наш город. Только он может воспрепятствовать тому, что наши дети не будут похищены или убиты! Он должен уговорить султана, чтобы в стенах нашего города не случилась кровавая бойня! Вперед! Пойдемте к его дому! Мы должны просить его помочь нам. Возьмите детей с собой, это растрогает графа!
Женщин собиралось все больше и больше. Они приносили с собой младенцев и приводили маленьких детей, Дочери тащили старых матерей на спинах. Перед домом графа Ибелинского собралась толпа.
— Оставайтесь с нами! Помогите нам! — кричали отчаявшиеся люди, — иначе мы все погибнем! Убедите султана, чтобы он не обрекал нас на погибель!
Граф вышел из дома и одним движением руки успокоил взволнованных людей.
— Женщины! — воскликнул он, — расходитесь по домам, я попытаюсь отвести от вас большую беду!
Матери разошлись. Они громко рыдали, чувствуя, как страшная боль перестала терзать их сердца. Анна также пошла с дочерьми домой. Она села рядом с ними во внутреннем дворе, что давно уже не делала, и дала каждой засушенный ломтик яблока из запасов.
Тяжелая осада началась 20 сентября 1189 года, и множество стариков и юношей сложили свои головы. Но уже 2 октября был подготовлен мирный договор, который заключил с султаном граф Ибелинский, ставший к тому времени полномочным представителем всех христианских баронов. Благодаря его политической сноровке город не был ни взят штурмом, ни разграблен. Тот, кто был в состоянии откупиться, мог выехать из города со всем своим имуществом. Султан назначил выкуп в десять золотых монет за одного мужчину. За женщину он требовал пять монет и две — за ребенка.
Иоанниты и тамплиеры раздали бедным все, что еще имели. Султан и его брат Малек отказались в пользу бедных от еще трех тысяч золотых монет.
С помощью тамплиеров Анне удалось выкупить себя и детей. С немногими остававшимися у них вещами они шли к воротам, где собрались те, кто откупился. Наконец воины султана разделили беженцев на три колонны. В Иерусалиме оставались больные и старые иоанниты и раненые тамплиеры, именно им Саладин подчинил две колонны: одну иоаннитам, другую — тамплиерам. Третью колонну вел граф Ибелинский.
Султан повелел всем беженцам идти в Триполи и к каждой колонне приставил по пятьдесят египетских всадников для охраны от разбойников. Еще когда беженцы собрались перед воротами, христианские привратники были заменены сарацинскими. Тот, кто еще оставался в городе, теперь принадлежал султану. Ловушка захлопнулась, и люди, очутившиеся в ней, со стенаниями метались по улицам надежде обнаружить какую-нибудь лазейку, где не было бы охраны. У них ничего не вышло. Всех их отправили на каторжные работы в Египет. Когда же произвели подсчет, оказалось, что их было одиннадцать тысяч.
Как только Ролан очнулся после обморока, отшельник увидел, что он здоров. С осторожностью, присущей целителю, он привел его в сознание, проблески которого у Ролана уже появились. Ролан, все вспомнил. Поэтому отшельник не был удивлен, что он в тот же день покинул пещеру с единственной мыслью: об Иерусалиме, где были Анна с детьми. Он бежал день и ночь, словно мог чем-нибудь помочь своим родным. Когда же на следующий день он очутился перед Яффскими воротами, воины султана как раз гнали пленных в Долину Сыроделов. Горящими глазами Ролан смотрел в лицо каждому проходящему — нет ли среди них Анны? А детей?
Сарацинский всадник ударил его кнутом.
— Вперед, христианская собака! Нам предстоит еще долгий путь!
И Ролан оказался одним из тех, кого отправили на принудительные работы по укреплению стен богатого города Дамьетты, ключевого подступа ко всему Египту. В глубочайшем отчаянии он плелся вместе с массой людей.
Пленные шли молча. Их горе постепенно сменялось безграничной усталостью. Лишь иногда, когда всадники подгоняли их ударами кнута, так как они шли слишком медленно, Ролан бормотал про себя слова «крысиные хвосты», значение которых растолковал ему Арнольд много лет назад.
Печальное шествие проходило мимо крепости Газа, снова принадлежавшей Египту. Безучастно они выслушали известие о том, что султан Саладин обменял Великого магистра Жерара де Ридфора на эти бастионы. Впервые в истории Великий Магистр тамплиеров позволил себя выкупить.
В египетских городах и селениях, через которые их проводили, озлобленные местные жители выкрикивали им дурные новости, но пленные почти не воспринимали их из-за усталости.
— Вы, христиане, потеряли всю Палестину! — египтяне пересчитывали по пальцам владения христиан на Востоке: — Вам больше не принадлежит ни графство Антиохийское, ни графство Триполитанское, ни город тамплиеров Тортоза с окружающими его тридцатью восемью деревнями тамплиеров, ни крепость иоаннитов Маргат, ибо султан взял Аккон и Яффу.
Шайка уличных мальчишек подошла и стала плевать несчастным в лицо.
— Ваш король выкупил себя по милости султана! — кричали они. — Он и главный тамплиер вынуждены были пообещать султану, что никогда не будут против него сражаться. Но ведь вы, христианские собаки, никогда не держите своего слова!
И мальчишки снова плевали им в лицо.
— Вы предатели! Ваш король и главный тамплиер собрали воинов и за спиной султана отвоевали себе тамплиерскую крепость Аккон! Теперь султан устроил осаду этого города. Да погубит их Аллах! Правильно, что вас гонят на подневольные работы!
Путь до Дамьетты был еще долог, и многие пленные умерли от жары.

Домой?
Граф Триполитанский велел закрыть городские ворота при приближении трех колонн беженцев. Ведь беженцев было намного больше, чем жителей города. Они легко могли взять власть в городе и захватить его продовольственные запасы! Может быть, султан угрожал городу Триполи, намеренно пригнав в него этих людей?
А в лагере за городскими стенами народ призывал гнев Божий на голову графа Триполитанского, его жестокосердия никто не мог понять.
Несколько дней спустя из Аккона в порт города Триполи прибыл флот тамплиеров, собиравшийся отплыть в Европу; беженцам сказали, что те из них, кто готов к отплытию, должны сообщить об этом. Но что им было делать в странах, о которых они знали только по рассказам? Они не верили, что там для них будет лучшая жизнь.
Среди немногих, оказавшихся готовыми к путешествию, была и Анна с детьми. Ей тяжело было расставаться со страной, в которой жили они с Роланом. Поэтому снова и снова она повторяла про себя слова, сказанные ей Роланом в день коронации маленьком внутреннем дворике: дети должны подрастать в Лионе, там, в вольном городе Германской империи, спокойнее и безопаснее.
Сквозь слезы смотрела Анна, как исчезает на востоке коричневатая полоска земли, сливаясь с голубой водой. Все беженцы были на грани изнеможения еще по окончании пешего марша в Триполи.
Но день ото дня несчастные все больше отдыхали, печаль их становилась слабее, и на многих лицах вскоре появилась полная надежд улыбка.
На корабле находились тамплиеры, одетые в коричневые плащи; они обязаны были прослужить для ордена год, подобно тому, как Ролан прослужил для него несколько лет.
Одним из побратимов ордена был некий господин де Прованс. Его оруженосец охранял какой-то ящик, прикрытый черным полотенцем. То и дело он приносил лейку с водой, приподнимал полотенце и лил воду в ящик.
— Наверное, в этом ящике какой-то особенный зверь, мама? — пытались разгадать загадку дети Анны, — и питается он одной водой?
— Как ты думаешь, Мария, он мне ничего не сделает, если я подползу к ящику и приподниму краешек полотенца? — лукаво спросила Лена.
— Я не хочу, чтобы ты туда подползала, — твердо ответила сестра. — Я спрошу у оруженосца, — она взяла сестру за руку и подвела к брюзгливому старому оруженосцу господина де Прованса, — Если ты позволишь, — начала она, — я у тебя кое о чем спрошу.
Оруженосец не смог скрыть улыбки.
— Я тебе отвечу, — сказал он столь же вежливо, — если смогу.
— Что находится в этом ящике, куда ты все время наливаешь воду?
— Ты еще не догадалась?
— Мы долго думали и о том и о сем. Это какой-то особенный зверь? Ничего другого нам в голову не приходит. Так это зверь?
Оруженосец уже собирался сказать, что, конечно, это зверь, как вдруг девочки услышали над собой низкий голос:
— Нет, это не зверь — это роза.
Господин де Прованс присел на корточки рядом с ящиком.
— Жил когда-то мудрый царь по имени Соломон. Дворец его стоял в Иерусалиме. Там он велел построить во славу Божью такой великолепный Храм, чтобы весь мир этому удивился. Соломону была милостиво дана долгая жизнь, и поэтому он смог отпраздновать завершение строительства Храма. На празднестве в знак благодарности он спел радостную песнь. Весь мир повторял слова той песни и назвал ее Песнь Песней царя Соломона. В ней он называет возлюбленную сердца своего розой. И вот именно потому я искал в Святой Земле этот цветок. Его я привезу в свой родной город Прованс и покажу каждому, кто придет ко мне в гости, ибо в Европе цветок Соломона не известен. Но, чтобы роза не погибла в пути, мой оруженосец должен каждый день ее поливать и защищать полотенцем от солнца. Вы хотите сейчас ее увидеть?
Господин де Прованс приподнял черное полотенце, и девочки склонились над ящиком. Они увидели куст с великолепными рубиново-красными цветами и не удивились, что этот цветок полюбил какой-то царь.
Господин де Прованс довез Анну с девочками в своей свите до самых ворот Лиона. Там он попрощался с ними, потому что собирался ехать в замок тамплиеров, расположенный к северу от города в излучине Роны.
— Там мне дали коричневый плащ, — сказал он, — туда я его и верну.
Анна взяла свой мешок и вместе с девочками вошла в городские ворота. Мария и Лена бросили прощальный взгляд на лошадь, везущую ящик с розой. К их радости, драгоценный цветок Соломона хорошо перенес морское путешествие. Какая-то женщина показала им дорогу в дом каменотесов и с любопытством осмотрела приезжих.
— Не подумайте обо мне плохо, — сказала она, — но меня все же интересует, что вам там нужно. Наши люди не очень-то охотно посещают этот дом.
Анна ответила:
— Мы родственники каменотеса.
— Тогда я вам ничего не скажу, — пробормоталаженщина и ушла.
Дети, которые ничего не поняли из разговора, с надеждой улыбались, когда Анна постучала в дверь. Дверь дома открыли и, ни слова не говоря, снова захлопнули; и улыбка исчезла с лиц детей.
Анна постучалась еще раз, но дом словно вымер. Испуганные дети заплакали. И тут, шаркая ногами, мастерской вышел какой-то мужчина.
— Что вам нужно? — спросил он усталым голосом.
— Я разыскиваю двоюродного брата моего мужа, каменотеса Жана.
— Что? Кого ты здесь ищешь, и как его зовут?
— Жана, каменотеса из Лиона.
— Это я, но тебя, женщина, я не знаю;
— Я жена твоего двоюродного брата Ролана, а это его дети.
— Чем ты можешь доказать, что говоришь правду?
— У твоего кузена, — сказала Анна, — с детства была белая прядь в волосах. Ему принадлежат овцы, которые пасутся за капеллой святой Магдалины. Он сказал мне: «Жан позаботится о том, чтобы стадо к моему возвращению увеличилось».
— Я это сделал, клянусь Господом! — воскликнул каменотес, и казалось, с него спала вся усталость. — Но скажи мне, где же мой кузен? И почему он сейчас не здесь, с вами?
Не успела Анна ответить, как дверь снова распахнулась, и показалась какая-то женщина.
— Эй вы, убирайтесь! — закричала она. — Заходи, старик, поскорее! Я не стану терпеть всякий сброд на своем дворе!
— Жена, — старался уговорить ее муж, и бледное лицо его при этом покраснело, — это не сброд. Эта госпожа — жена моего двоюродного брата, а это — ее дети. Им принадлежит часть этого дома и мастерской, как записал Ролан в документах, хранящихся у тамплиеров. У госпожи есть доказательство, которому я верю. Поэтому впусти ее!
Жена каменотеса неохотно перестала загораживать: од. При этом она презрительно пробормотала:
— И это не сброд? Мне просто смешно!
Жан проводил родственников в кухню и попросил Анну сесть. Свои мешки она сложила в углу. Жан сказал жене:
— Устрой их в комнате наверху, наш сын вернется не так скоро.
— У тебя, наверное, бывают видения, раз ты знаешь то, что произойдет в будущем, — грубо проворчала жена Жана, доставая метлу из шкафа. Костлявым пальцем она указала на Марию: — Пойдем, девочка, со мной, тебе не повредит, если ты мне поможешь.
Она дала ей помойное ведро и приказала наполнить его. Анна робко поднялась за ней по лестнице.
Жан тяжело вздохнул.
— Это просто какой-то крест, — сказал он и, покачав головой, уставился в пол.
— Послушай, госпожа, как обстоят твои дела, — наконец продолжил он, — сегодня ночью вы будете спать у нас — в комнате, где жил кузен перед тем, как отправиться с дядей в паломничество на Восток. Завтра я пойду вместе с тобой к нотариусу и засвидетельствую, что ты жена моего кузена. Перед тем я поведу тебя в церковь святого Мартина, где ты должна будешь поклясться перед Господом, что обвенчана с моим кузеном по церковному закону и что двое твоих детей — его крови и приняли святое крещение. Как только это произойдет, я ничего не буду иметь против, чтобы ты пользовалась правами моего кузена. А здесь, в доме, порядок один: хозяйкой его была, есть и будет моя супруга. Каменотесной мастерской будут владеть двое моих сыновей, даже после того как твои Девочки выйдут замуж за чужих каменотесов. Тебе принадлежит часть этого дома и здания мастерской часть садов, полей и скота. Камни, находящиеся на этой территории, обтесанные и необтесанные, принадлежат моим сыновьям как сырье для работы. Старшего зовут Рене, младшего — Андре. Средний, Филипп, находится в отъезде. Я скажу тебе все как есть: он маменькин сынок. Он станет писарем. С тех нор как кузен уехал, Филипп жил в той комнате наверху, которую жена сейчас приводит в порядок для вас. Конечно же, он может вернуться, если промотает деньги, которыми его снабжает мать.
— Ремесло писаря, — сказала Анна в утешение деверю, — совсем не плохое, кузен Жан, ведь писарей требуется все больше и больше. На Востоке христианским купцам всегда их не хватает. Поэтому вы можете только радоваться тому, что ваш сын учится писать!
— Мы, каменотесы, и так умеем писать, — сказал Жан. — Мы высекаем знаки на наших камнях и выдавливаем их на восковых табличках. Но это совсем другой род письма. Он служит для взаимопонимания между каменотесами или как указатель для заказчика. По большей части мы пользуемся совсем простыми от метками для обозначения наших изделий, они облегчают нам расчеты.
Тем временем звон церковных колоколов возвестил об окончании рабочего дня, и сыновья каменотеса вернулись из мастерской вместе с мастерами и подмастерьями.
Жан показал на сильного молодого человека с замкнутым выражением лица, не лишенным, однако, дружелюбия:
— Это Рене. А вот Андре. С ним, госпожа, нужно держать ухо востро, он шутник.
Жан объяснил сыновьям, что Анна — жена Ролана.
— Завтра, — сказал он им, — я пойду с ней к нотариусу, — поскольку ремесленники все еще не расходились и разглядывали Анну, он добавим — Она приехала из Святой Земли.
— Есть у нее какое-нибудь доказательство? — с любопытством, но без недоверия спросил Андре. — Как там дела на Востоке? Верно ли, что дело христиан проиграно? Видела ли ты святые города, госпожа? Почему тамплиеры не смогли защитить Иерусалим, ведь они все еще там? — так и забросал он ее вопросами.
Анна не смогла ответить сразу на все, но на последний печально сказала:
— Племянник, тамплиеров в Иерусалиме больше не осталось. Теперь Святой Город навсегда лишен защиты, ибо султан Саладин приказал снести все крепостные стены. Я говорю тебе это потому, что твои предки — Пьер, Арнольд и Ролан — работали над возведением этих стен.
— Дядя Ролан погиб?
— Никто не знает.
Тогда Рене, до сих пор не произнесший ни слова, повернулся к Анне.
— Ты думаешь, — спокойно спросил он, — что твой муж мертв, или же надеешься, что он еще жив?
Рене внимательно посмотрел ей в лицо. Анна наклонила голову так, что под платком не было видно ее глаз.
— Мой рассудок утверждает, что он мертв. Но сердце мое говорит, что он еще жив.
— Да смилостивится над ним Господь здесь или там! — сурово сказал Рене. Затем мужчины сели за стол.

Анна, гражданка Лиона
Поздно вечером Анна и девочки легли спать на солому в комнате на чердаке, которую подготовила для них супруга кузена. Никто из них не спал; каждая смотрела в окошечко, за которым было видно усеянное звездами небо.
Было ли это возвращение домой? Анна стиснула зубы чтобы тяжело не вздыхать. Слезы лились из ее глаз и струились по щекам.
— Мама, — прошептала Мария, — тетя спросила меня, как выглядит наш отец. О белой пряди у него в волосах она ничего не желает слушать. Она обещала подарить мне медовую лепешку, если я скажу людям на улице, что наш отец был рабом.
Анна содрогнулась от гнева:
— Ваш отец Ролан — каменотес из Лиона. Он хозяин, а не слуга, и в волосах у него есть белая прядь. Но, может быть — если Господь даровал ему жизнь, — он сегодня действительно стал рабом, и все его волосы поседели. Ведь он тревожится о нас так же, как и мы о нем. По воле его вы должны воспитываться в его родном городе, и поэтому мы здесь.
— Я волнуюсь, мама! Здесь мне не нравится, — сказала Мария.
Лена заплакала. Мария вдруг поднялась с постели и направилась к двери.
— Что с тобой, детка, куда ты? Лучина догорела, и мы не можем зажечь ее!
Но Мария уже выскользнула из комнаты. В памяти Анны всплыла ночь из Второго крестового похода, когда она сама тайком убежала из лагеря, и она не стала звать Марию вернуться. Прислушиваясь к редким звукам, она легла на солому рядом с Леной.
Ни одна ступенька крутой лестницы не скрипела. Раздавался только храп подмастерьев из другой чердачной комнаты. Мария добралась до нижней ступеньки. Еще несколько шагов налево — и она стояла перед дверью, за которой вечером скрылись дядя с женой. Она приложила ухо к гладкому прохладному дереву. Из комнаты доносился приглушенный голос дяди:
— Ничего этого я не слышал, жена! Ты совершаешь грех!
— Многие люди грешили, и от этого их детям была одна польза. Поэтому я повторю тебе еще раз: должен найтись такой способ, чтобы мы переписали на себя ту часть имущества, которая принадлежит твоему двоюродному брату! Но прежде всего она не должна получить того, что ей причитается!

ПЛАН ЛИОНА И ОКРЕСТНОСТЕЙ
1 Старый город. 2. Новый город. 3. Сона. 4. Рона. 5. Лебединое озеро. 6. Бараний мост. 7. «Блестящий» мост. 8. Волчье ущелье. 9 Мельницы. Ю. Каменоломни.
И так как Жан не отвечал, жена напустилась на него:
— Ты ни на что не годен. Подумай только, как выгодно, что у нее нет сыновей! Нотариус завтра же оформит опеку над девочками. Я дам для него кусок масла.
— При этом ты думаешь только о своем Филиппе, я же тебя знаю.
— Только пусти ее сюда жить, она уж у меня получит!
Мария вздрогнула. Рядом с ней затрещала половица. Девочка почувствовала, что в темноте стоит еще кто-то! Затаив дыхание, она ждала. Кто же это мог быть? Чуть подальше затрещала еще одна половица, на лестнице заскрипели ступеньки, ведущие вниз, осторожно хлопнула дверь, открывающаяся в коридор.
Мария прижала руку к учащенно забившемуся сердцу. «Друг или враг? Враг или друг?» — стучало оно. Завтра она узнает, кому принадлежит нижняя комната. Дрожа, она проскользнула назад в мансарду.
После завтрака, за которым «тетя вела себя чуть более дружелюбно, чем накануне, Анна с девочками отправилась вслед за Жаном в церковь святого Мартина. Когда хозяйка вручила Жану большой кусок масла, сердце у Марии заколотилось так же тревожно, как в прошлый вечер.
В церкви было темно; когда их глаза привыкли к темноте, они увидели у алтаря человека, стелившего новую скатерть. Этот человек попросил Жана быть свидетелем клятвы Анны.
Она подняла руку и спокойно повторила то, что велел ей сказать Жан:
— Я торжественно заверяю перед Господом, что я перед лицом всех святых сочеталась браком с Роланом, каменотесом из Лиона. Мои дети его крови, приняли христианское крещение.
— Он наш любимый отец! — громко закричала маленькая Лена. — У него белая прядь в волосах, и он хозяин, а не слуга!
Священник удивленно посмотрел на малышку и, улыбаясь, сказал Жану:
— Устами младенца глаголет истина! — и удалился в ризницу.
И опять Анна с девочками пошла вслед за Жаном, который привел ее к нотариусу, худому остроносому человеку; взглянув на Анну, тот сразу же спросил Жана:
— Итак, ты, каменотес, ручаешься за эту госпожу, что она вместе со своими девочками не будет бременем для общины?
— Я ручаюсь.
— Достаточно ли у нее доказательств, что она — жена своего двоюродного брата?
— Достаточно.
— Есть ли у тебя, госпожа, опекун для девочек? — спросил он Анну.
— А я и не знала, что он нужен, — ответила она. Жан слегка приподнял кусок масла, чтобы нотариус увидел его.
— Если тебя, госпожа, это устраивает, — сказал нотариус не подавая вида, что он заметил масло, — если тебя это устраивает, то мы запишем опекуном детей каменотеса Жана. Вероятно, у вас здесь нет другого родственника.
— Это меня устраивает, — сказала Анна, в то время как Мария изо всех сил дергала ее за передник. — Что с тобой, детка? — тут же спросила Анна. Но Жан уже стал опекуном детей.
Нотариус, убрав с глаз долой кусок масла, позвал к себе помощника, который еще раз спросил Анну и Жана, все ли именно так, как они утверждают. Затем оба чиновника сделали запись в книге, и нотариус сказал:
— Теперь все в порядке, госпожа, ты стала гражданкой города Лиона.
— Благодарю нотариуса и от имени моих детей, — сказала Анна.
— Тогда пошли домой. Моя хозяйка уже ждет вашей помощи. Она сказала, что сегодня много работы.
— Кузен, — сказала Анна, — я сюда приехала не для того, чтобы бездельничать, и прежде я никогда не бездельничала.
— Не в обиду будь сказано, — пробормотал Жан и вышел на улицу.
Перед зданием местного управления их ожидал Рене. Жан в растерянности остановился перед ним.
— Чего тебе здесь нужно? — спросил Жан. — Разве ты сегодня не должен производить обмер камней на мысу между двумя реками?
— Это дело может подождать до вечера, отец, — Рене повернулся к Анне и сказал: — Тетя, мой отец не такой хороший ходок, как я, Поэтому я хотел бы сопроводить вас на Лебединый остров, куда вы, безусловно, должны попасть, ведь мой дядя Ролан оставил записи о своей доле имущества у тамплиеров. Ты должна познакомиться с этими записями, чтобы знать, что тебе принадлежит.
При этих словах сына серая кожа Жана покраснела. Он оглянулся в испуге, как будто почувствовал опасность за спиной. И сказал, запинаясь:
— Но мама ясно велела привести их домой именно сейчас.
Рене посмотрел на отца с укоризной, и тот, опустив плечи, молча поплелся домой.
— Племянник, — сказала Анна, — отведи меня к стаду, принадлежащему Ролану, за которым ухаживал твой отец. В благодарность за его заботу я подарю ему пятерых ягнят, а ты их выберешь.
Так они вместе с Рене дошли до капеллы святой Магдалины, и Анна попросила показать ей пятерых самых красивых ягнят, а затем пометить, что они принадлежат стаду Жана.
Девочки наблюдали за движениями своего двоюродного брата и в первый раз после приезда в город Лион испытывали приятное чувство.
Пометив ягнят, Рене сказал:
— Тетя, ты хорошо сделаешь, если станешь сестрой ордена тамплиеров; Твое стадо достаточно велико, и ты, вероятно, сможешь отдать им овцематку. Тогда ты будешь под их защитой. И заключи с ними договор. Прошу тебя, сделай это! — он настойчиво смотрел на Анну.
Выбрав овцу, они миновали мост через Сону, прошли по улицам Нового города и переправились через Рону. На противоположном берегу Роны они в течение часа шли на север. Дети, которые вначале пугливо сторонились Рене, начинали все больше доверять ему. Рене же без устали развлекал их разговорами.
— Вы видите уток на реке? А вот там, там летит цапля. У нее очень толстый зоб, потому что она набила его рыбой, пойманной в реке. Цапля — хищница, — Рене рассмеялся.
Мария то и дело внимательно поглядывала на него и, не обращая внимания на все его речи и смех, думала о том, как скрипела половица…
Наконец они очутились у небольшой рощи, окруженной длинной стеной.
— За этой рощей, — объяснил Рене, — Рона сначала течет с востока на запад, огибает рощу и поворачивает на юг. Все, что находится в пределах этих обширных стен, принадлежит тамплиерам.
Через приоткрытые тяжелые ворота было видно, как привратник разговаривал с другим тамплиером. Он окинул взглядом пришельцев, увидел, что они привели с собой овцу, и, не прерывая беседы, жестом показал им идти направо.
Они пошли по узкой тропинке и вскоре оказались перед обширным овечьим хлевом, который был не открытым, как на Востоке, а имел боковые стенки и ворота, запиравшиеся на засов. Овцу приняли у них два сервиента, одетые в черные рясы, подоткнутые выше пояса. Один из них дал Рене кусочек дерева, на котором был вырезан какой-то знак. Он объяснил, что счетовод находится в замке на озере и что лучше всего для них будет, если они пойдут дальше по той же лесной тропинке.
Чуть позже они стояли перед озером с несколькими островами. Какой-то старый тамплиер кормил лебедей, спокойно к нему подплывавших.
— Это озеро, тетя, — старое русло Роны. Так было раньше. Теперь же оно насыпями отделено от реки.
На самом большом острове возвышался замок тамплиеров с крепкими высокими стенами. Подвесной мост был опущен.
— Этот замок, тетя, не просто безопасное жилище для тамплиеров: в нем хранится в золотом сосуде и почитается реликвия святой Магдалины. Поэтому не удивляйтесь, что мы, лионцы, называем замок Домом Золотой Головы.
Анна взяла девочек за руки и пошла с ними по подвесному мосту.

На Лебедином озере
В воротах за подвесным мостом на посту стоял часовой.
— Можно пройти к главному счетоводу? — спросил его Рене.
— Вам повезло! — ответил тот, подозвав к себе сервиента. — Главный счетовод по случайности сегодня здесь. Обычно же он находится в нашем городском доме на Соне, — а сервиенту часовой сказал: — Проводи их к главному счетоводу, если ты сейчас не занят работой в саду.
У сервиента был подвязан фартук, о который он вытирал руки, испачканные глиной, шока шел через двор замка. Они поднялись в какое-то здание, где на площадке перед лестницей располагалась канцелярия.
— Сюда! — показал сервиент, пряча свои руки, все еще испачканные глиной, вод фартук.
Главный счетовод сидел за огромным столом, занимавшим почти всю комнату. Когда они вошли, он оторвался от гроссбуха, испещренного цифрами.
— Садитесь на скамью! — он потер глаза большими пальцами. — Говорите, что там нужно, только побыстрее, я очень занят.
— Эта женщина хочет стать сестрой вашего ордена. Вчера она приехала с Востока и засвидетельствовала, что приходится мне тетей. Она — супруга Ролана, каменотеса из Лиона, и зовут ее Анна. Обе эти девочки являются ее законными детьми. Они приняли крещение.
— Ты ведь Рене, каменотес?
— Он самый.
— Я тебя еще помню. Ты иногда нам помогая при строительстве этого замка.
Главный счетовод подмигнул своему писарю. Когда же Рене сказал, что Ролан отправился на Восток пятнадцать лет назад, он велел:
— Принеси книгу за 1175 год!
Писарь нашел эту книгу в один миг. Между двумя обложками лежала пачка листов неравной величины. Главный счетовод перебирал их до тех нор, пока не воскликнул — Вот! — проведя указательным пальцем вдоль какой-то строчки. — «Ролан, каменотес из Лиона, предлагает свое поле, расположенное на противоположном берегу Роны, для использования на срок в десять лет. За это он получает деньги на поездку в Святую Землю. Поле остается собственности вышеуказанного каменотеса. Орден же обязуется следить за всем имуществом каменотеса Ролана, чтобы ему не был нанесен какой-либо ущерб, и гарантирует каменотесу ежегодно это проверять.
Если же орден будет пользоваться полем более десяти лет, то четвертая часть каждого годового дохода будет надлежать каменотесу. Эта часть, должна откладываться в кассе ордена, пока не пройдут последующие пять. Ежегодно эта часть должна увеличиваться на одну из общей суммы дохода.
Если же каменотес Ролан не востребует свою собственность в течение пятнадцати лет, то ее должны будут наследовать ближайшие родственники. В случае, если в живых не останется ни одного родственника, собственность каменотеса Ролана перейдет к ордену».
— Дорогая госпожа, — обратился к Анне главный счетовод, не отрывая пальца от листа, — в этом году истекло пятнадцать лет, а ближайшие родственники каменотеса — это твои дети и ты. Хотите ли вы сами вести хозяйство на поле, или же ты желаешь, чтобы это продолжали и в дальнейшем делать мы, перечисляя тебе четвертую часть дохода?
— Я хотела бы, чтобы вы пользовались полем так, как это было до сих пор.
— Тогда тебе полагается четверть доходов за последние пять лет и десятая часть ежегодного прироста. Если желаешь, ты можешь получить все накопившиеся деньги. Но также ты имеешь право получить только десятые части ежегодного прироста, оставив прочие деньги ордену, чтобы они и в дальнейшем приумножались.
— Я возьму только десятые части прироста, чтобы купить детям самые необходимые вещи. Все остальное мы хотим заработать, — она передала главному счетоводу бирку. — Я отдала к вам в стадо суягную овцу.
— Запиши! — велел он писцу, а Анне сказал: — Мы принимаем тебя и твоих дочерей под покровительство. Если у тебя будут заботы, с которыми тебе в одиночку не справиться, сообщи об этом нам. Но не приходи для этого сюда, а просто спроси меня в нашем городском доме. Здесь я всегда бываю очень занят. Ты все записал правильно? — спросил он писаря. — Тогда прочти нам это вслух!
— «Анна, супруга Ролана, здешнего каменотеса, отдала сегодня ордену суягную овцу. Вместе с ее дочерьми и имуществом она перешла под наше покровительство».
Главный счетовод кивнул Анне уже в знак прощания, как вдруг Рене наклонился вперед и настойчиво посмотрел ему в лицо.
— Разрешите еще один вопрос, господин, — сказал он хриплым голосом, — нет ли среди владений ордена какого-нибудь небольшого домика, который моя тетя могла бы взять в аренду? Или же ты хочешь остаться у нас?
— Нет! — воскликнула Мария вместо матери и в испуге опустила голову. Когда она снова подняла глаза, взгляд ее встретился с насмешливо улыбавшимся взглядом кузена. Теперь стало понятно, что именно они стояли у двери комнаты жены каменотеса и подслушивали разговор.
— Мой племянник прав, — медленно сказала Анна. — Только арендная плата не должна быть чересчур высокой.
Главный счетовод сказал, что ордену принадлежит небольшой домик у городской стены, который недавно был унаследован от одной старой женщины.
— Мы можем передать тебе домик за небольшую арендную плату, если он тебе понравится.

Хочет ли этого Господь?
Домик оказался очень маленьким, но его крыша была аккуратно застелена соломой и не протекала. Внизу находились кухня и комната, в обеих был дощатый потолок. В кухне на стене висели несколько сковородок и небольшой деревянный чан. Две скамьи стояли по обе стороны узкого стола. За домом располагался крошечный садик, ограниченный городской стеной. За шаткой перегородкой, прислонившейся к стене дома, можно было держать козу. На одной из скамеек стояла кадка для воды, ее предстояло таскать на спине. Но колодец был далеко.
Когда Анна с дочерьми поселились в этом домике, девочки смастерили две скамеечки и принесли их на чердак. Одну они установили под слуховым окном, выходящим на улицу. Другую поставили к заднему слуховому окну, из которого — окно было расположено выше городской стены — открывался вид на обе реки и дальше. Первое время они часто глазели в окна, поскольку многое в этом европейском городе для них, выросших на Востоке, было непривычным и любопытным. Девочки наблюдали затем, что происходило вокруг, оставаясь незамеченными.
У всех домов на улице имелись окна, в которые мог заглянуть любой прохожий; это казалось странным, так как можно было наблюдать за домашней жизнью обитателей. Из этих окон женщины выбрасывали мусор на улицу и вытрясали тряпки. У Анны в домике тоже было такое окно. Дети, играя в комнате, осторожно из него выглядывали.
Однажды из заднего чердачного окна они увидели две процессии всадников, приближающихся к городу с севера.
Разноцветные одежды всадников выделялись на фоне снега в полях, который еще не успело растопить весеннее солнце. Они ехали без развернутых знамен, но, судя по обозу, это был военный поход. Каждый оруженосец держал в поводу трех коней, один из которых был боевым. Как только они поставили палатки перед городскими воротами, из уст в уста начала передаваться весть: «Перед лионскими воротами собрались участники нового крестового похода!» Возглавляли этот поход французский король Филипп-Август и английский король Ричард, прозванный за храбрость Львиное Сердце.
Третьим королем был немецкий император Барбаросса, отправившийся в поход на несколько недель раньше и пробиравшийся по суше на Восток. Все это Анна узнала у женщин, которых она встречала у колодца, когда ходила за водой.
— Благословение Божье крестоносцам? — сказал Анне какой-то мужчина, — но глуп тот, кто идет с ними! Или ты, госпожа, считаешь иначе?
— Не знаю, — тихо сказала Анна. В задумчивости она пошла дальше.
На следующий день короли с рыцарями проезжали по городу, и на улицы выбежало много народа поглазеть на роскошные одежды рыцарей и богато украшенную сбрую их коней. Каждый спешил в толпу, чтобы коснуться королевской мантии, ибо считалось, что это приносит счастье.
Вечером жители города ни о чем другом, кроме похода, не говорили. Во многих семьях родители удивлялись, что их сыновья не вернулись домой, но не печалились из-за этого. Должна же молодежь подольше насладиться зрелищем, которое представляют собой эти герои!
Только на следующий день, когда сыновья так и не вернулись, родители заволновались и начали их искать. Но участники крестового похода уже вышли из города. На многочисленных судах рыцари отплыли в сторону Средиземного моря, и пропавших сыновей родители не нашли. С юношеским энтузиазмом их сыновья присоединились к участникам крестового похода. Отцы проклинали их, а матери рвали на себе волосы. Очень медленно в город возвращался обычный покой. И тут пришло известие, что император Барбаросса утонул в одной из рек Малой Азии. Лишь немногим его рыцарям удалось добраться до Триполи.
Когда Анна слышала эти вести, у нее начинало громко стучать сердце. Она, видевшая, что происходило во Втором крестовом походе, легко могла представить себе Третий поход.

Домик
Когда Анна впервые пришла в городской дом тамплиеров, чтобы внести арендную плату за домик, весть о счастливой высадке на Востоке французской и английской частей крестоносцев достигла Лиона. Теперь должна была начаться осада Аккона. Каждый день в Лионе звонили церковные колокола, созывая верующих на молитву за Святую Землю.
В разгар лета 1191 года эти колокола звонили не переставая: Ричарду Львиное Сердце и Филиппу-Августу с помощью тамплиеров удалось, продвигаясь из тамплиерской крепости Аккон, захватить город Аккон с его морским портом. Английский флот атаковал этот город с моря. Адмиралом его был тамплиер по имени Робер де Сабле, и он привез с собой на Восток английских рыцарей ордена. В замке тамплиеров в Акконе Робер де Сабле был избран Великим магистром. Аккон снова находился в руках христиан.
Когда Анна внесла годовую арендную плату во второй раз, крестоносцы совместно с иоаннитами и тамплиерами под предводительством Ричарда Львиное Сердце вернули себе все сирийское побережье.
Анна удивленно посмотрела на главного счетовода.
— Почему, — спросила она, — почему после этой победы вы, господин, не стали даже чуточку веселее?
— Госпожа, — ответил он, — что толку завоевывать мощные укрепления вдоль сирийского побережья, если недостаточно людей, которые могли бы их защищать! Орден обескровлен, и ему нужно время, пока подрастет новое поколение. Теперь дворянские дома предоставляют нам для воспитания своих вторых по старшинству сыновей уже в возрасте десяти лет. Но мы ведь не можем вести военные действия силами одних детей!
Затем в Лион пришла весть о мирном договоре, заключенном Ричардом Львиное Сердце с султаном Саладином на три года, три месяца и три дня. По-прежнему владея Иерусалимом, Саладин передал христианам побережье между Тиром и Яффой, а кроме того, половину территорий Рамла и Лидда.
Когда Анна на Пасху в 1193 году платила за свой домик в третий раз, счетовод сказал ей, что султан Саладин умер. Теперь на Востоке должны были разгореться бои между мусульманами, так как не только сыновья султана, но и его братья стремились захватить власть. Главный счетовод устало заметил, что христиане могли бы воспользоваться этой междоусобицей, но в состоянии ли они это сделать? Он пожал плечами.
По дороге домой Анна как всегда думала о Ролане. В этих бесконечных и тревожных переменах в борьбе между державами с их сражениями на Востоке легко мог потеряться человек. Так было прежде, так было и сегодня. Если он еще жив, то это было бы редким счастьем. И все же…
Мария и Лена пошли к колодцу вместо матери.
— Наберите в кадку воды только до половины, — велела Анна, — а то она будет для вас слишком тяжелой.
Когда девочки набирали воду из колодца, мимо проходил Рене, которого они не видели три года. Рене удивился, встретив их здесь. Взгляд его остановился на черных косах Марии, и одну из них он взял в руки.
— Передайте привет вашей матери, я ее давно уже не видел, — рассеянно сказал он и пошел дальше.
У девочек возникло ощущение, что Рене хотел сказать что-то другое.
— Было бы хорошо, если бы он поговорил снами подольше, — задумчиво произнесла Мария. Затем они ремнями привязали кадку к плечам.
Время от времени они встречали людей из каменотесной мастерской, но всегда только случайно. Благодаря одной такой случайности они столкнулись с Андре. Он радостно поприветствовал их и стал по обыкновению сыпать шутками. Каждая из девочек должна была поцеловать его в щеку; Андре утверждал, что ему нужен прощальный поцелуй: он намеревался покинуть Лион.
— И куда же ты собрался? — поинтересовались они.
— В гавань брака! Можете рассказать об этом вашей матери.
Такими словами он их чрезвычайно удивил.
Увиделись они еще раз и с Рене. Он сказал что-то по поводу того, какие они выросли большие, и снова потрогал косы Марии. Однако тотчас же отпустил их и ушел. Девочки остались в замешательстве: они помнили, как разговорчив был Рене, когда привел их в Дом Золотой Головы.
Марии исполнилось восемнадцать лет, и она уложила свои косы на голове. Рене не узнал ее, проходя мимо.
— Рене, — позвала она его, — ты меня уже не узнаешь?
Он остановился и, потрясенный, стал ее разглядывать. Затем сказал очень серьезно:
— Ты стала красивой, Мария, — повернулся и ушел.
Когда настала пора платить за домик в девятый раз, Анна послала в городской дом тамплиеров Марию. По пути Мария услышала спор двоих юношей, один из которых обвиняя другого в том, что тот неправильно сообщил ему последние новости.
— Да, — кричал он, — короля Англии зовут Иоанн Безземельный, а не Ричард Львиное Сердце, как утверждаешь ты!
Как только Мария предстала перед главным счетоводом, она спросила его, кто из юношей прав.
— Ричард Львиное Сердце, милое дитя, любимый сын королевы Элеоноры, один из инициаторов Третьего крестового похода, умер от раны, полученной в поединке. Теперь король Англии его брат Иоанн Безземельный.
В тот вечер впервые за девять лет их посетила тетя. Прямо от дверей она закричала своим пронзительным голосом:
— Вы, наверное, экономите масло для лампы, да? Поэтому сидите впотьмах, как кроты, при этой коптящей лучине!
— По вечерам мы плетем солому или лущим фасоль. Для этого не нужно особенно много света, — сказала Мария.
— Нет, нет! Моим родственникам не подобает жить так убого! Я тотчас же сбегаю домой и пошлю к вам Филиппа с бочонком масла! Какая же ты выросла большая, девочка! Наверное, у тебя уже есть приданое, да?
— Как любезно с твоей стороны, свояченица, что ты нас навестила, — сказала Анна, — но не нужно дарить нам никакого масла. Мы ни в чем не нуждаемся и привыкли к скромной жизни.
Но прежде чем Анна успела удержать тетю, та вышла из дома.
— Она хочет послать к нам своего Филиппа? Значит, он опять дома?
— У него больше не осталось денег, — сердито заметила Мария.
Девочки взобрались на чердак и стали глядеть через слуховое окно. Спустя некоторое время они увидели, что к дому подходит какой-то человек, неся под мышкой бочонок. У человека были покатые плечи, а при ходьбе он странно волочил ноги. Девочки не могли разглядеть его лица в темноте. Еще немного они пошептались и спустились в кухню.
Филипп не был некрасив, но его портила беспокойная мимика, к тому же руки его все время суетливо двигались.
— Ты обучился ремеслу писаря? — спросила Анна напрямую.
— Ремеслу писаря? — повторил он вопрос Анны, посмотрев на девочек, — Ремеслу писаря? — взгляд его впился в Марию. До чего же своеобразное и прекрасное лицо у этой девушки! Узкий нос, тонко очерченные брови и эта стройная шея! Оценивающим взглядом Филипп окинул всю ее фигуру. — Ремеслу писаря? — еще раз переспросил он, скривив презрительно губы. — Разве я домосед, который ничего не может делать своими руками, кроме как держать гусиное перо? — он протянул руки к Марии и сжал их в кулаки так судорожно, что побелели костяшки пальцев. — Вот где сила! — начал хвастаться он. — Вы, наверное, в это не верите!
— Ты принес нам масло, — сказала Анна, чтобы перевести разговор на что-нибудь другое, — и мы за это благодарим твою мать.
Она встала, и что-то принесла из комнаты.
— Вот, возьми кусок копченого мяса и отнеси своим родителям, чтобы они не обиделись на нашу неблагодарность.
Но Филипп отказался, широко растопырив руки.
— Я не возьму! — и повторил — Этого мяса я не возьму, тетя! Если же мне вдруг что-нибудь понадобится, я сообщу тебе об этом.
Не отрываясь, он смотрел на Марию, которая медленно покраснела до корней волос.
Анна встала.
— Племянник, — сказала она обескровленными губами, — передай от нас привет родителям. Я очень благодарна твоей матери.
Твердыми шагами она подошла к двери, широко распахнула ее и стояла на пороге, пока Филипп не покинул дом.
Прошло много времени, прежде чем три женщины вышли из состояния оцепенения. Молча они вынули лучину из подставки и перенесли ее в комнату. Они долго не могли уснуть, ворочаясь и глядя в темноту, мучимые неясными, тревожными мыслями.
Несколько дней спустя после посещения Филиппа в Лионе вспыхнул пожар, опустошивший четверть города. Спасти домик Анны также не удалось. Девочки смотрели на пылающие балки и плакали: они теряли кров, под которым им жилось уютно и спокойно. Рене, помогавший при тушении пожара, взял Анну с дочерьми к себе в дом.
Они переселились в чердачную комнату, как и вначале, и снова оказались без имущества. Но теперь все было по-иному.
Жан сидел у очага, пуская слюни, и больше не понимал обращенных к нему слов. Место хозяина теперь занял Рене, который стал еще более замкнутым. Лишь иногда он печально глядел на Марию.
Угрюмый Филипп сидел рядом с Рене на длинной стороне стола. Тетя же заняла торец, как хищная птица — свое гнездо. Мария сидела напротив Филиппа.
Шутника Андре с ними не было, он жил в Шартре, женившись на дочери каменотеса. Лишь старый морщинистый слуга был приветлив, как прежде.

Необходимая самооборона
Среди подмастерьев был один работящий и добросовестный человек. Его усеянное веснушками лицо обрамляла лохматая рыжая борода. Несмотря на это, оно казалось симпатичным, так как в нем отражались приветливость и честность. Он появлялся рядом с Леной при любой возможности. Может быть, здесь начиналась любовь? Марии бы очень этого хотелось. Ведь и Лена не была ограждена от преследований Филиппа.
— Мама, — сказала Мария поэтому как-то вечером, — если к Лене придет жених и окажется порядочным человеком, выдай ее за него замуж, даже если он не будет мастером.
— Я знаю, кого ты имеешь в виду, Мария. Я тоже считаю, что в нашем положении ничего лучшего желать невозможно.
Несколько дней спустя Франсис, рыжий подмастерье, пришел свататься к Лене. Мария приготовила вечером гречневую кашу и поставила сковородку на середину стола. Франсис без всякой робости посмотрел Анне в глаза и сказал:
— Госпожа, перед тем как съесть ложку каши, я хочу тебе признаться, что желаю взять в жены Лену. Поразмысли и как можно скорее извести меня, подойду я тебе в качестве зятя или нет.
Лена низко опустила голову. Уши ее сильно покраснели.
— Я тебе скажу об этом завтра, — серьезно пообещала Анна.
Но тетя воскликнула:
— Что? Ты выдашь свою дочь за подмастерье? Тебе, наверное, нужен тот, кто будет считать свои веснушки вместо денег?
— Если уж речь зашла о женитьбе, — тут же закричал Филипп, — то слушай, тетя: я страстно желаю жениться на другой твоей дочери! И мне ты должна дать ответ раньше, чем подмастерью, потому что она старшая, а младших никогда не выдают замуж раньше! Анна и ее дочери, услышав эти слова, побледнели. Рене сжал губы. Он внимательно следил за происходящим.
Мария почувствовала страшную боль в груди. Некоторое время она боялась задохнуться. Ей показалось, что за столом сидит не она, а какая-то другая девушка, лишь внешне похожая на нее. Губы у Марии онемели, во рту пересохло, а язык так отяжелел, что она не могла вымолвить ни слова.
Рене заметил в ней эту перемену. Когда Мария обратила к нему свои глаза, они были совершенно безжизненные и пустые, а потом наполнились слезами. Очень медленно она кивнула Рене.
Старуха заковыляла к очагу, раздула жар и добавила хворосту. Никто больше не обращал внимания на Анну, пообещавшую дать Филиппу ответ на следующее утро.
— Я приготовлю медовое пиво! — закричала старуха с преувеличенной радостью, — медовое пиво для жениха и невесты!
Мария встала. Ей хотелось выйти на воздух, ее тошнило. В саду она тяжело вздохнула.
— О Боже! — вырвалось из ее уст, — о Боже!
Если Филипп получит от нее отказ, то Франсис не сможет жениться на ее сестре. Настроение в доме станет еще невыносимее!
Позади себя она услышала шаги и оглянулась.
Это был Рене. Его фигура широкой темной тенью стояла у стены, на которую падал лунный свет.
— Рене!
Он нежно прикоснулся к ее щеке и тут же убрал руку. Она положила голову ему на плечо и разрыдалась. Утешая, он гладил ее по волосам.
— А если б я был на месте брата? — тихо спросил он.
— Я согласилась бы немедленно, Рене!
— Вопреки желанию моей матери?
— Рядом с тобой я ничего не боюсь.
— Я очень тебя люблю, Мария!
И вдруг послышалось шипение ненавистного голоса:
— Смотри-ка, моя невестушка выставляет меня рогоносцем еще до того, как я разделил с ней брачное ложе! — Филипп вырвал Марию из объятий своего брата и швырнул к стене. И не успела девушка прийти в себя, как услышала, что началась драка. Переполненные ненавистью, мужчины катались по земле.
— Убери нож, — тяжело дыша, сказал Рене. — Или ты хочешь стать убийцей? — и повторил более мирно: — Убери нож!
Рене лежал под своим братом. Он судорожно пытался отвести от себя руку Филиппа с ножом. Но лезвие все приближалось к нему. Внезапно Рене рванулся, и тут, же Филипп обмяк и покатился в сторону.
Рене вскочил на ноги и склонился над ним. Он почти беззвучно сказал:
— Я убил Филиппа его собственным ножом. Я убийца!
В ужасе они смотрели друг на друга. Мария прошептала:
— К тамплиерам! О Рене! Скорее к тамплиерам!
Рыдая, он склонил свой лоб к ее волосам. Затем перепрыгнул через стену и исчез в темноте.
Мария перетащила убитого под кусты и, затаив дыхание, вернулась в кухню.
«Этой же ночью, — думала она, — я тоже должна бежать под покровительство тамплиеров».

Вернувшийся домой
Полгода спустя на дороге, ведущей к городу, появился странник. Стояла осень, стелющийся туман заполнил всю долину двух рек. С плеча путника свисала котомка; посох был без каких-либо отметин. Не имелось у него также раковины, прикрепленной к шляпе или сумке, как это принято у паломников в Сантьяго. И все же по нему было заметно, что он пришел издалека. За капеллой святой Магдалины пастух, весело насвистывая, ремонтировал овечий хлев.
— Кому принадлежит стадо, и на кого ты работаешь? — спросил чужак, проходя мимо.
— Загадаю тебе загадку, — весело закричал пастух. — Я работаю не на того, кому стадо принадлежит.
— Ты пасешь его для лионских тамплиеров.
— Об этом нетрудно догадаться, старик. Ты увидел красный крест на стене хлева. А кому принадлежит это стадо?
— Лионскому каменотесу, — спокойно ответил старик.
— Почти в точку, — сказал удивленный пастух. — Ведь лионских каменотесов больше нет: старый Жан впал в слабоумие, а его жена, злая ведьма, померла с горя. Старший сын убежал, он убил среднего. А младший женился и переехал в другую мастерскую, по-моему, в Шартр. Он еще ничего не знает о приключившейся истории.
— Расскажи мне ее подробно! — попросил странник.
— Только в том случае, если ты мне расскажешь свою, — я полагаю, ты пришел издалека.
— Хорошо, хорошо! — странник нетерпеливо воткнул свой посох в землю.
— В каменотесной мастерской живет какая-то женщина. Говорят, что она — свояченица старого Жана. У нее есть две дочери — совсем не плохие, скажу я тебе! До оба сына каменотеса захотели жениться на старшей. Кажется, между ними произошла драка, и, должно быть, Филипп… — пастух внезапно запнулся и какое-то время молчал. — Прости меня, Господи, но его не жалко… Мария спрятала тело в кусты, чтобы убийца успел бежать к тамплиерам.
На лице странника стремительно чередовались румянец и бледность. Он пристально посмотрел в лицо пастуху.
— Так ты говоришь, одну зовут Мария? А другую, как зовут ее?
— Другую зовут Лена. Она обручена с добропорядочным подмастерьем из этой каменотесной мастерской.
— Благодарю тебя! — сказал чужак дрожащим голосом. — Я расскажу историю своей жизни как-нибудь в другой раз, вместо этого я подарю тебе ягненка из стада, потому что оно — моя собственность и я могу распоряжаться ею по своему усмотрению. Я Ролан, каменотес из Лиона. Я приехал из Египта, где на каторжных работах укреплял стены города Дамьетты в дельте Нила. Теперь скажи мне ради Христа, правда ли, что моя жена еще жива?!
— Она жива и заботится о старом Жане. Она заботится также о подмастерьях и учениках и следит, чтобы мастерская не пришла в запустение. Люди говорят, что она все еще ждет своего мужа. И вот, — продолжал он, глядя на Ролана с уважением, — и вот приходит хозяин!
Множество любопытных собралось в кухне дома каменотеса, когда стало известно, что Ролан вернулся. Среди них было много таких, которые сами побывали на Востоке. Но никто не видел египетской земли, которую с недавних пор называли еще «Вавилонской блудницей», не смешивая, однако, с древним Вавилоном. Но подобало тому, как древние вавилоняне стремились построить, башню до небес, египтяне желали расширить свою империю до непостижимых размеров.
Мужчины сидели вместе с Роланом за столом; женщины с прялками — на скамье, некоторые качали спящих детей, держа их на коленях. Дети постарше устроились на корточках подле скамей, раскрыв глаза и уши. Они внимали захватывающим и ужасным рассказам Ролана и смешивали истинное и неправдоподобное в своих юных умах.
Ролан рассказал о страшных каторжных работах у стен города Дамьетты, о мощных башнях, две из которых охраняли порт. Тяжелая железная цепьбыла протянута от одной до другой башни через реку Танис — часть дельты Нила. Цепь опускалась на дно реки лишь в тех случаях, когда в гавань заходили египетские суда или же торговые корабли, доказавшие свои дружественные намерения лоцману.
— От этой ключевой египетской крепости, — сказал Ролан, уже охрипший от непривычно долгого разговора, — когда-нибудь начнется уничтожение остатков христианства на Востоке. Дамьетта как скорпион: она защищает столицу Египта и направляет жало против христианских стран Востока.
— Нам не нужно бояться этого скорпиона, — сказал сапожник, — так как тамплиеры защитят нас от него, — при этом он имел в виду не себя, а христиан Святой Земли. — Только у них достаточно денег для того, чтобы создать большое войско. А, может быть, вы не знаете, что они умеют делать золото?
— Что такое ты говоришь? — упрекнул его Ролан. — Не повторяй всякие бабьи россказни!
— Бабьи россказни? — обиделся сапожник. — Разве ты не знаешь, что у них в домах есть золотая голова, которая выплевывает столько золота, сколько им захочется? Тебя давно здесь не было, поэтому ты не знаешь, что замок тамплиеров на Лебедином озере так и прозвали: Дом Золотой Головы. Как ты думаешь, откуда тогда у них такие богатства?
— Мне кажется, — сказал мельник, не обращая внимания на Анну, желавшую возразить сапожнику, — что ты прав. Ведь если бы вздумали подсчитать, сколько милостыни раздают тамплиеры и сколько стоит им Восток, то можно было бы лишь удивиться, почему они до сих пор не в долговой тюрьме. И все же я не хочу ломать над этим голову. Мой предыдущий хозяин подарил тамплиерам мельницу и меня вместе с ней. Но тот, кого дарят тамплиерам, становится свободным, и его дети тоже. Значит, какое мне дело до золотой головы, от которой мне нет проку, ни вреда!
— Все вы заблуждаетесь! — воскликнул плотник. — Я скажу вам, как обстоят дела в действительности: в Ла-Рошели стоит большой тамплиерский флот…
— Об этом мы уже знаем, — пробормотали некоторые из собравшихся.
— Используя этот флот, тамплиеры плавают через море на запад, туда, где стоит над водой небесный колокол. Там они открыли землю, которая вся из серебра. Но никому не рассказывают, где она расположена. Это великая тайна.
Мужчины пожали плечами. Никто ничего не возразил, но все чувствовали волнение.
Был уже поздний вечер. Услышав слова плотника, дети раз протерли слипающиеся глаза. Только младенцы крепко спали на коленях у матерей. Они не проснулись и тогда, когда матери встали из-за стола, чтобы идти домой.
— Перед уходом, — сказал ткач, который до сих молчал, — мы должны возблагодарить Господа за твое спасение, Ролан, и помолиться о Марии и молодом каменотесе. Кто знает, что с ними происходит!

Приговор
Рене и Мария бежали к тамплиерам на Лебединое озеро; священник ордена в ту же ночь выслушал их исповеди. Он наложил на них трехдневный пост, в течение которого они могли только пить воду. Эти три дня они со страхом ожидали решение своей участи. Мария в глубине души была, согласна принять любое наказание, лишь бы только не расставаться с Рене.
To же самое думал и Рене. Он молил Господа послать ему любую кару, кроме одной — разлуки с Марией.
В конце концов их привели в комнату, где находились священники лионский магистр. С колотящимися сердцами Мария и Рене ожидали приговора людей, которым они с надеждой вручили свою судьбу.
И вот вперед вышел священник и приказал им подать ему руки. Когда они это сделали, он произнес над сплетенными руками благословение. Затем магистр также положил свою правую руку поверх их рук, и благословение было повторено еще раз. Священник сотворил крестное знамение и сказал:
— Да почиет впредь благословение Господне на ваших руках и на всем, что вы ими содеяли!
— Перед тем как сообщить вам приговор, — сказал магистр, — мы спрашиваем вас, согласны ли вы вступить в брак?
Тут на глазах у них выступили слезы радости. Но после того как священник совершил обряд бракосочетания, Рене и Марию снова обуял страх: не разлучат ли их тамплиеры в наказание, едва успев соединить?
— В наказание за преступление, — начал тамплиерский священник, — за которое тебя, каменотес, светский суд приговорил бы к смертной казни, мы налагаем на вас полное молчание до тех пор, пока у вас не родится ребенок. Ты насильственно разлучил душу с телом — да пожелает Христос дать жизнь другой душе, — он замолчал, а магистр продолжил:
— В Шартре, в пещере почитается Черная Мадонна. Над этой пещерой должен быть воздвигнут собор в честь Девы Марии. На тебя, каменотес, возлагается отдать все силы и все умение, которому ты обучился в братстве строителей, этому собору.
— Ты не имеешь права, — снова взял слово священник, — получать какое бы то ни было вознаграждение за эту работу и в годы обета молчания не имеешь права просить милостыню, но должен вместе с твоей женой жить за счет даров, которые добровольно принесут тебе ближние.
— Да пошлет Господь тебе дающих с радостью! — сурово сказал магистр.
Какой-то тамплиер вывел Рене и Марию по подземному ходу из города на берег Соны. В ивовых кустах стояла лодка. Тамплиер переправился через реку вместе с ними, у одной из тамплиерских мельниц. Их встретил слуга с двумя мулами. Он дал молодым людям лепешку и фляжку с вином. Тамплиер взял у слуги поводья.
— Теперь поднимайтесь в Волчье ущелье; оно заканчивается у каменоломни. Там вас ожидают английские рыцари ордена, добирающиеся с Востока через Шартр в Нормандию. Присоединяйтесь к ним.
Мария и Рене сели на мулов. Тамплиер поднял руку и сказал:
— С Богом!
Затем он повернулся и пошел к своей лодке.
В каменоломнях их ждали английские рыцари со своими оруженосцами. Когда они увидели, что к ним приближаются Рене и Мария, они сели на своих коней и выехали из каменоломен так медленно, что пришельцы без труда смогли последовать за ними. Оруженосцы несколько раз попытались завязать с ними беседу, но не получили ответа.
Внимание Марии привлекли некоторые из рыцарей, поднявшихся перед ними в ущелье. Правая нога одного из них не сгибалась, и он с трудом держался на лошади. У другого не было правой руки, а у третьего, снявшего капюшон, не было носа и левого глаза.
Да, неспроста у них на белых плащах красные кресты! Реки крови пролили они в Святой Земле! Мария хотела было что-то сказать, но онемела от скорбно-предостерегающего взгляда Рене.
Они поднялись на вершину горы и в последний раз взглянули на долину Соны и Роны. Там внизу остались мать и Лена. Скорее всего, Марии не суждено было больше с ними встретиться. Долго и беззвучно она рыдала.
На второй день пути перед ними показался какой-то городок. Приблизившись к нему, они услышали часового, трубившего в рог, и удивленно посмотрели друг на друга: сейчас около полудня — а часовой трубит в рог?
Огромная толпа народа собралась у городских ворот и с ликованием выбежала навстречу тамплиерам. Взволнованные люди говорили о том, кто поведет рыцарских коней. Они целовали рыцарям руки и края плащей.
— Господа, — кричали они, перебивая друг друга — вы приехали, чтобы спасти нас! Епископ наказал вашего графа отлучением от Церкви. И, поскольку мы его подданные, проклятие тяготеет над нами, и нам не дают причащаться святых тайн! Спасите нас, если право тамплиеров еще действует!
— Успокойтесь, люди! И сегодня еще действует право, данное нам папой Иннокентием: один раз в году мы можем приносить святое утешение отлученным от Церкви.
Весь народ устремился в церковь. Эти жаждущие утешения люди получили, наконец, отпущение своих грехов. Затем они опустились на колени и с огромным благоговением приняли причащение хлебом и вином. Многие пары сочетались браком. Детей окрестили. Больные и умирающие получили последнее христианское утешение.
Рене и Мария находились среди собравшихся в церкви. Они крепко держали друг друга за руки и чувствовали, как связаны с этими людьми.
После богослужения были зажжены факелы, и шествие отправилось на кладбище, чтобы благословить неосвященные могилы.
На следующее утро множество мужчин и женщин провожали тамплиеров до городских ворот, и многие принесли им что-нибудь съестное в дорогу: жареную курицу, вареные яйца, кусок сала, бурдюк, полный вина.
Долго до отъезжающих доносились песнопения счастливых горожан. Когда же еще раз они встретятся с тамплиерами, в чьей власти отменять анафему — хотя бы на короткое время?

Наказание за убийство
Английские рыцари выбрали дорогу, ведущую через горы к Мулену, она проходит по долине реки Алье. По берегу они ехали на север до впадения Алье в Луару, там сели на корабль и отплыли к Орлеану. Оттуда оставался еще один день пути до Шартра. Во всех городах, которые они проезжали, им встречались бродячие проповедники, призывающие к новому крестовому походу.
— Святой город Иерусалим нужно отвоевать у неверных! — проповедовали они, но слушатели лишь робко опускали глаза. А Мария думала о том, что пришлось пережить ее родителям в Святой Земле.
Солнце уже было далеко на западе, когда Рене и Мария достигли цели своего путешествия. На берегу небольшой речки раскинулся город. Они ехали по холмам над обрывом и видели оттуда плоскую возвышенность как раз в центре города; под ней темнел вход в пещеру Черной Мадонны.
Возвышенность была все еще черной от пожара, превратившего в пепел прежний собор, от которого остались только две массивные башни. Приговоренные к молчанию с надеждой въехали в город, где их ожидала неведомая судьба. Они знали, что Андре с семьей живет в этом городе, но им не было дозволено что-либо предпринимать ради своего спасения.
Весь Шартр жил строительством собора, и горожане добровольно участвовали в этих работах. Им помогали паломники и нищие. Они доставляли песок, шлифовали опоры, работали пилой или молотком и выполняли подсобную работу. Они привозили бочки с водой и грели ее на кострах. Из городских ворот тамплиеры отправились к черному как сажа холму, на восточной оконечности которого стоял дом тамплиеров. Пожар, спаливший собор, причинил дому тамплиеров лишь небольшой ущерб. Рене и Марию пригласили переночевать в одной из комнат. Со следующего дня им предстояло рассчитывать лишь на непредсказуемое милосердие чужих людей.
Наутро, взявшись за руки, они вышли из дома. Перед ними лежал плоский холм. Между домом тамплиеров и башнями разрушенного собора в землю были врыты какие-то странные желоба, и Мария вопросительно посмотрела на Рене. В ответ он сделал неопределенное движение руками и опять опечалился. Как хотел бы он объяснить ей, что эти врытые в землю желоба были планом, на основании которого строители будут воздвигать новый собор!
Рене подошел к колонне высотой примерно в человеческий рост, расположенной рядом с домом тамплиеров между желобами. Отсюда он рассмотрел план собора и понял, что план представляет собой семиконечную звезду.
В этот момент через строительную площадку проходил архитектор. Рене с уважением поклонился ему и показал семь пальцев. На плане он также обнаружил круг, квадрат и прямоугольник и дал об этом понять архитектору.
Архитектор кивнул в знак согласия; он признал в Рене сведущего человека. «Этот чужак, — подумал он, — разглядел на плане символические изображения. Должно быть, это мастер, обучавшийся в школе строительного братства. Стоит принять его на работу». И он спросил Рене, хочет ли тот у него работать.
Рене показал на свой рот и рот Марии.
— Понимаю, — сказал архитектор, — но на меня здесь работают и другие люди, нарушившие обет молчания. Для меня обет ничего не значит.
Рене покачал головой, а Мария, покраснев, опустила глаза. Они ведь были осуждены на молчание и не могли самовольно отказаться от обета.
— Понимаю, — снова сказал архитектор и посмотрел на обоих с сочувствием. — Подожди меня здесь, — попросил он Рене, — твою жену я отведу к другим женщинам, готовящим еду для паломников и нищих. Там может понадобиться помощь.
Он позвал Марию вниз, за пределы строительной площадки. Рядом с котлами там стояли длинные столы. На них громоздились репа и капуста, которые, казалось, только и ждали того, чтобы из них приготовили обед. Женщины, собравшиеся здесь, увлеченно болтали между собой. Архитектор указал на Марию и сказал:
— Она немая!
— Нам все равно! — закричали женщины. — У нас найдется работа и для немых. Так даже лучше, она будет работать руками, а не языком.
Они дали Марии в руки нож и показали ей ее работу. В час полуденного колокольного звона, когда нищим и паломникам раздавали еду из котлов, ее получили и Рене с Марией.
По окончании рабочего дня все, кто работал на строительстве собора, собрались у входа в пещеру Черной Мадонны. У некоторых были бурдюки для воды. Зажглись факелы, и паломники, нищие и рабочие двинулись в пещеру.
Глубоко в пещере коридор расширялся вокруг колодца. Те, у кого были бурдюки, наполнили их водой. Другие только смочили пальцы и провели ими по больным местам своего тела. Рене окунул руку в колодец и провел ею по своему рту и рту Марии. Высоко над колодезной дырой в стенной нише находилось изображение Черной Мадонны, почитавшейся в этой местности еще в дохристианскую эпоху. Это было изображение женщины, которая скоро родит.
Вместе с нищими и паломниками Рене и Мария провели всю ночь в пещере. Они закутались в плащи и почти не спали, несмотря на усталость. В эту ночь они поняли, что они такие же нищие, как и остальные. Попрошайничать же им было запрещено.
Но голодать им не приходилось, так как общая работа на огромном строительстве сделала все сердца восприимчивыми к бедам других. Все дни проходили одинаково, и ночи в пещере не отличались одна от другой. Так, постепенно, Рене и Мария теряли ощущение времени и уже не могли сказать, сколько прошло с тех пор, как они приехали в Шартр вместе с английскими тамплиерами. Однажды на строительную площадку со своим подмастерьем пришел мастер, которого Рене там еще не видел; это был бородатый широкоплечий человек. Его радостно принял главный архитектор собора.
— Назад из Парижа? — закричал архитектор. — А мы уже думали, что ты упал в Сену, а твоя жена боялась, что ты там нашел себе другую!
Они радостно хлопали друг друга по плечам и смеялись.
Рене, стоявший немного поодаль, прислушался к их разговору и отвернулся, испытав внезапный ужас — этот человек был Андре! Известно ли ему, что Филиппа уже нет в живых и кто виноват в его гибели? Рене стоял как парализованный. Словно издалека, он услышал голос архитектора:
— У меня здесь есть превосходный помощник. Он немой, так как наказан обетом молчания. Подойди, познакомься с ним!
Кровь ударила Рене в лицо. Он боялся упасть в обморок, услышав позади себя шаги Андре. Наконец архитектор и Андре предстали перед ним. Долго Андре ничего не говорил. Затем он разрыдался, прижав брата к своей груди.
Когда Андре подвел к брату свою жену, то оказалось, что это была одна из женщин, готовивших еду вместе с Марией уже несколько недель. Оба наказанных поселились у них в доме. Там и закончился обет молчания, когда Мария родила сына. Взяв ребенка на руки, Рене произнес первое слово за долгий промежуток времени. Это было имя его маленького сына: Деодат.
Счастье вновь обрести дар речи, было для Рене и Марии столь огромным, что они боялись бесцельно тратить драгоценные слова. Они говорили лишь в тех случаях, когда сказанное вмело чрезвычайную важность. И каждое их слово приобретало силу, какой не было в речах других людей. Рене стал уважаемым человеком в Шартре. Со всем пылом души вкладывал он свое мастерство в строительство собора. С каждым обтесанным камнем уменьшалось бремя на сердце Рене, отягощенном виной. Рене наполнялся ощущением возводимого собора, и ему радостно было видеть, как год за годом собор становится все совершеннее, воплощая в себе труд и искусство зодчего.
В братства объединялись различные ремесленники — не только каменотесы. Каждый из них получил от тамплиеров частицу той мудрости, которая была приобретена в Замке Железных Часовых. И каждый держал это знание в тайне и называл его «закон».
Например, бродячие певцы, именуемые трубадурами, узнавали друг друга по закону, в соответствии с которым они сочиняли стихи. Стеклодувы держали в тайне свой закон, пользуясь которым они изготовляли позолоченное и рубиновое стекло; а художники благодаря своему закону внезапно запечатлевали самые радужные цвета. Архитекторы же с помощью своего закона преодолели тяжесть камня и сооружали устремленные ввысь стрельчатые своды.
В каждом из этих законов была скрыта сила, преобразующая мир.
Стихи трубадуров были не просто благозвучны — они меняли самого человека, вдыхая в него нежные чувства и учтивость. Пестрая мозаика в соборах не просто сверкала, как драгоценные камни, — благодаря ей люди постигали, что низкая природа должна стремиться к излучению света, и ощущали себя причастными к этому облагораживанию.
Своды готических соборов не просто возносились до неслыханных прежде высот — они притягивали взоры верующих, и те падали перед ними ниц в глубоком благоговении. Люди приобретали новое самоощущение. «Только свободные и сознательные люди, — говорили тамплиеры, — могут изменить мир в лучшую сторону».
Рене регулярно приходил к той колонне, которая стояла теперь там, где должен был находиться алтарь. Снова и снова он следил за ходом луны и звезд над ее вершиной. По этим наблюдениям опытные архитекторы вычислили «шартрский локоть», положенный в основу размеров и пропорций постройки. Небосвод так расположен над этим собором, что кажется, будто через купол в собор втекает звездный мир. Он струится глубоко внутрь холма, где в пещере Черная Мадонна должна родить Спасителя. Так тамплиеры использовали знания, которые они почерпнули из каменных ларцов, в соответствии с их девизом:
«Не нам, Господи, не нам, но все ради славы Имени Твоего!»

«Нечистые» кузены
Деодат, сын Рене, и сын Андре Эрнест, который был на три года старше, росли как братья. За городскими стенами Шартра они играли с другими мальчиками в свои рыцарские игры. Воспоминания о Четвертом крестовом походе, в результате которого была одержана победа над греками в 1204 году, еще жили в детях, и каждый из них считал, что стоит ему только вырасти дельным человеком, и он сможет стать императором греческой Византии, как стал им Бодуэн Фландрский. Если же им не посчастливится, то они рассчитывали стать доблестными рыцарями, чтобы сражаться в Пиренеях с лжехристианами. Да, теперь крестовые походы устраивались не только против неверных, но и против тех христиан, которые веровали несколько иначе, нежели предписывала Церковь. Но если дети росли и мужали в стремлении наказать альбигойцев, то Рене и Андре не поощряли таких настроений. Отцы впадали в гнев и отчужденно относились к сыновьям.
В небольшом лесу у ручья в заброшенном сарае у детей был тайник. Туда они приходили и обсуждали, хватит ли им сил для участия в крестовом походе. Против христиан, и это мальчики признавали, против христиан они ни в коем случае не собирались сражаться на поле брани. Нет, им, скорее, хотелось принять на себя огромные лишения и совершить паломничество на Восток, известный им по рассказам взрослых. Там были язычники, достойные лишь того, чтобы быть разбитыми ими наголову.
Так болтали они день за днем, пока однажды один из мальчиков не принес с собою длинный нож. Он обернул его в тряпку и повесил себе на бок, чтобы тот выглядел как меч.
На следующий день ножи были у многих. Кое-кто стащил из дома шкуры и изделия из кожи, один мальчик принес на спине мешочек, полный зерна. Девочки принесли горшки для еды. Они собирались сражаться во славу Божью! Господь должен был дать им силу для сокрушения врагов, чтобы они освободили Иерусалим, Святой Город.
Одного из старших мальчиков они избрали священником, ибо крестовый поход без священников неугоден Господу. Они одели его в белую рубаху, которую украли дома во имя Господне. Они исполняли негромкие песнопения и бормотали молитвы, которые Он им заповедал, и их детские глаза светились восторгом. Наконец она стали держать совет, на котором было решено изгнать из крестового похода все нечистое, ибо только товарищество чистых было достойно любви Господней.
Как-то вечером произошло следующее: тихо, как мышки, дети покинули свое убежище, построились в колонну, как это обычно происходило в походах, и начали взбираться вверх по холму.
С заплаканными глазами смотрели им вслед Деодат и Эрнест. Кузенов исключили, так как отец Деодата был убийцей. Поднявшись во тьме на вершину холма, дети упали на колени и спели все песни, которым обучил их маленький священник. Для тех, кто оставался внизу, их голоса звучали сверху словно пение ангелов.
В этот день Деодат и Эрнест решили, что отправятся на Восток, как только станут настоящими каменотесами.

Каструм Перегринорум
Эрнест, сдав экзамен, стал странствующим подмастерьем и тоже отправился в Лион, где Франсис держал мастерскую лионских каменотесов. Анны и Ролана не было в живых, но гостеприимная Лена приняла племянника с любовью. У нее и Франсиса было два сына: Жоффруа исполнилось шестнадцать лет, как и Деодату, а маленькому Жереку было неполных четыре года. Он почти не разговаривал.
Уже на следующий день после своего приезда в Лион Эрнест отправился пешком по берегу Роны на север, чтобы вступить в орден в замке на берегу Лебединого озера. Его привели к лионскому магистру тамплиеров и тотчас же сообщили решение магистра: после испытательного срока в один год его примут в орден вместе с другими молодыми людьми.
Капеллу в лионском доме тамплиеров заливал свет, струившийся из огромных окон. На прохладных стенах не было картин, их увешивали доспехи и оружие, добытые на Востоке. Алтарь представлял собой простой каменный стол без фигур святых. Дароносицы, о которой Эрнест уже слышал, — Золотой Головы — здесь тоже не оказалось.
Вошел тамплиерский священник, держа в руке деревянный крест с изображением распятого Христа. Он стал влагать крест в руки новичкам.
— Скажите, что у вас в руках — велел он им.
— Распятый Христос! — закричали они.
На это священник ответил:
— Глаза ваши слепы! Вы позволяете им вводить вас в заблуждение! Такое никогда не должно происходить с тамплиерами! То, что вы держите в руках, ни в коем случае не Христос, Который умер за нас на кресте, а кусок дерева с Его фигурой! — и в знак того, что они совершили ошибку, он приказал им плюнуть на крест.
— Если вы ищете Христа, — продолжал он, — то ищите Его в каждом нищем, больном и осиротевшем. Ищите Его в сердце вашем и в царстве духа. Чтобы мы, однако, не относились с высокомерным презрением к земле, которая станет Новым Иерусалимом, мы должны смиренно склонить головы наши на пути приятия даров земных, ибо через пищу наши души связаны с этой землею, — священник склонился перед новичками, поцеловав их в уста и животы.
Он накинул им на плечи тамплиерские плащи, на уровне сердца украшенные крестом с иерихонскими трубами.
— Как окутывают вас эти плащи, — сказал лионский магистр, — так будет окутывать вас ваш орден, — он простер руки и продолжил: — Отныне вы причастны ко всему доброму, что создал орден с начала, и ко всему, что сделает он впредь! Ваши родители и все, кого вы любите, должны принимать участие в этих благодеяниях.
Сразу после того, как Эрнеста приняли в орден, его послали с флотом тамплиеров на Восток, так как турки укрепились на горе Фавор, угрожая оттуда равнине и побережью в Акконе, достичь которого они могли на своих быстрых конях за час.
Поэтому тамплиеры решили построить с помощью паломников крепость, обеспечивающую защиту побережья.
Об этом строительстве Эрнест узнал еще по пути на Восток. Другой каменотес, вступивший в орден вместе с Эрнестом, был знаком с христианским побережьем на Востоке.
— Там очень много бухт, — сказал он, — и все с малыми затратами можно превратить в обороноспособные порты. Крупнейшие из них — это Хайфская и Акконская бухты. Но я скажу тебе всю правду: важнейшей вскоре станет Атлитская бухта! Ты не можешь представить себе, какой грандиозный план Великого магистра Гийома Шартрского там осуществляется! Мы приедем как раз вовремя и поможем им.
Высадившись на сушу в Акконе, тамплиеры сразу же поехали на юг. Миновав стороной город Хайфу, они в тот же день добрались до Атлита. Уже издалека тамплиеры увидели палаточный городок, палатки прижимались к отрогам горы Кармель. Далеко выдающийся в море мыс отделяла от материка мощная стена, которую возводили паломники и тамплиеры.
Великий магистр прибыл в тот день из Аккона, чтобы наблюдать за работами. Магистр был из людей, чья энергия и мудрость написаны на лице. Поприветствовав вновь прибывших тамплиеров, Великий магистр указал им на мыс за почти готовой стеной.
— Эта стена, — начал он, описав ладонью широкую дугу — поднимется из моря, пересечет мыс, чтобы исчезнуть в море с другой стороны. За стеной, там впереди, вы видите колодец. Это колодец с пресной водой и потому — бесценный.
Магистр провел их через весь мыс и показал будущий порт, место для ловли рыбы, солеварню, для которых уже отвели участки земли. За стеной находились лесок, поля, несколько виноградников и фруктовые сады.
Нижний этаж замка был уже готов. Над ним предполагалось возвести круглую и прямоугольную башни и непреодолимую стену.
— Его нарекли Замком Пилигримов, — сказал Великий магистр, — Каструм Перегринорум. Ибо без помощи пилигримов нам не удалось бы его построить.
— Откуда у вас эти гигантские булыжники, господин? — спросил Эрнест, показав на фундамент замка.
— Здесь, видимо, еще с незапамятных времен стояла крепость. Произведя раскопки, мы наткнулись на ее развалины и решили пустить в дело старые камни. Но для того, чтобы сдвинуть каждый камень с места, понадобилось четыре быка.
Вскоре Эрнест присоединился к работавшим и вместе с ними участвовал в сооружении крупнейшей на сирийском побережье крепости. Еще до того как в нее был уложен последний камень, в новом порту высадились король Венгерский с его пестрой свитой, Великий герцог Австрийский и император Фридрих Гогенштауфен. Амальрик де Люзиньян, объединивший короны Кипра и Иерусалима, также прибыл со своего острова. Пожаловали сюда и Великие магистры орденов, и сирийские бароны.
В просторном новом замке они держали совет о тестовом походе в Египет, в котором должны были принять участие все собравшиеся. Полные высоких помыслов, коронованные особы возвратились в родные места. Турки же из страха перед господствующим над местностью Каструм Перегринорум уничтожили свою крепость, угрожающе расположенную на горе Фавор.

Куда?
Паломники закончили свои труды: они исполнили обеты и отдали строительное искусство ради сохранения христианства в Святой Земле во славу Божью. С гордостью они привезли на Запад вести о Каструм Перегринорум. В истории, которая так быстро все забывает, остался не забытым труд пилигримов, воплощенный в названии замка.
В туже зиму в путь отправились новые крестоносцы, чтобы поспеть на место, как только улягутся весенние штормы; они поплыли по морю. Верные своему соглашению, с мощными войсками в Каструм Перегринорум прибыли король Венгерский и Великий герцог Австрийский. Император Фридрих, однако, все еще медлил и оставался в Европе. Как это происходило во всех предыдущих крестовых походах, так было и теперь: паломники собирались под защитой крестоносцев, чтобы под их прикрытием идти в Святую Землю.
В Шартре также собралась небольшая группа крестоносцев, к которой примкнули Деодат и его друг шутник Антуан. Деодат полагал, что каменотес всегда сможет найти применение своим способностям. Кроме того, он думал о своем кузене Эрнесте, с которым должен был встретиться в Каструм Перегринорум. Незадолго до этого возвращающийся домой паломник передал привет Деодату от Эрнеста.
— Пустите меня в поход! — попросил Деодат своих родителей.
Когда же мать лишь молча покачала головой, он обратился к отцу:
— Если бы ты, отец, не был связан своим грехом с Шартрским собором, ты, конечно, уже давно был бы в Святой. Земле!
Рене глубоко вздохнул.
— Я бы отправился в поход, сын, — признался он.
Мария также призналась, что охотно бы вернулась на Восток.
— Но теперь, — быстро добавила она, — теперь, когда там все изменилось, мне кажется, лучше жить здесь.
Рене с благодарностью обнял ее за плечи.
На следующее утро они отправились в путь: Деодат и балагур Антуан. Рене и Мария, обнявшись, смотрели им вслед. Деодату было приятно видеть своих красивых статных родителей, и он весело помахал им.
Прощальная улыбка исчезла с лиц родителей. Они вспоминали, что происходило прежде, когда Деодата еще не было; думали о том, что его имя было первым словом, которое они произнесли после долгого молчания. Мария вопросительно смотрела мужу в лицо: быть может, беспечный уход Деодата и был истинным наказанием за старое преступление? Господь решил отнять у них самое дорогое — единственного сына… Рене пожал плечами, неуверенно пробормотал: «На все воля Божья».
Во время расставания Андре скромно держался позади всех. Вернувшись домой, он сказал:
— Да пребудет Господь с мальчишками! — и когда Мария и Рене ничего ему не ответили, потому что их душили слезы, добавил: — Господь своих не бросает.
Отправившиеся в поход юноши представляли себе юре и как они стремительно помчатся по его зеленым волнам — почти не касаясь воды! Они бодро шагали вперед, насвистывая и сбивая посохами головки чертополоха, и говорили о Востоке так, будто совершенно не сомневались, что уже послезавтра окажутся там. Деодат хотел все рассказать Эрнесту, как только они высадятся в Каструм Перегринорум. Про себя они повторяли описания крепостей, услышанные от вернувшихся домой пилигримов.
В Лионе юноши зашли к Лене и Франсису, и Деодат познакомился со своими кузенами: ровесником Жоффруа, унаследовавшим от отца рыжие вихры, и шестилетним Жереком, который при Деодате не вымолвил ни слова. Но на следующее утро он вышел со своим старшим братом к причалу провожать кузена и помахал ему на прощание, когда появился корабль, готовый принять пилигримов на свой борт.
И вот перед ними раскинулось то серое блестящее зеркало, при виде которого за прошедшие сто двадцать лет столько сердец крестоносцев переполняла радость, — море. Впервые в жизни юноши испытали чувство свободы, приносящее людям счастье.
Юные пилигримы еще более укрепились в своих радостных ожиданиях, когда в Марселе они встретили бравого капитана, чей парусник, скрипя снастями, вышел в открытое море. Деодату никак не верилось, что берег, очертания которого то и дело вырисовывались на востоке, был все еще итальянским полуостровом.
На десятый день путешествия корабль внезапно подвернул на юг, взяв курс в сторону египетского побережья. Паломники оказались сбиты с толку: они ожидали уже на следующий день увидеть сирийский берег, куда так стремились! Вскоре их озадаченность сменили недоверие и гнев.
— Эй! — закричали они хозяину корабля, — что это тебе взбрело в голову, почему ты свернул к устью Нила? Ты, наверное, хочешь продать нас мамелюкам?
И они стали замахиваться на него посохами.
— Послушайте меня! — воскликнул капитан, воздев покаянно руки. — Это не моя вина, так приказал папа нам, мореплавателям. Он желает, чтобы все паломники и крестоносцы» хотят они этого или нет, доставлялись к нильскому рукаву, Танису. Там находится ключевая египетская крепость Дамьетта. Ее нужно захватить. Император Фридрих также дал свое согласие участвовать в ее осаде. Он приведет с собой немецких и итальянских рыцарей.
— При чем тут Дамьетта? — стали кричать паломники, перебивая друг друга.
— Тот, у кого окажется в руках Дамьетта, будет обладать Каиром, этим злейшим врагом Иерусалима.
Парусник приплыл на Танис. На берегах, раскинувшихся далеко друг от друга, юноши увидели первые палатки европейских лучников, несших охрану этого устья. Гребцы по команде ускорили ход. С берегов послышались возгласы лучников «хей-хо», которыми они приветствовали прибывших европейцев. Лучники показывали вверх по реке, поднимая одну руку, как мачту, а другой изображая парус.
Матросы понимали язык их жестов: флот крестоносцев, вышедший из Каструм Перегринорум, был уже вблизи Дамьетты. Деодат с напряжением смотрел вперед. Как только солнце погрузилось в красный туман Ливийской пустыни, он громко воскликнул: «Там! Там!» — указывая Антуану на поднимающийся вдали целый лес рей.
В Деодате боролись радость и страх: там, за этими реями, он видел массивные стены Дамьетты, у которых его дед выполнял подневольные работы, будучи рабом, и откуда он бежал в Европу. Какая же судьба ждет здесь его — Деодата? Покинут ли они с Антуаном эту незнакомую землю целыми и невредимыми? Он увидел две башни, запиравшие реку перед городским портом на тяжелую железную цепь; лишь когда ее поднимали над водой, путь был свободен. Парусник встал на якорь посреди реки, к нему подплыли лодки. Не говоря ни слова, в смущении паломники высаживались с корабля и с короткой молитвой ступали на ненавистный египетский берег, ощущая под ногами твердую как камень илистую почву.
Они разбили палатки, но у большинства пилигримов жажда деятельности, пригнавшая их на Восток, иссякла. Ведь эта земля не была Святой Землей, ради защиты которой они без промедления отдали бы жизнь.

Черная смерть
Тамплиеры, прибывшие в Дамьетту, когда их Великим магистром был Гийом Шартрский, и как всегда расположившиеся за пределами основного лагеря, чуть свет пришли устанавливать недавно изобретенную катапульту. Это мощное военное орудие они привезли на своих кораблях по частям: балки, стержни, гвозди, железные оси и клинья. Под прикрытием передвижного туннеля они должны были перед штурмом подтянуть свою катапульту к городским стенам.
Однако сначала требовалось найти камни, из которых можно изготовить пушечные ядра. Были отправлены глашатаи, искавшие каменотесов среди пилигримов. Вызвались Антуан и Деодат. С группой каменотесов они поднимали камни со дна Таниса, изготавливали по чертежам тамплиеров деревянные заготовки, чтобы пушечные ядра были одинакового размера и имели равномерное закругление.
За работами наблюдал один тамплиер карликового роста. При разговоре у него странно дергалась голова, и он тер себе ухо, свисавшее с черепа, словно оборванный лоскут. Большими кроткими глазами он смотрел на собеседника.
— Почему тамплиеры привезли с собой только одну такую катапульту? Ведь для столь огромного города нужно, по крайней мере, две? — спросил его Деодат.
Человечек потер ухо и осторожно покачал головой.
— Каменотес, — сказал он, и голос его был так же мягок, как и взгляд. — Эта катапульта — особое изобретение. Жаль, что ты занят с ядрами, а то мог бы понаблюдать за тем, как устанавливают катапульту наши механики. Тогда ты заметил бы, что этот новый вид оружия имеет подвижный рычаг и вращается туда-сюда, словно пляшущий человек. Кроме того, катапульта обладает огромной силой броска. А если ее грамотно установить, она может стрелять во всех направлениях. На следующей неделе вы увидите это собственными глазами.
Коротышка приходил каждый день, стоял некоторое время рядом с Деодатом и с улыбкой кивал, следя за уверенными движениями его рук.
— Я вижу, — сказал он, — ты научился своему ремеслу у мастера в одном из строительных братств. По тому, как ты берешься за камень, я вижу, что ты способен чувствовать его суть.
— Ты правильно это заметил, — сказал Деодат. — Мой отец принадлежит к одному из строительных братств, а я обучался у него. Он работает мастером в Шартрском кафедральном соборе и знает его символы.
— Шартрский собор построен на квадрате, прямоугольнике и круге, увенчанных на хорах семиконечной звездой. Известен ли тебе язык этих знаков?
— Известен.
— Скажи мне, как тебя зовут, каменотес.
— Меня зовут Деодат. А тебя?
— Мигель. Я приехал из тамплиерского замка в Испании, это заметно по моему произношению. Замок находится на пути пилигримов к гробнице святого Иакова в Компостелле и называется Понферрада. На всем этом пути сооружаются церкви и странноприимные дома, в которых паломники могут переночевать и где о них заботятся. Чтобы достойным образом украсить внешние стены этих церквей, необходимы каменотесы, чувствующие сущность камня. Скоро сюда войдет император Фридрих со своим войском, он возглавит штурм города. Если я не погибну при штурме, то вернусь в Испанию. Может быть, ты захочешь поехать туда вместе со мной и применить свое умение в постройке домов пилигримов на пути святого Иакова?
— Все мои предки, — медленно возразил Деодат, — жили в Святой Земле, а не в Испании.
Когда вечером два друга сидели у костра над темной рекой, Антуан спросил:
— Что означают символы в плане Шартрского собора? Позволено ли тебе об этом говорить?
Минуту они молча смотрели друг на друга, затем Деодат кивнул.
— Ты ведь сам знаешь историю бунта на небесах, после которой Восставший на Всевышнего оказался низвержен на землю.
— Знаю.
— Будучи на небесах, он носил сверкающую корону на голове. Над самым лбом корону украшал карбункул.
— Я уже слышал об этом карбункуле, — сказал Антуан и налил другу в бокал остатки пряного вина.
— Когда Люцифер оказался низвергнут на землю, карбункул раскололся на три части. Первый осколок был настолько мал, что его можно было вставить в кольцо; второй — величиной с кулак; третий же — больше, чем первые два вместе. Так нам говорит предание.
— Предание всегда говорит образно, Деодат.
— Ты прав. Здесь оно также говорит образами. Эти три осколка передавались из поколения в поколение, всегда попадая к самому достойному. Каждый народ, у которого есть одна из частей карбункула, может считать себя счастливым. Ибо в камне этом, когда он еще был цел, отражалось всеведение Господне. Теперь в каждом из осколков что-то от него осталось. Два меньших куска передавались из поколения в поколение, дойдя до царя Соломона. Один он вставил в перстень с печатью; другой водрузил на своем жертвенном столе. Когда он смотрел на перстень, то видел в камне силы природы; когда он приносил жертвы на своем столе — видел в камне законы природы!
— А о третьем, самом большом осколке, ничего неизвестно?
— В древнейшие времена он хранился у Мельхиседека, царя-священника, имевшего жертвенник в долине Иосафат. Когда же Авраам приехал в Месопотамию, чтобы найти достойное место для служения Единому Господу Своему, он пошел в гости к Мельхиседеку, тот подал ему угощение в сияющей чаше, налив в нее вина, в котором плавало несколько зерен пшеницы. Эта чаша была изготовлена из самого крупного куска карбункула.
Антуан помешивал пепел прутиком.
— Больше об этой чаше ничего не известно?
— Позднее она хранилась в Храме. Когда же Навуходоносор при покорении Иерусалима грабил Храм, он обращал свое внимание только на золотые сосуды. Чаши он не заметил. Ее свет был приглушенным.
— Что же с ней в конце концов стало?
— Когда Ирод заново возводил иудейский Храм, он скупал все старинное, что можно было найти среди тех руин. Чашу приобрела какая-то женщина; говорят, это была Вероника, которую Иисус излечил от кровотечений. Она приходилась двоюродной сестрой Иоанну. По преданию, она принесла эту чашу на стол, когда Иисус устроил Вечерю со своими апостолами. Из чаши Он угощал апостолов хлебом и вином. Если посчитать, что кольцо Соломона — круг, его жертвенный стол — квадрат, а стол, за которым проходила Вечеря, — прямоугольник, то можно увидеть в трех этих символах земные вещи. Они должны вознести карбункул падшего ангела через семь планетных сфер и вернуть в лоно Господа. Такова, образно говоря, архитектурная идея Шартрского собора.
Антуан вынул прутик из костра и посмотрел на Деодата.
— Многое, — тихо сказал он, — многое в мировой истории повторяется или, по крайней мере, похоже.
— Иосиф Аримафейский, попросивший у Пилата разрешение снять Иисуса с креста, забрал чашу, из которой Иисус в последний раз вкусил пищи земной, к себе. И как только он собрал в нее святую кровь Спасителя, чаша снова засияла. В спешке он прикрыл ее своим плащом, чтобы скрыть от глаз людских.
— Деодат! — воскликнул Антуан, — ты говоришь о чаше, которую называют Чашей Святого Грааля?
— Конечно же, я говорю о Чаше Грааля.
— Ходят слухи, что эта чаша хранится у тамплиеров.
— Действительно, ходят слухи.
— Я слышал также, что они искали те осколки карбункула, которые были у царя Соломона в кольце и на жертвенном столе.
— Ходят такие слухи, — повторил Деодат и встал. — Пойдем поспим, ночь коротка.
Они вместе пошли в палатку.
На следующее утро у Антуана был жар, и он не мог держаться на ногах. Деодат озабоченно посмотрел на него, когда отправлялся на работу один. Антуан ничего не ел. Он страдал от жажды, мучительной жажды. С трудом он добрел до Таниса, лег на берегу и припал своими растрескавшимися губами к воде. Антуан медленно всасывал в себя темную воду, которой было так много и которая была столь драгоценна. Он видел, как в глубине проплывали рыбы, а на волнах качались пестрые утки. Река проносила мимо него то кусок сгнившего дерева, то труп коровы. На поверхности воды танцевали желтые листья. Они вызвали у него такое головокружение, что он закрыл глаза.
Когда же Антуан снова открыл их, то впервые увидел свое отражение в воде. Он увидел расплывшееся лицо, под правым ухом была темная шишка. Не сразу он понял, что это его лицо.
— Что у меня за вид? — спросил он себя, кашляя. Но ужас, который Антуан при этом ощутил, уже дал ему ответ — Я выгляжу как чумной больной.
Он слышал, как из лагеря доносилось: «Чума! Чума!» Уже вечером Антуан увидел, как проезжают мимо егопалатки телеги, полные нагих почерневших трупов, которые сваливали в Танис. Среди умерших был Великий магистр тамплиеров Гийом Шартрский. Кто же теперь возглавит войско при штурме вражеского города?..
…Деодат печально сидел в палатке и смотрел на немногие пожитки, напоминавшие ему об Антуане. Но времени на печаль не оставалось.
Третьего ноября — вплоть до этого дня напрасно ожидали прибытия императора Фридриха II — прозвучал сигнал к штурму города. Ликующие звуки труб уносились в голубое небо, приплясывали кони, формировалось войско. Новый Великий магистр тамплиеров, Петро Монтекауто, произнес от имени всех членов ордена девиз: «Не нам, Господи, не нам, но все ради славы Имени Твоего!»
Король Венгерский и Великий герцог Австрийский также дали своим воинам христианские девизы. Медленно-медленно начала двигаться тамплиерская катапульта; словно направляемая рукой призрака, она подъехала к городской стене. Следом быки тянули повозки с каменными ядрами. Каменотесы находились рядом с повозками. Деодат получил задание загружать ядра в ковш. Как только установили катапульту, двое тамплиеров занялись установкой метательного рычага, и Деодат услышал команду: «Заряжай!»
Некоторые из каменотесов вскочили на телегу, которую везли быки. Теперь они пустили ядра по деревянному желобу в сторону Деодата, в ожидании сидевшего на корточках. Он ловил ядра и, смягчая мощность их удара при падении, переправлял в опрокидывавшийся ковш пращи. С грохотом катились ядра по метательному рычагу.
— Стреляй! — закричал начальник артиллерии, и ядра смертоносным градом посыпались на город. Жители не знали, как спастись от них.
— Стреляет Мефертисса! — кричали они в паническом ужасе. Так они называли эту танцующую пращу. — Она приносит несчастье!
Под прикрытием катапульты и расположившихся за ней лучников были подготовлены лестницы для штурма, и авангард тамплиеров взобрался на зубцы городской стены. Как только новый Великий магистр занес ногу над стеной, Деодат потерял его из виду. И тут вражеский снаряд швырнул Деодата на землю. Он услышал, как хрустнули кости у него в плече, но не успел почувствовать боли, лишившись чувств.
Несмотря на то, что египтяне защищали свою крепость не на жизнь, а на смерть, к полудню Дамьетта уже была в руках христиан. Мертвые заполнили весь город — улицы, дома и даже колодцы. Ибо не только Мефертисса и не только воины штурмовали город, но еще и чума. Чума победила Дамьетту.
Крестоносцы, однако, не думали о мертвых. Они врывались в каждый дом, рылись во всех сундуках и ларцах и нашли там много золота, серебра, драгоценных камеей и великолепных тканей. В драках они распределяли добычу между собой. И только после этого позаботились очистить город от разлагающихся трупов, чтобы вновь сделать его обитаемым.

В Испанию
Придя в сознание, Деодат увидел, что лежит в большой палатке с высокими входными стойками. Со всех сторон до его ушей доносились крики и стоны больных. Плечо болело так, что он не мог повернуть голову. Здоровой рукой Деодат нащупал повязку, косо наложенную на грудь и образующую на левом плече, которое так болело, подушечку. На левую руку была наложена шина. Боль усиливалась.
Когда стоны Деодата перешли в крики, к нему подошел какой-то иоаннит и, поддерживая ему голову, дал выпить напиток из трав.
Отвар оглушил, и больной опять заснул. В сумерках он проснулся на минуту. Мигель стоял на коленях рядом с ним и молился. Позади горела свеча, и ее спокойное пламя опять погрузило Деодата в забытье. Словно издалека раздавались стоны других раненых.
Кто-то подходил к Деодату снова и снова, ему что-то давали выпить. Он не мог понять, был ли это бульон, вода или же целебное питье. Наконец периоды бодрствования стали дольше, боль в плече утихала, становясь терпимой.
Кто-то сказал:
— Палатки тамплиеров опустели. Войско пошло на Каир.
И Деодату показалось, что из лагеря ушли почти все: лишь изредка раздавались шаги часовых, иногда пробегала собака или кошка, охотившаяся за крысами. По ночам слышался вой шакалов. Время от времени приходили женщины с бочонками воды и поили раненых, Иоаннитов почти не было видно; об уходе за больными и ранеными не могло быть и речи. От гниющих повязок на ранах исходило страшное зловоние.
Однажды в лагере началось оживление, он наполнился народом, стали приносить новых раненых. Однако тамплиеры, которые их несли, выглядели так, будто им самим требовалась помощь врача. Среди них был Мигель. На черепе его не хватало того самого повисшего уха, на месте которого теперь виднелась paнa с запекшейся кровью. Заметив, что Деодат узнал его, Мигель заковылял к другу. Глаза на истощенном лице Мигеля казались огромными, словно у призрака. Рука, которую он подал Деодату, загрубела от грязи. Пахло от него потом и кровью. Некоторое время Мигель смотрел на Деодата большими глазами, словно хотел что-то сказать ему, затем, не говоря ни слова, поплелся прочь.
Когда несколько дней спустя Мигель вернулся, он вынул из рясы письмо, на котором стояла печать Великого магистра Петре Монтекауто.
— Я возвращаюсь в Испанию, — сказал Мигель. — По пути в Понферраду я должен завезти это письмо к епископу Эльнскому. Эльна лежит у моря к востоку от Пиренеев. На корабле, на котором я отплыву, будут раненые. Подумай, поплывешь ли ты со мной. В таком состоянии ты не нужен Святой Земле. Хотя, я полагаю, иоанниты могли бы взять тебя туда с собой.
— Мне не требуется долго думать, — сказал Деодат. — Я отплываю вместе с тобой. Все происходит так, как ты и хотел в самом начале, но теперь я калека.
Всю дорогу Деодат думал о том, что он изувечен и, вероятно, больше не сможет заниматься своим ремеслом. Он ехал, пряча взгляд, чтобы Мигель не заметил его горя. Из Шартра Деодат отправился в Каструм Перегринорум, рассчитывая побыть на Востоке вместе с Эрнестом.
Теперь он плыл к испанскому берегу. Подняв глаза, он увидел раздуваемый ветром белый парус с красным крестом и иерихонскими трубами над ним. «Иерихонские трубы, — подумал Деодат, — но какой ценой!»
На западе серая полоска поднялась над краем моря. «Земля на горизонте!» — закричал человек с наблюдательного пункта. Серая полоса медленно расширилась, поднялась и превратилась в побережье около границы между Францией и Испанией. Корабль вошел в тамплиерский порт Коллиур.
Епископ Эльнский был богатырского телосложения. Его серо-ледяные глаза умно блестели на добродушном лице. Мигель, которого стражи епископского дворца пропустили вне очереди, протянул епископу письмо Великого магистра так, что тот мгновенно узнал печать.
— Друг мой, — сказал епископ, бросив взгляд на письмо, — я с опаской принимаю от вас это письмо. Садитесь туда, мне нужно собраться с мыслями перед тем, как прочесть его.
Епископ встал на колени у окна. Некоторое время он оставался в этом положении, затем спокойно поднялся, распечатал письмо и вполголоса стал читать. Выражение его лица становилось все более озабоченным.
— «…так мы пытались бороться со все более превосходящими силами султана и в хорошем боевом порядке поднялись на берег нильского рукава Таниса. Когда же мы, разделенные только рекой, на глазах врагов разбили свои палатки, десять тысяч боеспособных крестоносцев бежали из наших рядов. Как только на Ниле началось половодье, султан отправил галеры и галионы в старый канал. Таким образом они преградили путь вашим судам в Танисе и помешали их маневрированию. И, что еще хуже, они полностью отделили нас от Дамьетты, так что мы потеряли связь с основным войском.
Султан приказал отвести нильскую воду в систему неизвестных нам каналов и углублений и сделал невозможным наше отступление. В этом болоте мы лишились коней и ослов, всего снаряжения, бронированных повозок и оружия почти со всем боезапасом. Мы не могли продвинуться ни вперед, ни назад, ни еще в каком-либо направлении. Без продовольствия мы задыхались, словно рыбы на берегу. Теперь мы уже не могли сражаться с неверными, так как нас от них отделяло озеро. В этом безвыходном положении стало неизбежным подписание договора с султаном. Он потребовал вернуть ему город Дамьетту.
Итак, мы вернулись в Дамьетту, чтобы определить сроки передачи города. Ведь если бы мы даже захотели выкупить его, то не смогли бы так скоро найти ни единой серебряной монеты. Дело в том, что крестоносцы, распределившие между собой богатую добычу, давно уже были очень далеко, а на их месте сражались новые. Итак, мы должны были покориться и утвердить договор, отдав заложников.
Султан гарантировал нам беспрепятственный вывод наших войск, а Святой Земле — перемирие на восемь лет. Если бы император Фридрих Гогенштауфен показался у стен Дамьетты хотя бы на один день — а он дал такой обет не только нам, но и папе, — то этот крестовый поход, конечно же, имел бы совсем другое завершение. У крестоносцев был престиж мощной боевой силы, и султан боялся Фридриха II, угрожавшего из Сицилии египетским областям, расположенным в устье Нила.
Султан остался верен своим обещаниям. Пятнадцать дней подряд он выдавал хлеб и кашу изголодавшейся армии крестоносцев и таким образом сохранил нам жизнь.
Посмотрите с сочувствием на нашу беду, дражайший друг, и помогите нам, как можете!
Петрус Монтекауто,
Великий магистр ордена тамплиеров».
Епископ положил письмо и снова подошел к окну.
— Господи спаси! — пылко произнес он и повернулся к Мигелю. С давно отработанным самообладанием он любезно сказал: — Простите, дорогой друг, если, читая это письмо, я не выполнил долга гостеприимства. Прошу вас выпить со мной немного вина и кое-что поесть.
Мигель поклонился:
— Благодарю вас за заботу, господин. Но нам, тамплиерам, устав ордена не разрешает пить вино с епископами. Простите, что я вам об этом напоминаю.
Епископ с сожалением пожал плечами.
— Пусть это будет не вино» — сказал он, лукаво улыбнувшись.
Все больше и больше раненых тамплиеров перевозивши по морю в Коллиур, и уже не хватало мест в лазарете, чтобы всех их принять. Тогда паломников, которые были среди инвалидов, стали передавать монахам в Эльну: там монахи устроили лагерь для больных. Среди них находился и Деодат. Крик восторга вырвался из его уст, когда он увидел искусно обтесанные колонны, имевшие верхние части в виде фигур и стволы, украшенные великолепным орнаментом.
— Наверное, ты каменотес, да? — с улыбкой спросили монахи Деодата. — Тогда ты должен выздороветь от одного только созерцания этой архитектуры!
Расслабившись, Деодат лежал, скрытый в этом дворе с колоннами, где благоухали узкие стройные кипарисы. Впервые он не подавлял в себе мыслей о Шартре и о родителях. Деодат видел, как мать дает ему в дорогу две новые рубашки, как отец со взволнованным лицом пересчитывает серебряные монеты, бросая их ему нa ладонь. Родители тогда сказали: «Распорядись этим разумно!» Но Бог знает, кто на его месте смог бы распорядиться этим разумно… Дядя Андре, всегда такой веселый и разговорчивый, только молча положил ему руку на плечо.
— Я передам Эрнесту привет от вас, как только его увижу, — сказал Деодат с тяжелым вздохом и отвернулся.
С картинами воспоминаний перед глазами Деодат уснул; впервые его сон был целебным. Проснувшись, он посмотрел в большие глаза Мигеля.
— Как тебе здесь нравится? — спросил друг.
С минуту Деодат осматривался: колонны, кипарисы, монахи, деловито пробегавшие туда-сюда, плеск фонтана. Боль стихла.
— Хорошо, — ответил он. — Мне здесь хорошо. Когда ты должен поехать в Понферраду, Мигель?
— В Понферраду, — Мигель улыбнулся, — в Понферраду мы поедем вместе. Сейчас я должен ехать в Агд, куда доставят нашу разобранную Мефертиссу, чтобы тамошние инженеры ее достроили.
Тут улыбнулся и Деодат.
— Когда? — недоверчиво спросил он, имея в виду Понферраду.
— Это произойдет осенью, — ответил Мигель. — Тогда ты снова встанешь на ноги.
— Мигель, если ты повстречаешь какого-нибудь французского каменотеса, который едет из Агда на север, отправь его к моим родителям, чтобы они знали, где я нахожусь.
— Это я тебе обещаю, — сказал Мигель и ушел.
Деодат, однако, мысленно не отпускал его. «Мигель, — думал он, — если мне действительно суждено обрести заново силу рук, я клянусь, что применю ее на пути пилигримов в Сантьяго!» — и, пока друг еще не успел далеко уйти, Деодат повторил:
— Я клянусь!
Монахи заботливо ухаживали за Деодатом. Вскоре он был уже в состоянии сидеть. Они подложили ему под спину подушку, и теперь он мог полностью обозревать крестовый ход и сад. В основном его интересовали искусно обтесанные навершия колонн внутри крестового хода, где были изображены скульптурные фризы. Там Иаков пас овец Лавана, чтобы заслужить прекрасную Рахиль. Можно было увидеть и Каина, убивавшего брата своего Авеля.
Еще через две недели у Деодата уже не подкашивались ноги, когда монахи просили его встать. Шаг за шагом он начал ходить.
Повязки на руке и плече Деодата становились все тоньше, наконец он начал двигать рукой, прежде беспомощно свисавшей как плеть. Он сжимал руку в кулак и поднимал булыжники — все тяжелее, все выше. Он нашел жердь и тренировал на ней кисть. Потом он вбил жердь в землю и пытался согнуть ее. Деодату пришло на ум исследовать конюшни и посмотреть, не найдется ли там работа, которую он мог бы выполнять. Однажды больной рукой он почистил скребницей лошадь. Так постепенно Деодат восстанавливая свои силы. Когда у него перестало свисать раненое плечо, он стал таким же крепким молодым человеком, каким был прежде.
В конюшне, кроме лошадей, стояли и пять мулов, у которых на лбу был выжжен тамплиерский крест.
— Куда их отправляют? — поинтересовался Деодат.
— Их отправляют в Лавлане, — ответил один из монахов, работавших на конюшне. — Мы отдадим их в дорогу тому, кто пойдет в Сантьяго.
— Когда же они отправятся? — спросил Деодат учащенно бьющимся сердцем.
— Через две недели, — сказал монах-конюший и добавил со вздохом: — Если все будет хорошо, ведь эти — сущие черти.
На следующий день Деодат начал ухаживать за мулами; вскоре он так хорошо изучил своенравных животных, что легко справлялся со всеми их капризами, а мулы покорно подчинялись Деодату.
По вечерам же у Деодата так болело плечо, что он подолгу ворочался в постели, безуспешно выискивая удобную позу, чтобы унять боль.
Однажды он привел мулов на огороженный выгон, и, когда они подняли там вихрь сухих листьев, Деодат заметил, что наступила осень.
В этот вечер он связал в узелок те немногие пожитки, которые удалось ему собрать за время болезни, и стал ожидать Мигеля.

Отъезд втроем
В конце недели Жоффруа сунул свой рыжий чуб в дверь конюшни.
— Скажите-ка, монахи! — весело воскликнул он. — Есть ли здесь человек по имени Деодат?
Братья, познакомившиеся лишь незадолго перед этим и вскоре расставшиеся, сердечно поприветствовали друг друга.
— Откуда ты приехал? Как узнал, что я здесь?
— Недавно в мастерской у моего отца стал работать подмастерье из Шартра, иначе отец не отпустил бы меня постранствовать. Отцу о тебе стало известно от твоего отца. Тот услышал о тебе от какого-то другого подмастерья, а тот — от тамплиера по имени Мигель. Теперь ты доволен?
— Знают ли мои родители, что у меня покалечено плечо?
— Знают. Я, однако, вижу, твоя рука вновь обретает подобающую силу.
— Как идут дела у моих родителей?
— Они живут хорошо. Много думают о тебе.
— В ближайшие дни я еду в Испанию. Я дал обет. Кроме того, мне нужно где-нибудь по дороге пристроить этих чертовых мулов. За мной, я надеюсь, скоро заедет Мигель.
— Тогда часть пути я проеду с вами, — сказал Жоффруа, — или, может быть, вы хотите слегка нагрузить этих мулов?
— Нет, не хотим. Но я, сказать по совести, не могу рекомендовать их тебе для верховой езды, или, может быть, ты так хорошо держишься в седле, что совсем ничего не боишься?
— Уж я научу их хорошим манерам, — сказал Жоффруа, показав мулам кулак.
Братья расхохотались.
— У тебя дома все в порядке?
— О, да. К счастью, там ни в чем нет недостатка. Только Жерек не раскрывает уст. При этом растет крепким, как дуб, и обещает стать умелым мастеровым. Он не собирается сидеть сложа руки.
— Я пробуду в Испании несколько лет, — сказал Деодат, — исполню свой обет и вернусь в Шартр.
Через день появился Мигель. Ранним утром он зашел на конюшню Эльнского монастыря. За плечами у него висел плетеный дорожный мешок.
— Можно ехать? — спросил он, посмотрев на Деодата испытующим взглядом.
— Мигель, — воскликнул Деодат, — кто сказал тебе, что я в состоянии ехать?
— Мне говорят это сейчас мои глаза, — ответил Мигель, смеясь, — но сердце мое говорило об этом всегда. Какого мула ты хочешь взять с собой в поездку?
— Вон того черного с отвислым ухом. Светлого я отдам двоюродному брату, который сейчас здесь и хочет проехать вместе с нами часть пути. Светлый не такой упрямый, как остальные.
Еще не наступил полдень, когда они оставили Эльну далеко позади, а темно-синяя полоса моря стала совсем узкой. Жоффруа попросил разрешения ехать последним. Он сказал, что так будет меньше злиться на мулов и постарается не отстать. Он должен только крепко держаться, а впрочем, может и дремать.
У подножия скальной крепости Пюилоран они переночевали в одном из многочисленных домов тамплиеров, стоявших вдоль этого важного торгового пути, соединявшего моря между собой. Там они впервые увидели, как путешественники платили за ночлег и обед тамплиерскими чеками.
— Весь Запад, — сказал Мигель, заметив любопытные взгляды товарищей, — можно объездить при помощи таких чеков.
— Представьте себе купца, который, подобно нам, собирается ехать из Коллиура в Испанию. Если бы у него не было чеков, изобретенных нашим главным счетоводом, он должен был взять с собой сундук, полный серебра в разных валютах. Он не мог бы кормить ни себя, ни слуг, ни вьючных животных. Могло бы случиться и так, что у вето украли сундук, или сундук упал бы в пропасть с горной тропы в Пиренеях. Тогда ему пришлось бы просить милостыню вместе со своим слугой. Это уже достаточно часто случалось. А вот чеки, на которые он обменяет деньги в доме тамплиеров в своем родном городе, он может спокойно хранить у себя на груди. Но может и без опасения сунуть в сумку, висящую на седле: ведь никто, кроме него, ничего не сможет с ними сделать, так как они снабжены отпечатками пальцев владельца.
— Можно ли эти чеки превратить обратно в деньги, если в чеках больше нет необходимости?
— У торговцев они считаются приравненными к наличным деньгам. Но их можно и обменять в любом доме тамплиеров. Орден берет себе небольшой налог за обмен.
— А что делают в управлениях ордена с чеками, — поинтересовался Жоффруа, — за которые они должны предоставлять путникам ночлег, пищу и корм для лошадей?
— Чеки собирают и дважды в год посылают в ту область, где они выпущены, то есть в главную комтурию своего округа. Там подсчитывают их стоимость и отсылают в главный тамплиерский дом страны, который, как правило, расположен в городе, где находится королевская резиденция. При этом главные тамплиерские дома каждого королевства должны также вести подсчеты и посылать результаты в главный дом, где работают главные счетоводы как Запада, так и Востока. Таким главным домом является дом тамплиеров в Париже, Там находится сокровищница ордена.
— Ах, вот почему дом тамплиеров в Париже так основательно построен и так хорошо защищен! Правда, сам я его еще не видел, но мне рассказывали, — воскликнул Жоффруа.
— А если у путешественника недостаточно чеков, что бы расплатиться, что тогда? — поинтересовался Деодат.
— Тогда он обменивает последний остающийся у него чек на более крупную сумму в доме тамплиеров.
— Почему последний?
— Потому что у него должен быть на руках чек с отпечатком его пальца. О новой стоимости, которая вносится на чек, сообщается из комтурии в область ордена тамплиеров, а затем — в дом тамплиеров родного города владельца чека. Там родственники подсчитывают его долги.
— Родственники?
— Многие в таких поездках умирают. Тогда рассчитаться с ними не может никто — только Всевышний, — и Мигель указал на небо.

Прекрасная девушка
Торговый путь, по которому Деодат, Жоффруа и Мигель ехали все дальше на запад, был достаточно оживленным. Купцы вели свои караваны мулов; ремесленники, которые странствовали подобно Жоффруа, помахивая посохами, проходили мимо них. Встречались им и солдаты французского короля, стремившиеся подчинить себе эти южные территории. Иногда верхам на конях нахально и стремительно проносились студенты. Вероятно, они направлялись в университет города Монпелье, где преподавали еврейские и арабские ученые. Однажды троим путникам встретился мельник, непрерывно колотивший своего слишком тяжело нагруженного осла. Некоторое время они ехали рядом с молчаливым трубадуром, на плече у которого сидела прирученная сорока, символ его профессии.
В окрестностях Лавлане они увидели какое-то скопление людей, перегородивших дорогу. По тону и обрывкам слов нового церковного песнопения Деодат понял, что речь шла о верующих, собравшихся наказать еретиков, столь многочисленных здесь, на юге.
Деодат вопросительно посмотрел на Мигеля. Но Мигель молчал. Лицо его побледнело; он крепко сжал губы. Мигель не одобрял того, что здесь происходило. Разве Сам Иисус не говорил, что в доме Отца Его жилищ много! То, что устраивали здесь церковники, когда-нибудь нанесет вред Церкви. Он сделал знак Жоффруа, чтобы тот догонял, и устремил своего мула мимо толпы.
Затем Деодат увидел в стороне, на лужайке костер и позорный столб для осужденных. Теперь песнопения раздавались все громче. Главная часть процессии вышла на лужайку; впереди шел священник с деревянным крестом в руках. На мгновение он высоко поднял крест, так, чтобы все это видели, и воткнул в землю рядом с костром. Два палача вели осужденного, с головой накрытого грязным мешком, так что Деодату не было видно, пожилой он или молодой. Казалось, что он небольшого роста.
Палачи подождали, пока не кончились песнопения. Затем они развязали веревку, за которую вели осужденного, и сняли мешок. Перед толпой стояла прекрасная девушка.
— Нет, нет! — закричал кто-то в отчаянья за спиной Деодата.
Это был Жоффруа. Его мул испугался и, лягаясь, помчался через возбужденную толпу. Верующие гневно кричали, перебивая друг друга: «Она еретичка!» Другие торопили священника и палача, призывая толпу не мешать им. Этот помешанный на светлом муле, несомненно, также из еретиков. Потом можно будет погоревать и о нем — потом, когда они расправятся с девушкой.
Девушка совсем не показывала страха. Деодат поймал взгляд ее горящих глаз, глубоко тронувший его.
— Поехали дальше! — гневно повелел Мигель, махая рукой, державшей уздечку, в сторону Лавлане.
Деодат увидел, как палачи вытолкнули девушку на костер. Он стегнул своего мула и погнал его вперед.
Поравнявшись с Жоффруа, Деодат заметил, что его лицо залито слезами. Рыданиям, сотрясавшим Жоффруа, не было конца.
— Почему? — всхлипывал он и смотрел на Мигеля, словно ища у него помощи.
— Здесь власть тамплиеров приходит к концу, — горько сказал Мигель. — Здесь царит суд над еретиками.
Они приехали в Лавлане и, сняв с мулов поклажу, поставили их в стойло дома тамплиеров. Жоффруа попрощался с товарищами. На этом юге, таком милом с виду, он не желал больше оставаться ни дня.
Через пять дней Мигель и Деодат поднялись на перевал Ронсеваль, на котором соединялись северные и восточные пути к Сантьяго ди Компостелла. Здесь объединялись несметные толпы пилигримов. Здесь пилигримы падали на землю и ползли, измеряя расстояние своими телами, до самой гробницы святого Иакова — и так несколько раз. Это было потрясающее зрелище. У многих упавших уже не было сил снова подняться, им требовалась помощь. Едва ли здесь нашелся хотя бы один человек, чья одежда не была бы изодрана в лохмотья.
Но возвращавшиеся из Сантьяго пели веселые песни танцевали прямо на дороге. У всех были раковины Иакова на шляпе, на походной сумке или даже в руке, чтобы черпать воду. Язык их был столь же разнообразен, как и одежда, но жесты — одинаковы, как пыль, покрывающая их с головы до ног.
В последующие дни они так и ехали в толпе паломников, обгоняя одних и уступая дорогу встречным. Как-то вечером Мигель сказал:
— Сегодня, Деодат, мы последний день ехали вместе. Завтра мы прибудем в Эстелью. Там наш орден имеет большой дом и постоялый двор, на котором паломники могут отдохнуть. В Эстелье у меня есть друг, мастер-каменотес. Там он руководит сооружением трех церквей для паломников. Не знаю, как далеко он продвинулся в выполнении своих задач, но, несомненно, ему нужен каменотес вроде тебя, потому что порталы этих церквей должны быть украшены фигурами. Значит, если ты не против, мы расстанемся завтра. Я поеду дальше в Понферраду, и если будет угодно Господу, то мы, конечно, еще встретимся в этой жизни.
Выслушав Мигеля, Деодат побледнел. Как же ему продолжать свой путь без друга? Почему тот просто не взял его с собой в Понферраду? Ведь, без сомнения, там требуются каменотесы!.. Из-за предстоящей разлуки Деодат так опечалился, что не смог ничего ответить. Все, что сделал для него Мигель, снова пронеслось перед его взором. Он видел друга перед собой так, как это было в первый раз в Дамьетте: кивающего, с повисшим ухом.
Всю ночь Деодат проворочался под своей овечьей шкурой. Они лежали на иссушенном жнивье. Стоял один из тех теплых осенних дней, которые бывают в этой местности. Их тяжелее переносить, чем летний жар, так как к осени вся зелень засыхает. С завтрашнего дня, думал с огромным беспокойством Деодат, он должен будет самостоятельно принимать решения и в одиночку преодолевать болезнь. Захочет ли тот мастер взять к себе подмастерье с искалеченным плечом? Хватит ли у Деодата сил взвалить на себя тяжелый груз, который должен нести каменотес?
Наконец забрезжил рассвет. Они встали и повели поить мулов к небольшому ручейку. Ранней весной этот ручеек превращался в настоящую реку, и тогда его уже невозможно было перешагнуть, как теперь.
Они долго в молчании ехали рядом. Когда вдали возник силуэт Эстельи, Мигель испытующе взглянул на Деодата и сказал, словно не замечая подавленности друга:
— Крепость Эстелья принадлежит нам, тамплиерам. Но и в городе у нас прекрасный дом. Он собственность короля Наваррского. Здания ордена расположены на скале над городом.
Вскоре двое друзей въехали в городские ворота. Среди узких переулков затерялась небольшая площадь с прекрасным фонтаном в центре. Королевский дворец, о котором Мигель упомянул по пути, ограничивал ее с одной стороны. С другой стороны вздымалась одна из скал, так характерных для этих мест. В скале была вырублена широкая, очень крутая лестница, которая вела вверх к незавершенному еще строительству. Деодат вспомнил, что там должна быть церковь, ради сооружения которой Мигель привез его с Востока. Теперь такие церкви возводились и здесь.
— Пора прощаться, друг, — сказал Мигель, и его голос дрогнул. — Возьми с собой узелок и поднимись по этой лестнице к церкви святого Петра. Там ты найдешь мастера Мильяна. Скажи ему, что я послал тебя, и переедай от меня привет. Я уверен — твоя рука сможет выполнять давно привычную работу.
Как только Деодат спрыгнул с мула, привязав свой узелок поясу, Мигель, прощаясь, слегка приподнял руку, держащую уздечку, как это он обычно делал, и погнал мула вперед.
«Спасибо за все», — подумал Деодат, глядя, как маленькая фигурка друга в слишком большом для нее тамплиерском плаще растворяется в толпе.

Камень
Деодат дошел до фонтана, наклонился к краю и долго пил текущую воду. Он бросил взгляд на верхний край лестницы, откуда раздавались стук молотков и дробилок, визг пилы и крики. Некоторое время Деодат еще медлил. Наконец он перекинул узелок через искривленное плечо и поднялся по лестнице. Строительный барак был втиснут между недостроенной церковью и скалами. Деодат поднялся по разбросанным вокруг глыбам светло-серого гранита и белого известняка. Он узнал мастера по командам, которые тот подавал.
Мастер Мильян был старый грузный человек с гигантскими кулаками и голубыми, остро глядящими глазами, запрятанными глубоко под кустистыми бровями. Деодат назвал свое имя и сказал:
— Тамплиер Мигель послал меня к тебе. Он передает тебе привет. Он вернулся из Дамьетты и привез оттуда меня, так как я был ранен.
Мастер Мильян скользнул взглядом по искривленному плечу Деодата.
— Так, — сказал он, кивнув. — Так. Сними свой узелок! Ты сможешь жить у меня дома, если мне понравится, как ты будешь работать. Сегодня ты можешь спать на строительной площадке. Достаточно ли у тебя с собой еды?
— Достаточно.
На следующее утро мастер, поднявшись на строительную площадку, фазу же сказал:
— Итак, покажи мне, на что ты способен. Хоть я и полагаюсь на взгляды и суждения Мигеля, все же хочу видеть собственными глазами, что мы с тобой сможем делать.
— Я очень благодарен тамплиерам, — произнес Деодат, — поэтому мне хотелось бы украсить их прекрасный дом, изготовив навершие для колонны, если ты не против. Дай мне какой-нибудь камень, потом я отработаю его цену, чтобы ты не был внакладе.
— Дом принадлежит королям Наваррским.
— Мигель говорил мне. Думаю, тамплиеры хотели бы украсить дом этим навершием колонны, в признательность за то, что им было позволено так долго жить в нем. Мне хотелось бы изобразить битву тамплиеров с неверными: действие будет происходить здесь, в Испании, а не только на Востоке.
— Мы называем неверных маврами. Щиты у них круглые, с изображением лунного диска, под которым они подразумевают своего бога Аллаха. Когда мавры закрываются щитами с лунным диском, то полагают, что их хранит Аллах. Где ты обучился своему мастерству?
— В Шартре. Мой отец работает архитектором в соборе. Он получил образование в одном из строительных братств.
— Если ты обучался ремеслу у него, то должен знать, и что всякий раз перед работой необходимо погружаться в себя, чтобы образ, который ты собираешься изваять в камне, начал светиться в твоем воображении. Это свечение должно быть чрезвычайно сильным, и тогда оно не пропадет, когда ты снова откроешь глаза. Картина будет стоять перед тобой, и тебе останется лишь обвести долотом ее очертания. Можешь взять гранитную глыбу, которая находится у потолочной опорной балки, — мастер кивнул вверх.
Деодат подошел и стал разглядывать глыбу. Она имела четкое зернение, цвет не был таким серым, как у других камней, в нем слегка «играла бледность». Мастер пристально следил за Деодатом.
Деодат сел в темный угол, закрыл глаза и подумал об изображении, которое ему хотелось бы изваять. Но сосредоточиться, как он делал в Шартре, не получалось. Его отвлекали уже давно не слышанные шумы мастерской: возгласы подмастерьев, стук деревянных колес под глыбами, скрип лебедок, стук молотков, шипение в воде раскаленного железа. Сюда примешивались знакомые запахи каменной пыли, искр, высекаемых железом из камня, и древесного угля. Все это отвлекало Деодата, и мысли привели его назад в Шартр. Как далеко там продвинулось строительство собора? Построен ли поперечный неф? Сделаны ли кружала? Возводят ли фигуры на боковых порталах? А как дела у отца? Мать, наверное, печалится о сыне… Деодат внезапно обнаружил, что его охватила тоска по родине. Никакой сосредоточенности у него не получилось. Сражающиеся рыцари, которых он собрался изваять, еще не пришли в его воображение.
— Пойдем со мной! — велел мастер вечером, несмотря на то, что Деодат ничего не сделал. — Ты можешь у меня поесть и поспать.
На следующий день Деодат снова попытался углубиться в себя. Ему удалось отвлечься от шумов в строительном бараке. Но дым кузнечного горна напомнил ему о костре в Лавлане и о прекрасной девушке. Пот струился у него изо всех пор. Ему тяжело было в этой мастерской, он стремился на воздух, только на воздух! Мастер молча наблюдал за ним. Деодату хотелось выгнать его из мастерской дубиной, которая валялась под ногами и тоже мешала самопогружению!
Целый день Деодат бродил по городу, разговаривал с паломниками, расспрашивал их и пробовал отвлечься, слушая их рассказы. Затем он снова собрался с мыслями, поднялся в строительный барак и сел на камень. Картина по-прежнему не появлялась перед его внутренним взором.
На следующий день было воскресенье, и строительный барак затих и опустел. Некоторое время Деодат слонялся между брошенными инструментами, потом спустился в городи сел около прекрасного фонтана.
Мимо проходили празднично одетые молодые люди, парочки шли под руку. В лице одной изящной девушки промелькнуло мимолетное сходство с той — погибшей на костре. Деодат не сводил с нее глаз. Стала бы девушка из Лавлане ходить такой пританцовывающей походкой, если бы осталась жива? Он вдруг понял, что никогда больше не поведет девушку под руку, как этот молодой человек. Перед ним все время возникало лицо приговоренной девушки — то не по-зимнему прекрасное лицо со светящимся взглядом.
Словно его что-то потянуло, Деодат соскочил с края фонтана и помчался вверх по лестнице, вырубленной в скале. Он нашел свой камень и любовно погладил руками его поверхность. Светящееся лицо девушки из Лавлане парило перед камнем.
И на следующее утро, когда Деодат снова стоял перед блеклым камнем, он увидел, как светится на нем лицо девушки.
— Мастер, я хочу вырезать на этом граните лицо девушки, которую я видел перед тем, как ее сожгли на костре — сказал Деодат.
Глаза мастера сузились.
— Ты знаешь наши правила, подмастерье! — отрезал он, и Деодат пристыженно потупил взгляд. Каменотес не имел права делать что-либо помимо того, что было ему предписано.
Девять дней Деодат в полном безделье просидел в задней комнате строительного барака. Слишком долго не годилось ему заниматься самопогружением! Но умение, приобретенное в Шартре, медленно возвращалось. И вот произошло следующее: все переживания его собственной жизни поблекли. Осталась только кровь тамплиеров, пролитая в Европе и Азии. Изображение, которое Деодат собирался изваять, казалось, обрело плоть.
С этого момента и впредь Деодат был уверен в своем деле. Левая рука служила ему почти столь же исправно, как раньше, и держала долото под необходимым углом.
То и дело мастер испытующе смотрел на него и всякий раз с удовлетворением отворачивался. Возникало навершие колонны с изображением битвы на пиках между тамплиером и мавром. На заднем плане помещались другие воины: одни — с продолговатыми щитами, на которых был изображен тамплиерский крест, другие — с украшенными орнаментом круглыми мусульманскими щитами. Подмастерья из строительного барака подходили и смотрели с любопытством на то, что Деодат высекает из камня. Вместе с ними приходил и мастер и сидел некоторое время рядом с Деодатом.
— Мигель был прав, — как-то сказал он в знак признания заслуг Деодата. — Его мнение до сих пор соответствует истине, — и мастер дружески кивнул Деодату.
Когда навершие колонны было почти готово, мастер однажды сказал:
— Подмастерье, если ты не против остаться со мной в строительном бараке, то я хочу, чтобы ты стал мастером.
— Я не против, — ответил Деодат.
Мастер протянул ему свою мозолистую руку, и Деодат ударил по ней в знак согласия.
Экзамен на мастера состоялся в 1225 году. К вечеру жена мастера приготовила Деодату горячую ванну; затем она угостила его супом, чтобы показать, что время учения кончилось. Как предписывал ритуал, ночь перед посвящением полагалось провести без сна; к Деодату пришел молодой подмастерье и оставался с ним всю ночь напролет как свидетель этого бдения.
Как только забрезжил рассвет, Деодат вымыл лицо и руки в колодце и вошел в комнату мастера, где собрались и другие мастера. Каждый пожал Деодату руку и приветствовал его изречением, которое он должен был парировать. Затем мастера сели за стол, а Деодат остался стоять рядом с ними. Экзамен начался.
Сначала ему предложили квадрат чисел — он должен был найти строительный ключ. После краткого раздумья Деодат нашел его. Затем один из мастеров достал из-под стола спутанную веревку.
— Завяжи маятник Соломона! — велел он, положив на стол клубок.
— Я с удовольствием это сделаю, — ответил экзаменуемый, — если ты будешь добр сказать мне, для какого города я должен его завязать.
Мастера обменялись замечаниями, признав правильность ответа, из которого вытекало, что Деодат знает о существовании местных локтей, зависящих от расстояния до ближайших меридианов.
— Тогда завяжи маятник Соломона, как бы ты это сделал в Шартре.
— Мастер, — без колебаний сказал Деодат, — это следует делать там, где я мог бы определить положение звезд, а не здесь.
Мастера удовлетворенно кивнули. Ответ снова оказался правильным.
— Если позволите, я завяжу маятник Соломона для Эстельи.
Деодат завязал двенадцать узлов на необходимом расстоянии друг от друга, так что получилось тринадцать отрезков веревки. Задача была решена верно.
Теперь он должен был вычислить нагрузку, которую могла вынести колонна объемом в семь локтей. И с этим Деодат справился.
Наконец мастера встали и вышли вместе с Деодатом на лужайку, чтобы он им показал, каким образом архитектор должен возвести лунную колонну, при помощи которой проверяется правильность расстояний на маятнике Соломона. Деодат успешно продемонстрировал это.
Тогда старики с торжественными речами ввели его в круг мастеров, ибо Деодат теперь полностью овладел теми знаниями, о которых архитекторы говорили только на языке символов. С этих пор он имел право ставить на каждый обработанный им камень свой личный знак каменотеса.
— Что ты будешь делать завтра, мастер? — спросили его, дав понять, что он теперь стал хозяином своих решений.
— Я поеду в Шартр, чтобы повидать родителей, — ответил Деодат.
— Ты останешься в Шартре? — поинтересовался один из мастеров.
— Я вернусь из Шартра сюда, — помедлив, ответил Деодат. Мысли его устремились к тем дням, когда вместе с Мигелем он приехал в Испанию. Вечером, когда каменотесы как всегда были заняты своей работой, Деодат погрузился в раздумья, сидя на краю прекрасного фонтана, где сидел в первое воскресенье своего пребывания здесь. Тогда мимо проходили, держа друг друга под руку молодые люди, и он понял, что никогда больше не сможет гулять с девушкой, потому что не в силах забыть прекрасное лицо, увиденное им в Лавлане.
Так было. И так будет впредь. Глаза Деодата искали королевский дворец, ограничивавший площадь с фонтаном. Тамплиеры то входили, то выходили из него. Деодат соскользнул с края фонтана и поднялся по лестнице, вырубленной в скале. Фигуры, произведенные им в мастерской мастера Мильяна, стояли справа и слева в стенных нишах рядом с порталом церкви, Деодат не обращал на них внимания. В заднем углу строительного барака, там, куда выбрасывали мешки и доски, под грудой мусора целым и невредимым остался лежать камень, обтесанный им для тамплиеров.
С помощью одного из подмастерьев он погрузил камень на тачку и доставил в окружное управление тамплиеров.
— Возьмите этот камень, господа, — сказал Деодат, — и считайте это моим вкладом. Ибо по моей твердой воле я вступлю в ваш орден, как только вернусь из Шартра, — после короткой паузы он добавил: — Если требуется мастер-каменотес.

Тоска по родине
В чердачной комнате в доме мастера Мильяна Деодат вечером складывал свои пожитки. Он не собирался брать с собой много, так как обещал комтуру вернуться в Эстелью, как только сможет.
— Мы с нетерпением ждем твоего возвращения, мастер, — обратился к нему комтур. — Наш орден рад каждому новому члену, в особенности мастеру. Мы так обескровлены непрерывными сражениями с маврами, что во всех наших крепостях не хватает людей.
— Я только повидаюсь с родителями, — сказал Деодат. Он привязал узелок к ремню и повесил над постелью. На следующий день, еще до восхода солнца, он собирался покинуть этот дом.
И тут с улицы до него донесся шум, а из комнаты в нижнем этаже послышался жалобный крик. Кто-то стремительными шагами взбежал по лестнице, и раздался голос:
— Мастер, мастер, скорее! Спускайся!
В комнате он увидел мастера Мильяна, лежащего на носилках. Лицо у него было бледное, а изо рта струилась кровь.
— Он упал с лесов! — сказал один из подмастерьев, беспомощно столпившихся вокруг Мильяна.
Мастер с трудом приподнял руку, показав на строительный барак.
— Займи мое место, — тихо сказал он Деодату. — Не нужно ехать в Шартр.
В напряженном ожидании он смотрел Деодату в лицо.
— Я буду работать вместо тебя, — ответил Деодат, не раздумывая. Мастер Мильян, успокоившись, закрыл глаза.
— Пошлите к тамплиерам за врачом! — сказал Деодат рыдающей супруге мастера.
Он медленно поднялся к себе в комнату и снова вынул из узелка вещи, приготовленные в путешествие.
Мастеру Мильяну потребовалось полгода, чтобы полностью оправиться после падения. Все это время Деодат в одиночку справлялся с делами в строительном бараке. Он принимал на работу новых подмастерьев и отпускал тех, кто хотел переехать в другую местность. Как раз в это время у него начал работать один веселый каменотес из Шартра.
— Как дела у моих родителей? — спросил Деодат, услышав, откуда приехал подмастерье.
— У твоей матери все хорошо. Чего не скажешь, к сожалению, о твоем отце.
— Объясни мне, почему?
— Каменная пыль, которую все мы вдыхаем во время работы, забила ему дыхательные пути. День и ночь он сидит на стуле, а твоя мать должна постоянно стучать ему по спине, чтобы он откашлялся, избавившись от слизи и каменной пыли.
— Значит, он уже не работает в соборе?
— Нет, — сказал подмастерье, покачав головой.
Когда через полгода мастер Мильян начал выздоравливать,подмастерье, уезжавший в Шартр, снова прибыл к Деодату. Он привез известие, что отец Деодата умер этой весной.
— А твоя мать, я слышал, еще до наступления лета собирается переехать к своей сестре в Лион, чтобы стареть вместе с ней.
Деодат очень опечалился — так и не удалось ему еще раз увидеться с отцом.
Уже весной Деодат вступил в орден тамплиеров. Когда он со своими немногочисленными пожитками покинул дом мастера Мильяна и пришел в королевский дворец, ему сразу бросилось в глаза навершие колонны, которое он обтесал в первые недели своего пребывания здесь. Тамплиеры поставили его в королевском дворце на самое видное место.
— Мы хотим поручить тебе ответственную задачу! — сказал комтур, протянув Деодату руку в знак приветствия. — Группа архитекторов нашего ордена должна по возможности скорее выехать для осмотра крепостей, расположенных вдоль границы с маврами. Мы были не в стоянии охранять эти крепости, и поэтому другие христианские ордена в Испании стали перенимать наш опыт рыцарского монашества. В эти замки ты отправишься вместе с тремя другими каменотесами. Прежде всего речь идет о крепости Калатрава, которую мы недавно передали монахам цистерцианцам из Фитеро. Они называют себя «Христианскими Рыцарями из Калатравы». Монахи из аббатства Сан-Хулиан объединились в «Рыцарский союз из Алькантары». Цистерцианцы из Валенсии стали «Рыцарями из Монтесы». Подобным же образом в Португалии появились «Рыцари из Ависа».
Некоторое время комтур смотрел в окно на площадь с фонтаном, затем добавил:
— Но сначала нам хотелось бы отправить тебя в Понферраду, там тебя ждут другие каменотесы.
У Деодата появилась надежда увидеть Мигеля — если тот еще в Понферраде, — и он обрадовался.

Император вступает в Иерусалим
Когда 110 лет назад Бернар Клервоский послал девять первых рыцарей в Святую Землю, он сказал им: «Всегда считайте дела королевства Иерусалимского первоочередными!» С тех пор в ордене тамплиеров стало законом: если Иерусалим просит помощи, то отзываются монахи всех комтурий Европы.
Теперь Иерусалим снова позвал на помощь.
Император Фридрих II, так и не появившийся у стен Дамьетты, был отлучен папой от Церкви, Каждый связанный с Фридрихом вассальной клятвой освобождался от этой клятвы. Теперь император, вероятно, размышлял о том, не лучше ли принять на себя все расходы и мучения нового крестового похода, чем потерять своих баронов и рыцарей, которые помогали ему в сражениях? Он планировал организацию нового крестового похода, и тамплиеры Европы снаряжались, чтобы плыть по Средиземному морю.
Тамплиеры из Понферрады также должны были внести свой вклад. Но в этой крепости на пути святого Иакова собралась лишь небольшая их горстка. Кого же снарядить в поход?
Мигель ехал впереди небольшой группы тамплиеров. Боевой конь, так грозно выглядевший рядом с ним, шел у него в поводу. С недавнего времени каждый тамплиер довольствовался лишь одним оруженосцем, который вел за собой лошадей с поклажей.
Той же дорогой вдоль Пиренеев, которой он привел Деодата в Эстелью, Мигель теперь ехал в обратном направлении. Он думал о друге и о неожиданной встрече с ним. Мигель не сразу и узнал в коренастом мастере-каменотесе молодого Деодата, с которым невероятно давно расстался в Эстелье.
— Смотри-ка, — сказал Мигель другому тамплиеру, — точно такое же искривленное плечо, как у того человека, было у моего друга из Дамьетты. При штурме города он находился у катапульты по прозвищу «Мефертисса», за ее усовершенствованием я позднее наблюдал в Агде… — но тут Мигель узнал Деодата, и они обнялись.
Когда Мигель ехал в раздумье впереди своего отряда, ему бросилось в глаза, как увеличилось количество постоялых дворов и насколько больше, чем прежде, встречается паломников. И купцы, попадавшиеся по пути, ехали на более крепких лошадях, а брезентовые шатры, натянутые над их повозками, были не столь пестро заплатаны.
Благосостояние Европы возросло, и этому способствовали тамплиеры строительством новых дорог и борьбой с разбойниками. Они накапливали в амбарах зерно, предупреждая голод. Они обезопасили границы с маврами и освоили новые пахотные земли; создали новые рынки и начали заниматься банковским делом. Мигель городился тем, что был тамплиером. И все же он не насвистывал радостную песенку, а хмурился, зная, что стоит ему оглянуться назад, и он увидит лишь этот жалкий отряд, которым собирается попасть в Святую Землю. Он подумал о господине де Пайене, когда-то набравшем в орден столько новых членов. Настоящее войско должно было находиться в Марселе, оно ожидало отплытия на Восток. Восток дрожал от страха перед этой закаленной в боях армией.
Когда тамплиеры из всех областей Юга собрались в Коллиуре и тамплиерский флот, гордо раздувая паруса, величественно выплыл на голубую морскую гладь, в Мигеле все-таки осталась печаль. Но и другие рыцари-монахи разделяли эту печаль и смотрели на побережье Святой Земли, так же нахмурив брови. Что там могло их ожидать? Вероятно, прибрежная полоска земли находилась в руках христиан с тех пор, как был построен Каструм Перегринорум. Но Иерусалим принадлежал султану.
Иерусалим рыдал.
Как только рыцари-монахи, прибывшие из Европы, высадились в Каструм Перегринорум, их встретил широкоплечий тамплиер и проводил в замок.
— Я Эрнест из Шартра — прюдом ордена и ответственный за содержание в порядке этих стен, — так представился он прибывшим тамплиерам.
Мигель знал, что этот человек — двоюродный брат Деодата. Рыцари-монахи из Европы обступили Эрнеста со всех сторон, чтобы услышать от него последние новости в политике. Каково было соотношение сил на этой территории? Появлялись ли здесь участники крестового похода?
— Император Фридрих вместе с иоаннитами и тамплиерами вернул христианам город Яффу. Теперь он находится в Акконе, где флот его стоит на якоре.
— Значит, крестоносцы уже тут! — воодушевленно воскликнул один молодой рыцарь-монах.
— Вы увидите палатки пилигримов в пределах городских стен.
— Каковы дальнейшие намерения императора? Вступил ли он в Акконе в контакт с Великим магистром?
— Об этом я ничего не слышал, — печально сказал Эрнест.
— Сначала он примет у себя баронов Святой Земли, — воскликнул один седовласый рыцарь, — чтобы узнать, на кого из них он может рассчитывать в походе на Египет.
Но император Фридрих отнюдь не собирался учитывать интересы баронов Святой Земли. Не принял он и обоих Великих магистров рыцарских орденов. С отсутствующим видом сидел он на своем роскошном корабле и смотрел на волны. Казалось, его ничуть не тревожат недовольные разговоры крестоносцев. Возможно, теперь, когда все было готово к штурму, Фридрих сочинял новое стихотворение на провансальском языке, которым он так мастерски владел. Но самый ли удачный момент он выбрал для мечтаний?
Время от времени рядом с ним появлялись посыльные и тут же уходили, так как он прогонял их нетерпеливым движением руки.
Наконец однажды в Каструм Перегринорум проник невероятный слух: император ведет тайные переговоры с египетским султаном!
Тогда паломники и крестоносцы, разбившие свои палатки в пределах стен Каструм Перегринорум, собрались на площади перед дворцом и стали звать комтура. Энергичными шагами он спустился по наружной лестнице. Гнев крестоносцев был оправдан.
— Знайте же, рыцари и миряне, — мрачно закричал комтур в толпу, — что император заключил договор с египетским султаном. Он не счел необходимым посоветоваться перед этим с христианскими владыками Сирии. Не спросил он и согласия кипрского короля. Ни одному полководцу вашего и своего крестового похода он не доверяет! В этот час к нам в руки попала копия этого договора. Я зачитаю вам его важнейшие пункты.
Когда комтур начал читать, на площади воцарилось впряженное молчание.
— «Город Иерусалим передается христианам сроком на десять лет…»
— Браво! Хорошо! Хорошо! — донеслось из толпы. — Да здравствует император!
— «Христианские державы, — продолжил комтур, не обращая внимания на прерывающие его возгласы, — в ответ на это отказываются от ведения каких бы то ни было боевых действий на Востоке. Египетский султан также воздержится от каких бы то ни было нападений на христианские территории…»
Крестоносцы, задумавшись, молчали. Потом из их рядов стало доноситься:
— Что за сделку заключил император с султаном? Мы не можем вести войну с врагами Святой Земли? Зачем мы тогда сюда приехали? Зачем мы претерпели столько опасностей, дошли до полного изнеможения и потратили столько денег на поездку? Разве мы совсем ничего не можем сделать для Святой Земли? Выходит, что Гроб Господень будет одолжен христианам лишь на время? Значит, через десять лет он перейдет к египтянам?
Некоторые кричали:
— Он обманул нас, пообещав нам здесь большую добычу!
В гневе они проклинали императора. Раздавались восклицания:
— Он предатель христианского дела!
Никто больше не слушал того, что читал комтур.
Но были слышны и довольные голоса:
— Наконец мы сможем совершать паломничество по святым местам в мире! И император достиг этого без кровопролития! Ничего, что этот договор действует всего десять лет!
Мигель был того же мнения: теперь ордену снова будет принадлежать дом тамплиеров в Иерусалиме, место великих таинственных открытий, за которые предок Деодата заплатил жизнью!
В мрачном молчании тамплиеры чистили свои мечи песком. С большой неохотой они стирали свои плащи и небрежно начищали кольчуги: через три дня Иерусалим торжественно передавался христианскому войску. Разве они не радовались, снова увидев свой главный дом на Храмовой площади? Тамплиеры должны были идти в авангарде.
Увидев императора рядом с рыцарями и баронами в праздничных доспехах, когда процессия приближалась к прибрежной дороге в Акконе, тамплиеры развернули свое черно-белое знамя и выстроились в авангарде. Лица у них были недовольные, и они педантично следили за тем, чтобы расстояние между ними и войском императора, над которым еще тяготело церковное проклятие, не уменьшалось.
Мигель не понимал своих братьев. Разве сегодняшний день не должен быть вписан золотыми буквами в книгу истории? 16 марта 1229 года Иерусалим без кровопролития возвращен христианам! Так об этом будут говорить впоследствии.
Три дня потребовалось праздничному войску на то, чтобы достичь Яффских ворот и через них войти в Святой Город. Впервые христианский король из Европы уезжал в Иерусалим. Он гордо восседал на белом коне; его пурпурная мантия ниспадала с плеч многочисленными складками, золотыми нитями на ней была вышита камелия. На диадеме сверкал гигантский рубин.
Приезд императора мало взволновал жителей Иерусалима. На улицы вышли лишь немногочисленные христиане, еще остававшиеся здесь в монастырях. Какое дело было мусульманам до этого по-барски ведущего себя христианина? Аллах даровал ему этот город на краткий срок в десять лет. Когда они пройдут, Аллаху, вероятно, будет угодно передать его арабам или туркам, или кому-нибудь еще. Пути Аллаха неисповедимы.
Мигель озабоченно смотрел вокруг: он видел равнодушие людей, запущенность зданий, грязь на улицах. Неужели это действительно тот славный город, на который в будущем опустится Новый Иерусалим?
— Иерусалим рыдает, — бессознательно пробормотал Мигель, — кто осушит его слезы?
Эрнест, который ехал рядом с Мигелем, заметил его разочарование.
— Ты найдешь дом тамплиеров в хорошем состоянии, — сказал он, пожав плечами, — ибо мусульмане считают его единственным достойным почитания зданием во всем Иерусалиме, кроме мечетей. Понимаешь?
Султан со своей свитой выехал навстречу императору на Храмовую площадь. Торжественные колонны остановились, и оба властителя одновременно спрыгнули с седел и устремились навстречу друг другу. Свиты почтительно отступили.
Император поклонился, приложив правую руку к сердцу.
Султан положил свою правую ладонь на лоб, он величественным жестом обратился к императорской свите, и все христианские рыцари сошли с коней, отвесив низкие поклоны. Вслед за этим император поднял руку в знак приветствия людям из свиты султана. С невероятной грацией рыцари-мамелюки спрыгнули с коней, поклонившись изящно и очень низко. Затем оба владыки направились к единственному дому в Иерусалиме, в котором было достаточно места для них и свиты, — к дому тамплиеров.
За императором последовали король Кипрский и Иерусалимский и Великий магистр тевтонского ордена. За ними можно было видеть графа Ибелинского между Великим магистром тамплиеров и Великим магистром иоаннитов. Далее шли рыцари из императорской державы и несколько баронов Востока, Благороднейшие люди из державы султана следовали за ними — засвидетельствовать акт передачи города в рыцарском зале дома тамплиеров. Несколько других рыцарей остались на заднем дворе для охраны.
Как только за свидетелями подписания договора закрылись ворота, вперед выступили рыцари, оставшиеся вместе с конями на Храмовой площади. Эрнест взял Мигеля за руку.
— Пойдем со мной! — печально сказал он. — Мы получше осмотрим избранный город.
Он повел Мигеля по замершим переулкам, где двери домов косо свисали с фасадов без окон. У некоторых домов двери вообще отсутствовали, так что можно было заглянуть во внутренние дворы, заросшие высокой высохшей травой. Многие цистерны, ранее получавшие воду из великолепного акведука, были опрокинуты и покрыты птичьим пометом. Желоба для воды заросли колючим кустарником.
Эрнесту не был известен дом, где жили Пьер, Арнольд и Ролан. В этот город приезжали так много людей, и столь многие покидали его, что невозможно было удержать в памяти все имена.
Они вышли к пришедшей в запустение крепостной стене. Мигель озабоченно остановился перед ней.
— Город без защиты! — в ужасе воскликнул он. Эрнест печально рассмеялся.
— Теперь ты понимаешь, почему договор императора с султаном такой подлый? Никто больше не думает о том, что султан Саладин в 1189 году приказал снести городские стены Иерусалима!
— Но император снова укрепит город!
— Этого не позволяет сделать договор. Кроме того, императору жалко даже мелких монеток, все деньги он тратит на войны в Северной Италии. Передачи Иерусалима в руки христиан достаточно для триумфа императора, а вместе с ним и папы. Достаточно для того, чтобы снять с императора отлучение от Церкви. То, что произойдет со Святой Землей в дальнейшем, совсем не волнует императора. Все остальное должны осуществлять христианские бароны Сирии и рыцари ордена, не жалея своей крови и денег, и с помощью тайной дипломатии, для которой этот дьявольский договор почти не оставляет места. Пусть Фридрих идет к черту вместе со своим союзником!
— Разве в этом договоре совсем нет ничего хорошего, Эрнест?
— Ты ведь сам видишь, что город беззащитен. Окрестности города, все, что ты можешь окинуть взором, Принадлежит мусульманам. То, что они возделывают на полях, скупают многочисленные египетские гарнизоны, расположенные в окрестностях Иерусалима. Хозяин города — это слово можно произнести лишь в насмешку — не способен защитить своим мечом крохотные поля, обрабатываемые в течение одного дня! А это значит — тот, кто находится в городе, сидит в мышеловке! Каждый, кто находится за его пределами, может обречь горожан на голод.
Как только Эрнест и Мигель вернулись на Храмовую площадь, они стали свидетелями выезда султана из Иерусалима. Среди мусульманского населения города долго не стихали рыдания и жалобы.

Постыдное намерение
В ту ночь тамплиеры разбили свои палатки в нижней части Храмовой площади. Они не ночевали в своем главном доме, не переступали его порога до тех пор, пока там пребывал император со свитой. Только Великий магистр обязан был находиться рядом с императором, как и магистр ордена иоаннитов.
За длинными столами во дворце тамплиеров христианские бароны сидели вместе с императором за трапезой. Они ели то, что привезли с собой люди, участвовавшие в торжественном шествии. Вино, которое потребовал император, уже разожгло в присутствующих страсть к спорам, и горячие речи полководцев доносились через открытые окна до тамплиерских палаток. Отчетливо звучал голос графа Ибелинского:
— …И поэтому я скажу вам, Ваше Императорское Величество, ваш договор будет столь же полезен, как ночь полезна для мыши: ведь кошка ночью видит свою добычу не хуже, чем днем!
Император промолчал. Но Петро де Монтекауто, Великий магистр тамплиеров, спокойно сказал:
— Мы просим вас, господин: укрепите этот город заново! Я обещаю вам полную поддержку нашего ордена. Ибо какая польза христианам от открытого города, если множество вражеских замков расположились вокруг него подобно диким львам? Любой из них может без усилий задушить нас.
— Договор, господа, который я заключил с моим другом султаном, — возбужденно возразил император, — не может быть изменен ни в едином пункте. Город останется открытым!
— Тогда существует только одно спасение! — сказал Великий магистр тамплиеров: — Мы должны в достаточной степени укрепить наш главный дом. Он уже когда-то служил нам гарнизоном.
Когда император отвечал Великому магистру, голос его стал резким:
— Если тамплиеры не откажутся от укрепления их главного дома, то, клянусь, я конфискую их имущество в немецких землях, в Италии и в обеих Сицилиях! Крепость тамплиеров в городе, который я получил путем переговоров, нанесет ущерб моей императорской чести!
— Раньше, — язвительно заметил граф Ибелинский, — на Востоке обыкновенно договоры заключала такая военная сила, которая была в состоянии гарантировать их соблюдение. В первую очередь это были тамплиеры.
В словах графа Ибелинского содержался намек на сорок жалких рыцарей, из которых состояло личное императорское войско с тех пор, как император был предан анафеме.
На следующее утро на торжественном богослужении Фридрих II сам надел на себя корону короля Иерусалимского. В церкви поднялась сумятица, подобная той, когда мать рано умершего Бодуэна II пожелала короноваться со своим вторым супругом. Но теперь речь шла о короле, над которым тяготело церковное проклятие! Мог ли он быть помазанным? Не превратится ли это помазание в проклятие на его голову? Не отвратится ли благословение Божье от этой земли навсегда? Нет, никогда этот император не был законным королем Иерусалимским! На лицах сирийских баронов смешались отвращение, презрение и гнев.
Но были среди них и желавшие понравиться новому властителю. Они сопровождали императора при его отъезде из города после коронации. Император не хотел ни дня даваться там, где недостатки заключенного им договора так отчетливо бросались в глаза, — здесь, в Иерусалиме! К тому же, у него имелись и другие планы, и его высокомерное выражение лица не обещало ничего хорошего.
С трудом подавляя гнев, тамплиеры наблюдали за отъездом императора. Даже мусульмане корчили презрительные гримасы за его спиной. Они увидели то, что прежде знали по слухам: главный покровитель христианской веры был менее христианином, чем самый последний из его подданных. И в глазах мусульман император не заслуживал уважения даже как противник.
Один молодой сирийский рыцарь, которого Эрнест недавно встретил во время конфиденциальной беседы с Великим магистром, также выехал вместе с императором за городские ворота. «Ты тоже позволил себя одурачить!» — горько подумал Эрнест. Он вопросительно смотрел на Великого магистра, но его замкнутое лицо не выражало никаких чувств.
У Яффских ворот тамплиеры в унынии повернули обратно. Горестной была встреча с местом, откуда они пришли в Иерусалим!
Тамплиеры незамедлительно приступили к проверке комнат в своем главном доме. Не имея права укреплять дом снаружи, они стремились незаметно укрепить его изнутри: дом тамплиеров должен был стать надежным укрытием для христиан, оставшихся в этом беззащитном городе. Эрнесту была поручена проверка стенной кладки.
— Теперь мы будем работать там, где работал мой предок Пьер, — сказал он Мигелю. Эрнест имел в виду Конюшни Соломона. — Я буду держать в руках камни, которые прежде держал он.
Но посланник Великого магистра оторвал его от работы, позвав во дворец.
Бледный, со сжатыми кулаками, стоял Великий магистр перед сирийским рыцарем, который утром так охотно покинул город вместе с императором. Эрнест не понял, что этот человек не предатель, а осведомитель Великого магистра.
— Повторите все только что вами сказанное, господин Ролан, чтобы мой рассудок мог лучше это понять!
Осведомитель покорно повторил свое сообщение:
— Когда мы проехали небольшое расстояние по пути в Яффу, ко мне подъехал человек из императорской свиты и сказал: «Знайте же, завтра нам будет принадлежать Каструм Перегринорум!» — «Разве это возможно?» — ошарашенно спросил я. — «Император намеревается беспрепятственно проникнуть в лагерь пилигримов, чтобы со своими рыцарями и перешедшими на его сторону сирийскими баронами взять Каструм Перегринорум изнутри. Не сомневаюсь, что этот набег у нас получится».
Великий магистр с совершенно побледневшим лицом обратился к Эрнесту:
— Обстоятельства вынуждают меня отправить тебя в Каструм Перегринорум. Возьми себе в сопровождающие кого захочешь. Только слушай хорошенько мой приказ: поезжай по трудной дороге через горы. Если даже ты еще ни разу по этой дороге не ездил, думаю, хорошо знаешь по описаниям. По ней ты приедешь туда быстрее, чем император, который избрал удобный прибрежный путь. Вы должны вовремя поспеть в лагерь пилигримов, чтобы предупредить тамошних монахов. Не забывай о том, что император движется вперед отнюдь не так медленно, как в минуты торжества. Я не могу послать с тобой своих братьев, так как здесь они столь же необходимы, как и там. Поистине император все хорошо рассчитал!
Ему точно известно, насколько слабо укомплектован гарнизон в лагере пилигримов!
На улице послышался стук копыт, и Мигель, которого Эрнест собирался уведомить о предстоящей задаче, пронесся мимо.
— Он на коне! — сказал Великий магистр, взглянув двор. — Поприветствуй братьев, меня очень печалит то, что я не могу быть с ними! И еще одно: в замке много паломников из Германии. Они попытаются помочь своему императору. Наши братья должны приложить все усилия, чтобы крепость в результате измены не попала к нему в руки!
С мрачным видом Великий магистр отпустил Эрнеста.
Дорога через Наблус ведет по безводным горам, через узкие перевалы, по плоскогорьям, где совсем нет деревьев. В это время года русла рек высохли, солнце жгло во всю мощь. Эрнест и Мигель ехали без отдыха. У крупного широкоплечего Эрнеста и у тщедушного коротышки Мигеля выдержка была одинаковой. Слишком многое зависело от их выносливости! За всю дорогу они не обмолвились ни словом. Но каждый из них думал одно и то же: только бы не опоздать! Они мчались наперегонки с императором, который, не зная об этом состязании, вполне вероятно, мог оказаться победителем. Слишком весомое преимущество дали ему ранний отъезд и более удобный путь.
Насколько день был жарок, настолько ледяной была ночь. Спали они попеременно: повсюду встречались вооруженные египетские всадники, и не хотелось попасть в их руки.
Начиная с Какоуна местность стала понижаться, попадались зеленые деревья и травы, и к вечеру второго дня они достигли скалистого мыса, расположенного высоко над морским берегом. Рыбаки в своих лодках возвращались с лова, а на горизонте солнечным зайчиком то появлялся, то исчезал парус.
Море, однако, их особенно не занимало. Во все глаза они смотрели на юг, где дорога из Яффы тянулась белесой полоской через прибрежные кусты. Там внезапно появилась цепочка всадников и стала постепенно приближаться.
Эрнест и Мигель обменялись стремительными взглядами и, сразу оценив ситуацию, резко пришпорили коней и понеслись во весь опор. Они безошибочно определили, что за всадники там внизу! Если бы друзья не старались из последних сил и не гнали вовсю коней, то император со своим отрядом оказался бы в лагере пилигримов раньше, чем они.
Через четверть часа Эрнест и Мигель спустились на прибрежную дорогу, и после головокружительной скачки перед их взорами предстали стены Каструм Перегринорум.
— Откройте ради Бога! — закричали они уже издалека. — Откройте нам!
Привратники опустили откидной мост, так как поняли, что привезенные известия требуют безотлагательных решений.
Комтур уже ожидал прибывших перед дворцом. Выслушав их, он стремительно начал действовать: приказал обеспечить безопасность ворот и отправил на крепостную стену людей из гарнизона. Он приказал звонить церковные колокола, созывая паломников, находившихся в лагере. В это время разведчики уже докладывали о приближении императора.
Герольд с императорским гербом подъехал ко рву у главных ворот и прокричал:
Император всех христиан стоит у ворот! Откройте и дайте приют вашему законному господину! В замке все было тихо.
— Откройте императору! — в гневе закричал герольд. Но и теперь привратники не шевельнулись. При этом арбалетчики, взобравшиеся на стены лагеря, многозначительно показали на свои стрелы и злорадно улыбнулись, глядя на искаженное от гнева лицо императора.
— Если вы не откроете, — закричал теперь сам император, — то мы заставим вас это сделать!
И тут на стене лагеря появились комтур и знаменоносец. Безо всякой спешки комтур приказал развернуть черно-белое знамя и водрузил его рядом с собой.
Как видите по этому знамени, господин император, — сурово воскликнул он, — замок подчиняется ордену тамплиеров. Он один имеет право здесь командовать. Итак, пройдите с миром мимо наших стен, Ваше Величество, в противном случае мы будем вынуждены доставить вас в такое место, откуда не так-то легко будет найти дорогу домой.
И тут император понял, что не сможет овладеть этим замком так легко, как надеялся. А для осады у него не хватало людей и оружия. В гневе он развернул своего коня и поскакал по направлению к Аккону.
Император был в таком бешенстве, что до самого Аккона не произнес ни слова, а сопровождавшие его воины гадали, каким образом император отомстит этим высокомерным тамплиерам.
Когда император прибыл в порт Аккон, где стоял его флот, он услышал воззвание, в котором тамплиерский герольд разъяснял местным жителям смысл договора, заключенного им, Фридрихом II, с египетским султаном:
— Император оставил в ране опаснейшую стрелу враждебного нам султана Дамасского! Поскольку, согласно договору, мы должны воздерживаться от каких бы то ни было военных действий, теперь угроза Святой Земле со стороны Дамаска стала больше, чем когда-либо!
— Позор императору! — прозвучало из толпы.
Император поспешил удалиться. Затем он также отправил своего герольда для обращения к народу. У него созрел план мести.
— Знайте же, жители города Аккона! Через час император появится на морском берегу, за пределами городских стен, на народном собрании. Туда приглашаются все жители города! И тамплиеры должны прийти туда, ибо император ответит на их воззвание!
Народ собрался на морском берегу. С огромным напряжением жители города ожидали, что скажет Фридрих.
Но когда он предстал перед народом в окружении своих рыцарей и воскликнул:
— В бедственном положении Святой Земли виновны только тамплиеры! — слова его вызвали лишь язвительный смех.
Император предпринял еще одну попытку:
— Они неправильно толкуют мой договор!
Смех стал еще громче.
В этой суматохе император со своими рыцарями поспешил вернуться в город. Не успел народ, собравшийся берегу, успокоиться, как на городские стены взобрались арбалетчики из императорского флота. Когда народ возвращался с морского берега, впереди шли тамплиеры. Это и был момент, которого ожидал император. Он дал знак своим арбалетчикам — и они принялись обстреливать каждого тамплиера, приближавшегося к городским воротам. Так отомстил Фридрих II за свое поражение у стен Каструм Перегринорум. В конце концов, сопровождаемый бранными возгласами народа, под прикрытием своих рыцарей он поспешил в порт и сел на корабль.
— Дай Бог, — кричали люди, — чтоб вам больше никогда сюда не возвращаться, господин император!
Они не успокоились до тех пор, пока флот Фридриха не исчез за горизонтом.
Но мера ненависти императора Фридриха к тамплиерам была еще не исчерпана. Когда Фридрих плыл домой, он придумал более тонкую и более страшную месть: он разослал письма всем королям Европы, в которых заклеймил тамплиеров как предателей христианского дела и неверных. Если даже большинство получателей этих писем восприняло обвинения именно так, как следовало — попытку приписать собственные ошибки ненавистному противнику, — то все же яд недоверия медленно, но действенно отравлял мысли властителей, смешиваясь с завистью к богатствам тамплиеров и со слухами об их тайной сокровищнице.
Эрнест оставался в Каструм Перегринорум до 1239 года, то есть все десять лет, в течение которых соблюдалось перемирие с султаном Каирским. Сразу же после того как германский император отплыл из Святой земли, крестоносцы отправились вслед за ним. В Святой земле им больше нечего было делать. Тамплиеры из испанских пограничных замков упаковали свои мешки и повели боевых коней под уздцы. Мигель также готовился к отъезду домой.
— Я не охотно расстаюсь с тобой, — произнес Эрнест подавленным голосом, — когда ты рядом, у меня такое ощущение, будто вместе здесь Деодат. Передай ему привет, если встретишься с ним в Испании.
Мигель кивнул. Но, не желая, чтобы прощание столь печальным, он сказал с шутливой улыбкой:
— Пути Аллаха неисповедимы.
Эрнест с тяжелым вздохом отвернулся.
В последующие годы на Востоке произошло много событий: подобно бурному потоку, монголы ринулись на Запад. Они сожгли Москву, Киев и Краков, уничтожили венгерское войско, опустошили все придунайские земли, где почти не осталось населения. Еще более дикие, чем хорезмийцы, напавшие на Сирию и Армению, они вытеснили хорезмийцев из их степных областей на Передний Восток.
Ко всем этим несчастьем прибавилось еще одно: десятилетнее перемирие христианского Востока с султаном Каирским было нарушено воинственными группами пилигримов, и из-за этого Святая Земля снова оказалась в состоянии войны с Египтом. В страхе иерусалимские христиане смотрели на восток, север и юг, и тот, кто нажил какое-то имущество или деньги, относил их ради безопасности в дом тамплиеров.
В дальнейшем происходило следующее: к Иерусалиму с каждым днем все приближались хорезмийцы со стадами, повозками и юркими лошадками, с женами, детьми и рабами из захваченных христианских стран. При штурме открытого города Иерусалима они выставили пленных христиан в цепочку так, что те образовали плотную стену из человеческих тел. Прикрывшись этой живой стеной, хорезмийцы пошли на город и ни один арбалетчик-христианин не осмелился стрелять в своих христианских братьев. Таким образом, в 1244 году Иерусалим попал в руки хорезмийцев, они, овладев городом, превратили его в руины, залитые кровью. Не тронули только Соломоновы Конюшни. Но не многие оставшиеся в городе тамплиеры не смогли избавить от худшей доли христиан, искавших у них спасения.
Гроб Господень снова оказался в руках неверных. Но на своем кровавом пути к Иерусалиму им не удалось захватить Каструм Перегринорум, который оказал успешное сопротивление неукротимой дикости этого степного народа.
В то время Эрнест находился в крепости Сафет, где руководил целой армией строителей: крепость требовалось значительно расширить для охраны восточных границ.
Несмотря на всю свою профессиональную предусмотрительность, он не мог предполагать, что эта крепость в 1266 году из-за измены попадет в руки султана Дамасского. Все тамплиеры, оставшиеся в живых при обороне крепости, были пленены султаном, и он с ними расправился. Эрнест же погиб, защищая Сафет.

Измена ордену тамплиеров

Альфонс, блудный сын
 После того как у Деодата снова начало болеть плечо, он вынужден был распрощаться с работой каменотеса, которую так любил. От нестерпимой боли невозможно было даже пошевелить рукой. Теперь он работал писарем у лионского главного счетовода: собирал, приводил в порядок и снабжал номерами отчеты из восточных домов тамплиеров, прежде чем они попадали в парижский главный дом. Все данные по строительству Крепостей и комплектованию гарнизонов, сбору пожертвований, которые получал орден на Востоке, заносились Деодатом в списки, а затраченные суммы подсчитывались.
Так он сидел каждый день за большим столом напротив главного счетовода, и оба чуть слышно бормотали какие-то числа.
Однажды Деодат раскрыл очередное письмо с Востока, и руки его задрожали, голос перестал слушаться. Слезы лились у него из глаз и текли по седой бороде, когда он читал:
После того как у Деодата снова начало болеть плечо, он вынужден был распрощаться с работой каменотеса, которую так любил. От нестерпимой боли невозможно было даже пошевелить рукой. Теперь он работал писарем у лионского главного счетовода: собирал, приводил в порядок и снабжал номерами отчеты из восточных домов тамплиеров, прежде чем они попадали в парижский главный дом. Все данные по строительству Крепостей и комплектованию гарнизонов, сбору пожертвований, которые получал орден на Востоке, заносились Деодатом в списки, а затраченные суммы подсчитывались.
Так он сидел каждый день за большим столом напротив главного счетовода, и оба чуть слышно бормотали какие-то числа.
Однажды Деодат раскрыл очередное письмо с Востока, и руки его задрожали, голос перестал слушаться. Слезы лились у него из глаз и текли по седой бороде, когда он читал:
«Работы за первые два года по строительству крепости Сафет обошлись в 1 100 000 византийских золотых сарацинатов. Господь благословил нашу работу.
Для дальнейшего содержания крепости нам ежегодно необходимы 40 000 византийских золотых сарацинатов. Ибо каждый день требуется снабжать продовольствием 1700 человек; во время военных действий — 2200.
Это число включает: 50 рыцарей ордена и 30 сервиентов, занимающихся охраной крепости, 50 местных рыцарей, получивших образование у нас; кроме того — 300 стрелков из лука, 820 ремесленников и 400 слуг. Да хранит Господь этот бастион на Святой Земле!
Ответственный — Эрнест Шартрский, прюдом».
Деодат вытер слезы рукавом. О падении крепости Сафет уже было известно на Западе. Теперь он больше не увидит своего брата, чей почерк ему пришлось только что разбирать.
Вечером Деодат устало поплелся в дом каменотесов к Жоффруа. Он рассказал ему об отчете Эрнеста и сел между соседями и родственниками за стол в большой кухне.
Там был Жоффруа, столь же седой, как и он сам. Но Жоффруа еще мог работать в мастерской. Рядом с ним расположился скупой на слова Жерек. Справа от Жерека сидел купец, чьи долги в прошлом году уплатили тамплиеры, так как он был стар и неплатежеспособен. А около него — мельник, державший на Соне одну из мельниц ордена, не так давно он получил разрешение записывать перемолотое им зерно на собственный счет.
Ева, жена Жоффруа, поставила на стол свечу, а жена Жерека подбросила полено в очаг. На скамьях у стен сидели матери с детьми. Так было заведено на протяжении нескольких поколений. Светловолосый юноша, которому можно было дать около четырнадцати лет, положил небольшую охапку сучьев в деревянный ящик рядом с очагом и вытер руки о штаны.
— Ты можешь проводить меня обратно в наш городской дом, — сказал ему Деодат, с трудом поднявшись с места, — у меня еще есть там дела.
Он крепко вцепился пальцами в свое искривленное плечо, и сразу стало понятно, как оно болит. Держась за племянника, Деодат вышел на улицу.
— Будь внимателен, — сказал он, — улица обледенела.
В кухне продолжался разговор. К собеседникам присоединился новый подмастерье, прибывший из Шартра. Там он жил в строительном бараке у Андре, который после смерти своей жены отдал осиротевшую мастерскую арендатору, но сам мог оставаться там до конца дней. Когда Андре узнал, что его сына Эрнеста уже нет в живых, ему самому захотелось умереть.
— Это я могу понять, — мрачно сказал Жоффруа, и Ева, утешая, положила руку ему на плечо.
Когда же юный Арнольд вернулся из дома тамплиеров и Жерек спросил: «Благополучно проводил кузена, сынок?» — Ева взглянула на Жерека не без зависти, и какое-то время разговор за столом не клеился.
Затем дверь снова отворилась. В комнату потянулся холодный воздух с улицы. Ни слова не говоря в кухню вошел какой-то тамплиер и большими шагами направился к очагу. Его пристальный взгляд лишь мимолетно задержался на собравшихся и остановился на Жоффруа и Еве. Тяжелый вздох потряс его грудь, из уст вырвались слова: «Слава Богу». Желая согреться, он протянул руки к очагу.
Огонь осветил лицо этого человека лет тридцати двух: задубевшая кожа, глубокие складки спускаются от крыльев носа к подбородку, лоб изрезан морщинами, красный рубец шрама вздулся от виска до самого уха. На бороде у него медленно таял снег, от обледенелого плаща поднимался пар. Вопросительные взгляды были прикованы к вошедшему. Тишину нарушал лишь плач ребенка.
— Жоффруа, — робко сказала Ева, — это наш сын. Это Альфонс!
Жоффруа, сжав кулаки, тяжело опустил их на стол. Значит, это его сын, убежавший из дома восемнадцать лет назад! Единственный сын, который должен был получить мастерскую из отцовских рук! Сбежавший! Как глубоко Жоффруа тогда переживал! До сегодняшнего дня он не мог оправиться от этого удара. Что Альфонсу здесь нужно? На его месте сидел Жерек, у которого были свои сыновья! Старший из них, Арнольд, почти взрослый.
Ева вгляделась в лицо сына; как оно изменилось… «Это мой ребенок? — спросила она себя. — Мой сын?»
Полумертвой от горя была она в тот день, когда он исчез из города с группой крестоносцев. «В Дамьетту! — воодушевленно призывали они. — Вперед, в Дамьетту!» Но Дамьетту тогда отвоевать не удалось, и Ева долго убивалась о сыне.
— Что ты хочешь? — сказала ей тогда одна из соседок. — Ему же все-таки четырнадцать лет! А разве не было детских крестовых походов? Дети отправлялись в Святую Землю без ведома родителей! Если даже никто из них не вернется и, может быть, все погибнут, то, без сомнения, они попадут на небо.
Еве была понятна гневная боль Жоффруа.
И тут Альфонс с поднятыми руками опустился посреди кухни на колени:
— Я прошу прощения у родителей за горе, которое им причинил.
Ева незаметно положила свою ладонь на стиснутый кулак мужа. Жоффруа низко склонился, уставившись в стол. Наконец он выпрямился и повернулся к стоявшему на коленях.
— Встань, сын мой, — сказал он хриплым голосом, — добро пожаловать в дом отца.
Альфонс встал, Жоффруа подошел к нему и положил руки ему на плечи. Долго он вглядывался в лицо сына. Затем, не говоря ни слова, прижал Альфонса к груди.
Альфонс поздоровался с дядей Жереком, его женой и друзьями, сидевшими за столом. Он попросил, чтобы ему назвали но именам его двоюродных братьев и сестер. Особенно понравился ему Арнольд, который, как казалось Альфонсу, был похож на него самого, когда он мальчишкой убежал из Лиона.
— Сегодня у меня мало времени, — сразу же сказал Альфонс, — меня ждут в замке тамплиеров на Лебедином озере. Но завтра вечером я посижу с вами подольше.
— В городском доме вашего ордена находится Деодат, — сказал Жоффруа, проводив сына до двери, — если бы ты пришел чуть раньше, ты застал бы его.
Ева не сводила глаз с Альфонса. Выглядел он нездоровым. Почему он все время держится за бок? Может быть, он ранен? Альфонс нагнулся за плащом и застонал. Но Ева не отважилась спросить, что с ним. Она решила сделать это на следующий день или позже, когда вернется прежняя доверительность.
У двери Альфонс весело подмигнул детям.
— Итак, до завтра! — крикнул он в кухню и затворил за собой дверь.
— До завтра! — донеслись в ответ детские голоса.
Он вышел из дома на темную улицу. Над городом стлался молочный туман. С Альфонса слетела вся веселость. Словно в нерешительности, он остановился у своей нетерпеливо перебирающей копытами лошади, по-прежнему держась рукой под плащом за бок. Затем с трудом сел на лошадь и выехал из города.
— Кто там? — спросили часовые.
— Тамплиер, еду в замок.
Поздно ночью, когда Альфонс удостоверился, что все монахи уснули, он вскочил с мешка, набитого соломой, и на цыпочках прокрался в центр спальни, где с потолка свисала сальная свеча. Он поднял рубаху на больном боку, но в тусклом свете свечи ничего не смог разглядеть. Только к утру Альфонс провалился в тяжелый, как забытье, сон без сновидений. Когда караульный протрубил сигнал пробуждения, Альфонс с трудом поднялся, свинцовой усталостью были скованы у него руки и ноги. Братья уже шли в капеллу к первым молитвам, Альфонс все еще стоял над тазом с водой, собираясь умыться. Наконец он опустился на колени на каменные плиты капеллы. Во время заключительной молитвы он упал ничком. Монахи подбежали к больному и вынесли из капеллы.
Когда Альфонс пришел в себя, он лежал раздетый, на носилках в комнате для больных. Какой-то старый тамплиер склонился над ним, разглядывая его бок и покачивая головой. Он очень сурово посмотрел Альфонсу в глаза и сказал:
— Мы научились со смирением принимать судьбу, посылаемую нам Господом. У тебя проказа, брат.
Альфонс с ужасом уставился на старика, отказываясь понимать смысл произнесенных им слов. Он крепко сжал губы и впился ногтями в ладони.
— Часто случается, — продолжал старик, — что монахи привозят с Востока проказу. Но только недавно мы стали готовы к этому. В верхнем течении Ардеша мы выстроили дом для прокаженных. Четверо братьев проводят тебя туда.
— Когда? — с трудом вымолвил Альфонс обескровленным ртом.
— Через полчаса они туда поедут.
Грузовое судно ожидало их в неприветливой воде Роны, казавшейся черной между покрытыми снегом берегами. Сосульки свисали с мостков и бортов.
Завернувшись в плащ, Альфонс сел на корточки на связку соломы. Того, что происходило вокруг, он не воспринимал. Перед глазами у него были прокаженные, которых он видел на Востоке. Они жили не в городах, а в пещерах и ели все, что посылало им милосердие ближних. Когда монахи ордена заболевали проказой, им предоставляли особые кельи в монастыре. Из этих келий иногда доносились печальные песни. Должно быть, в доме на Ардеше тоже были такие кельи и такие песни. Альфонс боялся поверить, что и у него там, на Ардеше, сгниют пальцы на руках и ногах, и он будет петь печальные песни и однажды ослепнет. Он глядел на свои красивые здоровые руки, которые мог сжимать в мощные кулаки, и вдруг весь содрогнулся от сознания страшного горя.
«У тебя проказа, брат, — повторял Альфонс, всхлипывая, слова старика, — проказа!»
Однако он уцепился за ту слабую надежду, которая у него еще оставалась: эта болезнь протекала у всех по-разному. Она могла прогрессировать медленно, что давало возможность сделать еще кое-что своими руками.
Монахи, сопровождавшие Альфонса, сердечно его утешали, когда услышали, как он всхлипывает.
— Брат, — попросили они, — будь мужествен, мы хотим видеть в тебе пример борьбы с болезнью, если она постигнет и нас.

Там, где страдания
Высоко в горах, в конце Севеннской равнины, за высокой стеной был расположен дом для прокаженных тамплиеров. Приближаясь к нему, Альфонс в испуге прислушивался. Неужели там не слышно стонов, неужели оттуда не доносились траурные песни, трогавшие его на Востоке до глубины души?
Ворота открыл монах, взявший у них лошадей. В глубоком потрясении Альфонс смотрел на его забинтованные пальцы: они были страшно короткие! Может быть, у него и пальцев ног уже не было? У Альфонса кружилась голова. Походка слуги, который отвел коней, была такая странная и шаткая.
Но монах уже возвращался из конюшни, что-то насвистывая:
— Показать вам здание, прежде чем комтур поговорит с вами?
Они последовали за ним в комнату, обставленную грубыми деревянными столами и скамейками.
— Это наш дворец! — с гордостью сказал монах. — Эти столы и скамьи изготовлены только больными, — он показал на дверь: — Теперь проходите сюда, здесь вход на кухню.
Кухня оказалась большая, вторая дверь в ней вела во двор.
— Здесь очаг для приготовления мяса, а там — для супа. Этот, с противоположной стороны, согревает комнату для тяжелобольных. Смотрите, вот сквозь стену проходит желоб для воды, зачем он нужен, вы еще увидите. В комнату к тяжелобольным прямо из кухни не попасть, для этого необходимо сначала выйти на улицу. Еду для тяжелобольных мы подаем через вот это окошко, благодаря ему не приходится переносить пищу через двор, охлаждая ее, что не на пользу нашим братьям.
Альфонс с трудом глотал воздух пересохшим ртом — тяжелобольные! Он живо представил себе, как они корчатся на своих кроватях или ползают по полу. Запах гниющей плоти наполнял воздух. Суетились санитары, они меняли повязки, клали под убогие тела набитые сеном тюфяки и грузили загрязненное сено на тачки. Другие промывали гнойные повязки в тазу, в который вода поступала через желоб из кухни: стоило вынуть из стены затычку, горячая вода текла в корыто. Некоторые из больных сидели на постелях, молясь, подняв кверху ничего не видящие глаза. Многие стонали. Альфонс боялся упасть в обморок. Он еще не знал, сколько лет ему суждено провести в комнате для тех, у кого болезнь протекала в легкой форме. Его болезнь прогрессировала медленно.
Несколько лет Альфонс занимался земледелием, делал упряжь для волов, пилил дрова, нарезал деревянные стержни и костяшки для счетов, насколько ему позволяли больные пальцы, а кроме того плел изделия из соломы и веники из дрока. За работой у него, как и у других больных, пропадали все печали; больные не раз говорили ему: «Будь мы на Востоке, мы, скорее всего, уже умерли бы».
В первые же дни он обзавелся другом по имени Жан, с которым быстро нашел общий язык.
В ясный осенний день их послали на соседний плоский холм собирать колосья. После работы они присеяли под кустом можжевельника; друзья ели лепешки и пили разбавленное кислое молоко. Было еще светло, и они не спешили возвращаться.
Положив подбородки на высоко поднятые колени, они глядели в даль, где пересекались линии куполообразных горных вершин. Словно золотые платки, крошечные поля, покрытые жнивьем, лежали в низинах. На голубом небе вырисовывался бледный месяц. Друзья наслаждались глубоким спокойствием.
— Есть вещи, подобные этому месяцу, — сказал Жан. — Средь бела дня их видишь редко или даже совсем не видишь — и все же они оказывают влияние на жизнь. Сейчас я думаю о тайне нашего ордена.
Альфонс кивнул. Они молчали до тех пор, пока не настало время отправляться назад. Когда они спускались по узкой тропинке, Альфонсу в первый раз пришло в голову, что эта местность стала для него совсем родной. «Сколько времени я здесь нахожусь?» — спросил он себя, но не нашел точного ответа на вопрос.
В доме прокаженных Альфонса ждал какой-то человек. Это оказался Арнольд, превратившийся в молодого тощего каменотеса. Он радостно поздоровался с кузеном.
Альфонс протянул Арнольду руки, которые перед этим бессознательно прятал за спиной. На пальцах не было ногтей. Он обнял младшего брата, радуясь его приходу, и стал нетерпеливо выспрашивать все новости.
Арнольд рассказал о Лионе, о своих странствиях, о работе и, наконец, о том, что собрался жениться.
Она — дочка угольщика из нашего города, — сказал Арнольд, как будто это что-то объясняло, и Альфонс по-братски поздравил Арнольда.
В спальне Альфонс лег на кровать. Голова у него кружилась, а глаза жгло сильнее, чем обычно. Может быть, он слишком долго сидел на солнце? Или это были первые признаки потери зрения? На краткий миг его обуял прежний страх, но он произнес слова, которыми утешались все больные: «Все мы в руках Божьих».
После этого Альфонс еще восемь лет провел среди тех, у кого болезнь протекала в легкой форме, и Арнольд часто посещал его, рассказывая ему о своей свадьбе, о том, что у него родились дети, а также и о смерти Деодата, Жоффруа и Евы.
Болезнь стала спешить. С пальцев она перекинулась на руки и ноги; начали гнить веки, и настал день, когда Альфонс ослеп. Жан, приходивший к нему ежедневно, испытывал большое горе, глядя на пустые глазницы и оголенные зубы друга, так как у того начал гнить и рот.
Этот жалкий остаток человеческого тела прожил еще долгие годы, и разум его живо воспринимал все, что происходило в мире.
— Как идут дела на Востоке? — спрашивал Альфонс, пока еще был в силах шевелить языком. — Что известно о наших бедных братьях в Святой Земле?
Триполи потерян, но султан гарантирует новое перемирие.
Потом у Альфонса совершенно иссякли силы, и задавать вопросы он мог только с долгими паузами:
— Знаешь… ты… крестоносцы, посланные папой в Святую Землю… вероломно прервали перемирие.
— По глупости и неразумию, — гневно сказал Жан, — они начали разрушительную войну: всех сарацинских торговцев, с незапамятных времен продающих в Акконе свои жалкие товары, они закололи шпагами. Кроме того, в своем ослеплении крестоносцы истребили множество сирийских христиан, которых они приняли за мусульман из-за их необычных бород.
Альфонс громко застонал. Слова, которые он пытался произносить, были невнятны. Жан окунул палец в миску с водой и смочил оголенные десны друга. Затем он продолжил свой рассказ, очень медленно, так как с некоторого времени и он мог говорить, только преодолевая страшные муки:
— После этого султан решил наказать Аккон. Он приказал своему эмиру предупредить Великого магистра, находившегося в тамплиерской башне у ворот города, ибо султан уважал Великого магистра как достойного врага. Эмир изложил намерения своего господина в вежливом послании. Тотчас же Великий магистр передал это предупреждение всем высокопоставленным христианам, живущим по соседству, чтобы они смягчили гнев султана подарками и извинениями, но его не послушались.
— Письмо известно?
— Его содержание известно дословно, — сказал Жан. — «Это пишу я, султан всех султанов, царь всех царей, господин всех господ, я, Малик ас-Сараф, Могучий, Устрашающий, Побеждающий бунтовщиков.
Преследующий французов, Преследующий армян, Тот, кто отнимает замки у неверных, — Вам, Магистру, благородному Великому магистру ордена тамплиеров, истинно мудрому господину Гийому де Боже. Я желаю Вам здоровья и передаю Вам свое благорасположение.
Так как я всегда был правдивым мужем, я открою Вам свое намерение: прийти в Вашу страну и отнять город Аккон, чтобы наказать его жителей за причиненную нам несправедливость. Впредь меня не смягчат ни письма, ни подарки!» …Затем, — сказал Жан после продолжительной паузы, — затем он завоевал Аккон.
— А… Великий?..
— Гийом де Боже героически пал в бою.
— Известно?..
— Когда он поднял щит, чтобы защитить себя в сражении, копье попало ему в бок и отскочило; и все думали, что он вернется в город. В это время бой шел между стенами Аккона и укрепленными стенами тамплиерской башни. «Ради Бога, магистр! — закричал ему какой-то рыцарь. — Не возвращайтесь в город — он уже потерян!» Великий магистр посмотрел на рыцаря величественно и печально. Он громко воскликнул: «Господа, я больше не магистр, ибо я умер! Взгляните на мою рану!» Он убрал руку от раны, и все увидели его внутренности. Затем он склонил голову и упал с коня.
Жан снова опустил ладонь в чашечку с водой, чтобы смочить рот своего друга. И тут он увидел, что Альфонс мертв.
Прошло пять лет, прежде чем Арнольд снова отправился в горы, чтобы рассказать Альфонсу о рождении своего четвертого сына. На соломенном мешке кузена лежал Жан.
— Что… знаешь ты… о Востоке? — спросил он с таким же трудом, как раньше спрашивал Альфонс.
— Пали три последних замка тамплиеров на Востоке: Сайет, Бейрут и Каструм Перегринорум. От больных это скрывали.
— После того как враги опустошили все окрестности, у тамплиеров больше не было возможности выжить. Всех, кто уцелел, повесил турецкий эмир. Теперь на Востоке больше нет христианских поселений.
Жан отвернулся к стене.
— В день, когда родился наш сын, — продолжил Арнольд, чтобы оставить Жану хоть какую-то надежду, — на Кипре тамплиеры избрали нового Великого магистра. Его зовут Жакоб де Молэ. Мы крестили нашего сына в его честь. Этот Великий магистр думает о возвращении всего христианского Востока, он хочет действовать совместно с иоаннитами.

Лионский праздник
С тех пор как император Фридрих II навлек на себя анафему, город Лион перестал подчиняться непосредственно Германской империи. Теперь им управляли местные Епископы. Одни склонялись в сторону Запада, другие — в сторону Юга; наконец к власти пришли епископы, которые желали управлять городом совместно с германским Императором. Но любое окончательное решение проблемы означало бы утрату Лионом статуса вольного города, что неизбежно привело бы к войне: никто не захотел бы иметь такого влиятельного и могущественного соседа. Этот город был столь важен, что удостоился чести принимать грандиозный праздник — французский епископ Бордоский должен был стать папой, и коронацию собирались провести в Лионе. С момента своих выборов епископ Бордоский получал имя Климента V.
Уже за неделю до праздника улицы и площади были переполнены дамами и господами в дорогих одеждах, а роскошные экипажи со всего мира создавали заторы на узких мостовых. Повозки, наполненные багажом, направлялись к архиепископскому дворцу. По всем углам установили цистерны с водой. Водоносы утверждали, что они вычерпали пол-Соны. Под городскими стенами разбивали временные жилища. Дрова для больших и малых костров приносили с гор. Целое стадо быков и баранов, предназначенных для праздничного угощения, паслось в низине между двумя реками.
Кафедральный собор был украшен красными ковровыми дорожками и большими настенными коврами. Знамена развевались на всех башнях города. Изо всех пивных погребов доносились пряные запахи. Охотники доставляли к поварам вертела с нанизанными на них куропатками и бекасами. Целые фуры дичи раздавали на постоялых дворах.
Во всей этой суете распространился слух о том, что король Филипп по прозвищу Красивый, который вот уже почти двадцать лет был королем Франции, приложил свою руку при избрании папы. Будет ли Климент V танцевать под его дудку?
Ноябрьский день этого достопамятного 1305 года выдался туманным и холодным. Тепло закутанные жители Лиона выбегали из своих домов, чтобы увидеть праздничное шествие. Они карабкались на старые городские стены, многие влезали на деревья. Почти все крыши домов были заполнены народом, у окон шли сражения за лучшее место. Жакоб пробрался на голубятню. Оттуда он мог обозревать главную улицу и площадь перед церковью.
Он уже слышал, как все отчетливее доносились крики и ликование — от городских ворот приближалась праздничная процессия!
Впереди ехали герольды, одетые в цвета города Лиона. За ними двигались пешие королевские герольды. Герольды папы оглушительно трубили в рога, следуя за авангардом тамплиеров. Король в своем самом роскошном наряде с самыми дорогими украшениями, в белых перчатках вея лошадь, на которой восседая пала. Из толпы доносились ликующие восклицания: «Хабеам папам! У нас есть папа!» Сейчас состоится коронация — и она будет проведена в лионской церкви! Какое предпочтение оказали городу Лиону перед всеми остальными!
Люди терпеливо ждали, пока торжества в церкви не подошли к концу. Они сердечно пожимали друг другу руки и едва передвигали окоченевшие от холода ноги. Затем раздался колокольный звон, и церковные врата распахнулись. Оттуда вышли герольды, и праздничная процессия из церкви проследовала в обратном порядке.
Теперь перед королем и папой шли епископы и кардиналы; у папы, облаченного в коронационную мантию и сидевшего на своем белом иноходце, на голове была тиара, символ папского достоинства. За ним следовали вельможи из всех стран с дорогими подарками. Впереди шествовали братья папы и короля.
Внезапно старая стена обрушилась под весом собравшихся на ней любопытных и погребла под собой много народа. Брат короля и двенадцать дворян из его свиты были тяжело ранены. У Жакоба кровь застыла в жилах; лошадь папы встала на дыбы, и папа, чьи движения стесняла тяжелая мантия, не удержался в седле. Он был сброшен на землю, и тиара, украшенная драгоценными камнями, покатилась в уличную грязь.
Праздник оборвался. Возвышенный настрой, господствовавший вначале, пропал. А может быть, это вовсе и не было дурным предзнаменованием? Народ внезапно замолчал. Разве этот несчастный случай не напомнил собравшимся о слухах, согласно которым король во время выборов папы подкупил членов курии? Разве Господь этим несчастьем не указал, что выборы были проведены незаконно? Когда папа, снова севший в седло, поднял руку для благословения, толпа отпрянула. Это благословение, чего доброго, могло принести проклятие!
До горожан дошли слухи о том, что на вечернем банкете, устроенном властями города в честь папы, разгорелась ссора. Никто не желал брать на себя гигантские расходы на этот коронационный праздник. Обвинения, выдвигаемые разными сторонами, становились все более тяжкими. Неожиданно брат папы рухнул на стол — его закололи.
Это было второе дурное предзнаменование для жителей Лиона.
Когда гости города разъехались, а его обитатели вернулись к своим будничным занятиям, случилось третье, наихудшее предзнаменование: на небе появилась комета, которую можно было видеть на протяжении многих дней.
«Она говорит о крови, — в ужасе восклицали люди, — которую этот незаконный папа навлечет на наши головы!» Они удрученно возвращались в свои дома, и прошло еще много времени, прежде чем угнетенное настроение уступило место повседневным заботам.
Жакоб воспринимал события живым рассудком смышленого мальчика. Для него все, что происходило с сильными мира сего, имело отношение к его собственной жизни, ведь не напрасно Жакоба крестили в честь одного из самых значительных персонажей всей мировой истории — в честь Великого магистра ордена тамплиеров.
Сразу же после коронации папа вызвал Великого магистра для экспертизы; да, он вызвал его вместе со всем его конвентом с Кипра в Пуатье, где находилась резиденция папского двора. Он потребовал от Великого магистра составить стратегический план, имеющий своей целью отвоевать весь христианский Восток, го, кроме магистра, не мог, основываясь на собственном опыте, составить такой план! Жакоб пылко почитал Великого магистра, несмотря на то, что ни разу его не видел, и гордо говорил себе: «Он мой крестный Отец!»
Когда по окончании рабочего дня друзья и родственники собирались вечером за большим столом в не дома каменотесов, Жакоб крутился рядом с мужами и слушал во все уши, стараясь не пропустить ни слова из того, что, возможно, будет сказано о тамплиерах.
Однажды вечером корабельщик Фридольф спросил:
— Не хочешь ли ты, Арнольд, отдать мне своего Жакоба в учение? У тебя четыре сына, а у меня ни одного. Или ты считаешь, что ремесло корабельщика не так хорошо, как ремесло каменотеса?
— Жакоба, — удивленно спросил Арнольд, — который собирается стать тамплиером? Разве тебе об этом не известно?
— Тамплиеры тоже будут рады дельному корабельщику.
— Здесь ты прав, Фридольф, а к ремеслу корабельщика я отношусь с уважением, — сказал Арнольд, вопросительно посмотрев на Жакоба. Жакоб представил, как в развевающемся тамплиерском плаще он плывет на Восток. Он будет угрожать своим флотом священным местам христианства. Покорит их. Для корабельщика мир открыт, а Лион и воротами в этот мир. Мальчик ликовал.
Неделю спустя он пришел со своим узелком к корабельщику Фридольфу и стал его подручным. В доме Фридольфа также был большой стол в кухне, напоминающей родную, и так же мужчины и женщины собирались там по вечерам и обсуждали события дня. Иногда вместе с Фридольфом Жакоб приходил на кухню к своим родителям. Но ему казалось, что в ней все изменилось, поскольку он сам изменился с тех нор, как стая работать. Теперь он был повзрослевшим ребенком.
В доме у Фридольфа Жакобу нравилось, хотя он и бросал полные сожаления взгляды на хозяйскую дочку Катрин, сидевшую рядом с матерью у очага; она то ощипывала курицу, то жарила горох для утреннего напитка. У нее были густые кудрявые волосы, и однажды она тайком сунула мальчику пышку. Она украдкой вынула се из передника и, потупив взор, спросила «Хочешь?» При этом лицо Катрин сильно покраснело, и Жакоб заметил, что у нее горели даже уши. Когда они познакомились лучше, он помогал ей лущить фасоль или же наполнял лейку водой, если ей приходилось работать в саду. Как-то вечером, когда солнце еще не успело скрыться за горами, он сказал Катрин в саду, что намеревается стать тамплиером. Тогда она опечалилась и оставила его.
— В последующие дни Жакоб был очень несчастен, так как Катрин больше не удостаивала его даже взглядом. Жизнь в доме корабельщика стала мрачной. В самом деле, размышлял Жакоб, мог ли тамплиер иметь подругу? Тяжелые раздумья мешали Жакобу уснуть, когда ночами он ворочался на мешке с соломой в своей чердачной комнате. Разве не было возможности объединить оба его намерения? Он раздумывал, проверяя разные варианты. Если бы Катрин знала, как он из-за нее мучается, она, возможно, меньше наказывала бы его невниманием.
Наконец после мучительных ночей Жакоб нашел выход. Как-то, встретив свою подругу в саду, он но дошел ж ней и как бы между прочим сказал:
— Кстати, я вовсе не обязательно стану тамплиером. Некоторое время я могу быть побратимом ордена, — увидев недоумение Катрин, он размял маковую коробочку и сказал, рассыпая семена: — Конечно, я югу оказаться полезным и для Великого магистра. Ты должна понять, это мой долг. Все-таки он мой крестный отец!
Катрин с серьезным видом кивнула.
— Если ты станешь настоящим корабельщиком, — казала она, — ты должен будешь сделать для магистра что-нибудь значительное. Пока же стоит подумать, что именно, — затем она слегка пододвинула ногой лейку в сторону Жакоба, и он наполнил ее водой из реки. С этого вечера жизнь в доме корабельщика ронять стала светлой.
— Пошли, — сказал как-то Фридольф, — похвастаемся перед твоими родителями успехами сына! — он добродушно засмеялся.
Жакоб бросил взгляд на Катрин, сидевшую рядом с матерью и что-то размешивавшую в большой глиняной миске. Затем побежал вслед за мастером. Был теплый летний вечер, и небо еще не совсем потемнело. «Часто ли, — в первый раз спросил себя Жакоб, — я ходил вечерами вместе с мастером к своим родителям?» Он подсчитал, что почти два года живет в доме корабельщика. Родительскую кухню он еще посещал, но все же чувство родного дома у него почти исчезло. Теперь он принадлежал к кругу корабельщиков, говоривших не о пилах для камня, не о резцах и колодах, а о палубах, мачтах и смоле; и он смотрел на свои почерневшие от смолы кисти рук, которые с недавних пор стали так сильно торчать из рукавов. Голые его ступни также были просмолены и горели. Жакобу каждый день поручали работу, и она делала из него мужчину. Соседи уже собрались за столом в кухне родительного дома.
— Король, — прошептала мать, боязливо посмотрев на дверь, словно сказала что-то неподобающее, — собирался вступить в орден в качестве почетного члена. Но тамплиеры отклонили его кандидатуру.
— Это я хорошо могу понять, — отозвался Арнольд, подмигнув вошедшим, — если тамплиеры примут короля, они должны будут присвоить ему ранг, соответствующий его положению в светской иерархии. Они ведь не могут принять в свои ряды короля как обыкновенного монаха, что вы думаете! Он воспринял бы это как оскорбление. Я слышал, король собирается назначить своего сына магистром ордена.
— Он желает узнать тайну ордена! — приглушенно воскликнул мельник. — Для этого нужно быть, по крайней мере, магистром, иначе к тайне не подступиться. Он ведь собирается обучиться алхимии, ха-ха-ха!
Фридольф сказал, передвинувшись на другое место на скамье:
— После того как королю отказали, о тамплиерах неизвестно из какого источника стали распространяться злобные слухи. Все равно, поверим мы им или нет, эти слухи, если только их будут распускать достаточно долго, просочатся в каждый дом, в каждое сердце и в каждый мозг. Так происходит со всякими слухами, уж это точно известно! Теперь ведь никого не интересует, не король ли из мести способствует распространению слухов.
— Король желает охватить всю Францию единым законодательством, — вмешался купец, дав присутствующим новую пищу для размышлений, — но на пути стоит орден тамплиеров, представляющий собой независимое наднациональное правовое образование. Король не может заставить тамплиеров повиноваться при помощи его законов, так как у них есть собственные, и орден подчиняется только папе.
— Только папе… — презрительным эхом ответил Фридольф.
— Кроме того, король весь в долгах, тамплиеры же, напротив, с их девятью тысячами поселений в Европе и с их флотом, считаются очень богатыми — здесь не учитывается движимое имущество.
— Как только король стал чеканить фальшивую монету, — напомнил Арнольд, — ему пришлось бежать от народного гнева к тамплиерам. Вот уж он, наверное, насмотрелся на их богатства в сокровищнице!
— Об этих богатствах могут быть и ложные слухи, — возразил купец. — В казначействе тамплиеров в Париже находится много драгоценностей и денег, не принадлежащих ордену, но только переданных ему для сохранения. Даже английский король передал тамплиерам на хранение свои коронные драгоценности, когда его трон зашатался!
— Король должен тамплиерам много денег, — подал реплику мельник.
— Скрываясь у них, он, должно быть, поговорил об том с главным казначеем. Именно с тех пор его ненависть к тамплиерам не знает границ!
Арнольд приложил палец к губам, указав на дверь. Но в кухню вошел всего лишь сапожник, живущий по соседству.
— Друзья, — сказал он приглушенным голосом, — известно ли вам, что Великий магистр пообещал папе провести расследование и узнать, откуда исходят слухи об ордене? Он собирается защитить орден от клеветников. Кардиналы согласны с ним, а папа должен по этому поводу написать письмо королю.
— Я кое-что вам скажу, — взял слово ткач, до сих пор молчавший. — Случайно мне стало известно, кто в этом деле представляет интересы короля, и я считаю, что у Великого магистра нет никаких шансов. Более того, у меня кровь стынет, когда я думаю, чем это чревато. Королевские интересы защищают три грозных Гийома: Гийом де Ногаре, хранитель королевской печати, эта коварная змея, Гийом де Плезъян, королевский адъютант, бессовестное ничтожество, он готов на любое мошенничество, лишь бы это понравилось королю, и Гийом Эмбер — духовник короля и Великий инквизитор Франции. Вот так, осознайте это! И теперь я спрошу вас, друзья, — кто противостоит этим троим? Мудрый и порядочный человек, честный и заслуженный полководец, который самоотверженно борется за дело Господне. Великий магистр, знающий свой орден до самых сокровенных тайн и умеющий им управлять, но бессильный против такого сосредоточения земного коварства. Можно вычислить на пальцах, как будут развиваться события.
— И к тому же… — мрачно прервал Арнольд молчание, наступившее после слов ткача, — и к тому же — этот нерешительный папа.

С помощью Катрин
Спустя два месяца граждан Лиона разбудил в ночи звон шпор. По ночному городу зловещим призраком двигалась колонна королевских сыщиков. Это произошло 13 октября 1307 года, в день, который до конца мира остался в памяти людей как «черная пятница» или «приносящее несчастье число тринадцать». Полные мрачных предчувствий, испуганные жители Лиона вскакивали со своих соломенных тюфяков, быстро одевались. На улицах не было видно ни зги, лишь перед городским домом тамплиеров факелы освещали площадь, Уже издалека слышались глухие удары и крики. Мощная королевская команда брала приступам городские ворота.
На городской стене появился комтур.
— Что вам нужно? Как это следует понимать? — обратился он к собравшимся внизу сыщикам.
— Именем короля откройте!
Поскольку комтур даже не пошевелился, они закричали:
— Хотя бы спуститесь со стены вниз! Теперь с высокомерием тамплиеров покончено!
К воротам с криками ужаса сбежалась толпа народа, привратников оттеснили, и ворота были взломаны. Сыщики ворвались в дом тамплиеров. Звенели цепи, раздавались вопли. Далеко в городе по-призрачному глухо звучал крик ночного стражника:
— Слушайте, люди, я говорю вам, что наши часы пробили двенадцать! Следите за огнем и свечами, чтобы не возникло пожара!
В толпе послышался стон: там, в тамплиерском доме, бушевал страшный пожар. В страхе жители города, услышав вновь приближающийся звон шпор, кутались в покрывала и отступали в тень домов.
С грубыми возгласами сыщики выгоняли босых, полуодетых тамплиеров на улицу. Жители Лиона опустили глаза. Стыд за все, что происходило у них в городе, запечатал им уста. Люди понимали, что любые слава бессильны перед творящимися здесь беззакониями. Тамплиеров выстроили в колонну и погнали в сторону порта. Звон цепей удалялся, и все же люди остались стоять как вкопанные в надежде, что все происходящее представляет собой страшную ошибку. Но тут перед толпой появился епископский герольд на коне.
При свете высоко поднятого факела он начал читать воззвание:
— «Граждане Лиона! — все устремились к нему, чтобы не пропустить ни слова. — По решению французского короля с сегодняшнего дня все тамплиеры во французских провинциях и в дружественных землях считаются арестованными в их домах! Для высших иерархов ордена исключения не делается. То же касается и королевских советников, если они являются тамплиерами. Орден обвиняется во многих преступных деяниях и понесет за них ответственность. Уже с сегодняшнего дня по всей Франции начнут проводиться предварительные расследования. Король написал всем коронованным особам Европы и призвал их последовать его примеру и арестовывать тамплиеров.
Граждане Лиона! Избегайте этого братства изменников, виновных в том, что Святая Земля попала в руки неверных! Тамплиеры — богохульники, об этом вам не было известно, так как они искусно скрывали это. Теперь всеобщим достоянием стало то, что при вступлении в орден требовалось плевать в нашего Спасителя и отрицать Его. Кроме того, тамплиеров нужно было целовать в рот, в пупок и в задницу. Итак, скажите сами, можно ли их уважать!
Теперь идите заниматься своими обычными делами. Начнется новый день, который освободит страну от тамплиерской чумы! Я, епископ ваш, повелеваю вам соблюдать спокойствие и порядок! Да не прикоснется к богатствам тамплиеров ни один человек, не имеющий на это полномочий; только король Франции имеет право ставить на них свою печать!»
Не сразу разошлись испуганные люди. Но позже улицы и площади опустели, словно город целиком вымер. Всех терзали тягостные предчувствия, страшила мрачная неизвестность, из воззвания епископа было ясно одно: Лиона как вольного города больше нет. Слишком рьяным было послушание церковных властей французскому королю.
Фридольф положил руку на плечо Жакобу:
— Отныне я буду доверять тебе более ответственную работу. Когда настанут тяжелые времена, ничто не сможет опечалить обученного человека.
— Мастер, — спросил Жакоб хриплым голосом, — А почему эти опытные бойцы не сопротивлялись? — он пытался подавить в себе рыдания.
— Ах, мальчик, — печально ответил Фридольф, — ведь у них в уставе записано, что они не смеют направлять свое оружие против христиан. Все гораздо сложней, чем нам кажется. Давай-ка теперь пойдем работать. Наши рассуждения им не помогут.
И более тяжелая работа не могла отвлечь Жакоба от размышлений. Он стал молчалив, замкнут и при любой возможности бродил вокруг епископского дворца. С Катрин Жакоб встречался очень редко, не замечая ее вопросительных взглядов. Но если ему где-либо попадался епископский слуга, Жакоб подходил к нему и всегда задавал один и тот же вопрос: «Куда увезли Великого магистра?»
— Великого магистра, — сказал наконец Жакобу какой-то слуга, — запрятали в темницу его же тамплиерского замка в Париже. Стены там такие толстые, что никто не сможет выкрасть магистра — это сокровище тамплиеров, ха-ха-ха!
Однажды друзей ордена тамплиеров поразил слух, подобный удару грома: Великий магистр признал вину ордена тамплиеров перед комиссией в Парижском университете, состоявшей из монахов, епископов и магистров.
В народе началось неописуемое смятение. Значит, все эти двести лет были обманом? Значит, тамплиеры s все-таки изменники? Люди больше ни во что не верили. Ведь разве не смешно говорить о невиновности ордена? Для Жакоба это известие послужило сигналом, — которого он уже давно ожидал. Он пошел искать Катрин и нашел ее в саду. Некоторое время Жакоб молча стоял рядом с ней и наблюдал, как она сыпала золу на грядку.
Не видя Жакоба, Катрин почувствовала его появление.
— Весной должен вырасти хороший лук, — сказала она, и голос у нее задрожал. Затем прошептала: — Я знаю, тебе нужно уходить.
Жакоб кивнул. Да, теперь дела обстояли именно так: он должен был ехать в Париж, поближе к своему «крестному отцу» — Жакобу де Молэ. Жакоб ощущал себя призванным, он не мог оставаться в Лионе.
— Не проходит и дня, Катрин, чтобы я о тебе не думал.
Катрин в молчании машинально просеивала в пальцах золу. Она сказала:
— Приходи после второй ночной стражи к задним городским воротам. Я приготовлю дорожную сумку и запру за тобой ворота на засов. Собак я привяжу заранее, — и продолжила разбрасывать золу на грядку.
Жакоб с нетерпением ждал второй ночной стражи. Затем он пробрался к задним городским воротам. Катрин ждала его с дорожной сумкой — тяжелой и туго набитой. Собаки выли, сидя на цепи.
— Сегодня среда, и очередь старшего слуги плыть вверх по реке, — тихо сказала Катрин.
— Об этом я уже думал, поскольку хочу доплыть до Шалона-на-Соне.
— Ни в коем случае не попадайся на глаза старшему слуге, а то он вернет тебя к моему отцу!
Затем за Жакобом заскрипел засов, и он оказался на дороге.
Корабль был не до конца нагружен; много тюков еще стояло у причала. В воде отражался мерцающий свет двух факелов на железных подставках с внешней стороны бортов. Двое носильщиков поднимали тюки, рывком забрасывали себе на плечи и, пригнувшись под тяжестью, шаркая ногами, спускались по мосткам на корабль.
С колотящимся сердцем Жакоб прокрался следом.
Пока они сбрасывали со спин тюки, он проскользнул на судно и спрятался среди груза. Затем носильщики тяжело затопали по мосткам, уходя с корабля. Пока они не вернулись, Жакоб хотел найти убежище, где ему предстояло провести все путешествие.
Почти вся палуба уже была заполнена грузом. Жакоб осмотрелся, и взгляд его остановился на скамье для гребцов. Под ней находилось не очень много тюков. Он отодвинул их так, что между ними образовалась своего рода пещера.
Носильщики уже спускались обратно по мосткам. Жакоб поспешно заполз в свое убежище и закрыл тюком лазейку. Прислушиваясь к звукам, он прижал руку к бешено стучавшему сердцу.
Еще несколько раз возвращались носильщики с грузом; потом они передали корабль под надзор портовой охраны. Их голоса удалялись по причалу.
Жакоб начал ужасно мерзнуть. Его колотила дрожь, зубы стучали. Он закутался в плащ и стал шарить в своей дорожной сумке в поисках теплых вещей. Что же там нащупали его окоченевшие пальцы — шаль? Он наткнулся на что-то твердое: копченая колбаса, кусок сала! Затем обнаружился свиной пузырь, наполненный каким-то напитком! Жакоб с благодарностью подумал о Катрин, расставаться с которой ему было очень больно.
Убежище оказалось достаточно просторным, и Жакоб смог в нем удобно лечь. Даже оставалось место ворочаться. Щели между тюками постепенно становились серыми. Светало. Жакоб слышал, как с берега на корабль спускались люди. Ришар, старший слуга, вместе с гребцами тяжелыми шагами прошел по молу. Они прыгнули на корабль и достали забортный трап. Ришар немедленно сел на скамью для гребцов и подал команду отчаливать. Сначала корабль плыл по течению в сторону другого берега. Раздались возгласы гребцов. С огромным трудом удалось повернуть против течения. Затем бросили канаты бурлакам. Некоторое время корабль качался в разные стороны, бурлаки затянули свою старинную монотонную песню — корабль медленно потянулся вверх по реке.
— Кто плывет? — спросили часовые, несущие вахту.
— Ришар на грузовом судне, принадлежащем корабельщику Фридольфу из Лиона. Груз следует в Шалона-на-Соне.
— Кто на борту?
— Шесть гребцов, пассажиров нет!
Шум в порту стих, Жакоб отплыл из Лиона.

Друг
Три или четыре дня Жакоб находился на корабле. Днем он сонно прислушивался к возгласам гребцов и пению бурлаков, по ночам, если лодка причаливала и находилась под присмотром портовой охраны, выползал из своего убежища и разминал затекшие и сведенные судорогой руки и ноги, прежде чем снова залезть в свою «пещеру».
Как-то ночью Жакоб услышал, что у борта кто-то скребется, приближаясь к нему, послышался глухой удар, как при падении, и спотыкающиеся шаги. Замерев, он ждал. Может быть, это вор? Вот неизвестный оказался на скамье для гребцов, потом слегка отодвинул тюки, загораживающие вход в убежище Жакоба.
Жакоб ощущал себя в западне. Что он мог сделать? Ему не пришло в голову ничего лучшего, как залаять по-собачьи.
Некоторое время все было тихо. Затем Жакоб услышал тихий смешок.
— Вылезай! — прошептал мальчишеский голос. — Пастух, привыкший иметь дело с собаками, не даст себя обмануть.
Жакоб выполз из пещеры. Перед скамьей для гребцов на коленях стоял мальчик, ненамного старше его самого, но крупнее и сильнее. На боку у него болталась пастушеская сумка. Мальчики смерили друг друга взглядами. У каждого за поясом был нож, блестевший в бледном свете луны.
— Разве быть одному — так уж хорошо? — спросил пастушок. — Или, может быть, здесь не хватит места для двоих?
— Вдвоем дела пойдут лучше, — согласился Жакоб, так как мальчик показался ему неплохим.
— Тогда давай расширим убежище, чтобы я поместился с тобой.
— Для этого нужно не так много, — сказал Жакоб и освободил мальчику проход между тюками.
Со словами: «В тесноте да не в обиде», — пастушок заполз в пещеру. Он развязал свою сумку, достал оттуда сыр и угостил Жакоба. Мальчики сидели на корточках, прислонившись к тюкам. Пастушок ел сыр, отрезая кусочки ножом.
— Там, на том берегу, — он показал ножом на восток, — я пас в известняковых горах стадо овец, принадлежащее тамплиерам. Если же тебе вздумается сказать хоть слово против этого ордена, я сброшу тебя в воду! Теперь стада находятся в руках воров! А как еще прикажешь называть людей короля? Они убрали со шкур овец красные кресты, чтобы никто ничего не мог заподозрить. И тогда я сбежал, — спустя мгновение он повторил с возмущением: — Убрали красные кресты!
Жакоб кивнул. Да, это было чудовищное преступление! Красный крест являлся знаком того, что человек передал свое имущество под защиту ордена: мельник рисовал его на своей мельнице, домовладелец — на стене дома, хозяин стада клеймил крестом свой скот; кроме того, владения ордена тоже были помечены красным крестом. Увы, на помеченную красным крестом собственность было совершено посягательство! Красные кресты страшили сыщиков, занимающихся розыском тамплиеров!
— Куда ты, собственно говоря, собрался? — поинтересовался пастушок, вытирая рукавом рот.
— В Париж.
— Я тоже собрался в Париж, — сказал пастушок, — и, кстати, меня зовут Эрек.
— А меня — Жакоб, и крещен я в честь Великого магистра. Я намереваюсь…
— Тихо, люди идут!
Мальчики проворно юркнули в «пещеру» и загородили тюками лаз. Значит, уже наступило утро? Жакобу казалось, что эта ночь пролетела гораздо быстрее, чем предыдущие. Гребцы вернулись и бросили на корабль свои котомки. Жакоб узнал голос Ришара, потом послышались незнакомый мужской голос и спотыкающийся топот лошадиных копыт по палубе. Лязгала цепь; с тумбы спустили канат и бросили на корабль. Чужак вместе с Ришаром направился к скамье для гребцов, меч его стучал о доски, за которыми притаились мальчики, едва отваживающиеся дышать.
— Если бы ты был один, — услышали мальчики над собой шепот незнакомца, — я рассказал бы тебе кое-что еще. Но твои гребцы могут нас подслушать.
— Говори же без всяких церемоний, — сказал Ришар, — они нас не слышат, а кроме них на корабле нет никого.
Мальчики, прижавшись друг к другу, напряженно вслушивались в беседу.
— Так что ты собираешься мне сообщить о тамплиерах, которых вы допрашиваете?
— Есть у меня некоторые соображения… но есть и сомнения.
— Какие могут быть сомнения? Говори — и все станет ясно!
— Легко сказать! Но здесь все не так просто. С одной стороны, мы должны допрашивать тамплиеров с пристрастием, с другой же стороны, они сами начинают признавать свою вину и в результате избегают пыток. А мы, завербованные, те, кто за каждого подвергнутого пыткам может потребовать себе вознаграждение, оказываемся лишними. И еще кое-что, — продолжил незнакомец после паузы. — Добровольно признавшие свою вину имеют право на прощение. Если весь орден добровольно сознается, то он будет существовать, как прежде. А это не по нраву нашему королю.
— До чего же запутанная история!
— Людям вроде вас нечего беспокоиться об этой запутанности, но от таких, как мы, ждут, что с ней будет покончено!
— А что, Эдуард, — сказал Ришар несколько неуверенно, — если тамплиеров снова освободить? Я имею в виду только… я только хочу сказать… у моей жены есть огород, принадлежащий тамплиерам. Она взяла его в аренду. Мэр города сказал мне, чтобы мы продолжали обрабатывать огород и не поднимали много шума. Видишь ли, мэр остался должен мне изрядную сумму за перевозку грузов, поэтому-то и передает огород в мою собственность. Следует ли огород снова отдать тамплиерам?
— У меня те же проблемы! В окрестностях Парижа есть мельница, которую пожаловали моему деловому партнеру. Мельница тамплиеров, понимаешь! Должен ли я ее возвращать?
— Поэтому ты завтра и отправишься в Париж?
— А почему же еще?
— Ты, мельник, должен купить себе в Шалоне-на-Соне двух ослов для перевозки груза. И лошадь, чтобы на ней ехать.
Мальчики не разобрали, что мельник промычал в ответ.
— Мне вообще интересно, сколько весит твой груз, — по голосу Ришара можно было понять, что его очень занимает этот вопрос. — Наверное, у тебя есть золото тамплиеров, Эдуард?
— Не говори вздора! Тебе хорошо известно, что все тамплиерское золото принадлежит королю, ведь орден остался в таких долгах перед ним.
Помолчав, Ришар сказал с упрямством:
— Не так уж хорошо это известно.
Какое-то время они молчали.
— Когда же этот дурацкий корабль придет в Шалон? — раздраженно спросил мельник.
— Тебе не следовало на нем плыть! На твоем месте я заказал бы себе курьерскую повозку, если бы владел мельницей.
После этого мальчики не услышали наверху ни слова.
Что-то громыхнуло. Видимо, мельник встал со скамьи для гребцов. Ветер доносил шум шалонского порта. Мальчики услышали, как мельник отвязал лошадь. Он первый сошел с корабля.
Ришар начал распределять обязанности между гребцами.
— Ты, Джон, — повелел он, — высадишься вместе со мной. Остальные займутся выгрузкой товаров. Я ничего не имею против того, чтобы вам помогали мальчишки из Шалона, тогда разгрузка пойдет быстрее. Но скажи им, пусть отметятся у меня в списках, чтобы я согласовал разгрузку с их хозяевами.
— Пришел корабль! Пришел корабль! — закричали мальчишки, слоняющиеся по причалу, и мостки затрещали от ужасного топота.
— Теперь нам нужно смываться! — прошептал Эрек.
Низко согнувшись под тяжестью ноши, они прошмыгнули к причалу вместе с портовыми мальчишками и поставили тюки перед Ришаром на мостовую около береговой крепости. Ришар долго смотрел в свои списки. Пока он сравнивал количество доставленного груза с собственными подсчетами, Жакоб и Эрек уже бежали по припортовой улице в город.

Ночное соглашение
Они остановились, едва переводя дух, у постоялого двора. Над воротами огромными буквами было написано: «У тамплиерского креста». Хозяин с ведерком краски вскарабкался по лестнице, пытаясь закрасить второе слово.
— Скоро множество постоялых дворов будут называться «У креста», — горько сказал Жакоб.
Через открытое окно комнаты для постояльцев слышалсянетерпеливый голос мельника, знакомый им еще по кораблю. Супруга хозяина со стуком закрыла окно.
— Не поедет ли он в сторону Парижа? — прошептал Эрек, схватив друга за рукав. Затем резко повернулся к хозяину: — Эй, хозяин, там, наверху! Здесь бывает рынок по продаже скота?
— Будет через две недели в воскресенье.
— Нельзя ли здесь купить осла до воскресенья?
— У судебного исполнителя есть два осла, предназначенные для продажи, он собирается отвести их на рынок.
— Сколько они стоят?
— Не так уж мало, поскольку их хорошо содержат, но и не слишком много, потому что они совсем молодые. Каждый стоит примерно десять серебряных монет. Но с каких это пор дети покупают ослов?
— Времена меняются.
— В этом ты прав, молокосос. Меняются, ха-ха-ха!
— Где живет судебный исполнитель?
— В конце улицы, у дома с фонтаном.
Ни слова не говоря, мальчики быстро побежали вниз по улице, которую указал им хозяин. У дома с фонтаном женщины стояли на коленях у воды и полоскали белье, наклонившись далеко вперед.
— Как же мы сможем купить ослов, Эрек? У нас ведь нет денег!
— Я хочу посмотреть на них, — Эрек постучал в дверь нижнего этажа дома.
— У тебя есть два осла на продажу? — спросил он, как только судебный исполнитель открыл дверь; затем мальчики проскочили мимо хозяина в дом.
В стойле стояли два ухоженных осла. Когда они подняли головы, потянувшись к кормушке за сеном, у одного из ослов под челкой на лбу можно было разглядеть свежий шрам с запекшейся кровью. Шрам имел форму креста. У Жакоба замерло сердце, а Эрек очень медленно произнес, обращаясь к судебному исполнителю:
— Шрамы, должно быть, заживут до ближайшей ярмарки скота, да?
Судебный исполнитель вздрогнул:
— Что ты этим хочешь сказать, парень? Если тебе не нравятся мои ослы, убирайся отсюда!
— Это не твои ослы, это ослы тамплиеров, а ты вор! Ты разве еще не знаешь, — солгал он старику, — что король вот-вот пожалует тамплиерам свободу? И что тогда тебя ждет на ярмарке скота? Там ведь будет много свидетелей, которые увидят, как ты продаешь этих ослов!
Вся спесь судебного исполнителя бесследно исчезла.
— Сколько же ты за них дашь? — простонал он. — Уже несколько недель они едят мое лучшее сено. Мне же за это обещали компенсацию. В конце концов, я заплатил за ослов людям короля, и хотел бы вернуть свои деньги! Я все-таки бедный человек, а у меня об ослиные шкуры сломалась скребница. Я скормил им столько овса, а моя жена подвязывала им уши от комаров!
— Шесть! — неумолимо сказал Эрек, держа у него прямо перед глазами шесть пальцев.
А Жакоб добавил:
— И ни одним су больше!
Взволнованные, мальчики вернулись на постоялый двор. Хозяин уже убрал лестницу и ведро с краской; гостиница теперь называлась «У креста».
Мельник все еще находился в комнате для постояльцев. Они впервые его увидели, хотя уже знали его голос и самые сокровенные мысли. У мельника было бледное худое лицо и темные маленькие глазки. В волосах и бороде пробивалась седина, хотя ему вряд ли было больше тридцати пяти лет.
Когда мальчики вошли в комнату, он смерил их быстрым взглядом, а затем продолжил возиться со своими ногтями.
— Мастер, — сказал Эрек, — нас послал к тебе корабельщик Ришар, так как тебе нужны двое погонщиков ослов.
— Мне? Двое погонщиков ослов? Ну-ну! — воскликнул мельник, удивившись, что его назвали мастером. Он покосился в сторону кухни, опасаясь, что хозяйка подслушивает. — Корабельщик действительно это сказал? Тогда он должен доставить мне двух ослов вместе с погонщиками.
— Именно так он и сделал, мастер. Он собирается продать двух замечательных ослов. Что ты нам дашь, если они тебя устроят? Они хороши, и каждый стоит около двенадцати серебряных монет.
— Не давай за каждого больше десяти! — донесся из кухни скрипучий голос хозяйки.
— Для меня достаточно и девяти, — вежливо сказал Эрек.
Мельник звучно расхохотался:
— Для него достаточно и девяти, для этого мошенника!
— Ты заплатишь, мастер, если мы приведем ослов?
— Ты получишь деньги! — удовлетворенно воскликнул мельник, ударив ладонью по столу. — Другого мошенника оставь у меня в качестве заложника на случай, если тебе вздумается стащить у меня деньги! Ведь я не столь глуп, как вам кажется. Итак, приводи этих ослов, приводи их сюда! И ты пожалеешь, если они не стоят девяти серебряных монет! Тогда ты отработаешь у меня остаток суммы!
Спустя немного времени пришел Эрек с ослами. Мельник выскочил во двор, чтобы оценить их. Он с трудом скрыл свое удовольствие: ослы оказались замечательные.
Хозяйка также с любопытством выбежала посмотреть на ослов. Она слегка их пошлепала и как бы мимоходом провела рукой под гривой у них на лбу. После этого она язвительно рассмеялась, ибо увидела именно то, что рассчитывала.
В связи с успешной покупкой ослов мельник расщедрился. Он заплатил за ужин обоих мальчиков, а кроме того за ночлег. Они настолько устали, что сразу улеглись спать, но Эрек со стонами долго ворочался на постели. Наконец он придвинул к Жакобу кулак и сказал:
— Разожми!
В зажатом кулаке друга Жакоб нашел шесть серебряных монет.
— Мне хочется выбросить их, как Иуде — тридцать сребреников! — сказал Эрек несчастным голосом. — Я нажил их, спекулируя имуществом тамплиеров.
Выяснилось, что мельник отнюдь не стремится попасть в Париж кратчайшим путем. Он вскоре отклонился от главной дороги и направился в сторону Дижона. И в Дижоне он ни разу не вспомнил о Париже! Не говоря своим погонщикам ни слова о конечном пункте поездки, мельник ехал впереди них на лошади к северу. И все чаще он резко поворачивал свою лошадь, подъезжал к мальчикам и торопил их. Казалось, что он охвачен нетерпением.
На третий день мельник завез их к какому-то торговцу скотом в Лангр.
Он продал ему двух ослов по десять серебряных монет за каждого и купил себе мула и небольшую двухколесную повозку, подобную тем, на которых крестьяне перевозят сено.
— Теперь для меня двое погонщиков ослов слишком много. Зачем мне кормить обоих, если я прекрасно обойдусь одним из вас? — сказал мельник.
Когда же он увидел, что ни Эрек, ни Жакоб не желают расставаться, он пошел на уступки:
— Второй может ехать бесплатно. Я не потребую от него платы за те удобства, которые он получит, путешествуя вместе со мной.
Затем мельник ускакал далеко вперед, пустив свою лошадь рысью так, что мул едва поспевал следом. Расстояние между мальчиками и мельником все увеличивалось.
За Лангром солнце уже садилось в желтый туман, скрывавший горизонт, когда мельник круто повернул на запад. Уже затемно он подъехал к одинокому постоялому двору и еле слез с лошади, так у него затекли ноги.
Постоялый двор, расположенный у дороги, был обнесен высокой стеной и во всех четырех углах имел круглые башни для обороны. Эта постройка выглядела словно тамплиерская комтурия. Перед въездными воротами дорогу перегородил пограничный шлагбаум, пахнущий свежей краской.
Мельник потянул шнур звонка, в ожидании, пока ворота откроют, он проворчал:
— Там, за этим шлагбаумом, начинаются земли графа Шампанского.
Он нетерпеливо ходил туда-сюда.
— Граф Шампанский, — прошептал Жакоб на ухо Эреку, — прибыл в Иерусалим к первым девяти тамплиерам в тот самый день, когда в подземелье засыпало моего предка Пьера.
— О чем вы там шепчетесь?
За воротами послышалась возня. Засов сначала заскрипел, потом зашуршал. Пока мельник стоял, в нетерпении опершись о шлагбаум, Жакоб потянул Эрека за куртку.
— Теперь между отдельными графствами существуют границы, — и движением головы указал на шлагбаум, — там, где раньше были тамплиерские земли. Тогда не приходилось платить пошлину!
Хозяин с фонарем в руках вышел навстречу гостям. Его глазки заплыли жиром. Хитрый взгляд скользнул по новым постояльцам.
— Ах! — закричал хозяин, — какие изысканные гости приехали ко мне на постоялый двор!
Мельник нетерпеливо отодвинул его в сторону.
— Тебе больше приличествует впустить нас без долгой болтовни!
— Почему ты в таком плохом настроении, мастер мельник? Можно подумать, ты ждешь, что тебе влетят в рот жареные голуби! Ну и капризный у вас господин! — обратился хозяин уже к мальчикам. Он достал фонарь и показал стойло, где они могли поставить лошадь и мула.
— Только бы он дал нам достаточно еды, — сказал Эрек, готовясь к бою. Этот хозяин столь же не нравился ему, как и мельник.
Мельник становился все более жадным. За ужином он швырнул мальчикам заячью косточку, от которой едва ли можно было что-нибудь отгрызть. Пусть они дерутся за этот кусочек, сколько им угодно! Он ведь обещал кормить только одного из них. С пустыми желудками Жакоб и Эрек поплелись в амбар, где разворошили себе на ночь места на сеновале. Они не осмеливались тратить на еду серебряные монеты, вырученные от перепродажи ослов. Так они лежали на сеновале голодные и не могли уснуть.
Внезапно мальчики услышали, как распахнулась дверь в комнату хозяина постоялого двора. Зазвучал раскатистый смех пограничных стражей, сидевших во время ужина напротив мельника. До мальчиков донесся голос мельника:
— Эй, хозяин, дай пограничникам вина, а я выйду ненадолго. Пойду посмотрю, как там мои лошадь и багаж.
Но мальчики услышали, что он отправился не к стойлу, а в сторону ворот. Что там было нужно мельнику? Они торопливо разгребли сено и стали следить за тем, что происходило у ворот.
Мельник так осторожно открыл засов, что тот и не скрипнул, и беззвучно выскользнул на дорогу.
Мальчики осторожно вскарабкались на стену и устроились на ней, лежа на животе. Мельник ходил по дороге взад-вперед, словно чего-то ждал. Полная луна светила сквозь озябшие деревья белым светом. Если бы она поднялась чуть выше, мельник не мог бы больше оставаться незамеченным. Мальчики лежали в тени раскидистой ели.
Послышался приближающийся стук копыт. Мельник оперся обеими руками на шлагбаум и стал прислушиваться, нагнувшись вперед.
К нему подъехал одинокий всадник и слез с коня.
— Стой, кто идет? — спросил мельник, изображая из себя пограничника. Голос его звучал сурово.
— Друг мельника.
— Ты мог бы приехать пораньше. Я стою здесь и жду тебя и должен быть готовым к тому, что пограничники, которые сидят сейчас на постоялом дворе и выпивают за мой счет, вот-вот вернутся и начнут задавать глупые вопросы. Привез ли ты с собой документы?
— Сперва давай обещанное вознаграждение.
До мальчиков донеслись ожесточенные проклятия и звон монет.
— Итак, документы!
— Они в сумке на седле. Мельница твоя — мельница и права на воду.
— Дай сюда! Все ли правильно заверено?
— Твой закадычный друг Жорж будет ждать тебя завтра в тамплиерском лесу. Или же «в лесу на болоте», если так тебе больше нравится. Там нашли печать тамплиеров. Жорж поставит ее на твоих документах.
— А кто проведет меня через этот заколдованный лес на болоте, чтобы я вышел оттуда живым'?
— Ты должен идти от деревни Вандевр по дороге, ведущей на север. Ты пройдешь мимо большого козьего хлева, ранее принадлежавшего тамплиерам. В нем тебя будет ожидать проводник. Кроме того, Жорж советует переночевать завтра в монастыре Клерво. Там ты будешь в наибольшей безопасности, так как жители этой местности все еще зависят от тамплиеров, и их теперь следует остерегаться, — человек, встретившийся с мельником, некоторое время подумал, затем сказал: — Ну, вот и все.
— Тогда ты можешь уезжать отсюда.
Мальчики беззвучно соскользнули со стены и вернулись к себе в амбар. Долго они лежали на сеновале, но сон не приходил. Зубы у них стучали от волнения, а гнев на мельника не давал уснуть. Значит, послезавтра они могут стать свидетелями преступления! А разве они не принимали в нем участия, помогая в пути этому вору добывать чужое добро? Ах, до чего же тяжелой стала жизнь! Все их помыслы и стремления были направлены на благо тамплиеров, но вопреки своей воле они оказались втянуты в неправедные дела против ордена!
На следующий день Жакоб и Эрек ехали через тот самый лес, в котором много лет назад на каменотеса Пьера напали разбойники, ограбив и тяжело ранив его. Друзья приехали в тот самый монастырь, куда Эсташ привез умирающего Пьера. Лицо Жакоба страшно побледнело. Пока лошади пили воду из ручья, текущего через монастырь, он осмотрелся. В те годы здесь еще не было такого количества зданий.
— Здесь, — сказал Жакоб обескровленным ртом, — моего предка исцелил чудотворец — аббат Бернар. Затем мой предок поехал в Святую Землю вместе с тамплиерами, Эрек.
— Я не ослышался? — спросил какой-то монах, проходивший мимо. — Что ты сказал? Кого исцелил наш аббат Бернар?
— Пьера, лионского каменотеса. Он был моим предком и отправился в Иерусалим вместе с первыми девятью тамплиерами.
Монах тяжело вздохнул:
— Сколько же крови пролилось за прошедшие с тех пор двести лет! И сегодня тамплиеры не даром носят красный крест, я имею в виду пытки, которым их подвергают, — он вытер глаза рукавом рясы. — С кем ты едешь?
— С тем, кто крадет тамплиерское добро! — ответил Эрек вместо Жакоба голосом, полным ненависти. Но монах успокоил его, положив руку ему на плечо.
— Что с того, дорогой друг, что воры присваивают мирские богатства ордена? Все равно они не смогут отнять у тамплиеров их тайну.
— Я собираюсь в Париж! — сказал Жакоб, всхлипывая. — Я хочу видеть Великого магистра, который приходится мне крестным отцом.
— Инквизитор пообещал Великому магистру простить весь его орден, — прошептал монах в лицо Жакобу, — если только он признает тамплиеров виновными во всем, в чем их обвиняют. Если же он не признается, то не сможет спасти от пыток своих братьев, а орден будет распущен. И еще кое-что я должен тебе сообщить: король посетил Великого магистра в тюрьме и пытался уговорить его совершить побег.
— Как некрасиво со стороны короля!
— Король надеялся, что таким образом орден сможет расстаться со своим Великим магистром. Если Великий магистр бросит орден на произвол судьбы, то орден можно будет распустить.
— До чего же скверно!
— Протокол признаний, данных монахами под пытками, уже достиг тридцати локтей в длину. Одна лишь длина этих протоколов должна доказывать вину ордена, а этот вздор все равно никто не станет читать. Но что стоит признание, сделанное под пытками!
Слова монаха не давали покоя мальчикам всю ночь, словно, оказавшись в стенах монастыря, они мгновенно попали в самую гущу этих ужасных событий. Действительность внезапно приблизилась к ним, слухи превращались в факты. Невыспавшиеся, дрожащие от холода и волнения, на следующее утро сели они на повозку мельника. Мельник поехал по дороге, ведущей к Вандевру.
Дорога довольно круто стала взбираться в гору. Изо рта мула шел пар. Большие снежные хлопья, падавшие все гуще, мгновенно таяли на его шкуре. На вершине холма дул сильный ветер. Там снежинки были мелкие и твердые и таяли уже не так быстро. Они упрямо застревали в складках одежды; вскоре снег лежал у путников и в рукавах, и в волосах, и за воротниками.
Хорошо позавтракавший, мельник в тот день вообще не думал о еде; он, не останавливаясь, ехал по словно вымершему Вандевру. Он не поворачивался в сторону мальчиков и потому не видел, что их волнение возрастало по мере того, как они удалялись от Вандевра. Когда же появится этот козий хлев? Не пропустит ли его мельник? Прищурившись, они старательно вглядывались в снежную пелену.
Затем мальчики увидели ряд наклонившихся от ветра деревьев, под которыми ютилась какая-то приземистая постройка.
Хлев! Его окружала небольшая каменная стена, деревянная калитка была открыта.
Мельник поднял руку, подав мальчикам знак остановиться. Он сполз с лошади и надолго исчез в хлеву. Жакоб и Эрек молча прижались друг к другу и пристально смотрели на следы мельника в снегу.
Мельник вернулся с каким-то невзрачным человеком.
— Эй, ты там! — закричал он Эреку. — Поставь лошадь и мула с повозкой в стойло и оставайся там, пока я не вернусь. А чтобы ты не думал, что можешь тем временем сбежать, обокрав меня, я беру твоего друга в заложники. Понял?
Мельник достал из сумки, привязанной к седлу, документы, которые передал ему человек, встретившийся с ним этой ночью у постоялого двора; мальчики знали, что теперь где-то за этим сугробом он должен их заверить украденной печатью. И уж тогда мельница окончательно станет принадлежать ему!

Только один лоскут кожи
Невзрачный человек сразу же собрался уходить. За ним последовал мельник, а за мельником шел Жакоб. Очень быстро они очутились в чаще невысоких буков с толстыми кривыми ветками, растущими чуть ли не от корней. Чаща была такая густая и ветки так сплетены, что пробираться даже по тропе стоило большого труда.
Тропа становилась уже. Несмотря на все свое внимание, Жакоб вскоре перестал ориентироваться. Внезапно они подошли к нескольким болотам, перегороженным узкими дамбами, по одной из которых их повел невзрачный человек. Потом они снова оказались среди зарослей бука. Но и тут были точно такие же болота и точно такие же узкие дамбы. Жакобу приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не соскользнуть в воду. Вскоре болот стало так много, что Жакоб уже не понимал, те же самые это болота или им все время попадались новые, ведь снегом занесло все тропинки. Понимал ли сам невзрачный человек, где находится? Не настала ли пора громко звать на помощь, чтобы выбраться из этого заколдованного леса? Или же невзрачный хотел, чтобы они до конца дней своих блуждали среди болот, дамб и буковых зарослей?
Проводник брел все дальше и дальше — казалось, эта дорога оставила свой след у него в крови, — и внезапно они вышли к берегу озера. Там была лодка, на которой они переправились на остров. Пробираясь через снежные заносы вслед за проводником, они подошли к невысокому, очень хорошо защищенному замку.
Во дворе замка был слышен страшный грохот, доносившийся из окон. Там, в комнатах и залах, какие-то люди орудовали топорами, отрывая половицы. Может быть, они искали золото тамплиеров?
Жакоб остался во дворе. Он забыл обо всем, что происходило вокруг него, точно так же, как все забыли о нем. Он больше не слышал грохота топоров, не ощущал холода. Он уже не думал о том, что здесь будет заверен печатью обман. Жакоб думал только о тамплиерах, которые, удаляясь от внешнего мира, жили в этом замке, и о том, что он находится в священном месте, где они хранили свою тайну.
Рядом с ним кошка схватила птичку. Крылья у птицы затрепетали, и снег окрасился в красный цвет. «Как крест на плащах тамплиеров», — подумал Жакоб. В сомнамбулическом состоянии он повернулся и пошел из замка по дороге. Среди деревьев был колодец, закрытый досками. На веревке болталось кожаное ведро. «Этим ведром тамплиеры черпали воду», — подумал Жакоб.
Он облокотился на крышку колодца и подпер голову руками, не ощущая ничего, кроме печальной пустоты. Наконец он выпрямился, стряхнул снежные хлопья с ресниц и пошел по дороге дальше.
У круглой башни Жакоб обнаружил могучий дуб. Возле дуба он увидел несколько камней, на которых летом можно было сидеть. «Здесь они сидели, — подумал Жакоб. — В ветвях дуба пели птицы, и тамплиеры понимали птичий язык». Приложив ухо к стволу, он прислушался и вдруг увидел, что перед ним стоит невзрачный человек. Лицо его неуловимо изменилось, глаза смотрели умно и доброжелательно.
— Я шел за тобой, — сказал человек. — Поведай мне о том, что тобой движет!
Жакоб пристально посмотрел на него. Может быть, шрам на его лице был следом турецкой сабли?
— Я очень несчастен, — сказал Жакоб так медленно, словно ему приходилось подбирать каждое слово. — Я потомок Пьера, лионского каменотеса. Я собираюсь ехать в Париж к Великому магистру. Он мой крестный отец. Мне при крещении дали имя в его честь.
— Несчастные понимают друг друга с полуслова, — сказал человек.
— Так ты тамплиер! — будто пелена спала с глаз Жакоба. — Тебе что-нибудь известно о Великом магистре?
— Он еще надеется на то, что его примет папа и побеседует с ним. Папа получал сведения о допросах тамплиеров из рук инквизиции. Наш Великий магистр уже сообщил папе, что отказывается от признания собственной вины.
— Словно камень с души упал! Этим известием ты очень обрадовал меня!
— Ах, Жакоб, — печально ответил тамплиер, — папа — слабый и больной человек, и, к сожалению, он находится в когтях у короля. Усилия, которые он предпринимает, мы должны ставить ему в заслугу. Но у него нет сил сопротивляться длительное время. Когда-нибудь дело тамплиеров снова попадет в руки инквизиции, потому что так хочет король, — Жакоб промолчал, не зная, что сказать, и тамплиер продолжил: — И еще кое-что, Жакоб… Великого магистра привезли в крепость города Корбейля… — тамплиер задумался, испытующе глядя на Жакоба, и тихо сказал: — Мне нужен посланник. Не хочешь ли ты стать посланником?
У Жакоба от радости подпрыгнуло сердце. Он долго смотрел в глаза своему собеседнику, а затем кивнул головой.
Они быстро вернулись к замку. Мельник уже топтался у ворот.
— Эй, сколько же я должен вас ждать?
Жакоб бросил взгляд на тамплиера, лицо которого снова стало простоватым.
— Сию минуту, мастер, — запинаясь, пробормотал проводник и ненадолго скрылся в замке.
Затем он повел мельника и Жакоба обратно через лес на болоте. Болотная вода отливала черным блеском между узкими заснеженными дамбами, но теперь Жакоб уже не боялся, что они заблудятся. Мысли вихрем проносились у него в голове. Как все изменилось всего лишь за час! Если бы его отправили посланником к Великому магистру, то он смог бы увидеть своего крестного отца! Он не отваживался представить эту встречу. Но почему он решил, что тамплиер собирается послать его к Великому магистру? Может быть, его пошлют к кому-нибудь другому.
Из снежной завесы выплыли деревья, склоненные ветром, а под ними — крыша козьего хлева. Эрек на повозке спал. Мельник грубо разбудил спящего, и они выехали через калитку, а Жакоба еще на мгновение задержал тамплиер и что-то сунул ему в карман:
— Передай магистру вот это! Скажи — от Робера из леса.
На прощание он поднял руку и поспешил назад.
Теперь у Жакоба в кармане была какая-то тайна! По пути он не осмеливался посмотреть, что это такое, из страха потерять. Содержимое кармана стало для Жакоба самым важным на свете.
Они заночевали на постоялом дворе в какой-то деревушке. Как только мальчики остались одни, Жакоб достал из кармана то, что сунул туда тамплиер. Это был кусок кожи. В недоумении друзья смотрели друг на друга. Может быть, над Жакобом подшутили? Тогда это горькая шутка!
Они поднесли кусок кожи к лампе и разглядели на нем какие-то знаки. Мальчики не поняли этих знаков, решив, что их в спешке выжгли на коже раскаленным гвоздем. Одним из знаков была большая буква «Т», а рядом с «Т» множество небольших точек; над этими точками проходила волнистая линия, сначала она шла влево и вверх, затем немного вниз, а потом подходила к кружку. Из кружка точно такая же волнистая линия со многими изгибами доходила до левого верхнего края куска кожи. Там, где она оканчивалась, было много мелких завитков, напоминавших волны. Посреди этих волн виднелось нечто похожее на ключ.
Жакоб глубоко вздохнул и посмотрел в ночную темноту. Он с огромной ответственностью относился к непонятной для него миссии посланника. То, что он держал в руках, наверное, было какой-то жизненно важной для тамплиеров вестью!
— Эрек, — тихо позвал Жакоб, — обещай мне, если со мной по пути что-нибудь случится — обещай мне все сделать для того, чтобы Великий магистр получил этот кусок кожи!
На следующее утро мельник был непривычно весел. У него в кармане лежал договор с печатью. Мельница принадлежала ему! Пока они завтракали, он говорил без умолку, и болтовню свою то и дело уснащал чавканьем и громким прихлебыванием. Мальчики почти не слушали его, их слишком занимало то, что предстояло им выполнить.
— Если я в дальнейшем буду вами доволен, то возьму вас работниками к себе на мельницу. Можно договориться и сейчас. Вот, по рукам! Я мельник, а вы — мои работники, — он протянул им руку через стол.
— А жалованье? — нахально спросил Эрек, не обращая внимания на протянутую руку.
— Да, конечно, жалованье… — несколько неуверенно согласился мельник. — Жалованье ничем не будет отличаться от того, которое платят на других мельницах, — он снова перешел на свой развязный тон и добавил: — Считая с сегодняшнего дня!
Эрек толкнул Жакоба под столом ногой: заметил ли тот, что мельник таким образом хочет отказаться платить им жалованье как погонщикам ослов и возчикам?
— Где же находится твоя мельница, мельник?
— В Корбейле, глупая твоя башка! Там в Сену впадает Эссонна.
Мальчики забыли о том, что им нужно есть. Ложки задрожали у них в руках. Никто не осмеливался поднять глаза от миски с похлебкой. Мельник же подумал, что они обрадовались его предложению, и решил уменьшить им жалованье насколько возможно.
Вечером они проезжали через Труа, элегантную столицу графства Шампань. Мельник тотчас же поехал вниз по берегу Сены и начал договариваться с корабельщиком о дальнейшей поездке. Он считал, что по реке быстрее доберется до места назначения, и сделал знак мальчикам, сидевшим в повозке, чтобы они шли на корабль. Но Сена в этой местности имеет много излучин и небольшой уклон. Очень скоро нетерпение мельника возросло до такой степени, что он с зеванием и стонами то подходил к своей лошади, то отходил от нее и выспрашивал корабельщика о названиях всех деревушек, мимо которых они проплывали.
На левом берегу реки показалась какая-то крепость, расположенная на искусственном холме, ее окружали рвы с водой.
— Это замок Пайен, — объяснил корабельщик, уже не отвечая на вопрос мельника, а по собственной инициативе. — Господин де Пайен когда-то был главным среди тамплиеров, на которых сейчас так клевещут.
И корабельщик решительно оттолкнулся своим шестом от илистого дна. Озадаченный мельник закашлялся и больше не задавал вопросов.
В Ножане ему надоело плыть по реке. Он заплатил корабельщику за провоз имущества, и повозка, в которую уселись путники, застучала колесами по суше. В тумане река мгновенно скрылась из виду.
— Надеюсь, что сегодня ночью мы согреемся! — сказал Эрек.
Но зубы у мальчиков стучали не только от холода.
Окоченевшие, они сошли с повозки в каком-то убогом постоялом дворе, который, к сожалению, был совсем не похож на те, где замерзших постояльцев ожидают пуховые перины.
У дверей конюшни стоял слуга и мелко рубил мотыгой сухие стебли проса.
— Эй ты, — закричал мельник, — Может, сначала возьмешь мою лошадь, а потом продолжишь резать свою солому?
— Твоя лошадь будет есть ночью то, что я для нее нарежу днем! — ответил ему слуга, не отрываясь от работы.
— Разве здесь нет пшеничной соломы?
— Было бы странно, — пробормотал слуга, — если бы здесь, в житнице Франции, не было пшеничной соломы!
— Это я и хотел услышать! — расхвастался довольный мельник. — Не зря я купил мельницу в Корбейле!
Как только слуга это услышал, его рука с мотыгой повисла в воздухе.
— Ну-ну, — сказал он, — значит, в Корбейле продают мельницы! Как странно, что никто из нас об этом не знает.
Жакоб испытующе взглянул на этого человека. Почему он сказал «из нас»? Жакоб будто бы невзначай посмотрел ему в глаза и нарисовал пальцем на плече крест, там, где его носили тамплиеры. Человек едва заметно кивнул головой.
Хотя мальчики спали, прижавшись друг к другу и укрывшись сеном, они мерзли всю ночь. Уже перед рассветом они слезли с сеновала и начали чистить лошадь и мула. Внезапно на конюшне появился слуга. Когда он понял, что Жакоб и Эрек его заметили, он подошел поближе и встал, опершись подбородком на черенок вил для разбрасывания навоза.
— Давно ли вы ему служите? — спросил слуга.
— Смотря как это понимать, — ответил Эрек, продолжая чистить копыта лошади мельника.
— Вы ученики мельника?
— Не совсем, — ответил Жакоб. — Иногда человек кажется не тем, чем он является.
— Это я знаю по себе.
Жакоб не смотрел на слугу до тех пор, пока тот не прислонил вилы к стене и не подошел вплотную.
— Посторонись! — он отвел мула в сторону и стоял в чулане за перегородкой рядом с Жакобом.
— Гляди, сказал он, проводя наложенными друг на друга указательными пальцами по брюху лошади и изображая на нем крест, — гляди, какая блестящая у нее шкура!
Жакоб посмотрел слуге в лицо, а затем на руки и заметил, что у него нет обоих мизинцев.
— Поэтому мы с мельником и едем туда, — сказал Жакоб, он понимал этот язык жестов. Это были условные знаки тамплиеров.
— Кто сообщил вам, что он там? — недоверчиво спросил тамплиер.
— Робер из леса, — тихо ответил Жакоб.
Он ощутил на себе удивленный взгляд тамплиера. Тот подвел его к кормушке.
— Ты не давал лошади овса? — громко спросил он.
— Мельник не покупал овса, — ответил Жакоб столь же громко.
Тамплиер на прощание обнял его и прошептал:
— Поприветствуй от моего имени корабельщика Ландольфа в Корбейле!
Жакоб кивнул.
Человек еще раз поднял руки, и у Жакоба в памяти запечатлелись его ладони, на которых не хватало мизинцев. Затем он бесшумно вышел из стойла. Уезжая с постоялого двора, мальчики навсегда простились с этим тамплиером.
На следующий день они приехали в Корбейль и к полудню очутились у городских ворот, расположенных на берегу реки. В отчаянии друзья пытались заглянуть через стену, которой было обнесено здание королевской администрации. Проникнуть туда, казалось, не было ни малейшего шанса, их покидало присутствие духа. За этой толстой стеной без окон томился в темнице человек, которого Жакоб так пламенно почитал. Но ему никогда не вызволить оттуда Великого магистра, ему, никому не известному тринадцатилетнему мальчишке! Жакобу показалось, что он лишь теперь пробудился к действительности, а до сих пор только по-детски предавался мечтаниям. Он опустил голову к поводьям. Затем они подъехали к мельнице, и Эрек, не говоря ни слова, указал на четырехугольник над дверью, недавно замазанный известью.

Великая встреча
Жакоб и Эрек стали учениками мельника. В их обязанности входило просеивать зерно, смазывать ступицы мельничных колес, грузить мешки на ослов, латать в мешках дыры, сгребать зерно лопатой, ставить мышеловки, пилить доски для лопастных колес, следить за плотиной и один раз в неделю выскребать муку из мельничных половиц и отдавать ее жене мельника, которая кормила этой мукой свиней. Когда их посылали в лес, они всякий раз проходили мимо высоких стен, за которыми томился Великий магистр, и всякий раз безнадежно вздыхали и бросали гневные взгляды на тяжелый подъемный мост, охраняемый множеством вооруженных людей.
В конце концов они свыклись и со своей новой жизнью, и с работой на мельнице. Однажды после работы, когда выдалось свободное время, Жакоб отправился к тому самому Ландольфу, которому должен был передать привет от восьмипалого тамплиера.
Он встретил корабельщика перед небольшим домиком в речной долине, где жили рыбаки. Человек, у которого Жакоб спросил, как найти дом Ландольфа, проводил его туда.
— Вот он стоит у своих дверей! — воскликнул он. — Эй, Ландольф, к тебе пришел гость!
Жакоб увидел на редкость коротконогого человека с лицом, обросшим рыжеватой щетиной. На голове у него были жидкие волосы. Этот человек имел нездоровый вид и так обрюзг, словно всю жизнь просидел в кухонном чаду. Жакоб не решался с ним заговорить до тех пор, пока его острый взгляд не встретился с маленькими глазками Ландольфа. Тут Жакоб забыл про не очень приятную внешность этого человека и сказал:
— Я должен передать тебе привет от восьмипалого слуги, который на самом деле не слуга. Он работает на постоялом дворе, расположенном между Корбейлем и Ножаном. Его дела идут хорошо.
— Входи! — кратко сказал Ландольф. В доме он указал на табуретку: — Садись сюда!
Довольно продолжительное время они сидели напротив друг друга, не начиная разговора. Жакоб уже подумывал о том, не уйти ли ему, и тут Ландольф сказал:
— Ты пришел сюда с совершенно иными целями.
— Иногда цели смешиваются, — уклонился Жакоб от прямого ответа. — Наконец, даже неизвестно, какая цель появилась раньше.
Ландольф кивнул и перевел разговор на другую тему:
— Ты работаешь на мельнице Эдуарда.
Жакоб насторожился. Ведь есть такие люди, которые мгновенно распознают воров.
— Со мной здесь мой друг, — сказал Жакоб. — Он пастух. Я происхожу из рода каменотеса Пьера и обучаюсь у одного лионского корабельщика его ремеслу.
— Ага, пастух и корабельщик — а теперь оба стали мельниками. Да, странно сегодня складываются жизненные пути. У вас нет друзей в городе?
Жакоб покачал головой:
— Одним иногда лучше.
— Может быть, вам нужен еще кто-нибудь?
Жакоб вопросительно посмотрел в лицо Ландольфу. Это он серьезно спросил? Мальчик тихо сказал:
— Надежному другу мы были бы очень рады.
Ландольф встал и взял с полки солонку. Из ящика стола он достал хлеб, отломил от него горбушку и, посыпав солью, протянул ее Жакобу. Затем взял горбушку и себе. Они молча жевали хлеб.
— Мы вместе ели хлеб-соль, — спустя некоторое время сказал Ландольф. — Теперь доверься мне и поведай о том, что лежит у тебя на сердце!
— Я должен увидеть Великого магистра и поговорить с ним, — еле слышно прошептал Жакоб.
Ландольф придвинул свою табуретку так близко к мальчику, что их плечи соприкасались, и прошептал Жакобу на ухо:
— Я знаком с одним человеком из замка, который начальствует там над поварами. Зовут его Жеро. Я скажу ему, чтобы в следующий раз, когда ему понадобится мука, он купил ее у твоего мельника. Больше я ничего не могу сделать для тебя.
Жакоб встал, а вслед за ним поднялся Ландольф, он проводил мальчика до двери, и они молча кивнули друг другу на прощание.
С большим напряжением друзья ждали покупателя из замка. Прошло несколько недель, прежде чем за завтраком мельник сказал:
— В замке хотят купить у нас десять мешков пшеничного зерна. Но принести их туда должен тот из вас, кто поменьше ростом, так как отверстие, сквозь которое придется их таскать, узкое и низкое. Мы должны доставить зерно между десятью и одиннадцатью часами. Ну и желания у этих господ!
— Пусть идет Жакоб! Он самый маленький, а кроме того, кому охота появляться на людях с мешком на спине! — воскликнул один из работников.
Жакоб побледнел. Страшное волнение стеснило его грудь. В нем перемешались надежда, и робость, а также страх перед значительностью предстоящей встречи. Руки у него похолодели. Если ничего не получится, что тогда? Ему пришлось сделать усилие, чтобы не застонать.
Вместе с Эреком они взвесили зерно в мешках и погрузили на тачку. Затем Эрек торжественно сказал:
— Теперь достань кусок кожи из тайника!
У Жакоба тряслись руки и ноги, когда он залез на чердак и достал кусок кожи из тайника, где тот столь долго пролежал. Тщательно спрятав его под рубашку, Жакоб возвратился во двор и покатил тачку.
Приближаясь к замку, он не мог больше ни о чем думать. Мальчик почти не замечал, как колеса тачки громыхали по подъемному мосту. Часовые знали, зачем он направляется в замок, и пропустили его. Во дворе кто-то крикнул ему:
— Кухня там!
Жакоб был ни жив, ни мертв. В темной кухне он чуть не свалился на кучу угля перед камином.
— Сюда! — послышался голос, и Жакоб побрел ощупью туда, откуда звучал голос.
— Это ты работник с мельницы Эдуарда? — спросил позвавший его человек.
В потемках он разглядел еще нескольких поваров, возившихся с глиняными горшками.
— Да.
— Ты попал к хорошему мастеру.
В смущении Жакоб подумал об отвратительном мельнике, но внезапно понял, что под «хорошим мастером» его собеседник имеет в виду Великого магистра. Значит, тот все еще находится в замке, а человек этот был Жеро, давший о себе знать таким образом.
— Сгружай свои мешки! — скомандовал Жеро.
Несколько раз Жакоб пронес мешки от тачки до зернохранилища, и всякий раз, высыпая зерно из мешка и доставая с тачки следующий мешок, он думал: «Вот и опять ничего не произошло!» Когда Жакоб сгружал один из последних мешков, подошел Жеро и дал знак следовать за ним. По нескольким лестницам они спустились вниз и, пройдя по узкому коридору, поднялись по другим лестницам.
Жеро достал из-под фартука большой ключ и открыл какую-то дверь. Когда он отворял ее, она громко заскрипела. Жеро схватил Жакоба за руку и втолкнул в комнату. Дверь закрылась.
В комнате было прохладно. Сквозь высоко расположенное окно проникал весенний свет. В центре комнаты стоял тамплиер огромного роста. Крест на его плаще сиял красными лучами. Одна из его ног была закована в кандалы, утяжеленные ядром. Жакоб распростерся перед ним на полу. Ключ со скрежетом повернулся в замочной скважине, и Жакоб оказался плененным вместе с Великим магистром.
— Не бойся! — пророкотал над ним низкий голос. — Жеро придет и выпустит тебя. Ему известны такие часы, когда он может брать ключ без всякого опасения.
Затем Жакоб ощутил, как его заботливо подняли с пола.
— Как тебя зовут? — спросил Великий магистр дружеским тоном.
— Меня назвали в вашу честь, господин. Предком моим был Пьер, лионский каменотес. Вы мой крестный отец, если вам это угодно.
Жакоб де Молэ улыбнулся. Опершись на плечо Жакоба, он побрел к скамье, стоявшей у стены. За ним с грохотом волочилось по полу железное ядро.
— Ты принес мне какое-то известие? — спросил Великий магистр.
Жакоб, ни слова не говоря, кивнул головой, с трудом сдерживая слезы, подступившие к горлу, когда он услышал стук ядра. Затем Жакоб достал из-под рубашки кусок кожи.
— От Робера из леса, — сказал он.
Великий магистр взял послание в руки и стал пристально разглядывать. Приглушенным голосом он воскликнул:
— Слава Господу Богу! Теперь будь что будет! — потом взглянул на Жакоба и сказал, облегченно вздохнув: — Как хорошо, когда есть крестник! Этим известием ты очень успокоил меня! То, что орден считает своим величайшим богатством, не попало в руки палачей и уже находится на пути в безопасное место. Когда-нибудь снова родятся люди, которые будут стремиться из нищеты жизни к этим высочайшим богатствам. Тогда они будут их искать, и достойнейшие, вероятно, снова обретут их на благо всей земли.
Великий магистр разорвал лоскут кожи на две части и одну протянул Жакобу:
— Сожги этот кусок, сын мой, чтобы он не попал в руки неправедных людей!
Когда магистр произносил эти слова, Жакоб услышал шорох ключа в замочной скважине. Заскрипели дверные петли, и он понял, что должен уходить. Великий магистр подошел к нему и поцеловал в плечо, как было принято среди монахов ордена. Он передал Жеро другую часть кожи и сказал:
— Сожги этот кусок, его не должны обнаружить у меня!
Уже за дверью Жакоб еще раз обернулся назад. Он увидел, что Великий магистр снова стоит в центре прохладной комнаты, приложив правую руку к сердцу туда, где на белом плаще был изображен красный крест с иерихонскими трубами. Этот жест тамплиеров означал: «Смертельная опасность рядом!»
Но где же христиане, чьей обязанностью было спасти Великого магистра и его священный орден?
Жакоб привез домой тачку с пустыми мешками. Он был столь опечален, что ни разу не заговорил с Эреком. Только несколько дней спустя Жакоб рассказал другу, что произошло с ним в замке.

Избранные посланниками
Как-то на мельнице появился Ландольф и купил мешочек муки.
— Приходите ко мне! — прошептал он Жакобу, потом перебросился шуткой с мельником и ушел.
Вечером мальчики побежали вниз к Сене. Они сидели рядом с Ландольфом в маленькой кухне.
— Папа, — сказал Ландольф и сделал паузу, стиснув зубы так, что они скрипнули, — папа, по желанию короля, снова передал дело инквизиции.
— Как на это прореагировал Великий магистр? Сообщили ему об этом? — запинаясь, спросил Жакоб.
— Он немедленно снова отказался признавать свою вину. Только так он может спасти орден от очередных пыток. И только в том случае, если ему самому удастся избежать пыток, он может надеяться дожить до того дня, когда ему придется защищать орден перед справедливым судом.
Затем без всякой паузы Ландольф обратился к мальчикам:
— Готовы ли вы взять на себя ответственность доставить кое-что в Париж? После вы можете не возвращаться сюда.
— Уехать из города, где находится Великий магистр? — в ужасе воскликнул Жакоб. Он все еще был под впечатлением встречи с магистром.
— А если я скажу вам, что это поручение исходит от самого Великого магистра?
— Тогда мы поедем, — ответили мальчики без колебаний.
— Жакоб, — продолжал Ландольф, — я скажу тебе то, чего ты еще не знаешь: Великого магистра здесь нет. Вместе с семьюдесятью монахами его везут в Пуатье — к папе.
— Имеет ли это теперь какое-нибудь значение?
— Вряд ли. Великий магистр не сможет высказать папе свое доверительное слово, потому что его и монахов передают папе, естественно, не без королевского надзора и слежки.
— Все это придумано с большим коварством!
Ландольф достал из-под скамьи сверток размером примерно с три кирпича, обернутый куском холста и зашитый по краям. Корабельщик сел между мальчиками и очень тихо прошептал:
— Это — восковые таблички, вы должны передать их корабельщику Гофриду в Париже. На них записаны важные известия, которые должны попасть к тамплиерам, сидящим в подвалах парижских жилых домов — в тюрьмах не хватает мест для такого количества узников.
Он снова засунул таблички под скамью.
На следующее утро Жакоб и Эрек в последний раз сидели с мельником за столом.
— Вы только посмотрите на этих сопляков! — возмущенно закричал старший слуга. — Они проковыряли своими ложками в каше канавки, чтобы весь топленый жир стекал к ним!
— Так всегда бывает, — сказал мельник, чавкая, — кто меньше других работает, тот больше других жрет.
Как только мельник после завтрака распределил работы, обаего ученика с мешками на спинах побежали к Сене. В одном из мешков находились их скудные пожитки. В другом была только мякина, в которую следовало уложить восковые таблички.
Ландольф проводил мальчиков до берега. В лодке у берега сидел рыболов, и, казалось, безучастно смотрел куда-то перед собой. Стоило, однако, ему увидеть мальчиков, как он спрыгнул в воду там, где было мелко, и энергичными движениями руки стал торопить Жакоба и Эрека. Они спрыгнули в лодку и тотчас же взяли весла. Рыбак положил мешки под скамью и сел у руля; лодка заскользила к середине реки.
Рыбак не обмолвился с ними ни единым словом. Он то смотрел на воду перед лодкой, то поднимал взгляд к облакам, то наблюдал за берегами, мимо которых проплывала лодка. То и дело он пристально смотрел назад. После трех часов путешествия перед ними появился город, и вскоре они уже плыли мимо тамплиерского замка, мощно возвышающегося на правом берегу реки. В центре его громоздилась башня казначейства — могучая, отпугивающая врагов, устрашающая. Но черно-белое знамя, развевавшееся над ней в прежние дни, было заменено королевским.
На пути гребцов возник остров с собором Нотр-Дам. Они направились по левому рукаву реки. За собором Нотр-Дам высился королевский замок, подступавший почти к самой воде. Здесь остров заканчивался, лишь поросшая травой полоска земли выгибалась там, где два рукава Сены вновь соединялись.
— Еврейская коса, — безучастно сказал рыбак, указав на острый мыс, которым заканчивался остров. Это были единственные слова, произнесенные им за всю поездку.
Он направил лодку к причалу, расположенному на левом берегу. Вероятно, на обратном пути вверх по реке рыбак собирался обогнуть Еврейскую косу с другой стороны острова. Он бросил мальчикам мешки и ушел.
Мальчики с мешками стояли у причала. Мимо проходил портовый сторож, спросивший их, почему они топчутся на месте и глазеют по сторонам.
— Мы ищем корабельщика Гофрида, — ответили они, — у которого здесь должна быть баржа.
— Если вы собрались к нему, то бегите за мной, — сторож расхохотался.
На набережной, ведущей вниз по течению Сены, к городской стене притулились домики корабельщиков. Сторож указал на один из них и продолжил свой обход. Мальчики услышали его удаляющийся блеющий смех.
Эрек постучал в дверь. Услышав кряхтящее «Войдите!», он открыл ее.
Человек лет сорока лежал в кухне на скамейке, укрывшись шерстяным одеялом. Выглядел он ужасающе: вокруг его мокрого от испарины лица с глубоко посаженными глазами, немытого и изборожденного морщинами, клочьями торчали черные волосы. Человек бросил на мальчиков настороженный взгляд. Слегка приподнявшись, чтобы лучше их разглядеть, он застонал. Мальчики заметили, что правая рука у него висела, обмотанная полотенцем. Может быть, он был ранен?
— Что вам нужно? — грубо спросил мужчина. — Разве я звал вас?
— Нет, — ответил Жакоб, подавив в себе испуг, — нас послал Ландольф из Корбейля, если только ты тот самый Гофрид, которого мы ищем.
— Ландольф? — недоверчиво сказал корабельщик. Он снова опустился на скамейку, и прошло довольно много времени, прежде чем он вспомнил о мальчиках.
— Садитесь сюда! — скомандовал Гофрид. — Ближе ко мне! Нет, еще ближе! Совсем близко!
Они опустились на колени перед скамейкой, и лица их придвинулись к корабельщику.
— Скажи нам, действительно ли ты тот Гофрид, который дружит с Ландольфом, — попросил Жакоб. — Скажи какую-нибудь примету.
— У Ландольфа редкие волосы и рыжеватая бородка. Он одутловат, и у него острый глаз. На полке у него в кухне стоит глиняная солонка. В ящике стола он хранит хлеб.
— Он угощал меня хлебом-солью! — воскликнул Жакоб. — Ты прав во всем.
— Тогда и тебе удалось оправдаться передо мной, потому что Ландольф дает хлеб-соль только людям, действительно заслуживающим доверия. Итак, добро пожаловать, и расскажите мне обо всем подробно! Потом посмотрим, могу ли я чем-нибудь вас угостить.
Корабельщик хотел приподняться, но, застонав, остался на месте.
Эрек достал из мякины сверток и положил его Гофриду на колени.
— Известия для тамплиеров, сидящих в подвалах парижских жилых домов. Ты должен их вручить.
Гофрид снова предпринял попытку встать, чтобы взять восковые таблички. Попытка закончилась неудачно.
— Из-за этих проклятых болей мне становится все хуже! — вырвалось у него. — Наверное, у меня вывих… Мне… мне… понимаете ли, при загрузке моей баржи… на руку упало бревно, — он наблюдал за мальчиками краешком глаза: поверят ли они его рассказу? — Цирюльник ко мне не приходит, так как говорит, что слишком занят.
— Мой друг Эрек, — рассудительно сказал Жакоб, — очень толковый пастух. Он разбирается в болезнях и многие может лечить. Может, он вылечит тебя?
— Хорошо, вылечи меня! — сказал Гофрид и снял полотенце с руки. Жакоб в ужасе отпрянул: предплечье, и плечо были покрыты черными, красными и синими пятнами. Вся рука распухла. Казалось, запястье сломано, так как ладонь была вывернута. Эрек вопросительно посмотрел в лицо больному, но Гофрид отвел взгляд.
Когда вечером Жакоб лежал рядом с Эреком на чердаке, он тихо спросил:
— Можно ли вылечить так изувеченную руку?
— Можно, если только кто-нибудь не помешает этому!
— Как это помешает? Не упадет же снова на него бревно!
— Это было не бревно, Жакоб, это была пытка.
Тут Жакоб понял, почему сторож, указавший им дорогу, так гадко смеялся.
— Боюсь, — сказал Эрек спустя некоторое время, — что дом Гофрида не самое подходящее место для хранения восковых табличек. Здесь их легко могут найти! Мы должны постараться как можно скорее унести ноги из этого дома.
Как только мальчики оставили Гофрида в одиночестве, ему в голову пришли точно такие же мысли. На следующее утро он велел Эреку надеть на голову черно-белый платок, висевший на гвозде рядом с дверью.
— Ты высокий, — сказал Гофрид, — и тебя все увидят. Поэтому иди на улицу, где живут студенты, и следи за нищими, которые будут там появляться. Увидев твой платок, они проведут средним пальцем по лбу, тем самым подав тебе знак. Тогда подожди их за следующим углом. Когда они подойдут к тебе, скажи им только одно слово «рыба». Им всем известно, что я ожидаю их ночью.
Когда мальчики сказали, что все поняли, он попросил их соблюдать большую осторожность, поскольку шпионы короля также могли быть переодеты в нищих и слоняться по улице, где живут студенты.
— Мы постараемся не попадаться им на глаза, — уверил его Эрек. — Мы ведь не хотим, чтобы у тебя заболела и вторая рука.
Тут Гофрид покраснел под своей щетиной и сказал:
— Ну ладно. Хватит болтать. Он снова улегся на скамью.
— Мою душу тяготит вот что, — сказал Гофрид мальчикам. — Мне бы нужно было чем-нибудь покормить вас. Но в доме совсем нет денег. Сыщики отняли у меня все.
Тогда мальчики обрадовались, что у них еще остались шесть серебряных монет от продажи ослов.
Эрек обмотал голову черно-белым платком, и они пошли по улице, где жили студенты. То и дело какие-то люди, проходящие мимо, проводили средним пальцем по лбу. Эрек и Жакоб свернули за угол, и когда кто-нибудь приближался к ним, мальчики говорили:
— Рыба!
Впереди них по улице прогуливались двое священников и оживленно болтали со встречными студентами. Но их юркие взгляды шныряли во все стороны.
— Как вам понравится, — спросил один из священников, — то, что король по дороге в Пуатье оставил Великого магистра и троих самых главных тамплиеров в замке Шинон?
— Ну, уж там они будут у него в руках.
— Папе он написал, что Великий магистр в пути заболел и не может ехать дальше. О прочих тамплиерах он не сообщил ничего.
— Королю нужно отдать должное, он отнюдь не глуп. Сначала он представил дело таким образом, будто идет навстречу пожеланиям папы и отправил тамплиеров в Пуатье, а затем устроил так, что самый главный из них заболел. Но, по мне, это правильно.
— При этом Великий магистр окончательно лишился своего последнего козыря — встречи с папой.
— Орден и без того погиб, и мне не хочется проливать по нему слезы. На мой взгляд, тамплиеры всегда были слишком жирны.
Мальчики вернулись к Гофриду в подавленном настроении и рассказали ему обо всем, что слышали. Они достали из укрытия восковые таблички, и Гофрид печально сказал:
— Срежьте швы!
Никто из них не мог прочесть написанного на этих табличках.
Вечером Гофрид велел мальчикам отправляться на чердак, оставив дверь дома открытой.
О сне нечего было и думать. Среди ночи мальчики услышали скрип дверных петель, приглушенные мужские голоса, затем снова заскрипела дверь, и все стихло. Утром кусок полотна, в который были зашиты восковые таблички, оказался пуст.
С руки Гофрида постепенно спадала опухоль, и исчезали страшные кровоподтеки. Эрек наложил на руку шину, но корабельщик еще долго не мог и думать о своей работе. И все же баржа должна была перевозить грузы, у мальчиков заканчивались деньги, вырученные от продажи ослов.
Однажды Гофрид велел позвать к себе старшего гребца, и примерно неделю спустя он сидел на гребном ящике своего корабля и отдавал приказания обоим мальчикам и гребцам. Эрек не позволил Гофриду даже двинуть больной рукой, он запретил ему работать и здоровой. С тяжелым вздохом корабельщик подчинился запрету. Когда же они вернулись к парижскому причалу, и больная рука сильно не беспокоила, во взгляде Гофрида светилось признание врачебного искусства Эрека.
— Сегодня, — весело сказал корабельщик Эреку, направляясь к себе в домик, — у меня впервые появилась надежда, что я все же смогу заниматься своим ремеслом.
Жакоба у причала задержали двое мужчин, которых он никогда раньше не встречал.
— Ну, малыш, — спросил один из них, — ты, кажется, ученик Гофрида?
— В чем дело? — поинтересовался Жакоб. Что-то отталкивающее было в человеке, крутившем серебряную монету у него перед носом.
Другой человек также вертел в руках серебряную монету.
— Многие, — прогнусавил он, — заслужили такую монетку, работая на нас. Итак, расскажи нам, что твой хозяин говорит о тамплиерах! Что он для них делает?
Жакоб вздрогнул. Он судорожно искал какой-нибудь бесхитростный ответ. Оба шпиона, оскалив зубы, наблюдали за тем, как он смутился. Затем они ушли, посмеиваясь.
— Теперь это так далеко! — устало сказал Гофрид, когда Жакоб сообщил ему о случившемся. — Твое известие не застало меня врасплох. Я знаю, сколько времени потребуется на то, чтобы беда подкралась к моему дому. Мы должны уносить ноги отсюда! Я еще потерплю до следующего воскресенья, так как обещал доставить тайный груз. Если я задержусь, то все мы окажемся в опасности.
— Куда же мы пойдем?
— В Сент-Оноре, моя сестра вышла замуж за корабельщика. Там мы можем остаться вместе с нашим грузовым кораблем.

Драгоценный груз
С бурями и дождями наступила осень. Сырость просачивалась сквозь все щели дома. Гофрид сказал мальчикам, чтобы они спали в кухне внизу. Теперь каждый лежал на своей скамейке и смотрел, как в очаге под пеплом тлеет жар. О сне все позабыли: слишком многое им нужно было обдумать.
— А как сделать, — спросил Жакоб однажды ночью, — чтобы люди, которые доставят тебе этот ценный груз, узнали, где ты, если придут они уже после воскресенья?
— Они знают, где у меня лежит ключ. Они войдут ко мне в дом и увидят маленький деревянный корабль, который ты, наверное, заметил на полке у стены. Он будет висеть на гвозде у двери носом книзу, и они поймут, что я отплыл по течению Сены вниз. Им известно, где живет моя сестра. Если же кораблик будет висеть на гвозде носом кверху, то они поймут, что я отплыл вверх по Сене.
Дни проходили один за другим, а о тайном грузе не было никаких известий. В воскресенье мальчики отнесли на корабль Гофрида то немногое, что собирались взять с собой. Прозвенели колокола, возвестив начало церковной службы, улицы опустели, Гофрид вместе с гребцами также отправился в церковь.
Одинокий всадник пронесся по причалу, спрыгнул с лошади и подошел к самой воде.
— Ведь это же корабль Гофрида! — обратился он к мальчикам. — А где корабельщик?
— Он еще придет сюда, — угрюмо ответил Эрек.
— Вы готовы к отплытию? Вы получили сегодня задание?
— Не думаете же вы, что мы плаваем в свое удовольствие? — насторожился Жакоб.
— Договаривайтесь об этом, пожалуйста, с самим хозяином, — равнодушно сказал Эрек.
Жакоб присмотрелся к незнакомцу. Манеры и выражение лица выдавали в нем человека, закаленного в испытаниях и обладавшего большой выдержкой. Это не был королевский шпик, как показалось Эреку. Это не был преуспевающий бездельник! В руках у него Жакоб мог представить бутылку водки, но никак не серебряную монетку, которой бы тот поигрывал.
«Я испытаю его», — подумал Жакоб. Он по-детски скривил лицо и пробормотал:
— Деревянный кораблик постукивает. Он висит носом книзу!
Человек сначала изумился, затем сказал:
— Разве в этом уже была необходимость?
Жакоб кивнул головой.
Вскоре Гофрид возвратился из церкви, не дождавшись окончания богослужения. Беспокойство привело его к причалу.
— Где груз? — спросил он, прежде чем пожать руку незнакомцу. — Разве вы не могли придерживаться плана, указанного на куске кожи?
План, указанный на куске кожи! У мальчиков словно пелена упала с глаз. Жакоб увидел перед собой магистра и услышал его вздох облегчения: «Теперь будь что будет!»
Выходит, Гофрида избрали для того, чтобы он перевез на своем корабле самое дорогое богатство тамплиеров в безопасное место! Мальчики с благоговением смотрели на корабельщика.
— Груз находится в бухте, — услышали они голос незнакомца, — при впадении Уазы в Сену. Тебе это место известно. Не могли бы эти двое парней вместе с гребцами отправить твой корабль в Сент-Оноре? Ведь мы хотим перевезти груз не на твоем корабле, как первоначально намеревались.
— Нет, ты должен принять наш корабль вместе с грузом. И с нашими гребцами.
— Тогда возьми с собой запасной парус, у нас его нет. Ты должен будешь проплыть какую-то часть пути после впадения Сены в море.
— Что будет дальше? — спросил Гофрид, когда незнакомец сделал паузу и осмотрелся. У причала никого не было.
— Через пять дней у городка Онфлер будет стоять галеон — достаточно далеко от города, чтобы не привлекать лишнего внимания. На нем будут подняты два прямых паруса и один бизань-парус, на котором изображен красный голубь. Там тебя будут ждать. А теперь прощай!
Они обнялись, бросив друг на друга суровые прощальные взгляды. Незнакомец вскочил на коня и стремительно умчался.
Ворота церкви были открыты, гребцы шли к причалу, болтая и смеясь. Как только они очутились на корабле, Гофрид дал первую команду. Гребцы повели корабль на середину реки. Все быстрее замелькали перед глазами мальчиков городские стены, грязные лужайки, усеянные опавшими листьями. Гофрид то и дело поглядывал на небо. Солнце напоминало бледный круглый щит.
Вечером они сориентировались, что проплывают мимо устья Уазы. Гребцы опустили все свои шесты на левый борт и по команде Гофрида начали отталкиваться ими от илистого дна. Этот маневр они повторяли до тех пор, пока не очутились в том месте, где воды Сены и Уазы полностью перемешиваются между собой. Затем корабельщик приказал держать курс в сторону правого берега. Только теперь мальчики заметили замаскированный вход в бухту, где стоял незнакомый корабль. Они причалили рядом с ним, и Гофрид взял свой запасной парус.
— Будьте мужественны! — обратился он к товарищам, перепрыгивая на чужой корабль; гребцы Гофрида развернули судно.
На следующее утро Гофрид приказал своим молчаливым гребцам, плывшим вместе с ним на чужом корабле, установить запасной парус. Он переждал, пока не кончится прилив, движение которого по широкому руслу реки было отчетливо заметно, и установил парус по ветру. Когда морские воды отхлынули, ему удалось выплыть из устья реки в море.
За два часа отлива Гофрид должен был встретить галион, ожидающий его у Онфлера. Гофрид располагал временем, чтобы передать груз и, когда начнется прилив, вновь выйти в устье реки.
Вскоре Гофрид увидел очертания галиона, а затем и красного голубя на бизань-парусе. Он маневрировал своим кораблем рядом с галионом, подойдя левым бортом. Капитан галиона перешел на корабль Гофрида.
Обнявшись, оба смогли вымолвить лишь два слова:
— Слава Богу!
В их лицах отражалось беспокойство за груз.
Капитан поднял руку, приветствуя гребцов, и они молча поблагодарили его. Затем он подошел к брезенту, прикрывавшему груз, и отодвинул его в сторону. Они увидели целую пачку тамплиерских плащей, обильно пропитанных запекшейся кровью — кровью, пролитой в Святой Земле. Они долго смотрели на эту кровь, и все, что пришлось пережить ордену тамплиеров для того, чтобы весь мир в день Страшного суда был взят в Новый Иерусалим, когда природа будет спасена, а человек очистится, — все это предстало у них перед глазами. Под плащами угадывались контуры двенадцати каменных ларцов, в которых заключалась возможность такого преображения.
— Иерусалим рыдает, — наконец сказал капитан хриплым голосом, — кто осушит его слезы?
Мужчины бросили последний, прощальный взгляд на спрятанный груз и начали перегружать каменные ларцы на галион.
Гофрид правильно выбрал время: морской прилив помог ему войти в устье Сены. Он, однако, смотрел назад, на паруса галиона. Они повернули к западу и долго еще парили над открытым морем, которое позолотили лучи солнца, потом паруса стали уменьшаться и, превратившись в точку, исчезли между золотыми волнами и заходящим солнцем.
Спустя месяц Гофрид возвратился в Сент-Оноре. Мальчики украдкой разглядывали его. Глаза корабельщика сверкали каким-то внутренним огнем, а на лице у него не было и тени печали. Мальчики не знали, куда тамплиеры увезли свою тайну. И даже не отваживались об этом спросить.

Пепел
Жакоб и Эрек научились у зятя Гофрида корабельному ремеслу. Их приняли в гильдию корабельщиков. Гофрид проводил все свое время вместе с ними в Сент-Оноре. Но он все больше и больше избегал работы, предаваясь размышлениям. Мальчики чувствовали, что его мучит тоска по парижскому домику, — в Сент-Оноре ему было неуютно. Он с жадностью ловил каждое известие о тамплиерах, доходившее из столицы. Когда в один прекрасный день какой-то торговец сообщил ему, что Великого магистра снова привезли в Париж, Гофрида уже ничего не могло удержать, и он, охваченный сильным беспокойством, начал собираться в поездку.
Мальчики тоже уехали из Сент-Оноре. Они возвратились с Гофридом в Париж, никто из них не хотел оставлять его в одиночестве в опасном городе. По пути Гофрид рассказал им то, что услышал от торговца:
— Вы собираетесь защищать ваш орден? — спросил Великого магистра трибунал инквизиции.
— Перед вами — нет! — заявил им Жакоб де Молэ со всей решительностью. — Но перед папой я готов предстать в любой момент, когда он сочтет нужным. Я умоляю вас попросить его, чтобы он позвал меня к себе по возможности скорее, ибо я смертен, как и всякий человек. Ему одному я доверю то, что следует сказать о моем ордене, покуда у меня хватает для этого сил.
В речных долинах Парижа собирались толпы людей, одетых в лохмотья. Это были тамплиеры, которых согнали из самых отдаленных тюрем города. На следующее утро их должны были вести в парк епископского дворца. Туда привели и узников, сидевших в подвалах жилых домов. Гофрид и мальчики, как и тысячи парижан, наблюдали за ними сквозь щели в заборе. Епископ велел одному чиновнику задать тамплиерам вопрос:
— Мы привели вас сюда, чтобы вы защищали свой орден. Вы собираетесь делать это?
Целое войско тамплиеров, одетых в лохмотья, зашумело:
— До самой смерти! Признания нашей вины вырваны у нас под пытками и поэтому не соответствуют действительности! Мы будем защищаться!
— Тогда пошлите к нам одного уполномоченного, он сделает это от вашего имени. Мы ведь не можем выслушать всех вас, — сказал епископ, — вас слишком много.
— У нас есть один-единственный уполномоченный, — продолжали кричать они, — это наш Великий магистр Жакоб де Молэ! Выведите его к нам! Мы хотим видеть его! Да, мы хотим видеть его! Мы хотим видеть его!
— Вам следует знать, что теперь это совершенно излишне, — ответил епископ, — ибо он совсем недавно отказался защищать ваш орден. Поэтому ступайте туда, откуда пришли!
И конвой снова погнал их в тюрьмы, расположенные на расстоянии нескольких миль.
В тот вечер Гофрид впервые говорил какую-то несуразицу. Мальчики озабоченно наблюдали за ним. Эрек подумал, не жар ли у него, но лоб Гофрида не был горячим. Вскоре после этого бред прекратился, и корабельщик стал таким, как прежде.
Несколько дней спустя они перевозили груз вверх по Йонне до города Сана. Был вторник, 13 мая 1310 года. В городе они попали в возбужденную толпу. Люди спешили на большую площадь, где был приготовлен огромный костер. Под громкие крики толпы на площадь съезжались повозки, на которых сидели на корточках тамплиеры, закованные в кандалы. У них отняли плащи — знак достоинства ордена. Их насчитывалось пятьдесят четыре человека, среди которых были как пожилые воины, поседевшие в боях за Святую Землю, так и юноши, полные жизненной энергии.
С рыцарей сорвали одежды, затем, грубо подталкивая, повели к кострам и привязали к позорным столбам. Гарольд пообещал сохранить им жизнь, если они признают вину ордена.
Но произошло то же самое, что и много лет назад на Востоке, когда султан обещал даровать тамплиерам жизнь, если они откажутся от Христа: никто не хотел жить, принимая на себя такой грех.
Палачи уже поджигали связки хвороста и длинными шестами двигали их к костру. Уже сквозь дым слышались голоса несчастных, утверждавших, что их орден невиновен. Другие же повторяли девиз, под которым орден возник двести лет назад и действовал все это время: «Не нам, Господи, не нам, но все ради славы Имени Твоего!»
С этого момента ум Готфрида навсегда остался помраченным. Судьба тамплиеров, которым он так горячо сочувствовал, уже не волновала его. Большую часть времени он неподвижно сидел на кухне, безучастный ко всему, что вокруг него происходит.
Филипп Красивый, король Франции, преобразовал трибунал инквизиции в собственный королевский суд, а папа созвал Собор для расследования дела тамплиеров. Собор должен был заседать к югу от Лиона, в городе Вьенне.
Но, по мнению короля, Собор действовал слишком медленно. Разве он не отправил отцам Церкви, участвующим в заседаниях Собора, готовый протокол допросов тамплиеров уже столько месяцев назад? Почему папа так долго уклонялся от его попыток шантажа? Ведь король крепко держал его в своих руках, имея преимущество в этой игре! Но орден тамплиеров надлежало уничтожить самому папе, а с членами его он должен был расправиться давно известным способом!
Открытие Собора затянулось на несколько лет. Тут у короля лопнуло терпение, и он отправился со своей свитой, похожей на войско, в расположенный по соседству с Вьенном Лион. Ему нужно было всего лишь полдня, чтобы напасть оттуда на Вьенн. Чувствовал ли папа эту угрозу? Король послал к нему своих парламентеров.
Уполномоченные, представляющие церковную и светскую власть, на протяжении двенадцати дней торговались по поводу судьбы ордена тамплиеров. Решение о его уничтожении было скреплено печатью, поскольку папа к этому времени уже распределил между своими родственниками все имущество тамплиеров в провинциях Франш-Конте и Прованс, подобным же образом король распорядился львиной долей имущества тамплиеров на севере Франции.
Третьего апреля 1312 года произошло следующее: приговор, касающийся судьбы ордена тамплиеров, был оглашен в одной из церквей города Вьенна. В сиянии многочисленных свечей появился папа вместе с кардиналами. В церкви всех охватило предчувствие беды, когда папа поднялся к алтарю и начал свою речь.
— Не без горечи и душевной боли, — раздавался его дрожащий голос, — а также при отсутствии какого-либо юридического приговора, но только в силу нашей апостолической должности, исходя из заботы обо всех христианах и с согласия Собора, мы ликвидируем орден тамплиеров! Все имущество тамплиеров передается иоаннитам.
Довольный король со своей дружиной вернулся в Париж вместе с министром финансов он выдвинул следующие требования, касающиеся имущества тамплиеров:
тамплиеры должны ему 200 000 фунтов, то есть 5 000 000 золотых франков;
в 60 000 фунтов обошлось ему размещение обвиняемых в тюрьмах и пытки;
12 000 фунтов он дал тамплиерам на хранение, но эти деньги были растрачены орденом.
Иоаннитам во Франции, в конечном счете, были переданы разоренные административные области тамплиеров и их комтурии, а также жалкий остаток полей и лесов. В других же странах иоаннитам досталось от тамплиеров богатое наследство.
Спустя два года колокола Нотр-Дама зазвонили в неурочное время. Со всех улиц и переулков Парижа люди стекались к деревянному мосту, который вел к королевскому острову. Они столпились перед собором, где была сооружена трибуна. Стоявшие в первых рядах кричали напиравшим сзади то, что видели:
— Ведут! Ведут! Наконец-то мы узнаем всю правду об этом дьявольском ордене!
— Сегодня Великий магистр Жакоб де Молэ наконец-то признает вину ордена публично!
— Идолопоклонник! Тамплиерам не помогло поклонение золотой голове!
— Теперь четверых самых главных тамплиеров провели на эшафот, чтобы все их видели! Как жалко они выглядят!
— Слушайте, будет говорить сам Великий магистр! У него все еще сильный голос, и это после семи лет тюрьмы!
— Почему не признались в своих дьявольских штуках раньше! — воскликнул какой-то низкорослый человек и нервно захихикал, нарушив наступившую тишину.
— Тише! Слушайте, что он говорит!
Потрясенный Жакоб слушал голос человека, которого любил, как отца:
— В последние мгновения своей жизни я хочу открыть всю правду и опровергнуть ложь, ибо правда должна побеждать. Перед Небом и Землей я заявляю, что допускал высказывания против своего ордена лишь из страха перед пытками. Я считаю это преступлением, и за это преступление я заслужил смерть. Перед вездесущим Ликом Божьим я свидетельствую: орден тамплиеров невиновен, свидетельствую, хотя знаю: это свидетельство будет стоить мне жизни.
Тут на трибунах поднялась суматоха. Епископы и инквизиторы не считали нужным скрывать свою ярость. Зачем они дали возможность этому тамплиеру еще раз выступить перед народом? Из-за того, что у тамплиеров имелись такие друзья, которые утверждали, будто Великий магистр публично признает свою вину! Все еще раздавались голоса, называвшие Филиппа красивого расхитителем тамплиерского имущества и разрушавшие благородный образ короля в глазах европейского дворянства. Такие голоса необходимо было заглушить!
Епископ Парижский сделал знак палачу, отправив его к королю. Вскоре палач вернулся.
— Великого магистра стаскивают с эшафота! — кричали впереди стоящие. — Послушайте! Послушайте! Король приказал перенести сожжение Великого магистра на сегодняшний вечер!
— Горе нам, — раздался голос из толпы, — если прольется праведная кровь!
Потрясенные Жакоб и Эрек возвратились к Гофриду. Они должны были его кормить, заботиться о нем.
— Слушай, Гофрид… — то и дело начинали они, но, всхлипывая, умолкали, так как он ничего уже не понимал.
Наступил вечер. Жакоб и Эрек устремились к берегу Сены. На набережной в ожидании столпилось много народу. Мост, ведущий на королевский остров, был перегорожен. Королевский замок с Еврейской косой связывали узенькие мостки. Они заканчивались рядом с костром.
— Эй, — закричали какие-то люди, — вы, кажется, корабельщики? Не могли бы вы подвезти нас по реке чуть поближе, чтобы лучше было видно это представление? За хорошие деньги, разумеется!
— За хорошие деньги! — машинально повторил Жакоб. Его трясло.
Зазвонили колокола Нотр-Дама, двинулась вперед процессия инквизиторов. На балкон замка вышел король. Среди ликования толпы он стоял неподвижно, как статуя.
Палач привел Великого магистра.
По соседству с Жакобом и Эреком оказался человек с серьезным холодным лицом. Он не высказывался ни за тамплиеров, ни против них, а только наблюдал. Этот человек был историк Готфрид Парижский. Он запечатлел последние мгновения из жизни последнего Великого магистра:
«Как только Великий магистр увидел разгоревшийся костер, он без промедления разделся. Я сообщаю то, что сам видел: в одной нижней рубахе он шел к костру уверенными шагами и со спокойствием на лице. Ему хотели сковать руки, чтобы привязать к столбу, когда он взойдет на костер. Он же сердечно попросил:
— Господа, оставьте мои руки свободными, чтобы я мог их сложить, вознося последнюю молитву Господу моему. Настал миг, когда я должен умереть. Одному Господу известно, какая несправедливость здесь совершается! Вы же, господа, знайте, что те, кто преследовал нас здесь, на земле, подвергнутся мучениям из-за нас там, в потустороннем мире. Не имея ни малейшего сомнения в этом, я умираю. Поверните же меня теперь лицом к Деве Марии, которая родила Спасителя нашего. Она присутствовала при рождении нашего ордена и охраняла его чистоту.
Его повернули лицом к собору.
Покуда Жакоб де Молэ не ощущал пламени, он продолжал выступать в защиту своего ордена. Толпу обуяли ужас и изумление.
Смерть подступила к нему столь незаметно, что все сочли это чудом».
В ту ночь к Еврейской косе тайно причаливали лодки. Из них выходили люди, и каждый забирал себе горстку пепла из кострища. Что касается Жакоба и Эрека, то они не спали до утра, ухаживая за больным.

Приложение
Великие магистры ордена тамплиеров
1. Гуго де Пайен, (или Паэн) — с 1128 по 1136
2. Робер де Краон — по 1149
3. Эверар де Барр — по 1152
4. Бернар де Тремеле — по 1153
5. Андре де Монбар — по 1156
6. Бертран де Бланшфор — по 1169
7. Филипп де Мийи — по 1171
8. Одо де Сент-Аман — по 1180
9. Арно де Тюрр — по 1185
10. Жерар де Ридфор — по 1190
11. Робер де Сабле — по 1193
12. Жильбер Эрай — по 1201
13. Филипп де Плесси — по 1209
14. Гийом де Шартр — по 1218
15. Петро де Монтекауго — по 1232
16. Арман де Перагор — по 1243
17. Ришар де Бюр — по 1247
18. Гийом де Соннак — по 1250
19. Рено де Вишье — по 1256
20. Тома Берар — по 1273
21. Гийом де Боже — по 1291
22. Тибо Годен — по 1295
23. Жакоб де Молэ — по 1314
Хронологическая таблица
1071–1091 Нашествие турок на Персию, Месопотамию, Сирию, Дамаск и всю внутреннюю часть Палестины,
1088 Избрание папы Урбана II.
1096 Начало Первого крестового похода под предводительством Готфрида Бульонского.
1098 Завоевание Антиохии крестоносцами.
1099 Завоевание Иерусалима крестоносцами.
1099 Смерть папы Урбана II.
1099 Смерть знаменитого освободителя христианских территорий в Испании Родриго Диаса по прозвищу «Эль-Сид».
1100 Бодуэн Бульонский, некоронованный король Иерусалимский Бодуэн I.
1101 Поражение и уничтожение ломбардского, бургундского и баварско-аквитанского войск крестоносцев.
1102–1103 Бодуэн I побеждает египтян под Яффой, завоевывая Аккон, Беритон и Сидон.
1109 После пяти лет осады в руки христиан попадает Триполи.
1111 Войско баварских крестоносцев уничтожено турками.
1113–1115 Покорение Восточной Киликии христианами.
1115 Монах цистерцианец Бернар основал монастырь Клерво на землях, подаренных графом Шампанским.
до 1118 Папа Паскаль I.
1118 Смерть Бодуэна I.
1118 Бодуэн де Бур становится Бодуэном II, королем Иерусалимским.
1118 Девять французских рыцарей основали в Иерусалиме братство «Бедных Рыцарей Христовых». Народ называет их тамплиерами.
до 1119 Папа Геласий I.
1123–1125 Бодуэн II попадает в плен, потерпев поражение в битве.
1123 Венецианский торговый флот уничтожает египетский военный флот под Аскалоном.
до 1124 Папа Каликст II.
1124 Первое завоевание Тира христианами.
1124 Граф Гуго Шампанский вступает в братство «Бедных Рыцарей Христовых» и до самой своей смерти остается в Иерусалиме.
1128 Собор в Труа, столице Шампани. Церковь признает орден тамплиеров, который получает свой первый устав.
1129 Португальская королева Тереза дарит ордену первую крепость.
до 1130 Папа Гонорий Второй.
1131 Смерть Бодуэна II, королем Иерусалимским становится Фулько Анжуйский.
1139 Папская булла «Омне Датум Оптимум», в которой папа Иннокентий II предоставляет тамплиерам чрезвычайные права.
1140 Тамплиеры взяли крепость Сафет в северной Галилее.
1143 Король Фулько упал с лошади, что послужило причиной его смерти. Регентство вдовствующей королевы Мелисанды при ее двенадцатилетнем сыне Бодуэне.
до 1143 Папа Иннокентий II.
до 1144 Папа Целестин II.
1144 Графство Эдесса попадает в руки турок.
до 1145 Папа Луций II.
1146 Бернар Клервоский 31 марта выступает с проповедью о крестовом походе на холме Везеле, а 25 декабря — в Шпейерском соборе.
1147–1148 Немецкое и французское войска начинают Второй крестовый поход.
1149 Полное поражение Второго крестового похода.
1152 Фридрих I Барбаросса становится германским императором.
1153 Смерть аббата Бернара Клервоского.
до 1153 Папа Евгений III, друг и ученик Бернара Клервоского.
1154 Завоевание Аскалона христианами.
до 1154 Папа Анастасий III.
1157 Потерянный христианами Аскалон снова попадает к ним в руки.
до 1159 Папа Адриан IV.
1162 Папа Александр III освобождает тамплиеров от подчинения епископам.
1162 Смерть короля Бодуэна III.
1253–1165 Король Амальрик попадает в плен после сокрушительного поражения.
1165 Король Амальрик безуспешно выступает против египтян.
1167 Египет призывает Амальрика помочь ему в борьбе с Дамаском; Египет становится франкским протекторатом.
1168 Внезапная атака короля Амальрика, закончившаяся завоеванием непокорного Библиса в Египте. Отступление без всяких выгод.
1171 Саладин становится султаном Египетским.
1174 Сирия покоряется Саладину, Саладин становится султаном Сирийским.
1174 Смерть короля Амальрика. Королем Иерусалимским становится тринадцатилетний прокаженный Бодуэн IV.
1180 Перемирие Бодуэна IV с Саладином; Великий магистр ордена тамплиеров Одо де Сент-Аман попадает в плен.
до 1181 Папа Александр III.
1183 Рено де Шатийон нарушает перемирие.
1184 Саладин осаждает его замок, пограничную крепость Моавский Крак. Бодуэн IV снимает осаду.
1185 Смерть Бодуэна IV; регентство графа Триполитанского, опекуна Бодуэна V, малолетнего мальчика (сын Сибиллы, сестры Бодуэна IV).
1186 Бодуэн V умирает. Сибилла и Ги де Люзиньян добиваются коронации.
1187 Битва при Хаттине, Уничтожение всего христианского войска, за исключением триполитанского гарнизона.
до 1187 Папа Урбан III.
до 1187 Папа Григорий VIII.
1188 Чингисхан объединяет Монголию.
1189 Начало Третьего крестового похода под предводительством императора Барбароссы.
1189 Ричард Львиное Сердце, король Английский.
1190 Смерть императора Барбароссы. Уничтожение немецкого войска крестоносцев.
1190 Начало Третьего крестового похода английского и французского войск под предводительством Ричарда Львиное Сердце и Людовика VII.
до 1191 Папа Климент III.
1191 Завоевание Кипра Ричардом Львиное Сердце. Он покупает остров для тамплиеров.
1191 Новое покорение Аккона Ричардом и Людовиком.
1191 Возврат прибрежных областей участниками Третьего крестового похода. Новая потеря Тира.
1192 Возврат Яффы Ричардом Львиное Сердце и договор о мире с султаном Саладином на три года, три месяца и три дня.
1193 Смерть Саладина.
1197 Амальрик де Люзиньян, король Кипрский.
1197 Германский император Генрих VI готовит новый крестовый поход.
до 1198 Папа Целестин III.
1203 Четвертый крестовый поход заканчивается в Константинополе.
1209 Начало крестовых походов против христиан, считавшихся еретиками на юге Франции, — альбигойцев (катаров и вальденсов).
1212 Великая победа испанских христиан над маврами при Толосе.
1213 Первый детский крестовый поход.
до 1216 Папа Иннокентий III.
1216 В путь отправляется войско крестоносцев под предводительством короля Венгерского, чтобы соединиться с участниками Пятого крестового похода под предводительством папского легата Пелагия в Сирии.
1219 Завоевание ключевой египетской крепости Дамьетты участникам пятого крестового похода. Отступление без каких-либо выгод.
до 1225 Папа Гонорий III.
1228 Император Фридрих II Гогенштауфен высаживается в Сирии.
1229 Договор Фридриха II с султаном Египетским сроком на 10 лет.
1231 Учреждение инквизиции в Европе.
1236 Испанские христиане отвоевывают у мавров резиденцию султана — Кордову до 1241 Папа Григорий IX.
до 1241 Папа Целестин IV.
1243 Монголы в Малой Азии.
1244 Хорезмийцы овладевают Иерусалимом.
1248–1252 Шестой крестовый поход под предводительством короля Франции Людовика Святого.
1249 Завоевание Дамьетты; пленение короля; потеря завоеванного города; освобождение короля.
до 1254 Папа Иннокентий IV.
1256 Второй детский крестовый поход.
1258–1260 Монголы покоряют Багдад, Алеппо и Дамаск.
до 1261 Папа Александр IV.
до 1266 Папа Урбан IV.
1268 Египетские мамелюки отнимают у христиан Яффу и графство Антиохийское.
до 1268 Папа Климент IV.
1270 Седьмой крестовый поход в Тунис под предводительством Людовика Святого. Смерть короля.
до 1276 Папа Григорий X, затем — Иннокентий V, затем — Адриан V.
до 1277 Папа Иоанн XXI.
1289 Потеря графства Триполитанского.
1291 Потеря Аккона, Тира, Сидона и Бейрута. Падение последних замков иоаннитов и тамплиеров. Оставшиеся в живых рыцари-монахи перебираются на Кипр.
до 1292 Папа Николай IV.
1295 Избрание последнего Великого магистра ордена тамплиеров — Жакоба де Молэ.
до 1303 Папа Бонифаций VIII.
до 1305 Папа Климент V (в Авиньоне).
1307 Все тамплиеры во Франции заключены в тюрьмы; арест имущества тамплиеров Филиппом Красивым 13 октября.
1310 Епископ Санский 12 мая сжигает на костре 54 тамплиера без какого-либо судебного разбирательства.
1312 Папа Климент V на Вьеннском Соборе 3 апреля ликвидирует орден тамплиеров.
1314 Последнее свидетельство и сожжение Великого магистра Жакоба де Молэ 18 марта.
1314 Смерть папы Климента V.
1314 Смерть Филиппа Красивого.
Висенте Рива Паласио
Пираты Мексиканского залива

Часть первая. ДЖОН МОРГАН

I. ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА
В середине семнадцатого века на обширном богатом острове Эспаньола процветало селение Сан-Хуан-де-Гоаве; славилось оно не только живописностью природы, но и своими обитателями. Это поистине чарующее селение утопало в зелени садов, а вокруг расстилались густые леса и тучные луга, на которых паслось несметное множество диких быков.
Местные жители, охотники и живодеры, торговали кожей и салом. Кого здесь только не было: негры и белые, мулаты и метисы, испанцы и французы, англичане и индейцы. Но все они вели одинаковый образ жизни, все обращались друг с другом, как сыновья одного народа, все трудились в поте лица, чтобы разжиться горстью-другой звонкой монеты, а заработанные деньги спускали в пьяном угаре за игорным столом или в обществе веселых девиц, в которых здесь не было недостатка.
Эти колонисты жили удивительной жизнью: они упорно трудились и предавались изощренным порокам, отличались безупречной честностью в делах и крайней развращенностью нравов, были по-братски добры к обездоленным и ненасытно алчны в игре.
И в добродетелях и в пороках они не знали меры. Добродетели и пороки теснились в одной груди. Так в сказках о золотом веке овцы и волки спят под сенью одного дерева, ястреб и голубка отдыхают на одной ветке, тигр и косуля пьют из одного источника. Все это кажется загадкой в цивилизованном девятнадцатом веке, когда мирный горожанин навряд ли уснет спокойно под одной кровлей с жандармом.
Однажды в сельской таверне, над входом в которую красовался намалеванный сажей бык и надпись «У черного быка», за простым некрашеным столом собрались трое. Перед ними стоял кувшин с агуардьенте и три стакана, и они непринужденно беседовали, опершись локтями о стол, не снимая шапок и покуривая большие, грубо вырезанные деревянные трубки.
У всех троих были густые, длинные волосы и борода. Все они выглядели сверстниками, только двое из них, русые и голубоглазые, походили на англичан, а третий, смуглый, с черными глазами, черноволосый и чернобородый, очевидно, был южанином.
Одеты они были одинаково, но описать их одежду, пожалуй, будет нелегко: кожаные штаны в обтяжку, кожаные сапоги, туго обхватывающие икры, и длиннополая кожаная куртка. Шапка тоже из кожи, а на поясе – нечто вроде портупеи с висящим на ней широким длинным ножом.
Таков был странный наряд наших героев, которые лениво перебрасывались словами, утопая в густых клубах табачного дыма.
– Железная Рука прав, – произнес один из англичан. – Тоска тут смертная, а с заработками не густо.
– Не густо, – подтвердил другой англичанин. – Особенно когда приходится иметь дело с этими чертовыми гачупинами,[43] как он их называет, которые таскаются сюда торговать из самого Асо.
– Я здесь просто умираю со скуки, – отозвался, выпустив клуб дыма, тот, кого назвали Железная Рука, – и, кажется, готов тосковать по родине.
– Неужто твоя родинакрасивее, чем этот край?
– Еще бы, Ричард, – со вздохом ответил Железная Рука. – Мексика – лучшее место на земле.
– Зачем же ты оставил ее? – спросил другой англичанин.
– А, длинная история.
– Бедность погнала?
– Я был там богат, как принц.
Англичане с сомнением переглянулись.
– Тогда из-за любви?
– Расскажу как-нибудь в другой раз. Но пока что мне здесь все опротивело.
– О! И это говоришь ты, человек, заслуживший любовь Принцессы-недотроги?
– Хватит болтать об этой девушке. В Сан Хуане достаточно других женщин.
– Но не таких красивых.
– И не таких привлекательных. Добрая сотня охотников мрет от зависти, глядя, как ты шагаешь с ней по дороге в Пальмас-Эрманас. Эта рощица – сущий рай, должно быть, вы там недурно проводите время.
– Во всяком случае, не так, как вы думаете. Я люблю Хулию, как сестру, и хватит об этом.
– Нет, нет, давай договорим до конца, Антонио, – серьезно возразил Ричард. – У тебя действительно ничего нет с этой девушкой?
– Нет, – отвечал Железная Рука. – Ее отец, француз, был, как вы знаете, моим другом. Когда он умер от чумы, я стал для Хулии и ее матери защитником и покровителем, вот и все. А почему ты об этом спрашиваешь?
– Я спрашиваю, – равнодушно ответил Ричард, – потому что если ты ее любишь, то не мешало бы предупредить тебя, что в твои воды зашел соперник.
– Кто же это осмелился?! – воскликнул Антонио, сверкнув глазами и вспыхнув от гнева.
– Ага, значит, что-то между вами есть. В конце концов мое дело сторона, но мы друзья, и я тебя предупреждаю. Пока что он дрейфует, но у него хорошая оснастка, и при первом шторме он тебя пустит ко дну.
– Но кто же он?
– Будь начеку и верь, что я тоже не зеваю. Можешь рассчитывать на мою дружбу…
Молодые люди горячо пожали друг другу руки. Лицо Антонио заметно омрачилось, но в светлых глазах англичанина по-прежнему отражалось безмятежное спокойствие души.
Третий охотник продолжал курить, как ни в чем не бывало, словно ничего и не слышал.
– Ты, я вижу, обеспокоен, – сказал Ричард после долгого молчания. – Пойдем прогуляемся, может быть, подвернется до вечера какое-нибудь дельце. Если же нет, думаю, лучше всего воспользоваться полной луной и к ночи отправиться в наши любимые горы. Там тебе будет легче.
– Ты прав, – отозвался Железная Рука, – уйдем отсюда, этот воздух наводит на меня тоску. – Встряхнув черной головой, будто отгоняя навязчивую мысль, он встал, и все трое вышли из таверны.
На улицах селения было полно народу. В этот день приехали купцы из города Асо, чтобы, как обычно, закупить либо выменять на ткани и мелочной товар шкуры у охотников и живодеров Сан-Хуана.
Вечер был ясный и теплый, дул легкий ветерок, женщины спешили на площадь посмотреть, какие диковины выставили на продажу заезжие торговцы.
Трое охотников смешались с толпой и направились к лавке, в которой было разложено напоказ множество бычьих кож. Англичане вошли в лавку и повели разговор с хозяином, а Железная Рука остался на улице.
В это время невдалеке показались две женщины. Впереди шла старшая, лет сорока, а за ней следовала девушка лет шестнадцати, тоненькая, изящная и стройная, с белокурыми волосами и зелеными глазами, такими темными, что казались они черными.
На обеих женщинах были почти одинаковые синие платья, белые фартучки и белые шляпки. С первого взгляда можно было определить, что они небогаты и, по-видимому, принадлежат к французской колонии Сан-Хуана.
Заметив охотника, девушка вся вспыхнула и, воспользовавшись тем, что мать не видит ее, остановилась рядом с молодым человеком.
– Антонио, – спросила она, – ты сердишься?
– Нет, Хулия, – ответил охотник, силясь улыбнуться.
– Не скрывай, Антонио, ты чем-то встревожен. Что с тобой?
– Нам надо поговорить.
– Когда?
– Сегодня вечером.
– Хорошо. Где?
– В Пальмас-Эрманас.
– Я приду, Антонио, приду. Только не сердись. Прощай.
– До вечера.
И девушка побежала вдогонку матери, та была занята своими мыслями и ничего не заметила.
Зато рядом находился тайный соглядатай, не пропустивший ни слова из их беседы.
Это был приземистый, тучный человек, с выпуклой грудью, втянутой в плечи головой и короткими, жирными руками, волосатыми, словно у обезьяны. Черные волосы, брови и борода разрослись у него необыкновенно густо, а маленькие, заплывшие бурые глазки сверкали, как горящие угли. Одежда этого странного человека не походила на кожаные костюмы охотников. Должно быть, он был богат, если судить по золотой цепи, золотым пуговицам на суконной куртке и пряжке из драгоценных камней, украшавшей его широкополую шляпу.
То был богатый живодер и скотопромышленник, испанец по имени Педро Хуан де Борика, известный в деревне под кличкой «Медведь-толстосум».
II. ПЕДРО-ЖИВОДЕР
Педро пристал к берегам Эспаньолы на корабле, направлявшемся в Новую Испанию. Хотя у него не было ни родни, ни знакомых на острове, он решил присоединиться к населявшим его охотникам и живодерам.
Обосновавшись в Сан-Хуан-де-Гоаве, Педро стал помогать кому-то из своих земляков, а потом и сам занялся торговлей; вскоре удача да к тому же еще упорство и выносливость помогли ему стать одним из самых богатых людей в округе.
Медведь-толстосум, как все теперь называли его, никогда не играл, для этого он был слишком скуп. Лишь единственный раз сразился он в карты с одним из своих друзей и проиграл. На следующий день его друга нашли в поле с кинжалом в сердце.
Все обвиняли Педро, но никто не сказал ему ни слова. В здешних краях принято было мстить только за собственные обиды. Педро не раз заводил знакомство с веселыми девицами, разделявшими жизнь охотников, но все они бежали от него, – уж слишком он был груб и скареден.
Богатый живодер жил один, без семьи, в просторном удобном доме и держал множество слуг, которые помогали ему пасти стада, загонять в крааль скот, забивать быков и продавать кожи.
В день, которым началось наше повествование, Педро долго стоял на площади, беспокойно посматривая по сторонам жадно сверкавшими глазами. Когда в торговых рядах появились Хулия с матерью, он пошел следом за ними и незаметно подслушал разговор Хулии с возлюбленным.
Если б кто-нибудь взглянул в тот момент на живодера, то заметил бы, как он побледнел и скрипнул плотными белыми, словно браслет слоновой кости, зубами. Но в густой толпе рабов, охотников и торговцев, валом валившей на площадь, некому было обращать на это внимание.
Хулия и ее мать продолжали свой путь, а Педро оставил их в покое и, грубо расталкивая всех встречных, направился в уже знакомую читателям таверну «У черного быка».
В тот час таверна была почти пуста. Начало смеркаться, и весь народ потянулся на рыночную площадь. Живодер уселся за столик в укромном углу и властно крикнул, словно подзывая бессловесную скотину:
– Исаак! Исаак!
В тот же миг перед ним появился высокий, тощий, бледный старик, с большой шапкой в руках.
 – Поди-ка сюда, иудейский пес, – сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. – Садись, сын Моисея.
– Обращенный, обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор, – ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия. – Обращенный, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а все же лучше, чтобы все было ясно, как божий свет.
– Провались ты хоть на тот свет! Брось свои увертки и отвечай. Ты обманул меня?
– Да накажет меня бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал!
– Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец Железная Рука вовсе не возлюбленный Хулии?
– Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет, а между двумя такими утверждениями немалая разница.
– Ах ты собака, да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!
– Да убережет меня бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете.
– Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?
– Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство.
– Ну и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга.
– Возможно, – уклончиво заметил старик.
– Возможно? Говорю тебе, я в этом уверен, жалкий пес! – крикнул с раздражением живодер и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
– Потише, – с величайшим хладнокровием ответил Исаак, – потише, вы сломаете стол, а он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдется.
Живодер презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол.
– Что же нам предпринять? – продолжал он. – Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною, все из-за этого охотника! Проклятые охотники, и они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры! Все смазливые девушки в деревне только для них, не говоря уж о тех, что они привозят себе из Санто-Доминго, из Асо и откуда попало. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда остров Эспаньола станет сущим раем!
– Гм! – усмехнулся Исаак.
– Что же все-таки делать? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах.
– Вам надо похитить Хулию.
– Вот так совет! Чтобы охотник, узнав об этом, проткнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку? Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое.
– Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, взвалить его на плечо и потом еще и съесть, словно Милон Кротонский.
– Не важно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?
– Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?
– Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер.
– Где?
– За селением, в роще Пальмас-Эрманас.
– Отлично. Тогда слушайте: наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия – из своего дома. Не правда ли?
– Возможно.
– А распрощавшись – ведь волей-неволей им придется расстаться, – он отправится в свою хижину, а она к себе домой?
– Должно быть, так.
– И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна.
– Так оно и будет.
– Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, – бьюсь об заклад, она вас не узнает, – и тащите в лес, а потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены или вы предпочитаете оставить ее охотнику.
– Понятно, – со смехом ответил живодер. – А вдруг она меня узнает?
– А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается…
– Но как же мне переодеться?
– Обрядитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску да закутайтесь в плащ.
– Превосходно! Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее.
– Чего уж хитрее!
– Ну, прощай, пойду все подготовлю. Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг, я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила… Не забудь только.
Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания.
А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил:
– Кто это был здесь?
– Сеньор, – ответил Исаак, – его зовут Хуан, по кличке Медведь-толстосум.
– Моряк?
– Нет, сеньор, он – живодер.
– А! – протянул незнакомец с глубоким презрением. – Я почему-то решил, что он моряк. А о ком он говорил?
– О Хулии, одной из местных девушек.
– О какой же это Хулии?
– О Хулии Лафонт.
– Дочери Густава Лафонта?
– Да, сеньор.
– Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?
– Того самого.
– Негодяй! Пусть только попробует, гнусный мясник, тронуть хоть волос с головы этой девушки, – пробормотал, словно про себя, незнакомец. – Значит, свидание состоится сегодня вечером? – продолжал он.
– Да, сеньор.
– В Пальмас-Эрманас?
– Да, сеньор, на юге от…
– Я не нуждаюсь в объяснениях. Возьми!
– Что вы мне даете?
– Испанскую унцию.
– Но за что, сеньор?
– За твое сообщение. Прощай.
Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны.
– Бог Израиля! – воскликнул старик. – Бог Авраама! Не иначе это герцог! Какое, не герцог, а принц! Больше того – король! Золотая унция за такую малость!
И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото.
Когда Педро-живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Не мешкая, он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника.
Медведь-толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди.
Из окон дома лился свет. Притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому, Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью.
– Она еще здесь, – злорадно прошипел Педро. – Ну что ж, увидимся ночью.
И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови.
– Поди-ка сюда, иудейский пес, – сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. – Садись, сын Моисея.
– Обращенный, обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор, – ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия. – Обращенный, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а все же лучше, чтобы все было ясно, как божий свет.
– Провались ты хоть на тот свет! Брось свои увертки и отвечай. Ты обманул меня?
– Да накажет меня бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал!
– Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец Железная Рука вовсе не возлюбленный Хулии?
– Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет, а между двумя такими утверждениями немалая разница.
– Ах ты собака, да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!
– Да убережет меня бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете.
– Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?
– Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство.
– Ну и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга.
– Возможно, – уклончиво заметил старик.
– Возможно? Говорю тебе, я в этом уверен, жалкий пес! – крикнул с раздражением живодер и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
– Потише, – с величайшим хладнокровием ответил Исаак, – потише, вы сломаете стол, а он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдется.
Живодер презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол.
– Что же нам предпринять? – продолжал он. – Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною, все из-за этого охотника! Проклятые охотники, и они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры! Все смазливые девушки в деревне только для них, не говоря уж о тех, что они привозят себе из Санто-Доминго, из Асо и откуда попало. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда остров Эспаньола станет сущим раем!
– Гм! – усмехнулся Исаак.
– Что же все-таки делать? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах.
– Вам надо похитить Хулию.
– Вот так совет! Чтобы охотник, узнав об этом, проткнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку? Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое.
– Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, взвалить его на плечо и потом еще и съесть, словно Милон Кротонский.
– Не важно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?
– Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?
– Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер.
– Где?
– За селением, в роще Пальмас-Эрманас.
– Отлично. Тогда слушайте: наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия – из своего дома. Не правда ли?
– Возможно.
– А распрощавшись – ведь волей-неволей им придется расстаться, – он отправится в свою хижину, а она к себе домой?
– Должно быть, так.
– И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна.
– Так оно и будет.
– Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, – бьюсь об заклад, она вас не узнает, – и тащите в лес, а потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены или вы предпочитаете оставить ее охотнику.
– Понятно, – со смехом ответил живодер. – А вдруг она меня узнает?
– А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается…
– Но как же мне переодеться?
– Обрядитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску да закутайтесь в плащ.
– Превосходно! Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее.
– Чего уж хитрее!
– Ну, прощай, пойду все подготовлю. Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг, я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила… Не забудь только.
Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания.
А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил:
– Кто это был здесь?
– Сеньор, – ответил Исаак, – его зовут Хуан, по кличке Медведь-толстосум.
– Моряк?
– Нет, сеньор, он – живодер.
– А! – протянул незнакомец с глубоким презрением. – Я почему-то решил, что он моряк. А о ком он говорил?
– О Хулии, одной из местных девушек.
– О какой же это Хулии?
– О Хулии Лафонт.
– Дочери Густава Лафонта?
– Да, сеньор.
– Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?
– Того самого.
– Негодяй! Пусть только попробует, гнусный мясник, тронуть хоть волос с головы этой девушки, – пробормотал, словно про себя, незнакомец. – Значит, свидание состоится сегодня вечером? – продолжал он.
– Да, сеньор.
– В Пальмас-Эрманас?
– Да, сеньор, на юге от…
– Я не нуждаюсь в объяснениях. Возьми!
– Что вы мне даете?
– Испанскую унцию.
– Но за что, сеньор?
– За твое сообщение. Прощай.
Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны.
– Бог Израиля! – воскликнул старик. – Бог Авраама! Не иначе это герцог! Какое, не герцог, а принц! Больше того – король! Золотая унция за такую малость!
И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото.
Когда Педро-живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Не мешкая, он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника.
Медведь-толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди.
Из окон дома лился свет. Притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому, Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью.
– Она еще здесь, – злорадно прошипел Педро. – Ну что ж, увидимся ночью.
И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови.
III. В РОЩЕ ПАЛЬМАС-ЭРМАНАС
Время близилось к полуночи. В селении Сан-Хуан царила глубокая тишина, лишь изредка нарушаемая пением одинокого петуха или ревом быка в загоне.
Домик Хулии был окутан мягким полумраком, струившимся над землей, ожидавшей восхода луны. Казалось, все было погружено в глубокий сон: ни проблеска света в окнах, ни звука за плотно закрытой дверью.
Только позади ограды маячило неясное темное пятно. Там стоял какой-то человек, и человека этого, очевидно, одолевало нетерпение. Он то принимался ходить взад и вперед, то останавливался и заглядывал через изгородь, пытаясь рассмотреть, что делается в саду.
Так прошло немало времени. Тайный наблюдатель уже готов был уйти, когда, заглянув в последний раз через изгородь, он уловил легкое движение в доме. Затаив дыхание, напрягая слух, он пытался проникнуть взглядом сквозь густой сумрак, витавший в саду.
Но вот дверь дома тихонько приоткрылась, из нее выскользнула легкая тень, и дверь закрылась так же бесшумно.
– Она! – шепнул стоявший за оградой незнакомец, переведя дыхание. – Она, Хулия!
Девушка спустилась в сад и, боязливо оглядываясь, пошла по дорожке. Вдруг она испуганно остановилась, ей показалось, что кто-то бежит за ней. Обернувшись, она увидела великолепную черно-белую борзую – таких собак держали почти все охотники острова Эспаньола.
– Ох, Титан, – оправившись от испуга, проговорила девушка. – Ну и напугал же ты меня! Оставайся здесь, будешь стеречь дом, пока я не вернусь.
Умный пес повиновался, а Хулия подошла к ограде, сплошь заросшей вьюнком и лианами, и, раздвинув гибкие стебли, нырнула в темное отверстие.
– Вот оно что, – прошипел соглядатай. – Здесь есть неизвестная мне лазейка. Будем знать и при случае воспользуемся ею.
Девушка, проскользнув сквозь изгородь, вышла в поле и внимательно огляделась по сторонам. Человек припал к земле и замер, затаив дыхание. А Хулия, решив, что никто ее не видит, успокоилась и, плотнее запахнув широкий черный плащ, словно легкая тень, двинулась дальше.
Она прошла так близко от притаившегося в кустах незнакомца, что пола ее плаща задела его по лицу. Если бы верный пес сопровождал свою хозяйку, он, без сомнения, почуял бы врага, но Хулия была так рассеянна, так занята своими мыслями, что ничего не заметила и без колебаний направилась в Пальмас-Эрманас по узкой тропинке, змеившейся среди разбросанных по широкому лугу кустов и деревьев.
Дав девушке отойти подальше, человек встал и пошел за ней. Хулия, не замечая преследования, скользила среди деревьев. Лес становился все гуще и гуще.
Преследователь порой терял ее из виду, и ему приходилось ждать, пока слабый свет луны, пробившись сквозь зеленые своды, озарит силуэт Хулии, продолжавшей свой путь.
Но вот девушка вышла на большую открытую поляну и, не задерживаясь, зашагала дальше по протоптанной в траве тропинке. Поляну замыкала роща, над которой горделиво возвышались пышные кроны двух высоких пальм.
– А вот и Пальмас-Эрманас, – шепнул человек. – Пожалуй, лучше остаться здесь и подождать возвращения белой телочки. Отсюда я увижу, одна ли она выйдет из рощи, и успею приготовиться. Надо быть начеку… Только вот устроиться бы поудобнее… сдается, что ждать придется долгонько. – И он уселся под деревом, весь укрывшись в его тени.
Тем временем Хулия вошла в рощу и, осмотревшись вокруг, тихонько позвала охотника.
В тот же миг, словно ветер, пронесся в кустах, и к ногам Хулии бросились две огромные борзые, похожие на ту, что оставила она стеречь дом. Растянувшись на земле, они махали хвостами и радостно повизгивали.
– Добрый вечер, Тисок, добрый вечер, Мастла, – говорила девушка, гладя головы могучих псов своими маленькими белыми ручками. – Где же ваш хозяин?
Кусты снова зашелестели, и перед Хулией появился охотник, с мушкетом в руке, одетый так же, как утром.
– Антонио! – воскликнула девушка, протягивая ему руки.
– Хулия, бедняжка моя, – ответил охотник, обняв ее и едва коснувшись губами ее лба, – тебе очень страшно было, дорогая?
– Нет, Антонио. Разве мне может быть страшно, когда я иду к тебе?
 Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди.
– А здесь, со мной, ты ничего не боишься, радость моя?
– Чего же мне бояться, когда я с тобой, Антонио? Ведь ты мой возлюбленный, мой отец, мой брат. Рядом с тобой мне ничто не страшно.
– Ребенок!
– Это правда, Антонио, ты для меня – все. Садись вот на этот пень и слушай. Раз ты сам спросил, я отвечу тебе.
Хулия уселась рядом с охотником и начала говорить, рассеянно играя длинными кудрями юноши. Свет луны скользил по смуглому лбу охотника, отражаясь в его блестящих глазах, и озарял пылающее лицо девушки.
– Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его. Ведь ангелы так добры! Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя, этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но, поверишь ли, Антонио, с тех пор как я тебя узнала и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя. Такой же красивый, отважный и добрый, он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?
– Хулия! – воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. – Хулия, мое доброе, невинное дитя!
– Ах да, – встрепенулась девушка, – что ты хотел мне сказать?
– Ничего, – ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. – Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше.
– Нет, нет. Ты был чем-то опечален, неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой? Скажи, не то мне тоже станет грустно.
– Послушай, Хулия, ты никогда не ревновала меня?
– Ревновала? А что такое ревность? Я слышала, что люди ревнуют, но не понимаю, что это значит.
– Это значит – бояться потерять меня, бояться, что я полюблю другую женщину, что другая женщина полюбит меня.
– Ах, страх потерять тебя, да, это я знаю. Люди говорят, что в лесах есть свирепые дикие быки, которые бросаются на охотников и могут убить их. И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя и я молюсь пресвятой деве. А бояться, что ты полюбишь другую или тебя кто-нибудь полюбит? О, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе: «До чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец Антонио Железная Рука!» Я с ума схожу от радости и думаю: «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни». Правда?
– Правда, Хулия, правда. А другие мужчины не говорят тебе о своей любви?
– О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно.
– Ты прелесть! И ты действительно так любишь меня?
– Очень, очень люблю. И рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня: «Антонио, я очень люблю тебя; люби меня всегда; я не могу жить без тебя; когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешения. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя? И земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его! У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины…
Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой.
Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это.
– Что случилось, Антонио? – спросила она. – Ты видишь, твои псы забеспокоились.
– Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела: эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу.
Собаки словно поняли похвалу и, завиляв хвостами, снова улеглись у ног Хулии и Антонио.
– Умницы, – сказала девушка, лаская собак. – Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил.
– О, этот пес стоит любого раба.
– Мне пора, – вдруг заторопилась Хулия.
– Так быстро?
– Да, боюсь, как бы матушка не проснулась…
– Бедная сеньора Магдалена. Мне неприятно обманывать ее.
– Верно, но она сама виновата. Любит тебя, как сына, а вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец.
– Со временем мы уговорим ее.
– Дай-то бог, но боюсь, что не удастся… Прощай…
– Прощай, Хулия, прощай. Я провожу тебя.
– Нет, нет; кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай!
Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов.
Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов, а когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса.
Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.
Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия.
Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй.
Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги.
Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя, даже не взяла с собой Титана! Они защитили бы ее, а теперь она совсем одна.
Борьба была бесполезна, кругом, куда ни глянь, – глухая лесная чаща.
– Здесь, красотка, – заявил похититель, – здесь ты скажешь, любишь ли ты меня; здесь ты станешь моей по доброй воле или насильно.
– Негодяй! – крикнула Хулия. – Нет, нет и тысячу раз нет!
– Кто же поможет тебе? – продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
– Бог, – в смертельной тоске произнесла девушка.
– Бог, – повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула. Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ.
Тут похититель, который был не кто иной, как Медведь-толстосум, проявил неожиданную отвагу. Схватив Хулию за руку, он прикрыл ее своим телом и обнажил огромный нож.
Сталь сверкнула под бледным светом луны, однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед, и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную, растерянную Хулию.
– Оставь эту девушку, – повелительно произнес незнакомец.
Но Медведь-толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул:
– А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!
– Ах! Не уходите, сеньор, – взмолилась Хулия. – Защитите меня!
– Молчи, – прорычал живодер, стиснув руку девушки.
Хулия вскрикнула от боли.
Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр, бросился он на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь-толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился наутек, приговаривая:
– Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!
– Пойдем, дитя мое, – сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. – Пойдем, я провожу тебя до дому.
Сама не зная почему, девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку.
Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь.
Оба молча направились к селению.
– Мы пришли, спасибо, сеньор, – проговорила девушка.
– Это твой дом, дитя мое?
– Да, сеньор. Прощайте.
Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила:
– Как вас зовут?
Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал:
– Джон Морган.
– Джон Морган?
– Да, но храни это в тайне. Прощай. – И, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился.
Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди.
– А здесь, со мной, ты ничего не боишься, радость моя?
– Чего же мне бояться, когда я с тобой, Антонио? Ведь ты мой возлюбленный, мой отец, мой брат. Рядом с тобой мне ничто не страшно.
– Ребенок!
– Это правда, Антонио, ты для меня – все. Садись вот на этот пень и слушай. Раз ты сам спросил, я отвечу тебе.
Хулия уселась рядом с охотником и начала говорить, рассеянно играя длинными кудрями юноши. Свет луны скользил по смуглому лбу охотника, отражаясь в его блестящих глазах, и озарял пылающее лицо девушки.
– Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его. Ведь ангелы так добры! Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя, этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но, поверишь ли, Антонио, с тех пор как я тебя узнала и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя. Такой же красивый, отважный и добрый, он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?
– Хулия! – воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. – Хулия, мое доброе, невинное дитя!
– Ах да, – встрепенулась девушка, – что ты хотел мне сказать?
– Ничего, – ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. – Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше.
– Нет, нет. Ты был чем-то опечален, неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой? Скажи, не то мне тоже станет грустно.
– Послушай, Хулия, ты никогда не ревновала меня?
– Ревновала? А что такое ревность? Я слышала, что люди ревнуют, но не понимаю, что это значит.
– Это значит – бояться потерять меня, бояться, что я полюблю другую женщину, что другая женщина полюбит меня.
– Ах, страх потерять тебя, да, это я знаю. Люди говорят, что в лесах есть свирепые дикие быки, которые бросаются на охотников и могут убить их. И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя и я молюсь пресвятой деве. А бояться, что ты полюбишь другую или тебя кто-нибудь полюбит? О, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе: «До чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец Антонио Железная Рука!» Я с ума схожу от радости и думаю: «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни». Правда?
– Правда, Хулия, правда. А другие мужчины не говорят тебе о своей любви?
– О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно.
– Ты прелесть! И ты действительно так любишь меня?
– Очень, очень люблю. И рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня: «Антонио, я очень люблю тебя; люби меня всегда; я не могу жить без тебя; когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешения. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя? И земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его! У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины…
Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой.
Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это.
– Что случилось, Антонио? – спросила она. – Ты видишь, твои псы забеспокоились.
– Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела: эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу.
Собаки словно поняли похвалу и, завиляв хвостами, снова улеглись у ног Хулии и Антонио.
– Умницы, – сказала девушка, лаская собак. – Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил.
– О, этот пес стоит любого раба.
– Мне пора, – вдруг заторопилась Хулия.
– Так быстро?
– Да, боюсь, как бы матушка не проснулась…
– Бедная сеньора Магдалена. Мне неприятно обманывать ее.
– Верно, но она сама виновата. Любит тебя, как сына, а вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец.
– Со временем мы уговорим ее.
– Дай-то бог, но боюсь, что не удастся… Прощай…
– Прощай, Хулия, прощай. Я провожу тебя.
– Нет, нет; кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай!
Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов.
Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов, а когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса.
Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.
Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия.
Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй.
Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги.
Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя, даже не взяла с собой Титана! Они защитили бы ее, а теперь она совсем одна.
Борьба была бесполезна, кругом, куда ни глянь, – глухая лесная чаща.
– Здесь, красотка, – заявил похититель, – здесь ты скажешь, любишь ли ты меня; здесь ты станешь моей по доброй воле или насильно.
– Негодяй! – крикнула Хулия. – Нет, нет и тысячу раз нет!
– Кто же поможет тебе? – продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
– Бог, – в смертельной тоске произнесла девушка.
– Бог, – повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула. Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ.
Тут похититель, который был не кто иной, как Медведь-толстосум, проявил неожиданную отвагу. Схватив Хулию за руку, он прикрыл ее своим телом и обнажил огромный нож.
Сталь сверкнула под бледным светом луны, однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед, и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную, растерянную Хулию.
– Оставь эту девушку, – повелительно произнес незнакомец.
Но Медведь-толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул:
– А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!
– Ах! Не уходите, сеньор, – взмолилась Хулия. – Защитите меня!
– Молчи, – прорычал живодер, стиснув руку девушки.
Хулия вскрикнула от боли.
Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр, бросился он на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь-толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился наутек, приговаривая:
– Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!
– Пойдем, дитя мое, – сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. – Пойдем, я провожу тебя до дому.
Сама не зная почему, девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку.
Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь.
Оба молча направились к селению.
– Мы пришли, спасибо, сеньор, – проговорила девушка.
– Это твой дом, дитя мое?
– Да, сеньор. Прощайте.
Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила:
– Как вас зовут?
Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал:
– Джон Морган.
– Джон Морган?
– Да, но храни это в тайне. Прощай. – И, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился.
IV. ОХОТНИКИ
Антонио Железная Рука взбирался по крутой тропинке в гору с такой легкостью, будто шагал по устланному коврами гладкому полу; вслед за ним весело бежали борзые. По временам он останавливался и замирал в глубокой задумчивости. Но не усталость прерывала его путь, а воспоминание о Хулии.
Вдруг псы тихонько зарычали и насторожились. Однако охотник был погружен в свои мысли и продолжал путь, не обращая на них внимания.
Собаки снова забеспокоились, и тут наконец Железная Рука очнулся.
– Эй, Тисок! Что случилось? Что с тобой, дружище? – спросил он, наклонившись к собаке.
Борзые принюхивались, повернув головы на юг.
– Что-то там происходит, – пробормотал охотник. – Эти твари никогда не ошибаются. – И он проверил, заряжен ли мушкет.
– Почем знать, может, кто из чужих заблудился в лесу. Пойти взглянуть, все равно спать уже не придется.
Антонио сжал в руке ружье, свистнул собак и ласково сказал:
– Пошли, малыши, пошли!
Собаки сорвались с места и бросились напрямик сквозь чащу, поминутно оглядываясь назад, словно желая убедиться, что хозяин следует за ними.
Первое время они бежали, не придерживаясь точного направления и беспокойно принюхиваясь. Но вот они напали на след и помчались вперед, пригнув головы к самой земле.
Теперь охотник потерял собак из виду; они скрылись среди бурелома, и только слышно было, как трещали под их лапами сухие ветки. Антонио шел следом, стараясь не отставать. Вдруг раздался неистовый лай.
– Разошлись не на шутку! – воскликнул охотник и, приготовив мушкет, со всех ног помчался туда, где заливались борзые.
Выбежав на небольшую прогалину, он сразу понял, в чем дело.
У подножия могучего гуаякана огромный бык отражал нападение Мастлы и Тисока, которые яростно скакали вокруг, пытаясь вцепиться зубами в его бока. Прижавшись крупом к стволу, бык поворачивал из стороны в сторону тяжелую голову, увенчанную мощными острыми рогами, грозя ударом, но ни на секунду не отрываясь от дерева.
Собаки увертывались от рогов и снова бросались на приступ, отчаянным лаем призывая охотника.
– Что за невидаль! – удивился Железная Рука. – Бык не бежит, а стережет дерево, словно часовой, да и псы никогда так из себя не выходили.
Обогнув лужайку, Антонио встал прямо против быка.
«Отсюда я попаду без промаха, – подумал он. – Только бы собаки оставили его на минуту в покое».
– Тисок, Мастла, сюда! – крикнул охотник. Он свистнул, и борзые, услышав знакомый сигнал, бросились к нему.
Бык, избавившись от преследования, не покинул своего поста. Напротив, он поднял голову и уставился горящими глазами на юношу.
Охотник с поразительным самообладанием вскинул мушкет и, медленно приподняв дуло, на мгновение застыл.
Сверкнула красная молния, грянул выстрел и, раскатившись по лесу, замер в глухих зарослях. Бык ринулся вперед и рухнул у ног охотника – пуля попала ему прямо в лоб. Собаки, сорвавшись с места, набросились на быка.
– Слава пресвятой деве Марии, избавившей меня от опасности, – неожиданно раздался мужской голос с вершины дерева, служившего прикрытием быку.
Охотник поднял глаза и увидел, что с дерева не без труда пытается слезть какой-то человек.
– Кто вы? Что с вами случилось? – спросил Железная Рука.
– Кто я? Неудачник, попытавшийся заняться чужим ремеслом. Не подоспей вы вовремя, мне бы конец пришел.
На человеке был охотничий костюм, а лицо его скрывалось за кожаной маской.
– Однако вы охотник? – спросил Железная Рука, указывая на его одежду.
– Нет, упаси меня бог. Я надел этот костюм просто из прихоти, и, клянусь всевышним, больше уж этого не случится.
– А что же вы сейчас собираетесь делать?
– Принести вам свою благодарность и отправиться обратно в селение, откуда мне и выходить-то не следовало.
– Ладно, идите с богом.
– Не хотите ли продать вашего быка? Ведь он ваш, раз вы его убили.
– Хочу. Цену вы, очевидно, знаете.
– В таком случае отметьте тушу, а завтра утром я за ней пришлю.
Железная Рука вытащил короткий нож, отрезал у быка уши и, протянув их покупателю, сказал:
– Ну вот, теперь он ваш.
– Отлично. Деньги получите завтра в таверне «У черного быка». А как вас зовут?
– Меня называют Железная Рука, – ответил юноша.
Тут собеседник вздрогнул, словно его укусил скорпион.
– Что с вами? – спросил охотник.
– Ничего, ничего. Нездоровится. Должно быть, от волнения и ночной сырости.
– Возможно, – согласился юноша. Он снова зарядил мушкет, с невозмутимым воинственным видом вскинул его на плечо, свистнул собак и скрылся в лесу, не произнеся более ни слова.
Мнимый охотник остолбенел, сжимая в руке бычьи уши.
– Вот поди же! – воскликнул он. – Сущие чудеса! Думал ли я, что меня спасет тот самый человек, у которого я чуть было не отбил девчонку. О, если бы он знал, то наверняка всадил бы пулю в мой лоб и уши отрезал не у быка, а у меня. Надо быть начеку! Итак, сегодня ночью Хулию спас сам дьявол, явившийся невесть откуда, а меня спас жених Хулии… Но что касается девчонки, рано или поздно она будет моей. – И, зажав в руке бычьи уши, живодер отправился в селение, непрерывно озираясь по сторонам, в страхе перед новой встречей с быком или охотником.
День уже занимался, когда Железная Рука добрался до горного убежища бесстрашных охотников.
В глухих лесных дебрях стояли сплетенные из пальмовых листьев шалаши, опорой им служили могучие стволы кедров, пальм и гуаяканов. Тут проводили охотники дни своей суровой жизни, преследуя быков и вепрей, отсюда спускались они в селения и города острова, чтобы сбыть кожи и мясо живодерам, земледельцам или морякам.
Охотники были хозяевами почти всего обширного острова Эспаньола. Отважные и закаленные, они отлично знали свой край и не боялись ни дикого зверя, ни грозы, ни чумы, ни испанских солдат, стоявших в Санто-Доминго и Альта-Грасиа.
Под властью испанцев находилась всего лишь треть острова, остальную территорию занимали охотники и земледельцы, не признававшие никакого закона, а при случае даже выполнявшие повеления французских королей.
Железная Рука подошел к своему шалашу, который по убранству мало чем отличался от остальных: бычьи шкуры, кое-какое оружие, несколько древесных пней, заменявших стулья и стол.
Против ожидания юноша застал всех охотников в сборе. Они с жаром о чем-то беседовали, поедая свое неизменное блюдо – жаренное на вертеле мясо и подобие салата из нежных побегов пальмы.
Очевидно, Железная Рука пользовался среди охотников большим уважением, ибо, завидев его, все поднялись, уступая ему место.
– Наконец-то ты пришел, – сказал один из охотников. – А мы уж удивлялись, почему тебя нет.
– Я всю ночь пробродил по лесу, – небрежным тоном ответил мексиканец.
– Недавно мы услыхали выстрел, – заметил другой охотник, – и Ричард уверял, что это стреляешь ты. Он говорил, будто всегда угадает по звуку твое ружье.
– Я и сейчас это говорю, – откликнулся Ричард.
– Ты прав, – сказал Антонио. – Я подстрелил бычка там внизу. Но почему вы все еще не спите?
– У нас важные новости, – ответил Ричард.
– Новости? Какие же?
– Сегодня вечером к нам приходил Джон Морган.
– Джон Морган? – воскликнул пораженный Антонио.
– Он самый, – с гордостью подтвердил Ричард.
Для того чтобы читатель понял магическое воздействие имени Джона Моргана на этих железных людей, следует сказать несколько слов о человеке, который будет играть немалую роль в нашем повествовании.
Джон Морган родился в Англии, в Уэльсе. Его отец был почтенным и богатым земледельцем, но юноша не питал склонности к сельскому хозяйству, он мечтал о море и опасных приключениях. Нанявшись юнгой на судно, он отправился на остров Барбадос, а там владелец судна продал его в рабство. Моргану удалось добиться свободы и перебраться на Ямайку, где он присоединился к пиратам, которые к тому времени уже начали тревожить испанский флот.
Легендарная отвага, беспримерная щедрость и неизменно сопутствующая ему удача вскоре сделали Джона Моргана любимым героем всех пиратов, а также населявших Антильские острова охотников и земледельцев, которые только и ждали его призыва, чтобы встать под черное пиратское знамя. Джон Морган был не просто вождем этих людей, он был их мессией.
Дело в том, что земледельцы, пираты и охотники не были дикарями, живущими вне общества, не задумываясь о будущем. Нет, их всех объединял высокий политический замысел, который ждал лишь появления вождя, чтобы воплотиться в жизнь. Эти люди мечтали завладеть Антильскими островами и создать там могучую державу, независимую от власти Франции, Испании и Англии.
Один за другим острова должны были подпасть под владычество пиратов, но прежде всего предполагалось захватить Эспаньолу и Тортугу.
Большой и богатый остров Эспаньола и без того был почти целиком в руках земледельцев и охотников; пиратам же предстояло овладеть островом Тортугой.
Франция хорошо понимала, какие преимущества давало Испании господство над Антильскими островами. Поэтому она поддерживала, хотя и втайне, замыслы пиратов и даже направила под водительством Ле Вассера судно с войсками, чтобы содействовать изгнанию испанцев с острова Тортуги.
Таким образом, все недовольные ждали только вождя, чтобы открыть военные действия против испанских колонистов, против испанского торгового и военного флота. Такого вождя они нашли в Джоне Моргане.
Вот почему все, даже мексиканец Железная Рука, загорались воодушевлением при одном только имени знаменитого пирата.
– Так он был здесь? – снова спросил Железная Рука.
– Здесь, на том самом месте, где ты стоишь.
– И что же он сказал?
– Вот это и есть самое главное. Он пришел известить нас, что готовит восстание и ему нужны люди и продовольствие.
– Превосходно! – в восторге воскликнул мексиканец.
– Он обещал нам год, богатый событиями и приключениями, сулил знатную поживу на море и на суше. Одним словом, он готов перевернуть весь мир.
– Великолепно! А вы что ответили?
– Одни взялись обеспечить его продовольствием, другие решили идти вместе с ним.
– А ты, Ричард?
– Я? Я иду с ним!
– Я тоже, – воскликнул Железная Рука. – Где мы с ним встретимся?
– Завтра вечером в Сан-Хуан-де-Гоаве. Но надо хранить тайну, чтобы ничего не дошло до ушей испанского губернатора.
– И что же дальше?
– Если ты решил присоединиться к нам, я все тебе расскажу.
– Я решил.
– Отлично. Завтра, едва стемнеет, отправимся в селение.
Охотники продолжали оживленно беседовать. Железная Рука вошел в свой шалаш, растянулся на бычьей шкуре, собаки улеглись рядом, и он крепко заснул.
V. СЕНЬОРА МАГДАЛЕНА
В селении Сан-Хуан-де-Гоаве всегда жило много народу, но народ это был бродячий, одни приходили, другие уходили, никто не заживался подолгу. Сан-Хуан был как бы столицей и главным штабом охотников, туда толпами стекались женщины легкого поведения, которых всегда влечет звон золота, а золото лилось тут рекой.
Легко понять, что в Сан-Хуане было немало красивых девушек, но ни одна из них не могла соперничать с Хулией, которая славилась не только своей красотой, но также скромностью и целомудрием, снискавшими ей всеобщее уважение.
Хулия, как все порядочные девушки, сторонилась шумного сонма погибших созданий и водила знакомство только с почтенными семействами селения. Недовольные такой замкнутостью, которая казалась им высокомерием, веселые девицы окрестили Хулию «Принцесса-недотрога».
Отец Хулии, французский моряк, умер от чумы вскоре после того, как переселился на Эспаньолу вместе с дочерью и женой, сеньорой Магдаленой, как называли ее в селении.
На деньги, оставшиеся ей от мужа, сеньора Магдалена купила домик в Сан-Хуане и посвятила себя воспитанию дочери и торговле кожами. В обоих этих занятиях ей сопутствовала удача. Хулия была настоящий ангел, а бедность никогда не заглядывала к ним в дом.
Сеньоре Магдалене было лет сорок, но выглядела она тридцатилетней, и в селении находилось немало охотников поухаживать за ней. Но до сих пор никто из них не мог похвалиться ее благосклонностью; правда, никто и не заговаривал с цветущей вдовушкой о женитьбе.
Одним из самых влиятельных жителей Сан-Хуана был, несомненно, Исаак, хозяин таверны «У черного быка». Друг христиан во всем, что могло принести ему выгоду, Исаак был центром сложных любовных интриг, хранителем всех тайн, связанных с замыслами пиратов, и, кроме того, ростовщиком. Понятно, что, обладая подобными достоинствами, он был всем известен и всем необходим.
Таверна Исаака была построена так ловко, что в ней хватало места и для свидания влюбленных, и для заговора пиратов, и для трапезы охотников, причем все чувствовали себя в полной безопасности и так мало мешали друг другу, словно одни находились в Испании, а другие – на Ямайке или Тортуге.
Невзирая на все вышесказанное, Исаак пользовался высоким доверием испанского губернатора, которому сумел внушить, что является его агентом и может сообщать ему о всех замыслах пиратов и охотников, к тому времени ставших пугалом для испанской короны.
На следующий день после свидания Хулии с ее возлюбленным в Пальмас-Эрманас таверна «У черного быка» была почти пуста, и Исаак без помехи разливал из бочонка вино, благоразумно подбавляя в каждую бутылку малую толику воды.
В дверь постучали. Поспешно спрятав воду, Исаак крикнул:
– Войдите!
На пороге появился Педро-живодер.
– Да благословит вас Господь, – увидев его, лицемерно воскликнул старик.
– Добрый день, маэсе Исаак, – сказал Медведь-толстосум, не снимая шляпы, – ты один?
– Один и готов служить вам.
– Отлично. Брось-ка все это, садись, побеседуем.
Исаак забил втулку, придвинул живодеру табурет, а сам уселся на бочонке.
– К вашим услугам, – сказал он.
– Прежде всего довожу до твоего сведения, что ночная затея не удалась.
– Не удалась? Почему? Девушка не пришла на свидание?
– Прийти-то она пришла. Но случилась одна вещь… В общем, тебе дела нет до того, что случилось, и я не собираюсь тебе рассказывать. Просто ничего не вышло. Что теперь делать?
– Что делать? Не так-то легко сказать. Особенно когда не знаешь, что же произошло ночью.
– А вот этого ты не узнаешь, любопытный мошенник.
– Нет, сеньор, ничуть я не любопытен. Но мне бы следовало знать, в чем дело, не то я могу дать вам неподходящий совет.
– Ладно, ладно, давай свой совет, а я сам тебе скажу, подходит он мне или не подходит.
– Воля ваша. Вы твердо решили сделать эту девушку своей?
– Да.
– И ради этого готовы пожертвовать чем угодно?
– Да, лишь бы только не пришлось драться на ножах с этими проклятыми охотниками.
– Понятно. Сейчас я вам предложу единственный возможный план. А вы сами скажете, не слишком ли это дорогая цена за девчонку.
– Посмотрим.
– Главная помеха на вашем пути к желаемой цели – этот проклятый охотник Железная Рука, которого любит Хулия, не так ли?
– Именно так.
– А если бы не было ни его, ни сеньоры Магдалены и вы оказались бы с Хулией один на один, все бы вышло по-вашему?
– Без всякого сомнения. Ты, я вижу, не дурак.
– Значит, надо найти удобный случай…
– Вот, вот, удобный случай.
– Тогда женитесь на сеньоре Магдалене.
– Пречистая дева Мария! – подскочив на месте, воскликнул Медведь-толстосум. – Да ты с ума сошел или вздумал смеяться надо мной!
– Спокойствие, сеньор. Ни то, ни другое. Сеньора Магдалена не так уж стара или безобразна, чтобы вы пренебрегли ею, не будь вы влюблены в дочку.
– Пожалуй.
– Вы женитесь на сеньоре Магдалене, уедете с острова, отправитесь в Мексику или Панаму с обеими женщинами, а дорогой матушка может умереть или свалиться в воду, и вы останетесь один с девчонкой, далеко от всех охотников мира, да к тому же ещеполучите двойную выгоду – позабавитесь и с матерью и с дочкой. Признаться, мне самому очень нравится сеньора Магдалена, может быть, потому у меня и родился этот план.
Живодер задумался. Дело показалось ему достойным внимания.
Наконец он поднял голову.
– Ну что ж, все это не плохо, совсем не плохо. Будущая супруга мне не противна, а с этого проклятого острова так или иначе пора убираться; с этими дьяволами только и знаешь, что дрожишь за свою жизнь. Денег у меня хватит… но… как вы думаете, согласится ли сеньора Магдалена?
– Вот это уж зависит от того, как вы приметесь за дело.
– А как бы это сделать половчее? Начну, пожалуй, нежно поглядывать на нее, вздыхать с томным видом…
– Ну, этак-то вы просто останетесь в дураках. Женщину ее возраста этим не возьмешь, если речь идет о браке. Она высмеет вас, как мальчишку.
– Тогда как же?
– Берите ее на абордаж, без боковых заходов, без ухаживаний! Придите к ней домой, попросите разрешения поговорить с ней наедине и прямо так и выкладывайте, что для вас обоих ничего не может быть лучше, чем пожениться и уехать с этого острова. Предложите ей руку, и я уверен, что она немедля согласится.
– А если она скажет, что не любит меня?..
– Даже если она скажет, что обожает вас, не обольщайтесь. Тут не может быть других соображений, кроме выгоды. А в ее возрасте и при ее обстоятельствах брак с таким человеком, как вы, ей выгоден, уж можете мне поверить.
– А если ничего не выйдет?
– О, тогда и подумаем, что делать дальше. А пока смелей, и на абордаж!
– Правильно, завтра же пойду.
– А почему бы не сейчас?
– Сейчас?
– Почему же нет? Чем скорее, тем лучше. Сомнение – самая страшная из мук ада.
– Правильно. Сейчас и пойду.
И, решительно встав с места, живодер вышел из таверны.
Сеньора Магдалена с иглой в руках сидела в саду у дверей дома. Рядом с ней Хулия тоже занималась шитьем. Должно быть, они вели беседу о каких-то серьезных и важных делах, ибо не раз то одна, то другая, глубоко задумавшись, роняла работу на колени.
– Больше всего тревожит меня, – говорила сеньора Магдалена, – мысль о том, что в нежданный день Господь призовет меня к себе и ты, такая юная, останешься одна, без помощи и защиты.
– Не говорите так, матушка, – возражала Хулия. – Вы полны сил и еще молоды. Не скоро придет этот страшный день.
– Не думай, что смерть настигает только стариков. Могу умереть и я. Может быть, живи мы в другой стране, я так не боялась бы за тебя. Но здесь, среди этих людей… О, если бы мы могли уехать отсюда, я умерла бы спокойно, даже зная, что оставляю тебя круглой сиротой.
– Не убивайтесь так, матушка…
– Если бы ты, по крайней мере, вышла замуж, устроила свою жизнь…
Девушка зарделась.
– Но за кого можно выйти замуж на этом острове? – продолжала сеньора Магдалена. – Если и есть здесь какие-нибудь молодые французы, то они тоже охотники, а разве можно отдать девушку за кого-нибудь из этих ужасных людей?
Тут Хулия так побледнела, что мать, без сомнения, заметила бы это, если бы ее внимание не отвлек неожиданно появившийся в саду человек.
То был Педро-живодер. Он подошел поближе и вежливо, хотя и не без некоторого смущения, поклонился.
– Простите, – обратился он к сеньоре Магдалене, – что я осмелился без приглашения прийти к вам в дом, но мне необходимо поговорить с вами о важном деле.
– Говорите, сеньор, – ответила сеньора Магдалена.
– Я хотел бы поговорить с вами наедине.
Мать подала знак Хулии, и девушка немедля удалилась.
– Можете говорить, – сказала сеньора Магдалена.
– Так вот, сеньора, – начал Педро, запинаясь и ерзая на табурете, – дело в том… что… что… по правде говоря, я не знаю, с чего и начать.
– Говорите же, – улыбаясь, подбодрила его сеньора Магдалена.
– Так вот, сеньора, человек я честный и работящий.
– Без сомнения.
– Я довольно богат.
– Верю.
– Я не молод, но и не стар.
– Это всякому видно.
– И я хотел бы, то есть… мне подошло бы… вернее, мне надобно… в общем, я хочу жениться.
– Очень разумное желание.
– Еще бы не разумное. Но дело в том… что женщина… то есть дама, которую я избрал… которая, прямо говоря, мне подходит, это – вы… Вот я все и сказал…
Сеньора Магдалена ждала, что он попросит у нее руки Хулии, и уже готова была ответить презрительным смехом, но, узнав, что речь идет о ней самой, она онемела.
Медведь-толстосум вертел в руках шляпу, явно чувствуя себя не в своей тарелке.
– И вы говорите это вполне серьезно? – спросила наконец сеньора Магдалена.
– Да, сеньора. Я хорошо все обдумал и полагаю, что этот брак выгоден нам обоим.
– Выгоден обоим? Почему же?
– Судите сами, сеньора. Ни вы, ни я уже не молоды, и нам не нужны все эти детские ухаживания. Не правда ли?
– Совершенно верно.
– А между тем и я не могу больше жить один и вам нужен мужчина, который заботился и пекся бы о вас и вашей дочери… Что ж… в конце концов… я кое-чего стою. Есть у меня капиталец, человек я работящий, а вы, женщина хозяйственная, опытная… да и личико у вас свежее и румяное, словно у пятнадцатилетней девочки…
Сеньора Магдалена залилась краской, но, несомненно, была польщена.
– Говорю вам, – продолжал живодер, – нам обоим выгодно пожениться и покинуть этот остров. В самый негаданный час здесь такое начнется… Ведь один бог знает, чего можно ждать от этих людей… А нам и без того здесь не сладко… Что же вы скажете на это?
– Вы сами понимаете, – проговорила сеньора Магдалена, – что на такой вопрос сразу не ответишь. Мне необходимо подумать. Откровенно говоря, я никогда не помышляла о вторичном замужестве. Кроме того, вы, испанцы, как мужья не внушаете мне большого доверия.
– Ах, сеньора, вы предубеждены. Примите мое предложение, и вам не придется раскаиваться. Очень скоро вы убедитесь, что как муж я стою не меньше лучшего из французов.
– Хорошо, я подумаю. Вы узнаете о моем решении…
– Сегодня вечером?
– Нет, не так быстро. Через три дня.
– О сеньора! Это слишком долго. Изберем золотую середину между вашей осторожностью и пожирающим меня нетерпением. Завтра я узнаю ваше решение, и, смею надеяться, оно будет благоприятным.
– Этого я сама еще не знаю. Но чтобы показать свою сговорчивость, я согласна, приходите завтра.
– Утром?
– Нет, вечером.
– Будь по-вашему. До завтра.
– До завтра.
Живодер вышел на улицу в отличном настроении.
«Признаться, вдовушка тоже недурна, – думал он. – Пожалуй, не вскружи мне голову эта девчонка, я был бы весьма доволен. Все мы, мужчины, таковы!»
После его ухода сеньора Магдалена глубоко задумалась и до самого вечера не произнесла ни слова. Хулия с беспокойством наблюдала за ней и ломала себе голову, пытаясь догадаться, чем мог этот человек так взволновать ее мать.
Уже стемнело, когда сеньора Магдалена позвала дочь к себе и плотно закрыла дверь. Девушка дрожала от страха: а вдруг мать узнала о ее любви к Антонио?
– Дочь моя, – начала сеньора. – Мне нужно сообщить тебе важную новость.
– Какую, матушка?
– Ты сама понимаешь, доченька, что живем мы тут одни, без защиты, без поддержки, одним словом, без мужчины в семье…
– Да, матушка.
– Что со всех сторон нам грозит опасность, особенно тебе, такой молодой и красивой…
Хулии показалось, что она догадывается, в чем дело.
– Значит, надо нам смириться перед судьбой, надо, чтобы к нам в семью вошел мужчина как наш законный защитник и увез нас с этого острова.
– Матушка! – воскликнула Хулия, уверенная, что ее хотят выдать замуж.
– Дочь моя, Хулия, так надо. Я понимаю твои чувства, но это необходимо.
– Но, сеньора!.. – начала Хулия и разразилась слезами.
– Не мучай меня, доченька, мне и самой это нелегко. Но так лучше для нас обеих, и я твердо решила выйти замуж.
– Ах! – воскликнула девушка, чувствуя, как камень свалился с ее сердца.
– Что ты об этом думаешь?
– Сеньора, вы сами себе госпожа. Если вы довольны своим выбором, то буду довольна и я.
– Я все обдумала и вижу, что в этом единственная надежда уехать отсюда.
– А кто же, сеньора, человек, заслуживший ваше доверие?
– Ах, дочь моя, я ничего от тебя не скрою. Он приходил к нам сегодня днем.
– Педро!
– Он самый. Он человек порядочный, хотя и грубоватый… Тебе он не нравится?
– Если он будет любить вас и вы будете счастливы, матушка, я полюблю его, как родного отца.
– Да благословит тебя бог!
Сеньора Магдалена поцеловала Хулию в лоб и, успокоенная, вышла из комнаты.
В эту ночь сеньора Магдалена, вновь почувствовав себя невестой, видела счастливые сны.
VI. ВЕРБОВКА
Живодер Педро Хуан де Борика так и сиял от радости, покидая дом вдовы Лафонт.
Он считал дело улаженным и понимал, что срок, назначенный сеньорой Магдаленой, означал лишь соблюдение приличий. До вечера он успел сообщить о предстоящей женитьбе всем, кого только ни встретил из своих знакомых, и, полагая, что эта сделка им кажется столь же удачной, как и ему, совсем возгордился своей победой.
Разумеется, на деле было не так. Все потешались над помолвкой глупого, трусливого урода с пожилой вдовой, и весь вечер в селении только и было разговору, что о будущей свадьбе Педро и сеньоры Магдалены.
В этот вечер, против своего обычая, почти все охотники собрались в таверне «У черного быка». Они пили, курили и беседовали так беззаботно, словно на острове Эспаньола не осталось ни одного быка.
Исаак, разумеется, был безмерно доволен, вечер сулил ему богатую поживу. Но, вероятно, он принадлежал к немногим в селении, кто не удивлялся этому неожиданному сборищу.
За одним из столов, несколько в стороне от других охотников, сидели, увлеченные беседой, Антонио Железная Рука и его друг Ричард.
– Я вижу, ты неверно рисуешь себе ту жизнь, какую предлагает нам Джон Морган, – говорил англичанин. – Чего ты боишься – опасности или наказания?
– Ни того, ни другого, – ответил Железная Рука.
– Тогда что же удерживает тебя от участия в нашем деле? Ты страдаешь морской болезнью?
– Нет, нисколько. Но непреодолимые препятствия мешают мне покинуть остров.
– Скажи какие?
– Невозможно.
– Ладно, ты разрешаешь мне угадать?
– Да.
– Но с условием: если я угадаю, ты не станешь отпираться.
– Согласен.
– Слушай же: ты не хочешь покидать остров, потому что ты влюблен.
– Ричард!
– Ты не отрицаешь, значит, это правда. Кроме того, влюблен ты в Хулию, прекрасную француженку, Принцессу-недотрогу.
– Черт возьми! Правда.
– Однако раньше ты отрицал это. Теперь я понимаю, почему ты так взволновался, когда вчера я сказал тебе о тайном сопернике.
– Ты прав, но объясни мне…
– К счастью, я могу тебе сообщить самые успокоительные сведения и надеюсь, они повлияют на твое решение.
– Говори.
– Так вот, знаешь ли ты Педро Хуана де Борику?
– Как же – Педро-живодер, Хуан Медведь-толстосум, испанец. Ему бы надо родиться быком или обезьяной.
– Он самый. Так вот несколько дней назад я узнал, что он повадился бродить вокруг дома твоей Хулии.
– Гром и молния! – прорычал Железная Рука, вскочив, как тигр.
– Спокойно, спокойно, дорогой сеньор, – невозмутимо продолжал Ричард.
– Тебя бы следовало называть не Железная Рука, а Пороховое Сердце. Садись и слушай.
– Но этот жалкий шут смеет посягать на мою святыню…
– О, право, я пожалел бы тебя, если бы это было так.
– Тогда ж чем же дело?
– Выслушай меня, и ты все поймешь.
Железная Рука сел, чувствуя, как бушует буря гнева в его сердце.
– Когда Медведь-толстосум стал кружить, как ворон, вокруг дома Хулии, – продолжал англичанин, и Железная Рука снова чуть не вскочил с места, – то, поскольку единственной молодой, красивой, привлекательной особой там была твоя Хулия, все сразу смекнули: «Он охотится за Хулией». Я и сам так подумал. Но теперь все разъяснилось, и мы узнали поразительную новость: Педро-живодер, Хуан Медведь-толстосум, женится на почтенной сеньоре Магдалене, вдове Лафонт.
– Неужто! – воскликнул озадаченный охотник. – Да, может быть, это клевета или шутка?
– Все уже знают об этом, кроме тебя, хотя ты должен бы узнать первый.
– Но это невозможно. Хулия рассказала бы мне.
– Наверное, она сама не знала. Когда ты говорил с ней?
– Вчера вечером.
– А это все произошло сегодня.
– Я поражен.
– Кроме того, могу сообщить еще одну интересную для тебя новость.
– Говори.
– Свадьбу сыграют очень скоро, и счастливая парочка, захватив, разумеется, Хулию, покинет остров, чтобы пустить корни в Мексике или Гватемале.
– Этого не может быть. Хулия не могла бы скрывать от меня…
– Уверяю тебя, это правда. А если Хулии не будет, зачем тебе тут оставаться. Не лучше ли столковаться с Джоном Морганом?
– И в самом деле, – задумчиво отвечал Железная Рука, – но я должен удостовериться…
– Вот это правильно. Проверь все как следует, и если больше ничто тебя не удерживает, то какого дьявола! Отправляйся с нами.
– Да, да. Пойду поищу Хулию, пусть сама мне скажет.
– Ступай, поговори с ней. Но торопись, не забудь, сегодня ночью Морган назначил встречу всем, кто хочет принять участие в деле, а завтра на рассвете он уходит в море.
– Бегу и скоро вернусь. А если я уже не застану тебя?
– Исаак скажет тебе, где можно нас найти.
– Прощай!
И мексиканец, надев шляпу, вышел из таверны.
– Жаль, если Железная Рука не примкнет к нам, – сказал Ричард. – Он умен и отважен.
– А разве он отказывается? – спросил какой-то охотник.
– Надеюсь, теперь не откажется. Были у него помехи, но все уже позади, и, думаю, он будет с нами.
– Это находка! – откликнулся охотник, опорожнив стакан агуардьенте. И все принялись пить, не вспоминая больше о Железной Руке.
Ночь стояла темная. Молодой охотник подошел к дому Хулии, не встретив никого на своем пути. В доме еще не спали, окна были открыты, и из них лился свет.
Обойдя вокруг ограды, Антонио остановился там, где она была пониже, а на земле лежал большой камень, оказавшийся здесь, разумеется, не случайно.
Юноша стал на камень и заглянул в сад. Прямо перед ним было освещенное окно.
Железная Рука засвистал, подражая пению дрозда, и почти в тот же миг в окне появился темный силуэт Хулии.
Заметив ее, охотник снова свистнул. Хулия отошла от окна, но тут же вернулась со свечой в руке и, дунув на огонь, погасила ее. Комната погрузилась в темноту.
На условном языке влюбленных это означало: «Моя матушка еще не спит. Жди, я выйду к тебе».
Охотник отошел от изгороди и уселся неподалеку от лазейки, через которую выскользнула прошлой ночью Хулия. Сидел он долго, не шелохнувшись. Он был уверен, что Хулия еще не может выйти, и терпеливо ждал.
Наконец зашелестела трава, и Антонио услышал тихий голос:
– Ты здесь, Антонио?
– Здесь, Хулия, – ответил, подойдя к ней, охотник.
– Время терять нельзя. Матушка не спит, она очень взволнована, а мне нужно столько сказать тебе.
– Что случилось? – спросил Железная Рука, делая вид, что ничего не знает.
– Что случилось? Плохие новости. Сегодня матушка сказала мне, что решила выйти замуж.
– Замуж? Но за кого?
– За отвратительного человека, за Педро Хуана де Борику.
– Уж не сошла ли с ума сеньора Магдалена?
– Это еще не все, Антонио; самое ужасное, что мы покидаем остров, а это убьет меня. – И Хулия залилась слезами.
– Хулия, дорогая, не плачь, – утешал ее охотник. – Ты слишком добра, чтобы бог оставил тебя без помощи.
– Не видеть тебя! О боже мой, боже мой! Какое горе!
– Но, Хулия, как все это произошло?
– Не знаю, ничего не знаю. И не знаю, как только я не разрыдалась, когда матушка мне обо всем рассказала.
– О Хулия! Нас невозможно разлучить, ты никуда не уедешь!
– А кто может помешать этому? – раздался чей-то голос за спиной Хулии. Хулия испуганно вскрикнула, она узнала голос сеньоры Магдалены.
– Антонио, – повелительно произнесла сеньора Лафонт, – напрасно питаете вы страсть, которой я не одобряю. Вы никогда не станете мужем Хулии.
– Почему, сеньора? – спросил Антонио, который взял себя в руки, услышав, что сеньора Магдалена говорит спокойно.
– Потому что каждая мать желает добра своему дитяти, а я не знаю, ни кто вы, ни кто ваши родители и ваши предки. Я любила вас, как друга. Но этого мало, чтобы доверить вам будущее моей дочери. Да и та жизнь, какую вы ведете, не внушает мне спокойствия. Вы понимаете, что я хочу сказать?
– Да, сеньора, – ответил охотник.
– Хулия, иди в свою комнату, – строго приказала сеньора Магдалена.
Хулия заколебалась, умоляюще посмотрела на мать, но, увидев непреклонное выражение ее лица, опустила голову и, рыдая, направилась к дому.
– Сеньора! – грозно крикнул Железная Рука, едва сдерживая ярость. – Сеньора!
– Вы угрожаете мне? Что ж, очень хорошо. Угрожайте слабой, беспомощной женщине, матери, которая на основании священных прав требует покоя для своей дочери. Грозите ей, ударьте ее – это подвиг, достойный охотника, известного под кличкой Железная Рука.
– Сеньора! – снова воскликнул юноша, не зная, что и говорить.
– К вам относились в нашей семье, как к сыну, а вы соблазнили мою дочь и за благородную, бескорыстную любовь хотите отплатить разорением и горем.
– Сеньора, я люблю Хулию и хочу назвать ее своей женой.
– А какое имя дадите вы бедной девочке, если все знают вас только под прозвищем Железная Рука?
– Сеньора, я не менее знатен и богат, чем принц крови.
– Назовите тогда свое родовое имя, объясните, почему скитаетесь вы здесь, разделяя дикую, бродячую жизнь охотников?
– Впоследствии вы все узнаете.
– В таком случае впоследствии вы и сможете мечтать о руке дочери Густава Лафонта. А пока, если вы действительно дорожите спокойствием и честью Хулии, оставьте ее.
– Но ради бога…
– Я все сказала, – остановила его сеньора Магдалена и удалилась, не произнеся более ни слова.
Охотник долго стоял в задумчивости. Наконец, словно приняв решение, он тряхнул кудрявой головой.
– Пусть так: впоследствии! – сказал он и хотел уже уйти, как перед ним снова появилась Хулия.
– Антонио, – проговорила девушка, рыдая, – неужели нет надежды?
– Верь, Хулия, все равно ты будешь моей.
– Против воли матушки? Никогда.
– Мы уговорим ее.
– Когда?
– Очень скоро, если ты обещаешь не забывать меня.
– О, никогда, никогда!
– Тогда верь мне, мы будем счастливы.
– Прощай, – сказала Хулия, – поцелуй меня последний раз.
– Прощай, – ответил охотник, прижавшись губами к ее лбу.
– Прощай, – повторила Хулия и, поцеловав руку Антонио, бросилась бегом обратно в сад.
– Ты будешь моей женой, и скоро! – крикнул охотник ей вдогонку и решительно направился в таверну «У черного быка».
Когда он пришел туда, в таверне было пусто, чадный огонек едва мерцал в светильнике, свисавшем с потолка на позеленевшей медной цепочке.
– Исаак, маэсе Исаак! – крикнул охотник.
Дверь скрипнула, и на пороге показался Исаак.
– Ах, это вы! – сказал он. – А я уже собирался запирать, думал, вы не придете.
– Где они ждут меня?
– Поглядите туда, – сказал еврей, выйдя с ним вместе на улицу. – Видите вон там, прямо, рощицу?
– Да.
– Справа от нее будет тропинка. Идите и идите по ней, пока не наткнетесь на развалины. Там и найдете то, что ищете.
– Отлично, – ответил охотник и зашагал в указанном направлении.
Неподалеку от дома действительно росла купа деревьев, а справа от нее вилась в траве тропинка. Луна светила достаточно ярко, чтобы не сбиться с дороги, к тому же охотник знал тут каждую пядь. Он пересек небольшой луг и снова оказался среди деревьев, но тропинка бежала вперед, не прерываясь. Пройдя еще немалое расстояние, Антонио внезапно увидел перед собой какое-то мрачное строение.
– Здесь, – сказал он. – Поищем входа.
Едва он собрался обойти вокруг ограды, как кто-то окликнул его по имени. Антонио узнал голос англичанина.
– Как дела, Антонио? – нетерпеливо спросил Ричард.
– Я – с вами.
– Дай руку, ты настоящий мужчина. Теперь идем к Моргану, он ждет тебя.
– Разве он меня знает?
– Он много о тебе слышал.
– Пошли.
Они пересекли большой двор, заросший травой и кустарником, потом – заброшенные, освещенные лишь лунным светом комнаты с обвалившимися потолками, и очутились, наконец, перед открытой дверью, из которой падали дрожащие красные отсветы.
– Здесь? – спросил Железная Рука.
– Дальше.
Они вошли в просторное помещение, озаренное огнем, пылавшим в большом очаге. Вокруг него сидели какие-то люди, жарившие на вертелах разрубленные на куски бычьи туши. Никто не оглянулся на вновь прибывших.
Англичанин и Железная Рука, пройдя через всю комнату, оказались перед другой дверью, за ней слышался разноголосый шум.
– Здесь, – сказал англичанин.
Он толкнул дверь, мексиканец последовал за ним и увидел перед собой многолюдное и весьма необычное сборище.
Комната, чуть поменьше соседней, лишенная всякой обстановки, была заполнена толпой охотников, моряков, земледельцев, живодеров. Кто сидел на камне, кто на своем плаще, а кто и просто на полу. Посередине стоял Джон Морган, опершись на один из деревянных столбов, поддерживающих кровлю. Яркий свет факелов озарял эту сцену.
Крутой высокий лоб и горящие глаза сразу обличали в Моргане главаря всех собравшихся, правда, об этом можно было догадаться и по глубокому почтению, чуть не восторгу, сквозившему в каждом устремленном на него взгляде.
При виде Железной Руки Морган приветствовал его изысканным поклоном, показавшим, что человек этот отличался по своему воспитанию от окружающей его толпы.
Антонио Железная Рука занял место рядом с другими, Морган продолжал свою речь среди почтительного молчания.
– Я задумал, – говорил грозный пират, – великий план. Ваша отвага поможет мне быстро осуществить его. Вы знаете, что Мансвельд, наш бывший адмирал, скончался. Губернатор Большой Земли Хуан Перес де Гусман одержал над нами победу у острова Санта-Каталина. Но я обещаю вам отомстить за это поражение. Нам достанутся все острова, принадлежащие сейчас испанцам. Нашими будут все города и селения на побережье. Мы станем хозяевами и владыками Антильского моря, хозяевами и владыками всех морей, омывающих берега Индий. Я обещаю вам: золота, женщин – всего будет у вас в изобилии. Но для этого нужно, чтобы вы шли за мной и помогали мне, чтобы я полагался на вас, как на свою руку и свое сердце, чтобы я мог приказывать вам, как своей руке и своей шпаге, управлять вами, как управляю своим кораблем. Согласны ли вы?
– Да здравствует адмирал! – раздался общий восторженный крик.
Долго не мог Морган сдержать разноголосый гам. Наконец все успокоились, и Морган продолжал:
– Как вы знаете, у нас существует обычай скреплять договор своей подписью. Каждый из вас должен прихватить с собой нужное количество пороха и пуль. Прежде всего вам придется внести долю на жалованье судовому плотнику и врачу. Что касается судов, то вы их получаете даром – целая флотилия стоит у меня наготове. Тот, кто потеряет в сражении правую руку, получит в возмещение шестьсот песо или шесть рабов; если левую – пятьсот песо или пять рабов, столько же за правую ногу; за левую ногу – четыреста песо или четырех рабов; за один глаз – сто песо или одного раба. Эти суммы выплачиваются из общей добычи в первую очередь. Затем капитан получает долю, равную доле пяти человек. Остальное делится поровну между всеми. Вот мои условия. Договор готов. Подписывайте!
Один из сопровождавших Моргана людей развернул большой пергамент и достал чернильницу с несколькими перьями.
– Вы – первый, – обратился Морган к Антонио.
Железная Рука взял перо и подписался. Пират наклонился, чтобы прочесть его подпись, но увидел лишь: «Антонио Железная Рука».
Все собравшиеся подходили один за другим и скрепляли договор своей подписью. Неграмотные ставили крест, а имя писали за них товарищи.
Когда обряд был закончен, Морган заговорил снова:
– Теперь вы торжественно скрепили наш договор. Как выполняем мы договоры, вам известно. Через две недели у мыса Тибурон, на западном побережье острова, появится корабль, и корабль этот всех вас примет на борт. Условным знаком будет желтый вымпел на фок-мачте, пароль – «Морган, Санта-Каталина», ибо не пройдет и месяца, как остров Санта-Каталина будет наш и десяток лучших наших кораблей встанет у южных берегов острова Кубы невдалеке от портов Сантьяго, Баямо, Санта-Мария, Тринидад, Сагуа и мыса Корриентес. Там, на виду у испанцев, близ самого богатого из испанских островов, мы соберем военный совет и решим, какую крепость мы захватим первой. Все поняли меня?
– Да, – раздался общий ответ.
– Тогда я, Джон Морган, никогда ничего не обещавший впустую, обещаю сделать вас богатыми и могущественными.
– Да здравствует адмирал!
– Теперь расходитесь и помните: полная тайна!
Присутствующие начали бесшумно расходиться. Этот человек обладал какой-то непостижимой властью над людьми, каждое его слово принималось как безоговорочный приказ.
Железная Рука тоже направился к выходу, но Морган остановил его.
Все вышли, и пират с охотником остались вдвоем. Морган сел и знаком велел сесть и охотнику. Антонио повиновался. Некоторое время оба молчали.
VII. ПЛАНЫ И ПРИЗНАНИЯ
– Так вы и есть знаменитый мексиканский охотник по прозвищу Железная Рука? – спросил Морган.
– Да, – ответил юноша.
– Вас зовут Антонио?
– Так подписал я наш договор.
– Не скажете ли, почему вас прозвали Железная Рука?
– Сеньор, – отвечал мексиканец. – Я покинул страну не мальчиком, а мужчиной. На моей родине мужчины привыкли к борьбе с самыми свирепыми быками. Они укрощают их при помощи копья или набрасывают им на шею лассо; они убивают их в бою, пользуясь только шпагой и плащом. Здешним охотникам неизвестно это искусство, я же владею им в совершенстве. Вот чем и заслужил я свое прозвище.
– Отлично. Однако ни это прозвище, ни имя Антонио не являются настоящими вашими именами.
Охотник, заметно раздосадованный словами пирата, бросил на него свирепый взгляд, но Морган продолжал невозмутимо:
– Я не знаю вашего настоящего имени, да пока и не хочу знать. Вы отважны, у вас ясный ум и твердая рука, этого для меня достаточно. Вам ненавистно испанское владычество?
– О да! – воскликнул Железная Рука.
– Вы поняли мой замысел?
– Думаю, что понял. Речь идет о том, чтобы лишить Испанию господства над здешними морями и владычества над островами. Речь идет о том, чтобы прервать морские коммуникации Испании и уничтожить ее флот.
– И как вы относитесь к такому плану?
– Это прекрасно. Настолько прекрасно, что, не колеблясь ни мгновения, я примкнул к вам, ничуть не думая о такой жалкой приманке, как золото.
– Отлично! Отлично! – с радостью воскликнул пират. – Такие люди, как вы, мне и нужны.
– Боюсь только, что у нас мало сил для осуществления столь грандиозного предприятия.
– И это говорите вы? Молчите, юноша! Отважный человек никогда не должен сомневаться в своих силах. Моя воля так же сильна, как ваша рука, и верьте: не пройдет и месяца, как Антильские острова будут наши. Мы захватим испанские суда, поднимем наш флаг на их мачтах и направим их пушки на флот кастильских королей. Наши имена прогремят по Новому и Старому Свету, внушая ужас морякам всех народов, а береговые страны станут платить дань нашим воинам. Все это сбудется, слышите? Я верю: непременно сбудется! И тогда любая земля, о которой я скажу – «она моя», станет моей. Мои корабли, бороздя простор океана, проведут незримую границу, преступить которую не посмеет ни один моряк… И повсюду, где только шумят морские волны, наша власть будет равна власти королей.
Охотник в волнении слушал речь Моргана. Отвага, страх, воодушевление заражают собеседника, если они и впрямь обуревают говорящего.
Глаза пирата сверкали фосфорическим блеском, лицо пылало, голос звучал вдохновенно, верой дышало каждое его слово, каждое движение. Казалось, он видит воочию нарисованную его воображением картину, видит, как реют на испанских кораблях его флаги, слышит сигнал боевой тревоги, ружейную стрельбу, гром пушек, крики пиратов. Чувствует на своем лице жар огня и дыхание ветра, дующего с берегов Мексики или Большой Земли. Морган был упоен своим видением.
Железная Рука разделял воодушевление и веру пирата. Глаза его сверкали, рука невольно тянулась к рукояти ножа.
– Да будет так! – воскликнул он, не в силах сдержаться. – Нашими будут острова, нам будут принадлежать моря, испанский флаг не осмелится появиться в этих водах, и Мексика будет свободна, свободна, потому что мы вырвем ее из-под власти Карла V и Филиппа II.
– Юноша, – сказал пират, – я вижу, вера воспламенила и ваше сердце.
– Я жажду начать борьбу, жажду того часа, когда с горстью смельчаков возьму на абордаж великолепно оснащенный корабль наших поработителей…
– Вы моряк? Вы хорошо владеете оружием?
– Я моряк и так же хорошо владею кинжалом и абордажным топором, как мушкетом охотника.
– Хотите ли вы дождаться корабля, который придет за вашими товарищами, или предпочитаете отправиться со мной?
– Я хотел бы отправиться с вами, если до этого у меня хватит времени проститься с женщиной, которую я люблю.
– Вы любите?
– Всем сердцем!
– Теперь вы нравитесь мне еще больше. Сердце, способное любить с таким жаром, – большое сердце, способное на великие страсти и героические подвиги. Если женщина эта живет недалеко, вы успеете проститься. Сейчас уже рассвело, но я отплываю только завтра на рассвете. В вашем распоряжении целый день и почти вся ночь.
– Этого достаточно. Я отправляюсь с вами.
– Но знайте, путь наш полон опасностей. Мы можем попасть в руки испанцев, можем пойти ко дну, ведь нам придется пересекать океан на шлюпке.
– Пустое, можете рассчитывать на меня.
– Тогда завтра на рассвете.
– А где мы встретимся?
– Вы найдете меня на мысе Тибурон.
– Я буду без опоздания.
Они с жаром пожали друг другу руки и вместе вышли из дома. Морган почти сразу затерялся в лесных зарослях, а Железная Рука зашагал по дороге в Сан-Хуан-де-Гоаве.
День занимался. Развалины, где собирались заговорщики, обезлюдели, и о ночном сборище можно было догадываться лишь по легким струйкам дыма, которые поднимались над подернутыми пеплом, угасающими кострами.
Когда охотник подошел к селению, оно уже проснулось. Во многих домах были открыты двери и горел огонь, разгоняя предрассветный сумрак.
Исаак стоял, как страж, на пороге таверны. Железная Рука прошел мимо него не поздоровавшись и последовал дальше в такой глубокой задумчивости, что долгое время не замечал следовавшую за ним по пятам собаку. Наконец он остановился, собака остановилась рядом: тут он увидел ее и узнал Титана, подаренного им Хулии. На шее у пса был надет нарядный ошейник.
Очевидно, ошейник этот имел какое-то значение, понятное влюбленному юноше, потому что глаза его радостно сверкнули, а лицо просветлело. Не задерживаясь ни на минуту, даже не приласкав собаку, он быстрым шагом направился к ближайшей роще.
Забравшись в чащу кустарников, он внимательно огляделся по сторонам и, убедившись, что кругом никого нет, подозвал пса и снял с него ошейник. В ошейнике был потайной кармашек, сделанный из той же кожи и скрытый так искусно, что непосвященному найти его было бы невозможно.
В кармашке лежала записка, Антонио осторожно вытащил ее и развернул. Там было сказано:
«Антонио, мы очень несчастны. Надеешься ли ты на бога, как я? Приходи в полночь и жди меня в саду.
Хулия».
Охотник сорвал нежный лиловый цветок гуаякана и положил его на место записки. Это был ответ. Он снова надел на Титана ошейник и сказал, указывая на дорогу:
– Теперь домой, домой!
И умный пес, опустив уши, помчался. Антонио перечел записку еще раз десять, спрятал ее в карман и, миновав деревню, направился в горы. Примерно через час охотники заметили, как он прошел, глубоко задумавшись, и уединился в своем шалаше.
Любовь, патриотические чувства, честолюбие, стремление к славе, надежды на будущее бушевали в груди этого человека, который чувствовал себя способным на великие дела и видел, что союз с Морганом открывает перед ним дорогу к необыкновенным подвигам; он понимал, что мог быть счастлив с Хулией и теперь терял ее, он знал, что окончательно порывает с обществом и навеки уходит от любимой женщины.
Весь день Антонио не выходил из своего шалаша и притворялся спящим всякий раз, как кто-нибудь из охотников заходил поговорить с ним.
Картины прошлого и будущего, страхи и надежды сменялись в его воображении, он предавался мучительным сомнениям, как всякий человек перед решающим шагом в своей жизни.
Под вечер Антонио задремал, ему приснилось, будто Хулия и Морган бросают жребий: кому достанется его сердце. Он очнулся в холодном поту и вернулся к действительности.
Выиграл пират.
VIII. ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
Педро Хуан де Борика не преминул явиться к сеньоре Магдалене за ответом, хотя заранее не сомневался в благоприятном исходе.
Как все глупцы, Педро Хуан был тщеславен и, как все люди, страдающие этим недостатком, очень заботился о своей внешности и полагал, что лишнее кольцо, новая золотая цепь или богатая пряжка на шляпе – лучшее украшение для жениха и соблазнительная приманка для женщины.
Подобные люди считают женщину глупой птицей, которую можно ослепить солнечным зайчиком, и придерживаются в отношении возвышенной и прекраснейшей половины рода человеческого того мнения, какого заслуживают сами.
Сеньора Магдалена уже поджидала Хуана. Она не была заурядной женщиной, способной соблазниться пышным нарядом или драгоценностями живодера. Но в сорок лет заполучить богатого и глупого мужа – перед таким искушением устояли бы немногие.
Предложение живодера явилось для матери Хулии, которая и не помышляла о вторичном замужестве, как бы чудом, нечаянным даром судьбы. Потому-то она с нетерпением и не без легкой тревоги поджидала испанца, опасаясь, не раздумал ли он. Все это было вполне естественно, и никто не мог бы осудить благоразумную вдову Лафонт.
При виде появившегося в саду живодера сеньора Магдалена, невзирая на свои сорок весен, зарделась как маков цвет и приняла томный вид, хотя сердце ее бешено колотилось. Женщина всегда трепещет перед тем, как ответить «да», но безмятежно произносит «нет». Наблюдение, говорящее не в пользу прекрасного пола.
– Сеньора, – низко поклонившись, начал Хуан, – я пришел услышать свой приговор. – И про себя подумал: «А бабенка недурна, как только я раньше этого не приметил?»
– Кабальеро, – пролепетала сеньора Магдалена, потупив очи и еще больше заливаясь краской, – я почти и не думала об этом…
– Не думали, сеньора? Неужели вы так пренебрегаете мною?
– Пренебрегаю? О нет, скорее наоборот.
– Так, значит, вы согласны стать моей супругой! – воскликнул живодер, взяв в свои руки все еще нежную ручку сеньоры Магдалены.
– Не знаю, что и сказать, – отвечала она, не отнимая, впрочем, руки.
«Смелее!» – подумал Хуан и, поднеся ее руку к губам, воскликнул:
– Сеньора, не заставляйте меня больше страдать! Будете ли вы моей женой?
– Да, – трепеща, ответила сеньора Магдалена и почувствовала на своей руке страстные поцелуи Медведя-толстосума.
В этот момент Хуан воображал, будто и впрямь любит свою невесту, она же и вовсе этому поверила: в ее груди даже шевельнулось какое-то чувство к этому человеку.
Любовь подобна горному склону, – стоит лишь ступить на него, а дальше уже спускаешься без труда: достаточно поверить, что любишь, чтобы, действительно полюбить.
– Магдалена, – сказал живодер, почувствовав себя свободно, – когда вы хотите назначить нашу свадьбу?
– Когда вам будет угодно, – робея, ответила сеньора Лафонт.
– В таком случае, чем раньше, тем лучше, – я хочу как можно скорее уехать с этого острова. Вы согласны, красотка моя?
Много лет уже не слыхала сеньора Магдалена, чтобы ее называли «моя красотка», и эти слова живительной влагой оросили ее сердце.
– Да, да, чем раньше, тем лучше, – заговорила она, воодушевляясь. – Уедем отсюда и, если вы согласны, прежде всего покинем это селение.
– Разумеется; к счастью, я могу превратить в деньги все мое имущество в течение одного дня, я говорю о еще не проданных товарах. А ваш дом купят, лишь только узнают, что он продается. Мы тут же отправимся в Санто-Доминго и там, в городе, сможем без помехи обдумать, где бы нам обосноваться и зажить спокойно и счастливо.
– Это вы очень хорошо придумали, очень хорошо.
Так, мечтая об ожидавшей их безоблачной жизни, строя планы и перемежая их любовными объяснениями, – которые сеньора Магдалена выслушивала с удовольствием, а Хуан Педро произносил почти от чистого сердца, – они проговорили больше часа. Наконец живодер распрощался и пошел готовиться к свадьбе и к отъезду.
– Пожалуй, я останусь не в накладе, – раздумывал он, шагая к дому, – если даже придется всегда жить с матерью; эта вдовушка весьма аппетитна и к тому же любезна, а ручки у нее… Вот она, порода, порода… люблю француженок!..
Хулия не слыхала, о чем говорили сеньора Магдалена с Хуаном; но она все поняла, когда увидела, с каким самодовольным видом вышел из дома живодер, и заметила счастливую улыбку на пылающем лице матери.
Неожиданное сватовство произвело такое впечатление на сеньору Магдалену, что она почти перестала упрекать Хулию за ее любовь к Антонио. Увлеченная мыслями о собственном счастье, мать совсем позабыла о дочери.
Сначала Хулия опасалась семейной грозы. Но проходил час за часом, а сеньора Магдалена по-прежнему улыбалась и ласкала ее. Девушка приободрилась и, осмелев, назначила Антонио свидание.
Настал вечер, Хулия нетерпеливо считала минуты, ей казалось, что сеньора Магдалена слишком медлит с отходом ко сну. Однако ей удалось скрыть свое волнение. Наконец в доме все затихло. Убедившись, что мать крепко спит, Хулия села у окна, выходившего в сад, и стала ждать.
Ночной ветерок нежно и печально шелестел листвой деревьев, луна озаряла небосвод слабым зеленоватым светом. Глубокое молчание лесов нарушалось лишь пением ночных птиц да мычанием коров.
Хулия ждала долго. Она вспоминала прошлое, вопрошала судьбу о будущем, с тоской думала о настоящем. Мысли девушки были далеко, когда легкий шум в саду вернул ее на землю. При свете луны она узнала молодого охотника.
– Подожди меня, – шепнула Хулия.
Железная Рука спрятался в тени густого дерева, и вскоре Хулия была рядом с ним.
– Моя мать спит крепко, – сказала она, – но все же, я думаю, нам спокойнее будет в лесу.
И, не дожидаясь ответа, она направилась к потайной лазейке, скрытой вьюнками и кустарником. Железная Рука молча последовал за ней. Они вышли на дорогу и углубились в небольшой лесок.
– Антонио, – сказала Хулия, внезапно остановившись, – не правда ли, мы очень несчастны?
– Да, моя Хулия, это правда.
– Что же ты думаешь делать?
– Хулия, если бы я не любил тебя такой чистой любовью, если бы страсть моя не равнялась моему уважению, я сказал бы: «Хулия, иди со мной, бежим, и ты будешь принадлежать мне в глухом лесу, будешь жить в моей хижине, станешь женой охотника, и дни наши пронесутся в счастье и радости, как проносится легкий ветер над цветами». Но нет, любовь моя, я слишком сильно люблю тебя. Я понимаю, что хотя мы будем счастливы, но я оторву тебя от общества, от света, куда мы рано или поздно должны вернуться. Я хотел бы привести тебя в мой дом и с гордостью назвать своей супругой. Я понимаю, что если ты убежишь со мной, оставишь свою мать, то после первых счастливых дней настанет для тебя пора раскаяния, печали, отвращения, и ты разлюбишь меня.
– Не говори так, Антонио!
– Нет, ангел мой, я говорю так, потому что это правда. Я – дворянин, я принадлежу к знатному роду. Не смотри на то, что я живу в горах вместе с охотниками. Не думай, что я искатель приключений без имени, без семьи, без состояния. Нет, Хулия. В эту ночь перед долгой разлукой я хочу открыться тебе. Кто я – ты в свое время узнаешь. Теперь же, радость моей жизни, тебе достаточно знать, что я человек, достойный твоей любви.
– Кем бы ты ни был, Антонио, дворянином или простолюдином, богачом или нищим, маркизом или охотником, я люблю тебя и буду любить вечно, тебя самого, только тебя. Я буду хранить твою тайну, не пытаясь проникнуть в нее, я подчинюсь любому твоему решению, потому что я обожаю тебя, потому что нет у меня другой воли, чем твоя, других желаний, чем твои, других надежд, чем твои. Говори, приказывай, Антонио! Я твоя, и тебе принадлежит моя жизнь, моя честь, мое будущее.
– О, ангельская душа! – сказал охотник, сжимая Хулию в объятиях, – твоя невинность и твоя любовь – вот защита твоей добродетели. Выслушай меня: утром мы должны расстаться. Поклянись, что останешься верна мне, и я ручаюсь за наше будущее и обещаю тебе, что мы будем счастливы.
– Клянусь! – пылко воскликнула девушка.
– Что бы ни случилось с тобой или со мной?
– Да!
– Даже если ты услышишь обо мне самое дурное, что только может быть на свете, если тебе скажут, что я изменил твоей любви, что я умер?
– Да, да! – рыдая, повторяла Хулия.
– Хулия, не забывай этой клятвы, принесенной здесь, в лесу, перед лицом бога.
– Никогда! – с еще большим жаром воскликнула Хулия.
Их души слились в долгом поцелуе.
– Прощай, Антонио, – произнесла, выскользнув из его объятий Хулия. – Прощай. Скоро я увижу тебя?
– Нет, Хулия. На рассвете я уезжаю.
– Ты уезжаешь? – в ужасе воскликнула девушка. – Но куда? Куда?
– Сам не знаю. Я иду, следуя велению судьбы, иду, чтобы завоевать свободу и отомстить за мою родину.
– Объясни, что это значит, объясни, ради бога! Твои слова пугают меня, в них кроется тайна. Куда ты идешь? Что собираешься делать?
– Хулия, утром я покидаю селение вместе с Морганом. Теперь я заодно с ним.
– Боже правый! Ты – с Морганом, Антонио! Ты, такой благородный, такой добрый, уедешь с этим пиратом, одно имякоторого внушает ужас! Ты тоже стал пиратом? О боже мой, боже мой! Что будет со мной? Что будет с нами?
– Успокойся, ангел мой, успокойся!
– Успокоиться, Антонио? Неужели ты думаешь, я не понимаю, какие опасности грозят тебе? Не знаю, что тебя ждут ужасные кровопролитные сражения? Разве мне неизвестно, что все пираты приговорены к казни, к позорной казни на виселице? И ты хочешь, чтобы я была спокойна, зная, что тучи собрались над твоей головой? Это невозможно, невозможно…
Ломая руки, Хулия рыдала как безумная.
– Хулия! Хулия! – уговаривал ее охотник, потрясенный этим взрывом отчаяния. – Ради бога, во имя нашей любви, умоляю тебя, успокойся, выслушай меня!
– Как можешь ты говорить, чтобы я успокоилась? Ты рискуешь своей жизнью, забыв, что жизнь эта принадлежит мне, что одна мысль о грозящей тебе опасности может убить меня!..
– Хулия, дорогая, все дело в том, что ты веришь людским толкам об этих ужасных опасностях. Нет, любовь моя, все это преувеличения и выдумки. Послушай, помнишь, как расписывали тебе жизнь охотников? Как ты дрожала за меня поминутно? И что же? Разве со мной что-нибудь случилось? Разве я не здесь, с тобой, живой и невредимый? О Хулия! Не верь этим россказням, они только лишат тебя покоя.
– Антонио, ты обманываешь меня. Ты говоришь все это, чтобы меня утешить, но сам не веришь своим словам. Жизнь охотников опасна, но разве можно сравнить ее с жизнью пиратов? Я это знаю, Антонио, знаю. И если я дрожала за тебя, когда ты охотился в лесах, то что буду испытывать я теперь, когда ты будешь вместе с пиратами, с этим Морганом, этим бесчестным негодяем? Я ненавижу его! Он пришел погубить меня, отнять у меня покой, счастье, жизнь!
– Не думай так, Хулия, ты разрываешь мне сердце. Я люблю тебя больше жизни, я ничего не делаю, ничего не говорю без мысли о тебе. Ты моя душа, моя жизнь, мое вдохновение. Ради тебя я стремлюсь к славе и почестям, ради тебя хочу жить, ради тебя презираю опасность. А без тебя – путеводной звезды моей жизни – что может привлекать меня на земле или на небе? Кто я без твоей любви? Сухое дерево, иссякший источник, угасший костер. Печальный, жалкий призрак, который влачится по земле без веры, без надежды, без будущего. И, зная, что я так тебя люблю, что думаю только о тебе и о твоей любви, ты, Хулия моя, можешь поверить, будто я хочу погубить свою жизнь, расстаться с тобой навеки и ранить твое сердце?
С каждым словом Железной Руки лицо Хулии оживлялось, глаза ее снова заблестели радостью, ночной ветерок осушил слезинки, сверкавшие в шелковых ресницах, а на ее свежих алых губах расцвела счастливая улыбка.
– Антонио, любовь моя! – воскликнула она, не в силах сдержать свои чувства. – Как я счастлива, что ты так любишь меня! Как я счастлива! Боже мой! Боже мой, ниспошли мне все беды мира, только не отнимай у меня эту любовь! Антонио, я больше не плачу, ты любишь меня, наше счастье в твоих руках! Прощай, прощай! Делай, что хочешь, только люби меня и будь счастлив!
– Прощай! – воскликнул охотник.
И девушка, выскользнув из его объятий, легче газели побежала к дому и скрылась в саду.
IX. ПЕРВОЕ ДЕЛО
Прошел лишь месяц после прощания Хулии с возлюбленным, но за этот месяц многое переменилось.
Живодер Педро Хуан де Борика женился на сеньоре Магдалене и, покинув вместе с супругой селение Сан-Хуан-де-Гоаве, поселился в городе Санто-Доминго, надеясь при первом удобном случае отплыть в Новую Испанию. Хулию сеньора Магдалена, разумеется, взяла с собой.
После того как Педро-живодер сбыл свой товар, он оказался очень богат, дом Хулии был продан по выгодной цене, и все говорили, что живодер вывез изрядный капитал. Теперь он собирался заняться в Мексике крупной торговлей.
В то же время из округи исчезли многие охотники, никто не сомневался, что они примкнули к пиратам.
Это известие, облетевшее весь остров, встревожило испанские власти в Антильских владениях, и они немедленно отправили донесения в столицу Испании, сообщая, что грозный пират Джон Морган замышляет какие-то серьезные действия против испанской короны.
Однажды в водах, омывающих южное побережье Кубы, на самом горизонте, появился едва заметный парус. Постепенно ускоряя свой бег, он стал приближаться к острову. Вдруг за ним показался второй, затем третий, четвертый парус, пока не набралось их целых двенадцать, и все они, подобно стае белых цапель, летящих над морской гладью, стремительно понеслись к берегу.
Вечерело. Море было спокойно, волны, едва колебля поверхность огромной чаши с жидким серебром, тяжело и лениво набегали на прибрежные скалы.
Попутный ветер надувал паруса, и корабли могли беспрепятственно пристать к берегу и высадить своих людей. Однако случилось иначе. Когда суда были уже совсем близко, резкий крик лоцмана, замерявшего глубину, возвестил, что можно отдать якоря, и передовой корабль, словно конь, почувствовавший узду, вздрогнул и замедлил ход. Раздался скрежет цепей, послышалась дудка боцмана, потом удар якоря о воду, и корабль закачался на волнах.
Остальные суда повторили тот же маневр, и вскоре вся флотилия встала на якоре в виду острова.
На шканцах первого корабля можно было увидеть человека, который с равнодушным, даже пренебрежительным видом наблюдал за всеми передвижениями. Едва суда встали на якорь, человек этот отдал приказ, и в тот же миг на грот-мачте взвились флаг и вымпел. Остальные суда немедля спустили на воду шлюпки, бросили трапы, по ним сошли капитаны, и шлюпки понеслись на веслах к флагманскому кораблю. Все они подошли почти одновременно; капитаны поднялись на борт, а шлюпки, окружив корабль, остались их ждать.
Человек, подавший сигнал, был Джон Морган, адмирал пиратской флотилии. Он призвал к себе капитанов, чтобы держать с ними первый военный совет, как было обещано при встрече на Эспаньоле.
Пираты, собравшиеся в южных водах острова Кубы, располагали внушительными силами. Теперь им предстояло решить судьбу испанской торговли и испанского флота, а также назначить время и место первого морского сражения.
Морган сдержал свое слово.
День стоял ясный. Свежий бриз играл флагом и вымпелом на мачте адмиральского корабля. На палубе пираты держали совет, подобно генералам армии, собравшимся в лагере перед битвой.
– Испанская эскадра, – начал Морган, – должна прибыть на днях к острову Эспаньола. Ее назначение – охрана груженых золотом судов и барж, которые отправляет за океан вице-король Новой Испании. Кроме того, эскадре поручено сопровождать корабли с богатым грузом, следующие из Маракайбо в Веракрус. Вместе с флотом прибудут также несколько судов из Испании и адмирал флота дон Алонсо-дель-Кампо-и-Эспиноса. Итак, настало время действовать, и я хочу посвятить вас в свои планы.
Пираты удвоили внимание.
– Мы встанем в виду испанской эскадры и постараемся использовать любой удобный случай, чтобы завладеть каким-нибудь кораблем, но только не вступая в бой. Если судьба нам поможет – отлично! Если же нет, то, выждав, пока испанцы направятся к берегам Юкатана или в Веракрус, мы нападем на Панаму или на Картахену, а там посмотрим. Согласны?
– Да, – ответили пираты.
– Однако этот план потребует изменения существующего у нас порядка. Наша флотилия будет разделена на две части: одна двинется впереди испанских кораблей, отвлекая их внимание. Вторая – командование над ней приму я сам – пойдет на захват острова Санта-Каталина. Там будет наш главный оплот, оттуда мы сможем вести наступление на города и порты Большой Земли.
Капитаны молча выразили согласие.
– Бродели! – позвал Морган.
Поднялся один из капитанов, человек необыкновенно высокого роста.
– Я назначаю тебя, – сказал Морган, – вице-адмиралом и начальником второй флотилии. Отбери себе нужные корабли, действуй так, как было сказано, и по выполнении возвращайся на остров Санта-Каталина – к тому времени он будет наш. Сегодня вечером я вручу тебе письменный приказ. И если ветер будет благоприятный, еще до рассвета вся флотилия должна поднять якоря. Понятно?
Все молча наклонили головы.
– Можете идти.
Пираты встали и, разойдясь по шлюпкам, направились к своим кораблям. Тут были англичане, французы, итальянцы, но все они беспрекословно подчинялись приказам выбранного ими адмирала: среди этих людей царили дисциплина и послушание, которым мог бы позавидовать королевский флот Испании.
На корабле Моргана, словно дожидаясь дальнейших приказаний, остался только итальянец, который отозвался на имя Бродели и так просто был назначен вице-адмиралом.
– Слушай меня внимательно, – обратился к нему Морган, – твоя задача заключается не только в том, чтобы отвлечь внимание противника, ты должен, кроме того, разведать количество и подготовку его людей, его вооружение, запасы продовольствия, и если удастся, то его намерения, а также характер и личные качества адмирала.
– Слушаюсь, – отвечал Бродели.
– И вот как следует для этого действовать: испанская эскадра остановится у берегов Эспаньолы; один из наших, самый отважный, самый сообразительный и надежный, должен высадиться на острове и добраться до порта, в котором будет стоять эскадра. Там он разведает все, что сможет. Потом ему следует попасть на службу к испанскому адмиралу, пусть служит усердно и постарается войти к нему в доверие, а затем, когда он раздобудет нужные сведения, пусть приложит все силы, чтобы снова соединиться с тобой или со мной, это уж безразлично.
– Но разве это возможно?
– Он должен попытаться. Если погибнет – такова уж его судьба. Если все выполнит – таков его долг.
– А кто же этот человек? Мне кажется, в нашей флотилии нет ни одного, способного на такое дело.
– Просто ты еще не знаешь людей; сейчас я приведу его.
Оставив итальянца одного, Морган спустился в трюм и вскоре вернулся в сопровождении Железной Руки.
– Вот он, – сказал адмирал.
Бродели окинул испытующим взором необычное лицо мексиканца, который стоял перед ним, рассеянно глядя на волны, лизавшие борт корабля.
– Он что-нибудь смыслит в морском деле?
– Стоит лучшего лоцмана.
– Знает ли он, что ему нужно делать?
– Да. Кроме того, ты сам ему это скажешь.
– Отлично. Он пойдет со мной?
– Немедля.
– Как его зовут?
– Антонио.
– И все?
– На море – все.
– Ну что ж. А письменный приказ?
– Держи, – сказал Морган, протягивая итальянцу толстый свиток пергамента. – Здесь все сказано.
– Мне можно идти?
– Иди, и до свидания на берегах Санта-Каталины.
– Следуйте за мной, – сказал Бродели, обращаясь к Антонио.
Юноша молча пошел за итальянцем. Ступив на трап, он почувствовал, что кто-то взял его за плечо. Антонио обернулся – Морган протягивал ему руку для прощального пожатия. Антонио крепко стиснул руку адмиралу и сел в шлюпку. Вскоре они взошли на корабль, которым командовал Бродели.
Ночь набросила черное покрывало на морские просторы. В темноте раздавались слова команды, свистки, скрип снастей. Когда снова блеснула заря, все корабли исчезли бесследно, лишь на горизонте едва можно было различить удалявшиеся паруса.
Началось время жестоких сражений, которые дорого обошлись испанской монархии.
X. «САНТА-МАРИЯ ДЕ ЛА ВИКТОРИЯ»
Морган сказал правду: вскоре обитатели острова Эспаньола увидели у своих берегов мощную эскадру, которая шла под кастильским флагом, конвоируя торговые суда, направлявшиеся в Новую Испанию.
Эскадра собиралась бросить якорь ненадолго. Шел слух, будто адмирал получил приказ зайти в эти воды с тем, чтобы начать преследование и уничтожение пиратов, открывших враждебные действия против испанского флота.
Многие офицеры сошли на берег, и остров сразу ожил, взбудораженный вестью о приходе судов.
На второй день после прибытия эскадры несколько моряков с корабля «Санта-Мария де Грасия», оживленно беседуя, прогуливались по набережной. К ним подошел молодой еще человек, судя по одежде принадлежавший к бедному сословию.
– Простите, ваша милость, – обратился он к старшему по чину. – Я не знаю, как принято говорить о таких делах среди сеньоров, но видите ли, я хотел бы отправиться на каком-нибудь из этих кораблей.
– Отправиться? Куда же? – спросил офицер, решив посмеяться над простаком.
– Куда угодно. В общем, я хочу наняться, завербоваться.
– Что ж! Это нетрудно, если ты хоть что-нибудь смыслишь в морском деле.
– В этом, ваша милость, не сомневайтесь.
– И ты знаешь название всех снастей и умеешь выполнять все маневры?
– Да, сеньор, все, что угодно вашей милости; класть найтовы, подхватывать тросом грузы, брать рифы, крепить паруса.
– Отлично, а умеешь ли ты грести?
– Багром я орудую – лучше не надо, а шлюпку умею направлять и рулем, и кормовым веслом.
– А еще что ты умеешь?
– Знаю компасные румбы и могу управляться с компасом, как полагается рулевому.
Моряк начал присматриваться к собеседнику с интересом.
– Ты был моряком? – спросил он.
– Нет, сеньор.
– Откуда же ты все знаешь?
– Мой отец, испанец, был богатым человеком, у него было несколько кораблей. Много лет мы жили в порту, вот почему я и знаю морское дело.
– А теперь? – спросил моряк, попав на удочку и помогая незнакомцу рассказывать выдуманную им историю.
– Теперь моего отца уже нет, он разорился и умер в нищете, а я остался один и хочу сам зарабатывать себе на хлеб.
– И что же ты хочешь, стать матросом или солдатом на корабле?
– Да кем придется. Помогите мне получить какое-нибудь место, и я буду по гроб жизни вам благодарен.
– А умеешь ли ты обращаться с пушкой?
– Когда-то я присматривался к этому делу. Думаю, мне нетрудно будет вспомнить.
– Отлично. Завтра утром жди на этом же месте. За тобой придут.
– Слушаю, сеньор.
Человек отступил с дороги и низко поклонился, а моряк, пройдя мимо, весело сказал своим товарищам:
– Я знаю береговых жителей, этот парень для нас сущая находка…
На следующее утро к борту корабля «Санта-Мария де ла Виктория» пристала шлюпка; первым вышел из нее и поднялся по веревочному трапу человек, который беседовал накануне с офицером. Читатели, без сомнения, догадались, что новый доброволец испанского флота был не кто иной, как охотник Антонио Железная Рука.
Адмирал дал приказ поднять якоря на следующий день, и вот на берегу и на борту, особенно на торговых судах, закипела работа.
Жители острова Эспаньола были встревожены недавним появлением пиратов, и многие из них только и ждали надежной охраны, чтобы отправиться в другие края. Теперь им представился удобный случай, и немало семейств собиралось переселиться на Большую Землю или в Мексику. В порту царило необычное оживление. Лодки и каноэ бороздили воды залива по всем направлениям. Набережная была заполнена толпами зрителей, а на палубах торговых судов путешественники, быть может, навсегда покидавшие этот край, печально всматривались в знакомые берега.
Военные корабли, казалось, не удостаивали вниманием это трогательное зрелище, на палубах не видно было ни одного матроса. Только часовые стояли на посту, неподвижные, как корабельные мачты, равнодушные ко всему, что происходило вокруг.
Волны то мягко, то с неожиданной силой бились о борта кораблей, соскальзывали с них потоками серебра и брильянтов и снова продолжали свой вечный бег к берегу.
Один за другим корабли распускали белые паруса, и вскоре эскадра, до тех пор напоминавшая дубовую рощу с облетевшей листвой, стала подобна большому городу с высокими стройными зданиями.
Грянул пушечный залп, и, разрезая водную гладь, суда двинулись вперед, оставляя за собой кипящий пенистый след, который долго еще отмечал путь уходящих кораблей.
Свежий попутный ветер надувал паруса, корабли скользили по волнам, грациозно склонившись набок. Такое отплытие считается у моряков хорошим предзнаменованием.
День прошел в однообразии морской жизни. Волны и небеса оставались неизменны, одни – в вечном движении, другие – в вечном покое. Земля постепенно исчезала в тумане, затянувшем горизонт, подобно пороховому дыму; солнце клонилось к западу.
Вечерние тени тронули серым налетом сначала волны, потом небесную твердь. Но вот свет померк, и только фосфорические вспышки время от времени нарушали печальное однообразие моря, прорывая черный креп, окутавший весь мир.
Флагманский корабль зажег три фонаря на корме и один на марсе, и немедля все остальные суда зажгли по одному фонарю на корме.
– Что это за сигнал? – спросил Антонио у матроса, с которым постарался подружиться.
– На нашей эскадре такой сигнал означает – опасности нет.
– А какая же может быть опасность?
– Тысяча чертей! Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьяволах пиратах? Да их здесь полно.
– Я жил на берегу, а там их не боятся.
– Не боятся? Проклятье! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь?
– Нет, нет, клянусь тебе…
– Да пусть приходят хоть все, вместе со своим Морганом! У нашей «Санта-Марии де ла Виктории» столько медных глоток, и она даст этим разбойникам столько советов, что их посудина сразу станет похожа на мою дырявую рубаху.
– Да уж наверное…
– А потом, наш капитан дон Андрес Савалоситен – настоящий зверь! Взять его на абордаж – все равно что меня заставить служить мессу.
– Храбрец?
– Гром битвы – для него музыка. Хотел бы я, чтобы началось дело – ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца!
– И долго мы будем плавать в этих водах?
– Чего не знаю, того не знаю. Поговаривают, что до тех пор, пока не покончим с пиратами и не доставим его величеству головы всех этих псов, будь они неладны!
В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилось гулкое громыхание.
– Выстрел! – воскликнул Железная Рука.
– Сигнал, – спокойно ответил матрос.
Капитан мгновенно появился на палубе, а все матросы и солдаты стали напряженно прислушиваться.
Прошло несколько секунд, затем один за другим прозвучали три пушечных выстрела, и снова все смолкло.
– А это что значит? – шепотом спросил Антонио.
– Замечены подозрительные корабли.
– А кто дал этот сигнал?
– Одно из разведывательных судов, посланных вперед.
Капитан стоял не шелохнувшись. На марсе флагманского корабля погас фонарь, и немедля все остальные суда погасили фонари на корме.
– Возможно, ничего и не будет, – сказал матрос, – а это очень жаль, ведь опасность грозит только торговым судам. Первая же пуля пробьет их скорлупу.
Снова раздался выстрел, затем второй, а после минутного перерыва – пять выстрелов подряд.
– Вражеская эскадра, но она бежит от нас, – сказал матрос.
Теперь Антонио все понял: вторая флотилия Моргана под командованием вице-адмирала начала маневрировать согласно полученному наказу. Объявленная тревога должна была или затянуться, или привести к сражению.
Сигналы следовали один за другим, и матрос объяснял Железной Руке их значение.
– Противник идет на фордевинд.
– Разведчики просят разрешения продолжать преследование.
– Флагманский корабль дал согласие.
Так прошло около часа. Но вот прозвучал сигнал, после которого матрос в удивлении поднял голову. То был один выстрел, потом три, потом еще три.
– Что случилось? – спросил Антонио.
– Противник лег на другой галс.
– Ты думаешь, он хочет сражаться?
– А зачем же тогда менять галс? Разве что они хотят сдаться…
– Еще сигнал?
– Да… идет в крутой бейдевинд.
С флагманского корабля дали два выстрела, потом один, а за ним еще два.
– Наконец-то! – выпрямившись во весь рост, сказал матрос.
– Что это?
– Принять боевой порядок.
– Без боевой тревоги?
– Этот сигнал дается раньше.
Все пришло в движение на кораблях, и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги. Словно ретивые кони, направляемые твердой рукой всадника, двинулись корабли занимать назначенное им место и вскоре, несмотря на ночную темноту, можно было понять, что боевой порядок образован, а торговые суда помещены в арьергарде.
Теперь началась подготовка к сражению.
XI. «ЗНАМЕНИТЫЙ КАНТАБРИЕЦ»
Среди торговых судов, следующих под охраной испанского королевского флота, был корабль, который держался на воде скорее благодаря каким-то чарам или воле своего капитана, нежели благодаря своей оснастке и прочности кузова.
Эта старая, разбитая посудина, носившая пышное название «Знаменитый кантабриец», ныряла в волнах, подобно чайке с подбитым крылом, и, даже подняв все свои паруса, с трудом поспевала за мощными судами королевской эскадры.
Капитана, который вел это чудо мореплавания, звали дон Симеон Торрентес. Старый морской волк, мрачный брюзга изрыгал проклятия, от которых дрожали корабельные мачты, а с экипажем обращался не более почтительно, чем торговец мулами из Новой Испании со своим товаром. Матросы подобрались под стать капитану; шатаясь по морям на своей посудине, они обросли бородами и поседели, и можно было сказать без ошибки, что даже юнги на «Знаменитом кантабрийце» были стариками.
На этот-то корабль попали пассажирами трое наших знакомых, направлявшиеся в Веракрус: сеньора Магдалена, ее дочь Хулия Лафонт и Педро Хуан де Борика, бывший живодер из селения Сан-Хуан-де-Гоаве. Больше никто не решился доверить свою жизнь ненадежной палубе «Знаменитого кантабрийца», и, возможно, поэтому, а быть может, по другим нам неизвестным причинам дон Симеон Торрентес был раздражен сверх меры.
Педро Хуан, Медведь-толстосум, и его новое семейство были приняты на борту корабля весьма сухо.
– Ну и злющее же лицо у этого человека, – шепнул Педро сеньоре Магдалене.
– Как у всех испанцев, – равнодушно ответила она.
– Магдалена! Магдалена! – укоризненно воскликнул Педро. – Так-то ты выполняешь свое слово. Ведь в день нашей свадьбы ты пообещала не говорить плохо об испанцах.
– Верно, верно, прости меня. Но иной раз я говорю это, даже не думая.
Тут Хуан почувствовал первые признаки морской болезни и решил подняться на палубу, в надежде что свежий морской ветер подкрепит его силы.
«Знаменитый кантабриец» шел на всех парусах, тяжело зарываясь в волны и продвигаясь с быстротой погребального шествия. Капитан стоял на палубе, покуривая трубку, когда неожиданно над одним из люков появилась голова живодера. Капитан, увидев его, процедил сквозь зубы какое-то проклятие и с досадой отвел глаза. Было ясно, что Хуан пришелся не по душе дону Симеону Торрентесу.
Медведь-толстосум поднялся по трапу и, устроившись на палубе, устремил печальный взор в морскую даль. Дон Симеон продолжал спокойно курить, выпуская густые клубы дыма и время от времени бросая свирепые взгляды на Хуана, который даже не видел его.
Теперь «Знаменитый кантабриец», казалось, двигался еще медленнее. Дым из трубки капитана, не рассеиваясь, тучей навис над его головой, едва заметно поднимаясь легкими спиралями в небо. Ветер стих, и паруса заполоскали.
– Тысяча молний в пороховой погреб! – прорычал старый капитан. – Этот ветер подводит нас…
Он стал всматриваться в горизонт.
– И без всякой причины, без всякой причины, – продолжал он. – Да поглотят меня хляби морские, если где-нибудь есть хоть одна неблагоприятная примета. А между тем «Знаменитый кантабриец» идет так тяжело, будто под нами не вода, а мед. Клянусь дьяволом, виновата скверная рожа этого пассажира. У него дурной глаз. Свидетель бог, если он не спустится в трюм, я его отправлю на ужин акулам.
Хуан, искавший на палубе свежего ветерка, нашел только солнце и совершенно неподвижный, воздух. Не почувствовав никакого облегчения, он снова направился к люку и скрылся. Случайно в тот самый миг, когда капитан потерял его из виду, порыв свежего ветра подернул рябью водную гладь, наполнил паруса «Знаменитого кантабрийца» и запел в старых снастях. Однако дон Симеон Торрентес разразился не радостным, а гневным криком:
– Все бури ада! Теперь ясно: на беду свою я взял этого проклятого пассажира, похожего скорее на медведя, чем на христианина! Он-то и пугает ветер, теперь мне все ясно! Он еще принесет нам несчастье… Но если море разбушуется, клянусь прахом моих предков, я швырну его в воду, и пусть там спознается с акулами.
Ветер дул до самого вечера, но снова внезапно стих, едва на палубе показался Хуан вместе с Магдаленой. В этот момент капитана поблизости не было, однако он не мог не заметить, что корабль замедлил ход, и поспешно поднялся на палубу, с беспокойством поглядывая на бессильно повисшие паруса. Осмотревшись вокруг, он увидел Хуана и сеньору Магдалену. Ярость вспыхнула в нем с новой силой, ведь, по его мнению, именно Хуан пугал и прогонял ветер, а значит, он-то и был виновен в задержке, которая грозила им опасной встречей с пиратами, если они действительно были близко.
Дон Симеон решительно направился к Хуану, который, глядя на море, мирно беседовал с сеньорой Магдаленой. Подойдя незаметно и остановившись у них за спиной, капитан заорал и затопал ногами в таком бешенстве, что любая менее привычная палуба непременно провалилась бы:
– Клянусь всеми чертями и дьяволами ада!..
Хуан и его жена в испуге оглянулись. Капитан, стиснув зубы и сжав кулаки, смотрел на живодера, вертя во все стороны головой. Педро Хуан рад был бы отступить, но деваться было некуда.
– Гм! – произнес Симеон, стараясь сдержаться.
– Что вам угодно? – пролепетал через силу Хуан.
– Смотрите! – сказал дон Симеон, хватая его за руку и указывая на повисшие паруса.
– Нам грозит непогода? – простодушно спросил Хуан.
– Вам грозит то, что я запрещаю вам ступать на палубу в продолжение всего нашего плавания.
– Мне?
– Да, вам. И, клянусь душами всех утопленников, я швырну вас в море, если вы посмеете ослушаться.
Хуан побледнел.
– Но почему? – решительно вмешалась сеньора Магдалена.
– Почему? И вы еще спрашиваете, сеньора! Гром и молния! Разве вы не видите, что ветер стихает, едва только этот человек выходит на палубу?
– Что за чепуха! Какое это имеет отношение?
– Сами вы, сеньора, ни к чему не имеете отношения, а море знаете не больше, чем я папу римского. Все это не женского ума дело. Идите в трюм и вяжите там носки, а если вам так уж нужен этот человек, забирайте его с собой, потому что, клянусь тем днем, когда сожрут меня акулы, я могу не сдержаться и прикажу бросить вас в море, если матросы не сделают это раньше по собственной воле.
– Да сохранит нас господь! – воскликнул Хуан.
– Но это несправедливо, – сказала сеньора Магдалена.
– Что вы в этом понимаете? Справедливо или не справедливо, а судно не идет и может погибнуть, а отвечаю за него я, и командую здесь тоже я, и никто иной.
– Пойдем, – сказал оробевший Хуан и, взяв под руку сеньору Магдалену, направился вниз в свою каюту.
Все эти дни Хулия провела в печальном молчании. Она верила в обещания и любовь Антонио, но, однако же, не могла изгнать из своего сердца глубокую грусть и принималась плакать всякий раз, как оставалась одна, а в обществе родных только и думала что о Железной Руке. Ей вспоминались леса острова Эспаньола, горы, в которых бродили охотники, далекие улицы селения Сан-Хуан-де-Гоаве, и все воспоминания были милы бедняжке Хулии, хотя и ранили ее сердце.
О разлуке говорили многие: кто – плохо, кто – хорошо, кто – превосходно, но никто не поймет всей горечи разлуки, не испытав ее хотя бы однажды. Тоска в разлуке с любимым – один из самых тяжелых случаев болезни, которую принято называть ностальгией. Это – противоречие между желанием и неотступными воспоминаниями, неспособность воли погасить память или подчинить себе сердце. Против подобного недуга есть только два средства, но они почтил недостижимы: забыть или разлюбить. Другими словами, вспоминать без страсти или предать былую страсть забвению. Такая борьба приводит к отчаянию, скорби и даже смерти.
Хулия теряла последние силы, вспоминая остров Эспаньола, где прошла вся ее жизнь. Ей казалось, что, если она и встретится снова с Антонио, нигде они не будут так счастливы, как в селении Сан-Хуан. Бедной девочке довелось увидеть лишь одну грань брильянта, называемого жизнью, и, как все, едва ступившие на ее порог, она считала, что брильянт блестит лишь с одной стороны. Хулия видела мир через замочную скважину и не понимала его.
Сеньора Магдалена, переживая свой второй медовый месяц, едва обращала внимание на дочь, а Хуан поглядывал на Хулию все с большим вожделением, тайно предвкушая день своего торжества, казавшийся ему столь же близким, сколь несомненным. Повседневные встречи с девушкой все более разжигали его воображение. Когда мужчина загорается любовью к женщине и все время находится с ней рядом, то любовь эта, если она безответна, превращается в пылкую страсть и адскую муку. Какая-нибудь случайность или неосторожность может на миг показать несчастному бесценные сокровища прелести и грации, самая недоступность которых еще сильнее возбуждает тайную страсть. Так случилось и с Педро Хуаном: он твердо надеялся, что добром или силой, а Хулия будет принадлежать ему, и все же его неотступно преследовала жажда ускорить желанную развязку.
Медведь-толстосум боролся с искушением, но не мог от него избавиться и оттого еще больше маялся морской болезнью и, чувствуя, что задыхается в своей каюте, стремился на палубу подышать свежим воздухом.
Когда Педро Хуан и сеньора Магдалена вернулись в каюту, Хулия притворилась спящей, чтобы не отрываться от своих мыслей. Бедняжка думала об Антонио, который, наверное, был очень, далеко от нее и, без сомнения, подвергался грозным опасностям.
Живодер, хотя и не посмел ни слова возразить капитану, был взбешен, и жена всячески старалась успокоить его.
– Это неслыханно! – вопил Хуан. – Запрещать человеку, который заплатил деньги, да, собственные деньги, и желает путешествовать с удобствами, запрещать ему подниматься на палубу подышать воздухом. Подлый изверг!
– Успокойся, – уговаривала его сеньора Магдалена, – успокойся, эти испанские моряки всегда так ведут себя.
– Что? Опять испанцы? Ты, наверное, забываешь, что я тоже испанец?
– Нет, нет, я не хотела тебя огорчать. Ты мой муж, и я не могу сказать о тебе ничего дурного. Но ты видишь, какой грубиян этот испанец…
– Да при чем тут испанцы? То же самое мог сказать любой француз…
– Нет, нет, Хуан! Мои земляки совсем другие…
– Готов об заклад биться, что этот негодяй – француз!
– Оставим это, друг мой. Пусть он будет кем угодно, лишь бы не грубил тебе. Но успокойся, уже недолго осталось терпеть.
– Да, совсем недолго, недели две, а то и побольше, или бог его знает, сколько…
– Уверяю тебя…
– А эти капитаны кораблей – сущие тираны, они обращаются с нами, сухопутными людьми, как с грузом, хуже того – как с рабами.
– Это бесчестно!
– Не правда ли? Но я не обязан ему подчиняться! Он не король Испании, и, хочет он или не хочет, я буду подниматься на палубу, а если мне вздумается, то и на самую грот-мачту, или как она там называется…
– Господи спаси!
– Я скоро опять туда пойду.
– Делай что хочешь, но только будь благоразумен, старайся не попадаться ему на глаза, – просто чтобы избежать неприятностей.
– Ладно, ладно. Там видно будет.
Дух Педро Хуана несколько успокоился, но тело его жестоко страдало от морской болезни. Он прилег и попытался заснуть, – ничего не получалось. Ночь была душная, Хуан ворочался с боку на бок, не находя удобного положения. Наконец, в ярости вскочив с койки, он взбежал по трапу и снова очутился на палубе. Свежий ночной ветер охладил ему голову и сразу принес облегчение. Бешеного дона Симеона нигде не было видно, полные паруса не полоскали.
Некоторое время Педро Хуан провел в глубокой задумчивости. Только что ему удалось увидеть ножку Хулии, и эта ножка, освещенная каким-то дьявольским светом, витала перед ним в воздухе, чудилась ему в темных небесах и в черной глубине моря. Он замотал головой, пытаясь прогнать наваждение, но вместо этого перед ним заплясало множество ножек, и Педро Хуан облизнулся, как гончая, почуявшая дичь.
В это время, разорвав тишину, до обитателей «Знаменитого кантабрийца» докатилось звучное эхо первого пушечного выстрела. И мгновенно, словно призрак, вызванный заклинанием, появился грозный капитан в сопровождении нескольких матросов. Они о чем-то говорили, сыпали проклятиями, не обращая внимания на Хуана, а тот с ужасом прислушивался к их беседе, которая становилась все более оживленной, по мере того как звучали все более тревожные сигналы и один за другим исчезали огни на корме кораблей.
«Знаменитый кантабриец» тоже погасил свой фонарь.
– Клянусь преисподней! – рявкнул капитан. – Дело серьезное! Черт побери, кто знает, может завязаться бой, а «Знаменитому кантабрийцу» придется плестись в обозе, ведь у него нет даже самой завалящей пушки.
Сигналы следовали один за другим, и эскадра начала маневрировать, принимая боевой порядок. Ветер донес до ушей капитана сигнал боевой тревоги.
– Тысяча чертей! Боевая тревога! Теперь-то завяжется настоящее дело!..
Он как безумный бросился к борту и налетел прямо на притаившегося Педро Хуана.
– А! – взревел он при виде несчастного живодера. – Это вы, это вы! Теперь понятно, все и стряслось, оттого что вы тут! У вас дурной глаз… Сейчас же велю бросить вас в море!
И он повернулся, чтобы кликнуть матроса. Педро Хуан понял, что в этот момент капитан способен на все, и, несмотря на свою неповоротливость, проворно юркнул в люк.
Когда капитан оглянулся, его жертва уже скрылась. Быть может, он и бросился бы в погоню, но в это время новый пушечный выстрел привлек его внимание.
– Противник идет в крутой бейдевинд! – воскликнул он. – Пора приготовиться.
И он принялся отдавать распоряжения на случай опасности.
XII. СРАЖЕНИЕ И БУРЯ
Когда адмирал эскадры услыхал сигнал – «противник лег на другой галс», а затем – «противник идет в крутой бейдевинд», он понял, что пираты готовятся к нападению. Не зная толком ни кораблей, которыми располагал неприятель, ни даже их количества, он решил собрать все силы и немедля дал приказ кораблям, идущим кильватерной колонной под ветром, принять боевой порядок.
Эта операция в морской тактике подобна тому, что в пехоте зовется быстрым развертыванием. Авангард эскадры ложится в дрейф, затем центр ее и колонна, идущая с наветренной стороны, подтягиваются и тоже ложатся в дрейф, пока не подоспеет подветренная колонна и не установится общая линия. При быстром развертывании каждое судно стремится занять свое место, не дожидаясь тех, кто отстал, но уступая путь тем, кто подходит вовремя. Этот маневр применяется лишь в самых крайних случаях, когда непосредственно возникшая опасность не дает времени установить другой боевой порядок.
Известность, которую приобрели пираты своими сказочно дерзкими и смелыми налетами, заставляла испанских адмиралов принимать все меры предосторожности против безвестных людей, превративших свой флот в несокрушимую морскую державу.
Трубный глас боевой тревоги продолжал звучать, подготовка к сражению шла с величайшей поспешностью. Солдаты и матросы были разбиты на отряды, и каждый занял свое место. Десять артиллеристов встали у каждой 36-фунтовой пушки, по девять – у 18-фунтовых и по семь – у 12-фунтовых. Второй кормчий с двумя людьми стоял наготове у порохового погреба. На шканцах первый кормчий, окруженный помощниками и офицерами, наблюдал за штурвалом и сигналами флажков и фонарей. Часть орудийной прислуги и юнги, расставленные в разных местах, готовились переносить убитых и раненых, остальные рассыпали в пороховом погребе порох по мешкам и подносили их к люкам. Боцманы со своими людьми расположились на баке и на шканцах. Меж тем матросы, которым надлежало идти на абордаж или отражать врага, в мрачном и грозном молчании получали кто ружья, пистолеты, сабли, ручные гранаты и пороховницы, кто абордажные багры, копья, концы троса с крючьями и топоры.
На корабле кипело движение, но все совершалось в глубокой тишине. Матросы сооружали парапеты, освобождали от цепей и готовили к бою пушки, складывали запасы пуль, ядер и картечи.
Наконец все было готово: установлен общий план сражения и везде – на шканцах, на баке, на юте и на батареях вывешены листы пергамента с четко выписанными приказами к сведению всех действующих здесь людей.
Капитан «Санта-Марии де ла Виктория» сделал последний обход, и капеллан, благословив в молитвенной тишине моряков, идущих на бой, дал им отпущение грехов. Вслед за тем командиры подразделений громким голосом возвестили, что каждый, кто проявит трусость, покинет свой пост или не подчинится приказу, будет расстрелян на месте. Захлопнулся люк порохового погреба, и все, словно недвижные, безмолвные статуи, замерли в ожидании боя.
Антонио находился на баке вместе с помощником капитана. Хотя Антонио был человеком не робкого десятка, все эти приготовления не могли не взволновать его. Он знал железный характер и несгибаемую волю пиратов, видел дисциплину и решимость, испанских матросов и понимал, что, кто бы из них ни пошел на абордаж, бой будет жестоким.
Пристально всматриваясь в морскую даль, пытаясь проникнуть взглядом сквозь скрывавший ее мрак, Антонио ждал первого выстрела. Он боялся, что, ослепленный яростью битвы, может броситься на людей Моргана, на своих товарищей, если разум и осторожность не придут ему на помощь.
Все корабли эскадры подняли условный сигнал – связанные крестом две реи с фонарем на каждом конце. Линия боевого порядка была подобна созвездию в ночном небе. Пиратская флотилия не дала ни одного сигнала.
Антонио продолжал свои наблюдения. Внезапно блеснул огонь, совсем близко грянул выстрел, и ядро пронеслось среди мачт «Санта-Марии», срезав трос, на котором держался флаг, однако не причинив большого урона. В тот же миг корабль содрогнулся, один из его бортов оделся пламенем и дымом, и ядра полетели в ответ на приветствие пиратов. Так началось большое морское сражение: пираты ответили на залп, и вскоре почти вся линия испанских кораблей открыла огонь.
День занялся в тучах порохового дыма. С каждой минутой красные вспышки, вылетавшие из пушечных жерл, блекли в лучах утренней зари. Упавший флаг «Санта-Марии» снова взвился под гром канонады. Дневной свет придал бодрости оробевшим; нет ничего страшней неизвестности, ничто так не пугает, как бой в темноте, нет более угнетающей мысли для человека, чем мысль о смерти среди полного мрака, – ведь это все равно что умереть на чужбине, вдали от родных и друзей, покинуть мир, не сказав ему последнее прости.
Многие из тех, кто презирает смерть при ярком свете дня, трепещут, встретившись с ней под покровом ночи. Душа испытывает ужас перед мраком и неизвестностью, она стремится к истине и свету, хотя бы они несли в себе смерть и небытие. Человек хочет видеть, даже если он знает, что больше уже не увидит ничего. Ибо человеческий дух и самую смерть хочет принять в личине жизни, а жизнь есть свет.
Рассвело, но день казался зловещим. Море было так неподвижно, словно оно внезапно оледенело: ни ветерка, ни тучки. Покой, неожиданный мертвый покой; ничто не шелохнется ни на море, ни в небе.
Солнце поднималось, разливая огненные потоки. Вяло повисли на мачтах штандарты, флаги и вымпелы. Обессилевшие паруса запутались в снастях, и, словно вены на коже исполина, выделялись на них канаты и тросы. Клубы пушечного дыма, окутавшие корабли, держались в воздухе подобно огромным хлопьям ваты, едва заметно рассеиваясь тяжелыми медленными спиралями. Обе вражеские эскадры застыли друг против друга на расстоянии пушечного выстрела, словно сев на мель. Но не пески, а море захватило в плен корабли, подобно мертвецу, сжавшему в своих ладонях дружескую руку. Смертный холод сковал руки покойника, они никогда не разожмутся, и живой останется в плену у смерти.
Однако на обеих эскадрах понимали, что страшней, чем сражение с врагом, будет борьба со стихией. Мрачное затишье предвещало бурю. После бури приходит покой – говорят поэты. Но пусть поэты говорят что угодно, а моряки знают: покой есть предвестие шторма. Природа должна сосредоточиться, прежде чем вступить в борьбу с жалкими, слабыми людишками. Она сзывает свои вихри, воды и электрические разряды, подобно полководцу, собирающему рать перед штурмом: вот что означает этот покой.
Темно-синее небо, прозрачное зеленое море, подернутый рыжей дымкой горизонт… Все взгляды устремлены на море, а пушки продолжают стрелять, как бы помимо человеческой воли.
И вдруг, одновременно, словно охваченные общей тревогой, словно повинуясь приказам одного адмирала, и пираты и испанцы стремительно приступили к выполнению маневров.
Все паруса были спущены, все рифы забраны. Можно было подумать, что малейший лоскуток на рее грозил смертельной опасностью, так торопились матросы обнажить все мачты.
На кораблях убирались последние остатки парусов, когда над морской гладью пронесся порыв легкого свежего ветра – так ласточка пролетает над озером, чертя крылом зеркало вод.
То был разведчик, глашатай бури.
Море приветствовало его появление. Морская глубь закипела, и тысячи мелких волн, увенчанных легкой белой пеной, разбежались в разные стороны с тихим ропотом, постепенно перераставшим в глухой грозный рев. Воздух на горизонте начал сгущаться: буря не приближалась, казалось, она назревает там, вдали.
Мы часто видели, как приходит буря, но где и как она зарождается? Тайну этого рождения знают лишь горцы да моряки. Ветер можно угадать, увидеть или почувствовать, когда природу охватывает дрожь ужаса. Но что дрожит? Не море, не корабли, не люди. Так что же? Нечто неведомое, нечто понятное, но необъяснимое, – душа мира, то, что называют природой, то, чего никто не знает, и, однако, все постигают, не умея объяснить, не умея даже обозначить его именем.
Но вот налетел ветер, снасти ответили ему протяжным стоном. Тросы запели, засвистали, заныли, каждый на свой лад, но так зловеще, словно предчувствовали и предсказывали опасность и смерть. Печальный хор! Отовсюду, где болтался хоть один незакрепленный конец, где светился хоть один паз между досками, несся заунывный, протяжный вой.
Кто не слышал завывания ветра? Но слышал ли кто-нибудь более тоскливый ираздирающий сердце звук, чем эти стоны, подобные предсмертному воплю слабого, павшего духом существа?
Началась борьба со стихиями, и бой между людьми прекратился. Солнце померкло и скрылось в желтоватом тумане. Но вот туман, постепенно сгущаясь, превратился в тяжелые, мглистые тучи причудливой формы и окраски; подсвеченные по краям, они теснились, словно сбившиеся в отаре овцы. Там в небе клубились все самые мрачные оттенки серого цвета – от темной сепии до неподдающейся определению окраски пыльного вихря. В скопище туч угадывались потоки воды, бешеные зигзаги молний, зловещие силы, готовые низвергнуться на океан, вздымавший, бросая вызов буре, свои могучие волны.
Тяжелая громада туч, не в силах больше парить в воздухе, стлалась по воде. Буря сходила с высоты медленно, плотная, угрожающая. Но вот, как бы желая разбудить ее, повеяло мощное дыхание урагана, и, словно осенние листья, подхватило и закружило тяжелые военные корабли.
Обе эскадры оказались в самом средоточии бури. Наступила полная тьма, тучи наползали на мачты и снасти.
Все было пропитано влагой, хотя ливень еще не начался. Непрерывно со всех сторон вспыхивали ослепительные молнии, не то падая с неба, не то взлетая вверх из морской пучины. Гроза наконец грянула, и электрические разряды загрохотали, словно артиллерийские залпы двух воюющих миров.
Море бушевало вместе со всей природой. Мощные валы вздымались, сталкиваясь между собой, били в борта кораблей, прокатывались по палубе, неся ужас и разрушение.
Казалось, надежды на спасение нет.
Все люки были плотно задраены, штурвалы и паруса стали бесполезны, всякое управление – невозможно, и брошенные на произвол судьбы, суда носились по воле волн, то целиком зарываясь в воду и пену, то появляясь, как фантастические украшения на гребне могучего вала. Офицеры, матросы и солдаты бездействовали, беспомощные, как муравьи, уносимые на сухой ветке течением реки.
Испанские и пиратские суда беспорядочно метались по волнам, едва ли не соприкасаясь бортами, но противники не узнавали, а порой и не видели друг друга. Сам бог велел им заключить мир перед лицом общей опасности.
«Знаменитый кантабриец» терпел бедствие. Уже рухнули мачты, и старый кузов грозил с минуты на минуту дать течь и навеки похоронить свой груз на дне океана. Капитан перестал изрыгать проклятия. Педро Хуан сидел в полном отупении. Сеньора Магдалена и Хулия пытались молиться.
XIII. ПЕРВАЯ ДОБЫЧА
Буря бушевала почти сутки, то затихая, то приходя в неистовство. На следующее утро солнце осветило безмятежно спокойное пустынное море и ясное, прозрачное небо. Эскадру рассеяло по всему океану, и ни с одного корабля не видно было в бескрайних просторах ничего, кроме воды и неба: ни паруса, ни гавани – ничего. Вода и небо, волны и синяя твердь.
Но вот с одного из кораблей удалось разглядеть вдали какую-то темную точку. Корабль этот был «Санта-Мария де ла Виктория», и капитан его, исследуя морское пространство, обнаружил на горизонте странный предмет, который хотя и не походил на судно, все же не мог быть и ничем иным. Попутный свежий ветер надувал паруса «Санта-Марии», и загадочный предмет, возбудивший любопытство всего экипажа, быстро приближался, увеличиваясь в размерах. Вскоре его уже можно было рассмотреть как следует.
– Это корабль! – крикнул кто-то из матросов.
– Потерявший всю оснастку, – добавил стоявший тут же Антонио.
– Интересно, погибли ли люди?
– Нет, видите, на палубе кто-то движется…
– Они подают сигналы.
– Просят о помощи…
– Смотрите, поднимают флаг на шесте!
«Санта-Мария» была уже близко от потерпевшего крушение судна.
– Ах! – воскликнул Антонио, – видите, на палубе человек с рупором. Он хочет говорить.
– Молчание! – приказал офицер.
Человек поднес рупор ко рту и крикнул:
– Помогите! Помогите!
– А ну-ка, ребята, – сказал капитан, – спустить шлюпки на воду и снять этих людей.
В одно мгновение шлюпки заплясали на волнах, и тут же от корабля, просившего о помощи, тоже отвалила шлюпка. Антонио остался на «Санта-Марии».
Вскоре три шлюпки с людьми пристали к борту военного корабля, не оставив на тонущем судне ни одного живого существа. «Санта-Мария» всех приняла на борт, и тут старая, разбитая посудина, словно только этого и дожидалась, начала трещать, погружаться в воду, затем стремительно перевернулась и исчезла в пучине, оставив за собой бурлящий водоворот. И волны снова сомкнулись.
Таков был трагический конец «Знаменитого кантабрийца».
Антонио Железная Рука принимал на борту спасенный экипаж. Капитан, боцман, рулевой, матросы – все остались невредимы. Но как ни странно, среди моряков оказались две женщины. Когда они стали подыматься по трапу, Антонио почувствовал, будто сердце у него остановилось: он узнал сеньору Магдалену и Хулию. При одной мысли об угрожавшей им опасности Антонио пришел в ужас.
Хулия вскарабкалась по трапу первая, Антонио поспешил помочь ей. Девушка еще не пришла в себя и боялась даже глаза поднять. Вдруг она почувствовала, что ее обнимает чья-то рука. Узнав Антонио, Хулия вскрикнула не то от радости, не то от испуга. Антонио сразу оттащил ее в сторону, пока другой матрос помогал сеньоре Магдалене.
– Молчи, Хулия, ради бога молчи! – шепнул он девушке.
– Что случилось, дочь моя? – спросила подбежавшая к ним сеньора Магдалена. – Что с тобой?
Железная Рука отошел как бы затем, чтобы помочь другим потерпевшим.
– Ничего, матушка, – отвечала Хулия с напускным спокойствием. – Просто я невольно вскрикнула от радости.
– Благословен господь, спасший нас от смерти, – проговорил присоединившийся к женщинам Педро Хуан.
Хулия терялась в догадках и с волнением следила за Железной Рукой. Она знала, что ее возлюбленный ушел к пиратам, к самому Джону Моргану. Что же он делает здесь? Не попал ли он в плен во время сражения? А может быть, Антонио так же, как она, нашел на испанском судне прибежище после кораблекрушения? Или они, сами того не ведая, попали на пиратский корабль? Хулия не знала, что и думать. Однако последнее предположение показалось ей самым вероятным. Не выдержав, она спросила у Хуана:
– Что это за судно?
– Испанский военный корабль, – преисполнившись национальной гордости, ответил Медведь-толстосум. – Сейчас узнаю, как он называется.
Хуан подошел к одному из офицеров, и вернувшись к женщинам, объявил, пыжась, как павлин:
– Военный корабль его католического величества короля Испании (да хранит его бог), названный в честь победы, одержанной над голландцами, «Санта-Мария де ла Виктория», имеющий по сорок пушек на каждом борту и двести человек морской пехоты – гроза голландцев и пиратов, страж торговли Западных Индий.
Произнеся эту торжественную реляцию, Педро Хуан с самодовольным видом поднял шляпу над головой, а сеньора Магдалена ответила ему легким реверансом.
– Теперь, мои дорогие, вы видите, – продолжал Медведь-толстосум, – что его католическое величество располагает не менее мощным флотом, нежели христианнейший король Франции. Такие корабли с честью несут герб испанской монархии в этих водах.
И Медведь-толстосум показал женщинам на красно-желтый флаг, словно язык пламени, вьющийся на свежем утреннем ветру.
Хулия чувствовала, что сомнения ее растут, и хотела любой ценой разрешить их.
– А что произошло с пиратами? – спросила она.
– Я сам думал об этом, – ответил Хуан, – и задал тот же вопрос офицеру. Он сказал, что, едва началась канонада, буря разметала обе эскадры по всему океану, и теперь неизвестно, спаслись ли какие-нибудь корабли или нет. Единственное судно, которое им повстречалось, было наше.
Теперь Хулии стало ясно, что испанцы не могли подобрать Антонио в море. Что же он делал на этом корабле? Неужели он обманул ее? Нет, все, что угодно, только не это! Измученная сомнениями, она решила во что бы то ни стало объясниться с возлюбленным.
Антонио и сам искал случая поговорить с Хулией, но это было почти невозможно. Суровая дисциплина военного корабля связывала его по рукам и ногам, а сеньора Магдалена и Педро Хуан не отходили от Хулии ни на шаг, боясь оставить ее одну среди солдат и матросов.
Ревность влюбленного отчима и материнская любовь в союзе с воинской дисциплиной воздвигли непреодолимую стену между Железной Рукой и Хулией. Они обменивались взглядами, но глаза влюбленных способны произносить только одну фразу:
– Я обожаю тебя!
Больше они ничего не умеют, а если даже и пытаются сказать что-нибудь другое, то все равно говорят лишь:
– Я люблю тебя!
Словарь безмолвного языка очень ограничен, но зато есть взгляды красноречивее слов, и они знакомы влюбленным. Итак, все попытки оказались бесплодны, и влюбленные довольствовались только взглядами. Антонио к тому же все время старался избегать сеньоры Магдалены и Педро Хуана, опасаясь, как бы они не узнали его.
Корабль «Санта-Мария де ла Виктория» отбился от эскадры и потерял первоначальный курс. Однако согласно наказу адмирала, данному на случай бури или разгрома, все корабли, которым не удалось бы соединиться с эскадрой в море, должны были направляться к острову Куба.
Капитан взял курс на запад. Он плохо знал эти воды, и ему необходимо было определиться: книги и советы никогда не дают полной уверенности, если им не сопутствует практическое знание. Дул благоприятный ветер, корабль летел как на крыльях. Так прошло утро. После полудня ветер стих, и пришлось свернуть паруса. Это грозило серьезной опасностью. Если пираты были близко, то отставшее от своей эскадры судно легко могло попасть в плен. Капитан в лихорадочном волнении поглядывал то на бессильно повисший флаг, то на пустынный горизонт.
Антонио отлично понимал, какие мысли одолевают капитана. Помня, что главной его задачей было завоевать доверие главы корабля, он подошел и почтительно обратился к нему:
– Сеньор!
– Что тебе надо? – высокомерно спросил капитан.
– Разрешит ли ваша милость доложить?
– Говори и убирайся.
– Сеньор, я хорошо знаю эти воды…
– Отлично, и что из этого?
– Сеньор, ветер слабеет, почем знать, так может пройти несколько дней. Наступает штиль.
– Это я и сам вижу. Что дальше?
– Дело в том, что тут есть течение, оно идет по направлению к Кубе.
– Где же оно проходит?
– Прямо по нашему курсу. Если бы удалось дотянуть до него, мы бы могли быстро достигнуть берега.
– И ты можешь его отыскать?
– Да, сеньор.
– Что ж, начнем маневрировать.
Судьба, казалось, благоприятствовала Антонио. Судно медленно продвигалось вперед, а хитроумный охотник пристально вглядывался в пляшущие волны. Так прошел час. Вдруг Антонио крикнул:
– Вот оно!
– Где? – спросил стоявший рядом капитан.
– Смотрите, сеньор, – отвечал охотник, указывая вдаль.
– Верно! – воскликнул капитан. – Попутное течение.
И в самом деле, впереди зоркий морской глаз мог различить гладкую полосу воды чистого голубого цвета. Это и было течение. Его границы обозначались как бы легким кипением волн, – вне полосы течения воды залива достигали значительно большей глубины. Все признаки, по которым моряки распознают течение, оказались налицо. Корабль вскоре достиг цели и, подхваченный мощным током воды, помчался вперед.
Неожиданно был дан сигнал «земля», и в ту же минуту от появившегося в поле зрения маленького островка отвалило легкое судно. Вдали показалось еще несколько парусов.
– Что это за остров? – спросил капитан у Антонио, к которому уже проникся доверием. – Ормигас или один из островов Моранте?
– Наваса, сеньор.
– А паруса эти, сдается мне, неприятельские?..
– Это пираты, – сказал Антонио.
Его слова поразили команду корабля, словно удар грома.
Положение было безвыходное. Лечь на другой галс – невозможно: «Санта-Мария» была слишком тяжела, чтобы бежать от преследования пиратов. Пристать к острову – тоже невозможно: капитан знал, что только у западного побережья Навасы глубина океана достигала полумили, но именно там высадка представлялась особенно трудной, – бриз поднял слишком большое волнение. А кроме всего, было бы позорно бежать от сражения, посланного самой судьбой.
Паруса приближались и вскоре подошли на расстояние пушечного выстрела. На «Санта-Марии» все было готово к бою.
Антонио узнал корабль, которым командовал Бродели. От корабля отвалила шлюпка и подошла к борту испанского военного судна. В шлюпке сидели только два гребца и один из главарей, поэтому ей и позволили подойти.
Старший из пиратов подал знак, ему бросили трап, и он решительно поднялся на борт. Капитан «Санта-Марии» вышел к нему навстречу.
– Бродели, вице-адмирал великого Моргана, – надменно произнес пират, – предлагает тебе, капитану испанского военного судна, сдаться и предоставить ему корабль и все, что на нем находится, а взамен обещает свободу и жизнь тебе и всем твоим людям.
– Можешь передать своему начальнику, – с величественным спокойствием ответил капитан, – что моряки, которые служат королю, моему повелителю, не знают слова «сдаваться», что испанцы не складывают оружия перед пиратами, а нашей жизнью и свободой вы можете распоряжаться, как вам вздумается, когда захватите нас в плен. Мы готовы умереть на службе его величества, но никогда не утратим чести ради собственной выгоды. Иди и передай все, что услышал.
Пират, не произнеся ни слова, повернулся на каблуках, сошел по трапу в шлюпку и вскоре снова был на корабле Моргана. Через мгновение облачко дыма поднялось над пиратским судном и первая пуля впилась в борт «Санта-Марии».
То был сигнал к сражению.
Пираты твердо решили завладеть добычей, испанцы готовились защищать свой корабль ценой жизни. Однако капитан «Санта-Марии» полагал, что до этого дело не дойдет. Он надеялся на свои пушки, на искусство своих бомбардиров и был уверен, что мгновенно потопит или же лишит оснастки все вражеские корабли.
Но еще не рассеялся дым первого залпа, как пираты пошли на абордаж. Они походили не на людей, а на свору бешеных псов. Вооруженные топорами и кинжалами, они карабкались на нос судна и бросались на испанцев, которые отчаянно защищались. Палуба была завалена трупами; люки, ведущие в трюм, – выбиты; повсюду хлестала кровь. Капитан, сраженный ударом топора, лежал на шканцах без чувств.
Пираты стали хозяевами «Санта-Марии де ла Виктория». Полчаса боя принесли им победу и первую добычу.
 Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью, со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет – в левой, он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан де Борика. Живодер трясся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хулии поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевшую от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул:
– Простите, сеньор! Эта женщина принадлежит мне!
Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить воле вице-адмирала. Но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.
– Спокойно, сеньор, – продолжал незнакомец, – не обнажайте против меня оружия, это вам дорого обойдется.
– Да кто же ты! – воскликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием.
– Антонио Железная Рука.
Бродели опустил оружие и скрипнул зубами.
– А почему эта женщина принадлежит тебе?
– Потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Эспаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов.
– Куда же ты везешь эту женщину?
– На Санта-Каталину или Тортугу, где мы вскоре должны обосноваться. Я имею на это право, я служу хорошо, я честно выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья? – спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой.
– Верно, он прав, – откликнулись все.
Бродели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость.
– А другая женщина? Эта-то, надеюсь, не твоя и ею мы можем распоряжаться!
Сеньора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту Железной Руки.
– Эта женщина, – торжественно произнес Антонио, – приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое – моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет, хотя бы он был самим адмиралом. Таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны… Не правда ли, друзья?
– Правильно, правильно, – закричали пираты.
Взбешенный Бродели прорычал какое-то проклятье и вышел, уведя пиратов с собой.
В каюте остались Железная Рука, Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан.
– Вы – настоящий мужчина, – сказал Хуан, пожимая руку Антонио.
– Благодарю вас, благодарю вас, – плача повторяла сеньора Магдалена.
Хулия, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, прижала к губам руку Антонио и шепнула:
– Ты ангел, Антонио… Я обожаю тебя.
Антонио затрепетал от восторга.
Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказания.
– Выслушайте меня, – сказал Антонио. – Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агуардьенте, которую пираты найдут на судне, вице-адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знайте, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милостив бог, отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно.
– А ты? – вырвалось у Хулии.
– Я, – ответил Антонио, – последую за тобой, как только смогу.
Сеньора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова.
– Поклянись, – сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее.
– Клянусь! Верь мне, – ответил Антонио, и девушка крепко сжала его руку.
Снасти заскрипели, корабль двинулся в путь.
Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью, со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет – в левой, он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан де Борика. Живодер трясся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хулии поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевшую от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул:
– Простите, сеньор! Эта женщина принадлежит мне!
Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить воле вице-адмирала. Но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.
– Спокойно, сеньор, – продолжал незнакомец, – не обнажайте против меня оружия, это вам дорого обойдется.
– Да кто же ты! – воскликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием.
– Антонио Железная Рука.
Бродели опустил оружие и скрипнул зубами.
– А почему эта женщина принадлежит тебе?
– Потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Эспаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов.
– Куда же ты везешь эту женщину?
– На Санта-Каталину или Тортугу, где мы вскоре должны обосноваться. Я имею на это право, я служу хорошо, я честно выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья? – спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой.
– Верно, он прав, – откликнулись все.
Бродели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость.
– А другая женщина? Эта-то, надеюсь, не твоя и ею мы можем распоряжаться!
Сеньора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту Железной Руки.
– Эта женщина, – торжественно произнес Антонио, – приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое – моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет, хотя бы он был самим адмиралом. Таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны… Не правда ли, друзья?
– Правильно, правильно, – закричали пираты.
Взбешенный Бродели прорычал какое-то проклятье и вышел, уведя пиратов с собой.
В каюте остались Железная Рука, Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан.
– Вы – настоящий мужчина, – сказал Хуан, пожимая руку Антонио.
– Благодарю вас, благодарю вас, – плача повторяла сеньора Магдалена.
Хулия, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, прижала к губам руку Антонио и шепнула:
– Ты ангел, Антонио… Я обожаю тебя.
Антонио затрепетал от восторга.
Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказания.
– Выслушайте меня, – сказал Антонио. – Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агуардьенте, которую пираты найдут на судне, вице-адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знайте, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милостив бог, отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно.
– А ты? – вырвалось у Хулии.
– Я, – ответил Антонио, – последую за тобой, как только смогу.
Сеньора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова.
– Поклянись, – сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее.
– Клянусь! Верь мне, – ответил Антонио, и девушка крепко сжала его руку.
Снасти заскрипели, корабль двинулся в путь.
XIV. ПУЭРТО-ПРИНСИПЕ
Словно дикий бык, затравленный охотничьими псами, шел испанский корабль среди пиратских парусников. Победа так воодушевила людей Джона Моргана, что теперь они не боялись встречи даже со всей испанской эскадрой. Суда взяли курс на расположенный близ Кубы островок Санта-Каталина, чтобы соединиться с главными силами адмирала.
На второй день после сражения на горизонте показались паруса. Бродели решил принять бой, если это испанские военные суда, а если торговые – то пуститься в погоню. Пираты приготовились действовать, но вскоре поняли, что перед ними флотилия под началом Моргана.
Корабли соединились, и Морган, выслушав донесение обо всех событиях, дал Бродели приказ следовать в кильватере его судов курсом на Пуэрто-Принсипе. Предводитель пиратов обязан был объяснять цель каждого своего распоряжения, и вскоре даже простые матросы знали, что город Пуэрто-Принсипе решено взять штурмом. Выбор пал именно на этот город, потому что он ни разу не подвергался нападению и его обитатели сохранили все свои богатства.
Антонио пользовался уважением Моргана и имел большое влияние на своих товарищей, бывших охотников с Эспаньолы; благодаря его заботам Хулия, Педро Хуан и сеньора Магдалена ни в чем не нуждались. Они остались вместе с Антонио, который был зачислен в команду захваченного в плен испанского судна. Морган превратил «Санта-Марию» в свой флагманский корабль и сам принял над ним командование, это значительно улучшило положение Хулии и ее родных. Адмирал не видел Хулии, он только знал, что на корабле находится семья Антонио. Зато мстительный вице-адмирал Бродели глубоко затаил злобу против Антонио, из-за которого лишился своей законной добычи, и ждал только случая, чтобы погубить его. Вскоре неразумный патриотизм Медведя-толстосума предоставил ему этот случай.
Вдали уже показались очертания Пуэрто-Принсипе. Пираты, охваченные жаждой наживы, ослабили надзор, и пленные испанцы теперь могли более свободно общаться между собой.
Воспользовавшись суетой, царившей на корабле Моргана перед высадкой, дон Симеон Торрентес, капитан «Знаменитого кантабрийца», пробрался в каюту к Педро Хуану. Они узнали друг друга, но общая беда заставила их позабыть о былой неприязни.
– Сам дьявол преследует нас, – пожаловался дон Симеон.
– Да, да, – отвечал Хуан, – а в довершение несчастья, эти разбойники собираются напасть на Пуэрто-Принсипе. Они разграбят все до нитки, ведь бедняги жители ни о чем не подозревают.
– Клянусь дьяволом, будь я помоложе и посильнее, я, как истый испанец, добрался бы вплавь до берега и предупредил губернатора. Но я стар, а больше сделать это некому.
– Спокойней, земляк, уж не слишком ли сильно сказано! Хоть вы хороший испанец и настоящий слуга господа бога и его величества, а я, быть может, не хуже вас.
– Черт побери! Да если бы мне ваши силы и ваши годы да та свобода, которой вы пользуетесь, я бы давно уже плыл к берегу. Но вы наверняка не умеете плавать!
– Я плаваю, как рыба. И доберусь ли я до земли или пойду на дно, а уж докажу, какой я испанец!
– Черт побери! Вы способны на это?
– Почему же нет?
– Тогда заверяю вас, король не замедлит вознаградить ваш подвиг. Вы дворянин?
– Нет.
– Он сделает вас дворянином, услуга стоит того. И, как знать, может быть, пожалует вам герб с золотой рыбой на красном поле…
– Его величество, конечно, будет знать, как наградить меня, – ответил, раздуваясь от самодовольства Хуан, который уже видел себя дворянином и обладателем родового герба, – хотя, я полагаю, тут больше подойдет серебряное поле с золотыми кругами.
– Клянусь душой дьявола! Да разве вы не знаете, что сочетание двух металлов в гербе дозволяется только на щитах королевского рода. Ладно, его величество сам во всем разберется, боюсь только, что у вас не хватит духу на это дело.
– И вы полагаете, что это будет большой заслугой в глазах повелителя нашего – короля?
– Величайшей.
– И полагаете, что его величество действительно наградит меня?
– Уверен.
– Тогда считайте, что дело сделано. Я доплыву до берега.
– И станете дворянином.
Тут поблизости появилось несколько пиратов, и дон Симеон поспешно отошел от Хуана. Идея капитана Торрентеса глубоко запала в душу Педро Хуана де Борики. Он обдумывал ее и так и эдак, и всякий раз задача казалась ему все проще, а награда все заманчивее. Он ничего не говорил сеньоре Магдалене, боясь, что та воспротивится его намерениям. И вот, оставив на себе только самую необходимую одежду, Хуан улучил момент, когда на него никто не смотрел, и прыгнул в воду. Шум падения привлек внимание какого-то матроса, раздался крик:
– Человек за бортом!
Несколько матросов приготовились спасать утопающего, который, как все полагали, случайно упал в море. Они внимательно вглядывались в воду, собираясь прыгнуть вниз, как только тело всплывет на поверхность. Но напрасно. Педро Хуан был искусным пловцом, и, когда он вынырнул, чтобы глотнуть воздуху, корабли уже остались далеко позади. Однако один из пиратов заметил его и закричал:
– Вот он! Это сбежал кто-то из пленных.
Все посмотрели в указанном направлении и различили вдали беглеца, который плыл во всю мочь и был уже совсем близко от берега.
– Спустим шлюпку, – предложил один.
– Бесполезно, – возразил другой, – через минуту он будет на берегу. Надо немедленно доложить адмиралу.
Моргану тут же сообщили о происшествии, и он приказал проверить пленных. Вскоре один из командиров принес известие, что все пленные налицо, кроме мужа сеньоры Магдалены, матери Хулии, которая считалась женой Антонио. Во время этого доклада вице-адмирал Бродели находился у Моргана и все слышал.
– Что ты думаешь об этом? – спросил его Морган.
– Думаю, что здесь нечто более серьезное, чем просто побег пленного.
– Что же?
– Этот неизвестно откуда появившийся человек слывет родственником Антонио Железной Руки и, возможно, знает больше, чем нужно, о наших планах.
– Но какое это имеет значение?
– А вдруг он предупредит жителей города?
– Даже если так, неужели ты думаешь, что они способны дать нам отпор?
– Как знать, если их предупредят заранее, они могут сделать попытку. Во всяком случае, добро свое они припрячут, и мы потеряем по меньшей мере две трети добычи.
– Да, ты прав. Это большая оплошность.
– Если не преступление. Уж не думаете ли вы, что этот человек бежал только затем, чтобы вернуть себе свободу? Ведь он даже не был пленником. И неужто без серьезной причины он покинул бы свою жену и дочь, если только эта девушка действительно его дочь? Здесь кроется какая-то тайна, если не измена.
Морган глубоко задумался, опустив голову. Бродели с любопытством наблюдал за ним.
– Антонио! – воскликнул адмирал. – Нет, он не способен на предательство. Я понял его характер, а я никогда не обманываюсь в людях…
– Антонио, возможно, ничего не знает, – примирительно ответил Бродели, убедившись, что адмирал непоколебим. – Однако он виноват в том, что не захотел поместить этого человека вместе с остальными пленными.
– Но если этот человек действительно его родственник?
– Тогда он должен знать, почему тот сбежал.
– А мог и не знать, – возразил Морган, решив отстаивать Антонио до конца. – С чего бы беглец стал откровенничать с Железной Рукой, зная, что он с нами заодно.
– Во всяком случае, – продолжал Бродели, стараясь перенести спор на другую почву, – для общего блага необходимо произвести быстрое и решительное расследование, и начать с женщин. Может быть, они-то и прольют свет на причину побега и на свои истинные отношения с Антонио.
– Вы упорно стремитесь посеять недоверие к этому юноше. Ну что ж. Я произведу расследование в вашем присутствии и постараюсь убедить вас.
– Дай-то бог.
Морган кликнул одного из командиров и приказал привести к себе Хулию и сеньору Магдалену. О бегстве Педро Хуана уже стало известно всем, и женщины сразу поняли, зачем их зовут. Трепеща от страха, вошли они в каюту адмирала.
– Сеньоры, вы должны говорить мне только правду, – сурово обратился к ним Морган. – Только правду, иначе я прикажу вздернуть вас на рее. Понятно?
– Да, сеньор, – отвечала сеньора Магдалена.
– Прежде всего, сеньора, ваша дочь действительно жена Антонио?
Сеньора Магдалена подумала, что если она солжет, то пират сразу догадается об этом по ее лицу.
– По правде говоря, нет, сеньор.
Морган невольно взглянул на Бродели, следившего за ним с дьявольской усмешкой.
– Я говорил вам! – воскликнул тот.
– Хорошо. Прикажите взять Антонио Железную Руку под стражу.
– Что вы хотите с ним сделать? – в ужасе спросила Хулия.
– Скоро увидите, – ответил Морган, в ярости оттого, что дал себя обмануть, и чувствуя свое унижение перед торжествующим Бродели.
– Сеньор, сеньор! Что хотите вы сделать с Антонио? – повторила Хулия, придя в отчаяние от суровости адмирала.
– Сеньора, только смерть будет достойным наказанием за обман.
– Смерть! Смерть! Боже мой! Но что же сделал Антонио? Какое преступление совершил он? Не убивайте его, сеньор! Молю вас на коленях! Чем он разгневал вас?
– Он помешал нам завладеть добычей, и очень хорошей добычей, – ответил Бродели. – Он виноват и в том, что с корабля бежал человек, который, без сомнения, поднимет тревогу в Пуэрто-Принсипе.
– Но он-то чем виноват? – повторила Хулия, все еще стоя на коленях.
– Тем, что обманул нас, выдав вас за свою жену, хотя даже ваша мать говорит, что это неправда.
– Матушка! Матушка! Что вы наделали!
– Но я только сказала правду, – возразила сеньора Магдалена.
– Слышите? – спросил Морган. – Сомнения нет, этот человек обманул нас, посмеялся над нами, и он умрет.
– Нет, не умрет! – воскликнула Хулия, стремительно поднявшись.
– Не умрет? – переспросил Морган.
– Не умрет или вы совершите величайшую несправедливость. То, что сказал вам Антонио, – правда! Я его жена!
– Хулия! – воскликнула сеньора Магдалена. – Хулия! Что ты говоришь?
– Это правда! Правда! Я его жена.
– Пусть так. Но как вы это докажете, если даже ваша мать утверждает обратное.
– У меня есть доказательства.
– Дайте их.
– Есть свидетель, который может все подтвердить, и его слова спасут меня.
– Кто же этот свидетель? Назовите его, – сказал Морган.
– Вы! – ответила Хулия.
– Я?! – воскликнул Морган.
– Да вы, адмирал Джон Морган.
Бродели, сеньора Магдалена и все остальные в изумлении переводили взгляд с адмирала на Хулию.
– Я?! – повторил Морган.
– Да, выслушайте меня. Я стала женой Антонио без ведома и против воли матери.
– Недостойная! – воскликнула сеньора Магдалена.
– Пусть продолжает, – сказал Морган.
– Когда моя мать спала, я потихоньку ходила на свидания с Антонио. Мы жили на острове Эспаньола, Антонио был охотником. Однажды ночью, когда я возвращалась со свидания из Пальмас-Эрманас, на меня напал какой-то человек и потащил в чащу леса. Я чувствовала, что погибаю, человек этот был слишком силен. Я закричала и стала молить бога о помощи. И бог послал мне спасителя. Напавший на меня человек бежал. Мой спаситель проводил меня до самого дома, и там я спросила его: «Как ваше имя?» – «Джон Морган, – ответил он, – только молчите». Я хранила молчание до этого часа, повинуясь воле моего спасителя, и не сказала ни слова даже Антонио, ибо я знаю, к чему обязывает благодарность. Помните ли вы, сеньор, об этом происшествии?
Морган внимательно слушал рассказ девушки. Едва она кончила, пират встал и пожал руку Хулии.
– Все это правда! Вы сохранили мою тайну, хотя для вас она не имела значения, вы повиновались мне из благодарности. Я верю, что вы говорите правду: тот, кто так поступает, не может лгать. Сеньора, несмотря на то что вы сказали, эта девушка – жена Антонио. Можете возвращаться в каюту, к вам будут относиться с должным почтением.
Все командиры были довольны такой развязкой, и только Бродели помрачнел.
– Что ты наделала, несчастная? – запричитала сеньора Магдалена, оставшись с дочерью вдвоем. – Ты обесчестила себя…
– Я спасла его, матушка, в благодарность за то, что он спас нас! Спасла своего супруга, это мой долг!
XV. ПУЭРТО-ПРИНСИПЕ (Продолжение)
Педро Хуан благополучно достиг берега. Выйдя на сушу, он оглядел морское пространство, опасаясь, как бы пираты не выслали в погоню за ним шлюпку. Убедившись, что погони нет, он присел отдохнуть, прежде чем отправиться дальше.
Эти края были ему совершенно незнакомы, и он не знал, какая из дорог ведет в город, но, твердо решив оказать великую услугу испанской короне, Медведь-толстосум встал и без колебаний избрал первую попавшуюся тропинку. Ему повезло, и через несколько часов пути, измученный и истомленный, он был уже в городе. Рассказ о приближении пиратов взбудоражил всех жителей Пуэрто-Принсипе, и вскоре Хуан, представ перед лицом самого губернатора, поведал ему все, что знал о задуманном пиратами нападении и грозившей городу опасности.
Сообщение Педро Хуана вызвало тревогу и ужас. Одни торопились спрятать свои сокровища или увезти их в близлежащие горы. Другие решили дать отпор врагу. Немало было и таких, кто, зная, что терять им нечего, спокойно ждали нашествия Джона Моргана и его пиратов. Губернатор разослал во все стороны гонцов с просьбой о помощи и, не теряя времени, принялся сзывать ополчение и готовиться к защите.
На всех дорогах, ведущих от моря к городу, выросли заграждения из обломков скал и древесных стволов. Губернатор уже собрал свое войско, когда караульные донесли, что пираты высаживаются на берег.
Морган по-прежнему не сомневался в верности Антонио. Однако объяснение между Морганом и Хулией стало известно Железной Руке, и он понял, что вице-адмирал Бродели затаил против него злобу, а сеньора Магдалена тоже питает к нему неприязнь. Таким образом, он и Хулия оказались среди врагов. Мать Хулии, опасаясь Антонио, всячески старалась скрыть свое нерасположение и делала вид, будто всем довольна и хочет только одного: соединиться вновь с Педро Хуаном и отправиться в Новую Испанию.
Настало время высадки; вельботы и шлюпки с пиратами отвалили от судов и помчались к берегу.
– Вы оставляете Железную Руку на корабле? – спросил Бродели у Моргана.
– Да, – ответил адмирал.
– Пожалуй, он будет полезнее на берегу. Он – охотник и скорее может пригодиться вам при высадке и во время сражения, чем мне на корабле, где я остаюсь в полной безопасности.
Морган не знал или позабыл о неприязни Бродели к Антонио и поддался на обман.
– Вы правы, – сказал он, – я беру его с собой.
И приказал Антонио взять команду над одним из отрядов. Хотя Антонио ничего не знал об этом разговоре, тяжелое предчувствие сжало его сердце, когда он прощался с Хулией. И все же он до конца не понимал, какая беда им грозила. Бродели теперь командовал флотилией, Антонио отправлялся на берег, и Хулия оказалась во власти вице-адмирала без всякой защиты.
Ричард, бывший охотник, остался для охраны кораблей и, по счастью, принадлежал к команде флагманского судна. На него возлагал Антонио все свои надежды.
– Ричард, – сказал ему Антонио, – я буду командовать отрядом при высадке.
– Счастливец, – отвечал англичанин, – наконец-то ты заживешь другой жизнью, будешь сражаться, узнаешь опасности и тревоги, а я по-прежнему буду помирать со скуки и только ждать известий с земли.
– Выслушай меня, Ричард. Я покидаю на корабле свою жизнь, половину своей души. Хулия остается здесь…
– Я понимаю тебя, но верю, что с тобой ничего не случится. А ты можешь быть спокоен – ведь Хулии здесь ничто не угрожает.
– Напротив, друг мой, я в большой тревоге. Хулии грозит здесь величайшая опасность.
– Опасность? Но какая?
– Слушай же. У вице-адмирала дурные намерения, я это понял. Увидев, что она одна, без всякой защиты, он, без сомнения, захочет воспользоваться случаем.
– О, это ему не удастся! Разве нет здесь твоих друзей! Неужто мы так слабы?
– Ричард! Мои друзья – единственная моя надежда, а особенно ты!
– Да, я буду заботиться о ней, как о родной сестре.
– Ты обещаешь мне, Ричард, охранять мою Хулию?
– Отправляйся со спокойной душой, Антонио. Ничто не остановит меня, я на все готов ради этой девушки. Даже убить Бродели, если это понадобится. Наши друзья-англичане помогут мне. Будь спокоен и не бойся за Хулию. Я остаюсь с ней.
– Спасибо, спасибо, ты вернул мне счастье! – воскликнул Антонио, с жаром пожав руку Ричарду. – Когда-нибудь я отблагодарю тебя за услугу. Прощай!
И друзья расстались. Удаляясь в шлюпке от корабля, Антонио не сводил глаз с Ричарда, Бродели, Хулии и сеньоры Магдалены, которые смотрели ему вслед. Какие разные мысли волновали эти четыре сердца!
«Ты унес с собой мою душу», – думала Хулия.
«Я победил», – торжествовал Бродели.
«Я выполню свою клятву», – говорил Ричард.
«Хорошо бы ты встретил там смерть», – желала сеньора Магдалена.
А Антонио предавался размышлениям и уповал на бога.
Джон Морган высадился первый, а за ним и все его не слишком многочисленное войско. Разведав дороги, пираты убедились, что все они перерезаны. Испанцы надеялись помешать продвижению неприятеля. Однако этих людей ничто не могло остановить. Помехи и преграды только распаляли их боевой дух и поддерживали решимость.
Морган построил свой отряд в колонну и без всякой дороги, определяя направление по компасу, вступил в глухой лес, отделявший их от города. Этот переход был чудовищно труден; заросли колючих кустарников вставали стеной, на каждом шагу приходилось прорубать проходы в плотной сети лиан, деревья стояли так тесно, что едва можно было протиснуться между двумя стволами. Водопады, потоки, скалы преграждали путь, сама природа препятствовала пиратам, грозила им гибелью; за каждым поворотом можно было ждать засады или неожиданного удара.
Но пираты не отступили бы даже перед силами ада. У Моргана была железная воля, и он знал своих людей. Охотники с Эспаньолы, привычные к суровой жизни в горах, сыграли в этом походе главную роль. Они служили разведчиками и саперами боевой колонны, они исследовали местность, прорубали проходы в чаще абордажными топорами и широкими охотничьими ножами.
Этим передовым отрядом командовал Антонио. В самые трудные минуты образ Хулии не покидал его: порой ему казалось, что она спокойна и думает о нем, и тогда силы его удваивались; порой он видел, как беспомощно бьется она в руках Бродели, и тогда топор валился у него из рук и он боялся сойти с ума от страшных мыслей.
Ревность и любовь боролись в душе Антонио, и каждый час казался ему вечностью.
Два дня пробивалась колонна пиратов сквозь лесные дебри, а на третий, когда солнце стояло уже высоко в небе, раздался радостный крик разведчиков. Они вышли на опушку леса. Перед ними расстилалась бескрайняя долина, а вдали маячили первые городские строения. Теперь положение пиратов изменилось. Они почувствовали, что желанная цель близка.
Голова колонны вышла из леса и почти одновременно вдали показался легкий кавалерийский отряд, скакавший навстречу врагу. Сам губернатор города встал во главе эскадрона, надеясь запугать противника, обратить его в бегство и разбить наголову. Но он не знал ни повадок, ни мужества пиратов.
Морган приказал развернуть знамена, построил своих людей полукругом и под гром барабанов повел их прямо на испанский отряд, который стремительно мчался вперед.
Возможно, в наши дни, когда успехи тактики и военной науки превратили кавалерию в мощное средство прорыва, тот боевой порядок в форме подковы, какой придал Морган своему войску, не устоял бы перед первым же ударом не только эскадрона, но даже взвода. В те времена думали иначе, и исход сражения часто решала не пушка, а человеческая мысль.
Морган и губернатор Пуэрто-Принсипе приблизились друг к другу на расстояние выстрела. Грянул один мушкет, за ним другой, третий, и сражение началось. Испанцы и пираты дрались с ожесточением. Бой длился уже три часа, а предугадать исход было невозможно. Испанский губернатор объезжал свои ряды, воодушевляя солдат, а случалось, и сам брался за мушкет, если пираты начинали теснить его войско. То же делал и Морган. Борьба продолжалась с переменным успехом.
Антонио сражался, как лев, на виду у испанских воинов, кровь его кипела, он позабыл о Хулии и думал только о битве. Он совершал чудеса храбрости, и адмирал смотрел на него с восхищением.
– Молодец, Антонио! – бросил он ему, оказавшись с ним рядом. – Надо наступать, эти испанцы оказались храбрецами.
– Будь здесь хотя бы два десятка моих земляков верхом на конях, – отвечал Железная Рука, – все было бы уже кончено.
Морган, ничего не ответив, улыбнулся мексиканцу и продолжал обход войска.
Железная Рука вместе с горсткой охотников вырвался далеко вперед. Губернатор заметил это и, взяв с собой нескольких всадников, бросился на врага. Схватка была неизбежна, отступать у охотников уже не было времени. Им оставалось сопротивляться до конца и либо отразить удар, либо умереть. Антонио зарядил мушкет и остановился, поджидая неприятеля. Охотники последовали его примеру. В густых клубах пыли мчались, словно ураган, испанские всадники. Впереди, подбадривая их криками и собственным мужеством, скакал губернатор.
Антонио и его охотники взяли всадников на прицел. Блеснул огонь, грянул залп, засвистели пули, и все скрылось в клубах дыма и пыли. Однако кони, очевидно, продолжали свой бег, потому что поднятая ими туча пыли приближалась.
Когда рассеялся дым, стало ясно, что удача была на стороне пиратов. Антонио своим выстрелом настиг самого губернатора, немало всадников было убито, а их кони, не чуя больше узды, рванулись вперед и, налетев на пиратов, кое-кого, в том числе и Антонио, сшибли с ног. Уцелевшие испанцы, отступив, соединились со своими главными силами и сообщили печальную весть о гибели губернатора.
Однако боевой пыл испанцев не угас, и бой продолжался с прежним ожесточением.
Железная Рука поднялся с земли и увидел, что конь губернатора в испуге мечется среди пиратов. Он бросился к нему, схватил его за узду и так ловко вскочил в седло, что пираты разразились криками восторга.
Теперь Антонио почувствовал себя во всеоружии. Нескольким пиратам тоже удалось захватить коней, оставшихся без седоков, и вскоре Железная Рука оказался во главе небольшого кавалерийского отряда. Этого только он и хотел: теперь победа будет за Морганом.
Антонио и его всадники сеяли смерть повсюду, где появлялись, пешие пираты теснили врага со всех сторон, и вскоре в рядах защитников города поднялось смятение. Морган понял это и решительно двинулся вперед. Пираты с торжествующим криком бросились за ним.
Испанцы начали отступать, ища спасения в лесу. Однако лес был далеко, а конница пиратов преследовала и разила врага, захватывая все новых лошадей.
Сражение длилось долго и под конец превратилось в бойню. Немногим испанцам удалось скрыться в лесу – почти все они полегли мертвыми на поле боя.
Морган, не теряя времени, собрал всех своих людей. Его потери, по сравнению с потерями противника, были ничтожны, и он дал приказ немедля двинуться на город. Колонна, состоявшая теперь из кавалерии и пехоты, выступила в путь и через несколько часов подошла к Пуэрто-Принсипе.
Там пиратов ожидал новый бой, хотя и не столь упорный, как в поле. Губернатор оставил в городе гарнизон и,несмотря на печальный исход первого сражения, защитники города приготовились к сопротивлению. Вскоре, однако, гарнизон сдался. Отдельные жители пытались обороняться в своих домах, но тоже вынуждены были сложить оружие.
До этого часа Антонио еще по-настоящему не знал людей, с которыми свела его судьба. Он думал, что все россказни о жестокости пиратов – клевета, измышления испанцев. Но то, что он слышал, не могло сравниться с тем, что увидел он собственными глазами.
Почувствовав себя хозяевами города, пираты набросились на мирных жителей. Мужчины, женщины, дети, старики, рабы – все без исключения были заперты в церквах, а в опустевших домах начался самый разнузданный грабеж. Антонио наблюдал, как пираты тащили из жилищ разное добро, как складывали и увязывали свою добычу, готовясь переправить ее на корабли.
Возмущение вспыхнуло в груди юноши, и он отправился на поиски адмирала, желая узнать, как же сам он смотрит на поведение своих людей.
Джон Морган не принимал участия в бесчинствах пиратов. Спокойно отдыхал он в доме, ранее принадлежавшем губернатору. Увидев Железную Руку, адмирал сразу понял, что происходит в душе молодого охотника. Они были наедине, и Морган мог говорить свободно.
– Готов прозакладывать голову, – сказал адмирал, – что знаю, чем так взволнован мой новый друг.
– Навряд ли, сеньор. Боюсь, я и сам не решусь открыться вам.
– Напрасно. Это означает, что вы плохо знаете людей.
– Возможно, сеньор.
– Тогда слушайте: вы – честный, отважный юноша, не способный ни на что дурное и стремящийся лишь к благородным и возвышенным целям, – пришли в ужас, увидев, что творят мои люди в городе, не так ли?
– Да, сеньор, – согласился Антонио, ободренный искренней сердечностью Моргана.
– Вы правы. Вот почему я нигде не показываюсь и сижу здесь взаперти…
– Но если вас возмущают эти бесчинства, отчего вы их не запретите?
– Вы очень молоды, и у вас еще мало жизненного опыта. Вы думаете, что так легко было бы запретить грабежи? А не думаете ли вы, что я стал бы первой жертвой, если бы попытался сдержать моих солдат? А если бы это даже удалось, поверьте, через двадцать четыре часа мы с вами, хотя бы и сохранив жизнь, оказались бы в совершенном одиночестве.
– Тогда зачем же вы стали во главе дела, которое повсюду сеет лишь ужас, разорение и смерть?
– Выслушайте меня, Антонио. Я открою вам свое сердце, потому что только вы один способны понять и поддержать меня. Здесь, вот здесь, – и Морган прикоснулся ко лбу, – храню я свой замысел. Великий замысел, о котором многие догадываются, цель, к которой все тщетно стремятся. Достичь ее дано только мне. Цель эта – независимость Западных Индий.
– Независимость!..
– Да. Выслушайте меня, не прерывая. Я объездил все колонии, которыми владеет Европа на материке. Я наблюдал, как тирания и рабство разъединяют людей, но я провижу свет грядущей свободы и верю, что принесу народам освобождение. Как я могу это сделать? Судите сами: есть в океане острова, возникшие из морской пучины, похожие один на другой. Вы знаете их: Куба, Эспаньола, Ямайка… Жители и гарнизоны этих островов дрожат от одного нашего имени, трепещут, завидев парус на горизонте. Но эти острова – ключ от океана, стена между Старым и Новым Светом. Создать там единую нацию, могучую своим богатством, грозную своим флотом, прервать сообщение между Европой и ее колониями, разбить морские силы угнетателей, воодушевить угнетенных, помочь им поднять восстание, которое не смогут задушить их владыки, – разве не значит это даровать свободу половине мира? Снять оковы с сотни народов? И ради этого можно прибегнуть к любым способам, стать пиратом, привлечь на свою сторону всякий сброд, отщепенцев, действующих только из корысти. Внушая ужас, мы внушим уважение к себе, заставим считать нас великими, хотя сейчас мы еще ничтожны. Но завтра, о, завтра! Верьте мне, настанет день и пиратские корабли превратятся в мощные эскадры, которые будут подчиняться законам нравственности так же, как эскадры испанского короля. Города и селения не станут больше трепетать при нашем приближении, они назовут нас своими спасителями, и над нашими судами взовьется наш флаг, прекрасный флаг новой нации, свободной, великой и могущественной. Короли вступят с нами в переговоры, как равные с равными, и мы унизим их гордыню. Мы создадим народ, который, подобно римлянам, взяв начало от горсти разбойников и пиратов, завоюет полмира. И народ этот поставит на колени тиранов. Ты понимаешь меня, Антонио?
– Да, да, я все понимаю, сеньор, и я последую за вами!
– Пусть эти ничтожества делят свою добычу. Они думают лишь о сегодняшнем дне. Рожденные ползать по трясине, они не видят неба! Но я превращу этот сброд, этих злодеев без сердца и мысли, эти отбросы общества в великую нацию, и те, кто теперь называют меня низким пиратом, будут благословлять меня как освободителя и воздвигать в мою честь памятники и статуи. Если бог, которому ведомы мои замыслы, дарует мне помощь, не пройдет и года, как весь мир узнает, чего я стою и на что способен…
Железная Рука слушал Моргана с восторгом. Он хотел ответить ему, но внезапно на улице послышались крики и шум. Адмирал и охотник подошли к окну и увидели внизу всех англичан, участвовавших в походе. Оглашая город воплями ярости, они несли на руках чей-то труп. Одни взывали к правосудию, другие – к мести, и вот вся шумная толпа ринулась в дом адмирала. Лицо мертвеца было накрыто платком. Морган снял его, и у Антонио вырвался крик ужаса. То был Ричард, друг Железной Руки, которому поручил он защиту Хулии.
XVI. РИЧАРД И БРОДЕЛИ
Хулия почти все время проводила в каюте, боясь даже показываться на палубе. Она чувствовала себя одинокой, безмерно одинокой – сеньора Магдалена едва с ней разговаривала.
По мнению сеньоры Магдалены, Хулия обесчестила семью, объявив себя женой Антонио Железной Руки, который в лучшем случае был охотником на быков, а в худшем – пиратом.
Ричард и Бродели следили за девушкой неотступно, один – чтобы спасти ее, другой – чтобы погубить. Однако преимущество было на стороне Ричарда. Он знал, кто его враг, а тот и не подозревал, что на корабле есть хоть один человек, кроме сеньоры Магдалены, который озабочен судьбой Хулии.
Прежде всего англичанин решил сообщить девушке, что Антонио оставил ей защитника. Однажды, воспользовавшись тем, что Хулия оказалась на палубе без сеньоры Магдалены, Ричард заговорил с ней:
– Хулия, – шепнул он, подойдя поближе.
Девушка, не узнав его, с удивлением подняла голову:
– Что вам угодно?
– Я должен поговорить с вами.
– Говорите.
– Я буду краток, за нами следят. Антонио поручил мне заботиться о вас, помогать вам. Скажите, что вам нужно?
– Благодарю вас. Сейчас – решительно ничего.
– Во всяком случае, знайте, что у вас есть друг. Может быть, Антонио говорил вам обо мне. Меня зовут Ричард.
– Да, – ответила Хулия и, просияв, протянула ему руку. – Я знаю, вы – настоящий друг.
– Тогда рассчитывайте на мою дружбу и прощайте, мне кажется, Бродели за нами наблюдает. Не забывайте, я – рядом с вами.
Пожав руку Хулии, Ричард поспешно отошел. И, в самом деле, он почти тотчас же столкнулся с вице-адмиралом, который сердито спросил у него:
– Не можете ли вы сказать, что за дела привели вас к этой девушке?
– Просто подошел поздороваться с ней.
– Похвально; надеюсь, однако, что больше это не повторится.
– Не повторится? Почему же? Разве я нарушаю этим наш договор?
– Договор не договор, а установившиеся среди нас обычаи. Да и о благоразумии не следует забывать…
– Что это значит?
– Муж этой женщины отправился в поход с Морганом, и ему не очень понравится, если он узнает, что вы тем временем любезничали с его женой. Это может вызвать недовольство среди товарищей…
– Но если я…
– Кроме того, мы уважаем чужие права. Эта женщина оставлена под защитой начальников ее мужа, а они должны блюсти честь каждого воина, как собственную…
– Но…
– Дайте мне кончить. Если мы будем терпеть подобные вольности, то, отправляясь в бой, никто не сможет спокойно оставить свою семью, каждый будет бояться, как бы в его отсутствие над ним не посмеялись…
– Но у меня не было ни малейшего намерения…
– Я сужу не о намерениях, а о поступках, и предупреждаю вас под страхом сурового наказания, чтобы больше вы не беседовали с этой девушкой. Понятно?
Ричард сообразил, какое коварство кроется за этими неожиданными обличениями, и до крови закусил губу. Бродели искусно плел сети, желая удалить его от Хулии и оставить ее без защиты под лицемерным предлогом, будто охраняет честь сражающихся воинов. Ричард решил затаиться и молча наблюдать.
Вице-адмирал до самого вечера ходил дозором вокруг Хулии, выжидая удобный случай и измышляя способы захватить ее в свои руки.
За день до того, как пираты взяли город, Ричард, который неотступно следил за Бродели, заметил, что тот беседует с капитаном корабля «Лебедь», принадлежавшего самому Бродели. Незаметно подкравшись к ним, Ричард прислушался:
– Держи все наготове, – говорил Бродели, – завтра утром мы поднимем паруса. Нечего нам здесь терять время с Морганом, да еще делить барыши с этими чертовыми англичанами, когда мы можем сами найти себе настоящее дело!
– Ты прав. Пять кораблей в нашей флотилии принадлежат французам, они последуют за нами. А это судно тоже нам пригодится, оно – наша добыча.
– Вот именно. Но надо действовать осторожно. Я хотел бы разойтись с Морганом и его англичанами по-хорошему, без всяких споров. Когда все будет готово к отплытию, я высажусь на берег и сообщу ему о своем решении.
– Отлично!
– А теперь слушай: завтра на рассвете я отправлю тебе женщин. Обе они хороши: молодая – будет моей, сбереги ее для меня и относись к ней с уважением. Другую, если хочешь, можешь взять себе или отдать от моего имени, кому вздумаешь.
– В котором часу их ждать?
– Перед рассветом пришлешь за ними шлюпку. Я отправлю их с четверкой надежных матросов, а то еще вздумают сопротивляться.
– Будет сделано. Завтра перед рассветом.
Бродели и капитан говорили по-французски, но Ричард знал этот язык и не упустил ни слова. План Бродели был ясен. Он хотел похитить Хулию и увести у Моргана все французские корабли. Ричард ломал голову, придумывая способ спасти Хулию и предупредить измену вице-адмирала.
Стража, охранявшая испанских пленников, состояла из англичан. Ричард поговорил с ними и узнал, что у них не было приказа запрещать пленным ходить по кораблю, им полагалось следить лишь за тем, чтобы испанцы не подняли бунт. Это и нужно было Ричарду.
Он начал присматриваться к пленникам, пытаясь понять, кому из них можно довериться, и в конце концов остановился на старом капитане, доне Симеоне Торрентесе.
– Послушайте, друг, – сказал он, подойдя к нему поближе.
Капитан зарычал в ответ и отвернулся.
– Послушайте, – продолжал Ричард, – хотите бежать?
– Гм… – проворчал дон Симеон, – что вы говорите?
– Я спрашиваю, хотите ли вы бежать отсюда? Хотите получить свободу?
– Это вы без обмана?
– Без всякого обмана.
– Тогда какого дьявола спрашивать, хочет ли пленник получить свободу?
– Полагаю, что вы этого хотите. Но я желал бы еще знать, хватит ли у вас отваги, чтобы бороться с опасностями, стоящими на пути к свободе.
– Еще бы не хватит! Но кто мне поручится, что вы поступаете со мной честно, что это не ловушка, грозящая смертью?
– А что мне проку в вашей смерти?
– Не знаю. Но всегда лучше соблюдать осторожность.
– Вы должны поверить мне. Мне нечем доказать честность моих намерений. Хотите – верьте мне, не хотите – разойдемся по-хорошему. Ничего не поделаешь.
Дон Симеон немного подумал и наконец воскликнул:
– Сто тысяч дьяволов! Я вам верю и передаю свою судьбу в ваши руки. Если вы меня обманете, дадите ответ богу. Что нужно делать?
– Прежде всего выберите среди своих товарищей еще троих смельчаков и к тому же хороших гребцов.
– А потом?
– Сегодня вечером вы получите от меня такую же одежду, как наша, чтобы вас не узнали. Ждите, пока я вас не позову, и тогда хватайте силой тех двух женщин, которые находятся на корабле, и сажайте в присланную за ними шлюпку. Затем, когда шлюпка отойдет подальше, вы нападете на пиратов-французов, которых там увидите, убьете их, пошвыряете в море и, завоевав бот и свободу, поплывете к берегу, а там – помогай вам бог!
– А если все сойдет хорошо, что нам делать с этими женщинами?
– Вот в этом и заключается условие, которое я вам ставлю. Спасите их от французов и высадите на землю в безопасном месте.
– Так. А если вы меня не позовете?
– Тогда терпение. Это будет знак, что дело провалилось.
– Сейчас пойду подыщу себе товарищей.
Ричард отошел, раздумывая, как бы подставить четырех испанцев вместо матросов, которые должны были сопровождать Хулию и сеньору Магдалену.
Он думал почти весь вечер, отнес дону Симеону и его товарищам одежду, а нужная мысль все не приходила в голову. Неожиданная случайность вывела его из затруднения.
Прошла ночь, близился рассвет, как вдруг перед англичанином появился Бродели.
– Чтобы доказать, что я не сомневаюсь в твоей верности, – сказал он, – я хочу дать тебе поручение.
Ричард задрожал, решив, что вице-адмирал хочет отправить его с корабля на берег.
– Отбери четырех самых надежных матросов, они должны препроводить на «Лебедь» этих женщин, из-за которых вышел у нас сегодня утром спор.
Ричард не поверил своим ушам. Ему и во сне не снилось, чтобы Бродели мог избрать его для подобного поручения. С притворным равнодушием он спросил:
– К какому времени должны быть готовы эти люди?
– Тотчас же. Отправляйся за ними.
Ричард, как бы желая показать свое рвение, бегом бросился за пленниками.
– Вперед, – сказал он дону Симеону.
– Пора? – спросил старик.
– Да, где ваши помощники?
– Здесь.
Все четверо последовали за Ричардом.
Когда Ричард появился рядом с Бродели, шлюпка «Лебедя» уже раскачивалась на волнах у трапа.
– Вот они, – сказал англичанин, показав в темноте на своих людей.
– Спустись с ними вниз и добром или силой приведи сюда обеих женщин.
Ричард повиновался, испанцы последовали за ним.
Хулия и сеньора Магдалена спали одетые. В страхе вскочили они при виде неожиданных пришельцев.
– Следуйте за мной, сеньоры, – сказал Ричард.
– Но куда?
– Там узнаете. Следуйте за мной.
– Ричард! – воскликнула Хулия. – Куда нас ведут?
– Не знаю, сеньора. Таков приказ вице-адмирала. – И, подойдя ближе, он шепнул: – Идите, не бойтесь, умоляю вас.
– Идем, матушка, – сказала Хулия.
– Идем, – откликнулась сеньора Магдалена.
Ричард поднялся на палубу, за ним шли женщины, окруженные матросами.
– Вот они, – сказал Ричард.
– Они сопротивлялись?
– Так яростно, что, пожалуй, надо за ними присматривать. Как бы еще они не бросились в море с отчаяния.
Хулия в ужасе посмотрела на Ричарда: это была страшная ложь.
– Ладно, сажайте их в шлюпку. По два человека на каждую женщину.
Двое матросов схватили сеньору Магдалену, другие двое Хулию. Их посадили в шлюпку, где находилось только двое гребцов и рулевой. Ричард спустился по трапу вместе со всеми, а покидая шлюпку, тихо сказал дону Симеону:
– Все идет так, как я предполагал. Смелее!
– Не беспокойтесь! Все будет отлично!
Англичанин поднялся на корабль, и шлюпка отчалила. Хотя приготовления начались глубокой ночью, сейчас уже брезжил рассвет. Ричард пришел в отчаяние: первых проблесков зари было достаточно, чтобы разглядеть все, что происходило в море, а вице-адмирал не отрывал взгляда от удалявшейся шлюпки.
Вдруг Бродели воскликнул:
– Что это? Что там происходит? Похоже, что на шлюпке дерутся!
И в самом деле, дон Симеон со своими товарищами, вооруженные огромными ножами, набросились на гребцов. Захваченные врасплох, пираты сопротивлялись недолго. Все они были перебиты, и их трупы один за другим полетели в море.
Схватка продолжалась одно мгновение. Испанцы, завладев веслами, принялись грести как одержимые.
– Они взбунтовались и похитили бот, – не помня себя от ярости, заорал Бродели. – Спустить шлюпки! Огонь по боту! Огонь!
Но шлюпки оказались привязаны, артиллерия – не готова, а беглецы тем временем приближались к берегу. Когда пираты собрались наконец их преследовать, они уже сошли на землю и затерялись в лесных зарослях, бросив спасительный бот на волю волн.
XVII. СПАСЕНИЕ
Ярость вице-адмирала не знала границ. Вдруг, словно молния, его пронзила догадка, что бегство пленников – дело рук Ричарда. Он тут же потребовал его к себе.
– Что это за матросов ты выискал для сопровождения женщин? – прорычал он, задыхаясь от гнева.
– Четверых, как вы приказывали.
– Кто они такие?
– Почем я знаю? – пренебрежительно ответил Ричард.
– Связать этого негодяя! – крикнул Бродели матросам.
– Горе тому, кто осмелится тронуть меня, – выхватив нож, воскликнул Ричард.
Матросы, в большинстве своем англичане, ненавидевшие вице-адмирала, притворились напуганными и не двинулись с места.
– Вы что, не слышите? – продолжал Бродели. – Вяжите его, трусы!
Никто не шелохнулся.
– Значит, вы не подчиняетесь мне? Взбунтовались со страху? Ладно, трусы… То, что не смеете сделать вы все, сделаю я один…
И, произнеся эти слова, он шагнул к англичанину.
– Бродели! – крикнул Ричард. – Предупреждаю: если ты только прикоснешься ко мне, ты мертв.
– И ты осмелишься?
– Да, осмелюсь.
– Я – вице-адмирал.
– Ты – чудовище! Пользуясь своим положением, ты хотел соблазнить и похитить жену нашего товарища, а он сейчас сражается за нас! Я помешал этому…
– Значит, ты сознаешься в том, что помог бежать этим женщинам?
– Да, это сделал я.
– Тогда казнь будет еще ужаснее.
И, сделав вид, будто хочет уйти, Бродели внезапно выхватил пистолет и выстрелил в Ричарда. Пуля пронзила сердце молодого англичанина.
Ричард застонал, выронил нож, и тело его рухнуло к ногам Бродели.
Крик возмущения вырвался у англичан, и они бросились к вице-адмиралу.
– Отмщение! Отмщение! – раздался общий призыв.
Бродели вытащил из-за пояса второй пистолет и приготовился к защите. Но взбешенные англичане продолжали наступать.
Люди, объединившиеся вокруг Моргана, представляли собой сборище выходцев из всех стран, всех народов. Были среди них итальянцы, испанцы, африканцы, американцы, даже китайцы. Но больше всего было англичан и французов.
Англичане, набранные самим адмиралом, были ярыми его приверженцами и не ладили с французами, которые шли за Бродели. Не раз требовалась вся сила престижа Моргана, чтобы гасить распри, вспыхивавшие из-за этого постоянного соперничества.
Естественно, что, приняв командование над «Санта-Марией», адмирал образовал экипаж из англичан, и теперь вице-адмирал оказался среди людей, которые его ненавидели, и не мог рассчитывать ни на одного защитника.
Бродели отлично понимал свое положение и знал, что спасти его может лишь дерзкая отвага. Отступая и держа под дулом пистолета угрожавших ему матросов, он дошел до борта. Тут он выстрелил в первого попавшегося англичанина, остальные отступили, и, прежде чем рассеялся пороховой дым, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, Бродели прыгнул в воду и вплавь добрался до одного из французских судов. С борта бросили трап, и вице-адмирал, изрыгая проклятия, поднялся на корабль.
На борту «Санта-Марии» восстановилось спокойствие.
Друзья Ричарда перенесли его труп в шлюпку. Они решили отправиться на берег и, представ перед Морганом, потребовать правосудия или мести. Вот почему появились они в городе у дома, который занял адмирал.
Морган бесстрастно выслушал отчет о случившемся. Он обещал англичанам справедливый суд и сообщил, что вечером все пираты должны вернуться на борт своих кораблей.
Железная Рука был подавлен горем. Ричард погиб, желая оказать ему услугу; он сдержал слово и спас Хулию. Но где теперь сама Хулия? Что сталось с ней? Блуждая в глухом лесу с людьми, которые совсем не знали этого края, она могла снова попасть в руки к пиратам или умереть с голоду в непроходимой чаще.
Антонио решил отправиться на поиски и сказал об этом адмиралу, к которому относился теперь с полным доверием.
– Это невозможно, – ответил Морган.
– Почему?
– Вы не знаете местности, а через несколько часов мы должны поднять паруса. Наши дозорные перехватили гонца, при нем были письма, адресованные захваченным в плен горожанам. В письмах дается совет не платить выкупа. Утром ожидается мощная подмога, – испанская эскадра разыскивает нас, чтобы отомстить за захват «Санта-Марии» и снова вернуть ее. Нельзя терять ни минуты.
– Как могу я покинуть Хулию, одинокую и беззащитную?
– Но где же выход? Остаться здесь одному, чтобы вас повесили без всякой пощады, возможно, на глазах у женщины, которую вы ищете?
– Пусть я умру, но покинуть Хулию я не в силах!
– Антонио!
– Сеньор, если вы доверяете мне, разрешите мне остаться. Вскоре я присоединюсь к вам. Каким образом? Господь наставит меня. В противном случае – велите отвести меня на свой корабль, как пленника, по доброй воле я не покину этот остров, пока не буду уверен, что Хулия в безопасности.
– Поступайте как знаете, Антонио. Но я советую вам не задерживаться надолго. Завтра испанские войска будут здесь.
– Бесполезно об этом говорить, сеньор. Я решил искать Хулию, решил найти ее, и я буду ее искать и найду…
– Вы свободны!..
Прежде всего Антонио позаботился о том, чтобы сменить одежду. Затем, не теряя времени, он вышел из города и зашагал в том направлении, где, по рассказам англичан, скрылись испанские пленники вместе с женщинами. Долго шел он, никого не встречая среди безлюдных лесов. Но вот он заслышал шум волн. Очевидно, море было близко. Антонио вышел из лесу и оказался на морском берегу.
Грозные черные скалы вздымались из воды, и огромные волны, увенчанные султанами сверкающей белой пены, с грохотом разбивались о камни каскадами жемчуга и алмазов. Антонио понял, что попал на побережье, противоположное месту высадки пиратов. Может быть, здесь нашла себе прибежище Хулия.
Узкая тропинка вилась по песку. С одной стороны лежали густые заросли, с другой – простирался океан. Антонио решительно двинулся по тропинке. Местами океан отступал, и волны, удаляясь, расстилались, словно необъятное покрывало, потом снова бушевал прибой и замирал у самого подножия деревьев. Заслышав приближение волны, Железная Рука замирал на месте, вода заливала его по пояс, потом откатывалась, и он снова продолжал путь.
Тропинка углубилась в лес, отклонившись от берега. Антонио тоже повернул и, прошагав немалое время среди чащи, снова услышал шум морского прибоя. Он взглянул вперед и увидел большую бухту.
Там было полно народу. Вдали стояли на якоре корабли, а жители острова с берега наблюдали за высадкой солдат. Безотчетным движением Антонио бросился назад и скрылся в лесу. Если бы его узнали, он, без сомнения, был бы повешен. Прячась за деревьями, Антонио внимательно присматривался ко всему, что делалось на берегу. С кораблей высадилось большое войско с артиллерией. Солдаты построились в колонны и по одной из дорог двинулись в глубь острова. Это и было подкрепление, прибывшее для разгрома пиратов. Но Антонио не сомневался, что, пока испанцы дойдут до города, Морган уже поднимет паруса.
День угасал, океан покрылся дымкой, вечерний сумрак залил леса. Глаз едва различал пенящиеся гребни волн, деревья смутно проступали на темной синеве небес. Торжественно звучал прибой, а над лесной чащей поднимался смутный гул: звон насекомых, пение птиц, ропот ручья, хруст ветвей, однообразное гудение ветра в листве.
Ночь – на воде, ночь – на суше, затерянной среди океана. Опасная тишина, нарушаемая лишь ударами волн о скалы. В лесу – неясный шум да изредка какие-то странные звуки, недоступные пониманию человека.
Антонио все ждал и ждал. Огни на судах погасли, но он знал, что там бодрствуют часовые. На берегу догорали костры. Глубокое безмолвие царило в неожиданно возникшем поселении, лишь изредка раздавался собачий лай в ответ на далекое рычание лесного зверя.
Наконец Антонио решился покинуть свое убежище и при скупом свете звезд пустился в путь. Крадучись, стараясь слиться с густым кустарником, он дошел до места, где ему послышались приглушенные голоса. Сделав еще несколько шагов, он увидел каких-то людей, сидящих кружком на земле; все они были вооружены. Должно быть, здесь скрывались местные жители, бежавшие из города, – неподалеку от костра стояли сундуки, а рядом, прямо на земле, спали несколько женщин.
Антонио притаился и стал прислушиваться к разговору. С первых же слов ему стало ясно, что он – у цели.
– Теперь вы видите, – говорил один из этих людей, – что бог еще при жизни вознаграждает человека за хорошие поступки. Вы – на свободе и в добром здравии, да еще и встретились со своей семьей, чего уже вовсе не ждали.
– Да, мне есть за что благодарить всевышнего, – ответил голос, слишком хорошо знакомый Железной Руке.
– И как, вы сказали, вас зовут? – спросил третий.
– Дон Педро Хуан де Борика-и-Ленгуадо, – отвечал человек со знакомым голосом, который оказался не кем иным, как нашим живодером, уже вполне уверенным в своем дворянском титуле.
– И вы собираетесь остаться с нами?
– Разумеется, нет, – возразил Педро Хуан, – при первой же возможности отправлюсь с эскадрой в Новую Испанию.
– И хорошо сделаете. На этом острове такое творится, что жить здесь никак нельзя. Да и бедные сеньоры столько натерпелись, что им необходим покой, а здесь его не дождешься.
– Бедняжки! – сказал Педро Хуан. – Только бог был в силах спасти их из рук подлых пиратов.
Тут разговор перешел на пиратов и их обычаи. Живодер принялся расписывать нравы пиратов самыми мрачными красками, какие только мог найти в скудной палитре своего воображения.
Теперь Антонио был уверен, что Хулия и сеньора Магдалена в безопасности и вновь соединились с Педро Хуаном, который, казалось ему, был послан самим провидением для защиты бедных женщин. Он мог спокойно уйти, ему нечего больше бояться за свою возлюбленную, да и ничего он не мог для нее сделать. Так подсказывало ему благоразумие. Но Железная Рука был влюблен, а влюбленные почти никогда не внемлют голосу благоразумия. Эта добродетель им только мешает, и Антонио не был исключением из общего правила. Он, разумеется, собирался уйти, но хотел, чтобы раньше Хулия узнала, что он тревожился за нее, разыскивал, был рядом и ушел лишь тогда, когда увидел ее в безопасности.
Однако заговорить с ней сейчас было невозможно. Может быть, написать? Но как?
И тут Антонио вспомнил былые счастливые времена. Он обошел вокруг лужайки и, приблизившись к месту, где лежала Хулия, засвистал песенку, которой вызывал девушку на свидание, когда они жили в Сан-Хуане.
Мужчины, разумеется, не обратили на это никакого внимания. Но Хулия, которая не спала, решила, что ей пригрезился знакомый мотив, и залилась слезами. Однако вскоре она убедилась, что это не сон; наверное, кто-нибудь случайно насвистывал песенку, навеявшую столько печальных воспоминаний. Она попыталась не слушать. Антонио засвистал другую мелодию, и тут уж Хулия вскочила, чувствуя, что сходит с ума.
– Антонио, – шептала она, – Антонио! Невозможно! Каким образом?
Железная Рука продолжал насвистывать, сеньора Магдалена не просыпалась, и Хулия наконец поняла, что ее возлюбленный близко. При неверном свете угасающего костра Антонио увидел, как поднялась с земли какая-то тень. Он не мог хорошо рассмотреть ее, но знал, что ни одна женщина, кроме Хулии, не могла обратить внимание на условный сигнал. Теперь они оба узнали друг друга, оба поняли, что они совсем рядом, и оба стремились найти какой-нибудь способ поговорить. Хулии, робкой и пугливой, это показалось невозможным, зато для отважного и влюбленного Антонио все было просто.
Охотник пополз среди кустарника, который становился все реже и реже. Педро Хуан еще не спал и продолжал разговаривать, он легко мог заметить Антонио. Но юноша хотел поговорить с Хулией и решил добиться этого любой ценой.
К счастью, мужчины были увлечены беседой, а сеньора Магдалена спала очень крепко. Антонио удалось подползти совсем близко.
– Антонио, ради бога! – прошептала девушка. – Что ты делаешь? Тебя заметят.
– Хулия! Неужели ты думаешь, что я могу покинуть тебя?
– Но будь разумен, Антонио! Я – в безопасности. Беги! Уходи отсюда! Спасайся, умоляю тебя.
– Не бойся, ангел мой. Я уйду. Но раньше я хотел поговорить с тобой. Ты должна знать, что я забочусь о тебе, что я не оставлю тебя.
– Неужто я в этом сомневалась? Разве я не знаю тебя? Но уходи ради бога! Ради нашей любви! Я боюсь, я так боюсь за тебя. Если тебя схватят, я умру от горя. Сделай это для меня, уходи, любовь моя!
– Хорошо, Хулия, я подчиняюсь. Но не забывай меня ни на миг.
– Никогда, никогда! Я думаю только о тебе.
– Ты всегда будешь любить меня?
– Всегда, всегда!
– Прощай! Верь моим обещаниям.
– Прощай! Верь и ты моим клятвам!
Хулия протянула руку, Антонио нежно сжал ее и запечатлел на ней тихий поцелуй, такой тихий, что даже легкий морской ветерок не мог его подслушать. Затем так же осторожно он скрылся в зарослях.
Хулия долго прислушивалась к тишине. Малейший шум, шелест ветра в траве пугал ее, – ей казалось, что Антонио пойман. Неумолчные удары волн о берег, мешавшие ей слушать, приводили ее в отчаяние. Так прошло более часа. Наконец она воскликнула:
– Слава богу, теперь он, наверное, в безопасности!
Радостный и гордый ушел Антонио от Хулии и, никем не замеченный, ловко и бесшумно достиг опушки леса.
Для человека, который любит по-настоящему, самая славная победа – это одобрение любимой женщины. В ней заключается для него весь мир, и, если она довольна, презрение всего общества ему безразлично. Женщина, заслужившая такую любовь, может с гордостью сказать: «Я вдохновила на этот подвиг; мне обязана родина этим героем; мне обязано человечество этой книгой, этим благим деянием. Я поддерживаю это мужество в бою, этот ум в науке, эту душу в добродетели. Ибо человек этот все совершает для меня, для одной меня».
Железная Рука размышлял о любви и гордился своей Хулией. Думая о ней, он прилег у подножия дерева и крепко заснул.
Молодость и усталость помогают заснуть даже среди величайших опасностей. Антонио и не подумал о том, в каком неподходящем месте он устроился. Спал он долго и видел во сне Хулию. Внезапно он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Открыв глаза, он увидел вокруг себя множество народу.
– Это не иначе как из пиратов, – сказал один.
– Да, это пират, – подтвердили остальные.
– Вставай! – крикнул кто-то из них и грубо дернул Антонио за руку.
Антонио встал.
– Отвечай: ты – пират?
– Я пришел вместе с ними, – бесстрастно ответил Антонио.
– Значит, пират?
– Если бы это было так, разве спал бы я здесь так спокойно?
Довод этот, очевидно, показался достаточно убедительным, все растерянно переглянулись.
– Как же ты пришел вместе с ними? – продолжал допрашивать его тот же человек.
– Меня взяли в плен на Эспаньоле.
– Неплохо бы спросить других пленников, – вмешался еще один.
– Правильно, правильно, – закричали остальные.
– Теперь это уже невозможно, – возразил тот, кто казался их главарем, – видите, корабль, на котором они отправляются, поднял паруса.
Все взглянули в сторону моря, и Железная Рука увидел, как величественно скользит по волнам большой военный корабль. Напряженно взглядываясь в даль, он рассмотрел на палубе Хулию.
Невольный вздох вырвался из груди Антонио. Почем знать, быть может, им предстояла вечная разлука, и эта мысль так поразила его, что он дал себя связать, не оказав ни малейшего сопротивления.
Вскоре Железная Рука шагал по направлению к городу под конвоем разъяренных островитян, готовых убить его на месте.
Часть вторая. РОД ГРАФОВ ТОРРЕ-ЛЕАЛЬ

I. СЕМЬЯ ГРАФА
Одним из самых прекрасных зданий, построенных в Мехико испанскими конкистадорами и их потомками, был, несомненно, дом, принадлежавший графам де Торре-Леаль. Как все другие резиденции местной знати, он стоял на главной улице Икстапалапа. На этой улице новые властители воздвигали роскошные здания, которые в Мехико скромно именовались домами, но в любом другом месте были бы названы дворцами.
Графы де Торре-Леаль происходили из древнего кастильского рода. Если верить родословным книгам новой колонии, предки их, запершись в крепостной башне, отразили нападение мавров и отстояли целую область то ли для Альфонсо Завоевателя, то ли для другого из королей иберийского полуострова, которые сохраняли и расширяли свои владения лишь благодаря героическому величию своего сердца и мощи своей руки. На щите с родовым гербом графов красовалась в память о достославном подвиге золотая башня на голубом поле, а род их принял имя Торре-Леаль.[44]
Хроники и предания гласят, что первый граф прибыл в Мексику как солдат Эрнана Кортеса в погоне за приключениями. Ему понравился этот край, и конкистадор превратился в колониста. Он получил от Кортеса землю, выстроил дом, обзавелся семьей. Его потомки обосновались в Новой Испании, и с каждым днем возрастало их богатство, значение, а вместе с тем и гордыня.
В те годы, о которых хотим мы повести свой рассказ, титул графа Торре-Леаль принадлежал старому дону Карлосу Руис де Мендилуэта; супругой его была донья Гуадалупе Салинас де Саламанка-и-Баус. Граф прожил уже шестьдесят зим, а донья Гуадалупе едва достигла двадцать второй весны. Разница была велика, и объяснялась она тем, что дон Карлос решился на второй брак только после долгих лет вдовства. Выбор его пал на красивую и благонравную, но бедную девушку, которую он случайно увидел в церкви на ранней мессе. Эта девушка была Гуадалупе. Граф наблюдал за ней во время службы, пошел ей вслед до самого дома и выведал у соседей ее имя и звание. Через неделю он приехал просить ее руки. Граф был знатен, богат, добрый христианин и честный человек. Гуадалупе сравнялось пятнадцать лет, она слыла превосходной девушкой. Брачный союз был решен, и вскоре дон Карлос повел к алтарю свою юную невесту, красневшую под любопытными взглядами толпы, заполнившей церковь.
У дона Карлоса было двое детей от первого брака: старший – Энрике вел веселую, праздную жизнь, младшая – донья Консуэло приняла обет в одном из монастырей Мехико.
Когда дон Карлос вступил во второй брак, Энрике не выразил ни малейшего недовольства. Напротив, зная, что одиночество могло быть губительно для отца, он радовался его счастью, словно своему собственному, и принял Гуадалупе, если не как почтительный сын, чего не допускал ее юный возраст, то как любящий брат. Старый граф был этим от души доволен. Через год Гуадалупе стала матерью, и Энрике понес младенца к купели.
В Мехико жил брат доньи Гуадалупе, который был старше ее на много лет. Звали его дон Хусто, по слухам, он отличался мрачным, скрытным нравом, скупостью и коварством. Через месяц после крещения сына доньи Гуадалупе дон Хусто явился в дом графа, чтобы поздравить сестру. Гуадалупе была одна. Брат придвинул кресло к ее кровати и сел.
– У тебя красивый ребенок, благодарение богу, – сказал дон Хусто.
– Да, неправда ли, он очень красив? – спросила Гуадалупе с материнской гордостью.
– Очень. Словно ангел! Да простит мне бог это сравнение.
Гуадалупе поцеловала сына, посмотрела на него и снова принялась целовать.
– Да сохранит его бог, сестра, и да ниспошлет ему счастье. Бедняжка! – добавил дон Хусто с удрученным видом, – как мне его жаль!
– Почему? – в испуге спросила Гуадалупе.
– Почему? Ладно, ты сама отлично знаешь. Не притворяйся.
– Да нет же! Говори, ради бога, моему сыну грозит беда?
– Нас никто не слышит?
– Никто.
– Тогда слушай, – шепотом продолжал дон Хусто. – Разве не кажется тебе величайшей бедой то, что этот ангелочек, в жилах которого течет наша кровь, не наследует титул графа де Торре-Леаль, а будет жалким сегундоном?[45]
– Такова воля божья, – отвечала Гуадалупе. – Но граф меня очень любит, он не оставит нашего сына в нищете…
– Нет, нет, этого я не думаю… Но представь себе… если бы ты была матерью графа, а я его дядей…
– Но право принадлежит тому, кто родился раньше моего сына.
– А если бы это можно было изменить?..
– Изменить? – с удивлением переспросила Гуадалупе. – Что ты хочешь сказать?
– Сейчас поймешь… Единственным препятствием к тому, чтобы твой сын стал графом, является этот праздный гуляка дон Энрике.
– Законный наследник?!
– Да. Но если бы его не было…
– Тогда мой сын стал бы графом.
– Что ж, он легко может умереть.
– Кто?
– Дон Энрике.
– Боюсь, что так. Эта разгульная жизнь, дуэли и бог знает, что еще… Как огорчает он своего доброго отца.
– Неплохо было бы помочь судьбе…
– Каким образом?
– Очень просто. Постараться, чтобы дон Энрике исчез.
– Ты замышляешь преступление! Боже, какой ужас!
– О нет. Зачем же преступление?
– Что же тогда?
– Да так, есть у меня один план. Не знаю, как объяснить тебе…
– Нет, Хусто, не говори мне об этом. Так велел бог, и я буду верна его воле.
– Подумай хорошенько…
– Об этом нечего и думать, Хусто…
– Но судьба твоего сына…
– Бог позаботится о нем.
– Ты ребенок, ты ничего в этом не смыслишь. Но, в конце концов, это мой племянник, и я сам буду действовать.
– Хусто, забудь об этом. Умоляю тебя!
– Предоставь все мне.
– Нет, нет!
– Ты просто глупа, сестрица. Прощай.
– Хусто… Хусто!.. – крикнула ему вслед Гуадалупе.
Но дон Хусто, не отвечая, поспешно вышел из ее покоев.
II. ПЕРВАЯ ЗАПАДНЯ
Редкая женщина могла бы устоять перед таким юношей, как дон Энрике. Обладатель несметного богатства, стройной фигуры и ясного ума, наследник старинного дворянского титула, ловкий наездник, – он был отважен до дерзости, искусен во владении оружием и во всех видах физических упражнений, а романсы и сегидильи сочинял с той же легкостью, с какой владел копьем. Одаренный столь незаурядными достоинствами, дон Энрике чувствовал себя хозяином земли и был готов к любому приключению, с равным безразличием относясь и к опасности и к славе. Сердце дона Энрике было еще прекраснее, чем его тело. Он без колебаний мог броситься в огонь, чтобы спасти неизвестного ему человека, или вступить в бой с негодяем, обидевшим ребенка. Не раз он переводил через дорогу беспомощного слепца, не думая о том, какой разительный контраст являет его цветущая юность и шитый золотом бархатный камзол с грязными лохмотьями и печальной старостью жалкого нищего.
Дона Энрике знали и любили все жители города. Однако дьявол не раз искушал его приманками любви, а так как дьяволу нетрудно угадать слабую струнку каждого человека, то вскоре он понял, что именно в любовных делах может победить эту сильную душу. Стоило дьяволу мигнуть, и дон Энрике оказывался влюблен по уши.
Девушки, которым, как всем дочерям Евы, глаза даны на их же погибель, не могли не оценить достоинства молодого сеньора. Несмотря на слухи о ветрености юноши, каждая, не доверяя чужому опыту, надеялась пленить его своими чарами. Но, увы, все они, одна за другой, оказывались желанными, любимыми и покинутыми. Правда, дон Энрике обладал даром лишать даму своей любви, не теряя при этом ее дружбы.
В то время, о котором идет наш рассказ, дон Энрике увивался, как говорят в народе, вокруг прекрасной доньи Аны де Кастрехон, единственной дочери богатого испанца, умершего несколько лет назад.
Донья Ана принадлежала к тем девушкам, которых в наши дни называют кокетками. Она жила вдвоем с матерью, щедро тратила деньги, посещала все балы и развлечения, всегда была окружена сонмом поклонников, причем со всеми поддерживала добрые отношения, – одним словом, была истым доном Энрике среди прекрасного пола.
Ана и дон Энрике встретились в обществе и, сразу увидев и оценив друг в друге сильного врага, не решались помериться силами. Каждый понимал, что если борьба начнется, то она будет слишком опасной. Долгое время оба прикрывались равнодушием, втайне поджидая, когда противник первым пойдет в наступление, чтобы тут же разбить его или подчинить себе навеки. Но ни один не решался взять на себя начало.
«Эта женщина, – думал Энрике, – хочет увлечь меня, чтобы надо мной посмеяться и отомстить за свой пол. Внимание!»
«Этот мужчина, – думала донья Ана, – делает вид, будто не замечает меня, чтобы задеть мое самолюбие и тем легче одержать победу. Внимание!»
А молодые люди спрашивали у дона Энрике:
– Как это ты, такой волокита, пренебрегаешь случаем поухаживать за красавицей доньей Аной?
– Сам не знаю, – отвечал Энрике.
А девушки спрашивали у доньи Аны:
– Как это случилось, что до сих пор ты не заставила дона Энрике пасть к твоим ногам?
– Да я никогда об этом и не думала, – отвечала донья Ана и заговаривала о другом.
Так проходили дни. Дон Энрике и Ана встречались постоянно, делая вид, что даже не глядят друг на друга, но в действительности все их помыслы были направлены на будущую победу, которая для каждого стала делом чести, ибо сердце тут уже никакой роли не играло.
Наконец настал день, когда судьба свела их на балу. Они долго беседовали. Никто не прерывал их беседы, ибо все поняли, что пробил долгожданный час, и хотели знать, кто победит.
– Давно уже я замечаю, – говорила донья Ана, – что вы печальны. – Это была ложь, но Ане казалось, что так легче завязать бой.
– Сеньора, – отвечал дон Энрике, понимая намерения дамы и принимая вызов, – когда ранено сердце, трудно изображать на лице радость.
– Уж не влюблены ли вы? – сказала девушка, прямо переходя к делу.
– Кто в молодости не влюблен, сеньора? – возразил дон Энрике, уклоняясь от удара.
– Возможно, это болезнь молодости. Но, очевидно, либо я немолода, либо принадлежу к особой породе. Я не знала еще этой болезни.
– Это почти невозможно, сеньора.
– Поверьте мне.
– Вы так прекрасны, так умны, окружены таким поклонением!..
– Уж не стихами ли вы заговорили?
– Сеньора, если правда – это поэзия, то я говорю стихами.
– Вы грезите.
– Я говорю то, что вижу и чувствую…
– Сегодня вечером вы слишком любезны.
– Сегодня вечером я говорю то, что думал не один вечер.
– Это правда?
– Клянусь.
Донья Ана бросила на Энрике взгляд, полный огня, и он ответил ей таким же пылким взором. С этого часа их отношения становились все ближе. Донья Ана не переставала нежно улыбаться другим своим обожателям, дон Энрике также не упускал случая поухаживать за другими дамами, но все видели в этом лишь дань старым привычкам; было ясно, что из любви или из тщеславия дон Энрике и донья Ана хранят верность друг другу.
В конце концов все кругом поверили, будто два эти существа преданы друг другу навеки и дело близится к свадьбе.
Мать доньи Аны звали донья Фернанда. Она так гордилась красотой и любовными победами своей дочери, что ей никогда не приходило в голову остановить ее. Донья Ана стала полной хозяйкой в своем доме, она всегда поступала, как хотела, и матери оставалось лишь сопровождать ее на вечеринки и развлечения.
Любовь Аны и дона Энрике несказанно обрадовала донью Фернанду: выдать дочь за наследника рода Торре-Леаль казалось ей высшим счастьем. Хотя почтенная сеньора никогда не говорила с дочерью о подобного рода делах, на этот раз она решила посоветовать ей добиваться заключения брака, надеясь своей опытностью помочь красоте и соблазнительности Аны.
Однажды вечером, оставшись с дочерью наедине, донья Фернанда приступила к делу.
– Дочь моя, – сказала она, – возможно, мои слова покажутся тебе странными, ведь до сих пор я никогда не вмешивалась в твои дела. Но в нынешних обстоятельствах благоразумие и долг велят мне быть твоей советчицей.
– Вот чудо, матушка! А главное, вы поздно спохватились. Кажется, я уже совершеннолетняя и приобрела достаточный опыт в жизни!..
– Даже к старости, дочь моя, жизненный опыт не бывает достаточным. Послушай, далеко ли зашли твои отношения с доном Энрике?
Ана с удивлением посмотрела на мать, слегка раздосадованная этим неуместным допросом.
– Не удивляйся, – продолжала донья Фернанда. – Ты моя дочь, и я желаю тебе добра. Именно в отношениях с доном Энрике ты должна соблюдать величайшую осторожность.
– Уж не думаете ли вы, матушка, что я ребенок, которым Энрике может играть по своей прихоти?
– Нет, надеюсь для этого ты слишком умна. Я боюсь не того, что он посмеется над тобой, а того, что у тебя не хватит ловкости заставить его жениться.
– Да я об этом даже не думала.
– Вот в том-то и беда, об этом я и хотела поговорить с тобой.
– Так поговорим, матушка.
– Ана, ты молода и красива, живя со мной, ты ни в чем не нуждаешься, а в тот день, когда я умру, ты станешь очень богата. Но одинокая женщина не может занять достойное место в обществе. Мы, женщины, рождены, чтобы выходить замуж. Ты тоже должна иметь мужа, и я не вижу никого, кто подходил бы тебе больше, чем граф де Торре-Леаль.
– Он еще не граф.
– Но будем им, и очень скоро. Теперь перейдем к главному: говорил ли он тебе когда-нибудь о супружеских узах?
– Никогда. Он говорил только о любви. Разве этого не достаточно?
– Вот они, молодые люди! Наплетут вам нежных слов, а вы и довольны…
– Да что же я могу сделать, если он не думает о женитьбе?
– Заставить его, заставить.
– Но как?
– Ты призналась, что любишь его?
– Да, матушка.
– Потому-то они так ветрены! Никаких препятствий, никакой борьбы! Все течет легко, как вода в ручейке, все само идет им в руки…
– Но, матушка!
– Потому-то так трудно теперь уберечь девушку. В мои времена, дочь моя, «да» говорили лишь в ответ на предложение руки. Мы были очень благоразумны…
– Полно, матушка, меня не проведете. Я уверена, что и вам моя бабка говорила то же самое, и сама она слышала те же слова от своей матери…
– Поступай как хочешь, но я говорю тебе истинную правду.
– Ладно, пусть так. Но что же вы мне посоветуете теперь, когда дон Энрике уже добился взаимности без всяких условий?
– Посмотрим, посмотрим. Чтобы распалить его страсть, нужно поставить перед ним непреодолимые препятствия, но это уже должна делать не ты, а я.
– Вы?
– Да, я. Скажешь ему, что я против вашей любви, так как узнала о его легкомыслии. Скажешь, будто я пригрозила, что скорее заточу тебя в монастырь, чем соглашусь на ваш брак.
– Но если он ничего не говорит о браке…
– В таком случае я первая заговорю об этом, понимаешь? И слово, которое ты вложишь в мои уста, а он услышит от тебя, сразу направит ваши отношения по другому пути.
– А если это охладит его любовь?
– И не думай! Ты не знаешь мужчин. Возможно, вначале ему это не понравится, но потом страсть в нем вспыхнет еще жарче. А кроме того, скажу тебе по секрету, дон Хусто, брат доньи Гуадалупе, сообщил мне, будто Энрике уже начинает скучать.
– Боже мой! Матушка!..
– Вот что случается, когда нет никаких препятствий, этому я и хочу помешать. Ты только верь мне и делай все, что я говорю, тогда сама увидишь…
– Хорошо, матушка, я на все согласна.
– Теперь запомни хорошенько: я – самый лютый враг вашей любви, и я запрещаю тебе видеться с ним. Почаще плачь, назначай ему свидания в самое неподходящее время, делай вид, что дрожишь и боишься. Едва увидев его, убегай, проговорив второпях: «Уходите, ради бога, уходите, дон Энрике, сюда идет моя мать! Мы погибли!»
Ана весело расхохоталась при одной мысли о предстоящей комедии. Таких любовных приключений у нее еще не было, и все показалось ей очень забавным.
– Но, – продолжала донья Фернанда, – иной раз я не буду пускать тебя на балы и прогулки…
– Ах, матушка, какая досада!
– Это необходимо. Иначе он ничему не поверит, а мы ничего не выиграем.
– Очень жаль!
– Нередко я буду запирать тебя, и ты не будешь видеть ни его, ни кого другого. Тогда можешь послать ему письмо, полное отчаяния и любовных жалоб.
– Да ведь я едва умею написать свое имя, и это ужасно, потому что и вы пишете не лучше.
– Пустое. Я-то не сумею, но верный друг, хотя бы тот же дон Хусто, который обещал во всем помогать мне, напишет все, что нужно. А не то попросим отца Хосе из монастыря кармелитов.
– Нет, лучше уж дон Хусто. Ведь фрай Хосе мой духовник, и мне придется нелегко.
– Ладно, как хочешь, это пустое. Было бы добро, все равно от кого.
– Отлично, вот это мне по вкусу.
– Значит, теперь ты понимаешь?
– Понимаю, понимаю.
– Тогда за дело. Начинай завтра же и расскажешь, как все удалось. Уверяю тебя, не пройдет и нескольких месяцев, – если только будет на то воля божья, и старенький граф отправится вкушать небесный покой, – как ты станешь сеньорой графиней де Торре-Леаль.
– Бог поможет нам, ведь научили же вы меня желать того, о чем я и не помышляла. Вот увидите, я выполню все ваши советы, да еще и не то придумаю.
Донья Фернанда удалилась, гордясь уроком, преподанным дочери, а также и ее понятливостью.
С этого дня Ана спала и видела себя графиней де Торре-Леаль. Ей мерещились гербы на дверцах кареты, вензеля, вышитые в уголке носового платка, ливреи лакеев, роскошь и блеск старинного дворянства. Раньше Ана стремилась восторжествовать над доном Энрике, заполучив его себе в поклонники. Теперь она хотела заполучить его в мужья.
III. ИНДИАНО
В те времена одним из самых заметных людей в Мехико был дон Диего де Альварес, известный в городе под прозвищем Индиано. Он был холост, сказочно богат, щедр, любил повеселиться и слыл в обществе блестящим молодым человеком.
Дону Диего было около тридцати лет, лицо его выдавало несомненную принадлежность к чистой индейской расе. Стройный, сильный, с гладкими черными волосами и бронзовой кожей, безбородый, с тонкими усиками над губой, он казался прямым наследником Монтесумы.
Индиано приехал в Мехико богачом, но никто не знал его прошлого. Одни говорили, будто он родом из внутренних провинций, другие – из Антекеры, третьи – из Семпоалы или с берегов Грихальвы, а иные были уверены, что он явился с Кубы или Эспаньолы. Сам дон Диего не пускался ни в какие объяснения, и его прошлое было окутано тайной. О нем создавались невероятные легенды, что только способствовало его успеху у женщин.
Несмотря на разноречивые слухи и пренебрежение, с каким относились тогда к индейцам, богатство дона Диего заставило умолкнуть всех недоброжелателей, и он был с почетом принят в высшем обществе Мехико. Только вице-король и вице-королева, не отказавшись от своих сомнений, проявляли подозрительность и продолжали следить испытующим взором за всеми, даже самыми невинными поступками Индиано.
Дон Диего принадлежал к наиболее пылким поклонникам доньи Аны, и он-то лишился и ее благосклонности, когда любовь красавицы завоевал молодой наследник рода Торре-Леаль. Между обоими претендентами сразу же вспыхнуло соперничество. Разжигаемое равнодушием дамы к одному из них и благосклонностью к другому, соперничество это вскоре превратилось в лютую ненависть, и оба, затаившись, ждали только случая, чтобы найти ей выход.
Однажды дон Энрике публично похвалился тем, что похитил сердце дамы у соперника, а тот гордо объявил, что первым властелином несравненной красавицы был он. Неосторожные слова, подхваченные еще более неосторожными друзьями, сделали невозможным всякое примирение. Дон Диего готовился к мести, и Энрике, зная это, был все время настороже.
Донья Ана, пользуясь мудрыми советами своей матушки, изменила тактику по отношению к возлюбленному. Иногда ему по нескольку дней не удавалось с ней встретиться, и в конце концов он поверил, что между ними стоят непреодолимые преграды. Разумеется, все эти маневры не могли не оказать желаемого действия, и вскоре дон Энрике, который начал домогаться любви доньи Аны только из прихоти, был страстно влюблен. А попав в расставленные сети, мужчина, как бы он ни был умен, как бы ни гордился своей волей, будет, как дитя, подчиняться всем желаниям любимой женщины, не понимая, что его обманывают, и с гневом отвергая уговоры друзей, пытающихся предостеречь его. Всю свою жизнь он отдаст этой женщине, которая может стать для него либо спасением, либо гибелью. Жертвами этой ужасной болезни сердца обычно становятся или старики, или так называемые светские люди. Дон Энрике и дон Диего захворали опасным недугом одновременно, и страсть их была обращена на одну и ту же женщину. Дон Диего внезапно утратил любовь доньи Аны, на пути страсти дона Энрике возникли неожиданные преграды, и эти перемены, казалось, еще больше воспламенили обоих.
Дон Энрике чувствовал себя способным на любую жертву ради Аны, но мысль о женитьбе на ней казалась ему кощунством. Ни за что на свете он не отказался бы от этой женщины, однако понятия о чести рода, внушенные ему с детства, делали для него невозможным брак с дочерью даже не сельского идальго, а торговца, да еще легкомысленной кокеткой, весьма благосклонно относившейся к своим бесчисленным поклонникам.
Близилось тринадцатое августа – день святого Ипполита, и город Мехико готовился пышно отпраздновать годовщину падения империи ацтеков и вступления Кортеса в Теночтитлан. Дамы готовили наряды и драгоценности; молодые люди собирали конные отряды для участия в процессии; жители заранее украшали фасады своих домов. На улицах, по которым должны были торжественно пронести знамя завоевателя, воздвигались помосты для зрителей. Даже в храмах собирались отметить день славы для испанцев, день траура и печали для индейцев. В народе толковали, что Мехико никогда еще не видывал подобной роскоши. Капитул и местные власти решили в этом году затмить всех своих предшественников, все было призвано доказать их верность и преданность его величеству – музыка и конные состязания, балы и празднества, восхваления и шутовство.
Накануне великого дня город был оживлен сверх обычного. По всем улицам сновали портные, шорники, золотошвеи, ювелиры, слуги и рабы; с величайшей осторожностью оберегая свой груз, несли они, кто – китайский фаянс, кто – шитые золотом пышные юбки или бархатные панталоны и камзолы, кто – украшенные золотыми и серебряными бляхами седла и сбрую, кто – перья, цветы, драгоценности, парчу – словом, вещи неслыханной ценности, об истинном назначении которых не всегда даже можно было догадаться. Балконы домов были задрапированы парчой и камчатной тканью, шитой разноцветными шелками, и убраны выставленными напоказ золотыми и серебряными блюдами, японским фарфором, редкими растениями и цветами в фантастических китайских вазах. Все это нагромождение богатств стоило целого королевства.
Дон Энрике прогуливался с друзьями по улицам, наслаждаясь общим оживлением. Он рассчитывал увидеться во время торжеств с доньей Аной и, пользуясь праздничной суетой, незаметно поговорить с ней. Проходя по площади мимо часовни шорников, – называвшейся так, потому что за порядком в ней следили члены этого цеха, – Энрике заметил, что за ним неотступно следует какой-то негритенок, подавая ему таинственные знаки. Юноша заколебался, не зная, к нему ли обращается негритенок, но вскоре, увлеченный беседой, позабыл о нем. Так дошли они до угла улицы Такуба. Дон Энрике разглядывал балконы, а негритенок, оттесненный толпой, пытался догнать его. Наконец юноша остановился. Негритенок, воспользовавшись моментом, подбежал к нему и тихонько дернул за полу. Дон Энрике обернулся, и мальчуган показал ему записку, одновременно поднеся палец к губам в знак молчания.
Увидев, что они стоят у какого-то дома, дон Энрике вошел под навес, негритенок последовал за ним. Друзья, догадавшись, что речь идет о любовном приключении, остались на улице, загородив вход в дом, и дон Энрике, скрытый от любопытных взглядов, развернул записку и принялся читать:
«Любовь моя! Завтра я надеялась увидеться и поговорить с тобой, но это невозможно. Я очень несчастна. Моя мать знает, что ты участвуешь в шествии со своим отрядом всадников, и не разрешила мне выходить днем на улицу, а вечером не пускает меня на бал.
Если ты любишь меня, если хочешь доставить мне радость поговорить с тобой и даже пожать твою руку, завтра в полночь я буду ждать тебя у оконной решетки на первом этаже нашего дома. Придешь?
Надеюсь, что придешь, ведь ты не захочешь, чтобы я умерла с горя в тот день, когда все будут радоваться и веселиться.
Твоя до гроба Ана».
– А на словах твоя сеньора ничего не велела передать? – спросил Энрике, прочитав письмо до конца.
– Сеньор, молодая госпожа говорит, что целует руки сеньору и что вы ее господин; и еще говорит, завтра молодой госпоже нельзя выйти, нельзя видеть сеньора. А в полночь она будет ждать у решетки внизу, у окна, что выходит на улицу, в такое время, когда старая госпожа ляжет спать.
– Отлично. И ты думаешь, ей удастся прийти туда?
– Да, мой сеньор. Это комната Фасикии, кормилицы молодой госпожи. Она знает все дела сеньоры так же хорошо, как я. Фасикия постережет, чтобы не пришла старая госпожа.
– Тогда скажи молодой госпоже, что я не пишу ей, потому что ты вручил мне письмо на улице. Но скорее солнце завтра не встанет, чем я не приду на свидание.
Дон Энрике достал из роскошного кошелька золотую монету и, протянув ее негритенку, ласково добавил:
– Беги и не забудь, что я сказал тебе.
– Нет, мой сеньор, – ответил негр и, поцеловав монету, выбежал на улицу.
Дон Энрике бережно спрятал записку и вышел. Друзья последовали за ним.
Эта сцена не обошлась без свидетеля, который хотя ничего не слышал, но легко обо всем догадался. По воле случая у окна дома напротив стоял Индиано. Увидев с высоты второго этажа, как дон Энрике вместе с негритенком вошел под навес, он стал наблюдать за их беседой. Дон Диего сразу узнал своего соперника, и волнение, охватившее его душу, подсказало ему, что дело касается доньи Аны. Это письмо; негритенок, так таинственно беседовавший с доном Энрике; радость, озарившая лицо будущего графа де Торре-Леаль; осторожность, с какой он прятал письмо; золотой, подаренный мальчугану, – все наводило дона Диего на подозрения. Едва негритенок вышел из дома, он взял шляпу и, взглянув, в каком направлении зашагал слуга доньи Аны, бросился в погоню.
Негритенок шел очень быстро. Однако ненависть и ревность воодушевляли Индиано, и неподалеку от главной площади он нагнал мальчишку. Почувствовав, что кто-то взял его за плечо, негритенок обернулся и замер в изумлении перед столь роскошно одетым кабальеро.
– Ты раб сеньоры доньи Аны?..
– Да, сеньор мой, – прервал его негритенок, – я раб моей сеньоры доньи Аны и к услугам вашей милости.
– Хочешь, я сделаю тебя самым богатым негром на свете?
– Как вам будет угодно, сеньор мой, – отвечал негритенок, все больше удивляясь.
– Но для этого ты должен кое-что рассказать мне.
– Да, сеньор мой.
– Что ты делал и о чем говорил только что с этим кабальеро?
– Сеньор мой, ни с каким кабальеро я не говорил, – притворно захныкал негритенок.
– Ладно, не притворяйся. Как тебя зовут?
– Хуаникильо. Так зовет меня молодая госпожа.
– Хорошо, Хуаникильо. Так что же ты сказал тому кабальеро, с которым говорил на улице Такуба?
– Ай, сеньор мой, я не могу. Госпожа будет меня бить.
– Но если она ничего не узнает, а я тебе подарю одну вещицу…
– Нет, нет, она узнает, узнает и побьет меня.
– Ну что ты, не будь дурачком. Скажи мне все и посмотри-ка, что я тебе подарю. – Тут Индиано показал негритенку чудесную золотую цепь, висевшую у него на шее.
Хуаникильо бросил жадный взгляд на цепь и невольно протянул к ней руку.
– Она станет твоей, – сказал Индиано, отступив, – но прежде ответь на вопрос.
Негритенок подумал и наконец решился.
– Хорошо, я все скажу сеньору. Только бедному Хуаникильо придется потом уйти к беглым рабам.
– Нет, нет, не сразу. Я хочу, чтобы ты остался в доме и рассказывал обо всем, о чем я буду тебя спрашивать.
– И всякий раз сеньор будет давать мне золотые цепи? – обрадовался негритенок.
– И цепи и кое-что получше.
– Вот хорошо, сеньор мой.
– Это тебе подходит?
– Да, Хуаникильо очень нравятся всякие хорошие и дорогие вещи.
– Скажи же, о чем вы говорили?
– Мы говорили, что молодая госпожа послала письмо дону Энрике и будет ждать его завтра в полночь.
– Где?
– Дома, у оконной решетки в комнате Фасикии – это черная кормилица молодой госпожи.
– А он что ответил?
– Что придет, сеньор мой.
– Отлично. Получай цепь и послезавтра днем приходи сюда же. Только внимательно следи за всем, что творится в доме.
– Хорошо, господин.
– Ты можешь подслушать, о чем они говорят?
– Старая и молодая госпожа?
– Да.
– Ну еще бы!
– Послезавтра мне нужно знать каждое слово.
– Сеньор все узнает.
– А теперь отправляйся.
Индиано снял свою великолепную цепь и опустил ее в руку негритенка. Хуаникильо посмотрел на цепь, сунул ее за пазуху и бегом бросился домой.
Индиано постоял, пока негритенок не исчез за углом улицы Икстапалапа, а затем, пройдя по улице Такуба, вернулся в тот же дом, из которого вышел.
IV. МАРИНА
Дом на улице Такуба был велик и роскошен. Слуги и рабы, собравшиеся в патио, при виде Индиано склонились в почтительном поклоне. Дон Диего поднялся по лестнице и через анфиладу богатых покоев прошел в прекрасную залу. Мебель, ковры, украшения – все в ней было подобрано с изысканным вкусом. Но сразу бросалось в глаза, что в убранстве испанские обычаи боролись с обычаями коренных обитателей страны.
Комнату украшали пышные султаны из разноцветных перьев, ковры были расшиты золотом, у подножия кресел и диванов лежали огромные шкуры львов, ягуаров и медведей с искусно сохраненными головами и золотыми или серебряными когтями. Столы были заставлены фигурками из золота и серебра, японскими вазами, прекрасными благоухающими цветами.
Когда дон Диего вошел, зала была пуста, но почти в тот же миг отворилась другая дверь и на пороге появилась женщина. Она была молода, и никто бы не усомнился, что в ее жилах течет чистая индейская кровь. Черные глаза сверкали; волосы отливали синевой, словно вороново крыло; между тонкими пунцовыми губами блистали ровные, белые, как слоновая кость, зубы. Цвет лица у этой женщины отливал не бронзой, как у дона Диего, а золотом. Одета она была в голубую, шитую черным шелком тунику без рукавов и корсажа, стянутую вокруг талии золотой цепью с двумя свободно падающими концами. На обнаженных руках сверкали золотые запястья, узкий золотой обруч поддерживал черные волосы.
Увидев ее, Индиано встал и пошел к ней навстречу.
– Дон Диего! – воскликнула девушка. – Мне было так грустно, я думала, ты не вернешься.
– Тебе было грустно, Марина?
– Разве могут быть веселы цветы, когда скрывается солнце?
– Но ведь солнце всегда возвращается; оно знает, что его ждут цветы, и светит только для них.
– Это правда?
– Сеньора, зимой, когда нет цветов, печальное солнце скрывается в тучах.
– Нет, нет, дон Диего, это розы умирают, оттого что прячется солнце.
– Марина, а почему сегодня так медлило мое счастье, почему я не видел тебя раньше?
– Когда я вышла, тебя уже не было. Тебе надоело ждать меня?
– Я уходил, но тут же вернулся, чтобы сказать тебе о своей любви.
Донья Марина ласковым движением взяла дона Диего за руку и усадила рядом с собой.
– Дон Диего, – сказала она с нежностью, – почему ты так упорно не хочешь уезжать отсюда? Этот воздух гибелен для нас. Дерево, возросшее в дикой сельве, в городе чахнет; полевой цветок умирает в саду. Уйдем отсюда, сеньор мой, вернемся в наши леса и луга, где ты говорил мне такие прекрасные слова при бледном свете луны, туда, где ветер пел о нашей любви, где каждый ручей повторял наши поцелуи. Здесь все вокруг нас мрачно и печально, нет ни цветов, ни деревьев, ни ручьев. Женщины и мужчины смотрят на нас с любопытством; повсюду я вижу торжествующих завоевателей. Зачем, зачем ты принуждаешь мою любовь жить в темнице?
– Ты права, Марина. Нам надо бежать из этого отравленного мира. Женщины здесь любят не сердцем, а головой. Рука, которая пожимает твою руку, лишь хочет испытать ее силу, прежде чем начать бой. Самый воздух насыщен здесь ядовитым дыханием рабства. Да, мы уйдем. Но только позже, немного позже.
– Почему позже, сеньор мой? Уж не потому ли, что ты не любишь меня, как прежде? И глаза мои теперь уж не так хороши, и голос не звонок, и лицо не прекрасно?
– Донья Марина, не говори таких слов! С каждым днем я люблю тебя все больше. Я сравниваю тебя с другими женщинами, и если одна из них хоть на мгновение смутит мою душу, то при одном воспоминании о тебе красота ее меркнет, как звезда при появлении солнца.
– О! Какое счастье! Я обожаю тебя, дон Диего. Я твоя, я принадлежу тебе еще с дней нашего детства. Ты тоже любил меня, но ты хотел поехать в Мехико, а я молчала и плакала. Я плакала оттого, что боялась потерять тебя. Потом я подумала: что ж, пусть едет, пусть едет. Он убедится, что нет в мире девушки, которая способна любить так, как я его люблю. Пусть уходит, пусть узнает, сколько лжи, сколько лицемерия таится в груди этих женщин, о которых нам рассказывали путешественники. Пусть любит их, они заставят его страдать, и тогда он снова обратит свой взор на меня и увидит, что я достойна его и сохранила свою любовь, как розовый бутон сохраняет свой аромат. Так я сказала себе и утешилась, дон Диего. Цветы закрываются, когда прячется солнце, чтобы с рассветом вновь раскрыть свои лепестки. Настала ночь разлуки, и душа моя закрылась, поджидая рассвета твоей любви. Я ждала, ждала и с ветром, летящим вдаль, посылала тебе мои поцелуи и вздохи, а у встречного ветра спрашивала о тебе и искала твой образ под сенью рощи и на берегу ручья. Но солнце вставало и заходило, луна умирала и возрождалась вновь, а я все ждала. Деревья роняли листву и зеленели снова, и когда я увидела свежие почки, я сказала себе: раньше, чем опадут эти листья, он будет здесь. Холодный ветер развеял сухие листья по лесу, а я все плакала, потому что тебя не было со мной.
Две слезы скользнули по лицу девушки. Дон Диего прижал ее к груди и нежно поцеловал в лоб.
– Наконец я решилась. Я чувствовала, как приближается ко мне смерть, но боялась не смерти, а боялась умереть вдали от тебя, не увидев тебя в последний раз. Я пустилась в путь и после долгих, долгих дней оказалась здесь, с тобой, в этом городе, где все меня поражает, все мне внушает страх. Ах, дон Диего! А каким я нашла тебя? Печальным, мрачным. Померк веселый блеск очей, и тень страдания легла на твое лицо. Ты был несчастен здесь. Вот почему я ненавижу этих женщин. Не потому, что они похитили у меня несколько дней твоей любви, а потому, что не могли понять тебя. Где этим робким и лживым голубкам следовать за мощным полетом лесного орла!
– Донья Марина! Я преступник! Никогда я не должен был глядеть ни на кого, кроме тебя! Ты благородна, ты прекрасна, ты одна достойна любви. Но небо жестоко отомстило мне. Я не понял ни твоей любви, ни величия твоей души, а эти женщины не поняли меня и моих высоких помыслов.
– Дон Диего, эти женщины внушают мне ужас. Я знаю твое сердце и понимаю, как ты страдал. Но, любовь моя, вернись ко мне, вернись! Я обожаю тебя, как всегда. Душа моя чиста перед тобою, огонь любви не угасал в моей груди, и я боюсь лишь одного, боюсь, что ты уже не тот, что раньше.
– Марина! Марина! Холод несчастия иссушил мой лоб, погасил жар моего взгляда, но сердце мое осталось девственным. Ведь эти женщины, которые, смеясь надо мной, играли моими чувствами, не способны любить и не могут внушить истинную страсть, ту пылкую чистую страсть, которая всегда жила в моей душе, но скрылась в смущении перед утехами и суетой так называемого общества.
– Тогда почему нам не уехать?
– Донья Марина, мы скоро вернемся на родину, мне нужно всего лишь несколько дней.
– Зачем?
– Чтобы отомстить!
– Отомстить? Кому?
– Мужчине, который смеялся надо мной; женщине, которая меня презирала.
В глазах девушки сверкнула молния ярости.
– Ты любишь эту женщину? – глухо спросила она.
– Я не люблю, я ненавижу ее!
– Значит, любил?
– Тоже нет. Я думал, что полюбил ее, но она отвергла меня.
– А этот мужчина?
– Он ее возлюбленный.
– Ты ревнуешь?
– Я сказал, что не люблю эту женщину.
– Клянешься?
– Клянусь!
– Памятью наших предков?
– Памятью наших предков.
– Твоя месть потребует много времени?
– Надеюсь, немного.
– Я помогу тебе, если хочешь; но потом уедем немедля.
– В тот же день.
– Как зовут эту женщину?
– Донья Ана де Кастрехон.
– А ее возлюбленного?
– Дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Я помогу тебе, если ты веришь в мои силы.
– Как знать, быть может, ты – орудие, посланное мне богом.
Донья Марина бросилась в объятия Индиано и прижалась к его губам жарким поцелуем.
День угасал, в вечернем сумраке, словно звезды, горели глаза Марины.
V. ЗНАМЯ КОРТЕСА
Тринадцатого августа тысяча пятьсот двадцать первого года, после семидесяти пяти дней осады, пала, отдавшись во власть испанцев, столица могущественной мексиканской империи, и Эрнан Кортес завершил завоевание обширной, густо населенной и богатой территории, увенчав последней победой замысел, наиболее дерзкий, быть может, наименее обдуманный, но несомненно требовавший больше искусства и мужества, нежели все деяния, запечатленные историей со времен легендарных подвигов полубогов.
Куатемок, с героическим упорством и мужеством защищавший столицу своей империи, попытался бежать из плена, чтобы продолжать войну. Он отчалил от берега в том месте, где впоследствии был основан монастырь кармелитов, и вышел на каноэ в озеро; за ним последовала его семья, несколько военачальников и вожди Такуба и Акулуакан. Однако посланный в погоню бриг под командой Гарсиа де Олгина нагнал его и захватил в плен. Несчастный вождь не просил у победителей другой милости, кроме смерти.
Ежегодно капитул и все население города Мехико торжественно знаменовали эти события. Об одном из таких празднеств мы поведем речь в своем повествовании.
Меж тем как Индиано беседовал с доньей Мариной, начались церемонии и торжества, приуроченные к кануну праздника, другими словами, наступил вечер двенадцатого августа.
Дон Энрике спрятал письмо, полученное из рук негритенка, и в глубокой задумчивости пошел влево по улице Такуба, направляясь к новому монастырю францисканцев.
Вся улица, от дворца вице-короля до угла улицы святого Франциска и дальше до церкви святого Ипполита, была запружена народом, поджидавшим, пока в церковь внесут знамя Кортеса. Отсюда на следующее утро должна была двинуться торжественная процессия, сопровождающая знамя до здания консистории. Все улицы, по которым лежал путь процессии, были убраны арками; окна, двери и карнизы домов – украшены гирляндами и цветными полотнищами.
Дон Энрике настолько погрузился в свои мысли, что не замечал ничего вокруг.
Членам благородного семейства де Торре-Леаль почти вменялось в обязанность находиться в свите, сопровождающей знамя. Королевский знаменосец шел впереди, а за ним следовали вице-король, члены аудиенсии, муниципалитета и всех цехов. Дон Энрике не собирался уклоняться от своего долга, но полученное им письмо настолько раздосадовало его, что он совсем позабыл о торжестве. Затерявшись в толпе, дон Энрике равнодушно смотрел на шествие и почти против воли двинулся вместе с народом, повалившим вслед. Процессия подошла к церкви святого Ипполита. Город был взят в день этого святого, вот почему святой Ипполит и стал патроном Мехико. Знамя внесли в церковь, отслужили торжественную вечернюю мессу, и толпа растеклась по улицам, окутанным ночной тьмой.
Растеряв всех своих друзей, дон Энрике возвращался по улице святого Франциска, как вдруг его остановила с таинственным видом какая-то старуха.
– Вы кабальеро дон Энрике Руис де Мендилуэта? – спросила она.
– Он самый, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Возьмите!
– Что это?
– Письмо, как видите.
– От кого?
– Буквы сами скажут. Прощайте.
– Но послушайте…
– Мне нечего добавить. Прощайте.
И старуха затерялась в толпе. При свете фонарей, восковых свечей и смоляных факелов, пылавших в окнах, на балконах и крышах по случаю торжества, старухе нетрудно было узнать дона Энрике, но, для того чтобы прочесть письмо, свет был слишком слаб. Дон Энрике подошел к одной из стоявших среди улицы жаровен. На пакете не было ни печати, ни герба, решительно ничего, что помогло бы узнать, кто направил ему это послание.
Молодой человек вскрыл письмо и прочел:
«Дон Энрике!
Если самомнение меня не обманывает, я полагаю, что хороша собой, скромна и принадлежу к знатному роду. Вы сможете судить, справедливо ли это, завтра, когда будете проходить со своим конным отрядом по улице Такуба. Мой дом будет со стороны вашего сердца.
Если вы найдете меня красивой, быть может, завтра сбудется то, что сейчас мне кажется волшебной мечтой.
Больше не скажу ни слова».
Подписи под письмом не было. Дон Энрике прочел его несколько раз, пытаясь проникнуть в тайну, скрывавшуюся за этими строками. Он понял лишь, что какая-то дама хочет, чтобы он увидел ее, однако прямого объяснения в любви записка не содержала.
Дон Энрике, с письмом в руке, раздумывал, следует ли отнестись к предложению дамы, как к шутке, или принять его всерьез. Как бы скромен ни был мужчина, подобное письмо от женщины, да еще незнакомой, не может не польстить его тщеславию и не возбудить в нем любопытства.
– Я увижу эту даму, – решил дон Энрике, пряча письмо. – А вдруг она хороша? К тому же таинственное приключение поможет развеять тоску, обуявшую меня после записки Аны.
И, завернувшись в плащ, он поспешил домой.
Занялся рассвет тринадцатого августа, дня святого Ипполита, и с первыми лучами солнца в городе воцарилось шумное оживление. В это утро процессия, сопровождавшая знамя, должна была пройти по улице Такуба, обогнуть дома маркиза дель Валье, там, где ныне проложена улица Эмпедрадильо, а затем направиться к зданию консистории.
На всем пути, так же как на улице святого Франциска, красовались арки и цветы, повсюду блистали роскошью сказочные богатства тех далеких времен. Арки были обтянуты китайской тканью, расшитой многоцветными шелками, балконы – задрапированы парчой; сверкали на солнце золотые и серебряные сосуды. Народ толпился на тротуарах, заполняя улицу чуть не до середины, прелестные дамы сидели на балконах, блистая своими нарядами, драгоценностями и красотой.
Верхом на великолепном, черном, как ночь, горячем коне, храня горделивую осанку, свойственную искусному наезднику, появился перед церковью святого Ипполита дон Энрике Руис де Мендилуэта в сопровождении пышного отряда всадников на вороных конях. Седло и уздечка дона Энрике сверкали золотом. И он, и сопровождавший его отряд всадников были одеты одинаково: фиолетовые панталоны и камзолы с белыми прорезями на рукавах, полусапожки оленьей кожи с золотыми шпорами, широкополые шляпы, украшенные белыми перьями, и парадная шпага на расшитой золотом портупее.
 В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды, с красными перьями на шляпах. Во главе отряда гарцевал Индиано верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой; такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами, столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов с силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седока и острые шпоры на своих боках.
Процессия начала строиться в принятом порядке – все участники были верхами. Королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица, а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, также как в иных случаях почетнее бывает замыкать шествие.
Все всадники, без сомнения, знали об этом, ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом, и, так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схватку. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты наземь. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев.
Нетрудно предположить, что дон Диего и дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке и густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага.
Смятение возрастало, все громче звучали крики бойцов и зрителей, бой разгорался, в тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие, слышен был грозный топот копыт. Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие:
– Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!
Сам вице-король в сопровождении множества кабальеро, алькальдов, алебардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения.
– Подчиняйтесь королю!
– Дорогу его светлости!
– Именем его величества! – кричали альгвасилы.
Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло.
А вокруг вице-короля, повторяя клич: «Именем короля! Именем правосудия!» – начали собираться все вооруженные участники шествия.
К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами, едва могли достать друг друга, лишь у немногих были разрезаны камзолы и выступило несколько капель крови.
Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалось, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессии под началом обоих своих воинственных предводителей.
На вид все как будто успокоилось. Дон Энрике и Индиано, с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальеро, не питавших никакой взаимной враждебности и обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласие и веселье.
В горячке утренних событий дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо.
Итак, он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном с ослепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали брильянты. В этой женщине было что-то фантастическое, она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией.
– О, если бы это была она! – воскликнул про себя дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой.
Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок.
«Она!» – подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли.
Дон Диего с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индиано.
В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды, с красными перьями на шляпах. Во главе отряда гарцевал Индиано верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой; такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами, столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов с силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седока и острые шпоры на своих боках.
Процессия начала строиться в принятом порядке – все участники были верхами. Королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица, а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, также как в иных случаях почетнее бывает замыкать шествие.
Все всадники, без сомнения, знали об этом, ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом, и, так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схватку. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты наземь. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев.
Нетрудно предположить, что дон Диего и дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке и густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага.
Смятение возрастало, все громче звучали крики бойцов и зрителей, бой разгорался, в тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие, слышен был грозный топот копыт. Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие:
– Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!
Сам вице-король в сопровождении множества кабальеро, алькальдов, алебардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения.
– Подчиняйтесь королю!
– Дорогу его светлости!
– Именем его величества! – кричали альгвасилы.
Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло.
А вокруг вице-короля, повторяя клич: «Именем короля! Именем правосудия!» – начали собираться все вооруженные участники шествия.
К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами, едва могли достать друг друга, лишь у немногих были разрезаны камзолы и выступило несколько капель крови.
Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалось, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессии под началом обоих своих воинственных предводителей.
На вид все как будто успокоилось. Дон Энрике и Индиано, с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальеро, не питавших никакой взаимной враждебности и обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласие и веселье.
В горячке утренних событий дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо.
Итак, он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном с ослепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали брильянты. В этой женщине было что-то фантастическое, она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией.
– О, если бы это была она! – воскликнул про себя дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой.
Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок.
«Она!» – подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли.
Дон Диего с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индиано.
VI. ЗАМЫСЛЫ ДОНА ХУСТО
Тем временем дон Хусто днем и ночью ломал себе голову, раздумывая, как бы ему убрать с пути дона Энрике и добиться того, чтобы титулы и богатства рода Торре-Леаль унаследовал его племянник.
Дон Хусто смотрел далеко в будущее. Граф уже стар, и смерть его не за горами. Если убрать Энрике, наследником станет сын доньи Гуадалупе. Сестра, без сомнения, сама призовет дона Хусто управлять всем имуществом, и тогда он может считать, что ухватился за колесо фортуны. Все было очень просто, единственная трудность состояла в том, чтобы найти подходящий способ избавиться от законного наследника.
Впрочем, образ жизни дона Энрике мог предоставить немало удобных случаев. Его влекли любовные интриги и опасные приключения, а при таком характере человеку легко случается погибнуть на поединке или пасть от руки убийцы. Но, как назло, этот юноша так искусно владел оружием, что редкий забияка отваживался задеть его, а открытый, благородный, жизнерадостный нрав завоевал ему всеобщую любовь.
Дон Хусто потерял сон в поисках выхода, он повсюду допытывался, нет ли у дона Энрике какого-нибудь врага. Когда человек думает лишь об одном, когда он добивается своего любой ценой и обладает достаточной волей, чтобы изо дня в день неустанно стремиться к осуществлению задуманного плана, ему редко не удается достичь цели.
Однажды дон Хусто пробудился в хорошем расположении духа. Наконец-то он нашел если не решение, то хотя бы путь к нему.
Сестра дона Энрике дала монашеский обет в монастыре Иисуса и Марии, а с настоятельницей этой общины дон Хусто некогда состоял в дружеских отношениях и сохранил их по сей день. В монастыре и решил лукавый человек начать свои козни.
Он поспешно оделся, наскоро позавтракал, вышел на улицу и, не теряя ни мгновения, устремился к монастырю Иисуса и Марии.
Справившись о настоятельнице, он попросил разрешения поговорить с ней. Но то ли настоятельница была занята, то ли у нее не было желания беседовать с доном Хусто, а так или иначе пришлось отложить разговор до следующего дня, то есть на тринадцатое августа – день торжественного празднества, когда, по справедливому предположению дона Хусто, мало кто пожелает прийти в монастырь повидаться с монахинями.
Однако и этот вечер не прошел даром для дона Хусто. Он узнал, что из-за любви дона Энрике к донье Ане дон Диего Индиано стал смертельным врагом наследника рода де Торре-Леаль.
– О! Поистине судьба ко мне благосклонна! – размышлял дон Хусто. – При такой поддержке, да еще после беседы с настоятельницей, победа останется за мной, если только я не самый безмозглый человек на земле. Завтра в одиннадцать утра отправлюсь в монастырь, а днем навещу Индиано, который охотно поможет мне погубить его врага.
И дон Хусто, навестив донью Гуадалупе, от которой, разумеется, скрыл все свои замыслы, раньше обычного отправился домой.
На следующее утро, выйдя из дому около одиннадцати, он сразу же узнал от знакомых о столкновении на улице святого Ипполита между двумя отрядами, участвовавшими в шествии.
Как всегда бывает в подобных случаях, весть эта, переходя из уст в уста, приобретала новые подробности и в совершенно преображенном виде с чудесной быстротой распространялась по всему городу. Когда она долетела до дона Хусто, речь шла уже о десятках убитых и раненых. Очевидцы рассказывали об ударах шпаги, которыми обменялись капитаны, и, считая стычкупреднамеренной, поскольку все всадники оказались вооружены до зубов, искали причины происшествия в любовной игре доньи Аны с обоими кабальеро. В сущности, толпа открыла истинное объяснение, хотя пришла к нему благодаря своей фантазии, а не осведомленности.
При каждом новом сообщении дон Хусто потирал руки и радовался про себя.
– Прекрасно, великолепно, чудесно! Все идет лучше, чем я мог надеяться, все складывается превосходно. Мои дела и в монастыре и с доном Диего устраиваются одновременно.
С этими мыслями он дошел до монастыря Иисуса и Марии. На этот раз судьба ему улыбнулась, и меньше чем через полчаса он уже беседовал с матерью настоятельницей.
– Я счел необходимым, – начал дон Хусто, – довести до сведения вашего преподобия о событиях, которые происходят в свете; они не слишком благоприятны для вашего монастыря.
– Господи, спаси и помилуй! – воскликнула перепуганная настоятельница. – Что случилось, братец? Уж не грозит ли беда нашей бедной обители?
– Пока еще нет, матушка. Но все может случиться.
– Пресвятая дева заступница! Неужто мы, смиренные служанки Иисуса, Марии и Иосифа, могли дать к тому повод? Или, может быть, мы, избави бог, послужили причиной какого-нибудь происшествия в миру?
– Прошу прощения у вашего преподобия за то, что из любви к вашей почтенной общине и из уважения к ее достойной матери настоятельнице я осмеливаюсь огорчить вас. Да простит меня господь бог и да зачтет мне это во искупление моих грехов, ибо я сам страдаю.
– Аминь.
– Но я почел своим долгом сообщить вашему преподобию о том, что может бросить тень на вашу почтенную обитель, вызвать величайший шум в обществе и явиться, как сказано в Священном писании, семенем раздора.
– Говорите же, братец. Такое вступление меня пугает, я молю бога дать мне силы выслушать весть, столь печальную для его смиренной служанки. Deus in adjutorium meum intende![46]
– Domine, ad adjuvandum me festina.[47]
– Так говорите же, ради бога, братец.
– Сейчас скажу, матушка, хотя и не знаю, с чего начать. В вашей священной обители есть сестра монахиня, которая является дочерью графа де Торре-Леаль.
– Да, да, добродетельная, примерная, святой жизни монахиня.
– Тем хуже.
– Почему же тем хуже, брат мой?
– Говорю тем хуже, матушка, а почему – это ваше преподобие услышит далее. Как известно вашему преподобию, сеньор граф женат вторым браком на моей сестре донье Гуадалупе.
– Да, на одной из святых наших благодетельниц, да пошлет ей бог здоровье и благо на многие лета.
– Вот почему меня должно интересовать дело, имеющее отношение к этому семейству.
– Истинно, истинно.
– У сеньора графа есть сын, который наследует его титул и богатства, на горе отцу, моей семье, а также и вашей обители.
– Как же так?
– Именно так, ибо да будет известно вашему преподобию, что юноша этот, от которого отвернулся сам господь бог, оскорбляет человечество своей распутной жизнью и порочными нравами. Вместо того чтобы быть честью своего рода и опорой старости сеньора графа, он только и занят что любовными похождениями да пирушками, не думая ни о боге, ни о добром имени своего дома. Вот как ведет он себя во вред своей семье и к позору для вашей обители, где, как всем известно, живет монахиня, одной с ним крови и одного рода.
– Пресвятая дева Мария, что я слышу!
– Зло это страшнее, чем кажется. Ведь никто не упоминает о брате без того, чтобы не заговорить о сестре, а как заговорят о ней, тут уж вспомнят и о святых монахинях этой общины. Дня не проходит без какого-нибудь скандала или бесчинства, и вот каждый божий день нечестивые языки треплют имя святой обители, а ведь те, кто не уважает ни святынь, ни всеми признанных добродетелей, не слишком осмотрительны в выборе слов.
– Иисусе, не остави нас! Ну и дела, ну и дела! Как же бороться с таким злом?
– Прежде всего я почел нужным прийти к вам, а затем, побеседовав с кем должно, хорошо бы прибегнуть к помощи его светлости вице-короля, представляющего здесь величие и могущество нашего католического монарха (да хранит его бог), дабы соизволил он, как покровитель и защитник церкви и чести ее, принять решение, ибо указывать ему не в нашей власти.
– Совет мне кажется разумным, братец, и я глубоко вам признательна. Немедля побеседую обо всем с отцами капелланами, а они уж, если сочтут то подобающим, доложат сеньору архиепископу.
– Так и следует поступить вашему преподобию. А я и далее буду делать все, что в моих силах, дабы спасти честь вашего монастыря.
– Благодарствуйте, братец.
– Все мы должны благодарить господа!
Собеседники расстались, дон Хусто – вполне довольный оборотом дела, монахиня – пораженная полученным известием и обеспокоенная, как бы не пострадало доброе имя ее монастыря.
«А теперь, – думал дон Хусто, – поскольку здесь, благодаря простодушию матери настоятельницы, семя упало на добрую почву, следует тотчас же отправиться к дону Диего. Коли он такой уж враг дону Энрике, я найду в нем могучую опору. А тогда, если даже и не удастся столкнуть их лицом к лицу и навеки убрать дона Энрике с моего пути, я, по крайней мере, добьюсь того, что бесчинства молодого сеньора будут повторяться все чаще и с еще большим шумом… Это дело решенное».
К двум часам дня торжества закончились, знамя Кортеса было водворено в здание муниципалитета, и все разошлись по домам для положенной в это время трапезы.
Дон Хусто почел за благо последовать общему примеру, ибо, не говоря уж о том, что сам он был человеком, не лишенным человеческих потребностей, в те блаженные времена обеденный час означал прекращение всех дел.
В два часа дня все двери запирались на ключ, и во время обеда и сиесты, которую соблюдали семьи, пользующиеся известным достатком, их дома не открывались ни перед кем и ни для чего. Считалось непростительным нарушением приличий стучаться в эти часы даже к близкому другу, и привратник, подчиняясь обычаю и полученному приказу, не задумываясь, оставлял непрошенного гостя на улице.
Все это было отлично известно дону Хусто, а посему он, последовав обычаю, пообедал, замкнувшись на ключ, и расположился поспать, отложив на вечер задуманное посещение дона Диего Индиано.
VII. НОЧНОЙ ПЕРЕПОЛОХ
Донья Ана де Кастрехон неукоснительно выполняла все советы своей матери и, пользуясь любыми средствами, доводила до отчаяния дона Энрике. Той же цели служило и письмо, врученное ему накануне дня святого Ипполита с ведома доньи Фернанды, которая направляла все эти хитрости и уловки.
Донья Ана отнюдь не собиралась лишать себя удовольствия посмотреть на процессию в день праздника, она лишь позаботилась, чтобы дон Энрике не узнал, откуда она будет наблюдать за торжествами, и поспешила спрятаться при его приближении. Однако никто не остался в обиде, потому что в этот момент влюбленный кабальеро больше, нежели о донье Ане, думал о даме, пославшей ему таинственную записку. А после того, как он узнал ее или возомнил, будто узнает, его заботило не столько назначенное на вечер свидание, сколько стремление разведать, кто эта загадочная и прекрасная незнакомка.
Когда шествие закончилось, донья Ана в закрытой карете отправилась домой готовиться к комедии, которую собиралась разыграть ночью, а дон Энрике вернулся на улицу Такуба в поисках доньи Марины. Но увы, окна ее дома были плотно закрыты, и за ними никто не показывался. Он приготовился ждать, уверенный, что если уж эта женщина решилась написать ему, то, без сомнения, она найдет или придумает способ получить ответ.
Ночь приближалась, и донья Ана, пожертвовавшая ради коварных замыслов своими желаниями и развлечениями, надела вместо сверкающих драгоценностей и соблазнительного бального наряда скромное темное платье. Ей предстояло изображать жертву, и начинать надо было с одежды.
– Надеюсь, – говорила донья Фернанда, – сегодня ты добьешься успеха и заставишь его просить твоей руки.
– Он так пылко любит меня, что я не сомневаюсь в победе, ведь теперь единственная оставшаяся ему надежда – это брак, – ответила донья Ана.
– Постарайся также, чтобы он не только из любви, но и из самолюбия и из гордости сдержал свое слово.
– А вдруг он предложит мне сегодня ночью бежать?
Донья Фернанда ответила не сразу.
– Пожалуй, – подумав, сказала она, – лучше будет согласиться. Тогда скандал неизбежен, и замять его можно только свадьбой.
– А если после всего он откажется?
– Нетрудно будет заставить его судом.
– И далеко я должна бежать с ним?
– Нет. Тут же уведомишь меня, я брошусь в погоню и верну тебя домой, а сопровождающие меня люди будут свидетелями похищения.
– Что ж, придумано неплохо…
– Главное, чтобы тебе удалось любыми средствами распалить его любовь, не бойся, это дело свято, ведь твоя цель – законный брак.
Мать и дочь беседовали до позднего вечера, и, так как эта любовь по расчету ничуть не волновала их сердца, обе устали и почувствовали скуку.
– Который час? – лениво спросила донья Ана.
Донья Фернанда взглянула на роскошные настольные часы.
– Едва лишь половина одиннадцатого, – зевая, ответила она.
– Еще целых полтора часа!
– Да и потом пройдет немало времени.
– А все веселятся на балу… Вот счастливцы!
– Да, говорят, бал великолепный.
– Я почти жалею, что не поехала, а осталась ждать своего беднягу жениха. Сейчас бы я танцевала, вместо того чтобы помирать со скуки… Никогда больше не сделаю такой глупости!
– Всегда ты рассуждаешь, как ребенок, Ана. Вот беда – одним балом больше или меньше, когда речь идет о твоем будущем! Балов много, а таких мужей, как дон Энрике, раз, два – и обчелся. Погоди, сама скажешь, стоило ли жалеть о балах в тот день, когда тебя назовут сеньорой графиней и ты сможешь развлекаться, сколько душе угодно.
Донья Ана улыбнулась, и обе умолкли. Время от времени тишина нарушалась веселым пением, доносившимся с улицы, и тогда донья Ана спрашивала:
– Который час?
Донья Фернанда поднимала посоловевшие, то ли от дремоты, то ли от яркого света, глаза и отвечала:
– Одиннадцать.
– Что за бесконечный вечер! – восклицала донья Ана, и снова дочь погружалась в мечты, а мать – в дремоту.
Наконец на вопрос Аны донья Фернанда ответила:
– Вот-вот пробьет двенадцать.
– Слава тебе, господи! Бегу к Фасикии в каморку поджидать дона Энрике.
– Накинь шаль, – посоветовала мать. – Ночь сегодня холодная, а тебе придется пройти через патио.
Донья Ана встала и принялась рассматривать себя в маленьком зеркале, висевшем в углу покоя. Она, очевидно, выбирала нужные к случаю взгляды и улыбки и могла бы еще долгое время провести за этим занятием, если бы донья Фернанда не напомнила:
– Двенадцать.
– Иду! – воскликнула донья Ана и поспешно вышла, накинув черный шерстяной плащ.
Донья Ана легко сбежала по лестнице и вошла в комнату на нижнем этаже.
Там сидела и шила при свете свечи старая негритянка, повязанная платком в алую и желтую полосу.
– Фасикия! – позвала донья Ана.
– Девочка моя! – подняв голову, откликнулась негритянка.
– Погаси свечу, няня, и уходи. Уже пора.
Негритянка встала и собралась задуть свечу.
– Погоди, погоди! – крикнула девушка. – Я хочу открыть окно, а в темноте я до него не доберусь.
Старуха подождала, пока Ана подошла к окну, задула свечу и вышла, закрыв за собой дверь.
Тогда донья Ана осторожно приоткрыла створки окна, забранного толстой решеткой, и с любопытством выглянула на улицу. Неподалеку стоял человек, до самых глаз закутанный в черный плащ. Кругом было пусто, всю улицу заливал сияющий лунный свет.
Дом доньи Фернанды стоял на углу, передним фасадом на главную улицу Икстапалапа, а торцом – в узкий переулок. В этот переулок выходило и окно, у которого уже не раз встречалась Ана с доном Энрике.
Едва человек в плаще заметил, что окно приоткрылось, он приблизился бесшумными, медленными шагами.
– Дон Энрике, – шепнула донья Ана.
– Ангел мой, – ответил юноша.
– Подойди, счастье мое! О, как мне страшно…
– Страшно? Но кто может тебя обидеть, когда я с тобой, радость моей жизни?
– Ах, дон Энрике! Того, кто мешает нашему счастью, не может поразить твоя шпага.
– Твоя мать, Ана? За что она ненавидит меня? Может быть, она не любит тех, кто любит тебя? Но разве я недостаточно знатен, разве я не достоин назвать тебя своей?
– Не говори так, дон Энрике. Ты – настоящий кабальеро. Твой род не ниже королевского, и счастлива женщина, которая будет носить твое имя и называть тебя своим. Но…
– Что? Говори, любовь моя, не бойся…
– Дон Энрике, моя мать слушает твоих врагов, она думает, что ты не любишь меня, что хочешь лишь посмеяться над ее дочерью.
– И ты веришь, что я не люблю тебя? Да ведь я не понимал, что такое любовь, пока не узнал тебя! Какое мне дело до того, что она не верит в мою любовь, если ты мне веришь! Ради тебя одной я хочу быть добрым и благородным. Скажи, Ана, ты веришь, что я люблю тебя?
– Если бы я не верила, я бы умерла!
– А ты любишь меня?
– С каждым днем все больше.
Девушка прижалась лицом к решетке, дон Энрике склонился, и их уста слились в поцелуе, который, казалось, не прервется никогда.
– Ана! – воскликнул юноша, безраздельно отдавшись захватившей его страсти. – Ана! Ты сказала, что любишь меня?
– Больше, чем можешь вообразить.
– И ты способна сделать то, что я скажу тебе?
– Даже если ты мне прикажешь убить себя!
– Свет души моей! Слушай же, Ана! Беги со мной!
– Бежать?! – воскликнула девушка с ужасом, которого отнюдь не испытывала, ибо только и ждала подобного предложения. – Бежать! Но куда?
– Со мной, в моих объятиях, ко мне…
– Дон Энрике! Ты любишь меня и предлагаешь мне побег, огласку, бесчестие?
– Нет, Ана, нет, это не бесчестие. У меня ты найдешь любовь и счастье; твоя мать не будет больше противиться, она на все согласится, и вскоре ты станешь графиней де Торре-Леаль. Ана, ты не хочешь уйти со мной?
– О, ты настоящий кабальеро, я обожаю тебя, Энрике! Я пойду за тобой на край света.
– Какое счастье ты даришь мне!
– Когда мне уйти из дома?
– Сейчас же!
– Как, так скоро?
– Каждое мгновение без тебя кажется мне вечностью, любовь моя. Иди, не медли.
– Хорошо, иду, иду, жди меня, – сказала донья Ана, убегая.
– Встретимся в патио! – крикнул вдогонку дон Энрике, охваченный нервным возбуждением.
– Нет, здесь же.
– Не задерживайся, мой ангел!
– Скоро я буду с тобой. Видишь, как я люблю тебя!
Окошко захлопнулось. Дон Энрике завернулся в плащ и приготовился ждать.
Донья Ана поспешно вышла из комнаты и, взбежав по лестнице, бросилась в спальню доньи Фернанды.
– Что случилось?! – воскликнула мать.
– Час настал, матушка!
– Он предложил тебе бегство или брак?
– И то, и другое.
– Что же раньше?
– Бегство, – улыбнувшись, ответила донья Ана.
Донья Фернанда тоже улыбнулась.
– Он не дурак, да и я не глупа. Теперь мы знаем, что делать.
– Идем, матушка, как бы ему не наскучило ждать.
– Дитя, плохо же ты знаешь мужчин! Самый нетерпеливый рад целый день ждать девушку, которая ему нравится.
– Все же пойдем скорей.
– Похоже, что тебе тоже не терпится, хотя уйдете вы недалеко.
– Как хотите, матушка, но надо торопиться.
– Следует уведомить дона Хусто, сегодня он решил провести здесь ночь, чтобы помочь нам.
– Дайте ему знать, пока я собираюсь.
Донья Фернанда вышла, а донья Ана стала прихорашиваться у туалетного столика. Ей хотелось появиться перед возлюбленным еще более прелестной. Мать вернулась вместе с доном Хусто.
– Мы готовы, – сказала она.
– Идемте, – ответила донья Ана.
И все трое спустились в патио.
– Сначала ты выйдешь одна, – по дороге наставляла донья Фернанда свою дочь. – Мы дадим вам немного отойти, а затем пустимся в погоню и освободим тебя.
– Вы будете вдвоем?
– Нет, возьмем с собой слуг, вот они уже наготове, – ответил дон Хусто, указывая на собравшихся в глубине патио слуг с фонарями и секирами.
– Ох, матушка, мне стыдно становится, как подумаю, сколько народу узнает об этом деле.
– Вот глупышка! Да завтра о похищении узнает весь Мехико. Что же за беда, если сегодня несколько человек увидят тебя?
– Но весь Мехико меня не увидит, а эти люди будут присутствовать…
– Если боишься – еще не поздно.
– Нет, – решительно ответила донья Ана и, распахнув двери, вышла на улицу.
Дон Хусто запер дверь изнутри. В тот же миг раздался крик доньи Аны и какой-то шум, похожий на борьбу.
– Слышите? – в испуге сказала донья Фернанда. – Выйдем на улицу.
– Успокойтесь. Должна же она для виду оказать сопротивление.
Оба замолчали, снаружи тоже все утихло. Они уже собирались выйти, как снова раздался шум и звон шпаг.
– Скорее, скорее! Кто знает, что там происходит! – воскликнула донья Фернанда.
– Да, теперь пора, – ответил дон Хусто, открывая дверь, и оба в сопровождении слуг выбежали из дома.
 На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. Еще немного – и он упал бы, но тут подоспели дон Хусто, донья Фернанда и слуги. Нападавшие убежали, а донья Фернанда и дон Хусто узнали в спасенном ими человеке дона Энрике.
– Где моя дочь? – в ужасе спросила мать доньи Аны.
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Не знаете?! – позабыв об осторожности, воскликнула донья Фернанда.
– Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?
– Честью клянусь вам, это правда, – отвечал дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. – Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц.
– Но где же моя дочь? Дон Хусто, моя дочь! Ищите ее! Эти крики, эта борьба!.. О, недаром я говорила, что нам следует выйти!
– Скорее, бегом по всем ближним улицам! – крикнул слугам дон Хусто. – Не возвращайтесь, пока не найдете след.
Слуги разбежались в разные стороны, разнося весть о происшествии по всему городу.
Донья Фернанда, опираясь на руку дона Хусто, в отчаянии вернулась домой, а дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился куда глаза глядят, надеясь найти ключ к этой загадке.
Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве доньи Аны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.
На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. Еще немного – и он упал бы, но тут подоспели дон Хусто, донья Фернанда и слуги. Нападавшие убежали, а донья Фернанда и дон Хусто узнали в спасенном ими человеке дона Энрике.
– Где моя дочь? – в ужасе спросила мать доньи Аны.
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Не знаете?! – позабыв об осторожности, воскликнула донья Фернанда.
– Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?
– Честью клянусь вам, это правда, – отвечал дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. – Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц.
– Но где же моя дочь? Дон Хусто, моя дочь! Ищите ее! Эти крики, эта борьба!.. О, недаром я говорила, что нам следует выйти!
– Скорее, бегом по всем ближним улицам! – крикнул слугам дон Хусто. – Не возвращайтесь, пока не найдете след.
Слуги разбежались в разные стороны, разнося весть о происшествии по всему городу.
Донья Фернанда, опираясь на руку дона Хусто, в отчаянии вернулась домой, а дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился куда глаза глядят, надеясь найти ключ к этой загадке.
Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве доньи Аны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.
VIII. ШАГ НАЗАД
Для того чтобы объяснить непонятное исчезновение Аны, нам придется вернуться на несколько часов назад.
В день святого Ипполита дон Хусто встал после дневного сна в четыре часа и, одевшись с величайшим тщанием, вышел на улицу, положив прежде всего навестить Индиано, в котором надеялся найти могучего союзника. Благодаря своему богатству Индиано пользовался в Мехико большой известностью, и дону Хусто нетрудно было отыскать его жилище. Великолепный дом дона Диего стоял справа от дворца вице-короля, на продолжении улицы Икстапалапа в сторону церкви Гуадалупской богоматери.
Дон Хусто явился туда, спросил у слуги, дома ли его хозяин, и узнал, что тот собирается на прогулку верхом. В самом деле, перед домом конюх держал в поводу горячего буланого жеребца с черной гривой и черным хвостом. Гордый конь в богатой сбруе беспокойно поднимал голову, бил копытом и жевал удила, как бы стремясь поскорее вырваться на простор и блеснуть своей резвостью и красотой.
Дон Хусто поднялся по лестнице и в галерее столкнулся с Индиано, который уже направлялся к выходу.
– Да хранит вас бог на долгие годы, – произнес дон Хусто.
– Рад служить вам.
– Мне необходимо поговорить с вами о важном деле, если вы расположены уделить мне несколько минут.
– Для меня это будет только честью. Прошу вас.
– Честь оказываете мне вы своей благосклонностью.
Индиано пригласил дона Хусто в небольшой, убранный с изысканным вкусом покой.
– Сделайте милость, садитесь, – сказал он, указывая на одно из кресел сандалового дерева, обитых златотканой парчой.
– После вас. Не могу я сидеть, если стоит столь почтенный кабальеро.
– Что ж, сядем оба.
Они уселись, и дон Хусто, сам не зная, с чего начать, заговорил несколько неуверенным тоном:
– Кабальеро, должно быть, вас удивляет мой приход. Ведь до сегодняшнего дня я не имел чести быть с вами знаком.
– Знакомство с вами – честь для меня.
Оба привстали и церемонно поклонились.
Дон Хусто продолжал:
– Однако бывают случаи, когда два человека, сами того не зная, заинтересованы в одном и том же деле. И тогда им обоим крайне выгодно объединиться. Вы согласны?
– Вполне согласен, – ответил дон Диего, подумав про себя: «Куда это он клонит?»
– Вам еще неизвестно мое имя: ваш покорный слуга дон Хусто Салинас де Саламанка-и-Баус…
– Рад служить вам, сеньор мой, – ответил Индиано, и оба снова привстали с полупоклоном.
«Впервые слышу это имя», – подумал Дон Диего.
– Брат, – добавил дон Хусто, – доньи Гаудалупе Салинас де Саламанка-и-Баус, графини де Торре-Леаль, супруги графа дона Карлоса Руиса де Мендилуэта – отца дона Энрике.
Новый поклон.
– Быть может, вы пришли по поручению дона Энрике? – спросил дон Диего, изменившись в лице при имени своего врага.
– Избави бог. Но я пришел по делу, которое его касается.
– И в котором я могу быть вам полезен?
– Мне-то нет. Но я мог бы оказать услугу вам.
– Не понимаю.
– Будем откровенны, если вы разрешите…
– Разумеется.
– Отлично, перехожу к делу. Вы, как утверждает молва, заклятый враг дона Энрике.
– Да нет, пустое… Просто неприязнь, довольно частая среди мужчин…
– Разрешите мне продолжать. Вас разделяет нечто большее, чем просто неприязнь; пожалуй, настоящая ненависть.
– Это он сказал вам?
– Нет. Я с ним не имею ничего общего.
– Как же вы можете это утверждать?..
– Но все говорят об этом.
– Быть может, все ошибаются?
– Прошу прощения, но полагаю, что нет. Так говорит народ, а вы знаете: vox populi vox Dei.[48]
– И, однако же, народ ошибается.
– Дон Диего, вы не доверяете мне, потому что моя сестра – супруга графа. А я хочу доказать, что вы неправы и что, быть может, ни с кем вы не можете быть столь откровенны, как со мной.
– Но…
– Я хочу предложить вам союз: вы ненавидите дона Энрике, я тоже. Он стоит у вас на пути и у меня тоже. Мы идем разными дорогами, но помеха у нас одна. Оба мы должны избавиться от этого человека. Объединимся! Я отдаю себя в ваше распоряжение.
Дон Хусто умолк и с довольным видом поглядел на собеседника. Но дон Диего резко поднялся, смертельно бледный, сжав кулаки и стиснув зубы, с глазами, сверкающими от ярости. Увидев его лицо, дон Хусто перепугался и тоже вскочил с кресла. Индиано шагнул вперед и, задыхаясь от гнева, с трудом сдерживая себя, проговорил хриплым голосом:
– Счастье ваше, кабальеро, что вы находитесь у меня в доме, где ваша особа для меня священна. Не то я научил бы вас обращаться со мной, как подобает!.. Да как только пришло вам в голову придумывать планы мести против моих врагов и предлагать мне поддержку, которой я никогда у вас не просил. Небо наделило меня могучей рукой и бесстрашным сердцем, и я сам могу ответить на оскорбление, не обращаясь за помощью к чужой силе. Сделайте милость, кабальеро, удалитесь, пока я не вышел из себя… и впредь прошу вас, советую вам для вашей же пользы, никогда не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются, особенно в мои…
Дон Хусто, не дожидаясь конца грозы, вышел из комнаты и бегом спустился по лестнице, бормоча сквозь зубы:
– Глупец, мужлан, выродок…
Через некоторое время сошел вниз и дон Диего, тоже не в лучшем расположении духа.
«Негодяй! – повторял он про себя. – Замышлять дурное против члена своей же семьи!.. И предлагать это мне… мне… Злодей! Как только я сдержал себя! Я отомщу дону Энрике и донье Ане, но сделаю это сам, я сам или с помощью друзей… но этот… О, негодяй!»
Не взглянув на конюха, он вскочил на заплясавшего под ним скакуна и выехал на улицу. Конь, почувствовав, что седоку сегодня не до шуток, послушно двинулся спокойной иноходью. Двое слуг верхом молча следовали сзади. Они тоже поняли, что недавно пронеслась гроза.
Проехав недолгое время, дон Диего присоединился к группе молодых людей, появившихся на конях со стороны главной площади, и все направились по улице святого Франциска к Аламеде. Мало-помалу веселая болтовня товарищей рассеяла тучу, омрачавшую лоб Индиано. Когда молодые люди подъехали к Аламеде, дон Диего сделал знак одному из всадников, и они опередили других, чтобы поговорить без помехи.
– Все ли готово для сегодняшней затеи, Эстрада? – спросил Индиано.
– Сделано все по твоему желанию, – ответил юноша, которого дон Диего назвал Эстрадой.
– Как же ты думаешь действовать?
– А вот как. Я точно заметил дом; пока влюбленные будут беседовать, я со своими спутниками притаюсь за углом. Мы без труда подслушаем разговор, а в нужный момент выйдем и поднимем такой шум, что мертвые и те проснутся. Этого достаточно?
– Вполне; но только не зевайте.
– Что ты! Я буду на балу до назначенного часа, а мои люди спрячутся в хибарке по соседству с домом доньи Аны. Там их никто не увидит, а я приду за ними, когда настанет время.
– Сколько их?
– Шестеро, и все надежные. Отважны, как львы, и молчаливы, как рыбы.
– А когда я узнаю обо всем?
– Скоро, ведь я вернусь на бал.
– Только не причиняйте вреда дону Энрике.
– Нет, нет, уговор точен: мы его разоружим и привяжем к решетке, а когда рассветет, на него сможет любоваться весь город.
– Отлично.
В это время остальные всадники присоединились к дону Диего и Эстраде, и их разговор прервался. Но сказанного было довольно.
Верховая прогулка продолжалась до вечера, а едва стемнело, молодые люди разъехались по домам, чтобы приготовиться к балу.
– Будь осторожен, – напомнил дон Диего Эстраде.
– Не беспокойся, – ответил тот.
В десять часов вечера блестящее общество заполнило приемные залы в доме маркиза дель Валье, потомка Эрнана Кортеса. Здесь муниципальные власти давали пышный бал.
Сверкало и переливалось море алмазов, кружев, парчи и цветов, а в его волнах мелькали прелестные лица, горящие глаза, чарующие улыбки. Веселые молодые голоса сливались с нежными звуками музыки, и, словно далекий аккомпанемент, раздавался звон хрусталя и серебра.
На празднестве, не зная соперников, царил Индиано. Гордая осанка, роскошный наряд, украшенный невиданными драгоценностями, – а кроме прочего, отсутствие дона Энрике Руиса де Мендилуэты, – все способствовало его успеху. К нему одному устремлялись пылкие взгляды и брошенные украдкой признания.
Доньи Аны не было видно, и этим объяснялось отсутствие дона Энрике, но почему же не пришла она? Никто не знал, и все спрашивали об этом друг у друга.
В четверть двенадцатого дон Диего взглянул на усыпанные брильянтами часы и шепнул Эстраде:
– Пожалуй, пора.
Эстрада пожал ему руку и незаметно выскользнул из залы.
С этой минуты Индиано больше не танцевал. Скрывая волнение, он бродил по залам, тайком поглядывая в окна, выходившие на главную площадь и начало улицы Икстапалапа. Так прошло более часа. В тот момент, когда дон Диего тысячный раз посмотрел в окно, кто-то, тронул его за руку. Оглянувшись, он увидел Эстраду.
– Удалось? – спросил дон Диего.
– Мне надо поговорить с тобой, – ответил Эстрада. – Выйдем отсюда.
Они прошли по галерее в небольшой уединенный покой.
– Говори же! – нетерпеливо воскликнул дон Диего.
– Видишь ли, дело серьезное; я совершил безумство, но не раскаиваюсь.
– Дон Энрике мертв?
– Нет.
– Тогда что же?
– Слушай: стоя на углу, я поджидал удобного момента, как вдруг из их разговора понял, что дама собирается бежать со своим воздыхателем.
– Вероломная!
– Он должен был ждать на том же месте, а она выйти из дверей дома. И тут меня осенило: я оставил четверку моих молодцов стеречь дона Энрике, а с остальными двумя встал у входа. Немного погодя мы услыхали, как поворачивается ключ, дама выскользнула, и дверь снова захлопнулась.
– Дальше…
– Мы схватили донью Ану, едва успевшую вскрикнуть, мои помощники завернули ее в плащ, взяли на руки и, следуя за мной, в одно мгновение, никем не замеченные, перенесли ее ко мне домой, где она и находится в полном твоем распоряжении.
– Какое безумие!
– Безумие или нет, но дело сделано. Если хочешь – она твоя, если нет – оставь ее мне. Она мне нравится и немало помучила меня в свое время.
– А если тебя изобличат?
– Каким образом? В моем доме нет никого, кроме меня и слуг. Мои подручные – люди верные, в самом крайнем случае я заплачу собственной головой, а ради такой славной девчонки стоит уйти немного раньше из этой юдоли слез.
– Что же делал дон Энрике?
– Дрался на шпагах с четырьмя моими молодцами.
– Чем же все кончилось?
– Ничем. Когда я вернулся туда, один из них ждал меня и рассказал, что на помощь к возлюбленному выскочили люди из дома доньи Аны, мои люди разбежались и все остались целы и невредимы.
– Отлично. Теперь идем отсюда, чтобы не возбуждать подозрений. Следует сейчас же пустить слух, что донья Ана бежала из дому неизвестно с кем. Да постарайся, чтобы все заметили твое присутствие на балу, осторожность необходима.
– А как быть с плененной голубкой?
– Она твоя, ты захватил ее как военную добычу. Делай с ней что хочешь, я не люблю ее.
– Мне повезло. Хотел бы я уже быть дома.
– Нет, нет, будь осторожен. Не уходи с бала до самого рассвета.
Молодые люди вернулись в залу, и через полчаса все гости знали о побеге доньи Аны. Эстрада веселился за десятерых и обращал на себя всеобщее внимание.
Меж тем бедная донья Ана, ничего не понимая, сидела взаперти в комнате совершенно неизвестного ей дома. Дон Энрике думал, что донья Ана его обманула. Донья Ана была уверена, что это похищение – дело рук дона Энрике.
Никто из них не вспомнил об Индиано.
IX. ДОБРОМ ИЛИ СИЛОЙ
Дом дона Кристобаля де Эстрады стоял позади монастыря святого Франциска. Эстрада не считался богатым человеком, но обладал достаточными средствами, чтобы жить в Мехико без всяких забот. У него не было ни родителей, ни близких родственников, и он проживал доходы от своего имущества, не зная других занятий, кроме любовных похождений и танцев на балах. Хотя его уже и не называли юношей, он все же был во цвете лет, и девицы на выданье считали брак с ним приличной партией.
Дон Кристобаль никогда не участвовал в скандальных происшествиях, случавшихся чуть ли не каждый день в столице колонии, и потому был спокоен, что на него не падет подозрение в похищении доньи Аны. Утешаясь этой мыслью, Эстрада мечтал о своей пленнице и нетерпеливо поглядывал в окна, подстерегая первые лучи утренней зари. Разгоряченное воображение то и дело обращалось к запертой в его доме женщине, которая могла затмить всех собравшихся здесь красавиц. Но вот взошла заря, и сердце Эстрады забилось еще сильнее. Последние гости начали расходиться. Эстрада вышел вместе с ними на улицу, распростился при первом удобном случае и стремительно зашагал к своему дому. Он постучал в запертую дверь. Ему открыли, и, вытащив из кармана ключ, он бросился вверх по лестнице. Донья Ана, измученная тревожными мыслями, дремала в кресле. Шум открывшейся двери разбудил ее. Тусклый утренний свет проникал в комнату сквозь забранное толстой решеткой окно.
Донья Ана повернула глаза к двери, ожидая увидеть дона Энрике и собираясь встретить его – смотря по обстоятельствам – притворным или подлинным гневом. Но неожиданно перед ней появился дон Кристобаль, и донья Ана замерла, теряясь в догадках.
– Да хранит вас бог, прекрасная сеньора, – сказал Эстрада.
Донья Ана не ответила.
– Поговорите же со мной, красавица, – продолжал Эстрада. – Боюсь, что вам не удалось отдохнуть. Это помещение недостойно вас, но, что поделаешь, я не успел подготовить вам должный прием. Поверьте, дальше все будет по-другому.
– Кабальеро, – высокомерно произнесла донья Ана, – извольте объяснить, что все это значит? Где я?
– Нет ничего проще. Вы находитесь в моем доме, в доме вашего покорного слуги, Кристобаля де Эстрады, с сегодняшнего дня – в вашем доме.
– Дон Энрике велел привести меня сюда?..
– Простите, дон Энрике не имеет к этому никакого отношения.
– Объясните же мне эту загадку.
– С величайшим удовольствием, ибо теперь мне терять больше нечего. Ночью я увидел, как вы вышли из своего дома, несомненно собираясь бежать с доном Энрике. И тут я подумал: сам бог посылает мне эту добычу; чем оставлять ее маврам, путь лучше достанется христианам. Я захватил вас, и вот вы со мной и в моей власти.
– Но это недостойно настоящего кабальеро!
– Донья Ана, я хочу обратиться к вашей памяти. Я вас увидел, я полюбил вас, вы подали мне надежду. Больше того, в иные дни вы давали мне понять, – как, впрочем, еще многим, – что любите меня. Но вскоре другой завладел вашим вниманием, и вы обо мне забыли. Напрасно я просил, рыдал, умолял; напрасно дни и ночи бродил вокруг вашего дома. Все было кончено, я умер для вас… А это разве достойно дамы?
– Дон Кристобаль! Вы избрали подлую месть!
– Сеньора, клянусь вам, я не думал о мести. Вы встретились на моем пути, что же, по-вашему, оставалось мне делать? Нужно обладать каменным сердцем, чтобы не воспользоваться таким случаем. Вы – в моей власти. Неужто вы думаете, что человек, завладевший такой прекрасной дамой, как вы, может легко отказаться от нее? При чем же тут месть? Я поступил бы так же, даже если бы нас ничто не связывало.
– Другими словами, вы решили не выпускать меня отсюда?
– А это уж зависит от вашего поведения.
– Как это понять?
– Очень просто. Согласны вы быть моей? Тогда вы можете свободно уходить и возвращаться…
– Дон Кристобаль!
– К чему обманывать друг друга? Я решил, что добром или силой, а вы будете моей.
– Никогда!
– Выслушайте меня и будьте благоразумны. Однажды вы сказали, что любите меня.
– Я солгала.
– Нет, тогда вы меня любили.
– Пусть так. И что же из того?
– А то, что вам будет не так уж неприятно принадлежать мне.
– После вашего низкого поступка?
– В этом обвиняйте не меня, а судьбу.
– И вы полагаете, что я соглашусь быть чьей бы то ни было возлюбленной?
– А кем вы собирались быть для дона Энрике?
– Супругой!
Эстрада весело расхохотался.
– И для этого вы бежали с ним? Полно, не будьте ребенком! Вы стали бы его возлюбленной и, если вам этого так уж хочется, сможете стать ею и теперь, потому что ради такой женщины, как вы, охотно забывают былые грехи.
– Вы от меня ничего не добьетесь!
– Подумайте хорошенько. Вы – в моей власти, никто не может помочь вам, хотя вас и ищут повсюду. На меня не падет и тени подозрения, я принял все меры предосторожности. Соглашайтесь, вы знаете, что я люблю вас. Вы можете быть счастливы со мной. Сопротивление бесполезно, все равно конец будет один… Разрешите прислать вам завтрак? Простите, что за разговором я позабыл об этом.
– Я ничего не хочу, – сказала донья Ана.
– Полно, уж не хотите ли вы уморить себя голодом, как принцесса из сказки.
Донья Ана, несмотря на весь свой гнев, улыбнулась. В конце концов, этот человек ей был не так уж противен.
Всякая другая женщина, попав в такое положение, пришла бы в отчаяние. Но донья Ана привыкла к дерзким ухаживаниям столичных молодых людей и достаточно наслышалась от приятельниц об их любовных приключениях, чтобы не отнестись к ночному происшествию столь трагично, как отнеслась бы какая-нибудь наивная простушка. Если говорить правду, донья Ана начала без особого неудовольствия мириться со своей судьбой. Волновала ее только мысль, что же могло приключиться с доном Энрике?
От Эстрады не укрылось все, что происходило в сердце пленницы. С каждой минутой он чувствовал себя тверже, победа казалась ему не столь уж трудной и далекой, и он понял, что благодаря случайности может добиться того, чего никогда не добился бы любовью и постоянством.
– Донья Ана, – сказал он, – я пойду распоряжусь, чтобы вам подали завтрак и приготовили лучшее помещение. Здесь вам неудобно, а вы нуждаетесь в отдыхе, ведь ночь вам выпала беспокойная.
Донья Ана взглянула на него, не отвечая. Но в этом взгляде уже не было вражды. «Как знать, – подумала она, – быть может, мягкостью я добьюсь свободы».
Дон Кристобаль вышел, и вскоре два раба принесли донье Ане завтрак. Она несколько раз пробовала с ними заговорить, но не получала ответа. То ли они были немые, то ли получили строгий наказ молчать.
Прошел час, и снова появился дон Кристобаль.
– Сеньора, – сказал он, – предназначенные вам покои готовы. Соблаговолите следовать за мной.
Они прошли через ряд комнат, поднялись по лестнице, свернули по узкому коридору и попали в просторный покой.
– Здесь вы можете отдохнуть, – сказал Эстрада.
Донья Ана огляделась. В глубине комнаты она увидела окно, но, увы, оно было расположено слишком высоко и забрано частой решеткой.
Эстрада понял ее мысль.
– Бесполезно искать выхода, пока я сам не укажу его, – сказал он. – Это окно выходит на высокие стены монастыря. Монахи не придут на ваш зов, да и у вас слишком хороший вкус, чтобы сменять меня на одного из них. Отдыхайте и подумайте над тем, что я сказал: моя – добром или силой. Больше я не произнесу ни слова.
– Ваша дерзость начинает мне нравиться. Пожалуй, вы скоро покажетесь мне достойным любви.
– Дай-то бог. Это избавит вас от неприятностей, а мне принесет счастье. Отдыхайте.
И дон Кристобаль, выйдя из комнаты, запер тяжелую дверь на ключ.
– Пусть решает бог! – воскликнула донья Ана и одетая бросилась в постель. Вскоре она спокойно спала.
Донья Фернанда потратила немало сил, чтобы отыскать убежище доньи Аны. Однако все поиски оказались тщетными, и в конце концов достойная сеньора решила, что похитителем был дон Энрике. Таинственный ночной бой она сочла чистой комедией, полагая, что юноша разгадал расставленную ему ловушку и, как говорится в народе, отплатил с лихвой.
Дон Энрике, со своей стороны, тоже пытался раскрыть тайну, но, убедившись в тщете своих попыток, вообразил, будто похищение разыграно нарочно, а свидание назначено с тем, чтобы заманить его в засаду и убить. Поверив, что донья Ана действовала заодно с Индиано, он решил забыть эту женщину и ждать разгадки событий от будущего.
Дон Энрике без труда покорился судьбе; сердце его уже было занято таинственной красавицей с улицы Такуба. Стремясь рассеять мрачные мысли и снова увидеть прекрасную даму, дон Энрике прогуливался по тем местам, где впервые увидел незнакомку, подолгу стоял перед домом, расспрашивал соседей и в конце концов выведал ее имя и звание.
Впрочем, узнать ему удалось немного: женщина эта недавно приехала издалека, откуда именно – неизвестно, очевидно, она очень богата, все слуги у нее индейцы и не говорят по-кастильски, поэтому у них ничего не выспросишь, а главное, эта дама ведет столь замкнутый образ жизни, что соседи впервые увидели юную красавицу лишь в день святого Ипполита на балконе дома. Дон Энрике был близок к отчаянию, дни проходили один за другим, а прекрасная незнакомка словно испарилась.
Донья Ана не появлялась в обществе, история с похищением постепенно забывалась, и никто больше не говорил о ней.
А вот в доме дона Кристобаля де Эстрады произошли перемены. Теперь это уже не было жилище холостяка, и в городе стало известно, что хозяин дома зажил семейной жизнью. Правда, сеньору могли видеть только доверенные служанки. Донья Ана больше не была пленницей, а Эстрада отказался от балов и прогулок. Друзья говорили, что он вступил на праведный путь.
Но только один Индиано был посвящен в тайну всех этих перемен.
X. ЖАЛОБА МОНАХИНЬ
Хотя дон Энрике и не был виновен в похищении доньи Аны, его имя так часто поминалось во всех разговорах, вызванных ночным происшествием, что не было в Мехико человека, который не считал бы его виновником этого скандала.
Слава дона Энрике как соблазнителя женщин росла с каждым днем, а вместе с ней росло негодование отцов семейств и добропорядочных людей, которые объявили чуть не крестовый поход против бедного юноши и ратовали за то, чтобы его не принимали в семейных домах и остерегались, как злодея. Вполне понятно, что все эти толки дошли до монастыря Иисуса и Марии и ввергли в тревогу мать настоятельницу, чем не преминул воспользоваться дон Хусто.
Выждав несколько дней, чтобы сделать свой приход еще более желанным, он появился однажды вечером в монастыре, попросил разрешения поговорить с настоятельницей и был немедленно принят.
– Ах, братец! – едва завидев его, воскликнула настоятельница. – Сам господь бог посылает вас, ведь мы уже было собирались пригласить вас к себе.
– Да простит мне ваше преподобие, что я не явился раньше. Я был занят в доме сестры моей, графини; ее супругу, сеньору графу, выпали тяжелые дни.
– Уж не захворал ли наш благодетель?
– Душа у него болит, матушка, душа.
– Почему же?
– Да уж ваше преподобие может вообразить, какие неприятности доставляет семье дон Энрике, которому господь не судил быть хорошим сыном.
– Такова воля божия, братец. Бедный сеньор граф! Мы уже наслышаны о его печалях и неустанно молим за него господа в наших недостойных и грешных молитвах.
– О, он безутешен. И у такого хорошего, добродетельного, почтенного человека, известного своим милосердием, такой, да простит меня бог, беспутный буян-сын.
– Главное, огласка, братец. Огласка хуже греха.
– Пресвятая дева Мария, помоги сеньору графу! Изволите видеть, ваше преподобие, каждый несет свой крест, но, если сравнить нашу долю с долей ближнего, мы должны еще благодарить бога за то, что крест наш не столь тяжек.
– Благословен господьво веки веков!
– Аминь.
– А как же полагает сеньор граф поступить со своим сыном? Не подумайте, братец, что я спрашиваю вас о том из праздного любопытства, избави бог. Но буйство этого юноши, да наставит его господь на путь истинный, с каждым днем все больше омрачает добрую славу нашего монастыря, недостойной настоятельницей коего я являюсь.
– Сеньор граф ничего с ним не может поделать. Власти его недостаточно, чтобы пресечь зло.
– Но кто же способен пресечь его?
– Полагаю, матушка, что только его светлость вице-король.
– То же полагают и наши отцы капелланы. Но они не желали бы сами к нему обращаться.
– Нетрудно будет добиться желаемого другим путем.
– Вот за этим-то я и ждала вас, братец. Посоветуйте, как быть?
– Прежде всего, заручившись согласием прелатов, ваше преподобие напишет прошение сеньору вице-королю. В этом прошении вы пожалуетесь на то, что доброе имя вашей святой обители страдает от бесчинств человека, сестра которого находится в вашем монастыре.
– Понимаю, понимаю.
– Далее ваше преподобие передаст это прошение мне, а я отнесу его во дворец сеньору вице-королю.
– Очень хорошо.
– Затем ваше преподобие позаботится о том, чтобы сеньор архиепископ посодействовал быстрейшему вручению вашей жалобы.
– А потом?
– А потом его светлость довершит все остальное.
– И что же, вы думаете, он сделает?
– Полагаю, он может изгнать из своих владений этого буяна или же в наказание отправить его в Испанию под стражей.
– И нет никакой опасности, что при этом прольется кровь?
– Никакой.
– В таком случае я выполню все ваши советы, братец. А то отец капеллан сказал, что его сан запрещает ему вмешиваться в дела правосудия в тех случаях, когда может пролиться человеческая кровь.
– Ваше преподобие может действовать совершенно спокойно; о том, чего боятся отцы капелланы, и речи нет.
– Слава богу! Тогда через три дня вы получите нужное послание. Жду вас ровно через три дня.
– Я буду точен.
Дон Хусто откланялся, а настоятельница немедля велела пригласить отцов капелланов.
В те времена Новой Испанией правил дон Себастиан де Толедо, маркиз де Мансера. Он вступил на пост вице-короля 15 октября 1664 года и привез с собой в колонию свою супругу донью Леонору де Каррето.
Вице-король согласился принять дона Хусто через пять дней после его разговора с монахиней. Дон Хусто явился с крайне подобострастным видом.
Маркиз де Мансера – по отзывам хронистов того времени, человек умный и проницательный – пригласил дона Хусто сесть и принялся изучать его физиономию, пытаясь определить характер этого человека.
– Да простит меня ваша светлость, – начал дон Хусто, – что я отвлекаю вас от ваших высоких и сложных обязанностей, но меня понудило к тому дело столь деликатного свойства, что я посмел, быть может, с излишней настойчивостью домогаться свидания с вами.
– Можете изложить мне ваше дело, – ответил вице-король, – ведь затем, чтобы управлять этими землями и послал меня сюда его величество король, доверивший мне честь представлять его священную особу и власть.
– Приступаю, ибо не хочу докучать вашей светлости. Вам известно, что в этом городе проживает весьма почтенная особа (не в умаление достоинств сеньора вице-короля будь сказано) по имени граф де Торре-Леаль.
– Как же, я хорошо его знаю.
– У сеньора графа есть двое детей: сын и дочь. Сын, старший из них, известен своим беспутным нравом и дурными наклонностями. Дня не проходит, чтобы он не совершал какое-нибудь бесчинство.
– Как зовут этого юношу?
– Дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– А! – воскликнул вице-король, вспомнив о стычке в день святого Ипполита.
– У дона Энрике, – продолжал дон Хусто, сделав вид, будто не понял, что означало восклицание маркиза, – есть сестра, о которой я уже упоминал, монахиня в одном из монастырей этого благородного и верного города.
– Понимаю.
– Бесчинства дона Энрике нарушают покой его сестры и других святых монахинь. Всему городу известно, что сестра буяна спасается в этом монастыре, а потому вся почтенная община предается тревоге и унынию и видит избавителя от нынешних и грядущих бед только в лице вашей светлости, представляющей в этих владениях величие нашего повелителя.
– И что же я могу сделать?
– Светлейший сеньор, дозвольте почтительно вручить вашей светлости прошение, в котором монахини просят у вас избавления от зла и бесчинств, столь опасных для всего христианского мира.
Вице-король взял послание, с глубоким поклоном поданное ему доном Хусто. Внимательно прочитав его, вице-король заметил:
– Но здесь не указано, какого решения ждут они от меня.
– Святые сестры полагали, что от мудрого ума вашей светлости решение не укроется, да и негоже им указывать вашей светлости.
– Что же делать? Быть может, посоветовать графу де Торре-Леаль, чтобы он, пользуясь своей родительской властью, внушил сыну понятие о долге?
– Вашей светлости неизвестно, что это ни к чему не приведет. Я принадлежу к семье графа и смею заверить, что по этому пути идти бесполезно. Сеньор граф сделал все, чтобы в его силах, и мы осмелились докучать вашей милости, лишь когда все возможные способы уже были исчерпаны.
– В таком случае я призову юношу к себе и строго отчитаю его, пригрозив суровыми карами, если он не исправится.
– Не подобает мне вступать в спор с вашей милостью, но, пользуясь всем известной добротой сеньора вице-короля, я испрошу разрешения сказать свое слово.
– Говорите, ибо для блага королевства и религии необходимо принять разумное решение.
– Вам, ваша светлость, никогда не приходилось беседовать с этим молодым человеком, вот почему ваше благородное сердце верит, что на него могут воздействовать советы и увещевания старших. Но на эту ожесточенную душу не повлияешь ничем, можно лишь еще больше возбудить в нем дурные страсти и сделать его непримиримым врагом монастыря, из которого, как он догадается, поступила жалоба. И тогда, чтобы пресечь злодеяния, потребуются вся власть и весь авторитет вашей светлости. Ведь такой человек, как дон Энрике, способен обнажить шпагу и вступить в бой даже в присутствии вашей светлости, вот до чего довели его дурные привычки и наклонности.
Все это дон Хусто говорил не без умысла, желая вызвать у вице-короля воспоминание о событиях в день святого Ипполита. Удар был направлен так ловко, что не замедлил оказать ожидаемое действие.
После недолгого размышления вице-король произнес:
– Без сомнения, вы правы. В этом меня убеждает происшествие, которому сам я был свидетелем. Быть может, тогда мне следовало действовать по-другому, но это уже дело прошлое. Скажите, нет ли новых жалоб на этого юношу?
– Да, светлейший сеньор. В день святого Ипполита…
– Об этом я знаю, он затеял сражение во время выноса знамени…
– Нет, сеньор, другое. После этого скандала в ночь того же тринадцатого августа дон Энрике похитил девушку, принадлежащую к одному из самых богатых семейств нашего города. Похищение не обошлось без драки, сражения на шпагах и скандала, а хуже всего то, что он уверяет, будто ни в чем не виноват, хотя я сам видел, как мать девушки, бросившись на поиски дочери сразу же после ее исчезновения, наткнулась возле дома на дона Энрике, который сражался с какими-то незнакомцами…
– А девушка? Нашлась?
– Нет, светлейший сеньор. Опасаясь, без сомнения, что его принудят к справедливому и заслуженному искуплению вины, дон Энрике спрятал ее, и несчастная мать предполагает, что похититель, удовлетворив свою нечистую страсть, отправил бедную девушку далеко отсюда.
– Да он негодяй, заслуживающий сурового наказания!
– Представить суду доказательства почти невозможно. Преступник посмеется над всеми: он ловко принял меры предосторожности.
– Этот юноша, должно быть, чудовище!
– Ваша светлость еще многого не знает, но обо всем долго рассказывать.
– Но где же выход?
– Сеньор, ваша милость может изгнать его из своих владений или же отправить в Испанию под стражей.
– Очень суровая кара!
– Верно, сеньор. Но для человека, о злодеяниях которого знает теперь ваша милость, она, быть может, менее сурова, чем он заслужил.
– Возможно.
– К тому же спокойствие сестер монахинь тоже зависит от того, как рассмотрит ваша милость это дело.
– Ах! Я и позабыл, что надо еще ответить на жалобу монашек. Хорошо, можете удалиться. Я приму решение сегодня же вечером.
– А что мне сказать почтенным монахиням?
– Можете заверить их, что они будут удовлетворены, и очень скоро.
– Приношу вашей светлости глубочайшую благодарность от почтенных монахинь. Ничего другого они и не ожидали от великодушия вашей милости.
– Позаботьтесь о том, чтобы все оставалось в тайне, не то молодой человек постарается доставить нам новые неприятности, либо отразить удар, подготовленный правосудием.
– Ваша милость может довериться нашей осмотрительности.
Отвесив тысячу поклонов и реверансов, дон Хусто удалился.
– Все идет отлично! – воскликнул он, очутившись на улице. – Еще одна жалоба или хоть самое невинное происшествие, и мы увидим моего дорогого сеньора дона Энрике на дороге в Веракрус.
Оставшись один, вице-король погрузился в размышления. Затем он перечел послание монахинь.
– Все ясно, – сказал он. – Этот юноша неисправим. Монахини действуют по праву, нельзя допускать, чтобы их честь и доброе имя страдали из-за проступков этого человека… А потом похищение… да еще это побоище в моем присутствии на празднике святого Ипполита… и многое другое… нет, этот юноша – сущий бич, пора принять против него крутые меры… Решение принято… Решение принято.
И, резко поднявшись с кресла, он направился в канцелярию, где помещались его секретари.
Судьба дона Энрике была брошена на чашу весов.
XI. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Утром того же дня какой-то слуга оставил в доме дона Энрике тщательно запечатанное письмо. Придя домой к обеду, юноша вскрыл его и прочел следующие строки:
«Дон Энрике, сегодня вечером я даю в моем доме бал для друзей. Приходите, велите доложить о себе и постарайтесь, улучив удобное время, поговорить со мной.
Мой дом на улице Такуба вам известен».
Под запиской не было подписи, но дон Энрике узнал руку, знакомую ему по первому письму.
Это таинственное приключение, эта прекрасная, никому неведомая дама, которая лишь недавно появилась в Мехико и, однако же, имеет друзей и дает балы, настолько возбуждала любопытство дона Энрике, что он, не колеблясь, решил прийти вечером на свидание с очаровательной незнакомкой.
Но несмотря на все, он не мог назвать ее письма любовными. В них была какая-то сдержанность, недоговоренность, каждое слово казалось обдуманным. Такое письмо не скомпрометировало бы писавшую его даму, подобные строки могла бы написать королева, милостиво разрешившая аудиенцию.
Когда дон Энрике размышлял об этом, тяжелое предчувствие теснило ему грудь, но он тут же вспоминал горящие глаза незнакомки, ее усыпанные брильянтами черные волосы, покрытое драгоценностями черное платье, и все казалось ему столь фантастическим, столь необычным, что порой он чувствовал, как мешаются его мысли.
Настал вечер. Дом доньи Марины осветился, будто по мановению волшебной палочки, и явился всем взорам убранный с таким блеском и роскошью, с таким изысканным вкусом, что, казалось, сами феи устроили там свой праздник.
Толстый ковер, сплетенный из переливающихся всеми красками перьев, покрывал каменные плиты патио от уличного входа до галереи дома. Купы ароматических растений и цветущих кустов благоухали вокруг, и среди листвы этого искусственного леса ярким светом горело несметное множество свечей. Разноголосые птицы, гордые певцы высоких гор, оглашали воздух своими трелями, радуясь обманному сиянию, соперничающему со светом дня.
Невиданная, диковинная роскошь отличала все покои дома. Мебель из неизвестного дерева, издававшего тонкий аромат, привлекала глаз своими причудливыми формами. Богатая европейская парча, шитые золотом китайские шелка, искусно выработанные индейские ткани покрывали стены и широкие диваны; среди японского фарфора блистала посуда из золота и серебра.
Столь пышного бала не было еще на памяти старожилов города, к тому же стало доподлинно известно, что на балу обещали присутствовать вице-король маркиз де Мансера и его супруга донья Леонора. Приглашение им было послано от имени доньи Марины де Альварадо, дочери касика дона Эрнандо де Альварадо, обращенного в католическую веру, – одного из самых богатых сеньоров Теуантепека.
Приглашая вице-короля, донья Марина озаботилась тем, чтобы представить во дворец все документы, подтверждающие ее благородное происхождение. Ознакомившись с представленными грамотами, вице-король счел возможным принять приглашение и пообещал приехать вместе со своей супругой.
Гости еще не начали съезжаться. По залам метались занятые последними приготовлениями управители, слуги и рабы.
Донья Марина и Индиано беседовали в одном из покоев. На донье Марине было белое платье без всяких украшений, но такое тонкое и воздушное, что казалось, будто она окутана легким облаком; вокруг ее талии обвился пояс алого шелка, усеянный брильянтами; на обнаженных руках, на шее, в волосах сверкали брильянтовыми звездами алые браслеты, ожерелье и диадема. В этом одеянии донья Марина выглядела волшебницей из арабской сказки.
Наряд Индиано повторял цвета его дамы. Он был одет в белый шелковый камзол с красными прорезями на рукавах. Ни серебро, ни золото не украшали его одежду – только брильянты. Не без умысла он выбрал те же цвета и драгоценности, что и донья Марина.
– Сеньор, – говорила Марина, – мне неизвестны ни твои цели, ни твои замыслы, но я подчинилась тебе во всем, как тучка подчиняется дыханию ветра.
– Не бойся ничего, Марина. Скоро ты увидишь, зачем все это нужно.
– Бояться, когда я слушаюсь тебя? Никогда. Ты – моя жизнь и моя воля. Приказывай, сеньор. Ведь в этом и есть любовь. Я люблю тебя, и твоя душа неотделима от моей. Разве может моя душа не пожелать того, чего хочет твоя! Ты доволен?
– Я всегда доволен, если довольна ты, свет души моей. Ты не знаешь, получил дон Энрике письмо?
– Да, получил. О! Ты не понимаешь, сеньор, какие чувства я испытываю при мысли, что другой мужчина, а не ты, воображает, будто я могу любить его, думать о нем. Эта мысль разрывает мне сердце!
– Любовь моя, слышишь птиц, которые поют при свете свечей? Они думают, что это солнце, но может ли этот обман оскорбить солнце, вызвать в нем ревность? Пусть этот человек принимает свет горящих углей за свет дня. Наша любовь, наше счастье – чисты и незыблемы, никакая гроза им не страшна.
– О сеньор! Говори со мной так всегда, приказывай мне все, что хочешь! Как мне вести себя, когда придет этот человек?
– Старайся поменьше смотреть на него, однако предоставь ему случай приблизиться и заговорить с тобой. Поощряй его дерзость своим молчанием, все остальное сделаю я. Но когда я пойду и спрошу, о чем он говорил с тобой, отвечай мне громким голосом в присутствии всех гостей и притворяйся удивленной. Повтори все, что он скажет тебе. Ты поняла, жизнь моя?
– О! Моя душа всегда понимает тебя.
В это время начали съезжаться гости. Дамы и кабальеро заполняли залы, раздались первые негромкие звуки музыки. Ждали только приезда вице-короля с супругой, чтобы начать танцы. До самого входа во дворец были расставлены люди, которые немедля должны были известить хозяев о прибытии вице-королевской четы.
Наконец пришла долгожданная весть, все общество заволновалось, и донья Марина, опершись на руку Индиано, сошла вниз, чтобы встретить вице-королевскую чету у подножия лестницы. От входной двери до места встречи двумя рядами стояли одетые с европейским изяществом испанские слуги вперемежку с индейцами в ярких уборах из перьев, принятых во время Монтесумы. Слуги держали в руках зажженные восковые свечи, а индейцы освещали путь смоляными факелами, источавшими благовонный дым.
Двое детей, одетые в старинные ацтекские костюмы, и двое – в современном испанском платье – шли впереди вице-королевской четы, посыпая пол лепестками мака и роз. Со всех сторон полились звуки музыки, с плоской крыши взлетели вверх потешные огни.
Вице-король и донья Леонора были очарованы такой роскошью и радушием. Вице-королева поспешила обнять донью Марину, вице-король протянул руку дону Диего, а затем девушке.
– Сеньор, – заговорила донья Марина, – сердце мое стремилось оказать тебе достойный прием и ради тебя самого, и ради величия, которое ты представляешь в этих владениях, – ведь в тебе я вижу особу нашего повелителя. Прости, сеньор, я сделала все, что могла, чтобы дом мой был тебе приятен, но знаю, что этого слишком мало.
Маркиз де Мансера, искушенный в придворном языке европейских столиц, был несколько смущен наивным красноречием патриархальных времен; вице-королева тоже испытывала замешательство. Однако проницательный ум маркиза подсказал ему, что он должен отвечать в тех же выражениях.
– Дитя мое, – произнес он, – монарх видит твои добрые намерения и благодарит тебя за старания. Твой дом великолепен, а праздник достоин короля.
– Сеньора, – обратилась Марина к вице-королеве, – человек, которого ты здесь видишь, – она указала на дона Диего, – станет моим супругом перед лицом господа, потому что оба мы христиане, и он и я. Окажи мне милость, сеньора, попроси своего благородного супруга, чтобы вы вместе были посажеными родителями на нашей свадьбе.
Эта чистосердечная просьба тронула донью Леонору, она взглянула на маркиза и прочла в его глазах согласие.
– Дитя мое, – ответил вице-король, – моя супруга и я будем посажеными родителями на твоей свадьбе, и в подтверждение я хочу сообщить тебе, что его величество король (да хранит его бог!) дал мне разрешение нанести от его имени визит двум особам, которых сочту я достойными столь высокой милости. И вот я объявляю, что первое из этих посещений произошло сегодня, и ты можешь считать, что его величество король Испании сам своей священной особой присутствовал в твоем доме.
– Да здравствует его величество! – воскликнули гости, услыхавшие слова вице-короля, и клич этот подхватили во всех покоях дворца и даже на улице.
Вице-король предложил руку Марине, а дон Диего вице-королеве, и, поднявшись по лестнице, обе пары, как говорилось в те времена, открыли бал.
Прошло около часу, и слуги доложили о появлении дона Энрике Руиса де Мендилуэта.
Дон Энрике вошел в залу, где находились вице-король с супругой, и приветствовал их почтительным поклоном.
– Это и есть тот юноша, о котором ты говорил мне? – спросила донья Леонора.
– Он самый, и это очень жаль. Так хорош собой, так статен… – ответил вице-король.
– Но, может быть, на него клевещут?
– Дай-то бог. На первый взгляд он мне понравился, и, право, я рад был бы не отдавать распоряжения, которого требуют матери монахини. Постараюсь понаблюдать за ним сегодня.
– Возможно, он не так уж плох, как о нем говорят.
Если бы дон Энрике не был так поглощен стремлением увидеть донью Марину, он обратил бы внимание на то, что вице-король с супругой о чем-то переговариваются, не сводя с него глаз. Но он ничего не заметил.
Долгое время дон Энрике не отрывал взгляда от доньи Марины, которая, казалось, и не смотрела в его сторону, окруженная сонмом дам и молодых людей, очарованных ее простодушной и живописной речью. Но вот танцы увлекли всех, и донья Марина осталась одна. Дон Энрике решил, что настал подходящий момент, и, подойдя к девушке, сел рядом с ней.
– Доволен ли ты, сеньор? – спросила донья Марина.
Дон Энрике не привык к такому обращению и, не зная, что, по обычаю своей страны, донья Марина так говорила со всеми, принял ее слова как выражение особого доверия. В восторге он ответил:
– Как могу я не быть довольным рядом с тобой, сеньора, когда единственное стремление моей души – говорить с тобой, слушать тебя, рассказывать тебе о своей любви!
В это время дон Диего как бы случайно вошел в залу вместе с компанией дам и кабальеро. Дон Энрике в увлечении никого не заметил.
– Ты меня любишь? Но ведь ты едва знаешь меня? – спросила донья Марина.
– О сеньора, достаточно хоть раз увидеть тебя, чтобы полюбить. Я верю, что и ты полюбишь меня! Ведь ты будешь моей?
– Твоей? Но как?
– Полюби меня так, как я люблю тебя! Живи рядом со мной, живи только для меня и ради меня!
– Но почему ты думаешь, что я могу решиться на это?
– Я думаю так из-за двух твоих писем, я думаю так из-за розового бутона, который ты бросила мне в день святого Ипполита!
– Я?
– Да ты. Не отрицай, я люблю тебя!
В это мгновение к ним подошел Индиано. Донья Марина встала, словно в испуге, и дон Энрике увидел перед собой своего врага.
– Кабальеро! – произнес Индиано громким голосом, чтобы все могли его слышать. – Что говорили вы этой даме?
– Вас это не касается, – высокомерно ответил дон Энрике.
– Донья Марина, что говорил тебе этот человек?
– Он говорил мне какие-то непонятные слова, – простодушно ответила девушка. – Он говорил, что любит меня, а я люблю его, что получал от меня письма, и будто я должна принадлежать ему, оттого что он поднял розу, которую я бросила тебе в день святого Ипполита.
Страшное подозрение промелькнуло в душе дона Энрике. Не стал ли он жертвой коварства? Музыка умолкла, из всех залов сбегались привлеченные любопытством гости.
– Вы слышите, господа? – спросил Индиано. – Вы осмелились преследовать своими ухаживаниями даму, которая гостеприимно открыла вам двери своего дома. И эта дама – моя будущая супруга, которой сеньор вице-король обещал высокую честь быть посаженым отцом на ее свадьбе.
Дон Энрике словно окаменел; молния, упавшая у его ног, не могла бы поразить его более. Он понял, что за всем этим кроются низкие козни, но не мог проникнуть мыслью сквозь плотную завесу лжи.
– Надеюсь, вы согласитесь, кабальеро, – продолжал Индиано, – что я имею право просить вас покинуть дом, где вы совершили такой недопустимый поступок.
Дон Энрике побледнел, на лбу у него выступила испарина.
– О! – воскликнул он. – Вы должны объяснить мне, кабальеро…
– Вы должны удалиться, дон Энрике Руис де Мендилуэта, – произнес властный голос за спиной у дона Энрике.
Он обернулся и увидел суровое лицо маркиза де Мансеры.
– Повинуюсь вашей светлости, – сказал дон Энрике. – Мы поговорим обо всем завтра, сеньор дон Диего.
– Как вам будет угодно.
Дон Энрике вышел из залы среди гробового молчания.
– Теперь ты видишь? – спросил вице-король у супруги.
– Он неисправим, – ответила донья Леонора.
Все успокоились, и веселый бал продолжался, словно ничего не произошло.
XII. ПОВЕЛЕНИЕ ВИЦЕ-КОРОЛЯ
Скандал, вызванный ни в чем не повинным доном Энрике, лишь ненадолго прервал общее веселье. Даже самые близкие друзья молодого кабальеро решили отложить на завтра разгадку таинственной интриги и отдались наслаждениям бала, сдержав на время свое негодование, огорчение и дружеские чувства. Вице-король казался глубоко озабоченным. Решение было принято, и никакая сила не могла заставить его отступить. Он искал лишь способа выполнить свою волю без лишнего шума и преждевременной огласки, не напрасно опасаясь, что мольбы и слезы семьи вынудят его смягчить приговор. Вице-королева, донья Леонора, хорошо знала характер своего супруга. По его упрямо сдвинутым бровям она поняла, что решение принято окончательно и говорить с ним об этом деле бесполезно.
Настал час разъезда гостей. Вице-король с супругой поднялись первыми. Повторив провожавшим их Индиано и донье Марине свое обещание, они направились к выходу, следуя между двумя рядами слуг, освещавших путь свечами и факелами. Вице-королевская чета уселась в карету, лошади тронулись, и все гости стали расходиться.
Первые лучи солнца осветили улицы города, ласточки весело щебетали на крышах. Дон Диего и донья Марина остались одни в опустевших покоях.
– Сеньор, – спросила донья Марина, – я во всем тебе повиновалась. Ты доволен?
– Да, Марина.
– Тогда я хочу просить тебя о милости.
– Говори, моя красавица. Твои желания – закон для меня. Душа моя склоняется перед твоей волей, как листья пальмы перед дыханием ветра.
– Сеньор, скажи своей Марине, что хочешь ты сделать с этим человеком? Для чего все это было нужно?
– Донья Марина, – ответил с безмятежным спокойствием Индиано, – я хочу убить этого человека ударом шпаги.
– Бедняжка! Ведь я знаю, если ты говоришь: этот человек должен умереть, то он умрет. Никто еще не мог похвалиться тем, что отразил удар твоей шпаги. Но не сердись, душа души моей, если я спрошу тебя: зачем ты проделал все это сегодня ночью?
– Марина, ты не знаешь, что такое общество. Если бы я убил этого человека раньше, чем опозорил его перед всеми, люди стали бы жалеть его. Если бы он убил меня, – его стали бы превозносить. Теперь же, когда он заслужил насмешки и презрения, показав себя недостойным звания кабальеро, если я убью его, все скажут: «Дон Диего прав», – если же он убьет меня, победа не принесет ему славы, моя месть будет преследовать его даже из могилы, и все отвернутся от него, как от злодея.
– Боже! И ты думаешь, он способен убить тебя?
– Это возможно. Я верю своей руке, но как знать, не пришел ли и мой час. Только богу известны тайны грядущего.
– Я готова раскаиваться в том, что помогала тебе против этого человека!
– Не раскаивайся, моя Марина. Эта дуэль все равно неизбежна, а благодаря тебе люди оправдают меня, если я его убью, и осудят его, если умру я.
Марина опустила голову, и слезы, скользнув по ее щекам, сверкнули среди брильянтов ожерелья.
– Марина! – воскликнул дон Диего, поцеловав ее в лоб. – Женщины твоей расы не плачут, когда мужчина идет в бой. Неужто воздух Мехико лишил силы твое сердце?
– Мое сердце стонет и жалуется лишь из страха потерять тебя. Где возьму я силы, если ты покинешь меня?
– Твоя любовь будет мне защитой. Прощай!
Девушка снова заплакала. Но Индиано запечатлел два жарких поцелуя на ее прекрасных глазах и, взяв шляпу и плащ, стремительно вышел из дома.
Дон Энрике бежал с бала словно безумный. Стыд, гнев, отчаяние бушевали в его груди. Он понял, что стал жертвой интриги, задуманной Индиано, и жажда мести кипела в его сердце. Он бродил по темным пустынным улицам со шляпой в руке, подставляя пылающую голову холодному ночному ветру. Он мечтал встретить кого-нибудь, затеять драку и либо умереть, либо утолить снедавшую его жажду крови. Но улицы были пусты, и он шагал и шагал всю ночь, пока первый луч зари не застиг его уже за пределами города. Тогда, сломленный усталостью, сжигаемый лихорадкой, юноша вернулся домой и бросился в постель. Решение было принято: убить Индиано или умереть, отомстить или погибнуть. Он закрыл глаза и забылся тяжелым сном.
Весь день дон Энрике не мог поднять головы, не мог открыть глаз. Он испытывал мучительную боль в затылке, неутолимую жажду, какое-то странное изнеможение. Мысли его путались, он видел себя то на балу, то на празднике святого Ипполита, то у решетки доньи Аны; люди, с которыми он сталкивался в последние дни, кружили перед ним вереницей, и на всех лицах он читал презрение.
Дон Энрике жил в том же доме, что и его отец, старый граф де Торре-Леаль. Но молодому человеку были отведены особые покои с отдельным выходом на улицу, чтобы он мог в любое время дня и ночи выезжать верхом или в карете, не нарушая покоя остальной семьи. Наступил вечер, дон Энрике продолжал бредить. Однако он решительно запретил беспокоить отца сообщением о своей болезни, надеясь, что утром ему станет полегче.
Пробило два часа ночи, когда в вице-королевском дворце распахнулись тяжелые ворота и со двора выехала дорожная карета, запряженная шестью мулами, в сопровождении нескольких всадников. Среди них, при свете факелов, пылавших в руках у слуг, можно было узнать офицера алебардистов. Карета выехала на площадь и свернула в улицу Икстапалапа.
Офицер поскакал вперед и остановился перед домом графа де Торре-Леаль. Очевидно, он был хорошо осведомлен, так как направился не к главным воротам, а постучался у входа в покои дона Энрике. Кучер остановил карету, четверо всадников спешились и встали рядом с офицером, который тоже сошел с коня. Слуги не спали, встревоженные болезнью своего сеньора, и отозвались на стук, не заставляя себя ждать.
– Кто здесь? – спросил один из них.
– Офицер его величества с приказом от его светлости сеньора вице-короля к дону Энрике Руису де Мендилуэта. Откройте.
Привратник, напуганный таким вступлением, открыл без промедления. Офицер в сопровождении своих людей вошел в дом.
– Зажги огонь и проводи меня, – сказал он слуге, – где твой сеньор?
– Болен, лежит в постели.
– Отведи меня к нему и доложи.
Офицер распоряжался так властно, что слуга не посмел возражать и, взяв в руки светильник, повел его к спальне дона Энрике.
– Обождите, ваша милость, я сейчас доложу, – сказал он.
– Поторапливайся.
Дон Энрике дремал.
– Сеньор, – окликнул его слуга.
– Что тебе? – спросил юноша, с трудом открыв глаза.
– Какой-то офицер хочет видеть вашу милость от имени сеньора вице-короля.
– Скажи ему, что я болен.
– Я говорил, он стоит на своем.
Дон Энрике с досадой пожал плечами и сказал:
– Пусть войдет.
Слуга вышел и вскоре вернулся вместе с офицером, который с любопытством оглядел спальню, озаренную слабым, мерцающим светом ночника.
– Вы дон Энрике Руис де Мендилуэта?
– Да.
– По приказу его светлости сеньора вице-короля следуйте за мной.
– Это невозможно, я болен.
– Таково повеление его светлости. Мне дан приказ, и я должен выполнять его неукоснительно.
– Но его светлости не было известно, что я болен.
– Все предусмотрено. Таково повеление его светлости.
– Но это бесчеловечно, я не пойду.
– Вы ставите меня в чрезвычайно трудное положение. Такова воля вице-короля, и мне дан приказ выполнять ее либо с вашего согласия, либо силой.
– В таком случае применяйте силу! – воскликнул взбешенный дон Энрике.
– Будьте благоразумны. Со мной люди, и я не думаю, что вы захотите опозорить дом вашего старого отца, подняв оружие против короля и правосудия.
Слуги в страхе молчали. Дон Энрике вскочил и схватился было за шпагу, но сдержал себя и после размышления сказал, покорившись судьбе:
– Хорошо, я последую за вами. Разрешите мне одеться.
– Это в вашей воле.
– Известить мне сеньора графа? – спросил слуга.
– Нет, – ответил дон Энрике, – я не хочу тревожить его.
– Тем более, – добавил офицер, – что мне не дано приказа разрешить это.
Дон Энрике умолк и поспешно оделся.
– Я к вашим услугам.
– Тогда следуйте за мной.
При свете свечей они спустились по лестнице и вышли из дома. Один из ожидавших на улице людей открыл дверцу кареты.
– Садитесь, – сказал офицер.
– Куда вы меня везете? – спросил дон Энрике.
– Не приказано говорить.
– Но…
– Таково повеление его светлости.
Дон Энрике вошел в карету и сел, офицер поместился рядом. Дверца захлопнулась, и мулы пустились бегом.
Слуги в дверях дома рыдали, глядя вслед уехавшему хозяину.
Дон Энрике откинулся в угол кареты. У него снова начался бред.
Офицер в глубоком молчании прислушивался к бреду больного. Так миновали они улицу Икстапалапа и выехали из города.
XIII. МОСКИТ
В ту же ночь, когда происходили описанные нами события, около одиннадцати часов, в жалкой харчевне, расположенной в одном из переулков, выходивших на Студенческую, или Университетскую, площадь, собрались за веселым ужином четыре человека. Они сидели вокруг старого колченогого стола, на котором горела оплывшая свеча желтого воска в разбитом глиняном подсвечнике. Перед каждым из сотрапезников стояла большая миска с заправленными перцем лепешками, и все они по очереди прикладывались к объемистому кувшину с пульке, который непрерывно переходил из рук в руки. Все были одеты в какую-то рвань, но у троих этих обноски были из темной бумажной ткани, а у четвертого, очевидно их вожака, – из бархата. Правда, теперь вряд ли удалось бы определить первоначальный цвет этого наряда, и был он настолько истрепан, что наверняка побывал уже у троих или четверых хозяев, прежде чем попал к нынешнему владельцу. Щеголял в бархатном костюме сухопарый, низкорослый парень с иссиня-черной бородкой и такими живыми блестящими глазами, что на них нельзя было не обратить внимания.
Собеседники с каждым глотком становились веселее, и разговор постепенно оживлялся.
– Так, значит, сейчас у вас нет ни денег, ни надежды раздобыть их? – спросил парень в бархатном костюме.
– Вот именно, Лукас, – ответил другой, поднося кувшин ко рту.
– Так с вами всегда и будет! – воскликнул тот, кого назвали Лукасом.
– Почему?
– Потому, что вы лентяи и трусы.
– Вот подвернулось бы нам настоящее дело…
– Э, была бы охота, а дел хватает.
– Не вижу.
– А я говорю, хватает.
– Где же они?
– У меня их немало, и я никогда не сижу без денег.
– Не всем же так везет, как счастливчику Москиту.
– Потому что я работаю, изворачиваюсь…
– Тогда помоги нам.
– Это вы мне должны помочь. Мне нужны товарищи для одного дела…
– Мы готовы.
– Беретесь?
– Да, да.
– Тогда слушайте. Садитесь поближе.
Собеседники сдвинули головы, чтобы лучше слышать, и Москит продолжал:
– Есть в городе один кабальеро, который сулит мне хороший заработок. Дело опасное, но, по-моему, верное, да еще если возьмутся за него такие молодцы, как вы.
– Дальше, дальше. – И головы сдвинулись еще теснее.
– Речь идет о том, чтобы напасть на отряд королевских солдат.
– Гм… – крякнул один.
– Это дело серьезное… – сказал другой.
– И пахнет по меньшей мере гарротой, – добавил третий.
– Не спорю, – ответил Москит, – тут можно свернуть шею. Но если вы боитесь, ничего не потеряно. Останемся по-прежнему друзьями, а я сговорюсь с другими.
– Нет, нет, кто тут боится? Я таких не знаю.
– Уж во всяком случае, не я.
– И не я.
– Так, значит, я могу рассчитывать на вас?
– Да, – ответили все трое.
– Дело вот в чем…
Москит собрался продолжать, но тут парнишка, прислуживающий в таверне, прервал его:
– Какой-то сеньор спрашивает вашу милость.
– Где он?
– Ждет на улице. Он говорит, что вы его знаете.
– Скажи, я сейчас выйду. – И, обратившись к товарищам, Лукас добавил:
– Я ненадолго, скоро вернусь.
Он надел шляпу и вышел.
– Что это за дело нашел Москит? – спросил один из оставшихся.
– Должно быть – нелегкое, раз он за него не взялся один.
– Какое бы оно ни было, а я пойду с Москитом. Он ловкий малый.
– Я тоже, а там будь что будет.
И все трое принялись попивать пульке, поджидая Лукаса.
Выйдя на улицу, Москит увидел пришедшего к нему человека. В широком черном плаще, закрывавшем лицо до самых глаз, в низко надвинутой широкополой шляпе, он был похож на привидение.
– Лукас, – позвал человек.
– Это вы, дон Хусто? – отозвался Москит.
– Тихо, не произноси моего имени. Готовы ли твои товарищи?
– Через полчаса будут готовы.
– Надежные?
– Иначе я бы не взял их.
– Отлично. Через час я жду тебя на мосту Аудиенсии. Смотри не опаздывай и приводи всех.
– Слушаю, сеньор.
– Возьми. – И, сунув руку под плащ, человек протянул Москиту набитый деньгами кошелек.
– Благодарствуйте.
– Не опаздывай.
Человек в плаще исчез, а Лукас, вернувшись в таверну, снова уселся за стол.
– Итак, я уже сказал, мы должны напасть на королевских солдат, которые будут конвоировать пленника.
– И освободить пленника?
– Нет, задача не так опасна: мы нападаем на солдат, обращаем их в бегство, а пленника отправляем к праотцам.
И Москит резко провел воображаемым ножом по своему горлу.
– А потом?
– Потом по домам. Ну, как скажете, трудно?
– А сколько будет солдат?
– Самое большее шесть. К тому же мы нападем на них врасплох.
– Я согласен.
– И я.
– И я.
В этот момент пробило восемь часов, все четверо встали и, перекрестившись, набожно забормотали молитву о душах в чистилище, число которых собирались сегодня пополнить.
 – Когда начинать? – спросил один из них, закончив молитву.
– Этой же ночью, так что наутро мы уже будем свободны и богаты, – ответил Москит.
– А сколько дают?
– Мне вручено по двести песо для каждого из вас.
– Отправимся пешком?
– Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие.
– Идет. А что за лошади?
– Подходящие, я их уже смотрел, а я, как вам известно, в этом толк знаю. В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей.
– Здорово!
– А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в девять.
– Пошли.
Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул:
– Паулита, Паулита!
В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка, лет двадцати, в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка; вокруг крепкой и нежной шеи обвилась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые в ладно пригнанные шелковые башмачки.
– Ты звал меня? – наигранно ласково спросила девушка, подойдя к Москиту.
– Поди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока.
Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи.
– А что это за дело ты затеваешь на ночь глядя?
– Дело очень важное, но тебе о нем знать незачем, мое сокровище. – И он нежно взял ее за подбородок.
Паулита отвернулась с недовольной гримаской.
– Что это, ты сердишься на меня, красотка?
– Да, – кокетливо ответила Паулита.
– За что же, скажи, моя радость?
– За то, что ты мне не доверяешь.
– Я ведь знаю, ты смелая женщина, тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине.
– И все-таки не хочешь рассказать, что ты будешь делать ночью.
– Я тебе все расскажу потом.
– Потом я и без тебя узнаю. Вот почему я больше люблю Вьюна, он от меня ничего не скрывает.
– Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке.
– Пусть выродок, но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его.
– Ладно, ладно, я знаю, что ты все это говоришь, чтобы подразнить меня. Но лучше оставь его в покое.
– А, ты сердишься?
– Очень.
– Ревнуешь?
– Может быть.
– Значит, ты меня очень любишь?
– Больше жизни.
– Обманщик, – весело сказала Паулита и, приподняв рукой лицо Москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить.
– Ох и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай…
Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой – играя черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее.
– Какая ты красивая! – воскликнул Москит.
– Ладно, ладно, рассказывай!
– Ну, слушай. Дело нехитрое – сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэранаваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить.
– А потом?
– Больше ничего.
– И сколько вам заплатят?
– Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести.
– Сколько вас?
– Четверо.
– Тогда это не опасно.
– Но их ведь шестеро.
– Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь.
– Пожалуй, верно. Опасность не очень велика.
– Еще бы! А как зовут этого пленника?
– Не знаю.
– Не лги, – сказала Паулита, ласково дергая его за ухо.
– Вот любопытная!
– Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца. Как зовут пленника?
– Обязательно хочешь добиться своего?
– А как же! Ну, говори его имя! – не отставала Паулита.
– Его имя… да зачем тебе это знать?
– Скажи, скажи, а то я начну говорить про Вьюна.
– Нет, не смей! Лучше я скажу тебе.
– Говори, хитрец!
– Его зовут дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Спаси его господь! – воскликнула Паулита, побледнев и вскочив с места. – Дон Энрике, сын графа де Торре-Леаль?
– Он самый. Да что с тобой? Чего ты побледнела? Чего испугалась?
– Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня.
– Да что тебе до него, Паулита? Кто он? Твой возлюбленный?
– Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его, как родного отца. Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его!
И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса.
– Паулита, я никогда тебя такой не видел. Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное.
– Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказала ее тебе, ты полюбил бы дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю.
– Расскажи мне ее, Паулита, расскажи и не огорчайся, – ответил Москит, ласково поглаживая черную головку девушки.
– Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда?
– Ты – моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь и женюсь на тебе.
– Тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели, еще не скоро придут?
– Нет, нет, они вернутся не раньше девяти.
– Тогда слушай.
Москит приготовился слушать, и Паулита, утерев передником слезы, начала свою историю.
– Когда начинать? – спросил один из них, закончив молитву.
– Этой же ночью, так что наутро мы уже будем свободны и богаты, – ответил Москит.
– А сколько дают?
– Мне вручено по двести песо для каждого из вас.
– Отправимся пешком?
– Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие.
– Идет. А что за лошади?
– Подходящие, я их уже смотрел, а я, как вам известно, в этом толк знаю. В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей.
– Здорово!
– А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в девять.
– Пошли.
Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул:
– Паулита, Паулита!
В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка, лет двадцати, в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка; вокруг крепкой и нежной шеи обвилась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые в ладно пригнанные шелковые башмачки.
– Ты звал меня? – наигранно ласково спросила девушка, подойдя к Москиту.
– Поди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока.
Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи.
– А что это за дело ты затеваешь на ночь глядя?
– Дело очень важное, но тебе о нем знать незачем, мое сокровище. – И он нежно взял ее за подбородок.
Паулита отвернулась с недовольной гримаской.
– Что это, ты сердишься на меня, красотка?
– Да, – кокетливо ответила Паулита.
– За что же, скажи, моя радость?
– За то, что ты мне не доверяешь.
– Я ведь знаю, ты смелая женщина, тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине.
– И все-таки не хочешь рассказать, что ты будешь делать ночью.
– Я тебе все расскажу потом.
– Потом я и без тебя узнаю. Вот почему я больше люблю Вьюна, он от меня ничего не скрывает.
– Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке.
– Пусть выродок, но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его.
– Ладно, ладно, я знаю, что ты все это говоришь, чтобы подразнить меня. Но лучше оставь его в покое.
– А, ты сердишься?
– Очень.
– Ревнуешь?
– Может быть.
– Значит, ты меня очень любишь?
– Больше жизни.
– Обманщик, – весело сказала Паулита и, приподняв рукой лицо Москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить.
– Ох и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай…
Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой – играя черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее.
– Какая ты красивая! – воскликнул Москит.
– Ладно, ладно, рассказывай!
– Ну, слушай. Дело нехитрое – сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэранаваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить.
– А потом?
– Больше ничего.
– И сколько вам заплатят?
– Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести.
– Сколько вас?
– Четверо.
– Тогда это не опасно.
– Но их ведь шестеро.
– Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь.
– Пожалуй, верно. Опасность не очень велика.
– Еще бы! А как зовут этого пленника?
– Не знаю.
– Не лги, – сказала Паулита, ласково дергая его за ухо.
– Вот любопытная!
– Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца. Как зовут пленника?
– Обязательно хочешь добиться своего?
– А как же! Ну, говори его имя! – не отставала Паулита.
– Его имя… да зачем тебе это знать?
– Скажи, скажи, а то я начну говорить про Вьюна.
– Нет, не смей! Лучше я скажу тебе.
– Говори, хитрец!
– Его зовут дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Спаси его господь! – воскликнула Паулита, побледнев и вскочив с места. – Дон Энрике, сын графа де Торре-Леаль?
– Он самый. Да что с тобой? Чего ты побледнела? Чего испугалась?
– Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня.
– Да что тебе до него, Паулита? Кто он? Твой возлюбленный?
– Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его, как родного отца. Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его!
И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса.
– Паулита, я никогда тебя такой не видел. Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное.
– Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказала ее тебе, ты полюбил бы дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю.
– Расскажи мне ее, Паулита, расскажи и не огорчайся, – ответил Москит, ласково поглаживая черную головку девушки.
– Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда?
– Ты – моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь и женюсь на тебе.
– Тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели, еще не скоро придут?
– Нет, нет, они вернутся не раньше девяти.
– Тогда слушай.
Москит приготовился слушать, и Паулита, утерев передником слезы, начала свою историю.
XIV. ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ
Мой отец, бедный каменщик, зарабатывал себе на жизнь тяжелым трудом. У него было две дочери – я и моя сестра, моложе меня на четыре года. Мы жили бедно, но отец всеми силами поддерживал своюсемью и очень любил жену и детей. Никогда мы не видели его пьяным. Воскресные вечера он проводил дома, рассказывая мне сказки или играя с моей сестренкой. Все соседи завидовали матери, что у нее такой муж. А он только и мечтал о том времени, когда я вырасту и бог поможет ему справиться с нуждой.
Мне было семь лет, а моей сестренке – три, когда однажды в субботу отец пришел домой очень веселый и сказал матери:
– Анхела, завтра я поведу тебя с девочками на праздник в Койоакан.
– Неужели? – воскликнула мать. – Доченька, – позвала она меня, – беги сюда, завтра мы пойдем с отцом на праздник в Койоакан.
Я никогда не выходила из дому и даже не знала, что такое праздник, а мать тоже давно нигде не бывала. Мы обе так обрадовались, так обрадовались, что отец растрогался до слез, он обнял нас и расцеловал.
– Бедняжки мои! – сказал он.
Я никогда не видела, чтобы отец плакал, и спросила его, сама чуть не плача:
– Отчего ты плачешь, отец?
– От радости, – ответил он, улыбаясь сквозь слезы, – от радости, Паулита, я рад тому, что вы так довольны.
– Конечно, мы очень довольны, Пабло, – сказала мать, обнимая его. – Только не плачь даже от радости, а то мне станет грустно. Сейчас я принесу тебе малышку, и ты успокоишься.
Мать взяла на руки сестренку, которая спала в своем углу, и протянула ее отцу, а он прижал девочку к себе, почти не видя ее сквозь слезы, застилавшие ему глаза.
– Не сердись, Лукас, что я так подробно рассказываю об этой ночи, но все эти воспоминания и сейчас вызывают у меня слезы. – Паулита вытерла глаза, а Лукас сам чуть не плакал.
Девушка продолжала:
– Потом отец, решив удивить мать, молча вытащил из-за пазухи платок и развернул его: там блестело несколько серебряных монет и одна золотая.
– Откуда это? – с радостной улыбкой спросила мать.
– Догадайся сама, – отвечал отец, подавая ей деньги.
Я никогда еще не видела золотой монеты и с восхищением вертела ее в руках.
– Ладно, эти ты заработал, – сказала мать, сосчитав серебряные монеты, – но та?
– Ту мне сам бог послал для вас. Вот слушай: кончил я работу и иду усталый домой, а по дороге встречаю людей, направляющихся в Койоакан, где, говорят, готовится веселый праздник в честь святого патрона. Иду я и думаю, какая жалость, что я так беден и не могу даже повести погулять мою бедняжку Анхелу и маленьких дочек, которые никогда еще ничего не видели. И стало мне грустно.
– Добрый мой Пабло, – говорит мама и ласково на него смотрит. А я прижимаюсь к отцу, который держит на коленях сестренку.
– Так вот, иду я, печальный, и вдруг слышу крики: «Остановите, остановите его!» Поднял я голову, а прямо на меня скачет красавец конь в богатой сбруе. Я ухватил его за узду, проклятый конь давай вырываться, но я держал узду крепко, пока не подбежал его хозяин, какой-то важный сеньор. Он сунул руку в карман и дал мне эту монету. Вот я и говорю, что ее послал бог, чтобы я мог порадовать вас прогулкой в Койоакан и купить фруктов и сластей для девочек.
Я была так счастлива, что, кажется, не согласилась бы поменяться с самой вице-королевой. До глубокой ночи, пока нас не сморил сон, мы без передышки говорили о завтрашней прогулке. Я донимала расспросами отца и мать, а потом пересказывала все сестренке. Ты представить себе не можешь, как радовались мои родители, гордясь, что могут доставить мне такое счастье. Наконец я заснула и всю ночь видела прекрасные сны.
– Помни, завтра надо встать рано, – сказал отец.
Напрасное напоминание: раза три я просыпалась среди ночи и спрашивала: «Пора? Пора?»
– Еще ночь, спи, – отвечала мать, и я снова засыпала.
Один раз я услыхала голос отца:
– Что сказала Паулита?
– Спрашивает, не пора ли вставать.
– Бедняжка, – сказал отец, смеясь, но тронутый моим волнением, – как она взбудоражена.
Под конец я так глубоко заснула, что мать едва добудилась меня.
Из Мехико мы, разумеется, отправились пешком, но в отличном настроении. Я, смеясь, бежала впереди или вела за руку сестренку, когда мать спускала ее на землю. Отец радовался и моему веселью, и удовольствию, сиявшему на лице матери. Ах! Лукас, какой добрый был мой отец.
Но вот мы пришли в Койоакан. Мне покупали все, чего я только ни просила: фрукты, сласти, игрушки, цветы. Это был самый счастливый день моей жизни. Началась процессия, и отец повел нас на кладбище, откуда лучше было видно. Со всех сторон жгли фейерверки, и взлетавшие ракеты пугали меня и сестренку.
– Пойдем отсюда, – сказал отец, – а то еще обожгут детей.
– Пойдем, – сказала мать, и мы уже собирались уходить, когда мимо пролетел пылающий шар, оторвавшийся от горевшего рядом огненного колеса. Меня осыпало искрами, я в ужасе бросилась бежать и почти в ту же секунду услышала крик отца. Оглянувшись, я увидела, что он, едва держась на ногах, закрывает лицо руками, а между пальцев у него струится кровь.
Мать тоже вскрикнула, бросилась к нему и усадила его на землю. Вокруг нас собрался народ.
– Что с тобой, Пабло? Пабло, ответь мне! – в тоске и тревоге кричала мать.
– Бомба угодила ему прямо в лицо, – говорили в толпе.
– Врача, священника! – кричали женщины.
Со всех сторон сбегались люди, узнать, в чем дело.
Мне казалось, что все это дурной сон: такое радостное утро, счастливый, довольный отец, – а теперь вот, обливаясь кровью, он лежит без сознания на земле, и мать, обезумев, рыдает над ним. Кругом столько незнакомых бледных лиц, крики: «Врача, священника!». Это было так страшно, так ужасно, я вижу все, как сейчас…
Отец пришел в себя, но стонал так жалобно, что сердце у меня разрывалось.
– Пропустите, я врач, – услыхала я, и какой-то человек, пробившись через толпу, встал на колени рядом с отцом.
– Убери руки, дружок, – сказал он, но отец по-прежнему стонал, не открывая лица.
– Сеньора, – сказал врач моей матери, – подержите ему руки, мне надо осмотреть рану.
Любопытные сгрудились вокруг нас, чуть не наступая на тело отца. Ему отвели руки от лица, и мать в ужасе закричала, а за ней следом и все остальные. Это было не лицо, а какое-то месиво из мяса и крови.
Врач внимательно осмотрел рану и произнес уверенно, без всякой жалости к отцу и к нам, в тревоге ожидавшим приговора:
– Смертельной опасности нет, но, без сомнения, он ослепнет навсегда.
Сердце у меня зашлось.
– Боже! – воскликнул отец, всплеснув руками. – Останусь слепым! Боже мой, боже! Кто же будет кормить мою жену и малюток!
Никто не мог слушать его без слез.
– Анхела, Паулита, – стонал несчастный. – Где вы?
– Мы здесь, Пабло, мы с тобой, – рыдая, отвечала мать.
– А девочки?
– Вот они, дай им руку.
Отец вытянул вперед руки и обнял всех троих.
– Анхела, Паулита, Лусия, никогда я вас больше не увижу. О, небо! Как же я смогу теперь прокормить вас!
– Успокойся, успокойся, Пабло. Тебе очень больно?
– Да, очень, но боль в ране пустое по сравнению с болью в сердце. Слепой! Слепой! Что же будет с вами? Никогда я больше не увижу вас…
Люди вокруг нас рыдали.
Тут, к счастью, появился сеньор священник. Отца уложили на носилки и отнесли в приходский дом. До сих пор я помню ласковые слова утешения, которые говорил нам священник.
У бедного отца начался сильный жар. Всю ночь, обливаясь слезами, мы просидели подле него в комнате, которую отвел нам священник в своем доме. Отец бредил, но и в бреду единственной мыслью его были жена и дети. Он звал нас поминутно, не веря, что мы рядом с ним.
На следующее утро его на носилках перенесли в Мехико. Как отличался этот путь от вчерашнего! Как изменилась наша судьба! После безоблачного счастья такое страшное горе!
Паулита опустила голову на стол и разрыдалась. Москит, пытаясь сохранить твердость, отвернулся и украдкой смахнул слезы, бежавшие по его щекам.
– Полно, Паулита, – сказал он, – зачем ты рассказываешь мне эту печальную сказку…
– Это правда, Лукас, правда. Сейчас ты все узнаешь.
XV. ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ (Окончание)
– Отец болел три месяца, – продолжала Паулита, – и в наш дом пришла нищета. Первое время нам помогали милосердные люди. Но увы, Лукас, милосердию быстро приходит конец, а мой бедный отец выздоравливал медленно.
Наконец он поправился, но зрение к нему не вернулось. Мы распродали весь свой скарб, а других средств у нас не было. Бедный слепец решил пойти на улицу просить подаяния, а мать пыталась зарабатывать иглой. Я стала поводырем слепого отца. Мы выходили из дому на заре, и я вела его на церковную паперть. В два часа дня мы отправлялись домой поесть, если была еда, а после обеда выходили снова и возвращались обратно лишь к девяти, потому что в час вечерней молитвы христиане более милосердны.
Отец завел кое-какие знакомства, и вот так мы и жили.
К тому времени, когда мне исполнилось двенадцать лет, нищета уже произвела страшные опустошения в нашем доме: моя мать была так бледна и истощена, что казалась старухой, восьмилетняя сестренка все время болела и никогда не поднималась с постели. Только у отца и у меня хватало сил работать, если нищенство можно назвать работой.
В то время я часто замечала на одной из соседних улиц молодого человека, который по вечерам беседовал со своей дамой или поджидал ее под зарешеченным окном. Мы с отцом почти каждый день проходили мимо, и так как на нищих никто не обращает внимания, мне часто случалось слышать их нежные речи, которые, несмотря на малый возраст, заставляли биться мое сердце. А бывало, юноша приводил с собой музыкантов, и они так красиво играли. Тогда мы останавливались, чтобы послушать.
– Ах, – вздыхал мой бедный отец, – если бы я умел играть на каком-нибудь инструменте, мы бы так не мучились.
А я думала: «Ах! Если бы я была богата и хороша, под моим окном тоже играла бы музыка и милый отец был бы так доволен!»
Я была совсем ребенком и воображала, будто отцам доставляет большое удовольствие, когда под окном дочери играют музыканты.
– Пойдем, – напоминал отец; мы отправлялись дальше, и долго еще нам вслед звучала музыка, а я думала: какие счастливцы богатые!
Однажды вечером полил страшный ливень. Все улицы залило водой, и мы, промокшие до нитки, еле брели в полной темноте, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. В довершение беды милостыня в тот день была очень скудная, те жалкие хлебные корки, которые удалось нам купить на собранные гроши, совершенно размокли, и мы возвращались с пустыми руками. Отец чуть не плакал от горя.
Мы брели по колено в воде, кругом не видно было ни зги.
Попав ногой в яму, отец оступился и упал, потащив и меня за собой. Я проворно вскочила и протянула руку, чтобы помочь ему встать. Он с трудом приподнялся и, застонав, повалился опять. У него была сломана нога.
– Не могу! – проговорил он. – Не могу, доченька! Я сломал ногу.
Я перепугалась, но попробовала успокоить его:
– Нет, нет, отец, тебе только кажется. Постарайся встать.
– Доченька, не могу я. Пощупай мою ногу.
Я нагнулась, провела рукой по его ноге и сразу убедилась, что он прав. Тут я давай плакать и только и могла, что обнимать и целовать отца. А он ласкал меня, утирал мне слезы и нежно уговаривал:
– Полно, дурочка, не плачь, ведь мне совсем не больно. Видишь, я улыбаюсь.
И он постарался улыбнуться. Я этого не видела, но догадывалась.
– Значит, все не так страшно, – продолжал он, – вот увидишь, я сейчас встану, и мы потихоньку зашагаем домой, а там мама меня вылечит, и скоро я буду так же здоров, как прежде.
Бедняжка! Я продолжала безутешно рыдать, а он говорил:
– Не плачь, не плачь, душенька, если бы я знал, что ты будешь так плакать, я ничего не сказал бы тебе. А я-то думал, ты храбрая… Полно, помоги мне. Сейчас увидишь, как ловко я встану.
Он оперся на мое плечо и, напрягая все силы, какие могла ему дать отцовская любовь, встал на ноги. Но, едва сделав один шаг, он застонал и снова рухнул на землю.
– Не могу, не могу, – в отчаянии сказал он. – Что же делать? Ты не в силах помочь мне, нельзя же тебе оставаться здесь до утра, да еще в такую ужасную ночь.
А я только и делала, что плакала и обнимала его.
– Знаешь, доченька, – сказал он, – беги-ка домой. Скажешь маме, что я остался в доме у каких-то добрых сеньоров, поспишь, а рано утром попросишь кого-нибудь помочь тебе, и мы вместе вернемся. А я лягу поближе к стене и тоже посплю. Ведь я сильный…
– Что это здесь случилось? – раздался рядом чей-то голос, который я сразу узнала. Перед нами стоял влюбленный юноша. Оказывается, мы находились на улице его дамы.
– Сеньор кабальеро, – отвечал отец, – я – тот слепой, который проходит здесь каждый вечер. Дорогу размыло, я упал, сломал ногу и не могу теперь вернуться домой.
– Далеко ли твой дом, девочка? – спросил молодой человек.
– Не очень, сеньор, – отвечала я.
Юноша задумался. Гроза прошла, и из-за туч выглянула луна. Я могла рассмотреть богатый наряд юноши и переброшенный через плечо черный плащ.
– Попробуй-ка встать, – сказал он отцу.
– Как сеньор? – ответил отец. – У меня нога сломана.
– А можешь ты хоть немного продержаться на здоровой ноге?
– Постараюсь, сеньор кабальеро.
– Обопрись об меня, – сказал юноша, поддерживая отца.
Отец встал, не касаясь земли сломанной ногой.
– Постой так минутку, – продолжал юноша и, сняв с себя плащ и шляпу, дав их мне со словами: – Подержи-ка, только старайся не измочить.
Я взяла шляпу и плащ, не понимая, что же он собирается делать, а он встал спиной к отцу и слегка нагнулся.
– Берись-ка руками за мою шею, – скомандовал он и, подхватив отца под колени, взвалил его, как куль, к себе на спину. – Пошли, девочка, веди меня!
Я молча повиновалась, испуганная всем происшедшим. Так, не говоря ни слова, мы дошли до дома. Увидев отца, мать залилась слезами. Юноша помог нам уложить его в постель, и тут я заметила, что вся его богатая одежда забрызгана грязью.
– Сеньор! – воскликнула мать. – Как нам благодарить вас! Мы бедны, но сердца наши принадлежат вам. Один бог может вознаградить вас.
– Не будем говорить об этом, – ответил юноша, – сейчас я тороплюсь, но завтра днем я зайду проведать больного. Позовите утром врача, у вашего мужа сильный жар. Если я вам понадоблюсь, пошлите за мной на улицу Икстапалапа; меня зовут Энрике Руис де Мендилуэта.
– Дон Энрике! – воскликнул Москит, слушавший историю Паулиты, затаив дыхание.
– Он самый.
– Проклятие! Я не знал, что он так добр к беднякам.
– Это еще не все, – продолжала девушка. – Когда дон Энрике ушел, на циновке, заменявшей отцу постель, мы нашли несколько золотых монет. На следующий день он снова был у нас и приходил каждый день, пока отец не поправился. С этого времени дон Энрике взял нас под защиту, и мы ни в чем не нуждались. Но было уже поздно: моя мать и сестра вскоре умерли. Мы с отцом при помощи нашего покровителя переехали в этот дом.
Два года назад мне минуло шестнадцать лет, дон Энрике был на десять лет старше. Он по-прежнему помогал нам и нередко нас навещал. Всякий раз, когда он приходил, я чувствовала, как охватывает меня какая-то невыразимая радость, я тосковала, когда его не было, я часто видела его во сне. Наконец я поняла, что люблю его, хотя он никогда не говорил мне ни слова о любви. Должно быть, по неопытности я не могла скрыть свою страсть, и однажды он отозвал меня в сторону и сказал:
– Послушай, Паулита, ты должна сказать мне правду.
– Хорошо, сеньор, – ответила я, заливаясь краской.
– Только не обманывай меня ни в чем.
– Нет, нет, сеньор.
– Паулита, ты любишь меня?
Меньше всего я ожидала такого вопроса и чуть не лишилась чувств от смущения.
– Говори же, Паулита.
– Да, сеньор, очень люблю.
– Паулита, – нежно сказал он, – выслушай меня. Я виноват в том, что вел себя неосторожно. Я должен был знать, к чему могут привести мои посещения, но теперь еще не поздно исправить зло. Ты хорошенькая, ты очень мне нравишься, и мне совсем нетрудно в тебя влюбиться. Но я могу только погубить тебя, потому что, ты сама понимаешь, жениться на тебе я не могу. Расстанемся. С другой женщиной я, может быть, и не был бы так совестлив, но ты – другое дело. Я тебя не оставлю, однако ты больше никогда меня не увидишь. Так будет лучше и для тебя, и для меня, и для твоего бедного слепого отца, который не должен платить своей честью за мою скромную помощь.
Что я могла ответить? Дон Энрике ушел, а я проплакала немало дней и ночей. Когда я рассказала об этом разговоре отцу, он осыпал его благословениями и попытался меня утешить. Через год отец умер, а я открыла эту таверну, чтобы жить своим трудом, и благодарение богу, живу безбедно и счастливо, а главное, до сих пор не поддалась на уговоры ни одного из своих ухаживателей. Со всеми вами я обхожусь хорошо и ласково, но не больше того, Лукас, не больше того.
– И с тех пор ты ни разу не видела дона Энрике?
– Ни разу! Он узнал о смерти моего отца и передал мне деньги и добрые советы…
– Вот это человек!
– Права я, что люблю и уважаю его, как отца?
– Еще бы, черт возьми! А я теперь люблю тебя еще больше и его тоже.
– Ты спасешь его?
– Клянусь! Меня раньше убьют, чем…
В это время в таверну вошли приятели Москита.
XVI. К ЧЕМУ ПРИВЕЛА ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ
– Уже пора? – спросил Москит.
– Да.
– Тогда пошли!
– Пошли, – отозвались все трое.
Москит поднялся, взял шляпу и сказал товарищам:
– Подождите меня на улице.
Они вышли.
– Паулита, – проговорил Москит, нежно взяв ее за руку, – я сделаю для этого человека то, что сделал бы для родного брата.
– Что же? – с волнением спросила девушка.
– Я спасу ему жизнь и дам ему свободу. Дона Энрике везут под конвоем, а нам дано поручение убить его. Ему грозят две опасности, и от обеих я его спасу.
– Лукас, ты настоящий мужчина!
– Мы не убьем, его, Паулита, мы вырвем его из рук королевских солдат. То, что этот юноша сделал для тебя и твоего отца, дает ему право на уважение всех, кто только хлебнул горя и знал нищету.
– О, как я буду любить тебя!
– Теперь слушай, Паулита: если удастся спасти дона Энрике, я приведу его сюда.
– Сюда? – побледнев, воскликнула Паулита.
– Ты, может быть, боишься правосудия?
– Нет, но… снова увидеть его в моем доме… это такое счастье. Ты не будешь ревновать?
– Паулита, я – дурной человек. Я грабил, я убивал, черт побери! Но я знаю, что такое любовь и что такое благодарность. Какого дьявола! Я приведу его сюда, и если вы снова полюбите друг друга, да благословит вас бог, как вы благословите меня. Чего уж там, надо хоть один раз совершить доброе дело за все то зло, что я причинил людям, авось бог мне зачтет это. До свидания.
И, закрыв лицо плащом, чтобы никто не увидел, как он взволнован, Москит выбежал из таверны.
Паулита осталась одна. И тут, подняв глаза к небу и прижав руки к груди, она воскликнула голосом, идущим из самого сердца:
– Благодарение богу… Я все еще его люблю!..
Москит с товарищами прошли по безлюдным улицам к мосту Аудиенсии, не произнеся за всю дорогу ни единого слова. Неподалеку от моста Москит оставил свою троицу дожидаться и пошел вперед один. На мосту стоял какой-то человек. То был дон Хусто.
– Москит, – окликнул он Лукаса.
– Я, сеньор.
– Ты готов?
– Да, сеньор.
– А твои товарищи?
– Ждут здесь рядом.
– Пошли за лошадьми. Зови их.
Москит свистнул условным образом, и его люди подошли.
– Все вы вооружены? – спросил дон Хусто.
– Не беспокойтесь, – ответил Москит.
– Пошли.
И дон Хусто зашагал вперед, ведя за собой четверых висельников.
Свернув на улицу Такуба, они прошли, не останавливаясь, до самого конца города, пока не уперлись в ограду заброшенной фермы. За оградой росли деревья, смутно выделяясь на мрачном небосводе. Кругом – никаких признаков жизни. Ни луча света, ни собачьего лая, ни крика петуха, ни человеческого голоса – ничего.
Дон Хусто отыскал на земле камень и три раза сильно ударил в ворота. Прошло много времени, никто не открывал. Он снова постучал, но только на третий раз где-то в глубине послышался женский голос:
– Иду, иду!
– Слава богу, – сказал дон Хусто, когда женщина открыла створку ворот. – Я уж думал, что все вы здесь вымерли или оглохли.
– Нет, сеньор. Муж пошел за лошадьми, он сказал, уже пора. Проходите, сеньоры.
Все вошли, и женщина снова заперла ворота.
– Сюда, – сказала она и повела их за собой, освещая путь сальной свечкой, которую держала в руке.
Они попали сначала в патио, со всех сторон окруженный низкими, грубо сложенными кирпичными арками. Во дворе кучами лежала земля, кое-где поросшая овсом. Мрачные закопченные стены, покосившаяся крыша, покрытые мхом карнизы.
Женщина повела их в узкий, темный проход между двумя изгородями. Порыв ветра с зловещим стоном задул свечу.
– Веселое местечко, – с досадой сказал дон Хусто.
– Следуйте за мной, сеньоры, – откликнулась женщина, – вам нечего бояться.
Дон Хусто и его люди, спотыкаясь на каждом шагу, потянулись за женщиной и вышли наконец в большой загон. Там в неверном свете звезд двигались какие-то темные тени.
– Мануэль, Мануэль, – крикнула женщина.
– Чего тебе? – отозвался вдалеке чей-то голос.
– Пришли сеньоры.
– Иду.
Вскоре перед ними появился высокий человек в белых штанах и рубахе, без куртки и шляпы.
– Добрый вечер, Мануэль.
– Добрый вечер, сеньор.
– Лошади готовы?
– Да, сеньор.
– Веди их сюда.
Человек скрылся и вскоре появился вновь, ведя в поводу двух лошадей.
– Эта, – сказал он, указывая на одну из них, – для сеньора начальника.
Москит, не дожидаясь приглашения, легко вскочил в седло.
– Хороша! – воскликнул он, погарцевав на месте. – Хороша. Эта мне годится.
– Мне тоже, – сказал его товарищ, сев на своего коня.
Остальным лошади тоже пришлись по вкусу.
– Тогда в путь и да поможет вам бог, – произнес дон Хусто. – Ты знаешь, что надо делать, Москит: карета!
– Да, сеньор. А как нам выбраться отсюда?
– Сейчас покажу, – сказал Мануэль и подвел одну из лошадей к воротам, выходившим в поле. – По этой дороге попадете прямо в Чапультепек, а там уж сами знаете, куда вам ехать.
– Прощай, – сказал Москит и пришпорил коня.
– Прощай, – ответил Мануэль и, пропустив товарищей Лукаса, запер ворота.
По дороге в Икстапалапа тяжело катилась карета, увозившая дона Энрике. Офицер не спал, а дон Энрике, снедаемый лихорадкой, дремал, привалившись в угол экипажа. Солдаты тоже подремывали, качаясь в седле.
Отряд поравнялся с купой деревьев. Неожиданно из рощи вынырнули четыре вооруженных человека и напали на конвой. Застигнутые врасплох солдаты пустились наутек, трое из нападавших помчались за ними. Возницы, бросив мулов, разбежались в разные стороны. Москит очутился у кареты в тот самый момент, когда из нее со шпагой в руке выскочил офицер.
– Вы дон Энрике? – спросил Москит.
– Я офицер его величества, – ответил тот.
Москит бросился вперед и, прежде чем офицер успел приготовиться к защите, саблей рассек ему череп.
В это время, разогнав солдат, вернулись остальные.
– Добейте его, – приказал Москит, указав на офицера, и поднялся в карету.
– Дон Энрике, дон Энрике! – позвал он.
– Что вам нужно? – слабым голосом откликнулся больной.
– Выходите скорее! Вы свободны.
Зов свободы способен оживить даже мертвого. Дон Энрике сделал усилие и прыгнул из кареты. Товарищи Москита окружили его.
– Садитесь на этого коня, – сказал Лукас, помогая дону Энрике сесть на лошадь, которую его люди отбили у конвоя.
Дон Энрике повиновался.
– Теперь за мной!
И все помчались галопом, оставив на месте происшествия лишь мертвое тело и пустую карету.
С тех пор дон Энрике Руис де Мендилуэта исчез бесследно. Вице-король и дон Хусто считали его мертвым. Старый граф де Торре-Леаль оплакивал своего первенца, но, не теряя надежды на его возвращение, не хотел объявлять сына доньи Гуадалупе наследником графского титула.
В то же время была пышно отпразднована свадьба дона Диего с доньей Мариной, и оба они покинули Мехико.
Для того чтобы описать все эти события, нам пришлось вернуться на несколько лет назад. Теперь же, после необходимого отступления, возобновим нить нашего повествования.
Часть третья. АНТОНИО ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА

I. ХУАН ДАРЬЕН
Помощь, которую испанская армада направила в Пуэрто-Принсипе, пришла слишком поздно; пираты уже успели покинуть город, захватив с собой все, что было возможно; однако прежде чем поднять паруса, Морган отпустил пленников-испанцев на волю.
Такое великодушие произвело весьма благоприятное впечатление на адмирала флотилии, и когда перед ним предстал Антонио Железная Рука, он принял его милостиво.
По свидетельству моряков «Санта-Мария де ла Виктория», Антонио состоял на службе его величества на острове Эспаньола и, возможно, бежал оттуда, как это сделали другие. Адмирал удовлетворился таким объяснением и велел освободить Антонио.
Морган со своими приспешниками взял курс на Ямайку, где предстояло разделить добычу, и Антонио понимал, что ему надо попасть туда же и соединиться с ними. Но как это сделать?
Ни один корабль не решался выйти в море, – так велик был страх перед пиратами в этих водах.
Антонио не знал, как быть; правда, его отпустили на все четыре стороны, но люди смотрели на него недоверчиво, с опаской, чуть ли не пальцем на него указывали. Такое положение становилось нестерпимым.
Юноша задумчиво брел по одной из малолюдных улиц на окраине города, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой толстяка в сером суконном камзоле, в широкополой шляпе, без оружия, всем своим видом напоминавшего богатого, почтенного и мирного торговца.
– Прошу прощения, – сказал незнакомец, – я желал бы поговорить с вами.
– К вашим услугам, – ответил Антонио, решив в душе, что его собираются арестовать.
– Еще сегодня поутру вы были пленником, и, как я полагаю, у вас в нашем городе нет ни друзей, ни знакомых, и вам негде было перекусить.
– Вы угадали.
– Так окажите мне честь отобедать со мной.
– Но, кабальеро, вы меня совершенно не знаете.
– Неважно. Желая помочь своему ближнему, христианин не спрашивает, как его зовут.
– Это и впрямь так.
– Прекрасно. Но есть и другая причина: по вашему виду мне сдается, что вы индианец.
– Я родом из Мехико.
– Ну вот видите. А я родом из Кампече, потому-то у меня и явилось желание разделить с вами мою трапезу, которую, если говорить откровенно, нельзя назвать скудной.
Антонио Железная Рука с удивлением поглядывал на незнакомца, посланного ему самим провидением.
– Так пойдемте же, я живу недалеко, – сказал толстяк и, дружелюбно взяв Антонио под руку, повел его к себе в дом.
В комнате, куда они вошли, стоял стол, накрытый на двоих.
– Садитесь, – сказал незнакомец, снимая шляпу, – садитесь и пообедаем, вам необходимо подкрепиться.
Антонио без слов повиновался; открытое лицо и добродушный вид его нового друга внушали ему доверие.
За столом прислуживали двое слуг; хозяин говорил с ними на непонятном для Антонио языке. Угощение было поистине царским: вина, фрукты, овощи, изысканные мясные и рыбные кушанья – все подавалось на дорогих серебряных блюдах.
Бросалось в глаза отсутствие женщин в доме, однако Антонио поостерегся сделать какое-либо замечание по этому поводу.
Между тем радушный хозяин становился все оживленнее.
– Надеюсь, – сказал он, – я успел внушить вам доверие и вы поняли, что человек моего склада не способен причинить кому-либо зло, не так ли?
– Пожалуй, – ответил Антонио.
– Сознайтесь, вы принадлежите к людям Моргана, вы один из его доверенных и приближенных лиц.
– Сеньор, – с улыбкой ответил Антонио Железная Рука, – ваше странное предположение может стоить мне жизни.
– Смею вас заверить, я далек от мира судейских или военных. Откройтесь мне, вы в этом не раскаетесь.
– Что ж, вы и в самом деле внушаете мне доверие, и в доказательство моих слов признаюсь: вы правы, я связан с Морганом, но вот беда – не знаю, как мне отсюда выбраться, чтобы присоединиться к нему.
– Кабальеро, – сказал, меняя тон, незнакомец, – доверие за доверие, выслушайте меня.
При этих словах в лице и во всем облике толстяка произошла такая мгновенная и разительная перемена, что Антонио глазам своим не верил: перед ним сидел уже не добродушный, мирный торговец, а человек, исполненный неукротимой воли, с надменной осанкой и пламенным взором.
– Я тоже пират, – начал он, – меня зовут Хуан Дарьен, я получил это имя за мои первые приключения в Дарьенском заливе. Родом я из Кампече; сюда, на этот остров, я прибыл в поисках Моргана, чтобы предложить ему славное и верное дело на материке. Но я опоздал – Морган уже успел уйти. Мой корабль стоит в надежном укрытии в небольшой бухте поблизости. Один из моих бывших матросов, случайно оказавшийся здесь, рассказал мне, кто вы и как сюда попали. Он сам видел, что вы высадились вместе с людьми Моргана: вот вам и объяснение моей догадливости. Считаю, что нам нужно убираться отсюда, и поживее.
Антонио слушал с напряженным вниманием.
– Пуститься в путь надо сегодня же ночью, – продолжал Хуан Дарьен. – По счастью, погода нам благоприятствует, ни один испанский корабль еще долго не отважится выйти в море, и мы не замедлим встретиться с Морганом. По рукам?
– По рукам.
– Покинуть город следует под вечер, не дожидаясь ночи, чтобы не навлечь на себя подозрений.
– Хорошо ли вам знакома местность?
– Как родной дом.
– Отлично.
– А как вы полагаете, согласится ли Морган взять курс на материк?
– Отчего же, если дело сулит выгоды…
– Да еще какие! Мы захватим Портобело, Гибралтар, Маракайбо и десятки других городов и селений. В наши руки попадут корабли с богатым грузом какао, и вскоре мы так разбогатеем, что нам позавидует сам король.
– В таком случае полагаю, что Морган согласится.
– Вы мне поможете убедить его?
– Попытаюсь сделать все, что в моих силах.
– Отлично; займемся же приготовлениями к путешествию.
Хуан Дарьен позвал слуг, что-то сказал им на непонятном языке, потом снова обратился к Антонио:
– Берите вашу шляпу – и в путь! Не будем терять времени.
Антонио надел шляпу; вновь напустив на себя благодушие мирного торговца, Хуан Дарьен вышел из дому вместе с гостем.
Друзья покинули город безо всяких помех. Очутившись на дороге, пират из Кампече снова преобразился – его движения приобрели прежнюю энергию и живость.
– Далеко ли до бухты, где стоит ваше судно? – спросил Антонио.
– По меньшей мере восемь часов, если идти обычным путем, – ответил Хуан Дарьен, – но я вас проведу туда за два часа: мы пойдем напрямик.
В самом деле, Хуан Дарьен так уверенно шел через холмы, овраги и долины, словно шагал по ровной проезжей дороге. Через два часа с небольшим до слуха путников донесся рокот морского прибоя, и вскоре они достигли побережья.
Погода стояла тихая, дул слабый береговой ветер, невдалеке покачивалось на волнах легкое, изящное судно.
– Ну вот мы и пришли, – сказал Хуан Дарьен.
– А ваши слуги? – спросил Антонио.
– За ними дело не станет, но нам лучше всего дожидаться их на борту.
Собрав охапку сухой травы, Хуан Дарьен достал из кармана кремень, огниво, фитиль и серную палочку, высек огонь и сунул горящую серную палочку под собранную охапку. На миг взвилось и быстро погасло яркое пламя.
– Сейчас с корабля спустят шлюпку, – сказал пират.
Действительно, в тишине ночи послышались мерные удары весел, и вскоре показалась лодка.
– Это за нами, – сказал Хуан Дарьен.
Лодка пристала к берегу.
– Пошли! – воскликнул пират и одним прыжком очутился в лодке.
Антонио последовал за ним; затянув однообразную и унылую песню, гребцы налегли на весла.
Не успели они подойти к судну, как на берегу снова вспыхнул огонь.
– Ну вот, я же вам говорил, что мои слуги не заставят себя долго ждать, – сказал Хуан, поднимаясь по трапу; следом за ним на борт взошел Антонио Железная Рука, а лодка повернула к берегу.
Час спустя ветер, надувая паруса быстроходного судна, гнал его по направлению к Ямайке.
Антонио Железная Рука мог спокойно уснуть.
II. ДЖОН МОРГАН И ХУАН ДАРЬЕН
Подгоняемая попутным ветром «Венера» – так называлось судно Хуана Дарьена – легко скользила по океану навстречу флотилии Моргана.
Перед рассветом Антонио поднялся и пошел разыскивать капитана, который спокойно курил на палубе.
– Как вы думаете, – спросил его Хуан, – удастся нам застать на Ямайке Моргана и его людей?
– Не думаю, – ответил Антонио. – Я слышал, Морган хотел заняться дележом добычи; впрочем, если он надумал сперва расплатиться с англичанами, тогда, конечно, вся флотилия сейчас на Ямайке.
– В противном случае мы найдем ее у Невиса или на одном из мелких островов Моранте.
– Пожалуй. Вам знаком этот путь?
– Воды Эль-Фрери между Эспаньолой, Кубой и Ямайкой я знаю как свои пять пальцев. Так что лучше всего идти на Невис, ведь архипелаг Морант состоит из четырех крохотных островков, они поднимаются от силы на семь футов над уровнем моря; на трех из них встречаются рощи, но стоянка там опасна: надо остерегаться Пласер-Бланко-и-Арресифе, это примерно в двух милях от архипелага; кроме песчаных отмелей длиною в три с половиной – четыре морских сажени, там еще немало коралловых рифов, и, прежде чем отдать якорь, надо основательно выверить дно лотом.
– Вам, как видно, отлично знакомы эти воды?
– Еще бы! Я здесь плавал на королевских галерах.
– Добровольно?
– Как же, со скрежетом зубовным и со слезами на глазах.
– Итак, надо полагать, что Морган выбрал для стоянки Невис.
– Вероятнее всего. Там удобные берега и отличное песчаное дно. Можно без опасений подойти и стать в четверти мили от острова, разве что при свежем ветре помешает высокий прилив.
– Ну, так мы туда и направимся.
– Я вас доведу туда с закрытыми глазами.
Дул по-прежнему попутный ветер, и «Венера», казалось, летела по волнам.
Пиратские суда подошли к небольшому острову Невис, чтобы там без помех разделить добычу, захваченную в последнем набеге.
Этим людям была присуща своеобразная честность. Никто из них не был способен утаить ни гроша; все шло в общий котел, а затем делилось по уговору.
Однако дело оказалось не слишком выгодным; этот первый набег дал всего-навсего двадцать пять тысяч песо, – ничтожная добыча для жадных до денег людей, ожидавших с первых же шагов получить горы золота. Нечем было даже расплатиться с англичанами на Ямайке.
И наконец, случилось еще нечто непредвиденное: от Моргана самым решительным образом откололись французы; они не поддавались ни на какие уговоры и посулы. Уход французов сильно поколебал твердость англичан, и Морган был вне себя.
Количество его соратников и кораблей уменьшилось почти вдвое, да и воинственный пыл людей заметно угас.
В раздумье Морган опустился на скалу; он потратил немало сил ради заманчивого будущего, но ничего не достиг; никто из его приспешников не понимал его. В памяти невольно встал образ юного Антонио.
Где он, что с ним? Уж не погиб ли смельчак от руки испанских солдат? Размышления Моргана прервал гонец с известием, что на горизонте показалось судно. Морган одним прыжком вскочил на ноги.
Судно быстро приближалось.
– Это наши друзья, – воскликнул Морган. – Ведь ни один испанский корабль не отважится выйти в море, зная, что неподалеку плавает Джон Морган. Разве что целая флотилия… Дайте судну подойти к острову, сердцем чую, что оно несет нам добрые вести.
Наконец парусник приблизился к берегу; он подошел так уверенно и непринужденно, что у Моргана не осталось никаких сомнений, – прибывшие мореходы были друзьями.
Парусник спустил на воду шлюпку, и вскоре на берегу показались двое мужчин. Обрадованный Джон Морган поспешил к ним навстречу, узнав в одном из них своего друга Антонио Железную Руку.
Антонио познакомил Моргана с Хуаном Дарьеном и рассказал обо всем, что ему довелось пережить.
– Ваше имя, – сказал Морган, обращаясь к Хуану Дарьену, – мне хорошо знакомо. Кто не слыхал об отважном капитане, который держит в страхе все испанские гарнизоны на Большой Земле?
– К сожалению, – ответил Хуан Дарьен, – в настоящее время у меня не хватает людей, чтобы взяться за одно надежное дело. Вот почему я решил отыскать вас: вы располагаете и людьми и кораблями. Стоит ли прозябать в этих водах? Ничтожные остатки богатств, сохранившиеся на Антильских островах, – слишком скудная добыча для таких мужественных людей, как вы. Идем на материк; правда, побережье там значительно обезлюдело, но, двинувшись вглубь, мы найдем города, которые падут под натиском наших смельчаков. Мне хорошо знакомы эти места; я буду служить вам проводником и до конца останусь под вашим началом. На материке у меня немало друзей, я знаю, они охотно покинут свои очаги и возьмутся за оружие, чтобы помочь нам. Все нам благоприятствует. Итак, скорее в путь!
– Хуан Дарьен, – уныло откликнулся Морган, – вы, верно, не знаете, от меня откололось много народу, суда тоже ушли.
– А те, что стоят здесь на якоре?
– Это все, что у меня осталось.
– И этого вам мало? Так вы не знаете те края и земли. С оставшимися у вас силами я берусь захватить важнейшие города и селения. Неужто у вас недостает мужества? Возможно ли, что я в вас ошибался?
– Вы сомневаетесь в моем мужестве? Плохо же вы знаете Джона Моргана. Идем на Большую Землю! И пусть против нас ополчатся все эскадры испанского короля! Мы сумеем победить или умереть.
– Мне по душе ваши речи!
– Хуан Дарьен, вот вам моя рука в знак нерушимого союза. Завтра же, нет, этой же ночью, или еще раньше, словом, едва подует попутный ветер, мы поднимем паруса и пойдем на Большую Землю, где нас ждут сокровища, раз вы обещаете там богатство для моих людей.
– И ваше решение твердо?
– Вы увидите, умею ли я держать слово.
Джон Морган поднялся и пронзительно засвистел в золотой свисток, который висел у него на золотой цепочке. На властный зов главаря сбежались его приспешники и выслушали отданные вполголоса приказания.
Волнение охватило стан пиратов, все лица мгновенно оживились, весть о том, что решено, не откладывая, выйти в море, была встречена бурной радостью.
Люди Моргана узнали Антонио и приписали его появлению внезапную перемену в замыслах адмирала.
От берега к кораблям засновали шлюпки с добром, которое пираты сгрузили было с борта на остров. На судах все зашевелилось: приказ гласил – выходить, едва подует попутный ветер.
Джон Морган, Хуан Дарьен и Антонио Железная Рука молча наблюдали с берега за этим кипучим движением. Вблизи покачивалась шлюпка с гребцами, ожидая сигнала, чтобы доставить их на борт корабля.
Вскоре сборы были закончены, на суше не осталось ни одного матроса, на воде – ни одной лодки. Флотилия готовилась, дождавшись ветра, распустить паруса над морским простором. Это было великолепное зрелище.
– Вы все еще опасаетесь неудачи? – спросил Хуан Дарьен.
– Я ничего не опасаюсь, кроме штиля, – ответил Джон Морган.
– Начинается прилив!
– А с ним крепкий ветер, – сказал Джон Морган, вставая и направляясь к шлюпке.
Следом за ним в шлюпку прыгнули Хуан Дарьен и Антонио. Они уселись, а Морган, продолжая стоять, взмахнул рукой, и гребцы, переглянувшись, дружно взялись за весла.
Словно повинуясь единой мощной воле, весла опустились в воду. Разрезая гладь океана и оставляя позади себя глубокую борозду, шлюпка рванулась вперед.
Несколько мгновений спустя флотилия Джона Моргана вышла в море.
III. ПОРТОБЕЛО
После Гаваны и Картахены наиболее укрепленным городом во владениях испанского короля в Новом Свете считался Портобело.
Он был возведен в Коста-Рике в четырнадцати милях от Дарьенского залива и в восьми от горной местности, известной под названием Номбре-де-Дьос. Защитой ему служили два крепостных замка; в одном из них находился постоянный гарнизон из трехсот солдат, в другом – четыреста вооруженных торговцев.
Под этой надежной охраной помещались торговые склады: их владельцы, однако, предпочитали жить в Панаме с ее здоровым мягким климатом, а в Портобело появлялись лишь при известии о прибытии галеонов из Испании.
Впрочем, один из самых богатых сеньоров, дон Диего де Альварес, постоянно проживал в Портобело вместе со своей супругой доньей Мариной и прелестной дочуркой, плодом этого счастливого супружества, которую назвали Леонорой в честь супруги вице-короля Мексики маркиза де Мансера.
Выйдя замуж, донья Марина не потеряла своей чарующей красоты; по свежести шелковистой кожи и блеску черных глаз ее можно было принять за юную девушку.
Дон Диего тоже сохранил свою статную осанку, которой он отличался в те времена, когда наши читатели познакомились с ним в Мехико; на новом месте, в Портобело, он сумел окружить себя такой же роскошью, как и в столице Новой Испании.
Вскоре после приезда дона Диего с супругой в Портобело там появился его друг дон Кристобаль де Эстрада, который поторопился увезти прекрасную донью Ану подальше от ее родины и угроз разгневанной доньи Фернанды, оскорбленной в своих материнских чувствах.
Любовная история этой пары, наверное, еще свежа в памяти наших читателей.
Донья Марина знала дона Кристобаля, однако ей было неизвестно, что он привез с собой донью Ану, а донья Ана, в свою очередь, не знала, что в Портобело находится дон Диего, – Эстрада, видимо, остерегался сообщать ей об этом.
Донья Ана по-прежнему вела строгую, замкнутую жизнь, которая ей к тому времени уже успела порядком прискучить. Могла ли она при своем беспокойном нраве и пылком воображении забыть о тех днях, когда играла сердцами сотни поклонников? Если на один миг ей удалось увлечься обманчивой мечтой о тихом счастье у семейного очага, то вскоре она поняла, что ошиблась.
Задумав вернуть себе прежнюю свободу, но не желая тревожить Эстраду, ставшего по воле судьбы ее господином, она принялась исподволь, с терпением, присущимловкой женщине, вносить некоторые изменения в свой строгий образ жизни.
Эстрада это понял, но не счел нужным мешать ей. Никто в городе не знал донью Ану, и она отлично могла сойти за его жену, а донье Фернанде было неизвестно, где они нашли себе убежище.
Донья Ана стала разрешать себе дневную прогулку, – ей хотелось подышать свежим морским воздухом; два раба несли за ней носилки, в ожидании, когда сеньора выберет себе приятное место для отдыха.
Ничто так не действует на пламенное воображение и мечтательную натуру, как море и морское побережье: кажется, будто душа освобождается от своей телесной оболочки, реальная жизнь исчезает и человеческий дух, потрясенный величием природы и мощной красотой океана, переносится в блестящий мир фантазии и романтики. Человек сознает ничтожество плоти и ощущает лишь свой дух, тот дух, который склоняется только перед величием творца.
Донье Ане нравилось мечтать на берегу океана, вдали от города, в уединенном и диком месте, где бурные волны с глухим ревом бьют о высокие скалы, угрожая им с неизменной яростью и постоянством.
Как-то под вечер молодая женщина, погруженная в свои думы, ушла далеко вперед и не заметила, что прилив быстро нарастает; она продолжала бы идти еще дальше, если бы слуга не отважился остановить ее.
– Сеньора, – сказал он.
– Что тебе? – надменно спросила донья Ана.
– Сеньора, вода прибывает и прибывает, скоро нельзя будет вернуться назад.
Донья Ана оглянулась: она уже успела пройти длинный путь по песчаной полосе, простиравшейся у подножия высоких отвесных скал. Волны то набегали на песок, то откатывались в океан. Пути вперед не было, и донья Ана поняла, что вскоре не останется ни малейшей надежды на спасение. Следовало немедленно возвращаться, пока путь к отступлению еще возможен.
Слуги дрожали от страха. Донья Ана почувствовала, как ужас проникает и в ее сердце. С трудом овладев собой, она решительно повернула назад и, сопровождаемая слугами, пошла так быстро, как ей позволяли силы.
Волны уже докатывались до ее ног, но идти быстрее она не могла, а впереди лежал еще длинный путь.
Морские валы поднимались все выше и выше, грозя гибелью. Раньше от них оставалась на песке лишь пена, но с каждой минутой прилив нарастал, и вскоре вода доходила путникам до пояса, а порой окатывала их с головы до ног.
Смерть казалась неминуемой. Но человек до последнего вздоха не перестает бороться за свою жизнь. Цепляясь за выступы скал, чтобы волны не унесли ее в океан, донья Ана с неимоверными усилиями продвигалась вперед. Ее руки кровоточили, она задыхалась.
Неожиданно она почувствовала, что почва повышается, и предсмертная тоска сменилась надеждой на спасение. То был выступ на морском берегу, небольшая ступень в хаотическом нагромождении скал.
Вскарабкавшись на этот спасительный уступ, донья Ана с облегчением вздохнула, хотя тело ее было изранено; за ней последовали перепуганные насмерть слуги. Карабкаться выше было невозможно, но теперь волны достигали лишь ее ног, и кто знает, может быть, прилив на этом остановится.
Сияющий день клонился к вечеру, вдали солнце еще переливалось на взволнованном просторе океана, но берег был уже окутан тенью гор.
Между тем вода неумолимо прибывала; жадный океан требовал жертв. Волны снова окатывали донью Ану; она поняла, что настал последний час, и, покорно сложив руки, принялась молиться.
Слуги испускали отчаянные вопли.
IV. ВО ВЛАСТИ ОКЕАНА
Направляемая Хуаном Дарьеном, флотилия Моргана достигла порта Наос и взяла курс на небольшую бухту поблизости от Портобело, известную под именем Пуэрто-Понтин.
Дальше пираты не пошли; решено было добраться до Эстеры на шлюпках, высадиться ночью и незамеченными подойти к стенам Портобело, чтобы врасплох застигнуть его жителей. Таков был план, предложенный Хуаном Дарьеном и одобренный Морганом.
– Мне пришла в голову удачная мысль, – сказал Хуан Дарьен, – она обеспечит нам успех.
– Выкладывайте, – ответил Морган.
– Пошлем кого-нибудь из наших людей в город, прежде чем распространится весть о нашем прибытии; лазутчик разузнает, готовится ли город к отпору, и, в случае если гарнизон окажет сопротивление, ему будет нанесен удар с тыла.
– Мысль неплохая, – откликнулся Морган, – но сами понимаете, отряд наших молодцов привлечет к себе внимание, пойдут толки, и тогда все пропало.
– Никто не говорит об отряде, в город проникнет лишь один человек. Дайте мне такого смельчака, и я вам ручаюсь за успех. Я свяжу его с моим дружком, у которого, если понадобиться, найдутся молодцы не хуже наших. Из моих парней никто не годится на такое дело, их в Портобело знают.
– Такой смельчак, как вам требуется, у нас есть, вот он, – сказал Морган, указывая на Антонио.
– В самом деле, юноша прямо создан для нашего замысла. Ну как, Железная Рука, достанет у вас мужества взяться за такое дело?
Антонио в ответ лишь презрительно усмехнулся.
– Подобный вопрос, – вмешался Морган, – звучал бы оскорблением для нашего мексиканца, если бы он не исходил от друга. Дайте ваши указания, а уж с делом он справится.
– Прошу прощения, дорогой земляк, – спохватился Хуан Дарьен, – извините мою неловкость и слушайте: вы получите лодку с двумя гребцами, они вас высадят на берег в надежном месте, которое им хорошо знакомо; невдалеке, на опушке леса, вы увидите домик, ступайте к нему. Там живет рыбак Хосе, высокий старик с худым лицом, с длинной седой бородой. Вы его спросите – запомните хорошенько: «Пора брать рифы?» Он вам ответит: «И подтягивать паруса». Тогда вы посвятите его в наши планы. Он проведет вас в город, спрячет в надежном тайнике, сообщит все нужные сведения и, ежели понадобиться, даст вам людей. Все ли вам понятно?
– Все. Когда отправляться?
– День уже на исходе; у Хосе вам следует быть засветло, к ночи мы выступаем.
– Так велите дать лодку.
Хуан Дарьен отдал приказ одному из своих матросов, и вскоре на воду была спущена небольшая узкая шлюпка с двумя гребцами.
– Вот она, – показал Хуан Дарьен.
Антонио Железная Рука прощался с Морганом, меж тем как пират из Кампече давал распоряжения гребцам.
Юноша прыгнул в шлюпку, весла рассекли воду. Поглощенный своими мыслями, Антонио молчал, не обращая внимания на гребцов, которые о чем-то с жаром переговаривались. Наконец их возбужденные голоса вывели Антонио из задумчивости.
– Гляди, их трое, – говорил один.
– Верно, – отвечал другой, – двое мужчин, а с ними как будто еще женщина.
– Да, женщина. Ну, если они не водолазы, то сегодня же пойдут ко дну на ужин акулам.
– В чем дело? – спросил Антонио.
– Да там на скалах примостились трое, прилив, того и гляди, их смоет, – ответил матрос, продолжая грести.
– Среди них женщина, – прибавил второй.
– А спастись разве они не могут? – спросил Антонио.
– Куда там! Уж я-то знаю эти скалы: меня здесь однажды застиг прилив, так я спасся лишь вплавь, да и то с трудом. Совсем уж было тонул и уцелел только чудом: мне помогла наша заступница божия матерь.
– Так беднягам грозит смерть? – спросил Антонио.
– Да, вода доходит им уже до пояса.
Шлюпка шла недалеко от берега.
– Слышишь, кричат! – сказал один из гребцов.
В самом деле, до них донеслись отчаянные вопли погибающих.
 – Так поспешим к ним на помощь! – воскликнул Антонио.
Матросы, подняв голову, поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил он. – Неужели не хотите выручить этих несчастных?
– Охотно выручили бы, да ведь это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет о скалы.
– Ну хоть попытаемся, – настаивал Антонио.
– Нам-то что! – безразлично бросил один из моряков. – Мы плаваем как рыбы, а дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу.
И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли донья Ана и ее слуги.
Вода прибывала, и шлюпку быстро несло на скалы. Донья Ана смирилась со своей участью, слуги продолжали звать на помощь.
– Нас вынесет с волной, – сказал Антонио гребцам, – будьте наготове. Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться. Эй, люди, принимайте лодку, хватайте ее, да покрепче, не то она разобьется о скалы. Ну, давайте же!
Опасный маневр совершился по команде Антонио: шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги доньи Аны, опершись о камни, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка.
Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негра кинулись ему навстречу, а гребцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла.
И все же толчок получился такой страшной силы, что один из гребцов упал на дно шлюпки. Но отчаянные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла как на приколе.
– Нельзя терять ни минуты! – воскликнул Антонио. – Сеньора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море.
Донья Ана протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио, за ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны, которая поможет им снова выйти на простор океана.
Волна пришла и окатила путников с головы до ног; новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти.
– Мы спасены! – воскликнул Антонио.
Донья Ана подняла голову; при виде юноши глаза ее расширились от изумления, и из уст ее невольно вырвался крик:
– Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта!
– О, небо! – воскликнул Антонио, узнав свою спутницу. – Донья Ана де Кастрехон!
– Так поспешим к ним на помощь! – воскликнул Антонио.
Матросы, подняв голову, поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил он. – Неужели не хотите выручить этих несчастных?
– Охотно выручили бы, да ведь это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет о скалы.
– Ну хоть попытаемся, – настаивал Антонио.
– Нам-то что! – безразлично бросил один из моряков. – Мы плаваем как рыбы, а дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу.
И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли донья Ана и ее слуги.
Вода прибывала, и шлюпку быстро несло на скалы. Донья Ана смирилась со своей участью, слуги продолжали звать на помощь.
– Нас вынесет с волной, – сказал Антонио гребцам, – будьте наготове. Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться. Эй, люди, принимайте лодку, хватайте ее, да покрепче, не то она разобьется о скалы. Ну, давайте же!
Опасный маневр совершился по команде Антонио: шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги доньи Аны, опершись о камни, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка.
Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негра кинулись ему навстречу, а гребцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла.
И все же толчок получился такой страшной силы, что один из гребцов упал на дно шлюпки. Но отчаянные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла как на приколе.
– Нельзя терять ни минуты! – воскликнул Антонио. – Сеньора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море.
Донья Ана протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио, за ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны, которая поможет им снова выйти на простор океана.
Волна пришла и окатила путников с головы до ног; новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти.
– Мы спасены! – воскликнул Антонио.
Донья Ана подняла голову; при виде юноши глаза ее расширились от изумления, и из уст ее невольно вырвался крик:
– Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта!
– О, небо! – воскликнул Антонио, узнав свою спутницу. – Донья Ана де Кастрехон!
V. ИСКРА ПОД ПЕПЛОМ
Железная Рука, или дон Энрике Руис де Мендилуэта, как мы будем впредь называть юношу, раз мы уже узнали его настоящее имя, раскрыл объятия, и донья Ана, рыдая, бросилась к нему на грудь.
Ни одного ревнивого укора, ни одного горестного воспоминания не шевельнулось в сердцах этих людей, охваченных радостью неожиданной встречи в минуту грозной опасности.
Это естественно: каждый, кого судьба оторвала от родины и забросила невесть куда, испытал, как радостно встретить на чужбине не только брата или друга, но даже случайного знакомого, о котором не знаешь ничего, кроме того, что он твой соотечественник. В такой миг забываются все былые обиды, и если людей не разделила в свое время непримиримая вражда, они с братской нежностью бросаются друг другу в объятия.
Дон Энрике и донья Ана, которых в прошлом соединяла любовь, были разлучены внезапно, когда их пылкие чувства еще не успели остыть. С той поры они жили вдали от света, и при неожиданной встрече старое чувство вспыхнуло в их сердцах.
Несколько мгновений они сидели, молча прижавшись друг к другу. Это зрелище нисколько не удивляло ни матросов, ни слуг: им было понятно волнение людей, встретившихся после долгой разлуки.
Матросы продолжали равнодушно грести, а слуги все еще не могли прийти в себя от пережитого страха и, позабыв о своей госпоже, тихо переговаривались меж собой.
Шлюпка подошла к берегу.
– Мы на месте, – сказали гребцы.
Дон Энрике вышел из лодки и подал руку донье Ане; слуги последовали за ним.
Оглядевшись по сторонам, дон Энрике увидел невдалеке хижину Хосе.
– Можно возвращаться? – спросили гребцы.
– Подождите, – ответил дон Энрике и, обращаясь к донье Ане, сказал: – Донья Ана, я желал бы поговорить с вами.
Они отошли в сторону.
– Сеньора, – начал дон Энрике, – сейчас не время пускаться в объяснения, почему я здесь и как вы попали сюда. Моя радость снова видеть вас, донья Ана, так велика, что вы, надеюсь, поймете меня без слов.
– Сеньор Энрике, господь бог уготовил мне счастье встретить вас в такой миг, когда надо мной нависла угроза смерти, и я вижу в вашем лице не возлюбленного, которого я в былое время незаслуженно оскорбила, но моего ангела-спасителя. Если бы я не хранила в глубине моего сердца иного чувства, я выразила бы вам мою вечную благодарность…
– Не стоит говорить об этом, донья Ана; один лишь бог знает, что станется с нами завтра. Вы собираетесь вернуться в город?
– Да, мне надо домой; к несчастью, я не могу предложить вам гостеприимства по причинам, о которых вы узнаете позже. Но скажите, где найти вас завтра, и я, клянусь богом, разыщу вас даже в чаще лесов…
– Сеньора, неизвестно, что будет с нами завтра…
– Что вы хотите этим сказать? Ваши слова пугают меня.
– Тише, донья Ана. Буду с вами откровенен: мне нежелательно, чтобы в городе узнали о моем присутствии или толковали о происшедшем.
– Если это ваша тайна, клянусь, от меня никто не услышит ни слова.
– Вам я верю. Ну, а ваши слуги? Можете ли вы за них поручиться?
– Ни в коем случае. Напротив, я уверена, что они станут рассказывать о пережитой опасности, и скоро весь город узнает о случившемся…
– Это сулит мне роковую беду.
– В таком случае что делать? Приказывайте. Ради вас я готова отдать свою жизнь.
– Простите, сеньора, не могли бы вы принести мне жертву и провести эту ночь здесь, не возвращаясь в город?
– Если вы желаете, конечно…
– Ваши слуги останутся при вас, только пусть не вздумают болтать.
– Не поручусь за них.
– В таком случае весьма сожалею, но вам придется отказаться от их услуг. Вы вернетесь одна в город или одна останетесь здесь. Я должен отделаться от свидетелей.
– Вы хотите убить их?! – испуганно воскликнула донья Ана.
– Нет, сеньора, – ответил, улыбаясь, дон Энрике, – к чему такая бессмысленная жестокость?
– В таком случае поступайте, как считаете лучшим.
– Прошу прощения, сеньора, но иначе невозможно.
Дон Энрике подозвал к себе матроса и что-то шепнул ему на ухо.
Матрос, в свою очередь, шепотом передал приказ своему товарищу, потом обратился к слугам:
– Ну, молодцы, ступайте в шлюпку.
Слуги в ужасе переглянулись и бросили умоляющий взгляд на донью Ану, но она отвернулась от них.
Не дожидаясь долее, один матрос столкнул негров в шлюпку, а другой мигом скрутил им руки; потом гребцы взялись за весла, и донья Ана осталась на берегу наедине с доном Энрике.
Донья Ана не знала, что происходит в сердце юного Энрике, и думала, что едва шлюпка с пленными слугами исчезнет из виду, он бросится к ее ногам. Однако, когда первое возбуждение миновало, юноша целиком отдался мыслям о возложенном на него опасном поручении.
Женская гордость доньи Аны была задета.
– Что же дальше?! – воскликнула она, не зная, как ей быть.
– Предпочитаете ли вы, сеньора, вернуться домой или хотите остаться здесь? – спокойно спросил дон Энрике.
– Я уже сказала, что всецело повинуюсь вам. Решайте этот вопрос сами.
– Я желаю лишь того, сеньора, что вам больше по душе.
– Мне по душе – повиноваться вашим желаниям, дон Энрике, ведь вы мой спаситель.
– Ради бога, донья Ана, не вспоминайте об этом. Итак, следуйте за мной, мы пойдем вон в ту хижину, что виднеется невдалеке.
Взяв донью Ану за руку, дон Энрике повел ее к рыбачьей хижине. При этом он не обронил ни одного нежного слова, даже не пожал руки молодой женщины.
«Я-то думала, что он удерживает меня здесь из любви, – сказала себе мысленно донья Ана, – а он, оказывается, поступает так всего-навсего ради каких-то загадочных целей. Впрочем, возможно, он не решается открыть мне свое сердце. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще целый вечер, сумерки только сгущаются».
Они подошли к жилищу Хосе; это была лачуга, сложенная из бревен и пальмовых листьев; против входа на пнях сушились рыбацкие сети и паруса.
– Есть кто в доме? – крикнул дон Энрике, не выпуская руки доньи Аны, которая молча следовала за ним.
– Что вы желаете? – спросил, выходя на порог, высокий, сухощавый человек с длинной седой бородой. Он выглядел точь-в-точь, как его описал Хуан Дарьен.
– Вы рыбак Хосе? – спросил дон Энрике.
– Я самый, готов служить богу и вашей милости, – ответил человек, снимая с головы ветхую шляпу.
– Пора брать рифы? – спросил дон Энрике.
Рыбак посмотрел на него долгим взглядом и ответил почтительно:
– И подтягивать паруса. Что прикажет ваша милость?
– Нам надо переговорить о многих весьма важных делах, но прежде всего мне хотелось бы узнать, нет ли поблизости надежного и удобного жилья, где сеньора могла бы спокойно провести ночь?
Рыбак поглядел на донью Ану, на мгновенье задумался и ответил:
– Здесь поблизости стоит дом, где проживают моя семья и еще одна женщина с двумя дочерьми. Владельцы дома живут постоянно в городе; но в их сельском жилище можно отлично расположиться. Ежели ее милости угодно, мы можем туда пройти.
– Так не будем терять ни минуты, мне еще предстоит обсудить с вами весьма важные вопросы.
Рыбак, даже не оглянувшись на свою хижину, спокойно зашагал вперед по тропинке, которая вела в лес.
– Не слишком ли это далеко? – спросил дон Энрике. – Начинает темнеть, сеньора не привыкла много ходить пешком.
– Увидите, это рукой подать.
Рыбак шел впереди, а дон Энрике следовал за ним, продолжая держать за руку донью Ану. Все трое шли в полном молчании.
Дон Энрике, поглощенный мыслями о предстоящем деле, лишь время от времени обращался к донье Ане:
– Не устали ли вы, сеньора?
– Нет, – отвечала она, и молчание воцарялось снова.
«Здесь кроется какая-то тайна, – рассуждала она про себя. – Дон Энрике, прежде такой влюбленный и внимательный… О чем он сейчас думает? Как собирается поступить со мной? Уж не замыслил ли он отделаться от меня, как отделался от моих слуг? Нет, не может быть! Что стоило ему отослать меня в шлюпке вместе с рабами? Он удержал меня здесь, не пожелал отпустить домой в город, потому что жаждет быть вместе со мной… Он любит меня. Как только мы останемся вдвоем в этом сельском доме, он бросится к моим ногам. Да, да, конечно! О, как мы будем счастливы! Мы уедем отсюда далеко-далеко, прочь из этой унылой страны!»
Лай собак известил их о близости дома; псы почуяли, что к дому подходят чужие.
Рыбак свистнул, и навстречу ему, виляя хвостами, выскочили из высокой травы три щенка.
VI. ОБИДА
Сельский дом открылся взорам путников за поворотом тропинки; спустилась ночь, одна из тех светлых ночей, когда здания четкой тенью вырисовываются на фоне неба.
В окнах еще горел свет, кто-то, перегнувшись через подоконник, вглядывался в сумрак ночи.
Рыбак снова свистнул.
– Это ты, Хосе? – спросил через окно женский голос.
– Да, Урсула, – ответил рыбак.
Голова женщины исчезла, и вскоре внизу открылась входная дверь.
– Урсула, – обратился Хосе к жене, – я привел кабальеро и даму; приготовь для них постели и поскорее подай ужин. Полагаю, сеньор, что вы охотно выпьете глоток агуардьенте; у меня сохранилась бутылка этого превосходного напитка, нам, морякам, полезно бывает согреть желудок. Послушай-ка, Урсула, проводи сеньору в спальню, ей надо обсушиться; а нам с кабальеро пришли графин и два стакана.
– Пойдемте, сеньора, – сказала Урсула, обращаясь к донье Ане, – вам в самом деле необходимо переодеться, ведь вы насквозь промокли. Так и захворать недолго. Идемте.
Донья Ана нерешительно посмотрела на Энрике, словно ожидая, что он на это скажет.
– Хозяйка права, – подтвердил Энрике, – вам надо переодеться.
Донья Ана вспыхнула от досады. Будь дон Энрике повнимательней к своей спутнице, он давно заметил бы, что она весьма раздосадована. Но Энрике думал лишь о том, что время летит, а он еще ничего не успел предпринять, меж тем как Морган и Хуан Дарьен, пожалуй, уже двинулись в поход.
Без единого слова донья Ана поднялась и последовала за Урсулой. Хосе и дон Энрике остались наедине.
– Сеньор, я к вашим услугам, что вы желали сказать мне? – спросил Хосе.
– Слушайте же, время не терпит: этой ночью люди Моргана, а с ними и молодцы Хуана Дарьена нападут на Портобело…
– Боже мой! – воскликнул, оживляясь, рыбак. – Возможно ли? Джон Морган, знаменитый Морган, прославленный пират? И он уже так близко? Да еще с Хуаном Дарьеном, нашим главарем? Это верно?
– Еще бы! Они-то и послали меня к вам, чтобы я проник в город и все разведал. Ведь если испанцы вздумают проявить упорство, мы ударим с тыла.
– Вот именно, вот именно! – подхватил рыбак. – Я дам вам людей.
– Тише, – остановил его дон Энрике, – как бы нас не подслушали.
– Здесь нет никого, кроме мой жены.
– И этой дамы…
– Как, разве она не ваша?..
– Нет, она из Портобело.
– Но как получилось, что вы пришли вместе?
– Об этом я расскажу в другой раз, а сейчас поспешим, ведь, может быть, наши люди уже выступили в поход.
– В котором часу ожидается нападение?
– На рассвете.
– А по какой дороге их ждать?
– Я этого побережья не знаю; они придут на шлюпках и высадятся недалеко от города, в местности, которая называется Эстера.
– Значит, здесь.
– Здесь?
– Да, эта бухта и есть Эстера; полагаю, они вот-вот появятся; нельзя терять ни минуты.
– Так в путь!
– Постойте, выпьем на дорогу по стаканчику.
Тут вошла Урсула с бутылкой и двумя стаканами.
– Прошу прощения, – сказал Энрике, обращаясь к Урсуле, меж тем как Хосе наполнял стаканы, – где вы устроили сеньору?
– Она в соседней комнате.
– Отлично, полагаюсь на вас.
– Будьте спокойны, ей будет здесь не хуже, чем дома.
– Так за наш успех! – сказал рыбак, чокаясь с доном Энрике.
– За успех! – ответил Энрике, осушая стакан.
– А теперь в путь, сеньор дон Энрике. Эй, Урсула, запри покрепче двери и, ежели этой ночью здесь появятся знакомые ребята, спроси Хуана Дарьена и скажи ему, что этот дом принадлежит Хосе-рыбаку.
– Хуан Дарьен?..
– Молчок. Делай, что тебе велят, и прощай. Позаботься о сеньоре.
– Прощай, – ответила жена.
Хосе вышел вместе с доном Энрике и направился по тропинке в город.
Урсула проводила их до порога, тщательно заперла дверь и ко всем запорам прибавила еще на всякий случай крепкую перекладину.
Через окно, из которого Урсула окликнула мужа, донья Ана наблюдала за Энрике, пока он не исчез в сумраке ночи. Тогда, отойдя от окна, она проговорила с раздражением:
– Ушел не простившись. Как видно, его чувство ко мне угасло. Я больше не нужна ему, он держит меня здесь, как пленницу, чтобы я не могла рассказать обо всем в городе и не нарушила его замыслов. Меж тем я начинаю кое о чем догадываться… Ах, лучше бы мне погибнуть сегодня в океане! Этот человек, о котором я так страстно мечтала, равнодушен ко мне, мало, того, он пренебрегает мной. Я не пробуждаю в нем ни малейшего желания, я целиком в его руках, и что же? Ни одного нежного слова, ни одного поцелуя… Это ужасно! Он просто не замечает меня, я для него не женщина… Я слепо пошла за ним, вообразив, будто вновь пробудила в нем любовь. А он запирает меня на замок и сам уходит… Но берегись, ты мне за это дорого заплатишь!.. Да неужто я так подурнела?
Тут в комнату вошла Урсула.
– Итак, сеньора, вам уже известно, что сегодня ночью к нам пожалуют гости.
– Да, я кое-что слышала об этом Хуане Дарьене, – уклончиво ответила донья Ана.
– Вы знаете Хуана Дарьена?
– Нет, а кто он?
– Здорово! Только вы одна ничего о нем не слыхали. Хуан Дарьен – прославленный пират, разве вам не рассказывал о нем ваш возлюбленный? Или кто для вас этот кабальеро?
Услышав, что дона Энрике называют ее возлюбленным, донья Ана вспыхнула, но не столько от стыда, сколько от досады при новом напоминании о юноше, который пренебрег ею.
Она уже собиралась было заявить, что между нею и доном Энрике нет ничего общего, как вдруг ее осенила мысль, что ложь скорее поможет доискаться правды.
– Он мой супруг, – ответила она.
– Предположим. Так неужто ваш супруг никогда не говорил вам о Хуане Дарьене?
– Никогда.
– Быть не может! Ведь он, ясное дело, прибыл вместе с Хуаном Дарьеном, а вы вместе с мужем, так как же вы ничего не знаете?
– Мы были с мужем в долгой разлуке и только сегодня снова встретились.
– И он не успел рассказать вам, что сегодня ночью здесь будут пираты?
– Пираты? Здесь?! – воскликнула перепуганная донья Ана.
– Да, так сказал Хосе; ежели, говорит, этой ночью на берег высадятся вооруженные люди, я должна разыскать Хуана Дарьена и сказать ему, что это дом Хосе-рыбака.
– Но что им здесь нужно, этим людям?
– Как что? Ясно – взять город.
– Взять город? Зачем?
– Чтобы захватить богатую добычу и женщин, за этим они и идут.
– Боже мой! Но вы еще молоды, разве вы не боитесь?
– Нисколько. Ни вам, ни мне беда не угрожает. Я жена Хосе, а ваш муж с ними заодно, уж нас-то они не тронут, они уважают друг друга. Да вы сами увидите, какие это веселые и славные ребята.
– А вы уверены, что они будут здесь?
– Еще бы! Недаром же наши бедные мужья отправились без ужина налаживать дело. Завтра все богачки Портобело проснуться женами пиратов.
– Так вы говорите, сегодня ночью?
– Вот увидите. Ну, пока давайте ужинать.
– Давайте, – сказала донья Ана, а про себя подумала: «Надо во что бы то ни стало бежать и предупредить жителей города. Отомщу дону Энрике за его пренебрежение».
Она направилась вместе с Урсулой в столовую.
Покончив с легким ужином, Урсула проводила донью Ану в приготовленную для нее комнату.
– Это окно, – сказала она, – выходит на море, отсюда вы увидите, когда они подойдут.
– С какой стороны они появятся?
– Вот с этой, разве вы не видите моря?
– Вижу. А город где?
– Здесь, направо.
– Вот как.
– Ну, а теперь ложитесь спать, если что случится, я разбужу вас.
Урсула вышла; донья Ана заперла дверь и долго прислушивалась, пока заглохли шаги приютившей ее женщины. Окно было невысоко над землей, донья Ана решила действовать.
Связав вместе две простыни со своей постели, она сделала на одном конце узел, прижала его ставнем и свесила длинную белую полосу вниз за окно, потом стала спускаться.
До земли оставалось уже совсем недалеко, когда чьи-то могучие руки схватили беглянку за талию. Вскрикнув, она выпустила из рук импровизированную лестницу, но не упала: прижав к груди свою добычу, незнакомец зашагал прочь от дома.
Донья Ана попыталась было кричать, но широкая ладонь закрыла ей рот.
Тут-то она раскаялась в своем поступке, поняв, что попала во власть пиратов.
VII. ОСАДА
Донья Ана чувствовала, что ее несут куда-то далеко; незнакомец был настоящим Геркулесом и не проявлял признаков усталости.
Наконец до молодой женщины донесся гул голосов, и вскоре ее осторожно опустили на землю. Она стояла на берегу океана, окруженная людьми; сумрак ночи скрывал их лица, но донья Ана разглядела, что людей много и все они вооружены.
– Сеньор, – обратился незнакомец, принесший донью Ану, к человеку, который, как показалось пленнице, был здесь главным, – я захватил эту женщину, когда она спускалась из окна одного дома, тут, недалеко.
– Ты знаешь ее?
– Лица я ее не видел, но мне сдается, она пронюхала о нас и хотела бежать через окно, чтобы предупредить жителей города.
– Ладно. Оставь ее здесь и продолжай разведку.
Разведчик ушел, и донья Ана осталась с глазу на глаз с главарем отряда.
– Как вас зовут? – сурово спросит тот.
– Донья Ана де Кастрехон.
– Куда вы собрались бежать?
– Я шла к вам.
Несколько пиратов подошли поближе, прислушиваясь к разговору.
– К нам? Вы что же, слышали о нашем приходе? И знаете, кто мы такие?
– Я все знаю: вы пираты и готовитесь напасть сегодня ночью на Портобело; среди вас находится Хуан Дарьен, а одного человека вы послали вперед лазутчиком.
– От кого вы все это слыхали?
– От вашего лазутчика. Вы ему доверяется, а он вас предал.
– Предал?! – воскликнули разом несколько голосов.
– Да. Потому-то я вас и искала, хотела предупредить об опасности. Как вы зовете здесь этого человека?
– Антонио Железная Рука.
– Ну, а мне известно его настоящее имя – Энрике Руис де Мендилуэта.
– Ваше обвинение весьма серьезно. Понимаете ли вы это?
– Еще бы! Полагаю, что сейчас весь город на ногах, жители готовятся сделать вылазку и напасть на вас. Вам лучше всего уйти, отказаться от осады города, вас ждет поражение, подходящий случай упущен.
– Ну, а где же сейчас Антонио, или Энрике, как вы его называете? Если все это правда, то он, верно, у губернатора.
– Вы, я вижу, сомневаетесь в моих словах, как бы вам не пришлось в этом раскаяться.
– Отвести сеньору в шлюпку, – сказал главарь, – и сторожить ее там вплоть до нового приказа.
Двое вооруженных людей увели донью Ану, а тот, кто допрашивал ее, остался вместе с тремя-четырьмя пиратами.
– Что вы на это скажете, Хуан Дарьен?
– Я жду, когда выскажетесь вы, сеньор Морган. Вы ведь лучше моего знаете Антонио Железную Руку.
– Ну так вот, я считаю, что Антонио не способен на предательство.
– Ежели это так, откуда женщина знает о нашей высадке и о наших планах?
– Ума не приложу.
– И я не понимаю.
– Но вот вопрос: следует ли нам отказаться от набега на город? Весьма возможно, что испанцы уже предупреждены.
– Надо проверить, так ли это.
– Предлагаю без колебаний продолжать начатое. Отступить всегда успеем.
– Таков ваш приказ?
– Да.
– Беру с собой десяток молодцов и отправляюсь на разведку. А вы идите следом с нашими главными силами.
– Да, выступаем без промедления, нельзя терять ни минуты.
Джон Морган и Хуан Дарьен разошлись в разные стороны, чтобы отдать распоряжения.
Вскоре среди манговых деревьев замелькали неясные тени людей, которые то продвигались во весь рост, то припадали к земле, бесшумно скользя, словно змеи, а то замирали, притаившись за стволами деревьев; ни одна травинка не шелестела на их пути, ни один камешек не шуршал под их ногами. Они казались бесплотными призраками. Когда время от времени один из этих призраков застывал на месте, все остальные тоже замирали, напряженно прислушиваясь к смутному шуму, доносившемуся до них издалека с ночным ветром; убедившись, что все спокойно, они продолжали путь.
Следом за ними на небольшом расстоянии медленно и неслышно вилась длинная вереница людей. То были основные силы пиратов, которые под командой Джона Моргана следовали за разведчиками.
Внезапно колонна остановилась: перед ней выросли темные башни крепости, защищавшей город.
Хуан Дарьен уже находился на коротком расстоянии от замка; часовой спокойно прогуливался вдоль крепостной стены. Подозвав двух пиратов, Хуан Дарьен едва слышно шепнул:
– Его надо взять. За мной! Зажмите ему рот.
Солдат продолжал ходить взад-вперед. Хуан Дарьен и два пирата приближались к нему ползком.
Когда солдат направлялся в их сторону, все трое припадали к земле, не шевелясь; когда поворачивал назад, пираты ползком быстро преодолевали пространство.
Это был пример хитрости и терпения; часовой ничего не замечал.
Наконец пираты подползли так близко, что, сделай часовой еще один шаг в их сторону, он наткнулся бы на них. Но, дойдя до обычной черты, часовой повернул назад.
С ловкостью пантеры Хуан Дарьен прыгнул на беззаботного стража и обхватил его тисками рук. Один из пиратов вмиг зажал ему рот, другой скрутил ноги.
Так, прежде чем часовой успел крикнуть или взяться за оружие, он был взят в плен и унесен прочь от крепостной стены. Все произошло мгновенно и бесшумно.
Стоя во главе своей колонны, Морган поджидал Хуана Дарьена.
– Взяли часового, – сказал, подходя, Хуан Дарьен, – он сможет сообщить нам, что делается в городе и в крепостных замках.
– Отвечай правду, – приказал Морган, – не то поплатишься своей головой.
Солдата связали.
– Что известно в городе о нашей высадке? – спросил Морган.
– Ничего неизвестно, сеньор, – ответил, дрожа, солдат.
– Объявлена тревога?
– Нет, сеньор, все спокойно.
– Смотри, не вздумай обманывать.
– Клянусь вам.
– Ладно, за ложь ответишь жизнью. Сколько солдат в крепости?
– Четыреста в гарнизоне и столько же наемников, но те спят у себя по домам.
– А пушек?
– Пушек много, все стоят в двух больших замках и в третьем малом.
Морган тут же отдал приказ выступать и сам возглавил колонну.
Первый из замков высился в четверти лиги от того места, где остановились пираты, и колонна подошла к нему на рассвете.
В те времена война носила, несомненно, более человечный характер, чем в наши дни. Нынче армии народов, гордящихся своей цивилизацией, вторгаются без объявления войны в чужую страну. Так, например, французские войска без всякого предупреждения осаждали крепости и нападали на города. Пираты действовали значительно благороднее.
Когда на рассвете замок был окружен, Морган направил коменданту крепости своего гонца с требованием сдаться; в противном случае он грозил перерезать весь гарнизон. Испанцы отказались вступить в переговоры с пиратами и открыли ожесточенный огонь из пушек.
В городе, который до той поры ничего не знал о высадке пиратов, вспыхнула тревога. Кто бросился в лес, кто приготовился к отпору, а иные, не думая ни о чем, кроме своих сокровищ, попытались скрыть их в глубоких колодцах. Женщины плакали, кругом царили смятение и беспорядок.
Гарнизон замка мужественно сражался; но пираты шли на приступ с неслыханной отвагой. Джон Морган и Хуан Дарьен, вооружившись абордажными топорами, смело бросились к воротам; их соратники под градом пуль не отставали от них.
Ворота, не выдержав мощных ударов, рухнули, и пираты огненной лавиной устремились внутрь.
Несколько мгновений спустя гарнизон сдался.
– Кое-чего мы уже достигли, – сказал Морган, – но предстоит еще немало повозиться, прежде чем город будет нашим.
– Если желаете, штурм города я возьму на себя, – предложил Хуан Дарьен.
– Нет, лучше займитесь крепостью и разрушьте ее до основания, а я с остальными пойду на город.
Не мешкая, Морган со своими людьми двинулся на Портобело. Предстояло взять еще два крепостных замка – большой и малый. Во главе первого стоял испанский губернатор, он командовал гарнизоном королевских солдат; а малый замок находился под началом дона Диего де Альвареса, возглавлявшего отряд торговых людей, которые взяли в крепость свои семьи. Там же была донья Марина с дочерью Леонорой.
Пренебрегая опасностью, Морган ворвался в город под огнем пушек, которые по приказу губернатора палили из большого замка. Пираты кинулись грабить дома, проникли в монастыри и обратили в пленников всех монахов и монахинь.
Внезапно раздался оглушительный взрыв: это Хуан Дарьен, заперев в замке пленных испанцев, поджег пороховой склад.
С зубчатой стены второй крепости губернатор созерцал страшную картину, понимая, что и ему готовится та же участь.
Атака второго большого замка не заставила себя долго ждать. Первый натиск пиратов был отражен. Пушки защитников наносили тяжелый урон нападающим, не умеряя, однако, яростной отваги тех, кто оставался в живых. Наиболее отчаянные бросились с топорами к воротам, но погибли под огнем испанцев, не достигнув цели: ворота не поддавались. Морган заметно приуныл.
– Поджечь! – крикнул Хуан Дарьен.
Казалось, все уже было заранее припасено для исполнения этого приказа: с горящими факелами, с бочонками смолы и серы пираты ринулись к воротам.
Первые ряды тут же поплатились жизнью за свою смелость, следовавшие за ними в ужасе попятились, потом, опомнившись, вновь бросились вперед. Долго продолжалась упорная борьба, но, наконец, раздался торжествующий вопль, – огненные языки пламени взмыли вверх, и вскоре крепостные ворота рухнули.
В открывшуюся брешь бушующим потоком хлынули пираты. Но защитники города решили умереть, сражаясь; едва лишь первые люди Моргана проникли в замок, как на них обрушился ливень гранат, больших и малых бочонков с порохом; падая в огонь, они взрывались и сеяли смерть и ужас среди нападающих.
Морган и Хуан Дарьен громкими возгласами и собственной беспримерной храбростью воодушевляли своих людей, пираты не щадили ни усилий, ни жизни, и все же им пришлось отступить.
Перевес был явно на стороне королевских солдат, все сулило им победу. Отчаяние овладело главарями морских разбойников. Стиснув зубы, они отвели колонну назад в безопасное место. Защитники крепости поспешно заделали брешь в стене.
– Испанцы оказались упорнее, чем я ожидал, – сказал Джон Морган, нервно теребя длинные усы. – Мы понесли огромные потери, а оставшиеся в живых упали духом.
– К сожалению, это верно, – ответил Хуан Дарьен, – но такое упорное сопротивление невольно приводит мне на память слова нашей вчерашней пленницы. Помните, она сказала, будто наш лазутчик – предатель.
– И все же отступать нельзя, – продолжал Морган, словно не расслышав обвинения, брошенного против Железной Руки, – отступление было бы равносильно самоубийству, ведь вдохновленные победой испанцы бросятся нас преследовать. Как быть с ранеными, да и корабли наши слишком далеко.
– Об отступлении нечего и думать! Если испанцам, как можно предположить, известны наши силы, это еще больше воодушевит их. Ну, Железная Рука, не попадайся мне в руки!
– Вы еще верите этой сказке?
– Как же не верить? Разве ему не следовало бы давно вступить в бой, как мы договорились?
– Возможно, ждать осталось недолго.
– Не надейтесь на его помощь.
– Так поглядите же, – с радостью крикнул Морган, указывая рукой на замок.
Из малого замка донеслись до них торжествующие клики, над зубчатой стеной взвился английский флаг.
– Что это значит? – воскликнул Хуан Дарьен.
– Это значит, что Железная Рука на деле опровергает гнусную выдумку женщины! – ликовал Морган.
– Адмирал, тысячу раз прошу прощения за то, что я усомнился в вашем подопечном.
– Все складывалось так, что я и сам начал сомневаться. Однако сейчас не время болтать, заставим наконец этих упорных псов сдаться.
– Начнем штурм сызнова и по всем правилам!
– Велите тащить лестницы, да самые широкие, чтобы лезть наверх сразу втроем; пригоните сюда из города людей, пускай приставят лестницы к крепостным стенам. И поживее шевелиться. Скоро день, к вечеру мы должны овладеть замком.
– Все будет исполнено, – сказал Хуан Дарьен и поспешил в город.
VIII. БЫВШИЕ СОПЕРНИКИ
За всю ночь Хосе-рыбак ни на минуту не прилег отдохнуть. Он проводил дона Энрике в его временное убежище, находившееся невдалеке от малой крепости, которую защищали городские торговцы. Это был просторный, но пустой и заброшенный дом, куда лишь время от времени наезжали из Панамы торговцы, ожидавшие прибытия испанских галер.
За домом присматривала семья старого привратника. Как только Хосе-рыбак появился вместе с доном Энрике, привратник поспешил открыть все комнаты и залы.
– Позаботьтесь о том, чтобы с улицы не видно было света, – сказал Хосе, – входную дверь не запирайте, но окна занавесьте поплотнее. Я скоро вернусь.
Дон Энрике вошел в комнату. В голове его теснились мысли о донье Ане, о Моргане, о пиратах, о детстве. Он, богатый наследник одного из самых родовитых семейств Мексики, вынужден был при роковых и загадочных обстоятельствах бежать, покинуть родину и жить среди пиратов!
Его память с жестокой четкостью нарисовала ему все, что произошло в тот вечер на балу у доньи Марины; воспоминание жгло его; чем, как не черной клеветой, возведенной на него в этом доме, объяснить приказ вице-короля об его изгнании из страны?
– Мне бы хоть на один час вернуться в Мексику! – воскликнул юноша. – Дон Диего насмеялся надо мной, а я бессилен покарать его. Из-за него я потерял родину, имя, семью, все, все, даже будущность – ведь я обещал Хулии, что настанет счастливое время и я вернусь, но разве я властен сдержать свое обещание? Разве я смею вернуться в Мексику?
И дон Энрике уронил голову на грудь, позабыв все на свете ради горьких воспоминаний и смутных надежд.
– Вот и мы, – неожиданно раздался чей-то голос.
Дон Энрике вскочил и увидел перед собой Хосе-рыбака с двумя парнями, по виду отчаянными головорезами.
– Что слышно в городе? – спросил дон Энрике.
– Ничего, решительно ничего; все спокойно, никто и не думает о пиратах, никто не предполагает, что они тут, под боком. Думаю, это верное дело.
– А что вам удалось сделать?
– Многое. Этих двух надежных молодцов мы поставим у входа, поручив им проверять и впускать в дом наших ребят да смотреть за тем, чтобы отсюда никто не улизнул. Сюда будут прибывать и являться к вам все, кого я успел оповестить. Спрашивать у них пароль незачем, ведь прежде чем они попадут к вам, их проверят эти молодцы. Но всем нашим ребятам надо знать вас в лицо, да и вам неплохо с ними познакомиться. Я сообщу, когда выступать, а сейчас мне надо идти.
– Куда?
– За остальными друзьями.
– Так не забудьте же поставить караул у входа.
– Сейчас поставлю, – сказал Хосе и вышел.
Почти тотчас стало прибывать подкрепление. Перед доном Энрике, как на параде, проходили люди всех национальностей, вооруженные и одетые в живописные наряды, обычные для той среды. Они ничем не отличались от молодцов из шайки Моргана, и не было ничего удивительного в том, что они откликнулись на зов пиратов и готовились вместе напасть на город.
Дом был забит до отказа: собралось свыше трехсот человек; начинало светать, когда Хосе-рыбак вернулся.
– Что могло случиться? – спросил он дона Энрике. – Ночь кончается, светает, а наших друзей нет как нет. Это может стоить нам немалых бесполезных жертв.
– Надеюсь, что они долго не замешкаются. Кто знает, какие препятствия встали на их пути.
– Да, но люди теряют терпение, ропщут; они хотят разойтись по домам, пока не рассвело, чтобы их не увидели на улице при свете дня.
– Пусть повременят расходиться.
– Невозможно. Если этой ночью ничего не предстоит, как им выбраться отсюда? Как показаться днем на улице с оружием? Да их тут же задержат, арестуют.
Не успел Хосе договорить, как в комнату бесцеремонно вошли двое вооруженных парней.
– Что вам надо? – спросил дон Энрике, понимая, зачем они явились.
– Мы пришли спросить, – начал один из них с решительным видом, – уж не вздумали ли выподшутить над нами и остальными товарищами? Мы не дадим смеяться над собой. Ребята послали нас покончить с этим делом.
– Ну, что же дальше? – спросил дон Энрике.
– А вот что, – ответил парень, – нас выманили из наших домов, посулив, что этой ночью Морган и Хуан Дарьен будут штурмовать город. Мы бросили наши семьи и зря проторчали здесь всю ночь напролет; прежде чем рассветет, мы хотим знать, что тут происходит, ведь при свете дня нам невозможно выйти отсюда – мы рискуем своей шкурой.
– Как видите, – ответил дон Энрике, – я тоже жду и тоже не знаю, как сложатся дела.
– Другими словами, – подхватил второй сорвиголова, – вы зря втянули нас в это дело; вы насмеялись над нами или попросту надули нас.
– Что это значит?! – воскликнул дон Энрике, бледнея от ярости и хватаясь за нож.
– Это значит, – ответил человек, обнажая нож и подавая своим движением пример товарищу, – это значит, что ты надул нас, втянув в эту сделку. Но мы сейчас расквитаемся с тобой за себя и наших ребят, чтобы тебе впредь неповадно было смеяться над другими.
– И вы осмелились?! – воскликнул Хосе-рыбак.
– А ты как думал? Да еще скажи спасибо, Хосе, что ты всегда был нам другом, не то мы с тебя бы и начали. Но мы понимаем, ты обманут не хуже нас. Словом, у нас уже все решено.
– Попробуйте его тронуть, – пригрозил рыбак и, выхватив нож, стал рядом с доном Энрике.
Молодцы шагнули вперед, но прежняя решимость их, казалось, иссякла.
– Ладно, ладно уж, потише тут, – сказал рыбак, – вы знаете меня не первый год, я один справляюсь с пятеркой. Так не заставляйте же меня собственной рукой отправлять вас на тот свет.
– Послушай-ка, Хосе, – ответил один из парней, – конечно, мы тебя знаем. Посторонись и дай нам рассчитаться с чужаком. Дело решенное, он должен ответить за свой обман, а ты ступай восвояси.
– С места не тронусь.
– Это твое последнее слово?
– Последнее.
– Что ж, пеняй на себя! – воскликнул парень и распахнул дверь. Молча и бесшумно хлынула в нее грозной лавиной толпа и наводнила всю комнату.
Дон Энрике и рыбак попятились в угол и вмиг соорудили перед собой заслон из столов и стульев, готовясь дать отпор, хотя и не надеясь выйти живыми из схватки.
– В последний раз, Хосе, не мешай нам расправиться с чужаком, прочь с нашего пути.
– Я не уйду! – решительно ответил Хосе.
– Нечего волынить, – раздался голос из толпы, – начинает светать.
В руках блеснули ножи, дон Энрике и Хосе, бледные, но спокойные, уже приготовились драться насмерть, как вдруг вдали грянул пушечный выстрел, потрясший стены дома.
Дон Энрике и рыбак разом поняли, что они спасены; начнись стрельба на миг позже, и они уже лежали бы бездыханными трупами.
Все замерли; стрельба усиливалась, никто не решался произнести ни слова. Было ясно: начался штурм крепости.
– Посмейте сказать, что я вас обманул, негодяи!
Никто не ответил.
– Я собрал вас для настоящего большого дела, а вы вместо благодарности решили меня прикончить. Не нужны вы мне теперь, убирайтесь, обойдусь без вас.
– Сеньор, – начал Хосе-рыбак, – я уверен, друзья раскаиваются в своем поступке. Я их хорошо знаю. Ведите их в бой; они сумеют отвагой загладить свою вину.
Дон Энрике притворился негодующим и непримиримым; но в глубине души он радовался, что ему удалось избегнуть бессмысленной гибели, и был не прочь повести этих людей в бой.
– Ладно! – согласился он. – Забудем ссору, и за дело! Прислушайтесь, как идет бой; тут надо улучить подходящий момент.
– Да, – прибавил Хосе, – сейчас время еще не приспело, войсками в городе командует сам губернатор, испанцев куда больше, чем нас; мы только зря понесли бы потери. Иду в город, попробую все разузнать в этой суматохе и сообщу вам, когда пора будет выступить на подмогу нашим друзьям.
И Хосе торопливо вышел на улицу. Дон Энрике занялся подготовкой к выступлению.
Входная дверь была по-прежнему на замке, но и через закрытую дверь до слуха доносился топот верховых и пеших, долетали отдельные взволнованные слова и обрывки фраз.
То и дело слышалось: «Они разбиты», «Штурм продолжается», «Скоро подоспеет помощь», «Войска уходят с губернатором», «Я все припрятал», «Бежим в горы».
Все говорило о том, что в городе царят тревога и смятение.
Внезапно раздался оглушительный взрыв, дом содрогнулся, створки окон с треском распахнулись.
Сильный стук потряс дверь; то был Хосе-рыбак.
– Пора! – воскликнул он, задыхаясь от усталости и волнения. – Пора! Выступаем. Хуан Дарьен взял большой замок и взорвал его вместе со всеми пленными, а Морган овладел другим замком, где гарнизоном командует губернатор. Идем на приступ малого замка, его защищают торговцы, там припрятаны их сокровища.
– На приступ! – крикнул дон Энрике.
– На приступ! – подхватили остальные, и гул их голосов громким эхом отдался вдали.
Дон Энрике первым поспешил из дома; за ним, потрясая оружием, вырвались на улицу его соратники, обуреваемые жаждой крови и богатой добычи. При виде этой грозной толпы прохожие в ужасе разбежались и попрятались.
Огонь пушек и мушкетов не затихал ни на минуту. Небо потемнело от порохового дыма, языки пламени и столбы пепла взлетали ввысь. В опустевшем, примолкшем городе слышался только грохот боя. Безлюдные улицы и настежь распахнутые двери покинутых жилищ наводили ужас.
Отряд дона Энрике, появившийся на подступах малой крепости, был встречен пушечным залпом, нанесшим немалый урон пиратам. Словно не замечая потерь, осаждающие с такой яростью ринулись вперед, что не осталось никаких сомнений в их победе.
Притащили лестницы, и штурм крепости начался по всем правилам. Ворота упали, разбитые в щепы, часть осаждающих ворвалась в открытую брешь; в то же мгновение дон Энрике во главе кучки смельчаков первым взобрался на крепостной вал.
Осаждаемые со всех сторон защитники сдались; последним сложил оружие комендант крепости.
Дон Энрике поспешил к поредевшей горстке героев. Именно среди них дрался комендант; оба, едва обменявшись взглядом, узнали друг друга.
– Дон Энрике Руис де Мендилуэта? – воскликнул Индиано.
– Дон Диего де Альварес! – произнес дон Энрике.
В этот миг над зубчатой башней замка взвилось английское знамя – его поднял Хосе-рыбак.
IX. МЩЕНИЕ
Одержавшая победу толпа с ревом кинулась на богатую добычу. Деньги, товары, оружие, женщины – все было вмиг поделено и надежно припрятано из опасения, как бы пираты Моргана не завладели награбленным добром.
Удары топора, которым рубили двери и взламывали ящики, перемежались с ликующими возгласами счастливцев, нашедших припрятанные сокровища, со стонами умирающих и рыданиями женщин, тщетно рвавшихся из жадных рук победителей.
Поистине страшное зрелище. Те, что успели насытить свою алчность, расправлялись с пленными, чтобы утолить проснувшуюся жажду крови.
Слушая рев озверелой толпы, дон Диего и его товарищи по несчастью мысленно прощались с жизнью и своими семьями, которых ожидала не менее горестная участь.
При виде дона Энрике комендант приготовился достойно встретить свой последний час. Узнав друг друга, ни тот, ни другой не произнесли больше ни слова.
Дон Диего первым нарушил молчание.
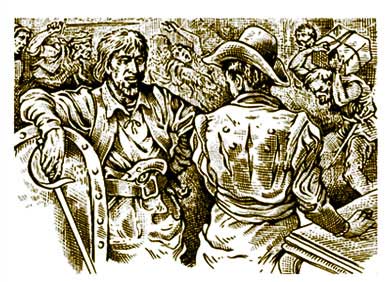 – Дон Энрике, – начал он с непритворным спокойствием, – я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти, вы вправе отомстить мне; для себя я ни о чем не прошу; но, если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир: поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи – доньи Марины и маленькой Леоноры, – прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру; пусть они примут смерть, но не бесчестие.
– Дон Диего, – ответил дон Энрике с каменным лицом, – вы в моей власти, вы, ваша супруга и ваша дочь. По вашей милости и по вине той, что нынче стала вашей супругой, я потерял все, чем дорожил на земле: семью, родину, имя, богатство, честь, будущность, все, все. По вашей вине мне пришлось бежать, как разбойнику в горы, по вашей вине я превратился в пирата, которого ждет впереди позорная смерть на виселице. Дон Диего, вы заслужили страшную кару; ваша смерть ничто по сравнению с моими муками и терзаниями. Жизнь за жизнь, ну, а моя честь, мое доброе имя, родина и будущность? Пролить вашу кровь, отдать вашу жену на потребу моих воинов, воспитать вашу дочь в пороке, толкнуть ее на путь разврата, – все это едва ли достойное возмездие за содеянное вами зло.
– Боже мой, боже мой! – простонал дон Диего. – Как это ужасно!
– Дон Диего де Альварес! – продолжал дон Энрике. – Я вправе отнять у вас жизнь, вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена – полюбовно или силой. Только не вздумайте благодарить меня за это: я ненавижу вас всей душой. Ступайте и помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного: ровно через полгода, а именно шестого августа в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление.
Дон Диего попытался что-то сказать. Но дон Энрике уже обратился к рыбаку:
– Хосе, ты слышал. Ступай вместе с этим кабальеро, добейся, чтобы ему вернули жену и дочь и без помехи выпустили из города. Пускай уйдут под охраной, куда пожелают, прочь от опасности.
Круто повернувшись, дон Энрике ушел.
– О! – воскликнул Индиано. – Мы еще посмотрим, кто из нас великодушнее. Мое мщение будет подобно его возмездию.
Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, дон Диего поспешил на поиски доньи Марины.
– Дон Энрике, – начал он с непритворным спокойствием, – я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти, вы вправе отомстить мне; для себя я ни о чем не прошу; но, если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир: поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи – доньи Марины и маленькой Леоноры, – прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру; пусть они примут смерть, но не бесчестие.
– Дон Диего, – ответил дон Энрике с каменным лицом, – вы в моей власти, вы, ваша супруга и ваша дочь. По вашей милости и по вине той, что нынче стала вашей супругой, я потерял все, чем дорожил на земле: семью, родину, имя, богатство, честь, будущность, все, все. По вашей вине мне пришлось бежать, как разбойнику в горы, по вашей вине я превратился в пирата, которого ждет впереди позорная смерть на виселице. Дон Диего, вы заслужили страшную кару; ваша смерть ничто по сравнению с моими муками и терзаниями. Жизнь за жизнь, ну, а моя честь, мое доброе имя, родина и будущность? Пролить вашу кровь, отдать вашу жену на потребу моих воинов, воспитать вашу дочь в пороке, толкнуть ее на путь разврата, – все это едва ли достойное возмездие за содеянное вами зло.
– Боже мой, боже мой! – простонал дон Диего. – Как это ужасно!
– Дон Диего де Альварес! – продолжал дон Энрике. – Я вправе отнять у вас жизнь, вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена – полюбовно или силой. Только не вздумайте благодарить меня за это: я ненавижу вас всей душой. Ступайте и помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного: ровно через полгода, а именно шестого августа в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление.
Дон Диего попытался что-то сказать. Но дон Энрике уже обратился к рыбаку:
– Хосе, ты слышал. Ступай вместе с этим кабальеро, добейся, чтобы ему вернули жену и дочь и без помехи выпустили из города. Пускай уйдут под охраной, куда пожелают, прочь от опасности.
Круто повернувшись, дон Энрике ушел.
– О! – воскликнул Индиано. – Мы еще посмотрим, кто из нас великодушнее. Мое мщение будет подобно его возмездию.
Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, дон Диего поспешил на поиски доньи Марины.
Между тем страшное зрелище разыгрывалось у подножия замка, где гарнизоном командовал губернатор.
Хуану Дарьену вскоре удалось разыскать лестницы для осады. Кроме того, он пригнал и людей, чтобы приставить лестницы к крепостным стенам. То были взятые в плен монахи и монахини из города.
Монахини плакали; сорвав с них клобуки и вуали, пираты издевались над старухами и разрешали себе непристойные шутки с молодыми.
– Вот люди, они приставят лестницы, – сказал Хуан Дарьен.
– Отлично, – ответил Морган, – живее за дело!
– Не лучше ли уступить нам этих красоток, – сказал один из пиратов, указывая на монахинь.
Вместо ответа Морган поднял свой пистолет и выстрелил в дерзкого юнца, осмелившегося так шутить в его присутствии.
Парню посчастливилось избежать пули, и он поспешил спрятаться за спины своих товарищей.
– Ставьте лестницы! – скомандовал Хуан Дарьен.
Монахи и монахини стояли в нерешительности; но пират с такой силой ударил одну из монахинь дубиной по голове, что та упала замертво.
– Ну, марш за дело! – повторил он громовым голосом.
– За мной! – воскликнул Хуан Дарьен.
Несчастные пленники повиновались. Взвалив на плечи тяжелые лестницы, они побрели вслед за Хуаном Дарьеном.
Защитники замка с ужасом смотрели на вереницу монахов и монашек, которые тащили лестницы для осады.
– Огонь! – скомандовал губернатор.
Никто из солдат не решился исполнить приказ.
– Сжальтесь! Сжальтесь! – кричали несчастные, тащившие лестницы. – Сжальтесь! Ради бога не стреляйте, ведь нас силой заставили. Мы люди мирные, служители бога, Христовы невесты?
– Вперед! Вперед! – кричали пираты, подгоняя их.
Осаждающие подошли уже почти вплотную к подножию замка; монахини рыдали, монахи молили о пощаде.
– Огонь! – твердым голосом повторил свой приказ губернатор. Испанские солдаты, поняв опасность, прицелились в наступавших, потом отвернулись и дали залп.
Вспышки огня опоясали крепость, дым окутал зубчатые стены, и множество жертв упало наземь.
Залп оказался роковым для наступающих: испуская жалобные вопли, раненые монахи и монахини корчились на земле от боли; оставшиеся невредимыми попытались бежать, но разъяренные пираты силой заставили их продолжать начатое дело.
Стрельба не прекращалась, штурм велся по всем правилам: лестницы были приставлены к стенам, и пираты с неслыханной отвагой стали карабкаться вверх. На крепостном дворе и внутри замка закипел рукопашный бой.
Губернатор дрался, как лев, то нападая, то отражая натиск противника, то бросаясь вперед, то отступая. Трусов в своих рядах он беспощадно убивал собственной рукой.
Наконец, окруженный со всех сторон врагами, которые не могли скрыть своего восхищения мужеством испанца, он на мгновение опустил шпагу.
Тут подоспел Джон Морган.
– Просишь пощады? – крикнул он.
– Никогда! – ответил испанец. – Лучше погибнуть с честью, как солдат, чем жить трусом.
И он, не колеблясь, смело бросился на Моргана и его соратников. Но бой был неравен: сотня шпаг устремилась против него, и вскоре он упал, обливаясь кровью.
Торжество было полным; овладев городом, пираты занялись грабежом. Морган и Хуан Дарьен выбрали для своего ночлега большой дом, и еще не успел рассеяться пороховой дым, как они уже спокойно сидели за столом и ужинали.
День клонился к вечеру, а осада началась на рассвете. Какой роковой поворот в судьбе этого несчастного города всего за двенадцать часов времени!
X. ДОБРОМ ЗА ЗЛО
Город являл страшное зрелище: темные улицы, разбитые в щепы двери домов, обломки домашней утвари, там и тут кучки пьяных пиратов и их приспешников-отщепенцев из села, горланящих непристойные песни и обнимающих молодых девушек из знатнейших семейств города, а рядом, в лужах крови, трупы их отцов и братьев.
Леденящая сердце картина кровавой вакханалии.
Несколько пиратов подошли к просторному обезлюдевшему дому, они волокли за собой захваченных в плен женщин, среди них были и молодые монахини, случайно уцелевшие во время осады крепости.
Пираты прихватили с собой из церкви толстые восковые свечи.
– Здесь можно недурно устроиться на ночь, не так ли? – предложил один из пиратов.
– Да, да, пошли в дом! – подхватили остальные.
– Нашим милашкам больше невмочь разгуливать по городу, они устали.
– Мы проведем эту ночь по-царски, что ты на это скажешь, крошка? – добавил другой, обращаясь к молодой девушке, которую он силком тащил за собой.
Бедняжка не ответила ни слова; орава заполнила дом и принялась шарить по углам и закоулкам.
Это было обширное, богато убранное жилище. Во всех покоях замелькали огни зажженных свечей; кто искал добычи, а кто – места, где поудобнее расположиться на ночь.
Один из пиратов спустился в подвал и вскоре снова появился, волоча за собой женщину и сзывая товарищей; они вмиг откликнулись и окружили новую жертву. То была донья Марина.
– Гляньте, что за красавица! – воскликнул пират. – Кто хочет получить ее?
– Я уже себе выбрал, мне не надо, – ответил один.
– И я нашел! И мне не надо! – раздались голоса.
– А жаль, если на такую красотку не найдется охотника!
– И впрямь жалко!
– Как же быть? Пойдем поищем кого-нибудь из наших ребят…
– Да все уже запаслись.
– А знаешь, что мне пришло в голову?
– Что?
– Поручим нашим девушкам разодеть ее, как королеву, в пух и в прах и подарим завтра нашему адмиралу.
– Превосходная мысль! Ну, а если ему уже приглянулась другая?
– Так завтра он нас поблагодарит за эту.
– Ладно. А пока что куда ее девать?
– Получше спрятать и запереть на всю ночь.
Сопровождаемый Хосе-рыбаком дон Диего отправился на поиски жены и дочери. Он проходил мимо несчастных молодых женщин, оказавшихся во власти победителей, и не узнавал их среди царившей сумятицы.
Весь ужас положения предстал перед ним с потрясающей ясностью: почти ни одной молодой женщине не удалось избегнуть позорной участи; тщетно они рыдали и на коленях молили пощадить их, – пираты были непреклонны.
Только благодаря уважению, которым Хосе-рыбак пользовался среди пиратов, дон Диего мог продолжать свои поиски; однако все его усилия оказались бесплодными.
Спустя три часа, проведенных среди горестных сцен, дон Диего, отчаявшись найти донью Марину, вышел из замка.
Жалкая старуха с раненой рукой сидела на пороге своей лачуги.
– Какой ужас! – воскликнула она, узнав дона Диего. – Господь бог обрушил на нас свой гнев.
Несчастье сближает людей, ломая все сословные перегородки. Дон Диего и нищая старуха чувствовали себя родными в этом водовороте бедствий.
– Сеньора, – обратился к ней дон Диего, – есть ли на свете человек несчастнее меня? Я потерял дочь и жену!
– А я потеряла своего единственного сына, его убили эти звери. Ваша супруга тоже погибла?
– Лучше ей было бы погибнуть! Я нигде не найду ее и схожу с ума при мысли, что она попала в лапы этих варваров.
– В замке искали?
– Да, сеньора.
– Так, может, ей удалось бежать. Меня ранило в самом начале осады, вот почему я здесь застряла. Когда крепость сдалась, множество женщин с детьми убежали в лес; никто не бросился за ними вдогонку, и они спаслись; может, и ваша супруга с дочерью оказались среди этих счастливиц.
– А кроме этих женщин, никто не вышел из крепости?
– Никто. Будьте уверены, ваша семья либо осталась в крепости, либо бежала с остальными в лес.
– В крепости их нет.
– Так ищите в лесу.
– В какую сторону они бежали?
– Вот сюда, направо, – сказала старуха, указывая на темневший невдалеке лес.
– Попытаюсь найти их.
– Да поможет вам бог.
– Хотите, пойдем вместе?
– О нет, благодарю вас! Я ищу труп моего сына, чтобы умереть рядом с ним; мне уж недолго осталось жить.
– Так прощайте, и да ниспошлет вам господь утешение.
– Храни вас бог.
Дон Диего быстро зашагал в ту сторону, куда указала ему старуха.
Поднимаясь в гору, он услышал частый огонь в крепости, которую защищал губернатор.
Он оглянулся: среди густых клубов дыма над зубчатой башней реял испанский флаг, а внизу, у подножия крепостных стен, с дьявольской смелостью шли на приступ пираты.
Дон Диего подумал о губернаторе, о солдатах гарнизона, об их семьях, укрывшихся в крепости, и с тяжким вздохом прошептал:
– Им нет спасения!
Продолжая путь, он углубился в лес; позади все глуше грохотали пушки, и наконец все смолкло. В чаще леса не было ни дорог, ни тропинок. Дон Диего то и дело останавливался, оглядываясь по сторонам, и приходил в отчаяние при мысли, что, может быть, сбился с верного пути; меж тем беспомощным беглянкам грозит голодная смерть в этом безлюдье.
Задумчиво шагал он по лесным холмам и пригоркам. День угасал, когда дон Диего вдруг услышал, что его зовут по имени. Он остановился, увидел женщину и поспешил к ней навстречу.
То была одна из самых именитых дам города; одежда висела на ней лохмотьями, лицо было в ссадинах от колючек и веток, волосы всклокочены.
– Слава богу, вам удалось спастись, сеньор, – сказала она, – а где же донья Марина?
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Диего, – я повсюду разыскиваю жену и дочь, но пока мне еще не удалось набрести на их след.
– Боже мой! Что же с ней случилось?
– Вы, может, видели их, сеньора?
– Как же. Когда пираты осадили замок, нам удалось открыть ворота, выходившие в поле, и бежать. Донья Марина и малютка Леонора были с нами; когда мы достигли леса, ваша жена передала на мое попечение дочь, а сама, несмотря на все мои уговоры, вернулась в крепость, чтобы найти вас.
– Так моя дочь здесь?
– Да, вместе со мной; мы кое-как добрались до этого места, оно показалось нам надежным убежищем, да у нас и не было сил идти дальше, мы вконец измучились от усталости и голода.
– И вы ничего с тех пор не ели?
– Ничего. Мы здесь одни. Ну, могут ли женщины раздобыть себе в лесу пищу? Мы видели здесь быков, но как справиться с ними?
Дон Диего не знал, на что решиться.
– Боже мой! – воскликнул он. – Что делать? Моя дочь здесь, умирает с голоду вместе с бедными беглянками. Марина бесследно исчезла. Боже, научи меня!.. Бросить дочь на произвол судьбы? Невозможно. Бросить жену? Ни за что!.. Взять дочь с собой и снова подвергнуть ее смертельной опасности? Да и чем ее кормить по дороге? А что, если мы заблудимся в лесу. Боже мой, боже мой!
Индиано поник головой, руки его безжизненно повисли.
– Послушайте, – сказала женщина, – есть у вас с собой оружие?
– Никакого, – ответил дон Диего, – а что вы задумали?
– Мы слышали поблизости рев быков; убейте одного, и мы обеспечены пищей. Я позабочусь о вашей дочери, а вы вернетесь на поиски доньи Марины.
XI. ОХОТА НА БЫКА
Дон Диего, не отвечая, молча последовал за женщиной. Пройдя немного, они очутились в своего рода лагере амазонок. Спасаясь от пиратов, здесь нашли себе убежище женщины всевозможных сословий; лица их выражали муки голода и безнадежности.
Дон Диего был встречен как неожиданный спаситель, все обступили его и принялись наперебой расспрашивать об оставшихся детях, братьях, мужьях. Но оказалось, что дон Диего не может ответить ни на один из вопросов. Беглянки пришли в отчаяние и умолкли.
– Сеньоры, – сказала молодая женщина, которая привела дона Диего, – кабальеро разыскивает свою супругу донью Марину; к счастью, он смог обнять здесь свою дочь. Я обещала ему позаботиться о девочке, пока он будет искать донью Марину; но я умолила его прежде помочь нам в горе и убить быка, ведь иначе мы все умрем с голоду.
– Да, да! – хором подхватили женщины.
– Но вот беда; у дона Диего нет никакого оружия, а без оружия…
– У меня есть кинжал! – воскликнула одна из женщин. – Я берегла его для себя, предпочитая умереть, чем попасть в руки пиратов.
– А теперь этот кинжал принесет нам не смерть, а жизнь. Отдайте же его дону Диего.
Женщина протянула Индиано кинжал, отделанный серебром.
– Достаточно ли вам этого оружия?
– Вполне достаточно, чтобы справиться с быком или погибнуть.
– Уже вечереет, – сказала проводница дона Диего, – надо поторопиться: скажите, можем ли мы помочь вам?
– Еще бы! – ответил Индиано. – Постарайтесь выследить быка и дайте мне знать, как только его заметите. В остальном положитесь на меня. Но помните, держитесь поближе друг к другу, иначе в лесу можно заблудиться.
– Отлично.
– Так в путь.
– Идемте, – ответили женщины хором и двинулись вперед; дон Диего с кинжалом в руке шел в сопровождении той сеньоры, которая вызвалась заменить маленькой Леоноре мать; она несла малютку на руках.
Некоторое время все шли молча; вокруг царила тишина, только трава шуршала под их ногами. Индиано обдумывал план охоты на тот случай, если им в самом деле попадется бык.
Хорошо, если зверь пойдет прямо на охотника, но как настичь его, если он испугается и обратится в бегство? Так размышлял дон Диего и вдруг почувствовал, что его тронули за плечо.
– Мы видели быка, – сказала одна из женщин.
– Где?
– Неподалеку отсюда; мы следили за каждым его движением.
– Ведите меня к нему, – сказал дон Диего.
Вскоре они очутились на маленькой лужайке, окруженной деревьями, где в сгущавшихся сумерках увидели могучего быка, мирно щипавшего траву.
Дон Диего обошел животное и стал осторожно к нему подкрадываться, стараясь не привлечь его внимания. Бык не почувствовал приближения врага, здесь, в лесу, еще никто не дерзал помериться с ним силами.
Индиано был уже совсем близко, когда бык поднял голову и увидел противника. Не собираясь отступать, он приготовился к защите.
Дон Диего бесстрашно бросился на быка, но тот, пригнув голову, встретил нападающего длинными и острыми, как клинок, рогами и вмиг сам перешел в наступление. Индиано ловко увернулся от удара и, ухватившись одной рукой за рог животного, принялся наносить ему раны кинжалом.
Бой был неравен: бык обладает огромной силой по сравнению с человеком. И все же отважный охотник, увертываясь от ударов быка, продолжал колоть его кинжалом. Израненный бык попытался спастись бегством; но дон Диего решил во что бы то ни стало удержать его. Воткнув ему кинжал в бок, он обеими руками ухватился за грозные рога.
Бык сделал попытку стряхнуть с себя человека, но тот всей своей тяжестью повис на животном, твердо решив овладеть добычей. Однако на стороне быка была сила, и он потащил человека в глубь леса сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее.
Вконец измученный дон Диего уже собирался разжать руки, как вдруг почувствовал, что бык зашатался.
Как осиный рой, накинулись на него женщины; одни силились связать кушаком его ноги и свалить наземь, другие били его камнями и дубинами. Индиано вытащил кинжал, все еще торчавший в ребрах быка, и нанес животному смертельный удар.
Женщины, среди которых многие еще накануне пренебрегли бы самыми изысканными блюдами, закричали от радости при виде упавшего быка: наконец-то у них будет мясо!
Тушу вмиг разделали. Словно по волшебству загорелись вокруг костры, и изголодавшиеся беглянки с жадностью набросились на полусырое, кое-как сваренное мясо!
– Сеньоры, – сказал дон Диего, – я исполнил обещанное и ухожу разыскивать жену. Позаботьтесь же о моей дочурке.
Нежно поцеловав малютку Леонору, отец исчез среди деревьев. Стояла темная, безлунная ночь. Не зная верной дороги, дон Диего шел наугад. На его пути возникали неожиданные препятствия: то многоводный поток, то глубокий овраг, то каменистая гряда холмов.
А дон Диего все шел и шел, со страхом замечая, что силы покидают его. Часы летели с ужасающей быстротой; каждая потерянная минута могла оказаться гибельной для доньи Марины, которая – он был уверен – находилась во власти пиратов. По временам им овладевали тягостные предчувствия, он был близок к тому, чтобы в припадке, мрачного отчаяния покончить с собой.
Всю ночь напролет пробирался дон Диего сквозь лесные дебри без малейшей уверенности, что идет по верному пути и приближается к своей цели.
Когда занялась заря, последние силы покинули его: сбитые в кровь ноги подкашивались, во рту пересохло. Задыхаясь от усталости и отчаяния, он замертво упал у подножия дерева. Здесь он дождется своего конца.
Флотилия Моргана стояла в порту Наос на попечении надежных людей, получивших приказ сняться с якоря и идти в Портобело на следующий же день после выступления пиратов в поход.
Приказ был выполнен в точности, и когда суда вошли в бухту Портобело, в городе еще гремели пушечные выстрелы из крепости, которую защищал испанский губернатор.
В ночь одержанной победы большинство матросов сошло на берег, и донья Ана де Кастрехон, пленница на борту флагманского судна, осталась под охраной всего лишь нескольких человек, стоявших на вахте.
Морган и Хуан Дарьен встретили Антонио, как пираты звали дона Энрике, со знаками глубокого уважения и ни словом не обмолвились о злых наветах доньи Аны.
Решено было той же ночью устроить облаву в ближайшем лесу, чтобы захватить беглецов; Железная Рука был назначен губернатором взятой крепости.
На другой день ранним утром Морган еще спал, когда с улицы до него донесся шум, дверь его дома распахнулась, и на пороге показались пираты с носилками, на которых сидела донья Марина, одетая с царской роскошью.
– Что это значит? – спросил адмирал.
– Сеньор, – ответил пират, взявший на себя роль старшего, – вот первая красавица в городе, примите этот дар в знак нашей любви и уважения.
Как завороженный, остановился Морган перед доньей Мариной; привыкнув к облику северных женщин, он был покорен волшебным обаянием южной красоты. Мягкий блеск черных глаз, смуглый оттенок атласной кожи, темные кольца волос, – все пленяло его и влекло к себе с неотразимой силой.
– О, это поистине царский подарок! – воскликнул он. – Эта женщина не создана для минутной забавы. Принимаю ее как супругу из рук моих отважных и преданных соратников. Отнесите же сеньору с почетом на борт корабля, здесь ей невозможно оставаться; мы вот-вот выходим в море. Проводив красавицу, возвращайтесь, чтобы скорее закончить сборы в путь.
– Да здравствует наш адмирал! – крикнул один из пиратов.
– Да здравствует! – подхватили остальные.
Покинув дом Моргана, шествие с носилками направилось в порт.
Донья Марина не проронила ни слова, казалось, она потеряла рассудок.
Матросы отвязали шлюпку, и четыре пирата вместе с носилками вошли в нее.
– На флагман, – сказал один из них, обращаясь к гребцам.
– Постой-ка, – остановил его матрос, – тут надо подумать.
– О чем!
– Да ведь я как раз с флагмана, там адмирала уже дожидается одна красотка, он отправил ее на бот корабля как раз в ту ночь, когда повел наших на Портобело.
– Ну, и что же? Разве это помеха?
– А вдруг он рассердится?
– Да ведь он ничего не говорил нам о той, другой.
– Может, просто забыл… и наконец, он велел нам проводить вторую красотку, а на какой корабль – не сказал.
– Так давайте отправим ее на «Венеру», где капитаном тот, другой, родом из Кампече.
– Вот это дело.
Гребцы налегли на весла, и шлюпка понеслась к «Венере». Носилки с драгоценным грузом бережно подняли на борт, теперь оставалось только ждать адмирала.
Шлюпка снова вернулась на берег. Началась погрузка на суда людей вместе с добычей. К этому времени из леса вернулись пираты, ходившие на облаву.
XII. ДВОЕ ОСИРОТЕВШИХ
Пираты, которые после облавы вернулись в крепость и предстали перед доном Энрике, нашли в лесу только двух беглецов: бедную женщину из поселка – ее дон Энрике велел тотчас отпустить на волю – и одного испанца, на которого дон Энрике пожелал взглянуть.
– Как, это вы, дон Диего? – удивился дон Энрике при виде пленника, приведенного к нему в дом.
– Да, дон Энрике! – ответил тот. – Несчастья преследуют меня.
– Что же случилось?
– Жены я не нашел; тщетно я ее разыскивал весь день и всю ночь; не знаю, где она и что с ней. Силы покинули меня, и вот я снова в плену! Велите меня убить.
– Дон Диего, – возразил юноша, – я обещал освободить вас и вернуть вам супругу. Свое слово я сдержу.
Дон Энрике встал и крикнул Хосе-рыбака, который повсюду следовал за ним.
– Хосе, – сказал он, – многие из ваших людей живут в Портобело и, возможно, знают супругу дона Диего. Прошу вас, порасспросите их, может, они скажут, где ее найти.
Хосе тотчас вышел.
– Я надеюсь, – сказал дон Энрике, – что Хосе в скором времени принесет нам добрые вести.
– Дай-то бог! – откликнулся Индиано.
В порту продолжалась посадка; сперва погрузили добычу, потом стали переправлять людей.
Близился час выхода в море, Хосе не возвращался, дон Диего ждал его в смертельной тревоге.
Наконец Хосе пришел.
– Ну, что? – спросили его одновременно дон Энрике и Индиано.
– Я узнал, где находится сеньора.
– Где же?
– Вчера ночью ваши ребята нашли ее и, увидев, что она такая красавица, нарядили ее в богатый убор и на носилках отнесли в дар адмиралу Моргану.
– Это ужасно! – воскликнул Индиано.
– А что сделал Морган? – спросил дон Энрике.
– Принял подарок, поблагодарил и велел отнести сеньору на борт своего корабля.
– Все кончено! – в отчаянии прошептал Индиано. – Она навсегда потеряна!
– Еще есть надежда, – сказал дон Энрике. – Подождите меня здесь, я пойду поговорю с адмиралом. Я дал вам слово и сдержу его.
Дон Энрике поспешно взял шляпу и вышел, оставив дона Диего, в сердце которого отчаяние сменилось надеждой.
Морган стоял на берегу, наблюдая за посадкой своих людей. Мысль о донье Марине не покидала адмирала. Он справился о ней у матросов, и те с привычной для них грубоватой откровенностью признались, что отнесли сеньору на борт «Венеры», ведь на флагмане адмирала поджидала другая женщина. Морган от души посмеялся столь мудрому решению своих соратников.
Дон Энрике, не найдя Моргана на квартире, где он стоял, отправился на берег.
– Ну что же, друг мой, – спросил его адмирал, – когда вы собираетесь поднять паруса?
– Когда прикажете. Я пришел просить вас об одной милости.
– Могу ли я отказать в чем-либо самому отважному из моих смельчаков? – ответил пират. – Говорите.
– Сеньор, я прошу у вас свободы для той женщины, что находится на вашем корабле.
При этом дон Энрике думал о донье Марине, а Морган, зная, что на борту флагмана находится донья Ана, понял, что именно ее освобождения добивается юноша, которого она оклеветала.
– Вы просите освободить эту женщину?
– Да, сеньор, я очень прошу вас об этом.
– А вам известно, что она знает вас и ваше настоящее имя?
– Да, сеньор, – ответил дон Энрике, не задумываясь над тем, каким образом это дошло до адмирала, – мы встречались прежде в Мексике.
– И вам известно, что она ваш враг?
– Как вы об этом узнали?
– Это уж мое дело. Но вы-то знаете, что она ненавидит вас?
– О да, сеньор! Она еще в Мексике относилась ко мне враждебно, вот потому-то я и хочу оказать ей эту услугу. В этом мое возмездие.
– Значит, вы любите ее или любили прежде?
– Когда-то я в самом деле любил ее.
– А она отплатила вам неблагодарностью?
– Да, черной неблагодарностью.
– Я поражен вашим великодушием и приветствую его. Но скажите, почему бы вам теперь не оставить у себя эту женщину?
– Я хочу отплатить ей добром за причиненное мне зло.
– Отлично. Она свободна.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю вас.
– Только подождите, пока не закончится погрузка на суда; потом ступайте вместе с Хуаном Дарьеном на «Венеру» и, когда услышите пушечный выстрел – сигнал к выходу в море, – велите послать шлюпку на флагман за дамой.
– Благодарю вас, сеньор.
Дон Энрике с легким сердцем вернулся к себе, где его ждал Индиано.
– Дон Диего, – сказал он, – приготовьте лодку с четырьмя гребцами и, когда услышите пушечный выстрел, пошлите ее на флагман за вашей супругой.
– Я сам поеду.
– Нет. Вас, пожалуй, узнают, ведь вы защищали малый замок. Останьтесь лучше здесь, на берегу, чтобы наше дело не сорвалось.
– Вы уверены, что адмирал сдержит свое слово?
– Головой ручаюсь. Прощайте. Не забудьте о назначенной встрече.
– Я помню.
Дон Энрике вышел из дома и отправился на берег, где его уже поджидал Хуан Дарьен. Они сели в шлюпку.
– Вы совершили благороднейший поступок, – сказал Хуан Дарьен. – Адмирал все рассказал мне.
– Какой поступок? – удивился дон Энрике; он никак не думал, что эти люди обратят внимание на то, что он сделал для доньи Марины.
– Ну как же! Добиваться свободы для женщины, которая и прежде-то была вашим врагом – не знаю точно, по какой причине, – и теперь продолжает свои козни против вас.
– Что делать. Она попала в беду, надо помочь.
– Может, вы еще не знаете всего.
– А именно?
– Она сказала, что, проникнув в город, вы донесли губернатору о нашей высадке на берег.
– А что же вы?..
– Адмирал, зная вас, только посмеялся, а я, признаюсь, лег в дрейф и пошел за этой капитаншей.
– Неужто она рассказывала обо мне такие вещи?
– При этом она уверяла, что ваше настоящее имя…
– Ну, договаривайте.
– Дон Энрике Руис де Мендилуэта.
Дон Энрике побледнел; ему стало не по себе при мысли, что благородное имя его предков будет произноситься в среде пиратов.
– Это правда? – спросил Хуан Дарьен.
– Я никому не даю права копаться в тайнах моей жизни, разве что жизнь мне уж очень прискучит. Для вас и всех остальных я здесь Антонио, охотник, известный под кличкой Железная Рука. Таково мое прозвище, оно дано мне не зря, и никому не советую проверять, заслужил ли я его.
Дон Энрике говорил твердо и решительно; его слова звучали грозным предостережением. Хуан Дарьен это понял.
– Вы правы, – сказал он, – в нашей среде тайны священны, а любопытство непростительно. Малейшая неосторожность – и погибла вся оснастка. Так покинем же эти воды и возьмем другой курс. Готово. Я дорожу вашей дружбой.
– Я тоже. Мне по душе ваша смелость и откровенность.
Дон Энрике протянул руку, и Хуан Дарьен с жаром пожал ее.
Тут шлюпка подошла к «Венере», и оба они легко поднялись по трапу на борт. Немедленно был дан сигнал к отплытию: на флагмане показался белый дымок, грянул пушечный выстрел.
– Пойдем ко мне и выпьем по стакану вина за благополучное путешествие, – предложил Хуан Дарьен.
– Сейчас, но сперва я хочу увидеть то, что меня интересует.
– Ага, освобождение вашей подопечной! Так я жду вас внизу. Золотое у вас сердце.
Хуан Дарьен сошел вниз, а дон Энрике остался на палубе.
Едва прогремел пушечный выстрел, как от берега отделилась шлюпка с шестью могучими гребцами и, словно летя над поверхностью океана, устремилась к флагману. С борта спустили трап, по которому сошла дама, встреченная гребцами с глубокой почтительностью.
Шлюпка с той же стремительностью вернулась в порт, где ее поджидал дон Диего, окруженный женщинами.
Флотилия Моргана при попутном ветре уже легко скользила по океану.
Корабль удалялся, но дон Энрике не отрывал глаз от берега. Там происходило нечто непонятное. Лодка подошла к причалу, дон Диего, открыв объятия, бросился навстречу вышедшей женщине, но вместо того, чтобы нежно прижать ее к груди, как того ожидал дон Энрике, в ужасе попятился, а освобожденная пленница без чувств упала на руки подоспевших женщин.
Дон Диего стремительно бросился к океану, но гребцы удержали его, и между ними завязалась отчаянная борьба. Дону Энрике не удалось увидеть развязки, ибо мачты ближайшего корабля заслонили на время землю. Когда же берег снова открылся перед его глазами, судно было уже далеко в море.
Что произошло? Чем объяснить эту непонятную сцену? Дон Энрике терялся в догадках.
– Антонио, – донесся до него голос пирата из Кампече, – вряд ли вы еще можете различить что-либо на суше. Пойдемте и выпьем за благополучное плавание.
Дон Энрике задумчиво последовал за Хуаном Дарьеном.
– Я вижу, – сказал тот, – все это здорово вас взволновало, пожалуй, зря вы ее отпустили. Черт подери, такой человек, как вы, заслуживает женской любви. Клянусь, на вашем месте я взял бы пример с адмирала.
– А как поступил адмирал?
– Очень просто: подхватил на суше газель, которой цены нет. Что перед ней наша «Венера» со всей своей добычей из Портобело! Красавица, да и только! Глаза как два солнца…
– Впервые слышу.
– Да она ведь здесь, на борту, ее подарили адмиралу наши ребята.
– Как вы сказали? – испуганно переспросил дон Энрике, предчувствуя беду.
– А вы разве не слыхали, что эту женщину притащили сюда на носилках для адмирала?
– Слыхал, но ведь она вернулась на берег.
– Боюсь, дружище, вы потеряли компас. На берег сошла та, что попала к нам в плен, когда мы высадились в бухте близ Портобело. Она нам тут невесть что наплела о вас.
– Кто, донья Ана?
– Не знаю, как ее зовут, только она не адмиральская газель.
– А где же та, другая?
– Та здесь. Идемте, взгляните на нее.
В смятении, ничего не понимая, дон Энрике пошел следом за Хуаном Дарьеном и внезапно очутился перед женщиной, сидевшей неподалеку в кресле; занятый другими мыслями, он не заметил ее раньше.
– Донья Марина! – воскликнул юноша.
– Дон Энрике! – крикнула женщина, узнавшая его.
– Попутного ветра! – пожелал им Хуан Дарьен. – Как видно, нашему молодцу знакомы все знамена противника.
Оставив дона Энрике наедине с дамой, Хуан Дарьен отошел, напевая с детства знакомую песенку.
Дон Диего с лихорадочным нетерпением ждал минуты, когда флотилия пиратов выйдет наконец в море. На его глазах закончились последние сборы, и от берега отошли последние шлюпки с людьми. У причала стояла наготове лодка с гребцами в ожидании сигнала.
Наконец на флагмане грянул долгожданный пушечный выстрел. Нанятая доном Диего лодка устремилась по волнам к пиратскому судну, чтобы вернуть дону Диего честь и счастье его жизни.
Дон Диего стоял, окруженный женщинами, и напряженно следил за каждым взмахом весел на лодке. Он трепетал при мысли, что Морган в последнюю минуту передумает, не сдержит своего слова и велит потопить лодку вместе с доньей Мариной. На благородство пиратов, рассуждал дон Диего, надеяться нечего.
Женщины на берегу разделяли эти муки томительного ожидания, никто не решался произнести ни слова.
– Лодка причалила! – сказал Индиано.
– Спускают трап, – добавила одна из женщин.
– А вот и донья Марина, – подхватили остальные, увидев, что с корабля в лодку сошла женщина.
Лодка повернула назад, дон Диего готов был лететь ей навстречу.
Наконец она причалила, женщина под вуалью прыгнула на песок. Дон Диего, раскрыв объятия, кинулся к ней навстречу и вдруг отпрянул с горестным криком. Он узнал донью Ану.
– Это не моя жена, нет, нет! Меня обманули! Надо мной насмеялись! – кричал он. – Негодяи!
– А донья Марина? – спросили перепуганную донью Ану женщины.
– Кажется, она на другом судне, – ответила та.
– Лучше смерть! – воскликнул дон Диего и бросился к океану.
Гребцы угадали его намерение, и не успел он добежать до берега, как они схватили его.
– Пустите, дайте мне умереть! – кричал Индиано. – Марина, моя жена, наложница пирата! Дайте же мне умереть, если вы не такие же низкие люди, как те!
Но тщетно рвался дон Диего из крепких рук гребцов.
Тем временем донья Ана обратилась к женщинам:
– Вы что-нибудь знаете о доне Кристобале де Эстрада?
– Он погиб в бою, – услышала она в ответ.
Вскрикнув, донья Ана упала без чувств.
Дон Диего утих и в мрачном молчании выслушивал уговоры женщин.
Донья Ана, придя в себя, взглянула на дона Диего, потом склонилась к его ногам и прошептала:
– Я так одинока. Будьте мне отцом, братом, защитником. Сохраните вашу жизнь ради дочери. И ради мщения!
Взглянув на нее, дон Диего воскликнул:
– Да, я буду жить, и мы отомстим!
XIII. НА БОРТУ КОРАБЛЯ
В донье Марине трудно было узнать наивную девушку, с которой мы познакомились в столице Новой Испании в те времена, когда она выражалась поэтическим языком патриархальных обитателей Мексики. Выйдя замуж, она в своем новом положении знатной дамы быстро освоила все тонкости европейской цивилизации.
При виде доньи Марины рой ужасных мыслей закружился в голове дона Энрике. Несомненно, дон Диего сочтет себя умышленно обманутым и припишет дону Энрике этотковарный заговор; таким образом, благородный поступок, которым гордился юноша, превратится в воображении дона Диего в постыдный и низкий обман.
– Итак, вы отомщены, дон Энрике, – прервала наконец тягостное молчание донья Марина.
– Сеньора, – ответил юноша, и голос его дрогнул. – Клянусь богом, я не способен на такой гнусный поступок.
– Но чем же объяснить ваше присутствие среди этих людей, мой плен и те козни, которые – я чувствую – плетутся вокруг меня?
– Сеньора, все говорит против меня. Но бог мне свидетель, что все произошло помимо моей воли, и вы можете рассчитывать на мою помощь.
– На что мне теперь ваша помощь? Дон Диего погиб, дочь потеряна…
– Вы ошибаетесь, сеньора; дон Диего жив и разыскал свою дочь…
– Дон Диего жив? И дочь моя жива?! – воскликнула, поднимаясь, донья Марина. – Ах, прошу вас, повторите еще раз эти слова. Но не надо меня обманывать, не надо.
– Дон Диего жив; я говорил с ним и от него знаю, что ваша дочь тоже жива.
– Так почему же вы были так жестоки и скрыли от него, где я нахожусь?
– Сеньора, судьба нас преследует, она зло насмеялась над нами. Я обещал вашему супругу добиться вашего освобождения, вернуть ему вас. Мне удалось уговорить Моргана отпустить вас; но по какой-то роковой ошибке, которая до сих пор остается для меня загадкой, другая женщина, пленница с флагманского корабля, была освобождена вместо вас.
– Боже мой! Что же теперь будет?
– С борта нашего судна я наблюдал сцену, происшедшую на берегу между этой женщиной и вашим супругом: он бросился к ней навстречу, уверенный, что это вы…
– Несчастный!
– Понимаете ли вы, сеньора, весь ужас происшедшего? Дон Диего, конечно, решил, – и не без оснований: ибо все говорит против меня, – что я обманул его, что я сыграл с ним злую шутку, а я, я готов был своей жизнью заплатить за вашу свободу…
– Разве вы больше не враг дону Диего?
– Нет, нет, не думайте, донья Марина, что я могу забыть нанесенное мне жестокое оскорбление. Помните, какую шутку сыграл со мною ваш супруг в тот злополучный для меня день, когда вы давали бал в честь вице-короля? По милости дона Диего я потерял родину, имя – все в жизни.
– Дон Энрике, как беспощадны ваши упреки в такое невыносимо тягостное для меня время.
– Сеньора, это не упреки, с моей стороны было бы слишком не по-рыцарски упрекать вас. Я только хотел сказать, что еще не рассчитался с вашим супругом; но этот долг чести я взыщу с него в другое время, а теперь, когда над вами и над ним нависла беда, вы можете всецело рассчитывать на мою поддержку и помощь. Слава богу, я оказался в трудную минуту поблизости от вас, и я вас спасу, хотя бы ценой собственной жизни.
– У вас поистине золотое сердце.
– Нет, нет, сеньора, это не так, я просто не могу идти против своей совести.
– Скажите, вам известно, с каким намерением меня привели сюда?
– Да, сеньора.
– Итак, я во власти Моргана. Он надеется превратить меня в свою любовницу, в игрушку своих страстей. О, этот человек готов на все, лишь бы удовлетворить свои низкие желания. Когда меня на носилках принесли в его дом, я поняла, что настал мой последний час. Страха во мне не было, я считала дона Диего погибшим, мою малютку Леонору навсегда для меня потерянной, и я приготовилась умереть. Смотрите.
Донья Марина выхватила из-за корсажа маленький кинжал с золотой рукояткой.
– Этот кинжал, – продолжала она, – отравлен; яд приготовлен из сока растений, известных лишь нам, коренным обитателям Нового Света. Смерть наступает мгновенно. Я хотела умереть, потому что ни на что больше не надеялась. Но теперь я хочу жить, жить ради дочери и мужа. Не правда ли, я должна жить?
– Конечно, вы должны жить, сеньора.
– Но мне придется вести жестокую борьбу каждый день, каждый час, каждый миг. Преодолеть страх, страдания, устоять против силы, соблазна, может быть, против самой смерти.
– Это верно. Вас ждут суровые испытания.
– Я ничего не страшусь, если вы обещаете помочь мне.
– Я помогу вам, сеньора, хотя бы мне это стоило жизни.
– Тогда у меня хватит сил выдержать все. Мне надо знать, что кто-то поддерживает меня, разделяет мои страдания, а если мне придется умереть, расскажет дону Диего и Леоноре, на какие муки я пошла ради них.
– Так будьте мужественны до конца, сеньора.
– Вы думаете, что у меня недостанет сил, что я уступлю?
– Никогда. Я только опасаюсь, что в минуту отчаяния вы обратите против себя это страшное оружие.
– Вы правы, – сказала донья Марина и кинула кинжал в волны.
– Что вы сделали! – воскликнул дон Энрике.
– Кто знает, пожалуй, я не выдержала бы испытания и покончила бы с собой. А я хочу жить, жить. У меня должно хватить сил, а если я не выдержу, значит, борьба оказалась неравной. Но я не покончу с собой, нет.
– Положитесь на провидение, донья Марина, оно даст вам силы, и, наконец, доверьтесь мне, я буду вашей поддержкой.
– Бог свидетель вашего обещания!
– И я исполню его.
Подошедший в этот момент Хуан Дарьен прервал их разговор.
– Будь я проклят, если вам не знакомы все женщины этой страны, – сказал он. – Вы с таким жаром ведете беседу, словно вас связывают с сеньорой необыкновенно важные дела.
– Эта дама, – ответил дон Энрике, – супруга моего близкого друга, вот почему я принимаю в ней участие.
– Совершенно верно, – подтвердила донья Марина, несколько успокоенная после разговора с доном Энрике, – сеньор – друг моего мужа.
– Я хочу добиться ее освобождения, – сказал дон Энрике, – и надеюсь на вашу дружескую помощь.
– Боюсь, что тут вы потерпите поражение: сердце адмирала основательно село на мель или, вернее, пошло ко дну из-за этих черных глаз. Не так-то просто снова поднять его на воду.
– Но мы все же попытаемся, правда? – сказал Энрике.
– Что ж, я готов, но ежели адмирал ляжет в дрейф и даст бортовой залп по нашей посудине, мы как пить дать пойдем ко дну…
– Кто знает, может, он уже позабыл о сеньоре, раз до сих пор не удосужился за ней прислать.
– И не надейтесь, вот увидите, скоро он сам за ней явится.
– Надеюсь на бога и на вашу помощь.
Флотилии предстояло подойти к берегу, чтобы получить контрибуцию от губернатора Панамы.
Объясним, почему испанский губернатор посылал пирату так называемую военную дань.
Когда Морган овладел городом Портобело, он отрядил в Панаму двух пленных, наказав им собрать выкуп в сто тысяч реалов, в противном случае пират грозился сжечь Панаму дотла.
Узнав о высадке пиратов, губернатор Панамы немедля выступил с войсками в поход; он надеялся, что гарнизон отстоит крепость, а его помощь сведется к преследованию и разгрому отступающего противника; вместо этого люди Моргана преградили ему путь в горном ущелье.
Разъяренный губернатор пригрозил пирату беспощадной войной, но пират лишь посмеялся над его угрозами и продолжал настаивать на уплате ста тысяч реалов, которые по тем временам назывались «военной данью».
Торговцы и землевладельцы сложились, чтобы откупиться от Моргана. Деньги договорились вручить пиратам на побережье.
Дул попутный ветер, и вскоре после полудня пиратская флотилия достигла назначенного места; посланцы адмирала подошли на шлюпке к берегу, чтобы получить обещанный выкуп.
Тем временем Морган на другой шлюпке отправился на «Венеру» за своей пленницей.
Донья Марина решила проявить на первых порах покорность. Для победы над пиратом надо было вооружиться не только силой духа, но и хитростью. В ее положении, кроме мужества, требовалась осмотрительность, от обороны ей предстояло со временем перейти к наступлению.
Она задумала, не прибегая к крайностям, приобрести власть над сердцем этого человека, а чтобы добиться такой власти, нужно было внушить ему то глубокое и чистое чувство, ту истинную любовь, которая возвышает душу и торжествует над плотским вожделением.
Удастся ли ей победить? Сердце подсказывало, что такая победа возможна, но разум напоминал, что она решительно ничего не знает ни о прежней жизни пирата, ни об его нраве. Донья Марина захотела очистить душу пирата, подготовить ее к жертве, зажечь в ней пламя той высокой страсти, которая приводит к самоотречению; она задумала очистительным огнем облагородить сердце Моргана, превратить его греховные намерения в добродетельные.
– Подошла шлюпка адмирала, – сказал дон Энрике, – как прикажете мне поступить, сеньора? Желаете ли вы, чтобы я поговорил с ним?
– Нет, дон Энрике, – спокойно ответила донья Марина, – предоставьте все мне, у меня есть план. Что бы вы ни услыхали, ничему не верьте и не сомневайтесь во мне. Не судите по внешним обстоятельствам, не покидайте меня, будьте настороже. Если услышите, что против меня замышляется зло, сообщите мне. Вот и все. Когда мне понадобится ваша помощь, я позову вас; а пока сделайте вид, будто моя участь вам совсем безразлична. Но главное, еще раз прошу, – не доверяйтесь видимости и не судите меня по ней.
Морган был уже на борту «Венеры» и в сопровождении Хуана Дарьена направлялся к Марине.
Молодая женщина сняла с себя все драгоценности, которыми ее украсили в ту злополучную ночь, и постаралась придать своему наряду как можно более простой и скромный вид.
– Бог да хранит вас, красавица, – сказал Морган, протягивая ей руку, – я пришел, чтобы проводить вас на мой корабль, где вы будете жить королевой.
– Сеньор, – ответила донья Марина, – близ вас я могу быть лишь вашей рабыней. Я ваша пленница, ваша военная добыча, располагайте же мною по своей прихоти; если желаете, можете бросить меня за борт, как негодный груз, – я целиком в вашей власти.
Морган с восхищением внимал словам доньи Марины; ее красота заворожила его, кроткий и нежный голос, исполненный печальной покорности, пробудил в его сердце неведомое дотоле чувство.
Еще ни к одной женщине в мире пират не испытывал этой робкой почтительности, которая не позволяла ему ни обнять ее, ни приказать ей следовать за ним.
Такое явление можно наблюдать часто: самый суровый и беспощадный человек, чье закаленное сердце бесстрашно встретит любую опасность, чье мужество не дрогнет даже перед смертельной угрозой, легче других поддается очарованию и власти любви. Близ слабой женщины он вдруг робеет, превращается в безвольного ребенка.
Донья Марина разгадала, что происходит в душе пирата, но не захотела воспользоваться своим мгновенным торжеством, таившим в себе тем больше опасности, чем покорнее казался адмирал в эту минуту.
– Приказывайте, сеньор, – сказала она, – я готова, как послушная рабыня, последовать за вами.
– Следуйте за мной, сеньора, – ответил Морган, – но не как рабыня, нет, а как моя владычица и королева.
Пираты, приспешники Моргана, почтительно стояли в стороне, предоставляя адмиралу на свободе беседовать с его пленницей; когда же донья Марина встала и оперлась на руку адмирала, все приблизились. Морган бережно подвел донью Марину к трапу и помог ей спуститься в шлюпку.
Дон Энрике украдкой наблюдал за всем происходившим. Проводив шлюпку долгим взглядом, он беззвучно прошептал:
– Кто разгадает сердце женщины?
Поднявшись на флагман, донья Марина призвала к себе на помощь небо:
– Господи, не оставь меня своим милосердием!
XIV. ПОЕДИНОК
Донья Марина произвела на Моргана чарующее впечатление; каждое слово, каждое движение молодой женщины таило в себе особую прелесть, он больше ни о чем не думал, только о ней, и чувствовал себя ее счастливым обладателем.
Человеку непреклонной, железной воли в голову не приходило, что хрупкая женщина задумала отстоять себя одна, своими слабыми силами, на том самом корабле, где слово адмирала было законом для всех, где под его взглядом, бывало, бледнели испытанные судьбой искатели приключений.
Меньше всего Морган ожидал встретить сопротивление со стороны доньи Марины, но именно за эту мысль, как за спасительный якорь, ухватилась молодая женщина.
Морган и донья Марина поднялись на флагман.
Стоял тихий день, легкий ветер веял над океаном, освежая знойный берег своим ласковым дыханием. Солнце закатилось за горы, окрасив пылающим отблеском облака на горизонте.
Влюбленный пират впервые чувствовал себя поэтом. Моряк, для которого тучи, солнце и небо были всего лишь вестниками надвигающейся бури или благоприятного ветра, вдруг увидел несказанную красоту перламутровых облаков и темневших на горизонте горных вершин.
Стоя рядом с доньей Мариной, он не решался с ней заговорить; наконец, сделав огромное усилие и преодолев робость, которая была ему внове, он обратился к донье Марине. Она молча слушала его.
– Сеньора, – начал Морган, – можете ли вы объяснить, что со мной происходит? Стоило мне увидеть вас, и меня точно огнем обожгло. С тех пор как вы со мной, все вокруг стало таким прекрасным. Таких женщин, как вы, я еще не встречал в жизни. Ваши глаза сводят меня с ума. Стоит мне нечаянно коснуться вашей руки, как меня охватывает странная дрожь. Я хочу обнять вас и не решаюсь, робею перед вами, как мальчик. Толкуют, будто вы, женщины Нового Света, владеете приворотными средствами, они помогают вам привлекать мужчин; вы порабощаете волю, сердце, внушаете страсть, убиваете своей любовью. Уж не околдовали ли вы меня в самом деле? Почему я так внезапно полюбил вас и так нерешителен с вами? Почему я испытываю к вам то, что мне не доводилось испытывать ни к одной женщине?
– Сеньор, женщины на моей родине вызывают любовь мужчин блеском своих темных глаз и пламенным взором, но больше всего своей любовью; наша любовь сильна, как любовь девственной могучей природы; но наши мужчины тоже любят нас так, как не умеют любить ни в одной стране, вот отчего они получают в любви высшее наслаждение: они ждут, пока душа женщины не будет охвачена истинной страстью, не смешивая желание с любовью, ибо у нас на родине душа сочетается с душой не ради минутного забвения и не за тем, чтобы утолить мгновенное желание, но для того, чтобы создать вечные и нерушимые узы, которые крепнут с каждым днем все больше и больше. Нам не надо ни колдовства, ни амулетов; нам нужна лишь любовь, настоящая любовь.
– Сеньора, – ответил Морган, – прекрасные женщины всех стран всходили на мой корабль, чтобы подарить меня своей любовью, но я еще никогда не чувствовал к ним такого влечения, как к вам. Если вы и впрямь не прибегали к колдовству, то чем объяснить мое чувство к вам?
– Адмирал! – воскликнула донья Марина. – Верите ли вы в бога?
Морган был ошеломлен таким неожиданным вопросом, который, казалось ему, совсем не вязался с их беседой.
– Скажите, – настаивала донья Марина, – верите ли вы в бога?
– В бога?
– Да, во всемогущего творца, который поднимает и успокаивает бури в морских просторах, проникает своим оком в недра земли и в тайники нашего сердца. Верите ли вы в бога?
– Да разве моряк, живущий среди волн, ветров и бурь, может не верить в бога? Конечно, верю, сеньора, но почему вы об этом спрашиваете?
– Я вас спрашиваю, ибо бог и только бог мог внушить вам уважение ко мне и обуздать страсть, сжигающую ваше сердце. Тот, кто с высоты взирает на все мои беды, посеял в вашей душе семена моего спасения.
– Вы хотите этим сказать, сеньора, что никогда не полюбите меня? И никогда по доброй воле не будете моей?
– Я хочу этим сказать, сеньор, что вы можете познать счастье, лишь заслужив мое ответное чувство, а не бросив меня к своим ногам, как рабыню, купленную на невольничьем рынке; это значит, что вы должны нежностью завоевать мое сердце и не искать во мне забавы для вашей мгновенно вспыхнувшей страсти; это значит, что вы должны поднять меня до любви к вам, а не унизить, превратив меня из женщины в рабыню; это означает, наконец, что вы впервые в жизни испытаете ту высшую духовную радость, которой вы доселе не знали, ту возвышенную любовь, которая все очищает и заставляет отказаться от оскверняющего душу сластолюбия.
– А вы полюбите меня этой любовью?
– Возможно. У вас большое благородное сердце, слава о ваших подвигах гремит повсюду, и, если бы вы, сеньор, полюбили меня так, как я того желаю, я боготворила бы вас.
– Я не знаю большего счастья! – воскликнул Морган, обнимая донью Марину и пытаясь поцеловать ее.
– Вы хотите, чтобы это случилось так скоро? – спросила она, мягко освобождаясь из его объятий. – Могу ли я так скоро полюбить вас? Могу ли по доброй воле, из любви согласиться принадлежать вам? О, повремените, повремените! Овладейте сперва моим сердцем, зажгите пламя любви в моей душе. Поверьте, наслаждение, ожидающее вас, вознаградит вас за ту небольшую жертву, которой я требую.
– Но, сеньора, моя душа пылает, мое сердце рвется из груди, каждая минута мне кажется вечностью, я страдаю…
– Тогда приказывайте. Я ваша раба, ваша покорная пленница. Но не ищите во мне женщину, в упоении любви отвечающую на ваши ласки; не ждите, что наши души сольются воедино; не надейтесь услышать из моих уст волшебные слова нежности; не ждите, что я назову вас «моя любовь», «моя радость», нет! Я готова на эту муку, но вы не услышите от вашей жертвы ничего, кроме горького стона и мольбы к богу покарать жестокого палача. Вы найдете во мне униженную, оскорбленную, растоптанную женщину, проклинающую и ненавидящую вас всеми силами своей души за то, что вы овладели ею силой… Выбирайте, сеньор, вы – господин, я – раба.
– Сеньора! – воскликнул Морган, поднимаясь. – Вы не раба. Я не могу спокойно слушать эти слова, которых мне еще никто не говорил. Вы открыли передо мной небо, так неужто я сам закрою перед собой его врата? Я буду ждать и сделаю все, чтобы завоевать вас. Вы полюбите меня?
– Научитесь терпению, сеньор, если желаете найти во мне женщину, а не рабыню.
Тут к борту флагмана подошла шлюпка, вернувшаяся с берега.
– Сеньора, – сказал Морган, – я покидаю вас с надеждой завоевать ваше сердце.
– Храни вас бог. Я чувствую, что могу всей душой полюбить вас.
Донья Марина с достоинством протянула пирату руку, и тот, почтительно поцеловав кончики ее пальцев, удалился, взволнованный.
– Боже, благодарю тебя! – сказала донья Марина, поднимая глаза к небу. – Еще раз благодарю тебя. Ты не покинул меня.
Флотилия снова вышла в море, унося с собой богатую «военную дань». Пираты держали курс на Ямайку, но по пути зашли на Кубу.
Морган с каждым днем все больше влюблялся в донью Марину, и каждый день молодой женщине приходилось снова и снова давать бой пирату. Этот человек, не знавший в жизни ни помех, ни преград, тщетно добивался любви индианки; случалось, на него находили приступы ярости, и тогда он был способен на все, лишь бы покончить с той ролью, которую навязала ему молодая женщина. Но одно слово, один ласковый взгляд доньи Марины – и мятежное сердце пирата снова смирялось.
Морган чувствовал себя пленным львом, попавшим в шелковые сети.
По счастью для Марины, прибытие кораблей сперва на Кубу, потом на Ямайку, раздел добычи между участниками осады Портобело, расплата с английскими купцами на Ямайке и новые планы нападения на Маракайбо так сильно занимали адмирала, что у него едва хватало времени на любовь.
Когда в промежутках между неотложными делами Морган спешил к своей прекрасной пленнице, он неизменно встречал такой ласковый и дружелюбный прием, что чувствовал себя обезоруженным.
В свободные минуты Морган взволнованно слушал проникновенные рассказы молодой женщины о пережитых ею бедах, о родине и детстве, и, бывало, с отеческой нежностью ласково гладил ее руки.
Так понемногу пират привыкал видеть в Марине свою дочь. Однажды при прощании она почтительно поцеловала руку пирата и тихонько шепнула:
– Покойной ночи, мой отец!
Морган быстро заглянул в глаза доньи Марины – они были влажны от слез.
– Ваш отец? Вы называете меня отцом?
– Да, сеньор, и простите, если я этим словом задела вас. Но вы так добры ко мне, так ласково и благородно ко мне относитесь, что я привыкла видеть в вас моего защитника и отца, мою опору во всех бедах. Это оскорбляет вас?
– Нисколько, дочь моя! – растроганно ответил адмирал. – Нисколько! Сам не понимаю, что со мной творится. Я полюбил вас с первого взгляда и мечтал насладиться полным счастьем, как с одной из многих женщин, встречавшихся на моем пути. Но вот вы заговорили со мной, и в моей душе родилось желание завоевать ваше сердце. Шли дни, и страсть сменилась жалостью к вам, такой хрупкой и одинокой. Мне стало жаль вас, Марина, я понял, что вы боитесь меня, и вместо страсти появилась нежность. Я все еще люблю вас, моя плоть возмущается против моего духа, но я уже достаточно владею собой, чтобы почитать вас. Вы назвали меня вашим отцом и обезоружили меня. Донья Марина, вы будете для меня дочерью, я обещаю вам. Голубка, ищущая спасения под орлиным крылом, ты нашла верный приют! Ради тебя у меня достанет сил стать благородным и великодушным. Но будь осторожна в своих словах и поступках, ведь если я снова воспламенюсь, мне не удастся больше овладеть собой и тогда – горе тебе!
С возгласом радости донья Марина склонилась к ногам адмирала, растроганно повторяя:
– Отец мой! Отец мой!
XV. РЕВНОСТЬ ЛЬВА
С этого дня жизнь доньи Марины на корабле стала легче, отношения с Морганом теснее и проще.
Она рассказала ему, что в Портобело у нее осталась дочь, что муж тяжело переносит их разлуку и, может, еще надеется увидеться с женой, а может быть, считает ее навсегда для себя потерянной.
– Ты очень любишь свою дочурку? – спросил Морган.
– Сеньор, – ответила Марина, – я не в силах передать вам, как велика материнская любовь и как крепки священные узы, связывающие мать с ребенком. Ах, когда вы увидите мою Леонору, – а я надеюсь, что такой день настанет, – вы глазам своим не поверите – до того она мила и хороша собой! Я так ясно вижу ее рядом с нами! Я научу ее называть вас дедушкой, ведь вы мне настоящий отец; она взберется к вам на колени, станет играть эфесом вашей шпаги, цепочкой ваших часов, будет дергать вас за усы, за бороду. Я велю ей не приставать к вам, а вы станете меня бранить, – ведь в конце концов вы полюбите малышку больше, чем меня, вы разрешите ей делать все, что ей вздумается, и будете смеяться, глядя на прелестного невинного ребенка.
Пират растроганно усмехался: ему рисовалась картина неведомых дотоле радостей. Он был еще молод, но в его сердце, отданном во власть бурных, жгучих страстей, порой закрадывалась тоска по мирным утехам зрелого возраста.
Морган никогда не знал семьи; неожиданная мысль о дочери и внучке пришлась ему по душе. Он живо представлял себе все, о чем говорила донья Марина.
– А ты думаешь, девчурка крепко полюбит меня?
– Да Леонора полюбит вас больше, чем папу с мамой! Она будет хохотать и бить в ладоши, слушая, как ворчит старый моряк, перед которым трепещут его матросы, и ни чуточки не будет бояться своего милого дедушку. Ну, скажите – моя маленькая внучка, – весело произнесла Марина и ласково дернула пирата за бороду, словно он и в самом деле был ее родным отцом.
Морган поцеловал ее точеную руку и сказал:
– Ладно, – моя внучка. Право, ты делаешь со мной все, что захочешь; мы начали с того, что я добивался твоей любви, а кончили тем, что ты превратила меня в своего отца и в дедушку своей дочери, и вообще делаешь со мной все, что тебе вздумается.
– Но признайтесь, что вы счастливы и что я доставила вам радости, которых вы до сих пор не знали.
– Возможно, дочь моя.
– Послушайте, сеньор, допустим, я согласилась бы стать вашей возлюбленной. Что получилось бы из этого? Еще одна женщина среди сотни других, которые доставили вам наслаждение, презренная женщина, быстро и навсегда позабытая вами после минутного опьянения. А теперь разве вы забудете меня? Разве смешаете мое имя с именами множества других женщин? И разве мои проклятья и слезы не присоединились бы к горестным стонам множества других женщин, к их слезам, которые по ночам тревожат ваш сон? С опустошенным сердцем вы равнодушно высадили бы меня где-нибудь на Кубе или Ямайке. А я, я была бы навсегда погибшей женщиной, и мне не осталось бы иного выхода, как предложить себя вашим морякам. Да, я сделалась бы проституткой, и, если бы смерть не сжалилась надо мной в молодости, мне пришлось бы на закате жизни нищенствовать, чтобы добыть себе пропитание. Моя дочь не знала бы своей несчастной матери и тоже проклинала бы вас. Ведь верно?
– Верно, – согласился пират, помрачнев; ему вспомнились другие женщины, которых по его вине постигла эта жалкая участь.
– А вместо всего этого я вас люблю и благословляю, как моего отца и спасителя; моя дочь станет вашей внучкой; сердце ваше переполнено чувством нежности, доселе вам незнакомой; вы испытываете блаженное и чистое счастье, которое нельзя купить ни за какие сокровища земные, – его может дать душе лишь добрый поступок. Не правда ли, вы довольны собой?
– Да, дочь моя, да.
– Одной возлюбленной меньше, сеньор, вот и все. Правда, она показалась вам сперва прекрасной, но, овладев ею, вы быстро пресытились бы доступной любовью. Взамен этого вы приобрели целую семью.
– Что верно, то верно, – подтвердил растроганный Морган.
Он уже, казалось, примирился с ролью нежного отца Марины.
Меж тем дону Энрике лишь редко, да и то издалека удавалось видеть молодую женщину; но он знал, что она весела и довольна, а кроме того, она не призывала его на помощь, и юноша мог предположить одно из двух: или пират отказался от своих любовных притязаний, или же Марина удовлетворила их и счастлива.
Сборы пиратов были закончены, флотилия готовилась выйти в море. Адмирал доверил дону Энрике командование «Отважным»; Хуан Дарьен стал вице-адмиралом.
Как-то утром, перед тем как сняться с якоря, дону Энрике понадобилось взойти на флагман, чтобы повидаться с Морганом. Пирата на судне не оказалось; сидя одна на палубе, донья Марина смотрела вдаль.
Дон Энрике подошел к ней.
– О, дон Энрике! – обрадовалась молодая женщина. – Я вас как раз хотела видеть.
– Я очень рад, что невольно угадал ваше желание, сеньора. Чем я могу быть вам полезен?
– О, я просто хотела рассказать вам, что одержала победу и счастлива.
– Вы, счастливы, сеньора?
– Да. У адмирала большое, благородное сердце; он не только пощадил меня, но даже дал мне надежду, что когда мы подойдем к материку, я смогу вернуться к мужу и дочери.
– Сеньора, вы творите чудеса. Поздравляю вас. Для меня это был вопрос чести, я только сожалею, что ничем не мог помочь вам.
– Напротив, вы очень помогли мне, – мысль, что поблизости находится человек, который принимает во мне участие, придала мне мужества.
– Так или иначе, сеньора, я еще раз подтверждаю свое обещание помочь вам.
– Я рассчитываю на вас и в доказательство хочу сообщить вам мой план. Мы будем плыть на разных кораблях, не так ли?
– Да, сеньора.
– Вы на каком идете?
– Я командую «Отважным», отсюда его хорошо видно. Мы его отбили у испанцев; приглядитесь к нему – на носу у него лев с короной.
– Я запомню. Так вот, слушайте: во время плавания постарайтесь держаться поближе к нам и знайте: если я взмахну белым платком, значит, у меня все благополучно, красным – значит, я в опасности, а черным – значит, я в беде.
– Хорошо, я постараюсь идти так, чтобы каждый день получать от вас вести. В знак того, что я вижу вас и понял ваше сообщение, я взмахну белым платком.
– Прекрасно. А теперь ступайте, сейчас здесь будет адмирал.
Морган в самом деле приближался. Дон Энрике отошел, но пират успел заметить, что Энрике ведет оживленный разговор с доньей Мариной.
Ревнивое подозрение необычайно легко вспыхивает в сердце мужчины, вступившего в зрелый возраст; потеряв уверенность в собственных силах, он боится, что любимая женщина найдет себе по сердцу более молодого, и готов в каждом юноше видеть своего счастливого соперника. Он не верит в прочность своей победы, полагая, что женщина согласилась принадлежать ему то ли из страха, то ли из расчета, а втайне любит другого.
Змея ревности ужалила сердце Моргана. Однако ему удалось сдержать себя. Скрывая, что происходит у него в душе, он с улыбкой обратился к дону Энрике:
– Здорово, молодой капитан! Все ли у вас готово?
– Все, – ответил дон Энрике, – моему кораблю не придется завидовать другим судам.
– Значит, вы довольны?
– Даже больше, чем вы можете предположить.
Если человек встревожен, если им безраздельно владеет одна назойливая мысль, всякое случайно оброненное слово приобретает в его глазах особое значение. Когда дон Энрике сказал: «Больше, чем вы можете предположить», – Морган вздрогнул.
– Меня это радует, – ответил он, стараясь сохранить спокойствие, – вы знаете, как я вас люблю.
– Знаю, сеньор, вы для меня отец.
– Как? – помрачнев, воскликнул пират, и в памяти его мгновенно возник недавний разговор с доньей Мариной.
– Это значит, сеньор, что вы благоволите ко мне, как отец.
– Не стоит говорить об этом, – ответил, спохватившись, Морган.
– Прошу прощения, если мои слова задели вас, но я вам так признателен за ваше доброе отношение. Однако мне пора, ведь мы скоро выходим в море.
– Да, ступайте.
Дон Энрике повернулся, чтобы уйти, но адмирал его окликнул. Ему захотелось посмотреть на лица юноши и доньи Марины, когда они будут говорить друг с другом в его присутствии.
– Слушаю сеньор, – сказал, возвращаясь, дон Энрике.
– Я хочу познакомить вас с одной молодой женщиной, если только вы не были с ней знакомы ранее.
– Мне кажется, я говорил вам, что познакомился с ней в Мексике.
«Они знают друг друга и обманывают меня», – подумал Морган, а вслух произнес:
– Так вам тем более следует подойти к ней. Я ее люблю больше, чем родную дочь.
Они направились к донье Марине. Ни Марина, ни Энрике не подозревали, что происходит в эту минуту в душе адмирала.
– Сеньора, – сказал Морган, – этот юноша, который был знаком с вами еще в Мексике, желает с вами проститься.
Донья Марина церемонно поклонилась, дон Энрике учтиво произнес:
– Припадаю к вашим стопам, сеньора. – Потом протянул руку пирату. – Прощайте, сеньор.
– Прощайте, Антонио, – ответил Морган, пожимая руку юноше.
Спускаясь по трапу в шлюпку, дон Энрике подумал:
«Адмирал сегодня печален. Может быть, получены плохие вести?»
А Морган меж тем говорил себе:
«Притворщики! Как все ловко разыграно! Не слишком ли холодное прощанье для двух старых знакомых? Они задумали обмануть меня; но трудно провести старого морского волка!.. Я буду следить за ними. И тогда – горе им!»
Дул попутный ветер, и адмирал отдал приказ выйти в море. В первый вечер плаванья Морган не заметил ничего особенного, хотя ни на минуту не спускал глаз с доньи Марины. Молодая женщина была по-прежнему весела, общительна, и мрачные мысли пирата понемногу рассеялись.
В конце концов он решил, что ошибся, и стал упрекать себя в излишней подозрительности; чтобы загладить свою невольную вину, он удвоил внимание к Марине.
На следующий день, повинуясь команде капитана, «Отважный» подошел так близко к флагману, что можно было переговариваться с одного судна на другое. Дул свежий ветер, небо было ясное, отчетливо различались фигуры людей на палубе.
Морган задумчиво курил и смотрел на Марину, сидевшую невдалеке. Молодая женщина, погруженная в свои мысли, не замечала Моргана.
Внезапно адмирал увидел, как Марина, подняв голову, устремила взгляд по направлению «Отважного»; подозрение вспыхнуло в нем с прежней силой, и он, отойдя, стал украдкой наблюдать, что будет дальше.
Марина огляделась вокруг и, решив, что поблизости никого нет, взмахнула белым платком. Морган так и впился горящим взглядом в «Отважного»: в ответ дон Энрике – пират узнал его – тоже взмахнул белым платком. Итак, они договорились, это, несомненно, был сигнал или по крайней мере приветствие.
Кровь бросилась в голову адмиралу, в глазах потемнело, в ушах загудел ураган; он покачнулся и, чтобы не упасть, ухватился за борт.
Им овладело неодолимое желание с ножом броситься на Марину, заколоть ее, кинуть ее труп в море и, открыв огонь против «Отважного», пустить корабль ко дну со всей его командой; а потом поджечь порох в трюме своего флагмана и взорвать его на воздух.
В один миг Морган превратился в разъяренного тигра, способного на любую жестокость. Но тело не пришло на помощь кровавым замыслам: потрясение оказалось настолько сильным, что он не смог с ним справиться, и после первой безумной вспышки его охватила слабость, глаза затуманились, мысли в голове помутились, он уронил голову на грудь и разрыдался.
Каменное сердце дрогнуло, гнев и ярость уступили место простому человеческому горю, боль оказалась сильнее, чем жажда мести, и слезы хлынули из глаз пирата, спасительные слезы, облегчающие душу в те минуты, когда она переполнена нестерпимым страданием или безграничной радостью. В такой миг даже самый сильный человек может умереть или лишиться рассудка, если у него отнять способность плакать.
Долго еще жгучие слезы струились по обветренному лицу адмирала, в голове не осталось ни одной светлой мысли, сердце было опустошено, мечты разбиты.
Наконец, он гордо вскинул голову, вытер слезы и, тряхнув гривой, как лев, почуявший врага, грозно прорычал:
– А я поверил ей! Она обманывала меня, презренная женщина играла моим сердцем. Но я поступлю с ней, как поступал с другими. Лишь бы мои люди ничего не узнали – то-то была бы для них потеха…
Потом, приняв спокойный вид, он подошел к донье Марине.
Молодая женщина рассеянно смотрела, как волны бьются о борт корабля.
– Марина, – тихо окликнул ее пират.
– Я вас слушаю, отец мой, – спокойно сказала Марина.
– Мне надо поговорить с тобой.
– Я всегда рада вас слушать.
– Знаешь, – начал пират, оглядывая ее жадным взором, – знаешь, я не в силах сдержать данное тебе слово.
– Какое слово?
– Относиться к тебе, как к дочери.
– Боже мой, но почему?! – воскликнула, бледнея, молодая женщина, взволнованная необычным видом адмирала.
– Почему? – переспросил Морган, и глаза его загорелись. – Потому, что твоя красота сводит меня с ума, потому, что я не могу дольше владеть собой и, наконец, я ревную.
– Ревнуете? Но к кому же?
– Ни к кому и ко всем. Я ревную тебя при одной мысли, что вместо меня другой может завладеть твоей любовью. Тогда мне уже будет поздно каяться, что я по собственной вине потерял тебя. Лежа в объятиях другого, ты будешь расточать ему свои ласки и вместе с ним смеяться над моей глупостью.
– Но, сеньор, чего вы можете достичь, раз моя любовь еще не принадлежит вам?
– Марина, на что мне твоя любовь, раз ты будешь моей и я смогу делать с тобой все, что захочу. Не все ли мне равно, отдашься ли ты мне из любви или из страха, будешь ли ты принадлежать мне по доброй воле или уступишь силе. Лишь бы ты стала моей. А когда придет день и ты покинешь мой корабль, тебе уж не удастся посмеяться надо мной. Пресытившись, я расстанусь с тобой и снова почувствую себя свободным. А теперь, пойми, неутоленное желание сжигает меня. Хватит этой пытки, понимаешь? Такова моя воля, и она свершится, я привык к покорности, и горе тебе, если ты вздумаешь противиться моей воле!
Пират был вне себя. Грудь его бурно вздымалась. Гнев, любовь, желание, ревность – все привычные мятежные страсти бушевали в его сердце, отражались в искаженных чертах лица, трепетали в голосе.
– Сеньор, – прошептала перепуганная Марина, – а радость души, а любовь духовная?..
– Молчи, не говори мне об этом. Я понял, что вечная борьба между телом и духом – сущий ад. Такая любовь не дает ничего, кроме горьких сомнений и отчаяния, она сжигает человека, на медленном огне иссушает его сердце. Нет, нет, я не желаю тебя слушать, твои слова – обман, колдовство, отрава. Я чувствую, как пламя пожирает мои внутренности, я должен погасить его наслаждением. Ты будешь моей, как были моими все другие женщины, ты должна успокоить жар, возбужденный твоей красотой.
– Сеньор, ради бога!
– Слышишь, отныне ты моя, я больше не желаю мучиться. Ты будешь… моей возлюбленной, пока не надоешь мне.
– Никогда! – с яростным мужеством воскликнула Марина. – Никогда!
– Никогда, змея? Никогда? Уж не думаешь ли ты, что, ужалив меня в сердце, отравив его своим ядом, ты выскользнешь из моих рук?
– Тысячу раз предпочитаю умереть, чем быть твоей хоть на один миг.
– Это мы еще увидим, высокомерная индианка. Я сумею превратить тебя из гордой орлицы в кроткую голубку. Я тебя заставлю на коленях приползти и умолять меня о любви и ласке. Ты так настрадаешься, что моя любовь станет для тебя желаннее рая. А потом, когда я упьюсь твоей красотой и мне приглянется другая женщина, я брошу тебя на первом же острове, который встретится на нашем пути, и ты слезами омоешь свою вину, свой обман и непокорность.
– Лучше смерть, презренный человек! – воскликнула донья Марина, гордо закинув свою прекрасную голову и гневно сверкая глазами. – Лучше смерть. Если тебе удавалось подчинять твоим низким страстям других женщин, значит, они малодушно страшились смерти. Но я, я навсегда освобожусь от твоего ненавистного присутствия…
С этими словами донья Марина рванулась вперед, чтобы броситься в море; но, прежде чем ей удалось осуществить свое намерение, могучая рука пирата остановила ее.
Завязалась яростная борьба, адмирал с трудом удерживал молодую женщину, – отчаяние удесятерило ее силы.
Морган кликнул на помощь двух матросов.
– Связать и бросить ее в трюм, – приказал рассвирепевший адмирал.
Не прошло и двух минут, как приказ его был выполнен.
XVI. ИСПЫТАНИЕ
С этого дня сердце Моргана ожесточилось. Запертая в грязном трюме, не видя никого, кроме матроса, приносившего ей ломоть хлеба и кружку воды, лишенная свежего воздуха и света, несчастная Марина стойко переносила все страдания.
Трюм кишел огромными крысами, которые чуть ли не из рук вырывали у нее скудную пищу, кусали ее, рвали на ней одежду. Невозможно было даже уснуть; стоило ей прилечь, как омерзительные животные нападали на нее, пробегали по ее лицу и своими холодными лапами приводили в содрогание бедную узницу. Зловонный воздух трюма был для нее не меньшей пыткой.
Так прошла неделя, а Морган ни разу не появился в этой плавучей тюрьме, которая была в тысячу раз ужаснее любой темницы на суше.
Наконец наступил день, когда адмирал решил проведать свою жертву. Полагая, что страдания сломили ее, он спустился вниз.
За эти несколько дней платье молодой женщины превратилось в лохмотья; грязные волосы были всклокочены, лицо побледнело и осунулось, помутившийся взор горел мрачным огнем.
Чувство жалости шевельнулось в сердце пирата, когда он с фонарем в руке вошел в трюм. Донья Марина при виде его забилась в угол, ей стало и страшно и стыдно.
– Надеюсь, ты раскаялась в своем упорстве, не так ли?
Донья Марина не отвечала.
– Говори, – продолжал Морган, – говори, ты раскаялась? Хочешь выйти отсюда?
Молчание вместо ответа.
– Не бойся, подойди. Ты меня больше не привлекаешь, за неделю от твоей красоты не осталось и следа. Повстречайся ты мне такой с самого начала, я не взглянул бы на тебя. Но хоть один день, а ты будешь моей, для меня это вопрос чести, самолюбия; пусть никто не посмеет сказать, что Морган-пират не добился своей цели. Поразмысли, Марина, и согласись. Всего один день, и я отпущу тебя на волю, осыпав золотом. А нет, так останешься в трюме, пока не сгниешь, пока тебя не выкинут за борт. Вместе с тобой я похороню на дне океана тайну своего поражения. Говори, будешь моей?
– Никогда, чудовище! Ступай отсюда прочь, дай мне спокойно умереть, не отравляй своим видом моих последних дней; я горжусь тем, что никогда не была и не буду твоей, умру, проклиная твое имя, и до самой смерти тебя будет грызть досада, что ты так и не овладел мной.
– Марина! Марина! Не искушай моего терпения, берегись моего гнева.
– Твоего гнева? Ты мне не страшен, я презираю тебя. Думаешь, я боюсь смерти? Ошибаешься, пират, гнусный насильник, разбойник, еретик! Убей же меня, убей! Пускай твои трусливые приспешники боятся тебя, пускай они трепещут и бледнеют перед тобой, не смея взглянуть в глаза смерти. Я презираю тебя и бросаю тебе вызов, слышишь! Бросаю тебе вызов, презренный пират!
Адмирал выхватил нож и кинулся на Марину, а та бросилась навстречу и подставила клинку свою обнаженную грудь. Огромным усилием воли адмирал овладел собой и отступил.
– Видишь, видишь! – воскликнула донья Марина, вне себя. – Ты дрожишь, ты не решаешься убить меня. Ведь ты умеешь убивать только трусов, таких же трусов, как ты сам… Ударь меня ножом, я не боюсь тебя, я тебя презираю.
 Пират зарычал и, не в силах долее владеть собой, кинулся прочь из трюма; вдогонку ему раздался громкий смех Марины.
В мрачном молчании пират вышел на палубу; пережитая сцена произвела на него тягостное впечатление.
В тот же день в трюме появились два матроса; без единого слова они вывели донью Марину наверх и заперли в каюте.
Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме прежде, чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу или погибнет на дне океана – не все ли ему равно, лишь бы одержать победу над строптивицей.
Между тем после приступа ярости и отчаяния в сердце Марины проснулось страстное желание бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение. Только крайность заставит ее пойти на самоубийство.
Смерть – последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да, бороться и сохранить жизнь ради дочери, – ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.
Пират зарычал и, не в силах долее владеть собой, кинулся прочь из трюма; вдогонку ему раздался громкий смех Марины.
В мрачном молчании пират вышел на палубу; пережитая сцена произвела на него тягостное впечатление.
В тот же день в трюме появились два матроса; без единого слова они вывели донью Марину наверх и заперли в каюте.
Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме прежде, чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу или погибнет на дне океана – не все ли ему равно, лишь бы одержать победу над строптивицей.
Между тем после приступа ярости и отчаяния в сердце Марины проснулось страстное желание бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение. Только крайность заставит ее пойти на самоубийство.
Смерть – последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да, бороться и сохранить жизнь ради дочери, – ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.
Покидая Ямайку, Морган получил от англичан значительную подмогу в виде корабля с тридцатью шестью пушками; губернатор острова желал обеспечить пирату успешное вторжение в испанские владения на Большой Земле.
Капитан английского корабля, голландец по имени Бинкес, был давнишний друг Моргана. Они вместе выросли. Бинкес был единственным человеком, с которым Морган мог поделиться своим горем. Он рассказал другу все, что произошло между ним и доньей Мариной.
– Ты любишьэту женщину? – спросил Бинкес.
– Не думаю. Но я должен отомстить ей, а главное, я не желаю, чтобы она насмеялась надо мной.
– Ты не мог сладить с ней?
– Нет, это какая-то неукротимая воля.
– Отдай ее мне, я укрощу строптивицу.
– Но…
– Раз ты ее не любишь и до сих пор ничего не смог добиться, отдай ее мне, и посмотрим…
– Но она будет смеяться надо мной, решит, что одержала надо мной верх.
– Послушай, Морган, я не видел этой женщины, но я знаю, ее надо убрать с твоих глаз. Право, из-за нее ты потеряешь свое мужество и несокрушимую отвагу.
– Признаюсь, я последнее время сам не свой.
– Боюсь, однако, что это средство не поможет.
– Какое?
– Передать ее мне.
– Что ж, придется действовать силой.
– Пожалуй, другого выхода нет. Завтра после обеда отправимся вместе к твоей упрямой пленнице, и увидишь, она покорится тебе.
– Ты думаешь?
– Беру все на себя. Мужайся и доверься мне.
После этого разговора Морган заметно оживился и стал с нетерпением ожидать завтрашнего дня. Человек, встречающий на своем пути непреодолимые преграды, всегда надеется на какую-то неведомую таинственную силу, которая придет ему на помощь. Пират решил, что его друг владеет секретом покорять строптивых женщин.
На другое утро английский корабль был расцвечен флагами, на борту его готовились устроить пир в ознаменование предстоящего нападения на город Маракайбо.
Донья Марина, одинокая и отчаявшаяся, сидела под замком в каюте флагмана.
Узнав о жестоких испытаниях, выпавших на долю молодой женщины, дон Энрике стал обдумывать план ее спасения. Он решил воспользоваться отсутствием Моргана, приглашенного на английский корабль, и поговорить с ней.
В самом деле, началось пиршество, и морские разбойники, забыв обо всем на свете, отдались безудержному разгулу. Даже Морган и тот, очутившись среди своих соотечественников, на время отвлекся от мыслей о донье Марине.
Пользуясь случаем, дон Энрике поспешил на флагман, где оставалось всего несколько дежурных; одни из них спали, другие не спускали глаз с палубы английского корабля, и никому не было дела до того, что происходило у них под носом.
Дон Энрике подошел к флагману с противоположного борта таким образом, что корпус корабля прикрывал его от англичан.
Никем не замеченный, он без помехи дошел до каюты, где сидела взаперти пленница адмирала.
– Донья Марина, донья Марина! – прошептал он у двери.
– Кто здесь? – откликнулась слабым голосом молодая женщина.
– Ваш друг. Мне надо поговорить с вами. Подойдите к двери.
– Ах, это вы, дон Энрике?
– Да, меня тревожит ваша судьба.
– Дон Энрике, мне приходится нелегко. Морган обрек меня на страдания, он задумал силой овладеть мной.
– Но что случилось, почему он так изменился к вам?
– Он ревнует.
– Ревнует, но к кому же?
– К вам.
– Ко мне?
– Да, к вам. Он изменился с того дня, как увидел нас вместе. Прежде такой добрый и ласковый, он стал жестоким и беспощадным.
– Вы потеряли всякую надежду укротить его нрав?
– Мне поможет только смерть.
– Не отчаивайтесь. У меня созрел план. Вы будете жить.
– Что вы задумали?
– Бежать.
– Бежать? Но как?
– Я выжидаю случая переправить вас на мой корабль. Мы подымем паруса, тогда пусть гонится за нами хоть вся флотилия Моргана, «Отважный» быстроходнее всех других судов.
– Да услышит вас бог!
– Вместо бога услышал вас я! – прогремел позади дона Энрике чей-то голос.
Юноша быстро обернулся и очутился лицом к лицу с Бинкесом, другом Моргана, и четырьмя английскими матросами.
«Мы пропали!» – сказал себе дон Энрике.
– Нечего сказать, хорош капитан! Замышляет похитить возлюбленную у своего адмирала! – проговорил Бинкес. – Сегодня же будешь висеть на мачте на потеху всей команде. Связать его!
Не успел дон Энрике опомниться, как четверо английских моряков набросились на него и скрутили ему руки веревкой.
– Теперь несите его на расправу к адмиралу. Получит по заслугам.
Моряки потащили дона Энрике с флагмана в шлюпку, меж тем как пораженная команда корабля безмолвствовала, не зная, чем объяснить такое обращение с любимцем их адмирала.
Донья Марина с ужасом прислушивалась к тому, что происходило на палубе, а когда англичане со своим пленником спустились в шлюпку, она упала на колени, моля бога о помощи.
Расскажем наконец, каким образом Бинкес очутился на борту флагмана.
К концу празднества буйное веселье пирующих перешло все границы. То и дело поднимались заздравные тосты, их сопровождали оглушительные залпы из пушек. Подойдя к Моргану, Бинкес сказал:
– Для полноты торжества я сейчас приведу твою строптивицу. Здесь, на глазах у всех, она упадет в твои объятья, чтобы все могли восславить твою победу.
Не ожидая ответа, он велел спустить на воду шлюпку и отправился на борт флагмана.
Мы уже знаем, что, на беду Марины и дона Энрике, ему удалось подслушать их разговор.
Шлюпка с Бинкесом, его пьяными приспешниками и пленным доном Энрике направилась к английскому кораблю. Юноша понял, что настал его последний час. Он знал безудержный нрав Моргана и не сомневался, что тот велит немедленно его повесить.
Шлюпка подошла к борту, и Бинкес в сопровождении трех матросов поднялся по трапу, оставив дона Энрике на попечении всего лишь одного гребца.
– Окажите мне милость, – обратился к нему дон Энрике.
– Какую? – коротко спросил англичанин.
– Развяжите мне руки.
– Чтобы вы бросились в море?
– Слово моряка, что не тронусь с места; веревка врезается мне в тело.
– Так даете слово?
– Даю. – Англичанин развязал руки дону Энрике. – Благодарю вас, – сказал юноша, садясь с ним рядом.
Между тем Бинкес прошел на корму, где Морган вместе со своими соотечественниками без устали провозглашал тост за тостом под грохот пушечных залпов.
– Привез Марину?
– Пока еще нет, но зато приготовил тебе и ей чудесный сюрприз.
– Какой?
– Не скажу, иначе пропадет весь интерес. За мной, – бросил он морякам и пошел на нос корабля. – Поставить здесь славную виселицу для того бездельника, – сказал он.
Матросы живо взялись за дело.
На корме Морган поднял полный бокал:
– За чудесный, неведомый сюрприз!
Снова грянула пушка. Но за пушечным выстрелом неожиданно раздался оглушительный взрыв, и английский корабль, содрогнувшись, взлетел на воздух.
В свое время на носу английских кораблей располагался пороховой склад; от искры последнего пушечного выстрела загорелись колеса лафета, огонь перекинулся на пороховой склад, и над палубой взвился огненный смерч.
Бинкес и все матросы, находившиеся на носу, погибли; спаслись только Морган с тридцатью англичанами, бросившись с кормы в море.
На миг команды всех судов оцепенели от ужаса, потом, опомнившись, поспешили спустить на воду шлюпки. Дон Энрике с помощью англичанина первым подобрал немало пострадавших.
– Надеюсь, вы сохраните в тайне все, что произошло на флагмане, – сказал дон Энрике английскому моряку.
– Видно, богу не угодно, чтобы Моргану стало известно все происшедшее, – ответил англичанин. – Не иначе как по его воле навсегда умолк Бинкес. Я волю божию не нарушу.
– Слово моряка?
– Клянусь.
Морган вернулся на свой корабль, так и не узнав, какой сюрприз готовил ему его незадачливый друг.
Оставаясь в полном неведении, донья Марина дрожала при малейшем шуме и ждала, что к ней вот-вот ворвется взбешенный адмирал.
XVII. БРАНДЕР
Бедствие, постигшее английский корабль, произвело такое тягостное впечатление на адмирала и остальных пиратов, что долго никто не мог думать ни о чем другом; таким образом, бедная Марина на время получила передышку.
Морган со своей флотилией держал курс на Большую Землю и, казалось, совсем забыл о молодой женщине.
Суда подошли к берегу там, где можно было тайно высадиться для набега на Маракайбо. На флагмане осталось всего несколько пиратов, чтобы стеречь пленницу.
Отличительной чертой адмирала была безудержная стремительность при выполнении задуманного. В голове его бурлило и сталкивалось столько различных планов, что порой его принимали за человека непостоянного. На самом деле все это объяснялось иначе. Морган был по натуре искателем приключений; он смело бросал вызов опасностям. Набеги и бои с противником без остатка поглощали его, не оставляя в сердце места ни для любви, ни для дружбы. После одержанной победы он снова с безудержной страстью предавался всем своим обычным забавам.
Увлеченный новыми планами, он оставил в покое донью Марину как раз в тот момент, когда ее упорство довело его до бешенства.
Дон Энрике знал характер адмирала и понял, что наступает подходящий момент для побега. Но, на беду, Морган назначил его командовать высадкой пиратов на берег; накануне боя было просто невозможно заняться подготовкой к побегу.
Казалось, злой дух благоприятствует Моргану, – несмотря на героическое сопротивление испанского гарнизона Маракайбо, пираты овладели городом. Несчастные жители попали в руки беспощадного врага.
Зверства пиратов в Портобело были ничто по сравнению с жесточайшими бедами, которые обрушились на Маракайбо и его окрестности. Если захваченные в плен торговцы отказывались сообщить, где зарыты сокровища, победители подвергали их нестерпимым пыткам.
Один из очевидцев так свидетельствует о страшных событиях:
«Пираты применяли всяческие истязания: били пленников палкой и плетью, закладывали между пальцами пропитанную горючей жидкостью веревку и поджигали ее, а то, повязав вкруг головы веревку, затягивали ее до тех пор, пока у несчастной жертвы глаза не вылезали из орбит. Словом, невинные люди подвергались бесчеловечным, доселе неслыханным страданиям».
Немало пленников погибло в жестоких муках, ибо они ничего не знали о зарытых сокровищах и ничего не могли сообщить. А тех, что с отчаяния давали ложные сведения, тоже умерщвляли, едва обнаружив их ложь. Город превратился в сущий ад. До той поры дон Энрике как следует не знал, что представляют собой пираты, а потому не понимал, почему их ненавидит весь цивилизованный мир.
Он знал лишь по фантастическим легендам об их подвигах и, смешивая понятия отваги и беспощадности, считал, что испанские власти распространяют о пиратах всякие небылицы с досады, что им никак не удается сладить с морскими разбойниками. Но, став очевидцем потрясающих зрелищ в Маракайбо, дон Энрике понял, что ему не место среди этих озверелых людей.
Итак, он твердо решил расстаться с ними, но не раньше, чем вызволит из плена донью Марину. Оставалось выжидать подходящего случая.
Разбойничая на море и на суше, пираты сеяли ужас и отчаяние среди жителей окрестных городов и селений вплоть до Гибралтара.
Ничто не могло устоять против их яростного натиска, в каждом селении они требовали «контрибуцию огня» и сказочно обогащались.
Упоенный победой и богатой добычей, Морган неожиданно получил весть о том, что в бухту Лагон пришла испанская флотилия, преградив пиратам выход в открытое море.
Морган понял, какую грозную опасность таит в себе встреча его суденышек с испанскими высокобортными кораблями. Однако, отнюдь не помышляя о бегстве, неустрашимый пират послал одного из своих пленников-испанцев к адмиралу вражеского флота с требованием уплатить «контрибуцию огня» за город Маракайбо.
История сохранила для потомков ответ на столь дерзкое требование: он гласил следующее:
«Дон Алонсо дель Кампо-и-Эспиноса, адмирал морского флота Испании, Моргану, главарю пиратов.
Прослышав от друзей и соседей наших, что вы дерзнули предпринять враждебные действия против земель, городов, селений и поселков, подвластных его католическому величеству и моему сеньору, я по долгу совести и службы пришел и стал близ укрепленного замка, каковой был сдан вам кучкой презренных трусов, получивших от меня в свое время пушки для защиты города. Я намерен преградить вам выход из Лагона и повсюду преследовать вас, как мне повелевает долг. Однако, ежели вы изъявите покорность и возвратите всю захваченную добычу, рабов и прочих пленных, я разрешу вам безвозбранно выйти в море, дабы вы могли удалиться в свои края. Но ежели вы не примете сей пропозиции, уведомляю, что мною будут вызваны из Каракаса барки, дабы королевские войска, высадившись у Маракайбо, поразили вас всех до единого. Таково мое твердое решение. Проявите благоразумие, не вздумайте упорствовать и черной неблагодарностью ответить на мое милосердие. У меня под командой отличные воины, они жаждут воздать по заслугам вам и вашим приспешникам за все неслыханное зло, содеянное против испанцев в Америке.
Дано на моем королевском корабле «Ла Магдалена», стоящем на якоре при входе в Лагон у Маракайбо, 24 апреля 1669 года.
Дон Алонсо дель Кампо-и-Эспиноса».
Получив это послание, Морган прочел его вслух своим людям на рыночной площади в Маракайбо и спросил, желают ли они возвратить добычу и получить свободный выход в море или намерены вступить в неравный бой.
В ответ раздался оглушительный рев, – пираты поклялись, что предпочитают тысячу раз умереть, чем уступить что-либо из награбленного добра. Когда шум на мгновение утих, Хуан Дарьен сказал, обращаясь к адмиралу:
– Сеньор, наше положение не представляется мне безнадежным, мы можем одержать победу над испанскими кораблями и уйти в море.
– Каким образом?
– Я берусь взорвать самый крупный из всех испанских кораблей. Для этого мне понадобиться всего лишь десяток смельчаков. Найдутся такие?
– Да! Да! – загудело со всех сторон.
– Мой план прост: мы запустим брандер, другими словами, захваченное вами близ Гибралтара испанское судно превратим в зажигательное.
– Соорудить брандер недолго, – ответил Морган, – но противник легко распознает его и не даст ему подойти близко.
– Это верно, – продолжал Хуан Дарьен, – но мне пришла в голову одна хитрость, осуществить ее проще простого.
– В чем же она заключается?
– А вот в чем: на обоих бортах судна мы поставим деревянные чучела, наденем на них сомбреро и шапки, так что издали они сойдут за людей. Заодно установим на лафетах обманные пушки и развернем боевое знамя, как это делается, чтобы вызвать противника на бой.
– Понятно! Понятно! – воскликнул адмирал. – Так скорее за дело!
Хуан Дарьен, не теряя ни минуты, взялся за осуществление своего замысла, и вскоре брандер был готов. Приведем здесь свидетельство бесхитростного историка, очевидца этой затеи:
«Прежде всего были крепко-накрепко связаны все пленники и рабы; затем на означенное судно доставили всю смолу и серу, которую удалось найти в окрестности, погрузили весь порох и прочее горючее, как, например, пропитанные смолой пальмовые листья, а под каждый бочонок с варом положили по шести пороховых зарядов; приспособили к делу и опилки из пришедшей в негодность оснастки; сбили новые лафеты, а вместо пушек примостили на них барабаны; по борту расставили деревянные чучела, нарядив их в сомбреро и вооружив мушкетами и шпагами на перевязи».
Когда брандер был готов, Морган отдал приказ судам погрузить добычу и выйти навстречу испанцам.
Дон Энрике рассудил, что пробил час освобождения, надо спасти донью Марину и бежать, порвав наконец с этими людьми.
Морган установил следующий порядок выступления: впереди флотилии шел брандер с развернутым боевым знаменем; за ним «Отважный» под командой дона Энрике; дальше две большие барки с награбленным добром, женщинами и пленными, за барками – остальные суда.
Узнав об этих распоряжениях, дон Энрике немедля поспешил в шлюпке к флагману и от имени Моргана потребовал передать ему донью Марину, якобы за тем, чтобы поместить ее в одну барку с прочими женщинами.
План похода был всем известен, и все знали, как доверяет адмирал юноше, поэтому ему без колебаний передали донью Марину.
– Куда вы ведете меня? – спросила молодая женщина.
– Тише, сеньора, – ответил дон Энрике, – кажется, вы получите наконец свободу.
В суматохе последних приготовлений никто не заметил, как на борт «Отважного» поднялась женщина и скрылась в каюте.
Озабоченный Морган не удосужился, вернувшись на корабль, справиться о своей пленнице, и суда пустились в плавание.
Уже смеркалось, когда обе эскадры встретились. Высокобортные корабли испанцев стояли на якоре у входа в Лагон против крепостного замка. Пираты тоже стали на якорь на расстоянии пушечного выстрела.
Среди пиратов всю ночь не утихало волнение, и Морган был настолько поглощен подготовкой к завтрашнему дню, что ему было не до пленницы.
Наконец пушка возвестила о наступлении дня; пираты снялись с якоря и устремились против испанских кораблей, а те, в свою очередь, вышли им навстречу.
Вскоре брандер подошел вплотную к королевскому судну «Ла Магдалена», которым командовал адмирал. Только тут испанец разгадал коварный замысел врага и сделал попытку спастись. Но было уже поздно. Хуан Дарьен поджег брандер и, бросившись вместе со своими людьми за борт, вплавь добрался до одной из пиратских барок.
Все произошло мгновенно; огонь брандера перекинулся на пороховой склад, и королевский корабль, окутанный завесой пламени, взлетел на воздух; потом он быстро затонул; лишь несколько дымящихся досок плавали на волнах.
При виде этого бедствия другой испанский корабль попытался укрыться под защитой крепости, но пираты нагнали его, и команда, потопив судно, бросилась в воду, чтобы вплавь достичь берега.
Третий корабль был взят пиратами на абордаж.
Так погибла испанская флотилия.
Упоенные победой, пираты занялись грабежом захваченного судна. Они не щадили пленных и приканчивали даже тех, что бросились в воду.
Дон Энрике решил, что настала пора действовать; когда пираты опомнились, «Отважный» успел уже миновать Лагон и уйти на всех парусах в открытое море.
Не найдя на флагмане доньи Марины, Морган разом сообразил, в чем дело; но, зная, что «Отважный» самое быстроходное из всех пиратских судов, он понял, что преследовать его тщетно.
Часть четвертая. СЫН ГРАФА

I. ТАИНСТВЕННАЯ ДАМА
В 1669 году вице-королем Новой Испании все еще был маркиз де Мансера, правитель мудрый и осторожный. Жизнь колонии протекала мирно, лишь время от времени покой ее обитателей нарушался вестями о грабежах и злодеяниях пиратов.
Испанский военный флот был не в силах обеспечить торговлю с Америкой; суда с товарами и золотом то и дело подвергались нападению в море. Дерзость пиратов доходила до того, что они продавали награбленные товары тут же в порту Веракрус.
Бывало, в порт приходили суда под командой никому не известных капитанов; невозможно было установить, занимались ли они морским разбоем. Вокруг таких судов обычно выставляли стражу, но торговать им разрешалось.
В столице Новой Испании ходили самые невероятные слухи об отваге и жестокости пиратов. Многие семьи, покинув побережье, искали в Мехико приюта и спокойной жизни; они рассказывали настоящие легенды о смелости морских разбойников, которые, по их словам, имели даже иной облик, чем прочие люди.
Среди беглецов, добравшихся до Мехико, находился и дон Диего де Альварес, Индиано, которому удалось чудом спастись от неминуемой гибели и бежать из Портобело вместе с маленькой дочкой. Но он потерял там свою супругу донью Марину, убитую, по его словам, одним из пиратов, пытавшихся овладеть ею.
Дон Диего уже не был тем беззаботным и тщеславным щеголем, как в былые времена. Он стал печален, молчалив, вел скромную, замкнутую жизнь и посещал только вице-короля, который был в свое время его посаженым отцом на свадьбе, да архиепископа Мехико, с которым его связывала тесная дружба.
Молодые женщины, ранее знававшие дона Диего, поражались происшедшей в нем перемене; они попытались снова вовлечь его в блестящее общество, но все их усилия потерпели неудачу, дон Диего оставался по-прежнему нелюдим.
Однако тот, кто вздумал бы следить за доном Диего, заметил бы, что, кроме вице-короля и архиепископа, он изредка наведывается в уединенный дом близ монастыря Иисуса и Марии; там обитала таинственная дама, возбуждавшая любопытство своих соседей, которым никак не удавалось разузнать, кто она и откуда.
Ни окна, ни балконы в доме никогда не открывались, входная дверь была постоянно на замке; ее отпирали лишь затем, чтобы пропустить старую рабыню-негритянку, а та была не словоохотлива.
Дом стоял прямо против церкви Иисуса и Марии, и соседям, имевшим привычку подниматься с зарей, случалось наблюдать, как на рассвете из дома выходила дама под густой черной вуалью; она пересекала улицу, входила в церковь, слушала первую мессу и затем снова запиралась в доме до следующего дня.
Непроницаемая тайна, которая окутывала незнакомку, не давала соседям покоя. Желая что-либо выведать о ней, они пускались на всяческие уловки. Однажды дверь дома забыли запереть, и проходивший мимо мальчуган отважился шагнуть за таинственный порог, но вскоре он выбежал оттуда и с испуганным видом сообщил, что дом пуст.
Днем там никто не бывал, и только изредка – обычно это случалось в пятницу – ровно в одиннадцать часов вечера неясный черный силуэт приближался к дверям, которые бесшумно перед ним открывались. Но еще никто и никогда не видел, как пришелец покидал дом, из чего соседи заключили, что он был не кем иным, как неприкаянной душой. Загадочное жилище внушало суеверный страх, и набожные женщины, проходя мимо него, осеняли себя крестом.
Как-то в пятницу, едва раздался первый удар, возвещавший одиннадцать часов ночи, на улице Иисуса и Марии появился со стороны главной улицы человек, закутанный в черный плащ, в простом черном сомбреро без пера. Он шел не спеша и очутился перед дверью загадочного жилища раньше, чем умолк бой часов.
Дверь отворилась, пропустила пришельца и тотчас же снова закрылась. Служанка со светильником в руке проводила гостя по узкой лестнице наверх в скромно убранный покой, где на столе горели две восковые свечи.
Там пришельца поджидала молодая, красивая дама, одетая с вызывающим кокетством.
Проводив ночного гостя до порога, служанка удалилась.
– Храни вас бог, сеньора, – проговорил гость.
– В добрый час привел вас господь, дон Диего, – ответила с чарующей улыбкой дама.
Дон Диего, ибо это был он, положил сомбреро на стул и молча уселся рядом. Долго без единого слова смотрела на него дама, потом, подойдя ближе, взяла его руку и прижала к своей груди.
– Вы все по-прежнему печальны, сеньор… – прошептала она.
– О да, донья Ана. Тягостные и мрачные воспоминания навеки сохранятся в моем сердце.
– И ничто не в силах вернуть вам счастье?
– Ах, думаю, ничто!
– Даже безграничная любовь женщины?
Дон Диего поднял голову и грустно взглянул на донью Ану, которая потупилась и вспыхнула.
– Донья Ана, – проговорил он печально, – вы думаете, что разбитое сердце способно полюбить вновь?
– Сеньор, любовь была бы единственным верным бальзамом для вашего мучительного недуга, только любовь может залечить смертельную рану.
– Донья Ана, я уже не впервые слышу от вас эти слова и принимаю их, как признание в любви. Может быть, и я готов был бы полюбить вас, но между нами стоит образ Марины, и новое чувство не смеет родиться… Что, если Марина жива…
– Жива или умерла, для вас она погибла. Достойная женщина согласится скорее умереть, чем ответить на любовь пирата. Если же донья Марина из страха стала любовницей одного из них, разве она не потеряна для вас? Разве вы не предпочли бы увидеть ее мертвой в гробу, чем живой, но обесчещенной ласками Моргана, дона Энрике или?..
– Молчите, донья Ана, молчите! – воскликнул дон Диего. – Ни слова об этом. Для всех, решительно для всех донья Марина перестала существовать, ибо я не смог бы долее нести бремя жизни, если бы кто-либо узнал, что моя жена стала возлюбленной пирата.
– Вы правы, дон Диего, это должно навсегда остаться тайной, о которой знают лишь двое; но между собой мы можем говорить о ней, ведь это значит говорить о вашей и моей судьбе, о ваших горестях и о моих надеждах.
– Но поймите, говоря об этом, вы бередите мои раны и отдаляете исполнение ваших надежд.
– Знайте, дон Диего, я хочу, чтобы вы постепенно привыкли видеть во мне женщину, которая вас безгранично любит, понимает ваше сердце и надеется заслужить ответное чувство. Но, возможно, вы не находите меня достаточно красивой, чтобы привлечь ваши взоры?
Тут донья Ана постаралась, будто ненароком, показать дону Диего свою округлую шею и прекрасные плечи.
Дон Диего, не отрываясь, как зачарованный смотрел на донью Ану: ее манящая красота, огненные глаза, подернутые влагой, свежий коралловый рот с полуоткрытыми губами, за которыми поблескивали два ряда жемчужных зубов, могли поколебать добродетель даже не столь молодого и пылкого мужчины, как Индиано.
– Донья Ана, – ответил он взволнованно, привлекая к себе молодую женщину, – вы не только красивы, вы чарующе прекрасны, я вам это уже не раз повторял. Вся кровь вскипает во мне, когда я смотрю на вас, мои глаза ищут ответного взгляда, руки просятся обнять ваш стан, губы жаждут вашего поцелуя.
– Так что же вы так холодны со мной, почему не прижмете меня к груди, не поцелуете? Уж не обманываете ли вы меня, дон Диего? Возможно ли, чтобы вас пугало то, что не пугает слабую женщину? Я вас люблю, я ваша, так к чему эта нерешительность?
– Донья Ана, я больше не в силах таиться от вас, я открою перед вами, как перед богом, мое сердце и душу, без притворства, ничего не скрывая. И если моя исповедь причинит вам боль, простите меня, донья Ана, и помните – вы сами заставили меня открыться вам. Ведь вы мой ангел-искуситель. Я не могу долее противиться вашим чарам.
– Так говорите же, сеньор, говорите, откройте передо мной ваше сердце, я буду вашей утешительницей.
Донья Ана подошла еще ближе и так низко нагнулась к дону Диего, что он ощутил се дыхание. Одна рука дона Диего по-прежнему покоилась на плече молодой женщины, другая лежала пленницей в ее ладонях.
В этот миг донья Ана была неотразима; завороженный ее черными глазами, дон Диего чувствовал себя беззащитным, как колибри перед взором удава.
– Донья Ана, – взволнованно произнес он, – я полюбил вас с первого взгляда, вы это знаете. Когда дон Энрике отнял у меня вашу любовь, я возненавидел его, стал его смертельным врагом. Узнав, что дон Кристобаль де Эстрада похитил вас, я решил больше никогда не видеться с вами, чувствуя, что эта встреча может оказаться для меня роковой, – ведь стоило вам сказать одно лишь слово, и я упал бы к вашим ногам или умер бы от отчаяния. Я не знал, какого рода отношения существовали между вами и моим соперником, возможно, вы любили его по-настоящему, а может быть, вы только из каприза и желания выйти замуж предпочли его мне. В порыве досады и оскорбленного самолюбия, не желая признаться дону Кристобалю в моей позорной слабости, я навсегда похоронил надежду увидеть вас и завоевать вашу любовь. Вы слушаете меня, сеньора?
– Да, сеньор, слушаю. Продолжайте же, продолжайте.
– Конечно, я мог бы просить вашей руки, но я полюбил Марину и дал ей слово. Едва ли вы поймете, как можно любить одновременно двух женщин. Но это было именно так. Я любил Марину, и я любил вас, мной владели сразу два глубоких и сильных чувства, но сколь различны они были! Марину я любил нежной, спокойной любовью, не знавшей ни страхов, ни терзаний, моя любовь к ней была как ручей, мирно журчащий в цветущей долине, как зеркальная гладь озера среди камышовых зарослей. Вас я любил с бешеной, яростной страстью. Моя любовь к вам походила на неистовый поток, стремящийся вниз среди хаоса скал и ущелий, на бурное море, разбивающее об утес свои кипящие волны. Рядом с вами мне казалось, что я больше всего на свете люблю вас; но стоило мне увидеть Марину, как я о вас и не вспоминал. А когда я оставался один, вы обе как живые вставали передо мной: два чувства, соединенные в моем сердце злым духом мне на погибель, вступали между собой в борьбу, и тогда – ах, донья Ана! Я не в силах передать вам, что тогда происходило со мной. Мысль, что я могу потерять одну из вас, сводила меня с ума; я понимал, что мне придется, связав свою судьбу с одной, забыть другую, и приходил в отчаяние. Судьба разрубила роковой узел: вы соединили свою жизнь с Кристобалем де Эстрадой, я – с Мариной. Борьба закончилась, но тайная боль продолжала точить мое сердце. Я представлял вас в объятиях другого и терзался ревностью, я был уверен, что вы забыли меня. Если бы я знал, что вы несчастливы и вспоминаете обо мне, я меньше страдал бы. Но знать, что вы счастливы в объятиях другого… Вам известно, чем все это кончилось. Теперь вы понимаете меня, донья Ана?
– О да, дон Диего! – воскликнула донья Ана, сияя улыбкой. – Понимаю, ведь мое сердце испытало такую же борьбу. Я любила вас, но из гордости, из самолюбия, чтобы увидеть у своих ног человека, который, как мне казалось, пренебрег мной, я ответила на любовь дона Энрике. Мать одобрила мой выбор, она всегда мечтала о блестящей партии для своей дочери. Дерзость дона Кристобаля разрушила мои планы, и я, покинутая вами, утратив надежду стать женой дона Энрике, который никогда не женился бы на мне после всего, что произошло, я согласилась стать возлюбленной дона Кристобаля и последовала за ним в далекие края. Там, с виду спокойная, я жила, снедаемая горестными воспоминаниями, близ вас, не смея увидеться с вами, единственным человеком, пробудившим в моей душе неугасимые мечты. Ваш образ преследовал меня, а мне приходилось притворяться веселой и счастливой. Но вот я снова встретила дона Энрике, на один миг мое чувство к нему ожило, но вскоре оно превратилось в ненависть. Да, этот человек стал мне ненавистен… Я встретила вас, мы жили под одним кровом, вместе совершили долгое путешествие, и… я полюбила вас, полюбила сильнее, чем когда бы то ни было, ведь среди всех невзгод жизни я еще никого по-настоящему не любила. Я чувствовала потребность любить, но никого не любила. Мое сердце всегда стремилось принадлежать лишь одному, и я остановилась на вас, сеньор. Именно вас я полюбила так, как прежде вы любили меня, – горячей, страстной, безумной любовью…
– Но между нами, донья Ана, стоит память о Марине…
– Дон Диего, есть чувства, которые не знают преград. Забудьте о Марине; бесчестие или смерть навеки убрали ее с вашего пути. Ее больше нет. Ничто не существует для вас и для меня, кроме нашей любви…
– Вы говорите, наша любовь… Но в тот день, когда о ней станет известно, как перенести мне толки о том, что вы были возлюбленной дона Кристобаля де Эстрады?
– Но ведь об этом решительно никто не знает; я же буду утверждать, что именно вы похитили меня из дома моей матери, а я согласилась стать вашей возлюбленной, несмотря на то, что вы были женаты…
– Как, вы способны?.. – воскликнул дон Диего.
– Для вас я способна на все, меня не пугают ни толки, ни бесчестие, потому что я люблю вас. Я боготворю вас, дон Диего, я хочу принадлежать вам, и пусть меня поразит небесный гнев.
Склонившись над доном Диего, молодая женщина, поцеловала его в губы.
– Нет, Ана, – воскликнул он, охваченный жарким трепетом, – наш час еще не настал!
И, не медля долее, он как безумный выбежал из ее дома.
– Дон Диего! Дон Диего! – простонала ему вслед Ана, потом в отчаянии уронила голову, и слезы брызнули из ее глаз.
II. СРЕДИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
Умирая, старый граф де Торре-Леаль завещал титул и родовое наследство своему старшему сыну дону Энрике, о судьбе которого ничего не было известно; в случае если в назначенный графом срок его старший сын не вернется домой, титул и все состояние графа должны перейти к его младшему сыну от брака с доньей Гуадалупе, сестрой дона Хусто. Управление графством временно возлагалось на вдову графа. Это было именно то, о чем мечтал ее брат дон Хусто.
К этому времени в Мехико переселилась с острова Эспаньола богатая семья – знакомый нам дон Педро Хуан де Борика с супругой, сеньорой Магдаленой, и Хулией.
Красота Хулии, которую прозвали «маленькой француженкой», свела с ума всех юношей из лучших семейств города, но никто не мог похвастаться, что достиг хоть малейшей надежды на успех. Молодая девушка, озабоченная и печальная, рассеянно принимала все знаки поклонения.
Дону Педро Хуану де Борика, занимавшемуся торговыми делами, случилось как-то познакомиться с доном Хусто; постепенно они сблизились, и дон Хусто на правах друга вошел в дом сеньоры Магдалены.
Дон Хусто был вдовцом с завидным положением; юная Хулия приглянулась ему, и он решил, что девушка с Эспаньолы создана для него.
За согласием на брак, по его мнению, следовало обратиться к Борике, как главе семьи. И вот, оставшись однажды наедине со своим новым другом, дон Хусто взял на себя смелость попытать счастья. Впрочем, в успехе он не сомневался.
– Друг мой дон Педро Хуан, – начал он, – ваша дочь настоящая жемчужина.
– Девушка недурна собой, – равнодушно ответил дон Педро Хуан, – это моя падчерица.
– Она не только хороша собой, но обладает высокими достоинствами, как я мог убедиться.
– Верно.
– Счастлив тот, кто назовет ее своей супругой.
– Пожалуй…
– Знаете что?
– Что?
– Эта девушка заставляет меня подумать о втором браке.
– Вот как?
– Если вы даете мне свое согласие, я осмелюсь сделать ей предложение.
– Мы пока еще не думаем выдавать ее замуж, – ответил Педро Хуан, бледнея.
– А я полагаю, пора уже об этом подумать, особенно если представляется хорошая партия.
– Как я вам уже сказал, мы об этом не думаем.
– Сделайте одолжение выслушать меня.
– Бесполезно говорить об этом. Кроме того, надо спросить согласия девушки и ее матери, – как вам известно, Хулия дочь моей жены от первого брака.
– Конечно, конечно, но прежде всего необходимо заручиться вашим согласием; а потом я уж беру на себя уговорить донью Магдалену и завоевать сердце девушки.
– Повторяю, сеньор дон Хусто, мы еще об этом не думаем…
– А я вам повторяю, что рано или поздно придется об этом подумать.
– Но до этого еще далеко, – резко ответил бывший живодер.
Дон Хусто понял, что его предложение не одобрено, и решил поискать другого пути. «Может, сеньора Магдалена окажется сговорчивее, – сказал он про себя, – поговорим с нею».
И он тут же переменил тему разговора.
Вскоре дону Хусто представился случай оказаться наедине с матерью Хулии, и он не упустил его.
– Сеньора, – начал он, – на матери лежит серьезная забота о будущем детей, особенно когда в доме имеется дочь.
– Да и эта забота не дает матери покоя в последние дни ее жизни, – ответила сеньора Магдалена.
– По счастью, вам еще далеко до последних дней.
– Почему вы так думаете?
– В вашем возрасте, сеньора, и с вашим завидным здоровьем вы можете спокойно жить в полной уверенности, что будущность вашей дочери обеспечена.
– Как знать, сеньор.
– Что вы, сеньора! Хулия красивая девушка с прекрасными качествами, к тому же вы дали ей блестящее воспитание. Хулии цены нет.
– Благодарю вас, вы слишком к ней милостивы.
– Она этого вполне заслуживает, сеньора. Почтенный, разумный и богатый человек будет счастлив назвать Хулию своей супругой.
– О, таких партий немного.
С давних пор существует привычка жаловаться на то, что мужчины, подходящие для священного союза, встречаются якобы крайне редко. Между тем во все времена браки заключались и продолжают и нынче заключаться. Девицы любят твердить, что среди нынешних мужчин не найти хороших и верных мужей, и претворяются, будто по собственной воле, а не за недостатком женихов остаются в старых девах. Все вокруг делают вид, что верят этим сказкам, в глубине же души готовы биться об заклад, что любому покупателю удастся по сходной цене приобрести сокровище.
Словом, одна половина рода человеческого успешно обманывает другую. Невинный обман продолжает существовать из поколения в поколение, он переходит по наследству от отцов к детям, отцы неизменно стараются и сами поверить, и детям внушить, будто таково истинное положение вещей.
Эта явная ложь не вводит людей в заблуждение, но и никого не смущает. Так, женщина, желая себя украсить, румянит щеки и, все любуются ее прекрасным цветом лица, отлично зная, что дело не обошлось без помощи румян.
Дон Хусто, не утруждая себя философскими рассуждениями подобного рода, начал непосредственно с того, с чего начали мы, то есть с брака, решив, что для достижения цели надо прежде всего ввести в заблуждение мать девушки.
– Ах, сеньора! – воскликнул он. – Найти выгодную партию для вашей Хулии весьма просто, – ведь кроме ее личных прекрасных качеств, имеется еще одно немаловажное обстоятельство.
– Какое же, сеньор дон Хусто?
– Ее семья, сеньора.
– Ее семья?
– Вот именно. Когда мы, мужчины, собираемся соединить свою судьбу с девушкой, мы больше всего задумываемся над тем, в какую семью мы входим, могла ли эта семья преподать достойный пример нашей будущей супруге, ну и прочее. Вы понимаете меня, сеньора?
– Да, сеньор.
– Так вот, ваша дочь располагает еще тем преимуществом, что вы, сеньора, – поверьте, я вам не льщу, – что вы одна из самых уважаемых дам, которых я когда-либо знал.
– Но, сеньор…
– Я почел бы за счастье принадлежать к вашему семейству, сеньора.
– Много чести для нас, сеньор.
– Поверьте, сеньора, я был бы бесконечно счастлив, если бы вы разрешили мне просить руки вашей дочери.
– Но, сеньор дон Хусто, вы ее так мало знаете…
– Вполне достаточно, сеньора. Я свободен, богат, еще не стар. В Мехико вы можете справиться обо мне и о моих родителях. Скажите, сеньора, могу ли я надеяться?
– Говоря откровенно, я была бы рада назвать вас своим зятем, конечно, если моя дочь согласна. Вы испанец?
– Нет, сеньора, я уроженец Мексики.
– Тем лучше…
– Лучше?
– У каждого свои соображения, не спрашивайте меня о моих. Повторяю, меня радует, что вы мексиканец.
– Так я могу рассчитывать на ваше согласие, сеньора?
– Да, при условии, что моя дочь не станет возражать.
– Ну, конечно.
– Вы уже говорили об этом с мужем?
Дон Хусто покраснел, не зная, что ответить. Лучше всего сказать правду, подумал он, и признался:
– Да, сеньора.
– И что же?
– Дон Педро Хуан… – начал дон Хусто и запнулся. – Как видно, мое предложение ему не по душе.
– Понятно. Но пусть это вас не смущает. Если вы получите согласие Хулии, то вам достаточно моего слова. Можете на него рассчитывать; я сделаю все, чтобы поддержать вас, конечно, если Хулия согласится. Вот единственное условие.
– Благодарю вас, сеньора, благодарю, я не ожидал встретить столь дружеское расположение.
– В дальнейшем старайтесь не посвящать дона Педро Хуана в свои планы. У мужчин, как известно, бывают свои капризы, и ради мира в семье приходится с ними считаться.
– Отлично, сеньора, я ни словом не обмолвлюсь ему о нашем разговоре.
– Надеюсь на вашу рассудительность.
Тут на пороге гостиной показался Педро Хуан, и сеньора Магдалена с хладнокровием, присущим женщине, ловко и невозмутимо продолжала разговор, не имевший начала. Таким образом, бывший живодер ни о чем не догадался.
– Вы говорите, на последнем корабле с Филиппин пришли большие китайские вазоны? Они просто необходимы для нашего дома, мне надо посадить несколько апельсиновых деревьев.
– Но, дорогая моя, – сказал Педро Хуан, – у тебя их и без того немало, право, это совершенно лишний расход.
– Обещаю, что больше вазонов покупать не стану, – ответила сеньора Магдалена.
– Пусть будет по-твоему, – согласился Борика.
И все трое заговорили о диковинных товарах, прибывших на корабле с Филиппин.
III. ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ
Педро Хуан де Борика воспринял с глубоким неудовольствием предложение дона Хусто, потому что по-прежнему лелеял мысль овладеть девушкой. Правда, дальше планов дело пока не шло.
Впрочем, робостью Педро Хуан не отличался: он уже открылся Хулии в любви, испытав при этом, как и следовало ожидать, горькое разочарование. И все же он не терял надежды. Настойчивость казалась ему верным средством для достижения желанной цели: не проходило дня, чтобы он не делал молодой девушке нового предложения, зачастую весьма дерзкого, если позволяли обстоятельства.
Жизнь Хулии превратилась в настоящую пытку; она и ненавидела, и боялась отчима, но выхода из этого положения не находила.
Рассказать обо всем сеньоре Магдалене? Пожаловаться на его преследования? Невозможно. Хулия с ее мягким сердцем не способна была нанести матери такой удар. И она молчала.
Она боялась оставаться наедине с Педро Хуаном, боялась сидеть с ним рядом за обеденным столом. В те времена ходило немало толков о приворотном корне, который продавался колдуньями на вес золота; с его помощью, говорили, удавалось овладеть самой добродетельной женщиной. Хулия опасалась, что отчим и впрямь опоит ее волшебным зельем, как он однажды пригрозил ей в порыве ярости.
Однако время шло, а Педро Хуан не прибегал к злым колдовским чарам, хотя по-прежнему преследовал девушку.
Сеньора Магдалена между тем стала кое-что замечать и, чтобы проверить свои догадки, позвала Хулию и попыталась выведать у нее правду об ее отношениях с отчимом, не признаваясь ей, однако, в своих ревнивых опасениях.
Хулия постаралась рассеять подозрения матери, однако ничего этим не достигла, напротив, еще больше огорчила сеньору Магдалену: бедная женщина решила, что Хулия, если и не отвечает на любовь отчима, то, во всяком случае, с удовольствием выслушивает его признания.
С этого дня в сердце сеньоры Магдалены не утихала жестокая борьба страстей; ревность, любовь к дочери, слепой гнев, глубокая печаль, отчаяние и надежда кипели в сердце оскорбленной женщины: мать ревновала мужа к собственной дочери.
Сеньора Магдалена стала подозрительной, научилась хитрить, выслеживать. Она то и дело справлялась у слуг, где Хулия, где Педро Хуан, и трепетала при мысли, что они вместе, но заговорить об этом, бросить им в лицо жестокое обвинение она не смела, – ведьу нее не было никаких доказательств, все было основано лишь на ревнивых подозрениях.
Единственный виновник столь тягостного положения, Педро Хуан, оставался по-прежнему спокоен, терпеливо выжидая, когда наступит «его день». Он шел на все, чтобы добиться цели, и не понимал, какая буря разыгрывается дома, не замечал, как следит за ним сеньора Магдалена и как ширится пропасть между дочерью и матерью.
Узнав о домоганиях дона Хусто, Педро Хуан задумал ускорить события и силой овладеть Хулией. Сеньора Мащалена увидела в предложении дона Хусто путь к спасению. Так дон Хусто сыграл роль искры, воспламенившей бочку с порохом.
В тот день Педро Хуан ушел после полудня из дому, а сеньора Мащалена позвала дочь и заперлась с ней у себя в спальне.
– Хулия, – начала мать, – мне надо поговорить с тобой об одном весьма важном деле, касающемся твоего будущего.
– Я вас слушаю, матушка, – ответила Хулия.
– Хулия, пришла пора подумать о твоем замужестве. У тебя нет другой защиты на земле, кроме меня, а я, несмотря на видимое здоровье, чувствую, что силы мои гаснут.
– О матушка, ради бога, не говорите так…
– Почему же я не должна говорить об этом? Моя жизнь на закате; мысль, что я покидаю тебя одну на белом свете, отравила бы мои последние минуты. Что станется с тобой без родных, без друзей?..
– Матушка, еще не пришло время думать об этом.
– Никому не ведомо, когда наступит его конец. Можно ли быть уверенным в завтрашнем дне, в особенности в моем возрасте, когда силы угасают? Хулия, ты должна выйти замуж, и как можно скорее.
– Выйти замуж, и как можно скорее? Но почему?
– Я тебе изложила все причины, кроме тех, о которых я молчу, хотя они не менее важны. Сегодня один кабальеро, местный житель, попросил у меня твоей руки; он дворянин, богатый, благородный человек.
– Я не хочу выходить замуж, матушка.
– В этом мире не всегда можно делать лишь то, что желаешь, иногда надо поступать так, как этого требуют честь и достоинство.
– Матушка, – произнесла Хулия, испуганная тоном матери, – что вы хотите этим сказать?
– Я говорю это не зря; и, может быть, к несчастью, ты меня понимаешь. Тебе надо выйти замуж, Хулия.
– Сеньора, ради бога, мне неясен смысл ваших слов, хотя я догадаюсь, что он должен быть ужасен. Но поймите меня, я не хочу выходить замуж.
– Может, ты объяснишь мне почему?! – воскликнула сеньора Магдалена, вставая и бледнея от негодования: для нее не оставалось больше сомнений, что между Хулией и Педро Хуаном существует любовная связь.
– Вы же знаете, матушка, дрожащим голосом произнесла Хулия, – вы знаете – и я не могу долее скрывать, – я люблю другого.
– Мне это слишком хорошо известно! – крикнула сеньора Магдалена, судорожно хватая Хулию за руку. – Я знаю, я догадывалась. Ты низкая женщина и недостойная дочь.
– Матушка! – в ужасе воскликнула Хулия.
– Не называй меня матерью, я тебе не мать, нет, я не могла породить такое чудовище. Будь ты моей дочерью, ты никогда не нанесла бы мне этого удара. Нет, ты мне не дочь…
– Сеньора, сеньора! – простонала Хулия и, рыдая, упала на колени перед матерью. – Ради бога, объяснитесь, что это значит.
– Оставь меня, оставь. Ты мне не дочь. Дочь никогда не решилась бы вступить в преступную связь с мужем своей матери.
– Господи, спаси меня! – воскликнула Хулия, выпустив из рук подол материнского платья и вскочив как безумная.
– Презренная! Презренная! Ты мне не дочь, а если ты моя дочь, я проклинаю тебя.
– Боже! – крикнула Хулия и замертво упала наземь.
В этот миг дверь отворилась и на пороге показался смертельно бледный Педро Хуан.
– Низкий человек! – сказала Магдалена, указывая на неподвижно простертую Хулию. – Вот до чего вы ее довели. Я презираю вас!
И сеньора Магдалена, словно подхваченная вихрем, выбежала из комнаты.
Педро Хуан неподвижно застыл, с молчаливым ужасом глядя на Хулию и не решаясь оказать ей помощь, привести ее в чувство. Так прошло немало времени; наконец Хулия очнулась, привстала и обвела комнату помутившимся взором.
– Боже мой! – тихо простонала она, обхватив руками голову. – Что это было? Сон? Где я? Что случилось? Я разговаривала с матерью… и вдруг она рассердилась… Но за что? Она сказала, что я… Боже, какое тяжкое обвинение!.. И потом, потом она прокляла меня! Ах! – вскрикнула Хулия, поднимаясь: она заметила наконец Педро Хуана, который молча смотрел на нее. – Вы наслаждаетесь моими страданиями? Из-за вас матушка заподозрила меня в низости, из-за вас, по вашей вине она отреклась от меня и прокляла. Я проклята, проклята! Проклята, проклята! – повторяла как безумная Хулия.
– Но вы ведь этого не допустите! – продолжала она в сильном возбуждении. – Прошу вас, на коленях умоляю.
– Но что, что я должен сделать? – спросил потрясенный Педро Хуан.
– Прошу вас, – продолжала Хулия, опускаясь перед ним на колени, – заклинаю именем бога и памятью вашей матери, ступайте, расскажите, признайтесь ей во всем, скажите, что я не желала слушать ваши нашептывания и никогда не любила вас, что я вас ненавижу… Ступайте, ради бога, ради бога, разве вы не понимаете, не видите, что проклятие матери жжет и убивает меня…
– Но поймите, она мне не поверит.
– Сеньор, попытайтесь убедить ее, расскажите всю правду. Почему вы не спешите к ней? Почему? Боже мой! Именем бога молю. Неужто у вас нет сердца? Вы говорили, что любите меня. Так что же вы не торопитесь меня спасти? Ступайте, убедите ее, уговорите, и я вовек не забуду этой милости, я буду вашей рабой. Что вам еще надо?
– Хулия, я попытаюсь. Только сейчас все будет напрасно. Не лучше ли обождать, дать ей время успокоиться?
– Но я не в силах терпеть это позорное пятно; ее проклятие сведет меня с ума…
Дверь открылась, и на пороге показался слуга.
– Чего тебе? – с негодованием бросил Педро Хуан.
– Прошу прощения, ваша милость, сеньора велела немедля передать вам это письмо.
Педро Хуан взял из рук слуги пакет.
– Ступай отсюда.
Слуга вышел. Педро Хуан вскрыл пакет, и Хулия с ужасом услышала, как он прочел:
«Сеньор, я не могу оставаться долее под одним кровом с вами и этой женщиной. Вы нанесли мне оскорбление. Оставляю вас обоих на суд вашей совести.
Магдалена».
– Это ужасно! – воскликнул Педро Хуан и выбежал вон.
– Всему виной я, – прошептала Хулия. – Пускай безвинно, но я проклята матерью и должна покинуть этот дом.
Бросившись вниз по лестнице, она устремилась на улицу.
Начинало смеркаться.
IV. ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ
Как безумная бежала Хулия по незнакомым улицам; пугливо озираясь, она отворачивалась от попадавшихся ей прохожих и от освещенных окон.
Куда шла она? Этого она и сама не знала, но продолжала неутомимо идти вперед.
Вечерело, улицы обезлюдели. Измученная усталостью и жаждой, Хулия опустилась близ какой-то двери в узком и темном переулке; хотелось уснуть, умереть или хотя бы на миг потерять сознание, позабыть все, что с ней случилось; но сознание не покидало ее.
Она попыталась подняться, идти дальше, но не смогла сделать и шагу и примирилась с тем, что останется здесь. Она порылась в памяти, стараясь отыскать в ней имя друга, но так и не вспомнила ни одного имени, ни одного человека, который мог бы принять в ней участие, приютить ее у себя.
Было около десяти часов вечера, когда в переулке послышались чьи-то шаги. Молодая девушка испугалась и прижалась к стене, стараясь слиться с мраком улицы.
Человек приближался; не дойдя двух шагов до Хулии, он остановился и постучал в дверь рядом. Его, очевидно, поджидали, потому что на его стук тотчас же откликнулся женский голос:
– Кто тут?
– Это я, Паулита.
Дверь отворилась, на улицу упал луч света, человек вошел, и все опять погрузилось в сумрак. А Хулия снова отдалась своим грустным размышлениям. Прошел час, и за дверью послышалось движение.
«Кто-то выходит, – подумала Хулия, – дай бог, не заметит меня».
В самом деле, дверь снова распахнулась, и тот же человек в сопровождении женщины со светильником в руке показался на пороге.
– Ступай, Паулита, – сказал он, – ночь холодная, ты можешь простудиться.
– Я хочу посветить тебе, пока ты не выберешься из этого переулка, ответила женщина.
– Ладно, до свидания.
– Храни тебя бог.
Человек сделал шаг и невольно вскрикнул, увидев Хулию.
– Что с тобой? – спросила женщина, подбегая со светильником ближе.
– Ты только погляди, Паулита, – ответил тот, показывая на перепуганную Хулию.
– Женщина, и совсем одна! – воскликнула Паулита, подходя к Хулии. – Сеньора, что с вами случилось, что вы здесь делаете?
Хулия не отвечала.
– Ах, бедняжка! – сказала Паулита. – Пойди-ка сюда, Москит, погляди, мне кажется, она «тронувшаяся», – молчит, не отвечает. А какая красивая.
– Сеньора, сеньорита, – начал Москит, – как вас звать? Что вы здесь делаете? Паулита, как видно, она из богатой семьи, погляди на ее серьги, юбку.
– Пускай войдет в дом, как ты думаешь? – предложила Паулита.
– А что, если она и впрямь сумасшедшая? – ответил Москит.
Паулита в испуге попятилась.
– Ах, нет, сеньора, я не сумасшедшая! Я просто несчастная женщина. Меня прокляли!
– Пресвятая дева! – воскликнули разом Паулита и Москит, осеняя себя крестом.
– Да, надо мной висит проклятье моей матери. Но бог мне свидетель, что я невиновна.
И, закрыв лицо руками, Хулия громко разрыдалась.
Паулита не выдержала; сердце ее переполнилось жалостью, и она подошла к Хулии.
– Не плачьте, – ласково сказала она. – Войдите в дом. Встаньте, пойдемте к нам; ночь холодная, да и случайные прохожие могут вас увидеть. Встаньте, зайдите в дом.
Паулита попыталась приподнять девушку. При звуках ласкового голоса Хулия и сама было встала, но от усталости не смогла удержаться на ногах.
– Москит, – позвала Паулита, – помоги мне. Внесем сеньору в дом, она совсем обессилела.
Москит, хоть и был невелик ростом, легко поднял Хулию на руки.
 – Посвети-ка, Паулита, – сказал он, – сеньора потеряла сознание.
Действительно, Хулия была в обмороке. Паулита отворила дверь, и Москит, войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате.
– Хочешь, я останусь с тобой? – спросил Москит Паулиту.
– Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся.
Москит вышел, Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула.
– Вам уже лучше? – спросила Паулита, подойдя к кровати.
– О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна!..
– И девушка снова залилась слезами.
– Успокойтесь, сеньора, успокойтесь! – повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. – Вы нашли здесь мирный приют, забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны, я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение.
– Боже мой, сеньора, вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас.
– Выгнать вас? За что? Да сохранит меня бог от такого зла. Нет, сеньора, я у себя хозяйка и не считаюсь здесь ни с кем, кроме моего мужа – это он взял вас на руки и внес в дом. Знайте, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно, здесь никто даже имени вашего не спросит.
– У вас золотое сердце, я доверю вам все мои горести. Слушайте…
– Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать.
– Да, я вижу, вы не любопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверена, мне не найти более достойного сердца, чем ваше; только вам я могу открыться, поведать мою тайну.
– Тогда говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе.
Хулия приподнялась на кровати, Паулита села рядом с ней. Две женские головки, такие непохожие, хотя обе прелестные, прижались друг к другу, спаянные нерасторжимыми узами страдания и жалости.
Хулия не сразу справилась с волнением; наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Паулита с участием слушала ее исповедь.
Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами, она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана.
– О, вы невиновны, и вы так несчастны, сеньора! – сказала она, выслушав исповедь до конца. – Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага.
Прижав к себе головку Хулии, она поцеловала ее в лоб.
– Вы мой ангел-хранитель, – ответила Хулия. – Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы – мое провидение. Я буду вечно благодарить вас.
– Не говорите больше, вы утомлены. Хотите чего-нибудь поесть?
– Нет, но мне уже лучше.
В эту минуту раздался стук в дверь. Паулита почувствовала, как Хулия вздрогнула.
– Не пугайтесь, это Москит, мой муж. – И, тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери.
В комнату вошел Москит, но он был не один, его сопровождал закутанный в плащ незнакомец в низко надвинутой широкополой шляпе.
Ни слова не сказав Паулите, Москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала Хулия, и спросил, указывая на нее:
– Вот. Это она?
– Она! – воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу.
– Дон Хусто! – удивилась девушка, узнав его.
– Да, это я, – ответил дон Хусто, – я, невольная причина всех бед, происшедших сегодня в вашем доме. Москиту я всецело доверяю; прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива: едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и, не колеблясь, пришел сюда убедиться. Бог помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час.
Паулита, стоявшая позади дона Хусто, не удержалась от насмешливого движения, а Москит в ответ слегка нахмурил брови.
– Благодарю вас, сеньор, – ответила Хулия, – благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты, поверьте, я сама ни о чем не догадывалась. Однако я пока не знаю, на что решиться. Я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и, если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два.
– Конечно, конечно, – с жаром откликнулась Паулита, подходя к Хулии и словно желая защитить ее. – И не два дня, а два года. Я буду так счастлива, и поверьте, мы ни в чем не будем нуждаться, я заставлю Москита работать. Не правда ли, Москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре?
– Верно, сеньора, – ответил Москит, – здесь вам будет спокойно, и вы ни в чем не будете терпеть недостатка.
– В таком случае, – сказал дон Хусто, – больше говорить не о чем. Тем не менее послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия, до послезавтра. Если же вам что-либо понадобиться раньше, передайте через Москита.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю, – повторила Хулия, протянув ему руку.
– Прощайте.
– Да, я хотела просить вас об одном одолжении, – сказала Хулия.
– Пожалуйста, всегда готов служить вам.
– Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни дону Педро Хуану.
– Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете.
– Ах, сеньор, вы так добры! – Дон Хусто удалился, Москит проводил его до дверей. Паулита и Хулия остались вдвоем.
– Замечательный человек! – воскликнула Хулия.
– Напрасно вы так думаете, – возразила Паулита.
– Как?
– Не советую доверять ему.
– Но…
– Тише, Москит идет, он ему очень предан.
Закрыв за гостем дверь, Москит вернулся в спальню.
– И зачем ты только притащил с собой этого жука? – сказала Паулита.
– Что это с тобой? – спросил Москит.
– Ты знаешь, я недолюбливаю его.
– Он принял горячее участие в судьбе сеньоры, я хотел ее порадовать. У вас бывали с ним раньше размолвки?
– Нет, – ответила Хулия.
– Так в чем же дело?
– Просто предчувствие, – сказала Паулита.
– Если он себе хоть что-либо позволит, ему не поздоровиться, – пообещал Москит. – А теперь давайте спать.
Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостье свою спальню.
– Посвети-ка, Паулита, – сказал он, – сеньора потеряла сознание.
Действительно, Хулия была в обмороке. Паулита отворила дверь, и Москит, войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате.
– Хочешь, я останусь с тобой? – спросил Москит Паулиту.
– Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся.
Москит вышел, Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула.
– Вам уже лучше? – спросила Паулита, подойдя к кровати.
– О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна!..
– И девушка снова залилась слезами.
– Успокойтесь, сеньора, успокойтесь! – повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. – Вы нашли здесь мирный приют, забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны, я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение.
– Боже мой, сеньора, вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас.
– Выгнать вас? За что? Да сохранит меня бог от такого зла. Нет, сеньора, я у себя хозяйка и не считаюсь здесь ни с кем, кроме моего мужа – это он взял вас на руки и внес в дом. Знайте, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно, здесь никто даже имени вашего не спросит.
– У вас золотое сердце, я доверю вам все мои горести. Слушайте…
– Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать.
– Да, я вижу, вы не любопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверена, мне не найти более достойного сердца, чем ваше; только вам я могу открыться, поведать мою тайну.
– Тогда говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе.
Хулия приподнялась на кровати, Паулита села рядом с ней. Две женские головки, такие непохожие, хотя обе прелестные, прижались друг к другу, спаянные нерасторжимыми узами страдания и жалости.
Хулия не сразу справилась с волнением; наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Паулита с участием слушала ее исповедь.
Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами, она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана.
– О, вы невиновны, и вы так несчастны, сеньора! – сказала она, выслушав исповедь до конца. – Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага.
Прижав к себе головку Хулии, она поцеловала ее в лоб.
– Вы мой ангел-хранитель, – ответила Хулия. – Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы – мое провидение. Я буду вечно благодарить вас.
– Не говорите больше, вы утомлены. Хотите чего-нибудь поесть?
– Нет, но мне уже лучше.
В эту минуту раздался стук в дверь. Паулита почувствовала, как Хулия вздрогнула.
– Не пугайтесь, это Москит, мой муж. – И, тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери.
В комнату вошел Москит, но он был не один, его сопровождал закутанный в плащ незнакомец в низко надвинутой широкополой шляпе.
Ни слова не сказав Паулите, Москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала Хулия, и спросил, указывая на нее:
– Вот. Это она?
– Она! – воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу.
– Дон Хусто! – удивилась девушка, узнав его.
– Да, это я, – ответил дон Хусто, – я, невольная причина всех бед, происшедших сегодня в вашем доме. Москиту я всецело доверяю; прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива: едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и, не колеблясь, пришел сюда убедиться. Бог помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час.
Паулита, стоявшая позади дона Хусто, не удержалась от насмешливого движения, а Москит в ответ слегка нахмурил брови.
– Благодарю вас, сеньор, – ответила Хулия, – благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты, поверьте, я сама ни о чем не догадывалась. Однако я пока не знаю, на что решиться. Я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и, если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два.
– Конечно, конечно, – с жаром откликнулась Паулита, подходя к Хулии и словно желая защитить ее. – И не два дня, а два года. Я буду так счастлива, и поверьте, мы ни в чем не будем нуждаться, я заставлю Москита работать. Не правда ли, Москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре?
– Верно, сеньора, – ответил Москит, – здесь вам будет спокойно, и вы ни в чем не будете терпеть недостатка.
– В таком случае, – сказал дон Хусто, – больше говорить не о чем. Тем не менее послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия, до послезавтра. Если же вам что-либо понадобиться раньше, передайте через Москита.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю, – повторила Хулия, протянув ему руку.
– Прощайте.
– Да, я хотела просить вас об одном одолжении, – сказала Хулия.
– Пожалуйста, всегда готов служить вам.
– Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни дону Педро Хуану.
– Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете.
– Ах, сеньор, вы так добры! – Дон Хусто удалился, Москит проводил его до дверей. Паулита и Хулия остались вдвоем.
– Замечательный человек! – воскликнула Хулия.
– Напрасно вы так думаете, – возразила Паулита.
– Как?
– Не советую доверять ему.
– Но…
– Тише, Москит идет, он ему очень предан.
Закрыв за гостем дверь, Москит вернулся в спальню.
– И зачем ты только притащил с собой этого жука? – сказала Паулита.
– Что это с тобой? – спросил Москит.
– Ты знаешь, я недолюбливаю его.
– Он принял горячее участие в судьбе сеньоры, я хотел ее порадовать. У вас бывали с ним раньше размолвки?
– Нет, – ответила Хулия.
– Так в чем же дело?
– Просто предчувствие, – сказала Паулита.
– Если он себе хоть что-либо позволит, ему не поздоровиться, – пообещал Москит. – А теперь давайте спать.
Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостье свою спальню.
V. СДЕЛКА
Пробежав глазами прощальную записку жены, Педро Хуан бросился на ее половину, решив во что бы то ни стало помешать ей покинуть дом, и подоспел как раз в тот момент, когда сеньора Магдалена переступила за порог своей комнаты.
– Магдалена! – воскликнул Педро Хуан. – Куда ты?
– Я ухожу навсегда, – надменно ответила сеньора Магдалена.
– Понимаешь ли ты, что делаешь? Произойдет ужасный скандал, о нас пойдут сказки по городу.
– Я все обдумала. Что будет, то будет, но в этом доме я не останусь.
– Магдалена, ради бога!
– Пустите меня.
– Дай сказать тебе хоть слово.
– Ничего не желаю слышать.
– Магдалена, опомнись, подумай…
– Дайте мне пройти.
– Послушай…
– Не желаю слушать! – решительно воскликнула Магдалена и направилась к лестнице.
– Что ж, поступай как хочешь, Магдалена, но завтра тебя замучают укоры совести, несправедливая, бесчеловечная мать!
– Ты говоришь – несправедливая! – Сеньора Магдалена с негодованием повернулась к мужу. – Несправедливая? Бесчеловечная?
– Да, – повторил Педро Хуан, – несправедливая!
– И ты смеешь говорить это после того, как Хулия нанесла мне самое тяжкое оскорбление, какое только может нанести дочь своей матери? Ты называешь меня несправедливой за то, что я отреклась от дочери – твоей соучастницы?
– Ты несправедлива, Магдалена. Чудовищно несправедлива. Хулия невинна.
– Невинна?
– Да, невинна! Клянусь спасением моей души! Она невинна, Магдалена.
– А ее замешательство? Ее обморок?
– Магдалена, настало время открыть тебе правду. Во всем виноват я. Я пытался соблазнить невинную девушку…
– А что же она?
– Она не желала слушать мои слова, всегда избегала и, наконец, возненавидела меня. Но дочерняя любовь, желание оградить тебя от горя заставляли ее молчать, а ты отплатила за ее любовь гнусным подозрением.
– Так это правда, Педро Хуан? Ты не обманываешь меня?
– Клянусь тебе всем святым, что есть на земле, Магдалена! Неужто ты не чувствуешь искренности моего признания?
– Да, да, сердце мое подсказывает, что это правда, что ты не лжешь. Моя Хулия, моя дочь невиновна, а я оскорбила ее подозрением, я прокляла ее.
– Ты ее прокляла?
– Да. Ах, как я была жестока! Я должна увидеть ее, попросить у нее прощения!.. Хулия! Хулия!
И сеньора Магдалена бросилась в комнату Хулии с криком:
– Хулия, Хулия, моя дочь!
Но Хулия была уже далеко.
– Хулия! – повторяла сеньора Магдалена, заглядывая во все покои. – Где Хулия? Где моя дочь?
– Сеньора, – сказал слуга, – сеньорита вышла из дому уже давно.
– Боже мой! Как я перед ней виновата! – воскликнула сеньора Магдалена, падая в кресло.
Педро Хуан немедля распорядился, чтобы все слуги отправились на розыски Хулии; потом, взяв шляпу и плащ, он сам вышел из дому, оставив сеньору Магдалену в глубоком отчаянии.
Один из слуг рассказал дону Хусто об исчезновении Хулии, вот почему ему и удалось по чистой случайности найти ее. Но был уже поздний час, кроме того, он ничего не знал о раскаянии сеньоры Магдалены, да и Хулия просила его сохранить все в тайне, так что он решил не сообщать пока семье, где беглянка нашла себе приют.
И наконец, он полагал, что ему легче добиться своей цели, пока беззащитная Хулия живет у Паулиты, а не у себя дома рядом с Педро Хуаном. Итак, дон Хусто в самом радужном настроении отправился домой, помалкивая о своей нежданной удаче.
А в доме Педро Хуана по-прежнему царила тревога. Слуги продолжали безуспешные поиски и возвращались с самыми неутешительными вестями. По одним сведениям, какие-то приезжие встретили молодую девушку, вероятно, Хулию, по дороге на Койоакан. Другие утверждали, что молодая девушка на глазах у альгвасила бросилась в канал. А иные делали предположение, что Хулия нашла убежище в монастыре.
Сеньора Магдалена с редким мужеством выслушивала все противоречивые сведения и предположения. Сердце матери обливалось кровью; она обвиняла себя в гибели дочери, – позабыв священные узы, которые связывают мать и дочь, она дала ревности одержать над собой победу.
Ночь прошла в мучительной неизвестности; сеньора Магдалена молилась, не зная покоя; Педро Хуан в сопровождении слуг с факелами и фонарями обходил улицы, выспрашивал всех дозорных и прохожих, стучась во все двери.
Уже брезжило утро, когда бывший живодер вернулся домой, измученный и приунывший: он ничего не узнал, не принес жене никаких утешительных вестей, не мог подать ни малейшей надежды. Несчастная мать рыдала и была на грани безумия. Педро Хуан опустился рядом с ней в кресло; вскоре усталость взяла свое, и он уснул.
Так прошло утро. Сеньора Магдалена заперлась в спальне и отказалась от еды. Педро Хуан позавтракал с аппетитом и снова взялся за свои бесплодные поиски.
Он вернулся в сумерки, так и не узнав, где скрывается Хулия.
Колокол ударил к вечерней молитве, когда слуга доложил сеньоре Магдалене, что ее желает видеть незнакомая женщина.
– Скажи, что я никого не принимаю, у меня в семье большое горе, – ответила Магдалена.
– Я так и сказал ей, но она настаивает, говорит, что это дело весьма интересует вашу милость.
– Ну что ж, проси ее, – разрешила наконец сеньора Магдалена и вошла в соседнюю комнату. Перед ней стояла женщина вся в черном; под густой вуалью. С церемонным поклоном хозяйка дома указала гостье на стул.
– Сеньора, – начала женщина под вуалью, – меня привело к вам важное дело, и я желала бы поговорить с вами со всей откровенностью.
– Я слушаю вас, – ответила сеньора Магдалена.
– Сеньора, ваша дочь у меня в доме…
– Моя дочь? Хулия?
– Именно так, сеньора. Мы с мужем люди бедные, но, пока мы живы и здоровы, мы не станем сидеть сложа руки, и ваша дочь не будет терпеть нужды…
– Но…
– Разрешите мне закончить. Я буду беречь сеньориту Хулию, как зеницу моего ока, она настоящий ангел, и я была бы счастлива, если бы она навсегда осталась у нас, но она плачет, грустит, и я решила: «Пойду и поговорю с этой жестокой матерью…»
– Сеньора, что вы говорите?
– Прошу прощения, ваша милость, но я, право, не пойму вас, богачей. Если дети бедняков уходят из дому, так их нужда гонит на заработки, ведь один отец не может прокормить всю семью; но мы, бедняки, неспособны со зла выгнать из дому дочь, да еще такую красавицу; не ровен час, она может погибнуть на улице.
– Но вы не знаете…
– Я все знаю. И Хулия правильно поступила, рассказав мне, как ваша милость вбила себе в голову, будто у дочки любовь с вашим мужем, и, ничего не разузнав, выгнала дочку вон.
– Но я совсем не гнала Хулию из дому, напротив, ее исчезновение стоило мне многих слез.
– Да, да, я знаю, ваша милость не сказала дочери: поди прочь, но прокляла ее. Пресвятая дева! Ведь вот вы, богачи, какие: проклинаете своих детей, а о спасении души и не думаете. Нам, беднякам, случается поколотить детей, но проклясть – упаси нас боже. Ведь проклятие губит детей, а если оно несправедливо, то заодно и родителей. Как ваша милость не подумала об этом?
Слова Паулиты звучали суровым укором, сеньора Магдалена сидела, не поднимая головы. Ее терзали укоры совести.
– Но я решила вмешаться в чужие дела, – продолжала Паулита, – пришла без ведома сеньориты к вашей милости и все выложила, как есть. Я больше не в силах смотреть на слезы бедняжки. Ведь у вас, ваша милость, тоже небось сердце кровью исходит.
– Пусть она поскорее возвращается домой, я приму ее с распростертыми объятиями.
– Что вы, сеньора! Да как ей сюда вернуться, ведь она покинула дом, потому что мать прокляла ее. Да и какая я заступница за Хулию? Я ничего не значу, вот и выйдет, будто она придет сюда за прощением, как за милостыней, хотя ни в чем не виновата и ничем не заслужила такой несправедливости.
Сеньора Магдалена почувствовала себя пристыженной.
– Да я не знаю, согласна ли она к вам вернуться. У каждого ведь есть свое достоинство. Что, если завтра повторится все сызнова?
– Так как же, по-вашему, мне следует поступить? – произнесла сеньора Магдалена, чувствуя себя окончательно уничтоженной.
– Думаю, лучше всего рассказать ей весь наш разговор с вами, и, если она примет это спокойно, я пошлю к вашей милости моего мужа, и вы сами придете за Хулией. Вот как, мне кажется, лучше всего сделать.
– Где вы живете?
– Я пришлю мужа, он вас проводит; я живу близехонько от главной площади; дайте, ваша милость, мне какую-нибудь вещицу, по ней вы узнаете моего мужа.
– Вот возьмите, – сказала сеньора Магдалена, снимая с пальца драгоценный перстень.
– Нет, перстень не годится, не ровен час, он потеряется, а ваша милость подумает, что я взяла его себе.
– Но Хулия знает этот перстень, он послужит ей доказательством, что вы говорили со мной.
– А этого вовсе не требуется. Хулия достаточно хорошо меня знает, чтобы не сомневаться во мне. Дайте ваш носовой платок.
– Вот он, – ответила сеньора Магдалена, – но будьте добры, примите от меня в подарок этот перстень за те одолжения, которые вы оказали Хулии.
– Какие одолжения?
– Вы пригласили ее к себе, она живет у вас.
– Ах вот оно что! Нет, нет, оставьте перстень у себя. Раньше у меня и в самом деле был постоялый двор; но один благородный человек, попавший сейчас в беду, обеспечил мою жизнь, я вышла замуж и больше не держу постояльцев. Бог да хранит вашу милость.
По натуре своей сеньора Магдалена была доброй, но она не умела обращаться с простыми честными людьми, вот почему она в тот вечер потерпела жестокое поражение в разговоре с Паулитой.
Гостья поднялась и направилась к двери.
– Ах, простите! Как вас зовут? – спохватилась наконец сеньора Магдалена.
– Меня зовут Паулита, а замужем я за Москитом.
– Москит – это его имя?
– Нет, сеньора, – рассмеялась Паулита, – его так прозвали за маленький рост.
Услышав, что мужа Паулиты зовут не по имени, а по кличке, сеньора Магдалена не скрыла своего неприятного удивления, позабыв при этом, что ее собственного мужа прозвали на Эспаньоле Медведь-толстосум.
От Паулиты не укрылась пренебрежительная усмешка на лице Магдалены, и она сказала:
– Знаете, ваша милость, мой покровитель однажды рассказал мне, что даже у королей бывают прозвища. Так отчего же беднякам от них отказываться?
Сеньора Магдалена прикусила язык и поспешила оправдаться:
– Нет, нет, я ведь ничего не говорю.
– Это верно. Прощайте, ваша милость, храни вас бог. – С этими словами Паулита вышла на улицу, где ее поджидал Москит, сидя на корточках против дома.
– Ну как? – спросил он.
– Все устроилось как нельзя лучше.
– Рассказывай.
– Расскажу дома при Хулии.
– Она будет рада?
– О да, если только ей хочется вернуться домой.
– Стоит ли ей возвращаться?
– Ей решать.
Весело болтая, Паулита вместе с мужем направилась домой, где их с нетерпением поджидала Хулия.
VI. БРАЧНЫЕ ПЛАНЫ
Хулия в отсутствие хозяев оставалась в доме одна. Паулита скрыла от молодой девушки, куда она идет, так как не была уверена в успехе своей затеи. Зная, что Хулии не по душе оставаться одной в доме, Паулита посоветовала ей запереть дверь на замок и не открывать никому, пока не раздастся условный стук.
Незадолго до возвращения Паулиты к дому подошли два незнакомца, закутанные в плащи до самых глаз, и постучались; но это не был условный стук, и Хулия не шелохнулась.
Стук в дверь повторился, но снова безуспешно. Незнакомцы стали между собой переговариваться.
– А ты уверен, что это его дом?
– Еще бы, ведь вчера утром я сам был здесь вместе с Москитом.
– Однако никто нам не отворяет, а ты говорил, что Паулита по вечерам всегда дома.
– Но вы поглядите, ваша милость, внутри свет.
Тот, кого называли «ваша милость», приложил глаз к замочной скважине.
– В самом деле! – воскликнул он. – Свет горит. Может, Паулита уснула. Стучи покрепче.
И оба принялись громко стучать.
– Пожалуй, они все-таки ушли.
– Возможно, но, раз она оставила свет, значит, скоро вернется.
– Придем еще раз попозже.
– Как прикажет ваша милость.
Незнакомцы ушли.
Через мгновение вернулись Паулита и Москит. Едва они постучались, как Хулия открыла им.
– Благодарите меня, моя красавица, благодарите! – сказала Паулита, обнимая Хулию.
– Благодарить за что? – спросила та.
– А вы не знаете, где я только что была?
– Не могу догадаться.
– У вас дома.
– Дома?
– Да, и видела сеньору. Она горько кается, что так обошлась с вами, и хочет вас видеть.
– Но что вы ей сказали?
– Много хорошего, особенно для вас: и, если вы захотите, я пошлю Москита вот с этим носовым платком, и ваша мать придет за вами.
– Паулита, как я вам благодарна за все! Но мне тяжело вернуться в дом, где у моей матери родилось такое ужасное подозрение…
– Я так и сказала ей, поэтому она и не пришла со мной; нужно, чтобы вы на это согласились по доброй воле.
– О, если б мне было куда уйти!..
– Неблагодарная. Здесь вы у себя дома.
– Паулита, верю вам, но поймите, долго оставаться в таком положении невозможно.
– Я понимаю.
– Что делать?
– Может, я скажу глупость, но почему бы вам не выйти замуж, как предлагает ваша мать?
– Сохрани, боже!
– Почему? Скажите откровенно.
– Паулита, вы же знаете, я люблю другого.
– Знаю, но из этой любви ничего путного не выйдет: он пират, и сами понимаете, ну как он может появиться во владениях испанского короля? Вы тоже не в силах разыскивать его по океанам, так когда же и как вы с ним встретитесь? Слышали, что о них рассказывают, – они похищают женщин, а потом, когда подруга им прискучит, убивают ее.
– Что вы, Антонио такой хороший.
– Они все хороши, когда мы их любим и когда они нас домогаются. Потом, узнав их поближе, мы каемся, что были так доверчивы. Ваш Антонио такой же, как и все остальные пираты. Иначе он ушел бы от них.
– Но я его так люблю!
– То-то и худо, что вы его любите. Поймите, он для вас недосягаем, как звезда на небе. Когда мы молоды, у нас в голове одни глупости, а потом приходится раскаиваться.
– А я все-таки верю, что мы с ним снова увидимся.
– Вы с ума сошли, Хулия! Уж не думаете ли вы, что пират посмеет показаться в Мехико? Да его повесят, едва он сойдет на берег. Может, вы надеетесь вернуться на Эспаньолу? Но и в этом случае вы не увидите его, ведь с этими людьми можно встретиться только случайно; а кроме того, вам не так-то просто уехать из Новой Испании. Послушайтесь моего совета, забудьте, как сон, вашу несбыточную любовь. Примите предложение и выходите замуж. Покинув дом вашей матери, вы будете полной хозяйкой у себя. Уверяю вас, кому вы ни расскажете о своей любви к пирату, всяк посмеется над вами. Это как если бы я влюбилась в турецкого султана.
– Но ведь он так любит меня!
– Хулия, Хулия, вы ребенок. Думаете, он вспоминает о вас? Да он понятия не имеет, куда вас забросила судьба. И уж конечно, он не так наивен, как вы, и не станет хранить вам верность, – уж он-то понимает, что вам с ним больше не встретиться. У них повсюду жены, в каждом селении, в каждой деревне; самые знатные девушки становятся их добычей. Примиритесь с тем, что он больше не думает о своей Хулии, для него она умерла.
– Паулита, если б вы знали, как мне больно от ваших слов!
– Мне очень жаль, но я полюбила вас, как сестру, и хочу излечить вас от этого безумия; вот почему я советую вам принять предложение и заодно уйти из дома, где с вами так дурно обошлись. Сперва это покажется вам тяжкой жертвой, вы все время будете думать о вашем пирате, он будет мерещиться вам повсюду. Но через год вы поблагодарите меня и сами будете смеяться над своей былой любовью. Ну, как, согласны вы, чтобы я послала мужа за вашей матерью?
Хулия задумалась, потом ответила с решимостью:
– Согласна.
– Вот, дорогой мой Москит, – сказала Паулита, – отнеси этот платок сеньоре, у которой я была, и скажи, что дочь ждет ее.
Москит торопливо вышел.
– Теперь, когда мы одни, – продолжала Паулита, – я расскажу вам в утешение, что в моей жизни тоже была первая любовь, я тоже полюбила человека, который был для меня недосягаем, но не потому, что он уехал в дальние края и я потеряла надежду встретиться с ним, а потому, что он был графом, а я – простой бедной девушкой. Я стала бы ему не женой, а возлюбленной, он это понимал и объяснил мне, что нас разделяет пропасть. Он удержал меня от падения, я послушалась его и вышла замуж за Москита. Сердце мое разрывалось, но теперь я знаю, что поступила правильно: кем я была бы сейчас? – потерянной женщиной. Я все еще люблю его и не могу без волнения о нем вспоминать, но я крепко держу себя в руках и живу своей жизнью, понимая, что не мог жениться на мне дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Так его звали?
– Звали и продолжают звать. Дон Энрике Руис де Мендилуэта не умер, нет. Правда, никто не знает, куда он исчез, но я уверена, что он жив.
– Вы очень страдали?
– Очень. Но я одумалась. Любить недосягаемого для нас человека – сущее безумие, верьте, Хулия, я это узнала по опыту; а вы не могли бы стать даже возлюбленной человека, которого вам не суждено больше увидеть.
Закрыв лицо руками, Хулия расплакалась. Паулита подошла к ней и стала гладить ее по голове.
– Мне очень жаль, что я причиняю вам боль, – сказала она, – но вы мне говорили, что у вас нет настоящей подруги и некому дать вам разумный совет. Вы уже не можете по-прежнему спокойно жить у себя дома, ревность отравила сердце вашей матери, она всегда будет относиться к вам с недоверием. А кроме того, едва ли дон Педро Хуан откажется от своих посягательств.
– После всего происшедшего надеюсь, что откажется.
– Вы ошибаетесь; буря утихнет, понемногу он придет в себя и снова воспылает к вам страстью. Живя с вами под одним кровом, он опять начнет домогаться вашей любви, пока не разразится новая буря, похуже той, что пронеслась.
– Вот потому-то мне и не хочется возвращаться домой.
– Но куда же вам деться? Может, у вас призвание к монашеской жизни?
– О нет, нет!
– В таком случае, где бы вы ни поселились, вам угрожают преследования этого человека, и тогда если до вашей матери дойдут какие-нибудь слухи, она решит, что вы покинули ее дом, желая приобрести свободу.
– Боже мой! Что же делать?
– Хулия, только ли любовь к пирату мешает вам выйти за того, кого вам прочит в мужья мать?
– Только любовь к нему; если я потеряю надежду, мне все станет безразличным на этом свете.
– Ну, с любовью к пирату надо распрощаться.
– Не говорите этого…
– Такова жизнь. Решайтесь, выбросьте из головы все безумные мысли; никто не мешает вам по-прежнему любить пирата; но не мечтайте о невозможном. Возьмите пример с меня…
– Вы не любили по-настоящему.
– Как, я не любила его по-настоящему? Хулия, да я и сейчас еще всем сердцем люблю его; люблю до сих пор, хотя могу лишь вспоминать о прошлом. Я без памяти люблю его, и это святая святых моего сердца, я храню мое чувство, несмотря на все непреодолимые преграды, которые разлучили нас. Мне пришлось и, может, еще придется выдержать немалую борьбу с моим чувством, ведь я видела его, говорила с ним, он сидел рядом со мной, сжимая мою руку, и, наконец, ведь он знал, что я люблю его. Я чувствую, мне еще суждено с ним встретиться в жизни, но верьте мне, Хулия, я сумею совладать с собой. А теперь скажите, можно ли сравнить вашу мечтательную любовь с моими страданиями, с моей мучительной повседневной борьбой, – ведь стоило мне сказать одно только слово, и я стала бы если не женой, то любовницей человека, которого я боготворю? Хулия, продолжайте любить вашего пирата, но ради этого детского чувства не приносите в жертву вашу будущность и покой вашей матери.
В эту минуту с улицы донесся шум экипажа и раздался стул к в дверь.
– Это ваша мать, – сказала Паулита и поспешила к двери.
Хулия смертельно побледнела; дверь отворилась, и в дом вошел Москит, а следом за ним сеньора Магдалена.
Мать и дочь бросились друг другу в объятия и разрыдались, не в силах вымолвить ни слова.
Москит отозвал Паулиту и шепнул ей:
– Как ты думаешь, кого я встретил по дороге, идя к этой сеньоре?
– Кого же? – спросила Паулита.
– Дона Энрике собственной персоной.
– Господи! – воскликнула Паулита и вся затрепетала.
– Не пугайся, лучше придумай, куда его спрятать: он приехал, рискуя жизнью.
– Но что он тебе сказал? – спросила молодая женщина, едва держась на ногах от волнения.
– Что я ему для чего-то нужен. Завтра в полночь он ждет меня против собора.
– И больше ничего?
– Ничего.
– А про меня не спросил?
– Нет.
Паулита подавила вздох, чувствуя, как печаль переполняет ее сердце.
«Если бы Хулия любила так сильно, как люблю я!» – подумала про себя молодая женщина.
Наконец дочь и мать заговорили.
– Успокойся, дочурка, не плачь, – сказала мать, утирая слезы, – едем домой, и прости мне все. Ты не знаешь, что такое ревность, и не дай тебе бог когда-нибудь узнать это чувство. Едем домой. – И мать взяла Хулию за руку.
Хулия покорно поднялась.
– Прощайте, Паулита, – сказала она, обнимая молодую женщину.
– Прощайте, – ответила та и разрыдалась, не в силах долее сдерживать свое волнение.
– Паулита, приходите завтра же к нам, – сказала Хулия, – я жду вас.
– Да, да, непременно приду, – ответила Паулита, – нам нужно еще закончить наш разговор.
Хулия и сеньора Магдалена сели в экипаж и в окружении пеших слуг с фонарями отправились домой.
Переступив порог жилища, покинутого после такого тягостного объяснения с матерью, Хулия разом вспомнила все рассудительные советы Паулиты; казалось, из глубины сердца звучит чей-то голос и повторяет все сызнова. Да, Паулита несомненно права.
Сеньора Магдалена хмурилась и бросала по сторонам встревоженные взгляды. Угадав, что творится в сердце матери, Хулия мгновенно приняла решение принести себя в жертву ради ее счастья.
– Матушка, – не колеблясь долее, начала она, – вы говорили, что кто-то просил моей руки?
– Да, дон Хусто, брат графини Торре-Леаль, – ответила удивленная сеньора Магдалена.
– Так скажите ему, что я согласна. Только пусть не вздумает медлить и откладывать.
– Благодарю тебя, дочурка, благодарю. Да благословит тебя бог! – воскликнула, заливаясь слезами, сеньора Магдалена и бросилась в объятия дочери.
– Ради вас, матушка, – прошептала Хулия.
И обе умолкли.
VII. ШЕСТОЕ АВГУСТА
Шестого августа 1669 года в одиннадцать часов ночи в дом к донье Ане постучался закутанный в плащ человек. То был дон Диего, который пришел увидеться с ней впервые после описанной нами в свое время сцены.
Донья Ана грустила; дон Диего вырвался из ее объятий и, признавшись ей в любви, больше не приходил. Тщетно молодая женщина поджидала его каждый вечер; шли дни, дон Диего не появлялся. Смертельная тревога охватила донью Ану.
«Он пренебрег моей любовью, – думала она, – что мне делать дальше в этом уединении?.. Нет, нет, он еще придет, придет, я буду ждать».
В эту минуту в прихожей раздался стук в дверь.
– Это он! – воскликнула донья Ана, поспешно расправляя складки платья и приглаживая волосы.
Послышались шаги на лестнице, потом в коридоре, и, наконец, дверь отворилась.
– Дон Диего! – воскликнула молодая женщина, поднимаясь к нему навстречу.
– Донья Ана!
– Я боялась, что вы больше не придете.
– И вы не ошибались, донья Ана, я и впрямь решил больше не видеться с вами.
– Неблагодарный!
– Совесть мучила меня. Но я непрестанно думал о вас, вспоминал каждое ваше слово, и мне вдруг стало невыносимо грустно в моем одиночестве. Тогда я решил прийти и сказать вам…
– Что? Что?
– Что я люблю вас, что мне нужна ваша любовь, вы…
– Дон Диего! – воскликнула донья Ана, бросаясь в его объятия, – как я счастлива!
– И я счастлив, донья Ана. Я понял, что Марина безвозвратно потеряна для меня. Я, как и вы, одинок в этом мире. Вы любите меня и достойны моей любви. Я виноват перед вами и должен загладить свою вину.
– Загладить вину? Но какую вину, дон Диего?
– Я был причиной всех ваших бед, Ана, это я посоветовал Эстраде похитить вас. В ту ночь он пришел ко мне и предложил, что откажется от вас, уступит вас мне, но в своем ослеплении я пренебрег этим счастливым случаем и причинил нам обоим незабываемое горе.
– Не надо больше говорить об этом, если вы в самом деле считаете меня достойной вашей любви.
– Да, вы достойны ее, Ана, я, и только я, виновен в том, что вы стали возлюбленной дона Кристобаля де Эстрады. Теперь бог посылает мне возможность загладить мою вину перед вами, и я это сделаю. Вы будете моей женой, Ана.
– О, это слишком большое счастье! – воскликнула взволнованная донья Ана. – Этого я не заслужила. Снова подняться в ваших глазах – какая радость для меня!
– Ана, я люблю вас, вы стоите моей любви, я сделаю вас счастливой; вы утешите меня в одиночестве, замените мать моей бедной дочери, мы уедем далеко-далеко, туда, где нас никто не знает. К счастью, я еще молод и богат, мы можем начать новую жизнь.
– Дон Диего! Вы – ангел!
– Завтра утром уложите ваши вещи, после полудня мы покинем город.
– О, какое счастье, какое счастье!
– Завтра в два часа дня я заеду за вами в коляске.
– Боже мой, ночь покажется мне вечностью! Настал счастливейший день моей жизни. Какое сегодня число? Я хочу навсегда сохранить его в памяти.
– Право, не помню.
– А я помню, сегодня шестое августа.
– Шестое августа? – проговорил ошеломленный дон Диего, вспоминая, что именно в этот день назначена его встреча с доном Энрике.
– Да, шестое августа! Но что с вами?
– Ничего, – ответил дон Диего, вынимая из кармана золотые часы,осыпанные драгоценными каменьями. – Без четверти двенадцать, – сказал он про себя.
– Но почему вы вдруг помрачнели? Этот день связан для вас с тягостными воспоминаниями?
– Да, Ана. Я должен немедленно уйти.
– Объясните же, в чем дело, дон Диего.
– Теперь некогда, оставим до завтра. Прощайте, моя прекрасная дама, – сказал он, целуя ее.
– Прощайте, любовь моя.
Дон Диего поспешно удалился.
– Тут скрыта тайна, – сказала донья Ана, оставшись одна. – Но все же он мой.
Дон Диего направился на ближайшую улицу, туда, где была назначена встреча. Впрочем, он не верил в нее. Дон Энрике был в его глазах обманщиком, – он обещал ему вызволить из плена жену, а вместо доньи Марины ему передали донью Ану. Юный пират, несомненно, скитается где-то вдали от Мексики, и все же дон Диего сдержит данное слово.
Была полночь, когда дон Диего, свернув на улицу Такуба, подошел к тому дому, где некогда жила донья Марина. Из комнат через балконы просачивался свет – необычное явление для столь позднего часа.
Едва дон Диего остановился напротив дома, как из дверей показалась человеческая фигура.
– Кто идет? – спросил Индиано.
– Тот, кто вам назначил встречу.
– Дон Энрике!
– Да, это я, дон Диего. Как вы знаете, не в моих обычаях нарушать данное слово.
– И несмотря на это, вы позволили себе низко обмануть меня.
– Замолчите или, клянусь, вы раскаетесь в своих словах.
– В добрый час, – ответил дон Диего, хватаясь за шпагу, – защищайтесь, и пусть бог нас рассудит.
– Еще не пришло время, – сдержанно ответил дон Энрике, не дотронувшись до своего оружия, – но оно скоро настанет. А пока что будьте добры последовать за мной.
– Куда?
– Вы боитесь?
– Нисколько. Ведите.
Дон Энрике сделал пол-оборота и очутился против входа в дом; отворив дверь, он пересек патио, Индиано последовал за ним. Дон Энрике одним духом поднялся по лестнице, Индиано не отставал от него.
Печальные и мучительные воспоминания теснились в душе дона Диего: перед ним возник прекрасный образ доньи Марины, ее лицо, оживленное первой любовью, вереница проведенных здесь вместе блаженных дней… К этим воспоминаниям присоединились память о горестных событиях в Портобело, страх за судьбу бедной Марины и угрызения совести из-за любви к донье Ане, которую он обещал увезти завтра из Мехико.
Противоречивые мысли сменяли одна другую. Внезапно ему пришло на ум, что, пожалуй, для полноты мщения дон Энрике задумал убить своего врага именно здесь, ведь здесь, в этом доме, ему было нанесено столь тяжкое оскорбление.
Дон Диего был человек отважный, но порой темные предчувствия сжимают и леденят сердце даже самого безрассудного смельчака.
Дойдя до главного зала, дон Диего невольно остановился и опустил руку на эфес шпаги.
Дон Энрике даже не взглянул на него; распахнув дверь, он стремительно перешагнул порог зала. За ним, не отставая, вошел Индиано, но, едва оказавшись за порогом, он вскрикнул и застыл на месте.
Зал был по-царски убран и залит огнями, а в кресле у стола сидела донья Марина.
При виде дона Энрике молодая женщина подняла голову; заметив позади него дона Диего, она попыталась встать, но силы покинули ее, и, произнеся какие-то невнятные слова, она протянула ему навстречу руки.
– Дон Диего, – торжественно проговорил дон Энрике, – вот ваша супруга, такая же чистая и непорочная, как в день вашей разлуки. Ее добродетели и красота украсились ныне сияющим ореолом мученицы. Ее сердце восторжествовало над жестокими испытаниями. По милости бога, благодаря ее твердости и моей счастливой звезде, донья Марина вернулась к вам; прижмите же ее к своей груди, она достойна восхищения.
– Марина, – сказал Индиано, обнимая свою молчаливую и трепещущую подругу. – Марина, не сон ли это? Я снова с тобой, снова прижимаю тебя к моей груди. Так скажи хоть слово, скажи, что я не грежу.
– Нет, ты не грезишь, Диего, – прошептала Марина. – Господь вернул нам счастье.
Дон Энрике собирался покинуть зал и оставить супругов наедине, но Марина, тихонько отстранив мужа, удержала своего спасителя за руку.
– Диего, – сказала она, – вот человек, которому мы после бога обязаны своим счастьем и честью. Он был моим покровителем среди невзгод, моим прибежищем в горе. Это он поддерживал во мне силы, ради моего спасения рисковал жизнью, вырвал меня из плена, с неслыханной дерзостью проложив себе путь сквозь флотилию беспощадного Моргана.
– Марина, ты еще не знаешь, насколько благороден этот человек: одержав надо мной победу в крепости Портобело, он подарил мне свободу и жизнь. Когда пираты увезли тебя, я обвинял его в обмане – ведь он обещал добиться твоего освобождения. Но я тогда еще не знал всего величия этой души. Кабальеро дон Энрике Руис де Мендилуэта, сеньор граф Торре-Леаль, согласны ли вы почтить своей дружбой двух спасенных вами людей?
– Сеньор дон Диего де Альварес, я не кабальеро и не граф, я всего-навсего изгнанник, мексиканец без имени, человек, потерявший родину и семью. Я – пират Железная Рука, явившийся сюда, чтобы поспеть вовремя на свидание с вами, назначенное мною на сегодняшнюю ночь. Назначая вам эту встречу, я горел желанием отомстить вам за страшное оскорбление. Сейчас я не решаюсь больше мстить; я удовлетворен тем, что смог передать вам из рук в руки вашу жену, я осчастливил моих врагов, в моем сердце не осталось места для прежней жгучей злобы.
– И вы отказываетесь от нашей дружбы? – спросила донья Марина.
– Сеньора, я не хочу тешить себя несбыточными мечтами.
– Почему же несбыточными?
– Сегодня ночью я уезжаю.
– Куда?
– Не знаю. Куда-нибудь в дальние края, чтобы там похоронить мои невзгоды. Я должен исчезнуть, бежать от гнева вице-короля. Надежный человек ожидает меня в полночь у собора; с ним я обдумаю мой путь, и завтрашний рассвет застанет меня далеко отсюда.
– Дон Энрике! – воскликнул Индиано. – По моей вине вы потеряли родину, имя, богатство, будущность. За зло вы отплатили добром. Так завершите мое счастье, позвольте вернуть вам все, что я у вас отнял.
– Это невозможно, все потеряно навеки.
– Окажите мне эту последнюю милость, иначе совесть не даст мне покоя. Я уверен, что добьюсь своей цели.
– Но как? – печально спросил юноша.
– Сейчас я еще и сам точно не знаю как, но я твердо убежден в успехе.
– Не надейтесь.
– Я прошу вас о немногом, дон Энрике, дайте мне всего неделю срока. Что значит для вас неделю? Вы проведете ее тайно в моем доме, и, если за этот срок я ничего не достигну, даю вам слово быть с вами откровенным и не удерживать вас дольше.
– Дон Диего…
– Исполните мою просьбу, подумайте о вашем будущем, о вашем счастье. Я бесконечно благодарен вам и не стыжусь признаться, что вы превзошли меня в мужестве и благородстве.
– Соглашайтесь, – сказала донья Марина.
– Пусть будет по-вашему, – уступил дон Энрике.
Индиано и Марина обняли его. На глазах юноши навернулись слезы.
– А теперь, – сказал Индиано жене, – пойдем к нашей дочурке.
– Да, да! – подхватила, повеселев, донья Марина. – И вы пойдете с нами, дон Энрике.
Все трое с облегченным и радостным сердцем вышли на улицу и поспешили к дому дона Диего.
VIII. РАДОСТЬ ДОНА ХУСТО
Ровно в полночь, как было условлено, Москит стоял против собора, поджидая дона Энрике, но тот уже и не вспоминал о нем.
Часы шли, Москит дрожал от утренней свежести, но не покидал своего поста до тех пор, пока солнечные лучи не позолотили городских башен.
– Итак, дон Энрике не пришел, – сказал про себя Москит, – вернемся восвояси. Если я ему нужен, он знает, где меня найти. – И Москит направился домой.
Паулита с нетерпением ждала мужа; весть о том, что дон Энрике в Мехико, наполнила таким смятением ее сердце, что она не могла ни заснуть, ни даже прилечь.
От Москита она знала, что дон Энрике назначил ему встречу ночью у собора, и надеялась услышать о новых планах юноши; ей то и дело чудились шаги по лестнице и стук в дверь. Несмотря на свою непреклонную решимость, о которой Паулита твердила Хулии, ей было трудно сладить с сердцем.
Наконец муж вернулся.
– Как, ты еще не ложилась, Паулита? – удивился он.
– Что случилось? – спросила она, не отвечая на вопрос мужа.
– Ничего. Дон Энрике не пришел, а я зря всю ночь на улице проторчал.
– Но почему он задержался?
– Не знаю; да и кто может знать, что там у него стряслось.
– Как же теперь быть?
– Я понятия не имею, где его искать. Сегодня к вечеру он, верно, сам придет ко мне. А тем временем я сосну часок, думаю, что и тебе не мешает отдохнуть.
– Мне спать не хочется, лучше я схожу к Хулии.
– Как ты привязалась к ней!
– Она такая хорошая и такая несчастная!
– Ну что ж, иди.
Москит улегся и вскоре безмятежно захрапел. Паулита оделась тщательнее обычного; мысль о доне Энрике не шла у нее из головы, ей казалось, что она непременно встретится с ним на улице, вот почему она постаралась принарядиться.
С гордым сознанием своей красоты она вышла на улицу и направилась к дому Хулии.
Несмотря на раннее время – пробило только восемь часов утра, – весь дом был на ногах. Хулия не показывалась из своей комнаты; сеньора Магдалена успела послать дону Хусто записку.
Паулита и дон Хусто подошли к дому почти одновременно, он спешил к сеньоре Магдалене, она – к сеньорите Хулии. Тихонько постучавшись, Паулита вошла в спальню к подруге.
Хулия была очень бледна; темные тени под глазами говорили о том, что она провела бессонную ночь. При виде Паулиты она поднялась к ней навстречу.
– Добрый день, Хулия. Как вы себя чувствуете? Вы видите, я прибежала к вам чуть свет, мне стало вдруг тревожно.
– Вы доставили мне большую радость, Паулита. Я очень несчастна, и, кроме вас, у меня нет друга…
– Ну, как? Что говорит ваша мать? Что вы надумали?
– Паулита, ваши советы, тревога, которую я прочла в глазах матушки, ее плохо скрытая грусть, воспоминания обо всем, что здесь произошло, страх перед жизнью, ожидающей меня в материнском доме, – все это, как мне ни больно, заставило меня принять твердое решение.
– И что же вы решили?
– Выйти замуж, как того желает матушка.
– Слава богу! Слава богу! Вот разумное решение! Увидите, вы будете поминать меня добрым словом.
– Да, я решилась и уже сказала об этом маме, но просила ее об одном…
– О чем же?
– Поспешить со свадьбой.
– Боже мой, так у вас больше решимости, чем я предполагала.
– Мне не на что больше надеяться, к чему же оттягивать? Для меня это тягостная жертва, но бедная мама получит наконец душевный покой. Пусть хоть она будет счастлива, раз для меня счастье невозможно. Я помеха на ее пути, мое замужество все уладит.
– Но кого она выбрала вам в мужья? Вы-то знаете этого человека?
– Как же! Это брат графини де Торре-Леаль, дон Хусто, тот самый, что разыскал меня у вас в доме.
У Паулиты вырвался возглас досады.
– Вы знаете что-нибудь плохое о нем? – спросила Хулия.
– Нет, я просто не люблю его, ведь он враг дона Энрике.
– Того человека, которого вы любили?
– И продолжаю любить, Хулия, продолжаю любить; на мою беду, он приехал в Мехико.
– Когда?
– Точно не знаю; но, едва вы вчера уехали от нас, муж рассказал, что видел его и говорил с ним.
– И эта весть взволновала вас?
– Вы даже не представляете себе, что творится со мной. То я чувствую прилив радости, то меня охватывает невыносимая грусть. Я и хочу и боюсь увидеться с ним. Мне мучительно стыдно перед мужем, что я люблю другого, и вместе с тем я не раскаиваюсь в моей любви. Я горжусь тем, что сладила с чувством, и тут же проклинаю свою нерешительность, – лучше б я стала его возлюбленной. Он так смел, благороден и великодушен, он стоит любой жертвы. Да, он стоит того, чтобы женщина пожертвовала ради него своей честью и гордилась этим больше, чем королева своей короной.
– Так сильно вы его любите?
– Ах, Хулия, я схожу с ума от любви! Всю ночь напролет я не сомкнула глаз и прибежала к вам в такую рань, чтобы поплакать у вас на груди и чтобы вы пожалели меня. И зачем только он приехал в Мехико?
– Он, верно, уже женился? – спросила Хулия.
– Женился? – в ужасе и гневе повторила Паулита. – Нет, такого испытания я не выдержала бы… Не могу допустить даже мысли, чтобы он полюбил другую!..
– Но вы же вышли замуж…
– Я – да, но я не желаю, чтобы женился он… А в сущности, какое право я имею чего-то требовать, на что-то надеяться?
И Паулита залилась горькими слезами.
– Успокойтесь, успокойтесь, – повторяла Хулия, гладя ее по голове. – Где же ваша твердость, о которой вы мне вчера толковали?
– Я была тверда, Хулия, но, узнав, что он здесь, я потеряла мужество. Горе мне, горе мне!
– А как вы думаете, Паулита, что было бы, если бы тот, кого я люблю, вдруг появился передо мной?
– Но это невозможно, Хулия, ваш пират не смеет с мирными целями ступить на американскую землю.
– А ваш возлюбленный все-таки появился.
– Это совсем, совсем другое дело. Дон Энрике вернулся в Мехико, потому что он здесь родился, к тому же он не совершил никакого преступления против короля, а вашему даже в Веракрусе нельзя высадиться.
В дверь постучали.
– Кто там? – спросила Хулия.
– Сеньорита, – раздался за дверью голос служанки, – госпожа просит вашу милость пожаловать к ней.
– Скажи, я иду, – ответила Хулия и, обращаясь к Паулите, прибавила: – Наверное, матушка хочет сообщить мне ответ дона Хусто. Не уходите, подождите здесь, мне так нужна ваша поддержка.
– Не теряйте мужества, Хулия.
– Не бойтесь за меня, вы видите, я спокойна.
Хулия поднялась и с величавым видом вышла из комнаты, приведя Паулиту в изумление своей решимостью.
В то время, как Хулия и Паулита беседовали между собой, в кабинете сеньоры Магдалены тоже шел разговор о серьезных вещах.
Дон Хусто, как известно, явился в дом одновременно с Паулитой и направился в покои сеньоры Магдалены. Он велел доложить о себе и был тотчас же принят.
– Сеньора, – начал дон Хусто, – получив от вас записку, я поспешил откликнуться на ваш зов. Располагайте мной.
– Благодарю вас, дон Хусто. Известно ли вам, что произошло с моей дочерью?
– Да, сеньора, и поверьте, я весьма огорчен, что послужил невольной причиной печального происшествия и тех горестей, что выпали на долю Хулии, которую я всем сердцем люблю и почитаю.
– Благодарю вас.
– Я имел счастье узнать, где Хулия нашла себе приют, и смог прийти и предложить ей мои скромные услуги.
– Я этого не знала…
– Я хотел сообщить вам об этом не раньше, чем вы успокоитесь, чтобы испросить у вас прощения для Хулии и проводить ее домой.
– Благодарю вас, Хулия уже дома.
– О, как я рад!
– Она здесь и согласна стать вашей женой, если вы по-прежнему настаиваете на вашем предложении.
Дон Хусто вскочил, как ребенок, которому показали игрушку; он даже побледнел от радости.
– Боже мой! – воскликнул он, – как я счастлив! Сеньора, вы меня осчастливили, да, осчастливили! Хулия станет моей супругой! Когда же? На какой день намечается свадьба?
– Хулия поставила условие…
– Она желает повременить?
– Напротив, заключить брак немедленно.
– Такое условие я могу только приветствовать.
– Значит, вы согласны?
– Еще бы! Сегодня, завтра, когда Хулия пожелает.
– Так спросим у нее.
– Эта неделя вообще необыкновенно удачна для меня. Если бы вы знали!
– В чем же удача?
– Через три дня истекает срок, назначенный графом де Торре-Леаль для возвращения его старшего сына, которого все считают умершим. Ежели в этот день он не явится, – а мне известно, что он перешел в лучший мир, откуда возврата нет, – мой племянник, младший сын графа, вступит в права наследства. Вы легко можете себе представить мою радость, ведь он сын моей сестры, а кроме того, я его опекун.
– В таком случае, если желаете, назначим свадьбу именно на этот день.
– Если Хулия согласится, то ровно через три дня мы навсегда соединимся с ней. Какое это для меня счастье!
Дон Хусто потирал от радости руки.
– Хотите, я позову Хулию? – спросила сеньора Магдалена.
– Если вы находите возможным…
– Мария! – кликнула служанку сеньора Магдалена.
– Сеньора, – отозвалась Мария.
– Что, сеньорита Хулия уже встала?
– Да, сеньора.
– Попроси сеньориту Хулию ко мне.
Служанка вышла исполнить распоряжение хозяйки, а дон Хусто, не в силах скрыть свою радость, принялся шагать из угла в угол.
По правде говоря, сеньора Магдалена не менее жениха радовалась предстоящей свадьбе: одним соблазном меньше для Педро Хуана и одной надеждой больше на мир в доме.
IX. ТВЕРДОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
Хулия появилась перед ожидавшими ее матерью и гостем бледная, но спокойная; голос ее не дрожал, только глаза покраснели от слез.
– Вы меня звали, матушка? – спросила она.
– Да, дочь моя, сядь и выслушай меня.
Хулия без возражений повиновалась.
– Вчера, – продолжала сеньора Магдалена, – ты выразила согласие стать супругой сеньора дона Хусто, который просил твоей руки.
– Да, матушка.
– Единственным условием ты поставила заключение брака возможно скорее.
– Да.
– Ты по-прежнему согласна на этот брак?
– Согласна.
– Сеньор желал бы назначить свадьбу через три дня.
– Он может назначить любой день по своему усмотрению.
– В таком случае, дочурка, я полагаю, ты можешь поговорить с ним наедине.
– В этом нет надобности, – сказала молодая девушка.
– Надобности нет, но я полагаю, что так лучше, и оставляю вас одних; раз вы собираетесь пожениться, вам есть о чем побеседовать между собой.
И, не ожидая ответа, сеньора Магдалена ушла, оставив наедине дона Хусто и Хулию.
Дон Хусто, не привыкший к женскому обществу, почувствовал смущение: перед ним была девушка, согласившаяся стать его женой, а он не решался сказать ей ни единого слова. Брак с Хулией представлялся дону Хусто огромной победой; воплощалась в жизнь его мечта, и он боялся, как бы эта мечта не рассеялась.
Хулия молчала, потому что ей решительно нечего было сказать своему жениху; она даже не глядела в его сторону.
Наконец, сделав над собой неслыханное усилие, дон Хусто нарушил молчание; но как и все недалекие люди, он повел речь так неуклюже, что, пожалуй, ему лучше было бы по-прежнему безмолвствовать.
– Так вот как, Хулия, вы хотите выйти за меня замуж, – сказал он.
– Нет, этого я не говорила, – возразила молодая девушка, – но я согласна назвать вас моим мужем.
– Значит, вы любите меня, – продолжал он самодовольно.
– Дон Хусто, этого я пока не могу утверждать.
– Но вы же выходите за меня замуж? Раз вы согласны стать моей женой, стало быть, вы меня любите. Зачем отрицать?
– Кабальеро, если вы настаиваете на тягостном для меня разговоре, позвольте откровенно поведать вам, что происходит в моем сердце, и объяснить мой поступок. Если затем вы по-прежнему будете настаивать на браке, я со своей стороны дам согласие.
– Откройте мне ваше сердце, Хулия.
– Прежде всего я должна вас предупредить, сеньор, что я вас не люблю.
– Предупреждение весьма для меня горестное.
– Но необходимое. Я не люблю вас, слышите? Не люблю, но это не значит, будто я вас ненавижу, будто вы мне неприятны и вызываете во мне чувство отвращения…
– Это значит…
– Это значит, что вы мне совершенно безразличны.
– О господи!
– Не удивляйтесь. Быть может, со временем, оценив ваше благородство и приятное обращение, вашу привязанность и уважение ко мне, я полюблю вас как доброго мужа. Но сейчас я не могу к вам относиться, как невеста к жениху.
– Хулия!
– Я говорю правду и хочу, чтобы вы узнали от меня все, я еще никогда никого не обманывала.
– Но если вы не любите меня, я не смогу быть спокойным.
– Напрасно вы так думаете, дон Хусто. Я не посрамлю своего имени и чести, я свято исполню мой долг перед религией. Знайте, в моих руках ваша честь будет так же сохранна, как драгоценности в шкатулке. Если бы, став вашей женой, я почувствовала, что в моем сердце зародилась любовь к другому, я задушила бы себя собственными руками, и никто не узнал бы об этом чувстве.
– Хулия, такие суждения делают вам честь. Ежели дело обстоит так, я согласен. Да что я говорю, согласен? Я счастлив быть вашим супругом.
– Слушайте дальше, сеньор. Я вам откровенно призналась, что не люблю вас, но обещаю хранить вам безупречную верность. Кроме того, я хочу предупредить вас, что мне ненавистен деспотический обычай супругов ревниво следить друг за другом, как это принято в Испании. Я никогда не соглашусь стать пленницей в браке. По-моему, муж, который берет на себя охрану своей чести вместо того, чтобы довериться сердцу достойной женщины, поступает безрассудно. Согласны?
– О да, Хулия, вполне.
– Теперь скажите, дон Хусто, продолжаете ли вы по-прежнему настаивать на нашем браке?
– Даже больше, чем прежде.
– Итак, если вы не забудете ничего из сказанного, назначьте день нашей свадьбы. Но до этого дня, прошу вас, не ищите встречи со мной. Я решаюсь на очень важный шаг в моей жизни и хочу побыть одна; запершись у себя, я хочу молиться и плакать, и, если мои горестные переживания не сведут меня в могилу и не лишат рассудка, в назначенный день я стану рядом с вами, чтобы отдать вам мою руку.
– Но, Хулия, какое горе терзает вас?
– Это тайна моего сердца. Я не выведываю ваших тайн, не стараюсь узнать что-либо о вашей прошлой жизни. Научитесь доверять мне, как я доверяю вам.
Такой ответ ошеломил дона Хусто.
– До свидания, сеньор, – закончила молодая девушка, – до дня нашей свадьбы.
– Прощайте, Хулия.
Молодая девушка ушла, а дон Хусто на мгновение задумался, потом, словно придя в себя, воскликнул:
– Тем лучше! Такой она еще больше мне нравится. Она не похожа на других женщин. Превосходно. Итак, скоро она будет моей.
Покинув комнату, он отправился разыскивать сеньору Магдалену.
– Ну, как? – спросила она дона Хусто.
– Все прекрасно, – ответил тот, – Хулия именно та женщина, которую я искал. Мужчина в моем возрасте не жаждет романтических приключений и рыцарских подвигов.
Паулите не терпелось поскорее увидеть Хулию, что не мешало ей по-прежнему думать о доне Энрике. Бедная женщина страдала.
Внезапно появилась Хулия и бросилась в ее объятия.
– Ну, как? – спросила Паулита, вглядываясь в лицо подруги.
– Жертва принесена. Я обещала быть его женой.
– Вы ненавидите его?
– Нет, я просто его не люблю.
– Как мне жаль вас! И все-таки жизнь ваша потечет если не счастливо, то хоть спокойно, а главное, вы осчастливили вашу мать.
– Совесть у меня чиста, Паулита, но сердцу больно. Не надо больше говорить об этом, решение принято.
– Вы правильно поступили, Хулия. Когда назначена свадьба?
– Через три дня, как я понимаю. В этот день истекает срок какого-то важного для дона Хусто дела. Ну, что бог даст! Я сказала, что не люблю его, и просила не приходить и не говорить со мной до самой свадьбы. Я хочу эти три дня принадлежать только себе. Ну, а как вы, немного успокоились?
– Ах, если бы! Меня не покидает мысль, как поступить?
– Будьте мужественны, решительны, и вы победите. Вы мне дали разумный совет? Вот и следуйте ему.
Паулита вскоре распрощалась, и Хулия заперлась у себя в спальне. Они обе были несчастны, но старались всячески поддержать друг друга; каждая из них, чувствуя в сердце смертельный холод, хотела согреть подругу теплом сочувствия.
Дон Хусто и сеньора Магдалена занялись приготовлением к свадьбе.
Педро Хуан злился, но пытался разыграть полное безразличие, словно в доме не происходило ничего особенного.
Желание Хулии было исполнено: никто с ней не советовался, ее судьбой распоряжались так, будто у нее не было собственной воли.
X. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Следуя за Индиано, дон Энрике и донья Марина подошли к дому, где он жил. Донья Марина поспешила в детскую, к своей дочурке, и всецело отдалась материнскому счастью.
Дон Диего велел приготовить комнату для дона Энрике, где ему предстояло провести неделю.
На следующее утро дон Диего отправился во дворец к вице-королю маркизу де Мансера.
Дон Диего пользовался большим расположением маркиза и искренне любил его, но не за те милости, которые ему оказывал маркиз, а за его трезвые суждения, прекрасное образование и умение быть мудрым и обходительным на посту правителя. Видно, недаром современники маркиза окрестили его проницательным хитрецом.
Вице-король принимал дона Диего в любое время и охотно вел с ним наедине долгие беседы.
В то утро вице-король был в превосходном расположении духа: он получил добрые вести о формировании отрядов на побережье для отпора пиратским набегам, что составляло его главную заботу.
Дон Диего, хорошо знавший вице-короля, сразу понял, что более благоприятного случая для важного разговора и представить себе невозможно.
– Добро пожаловать, кабальеро дон Диего де Альварес, – приветствовал вице-король своего крестника.
– Всегда и при всяком случае рад служить вашей светлости.
– О чем говорят в нашем благородном и честном городе?
– Сеньор, обитатели его живут спокойно, доверясь отеческим попечениям вашей светлости.
– Не правда ли? Я и в самом деле никогда не забываю о делах его величества и его верных подданных в Америке. Вчера вечером пришли вести о высоком состоянии духа новых отрядов береговой охраны.
– От всего сердца поздравляю вашу светлость.
– Теперь пираты не сунутся безнаказанно в Новую Испанию.
– Надеюсь, сеньор. Радуясь таким добрым вестям, осмелюсь просить вашу светлость выслушать одно сообщение, переполнившее счастьем мое сердце.
– Я охотно его выслушаю. Дорогой крестник, раз оно вам доставило столько радости.
– Сеньор, я нашел свою супругу.
– Как? Донью Марину? Мою дорогую крестницу?
– Да, сеньор!
– Весьма этому рад! А как обрадуется вице-королева! Но разве вы не говорили, что донья Марина погибла от руки пиратов в Портобело?
– Я и сам так думал. Но, к счастью, ей удалось спастись, и вот она здесь.
– Здесь, в Мехико! Ну, расскажите же мне об этом чудесном спасении. Я всегда считал, что женщина, попавшая в руки пиратов, обречена на смерть или – еще хуже – на бесчестие.
– Милосердный бог послал донье Марине в помощь одного человека, который по прихоти судьбы очутился среди пиратов и сумел завоевать расположение их главаря, злодея Моргана. Благодаря отваге и находчивости, ему удалось спасти и вернуть мне мою супругу.
– Но расскажите же, как все произошло?
– Донья Марина попала в руки морских разбойников; Морган влюбился в нее и велел с почетом проводить ее на борт своего корабля. Я также был захвачен в плен; но человек, оказавшийся нашим ангелом-спасителем, даровал мне свободу и обещал вырвать из плена Марину. Шли дни, пираты покинули Портобело, и я уже считал, что моя жена погибла или обесчещена, а это, как вы сами сказали, еще хуже. Морган домогался любви Марины, она боролась, прибегая ко всяким уловкам. Отчаявшись добиться ее любви, злодей велел бросить в трюм мою бедную Марину. Наш ангел-спаситель, пользуясь случайной отлучкой Моргана, перевел Марину на свой корабль, а когда пираты вступили в бой с испанской флотилией, он поднял паруса и ушел в море. Чтобы осуществить свой дерзкий замысел, спаситель Марины пренебрег всеми опасностями и не остановился перед смертельным риском. С вашего позволения, сеньор, скажу, что лишь немногие способны на столь отважный подвиг.
– Итак, пират-спаситель сейчас здесь, в Мехико?
– Да, сеньор, он сам привез мне мою супругу.
– Вот как, он не побоялся явиться сюда?
– Очевидно, своим добрым поступком он надеялся заслужить себе прощение.
– Поступок необычный! Этот человек не похож на других.
– Да, сеньор, он обладает благородным сердцем.
– А как его имя?
– Разрешите сперва испросить для него полное прощение у вашей светлости, а уж потом сообщить его имя.
– Вы просите для него прощения? Как видите, я не преследую его и не лишаю свободы, ибо вы поведали мне обо всем не как вице-королю, а как дворянину. Но могу ли я его помиловать, когда он сам об этом не просит? Ведь мне даже неизвестны все совершенные им злодеяния.
– Сеньор, за него прошу я. Мне известно, что тягостные обстоятельства оторвали этого человека от его родины и привели в стан пиратов. Он не совершал никаких преступлений и спас честь знатной дамы, вашей крестницы. Вот почему я прошу у вашей светлости полного прощения для этого человека.
– Пусть так, дарую ему прощение. Как его имя?
– Дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
– Дон Энрике! – воскликнул вице-король. – Тот самый дон Энрике, которого я подверг изгнанию после незабываемой сцены, разыгравшейся в вашем доме!
– Он самый, ваша светлость.
– Но кто распространил слух об его смерти?
– Не знаю, сеньор. Да это и не имеет значения.
– Однако вам известно, что дон Энрике был изгнан мною за недостойное поведение.
– Прошу прощения, сеньор, во всем случившемся виновен один лишь я, и с моей стороны было бы нечестно скрыть это от вашей светлости.
– Вы, дон Диего? Право, я не могу считать вас виновным, я знаю вас как безупречно честного человека.
– О сеньор, умоляю вас, не заставляйте меня рассказывать все подробности и причины того, что произошло у меня в доме. Я замыслил погубить дона Энрике. Он невиновен, виноват во всем я один, клянусь честью!
– Верю вам. Но вспомните, на совести дона Энрике лежит похищение доньи Аны.
– Сеньор, донью Ану похитил не он, а дон Кристобаль де Эстрада, погибший при защите Портобело. В этом похищении дон Энрике также неповинен. Донья Ана находится сейчас в Мехико, и, если ваша светлость желает, она может подтвердить справедливость моих слов.
– Выходит, все возведенные на дона Энрике обвинения были лишь злыми наветами его врагов?
– Могу я узнать, ваша светлость, кто именно возводил обвинения на дона Энрике?
– У меня нет причин скрывать это от вас, юноша возбуждает во мне большое сочувствие. Поверьте, я сожалею, что был несправедлив к нему. Нам, правителям, нетрудно впасть в ошибку, ведь все вокруг стараются скрыть от нас правду.
– К несчастью это так, сеньор.
– Так вот, эти ложные сведения поступали от монахинь через посредство дона Хусто, который приходится братом супруги покойного графа.
– Понимаю, сеньор, понимаю и сейчас все объясню вашей светлости.
– Как, вы что-нибудь знаете об этом?
– Да, сеньор. В те времена, когда я был врагом дона Энрике, брат графини явился ко мне и предложил действовать заодно с ним против дона Энрике, служившего ему помехой. Он собирался убрать юношу со своего пути. Я не стал его слушать и прогнал прочь с моих глаз. Теперь понятно, почему он постарался оклеветать дона Энрике, унизить его в ваших глазах.
– Возможно, вы правы, дон Диего.
– Такой человек, как дон Энрике, не способен на низкие поступки, позорящие его честь. Он был моим врагом, ваша светлость, он знал или, во всяком случае, подозревал, что причиной его изгнания была сцена, происшедшая в моем доме; ему были известны мои черные замыслы против него, по моей вине он потерял имя, родину, семью, будущность. И вот, вместо того чтобы отомстить мне, он дарует мне свободу и спасает жизнь и честь моей жены.
– Замечательный поступок! Но вы, дон Диего, нисколько не уступаете ему в благородстве, ведь я по вашей просьбе принимаю участие в его судьбе. Но как вы полагаете, какая причина заставила дона Хусто оклеветать дона Энрике?
– Не знаю. Может быть, это связано с наследством покойного графа, ведь дон Хусто брат его вдовы. Если ваша светлость желает, я все разузнаю.
– Да, вы мне окажете этим услугу. Я желал бы, как честный человек, восстановить справедливость и загладить свою невольную вину перед юношей.
– И вы согласны даровать ему прощение, ваша светлость?
– Скажите, дон Диего, только вы и ваша супруга знаете, что дон Энрике был в стане пиратов?
– Нет, есть еще одно лицо.
– Кто же?
– Донья Ана. Он спас ее от когтей пиратов.
– Вы думаете, на нее можно положиться?
– Да, сеньор.
– В таком случае он вовсе не нуждается в прощении; ему достаточно предстать передо мной, чтобы я отменил изгнание.
– И он получит, таким образом, право на титул и имущество отца?
– Да, если отец не лишил его наследства. Узнайте, как обстоят дела, и я вам во всем помогу. Мы оба должны загладить нашу вину перед доном Энрике.
– Благодарствуйте, сеньор. Я обо всем доложу вашей светлости. Из ваших рук дон Энрике снова обретет счастье. Он сумеет стать достойным вассалом его величества и слугой вашей светлости.
– Вот и отлично.
– Желает ли ваша светлость поговорить с доном Энрике?
– Пока повременим; вы соберете все сведения, и тогда мне станет ясно, что надо сделать для юноши.
– Завтра же ваша светлость узнает обо всем.
– Чем скорее, тем лучше.
– С разрешения вашей светлости я удаляюсь.
– Ступайте, и да поможет вам господь во всех ваших начинаниях.
Дон Диего удалился; сердце его было переполнено радостью и надеждой.
Вице-король в раздумье проговорил:
– Как нам, правителям, легко совершить ошибку!
XI. НИТЬ АРИАДНЫ
Возвращаясь домой, дон Диего горел желанием немедля приняться за дело, порученное ему вице-королем. Однако необходимо было найти нить Ариадны, которая поможет ему проникнуть в этот лабиринт козней против юноши. Пожалуй, решил про себя дон Диего, лучше всего обратиться к самому дону Энрике, ему, без сомнения, кое-что известно.
Между тем дону Энрике не терпелось поскорее покинуть Мехико. Жизнь в добровольном заточении тяготила его: проводя дни и ночи взаперти, во власти горьких воспоминаний и мрачных мыслей о будущем, дон Энрике приходил в отчаяние и готов был бежать, нарушив данное слово.
Изредка к нему заглядывала сияющая счастьем донья Марина, но вид этой счастливой женщины только усиливал страдания дона Энрике.
В день беседы дона Диего с вице-королем дон Энрике был особенно подавлен; ему становилось решительно невмоготу переносить долее свое заточение.
Дон Диего вошел к нему и разом приступил к делу.
– Не пеняйте на мою навязчивость, – начал он, – но не было ли у вас каких-нибудь личных врагов, когда вы находились под стражей?
– Насколько мне известно, нет, – ответил, порывшись в памяти, дон Энрике.
– Не случалось ли вам вступать в какие-либо споры с неким доном Хусто?
– Нет, дон Хусто брат моей мачехи, и никаких споров у нас с ним не выходило.
– Вы знали, что ваш отец умер?
– Да, один человек, которому я многим обязан – кстати, он близок к дону Хусто, – сообщил мне о смерти моего отца. Бедный отец, он, верно, считал меня погибшим.
– Этот человек, говорите вы, оказал вам большую услугу, и он же, по вашим словам, тесно связан с доном Хусто?
– Да, и вот как было дело: однажды ночью в мой дом именем вице-короля вошла стража; я лежал в лихорадке и помню все как сквозь туман. Мне велели одеться и сесть в карету, окруженную стражей; я едва соображал, что происходит, и двигался как во сне; не знаю, сколько времени тащилась карета; внезапно я услышал выстрелы, шум короткой схватки, дверь кареты распахнулась, и какой-то человек предложил мне выйти. Мы вскочили на коней. Тут я потерял сознание и не могу точно сказать, где все это произошло. Вообще в этом происшествии было что-то загадочное. Когда я пришел в себя, я узнал, что нахожусь в доме Попотла. Там за мной ходила девушка по имени Паулита, дочь слепого. Она сообщила мне, что двенадцать дней я был на краю могилы, что вице-король преследует меня после памятной ночи в вашем доме и что мне необходимо бежать. Я вспомнил все, что случилось на балу, и – простите – обвинил вас в недостойном поступке. Итак, мне не оставалось ничего другого, как бежать; у меня оказались могущественные враги среди лиц, близких к вице-королю; я видел в вас моего главного противника и поклялся в вечной ненависти к вам. От Паулиты я узнал, что из рук королевской стражи меня освободил человек, который любит ее. Я встретился с ним снова, он помог мне покинуть город и добраться до Веракруса. В пути я спросил, кто поручил ему спасти меня, но он отказался ответить. Когда мы добрались до Веракруса, я устроился на судно, шедшее на Эспаньолу: там я жил охотой, пока не примкнул к пиратам.
– Вы говорите, что ваш спаситель тесно связан с доном Хусто?
– Он сам мне так сказал.
– А где он теперь?
– Женился на Паулите и живет в переулке, выходящем на Студенческую площадь. Вы его легко найдете, он известен под прозвищем Москит.
– И вы полностью доверяете ему?
– Москит оказал мне много услуг, но я больше доверяю Паулите, чем ему.
– Значит, с ней я могу говорить вполне откровенно?
– Да. Но что вы задумали?
– Подождите, у меня свои планы.
– Скажите мне, по крайней мере…
– Нет, нет. Нить найдена, теперь я надеюсь разузнать все. Прощайте.
Не медля долее, Индиано взял свою шляпу и отправился на розыски Паулиты, повторяя:
– Нить найдена…
В тот день Паулита пошла к Хулии, и дон Диего не застал ее дома. Вечером он снова отправился к ней. Паулита не знала, что и думать о внезапном исчезновении дона Энрике. Тщетно Москит поджидал его; наконец он сказал жене:
– Темнеет, пойду попробую разыскать дона Энрике; кто знает, что с ним стряслось.
Оставшись одна, Паулита пригорюнилась и, чтобы немного рассеяться, взялась за шитье.
Раздался стук в дверь, Паулита открыла. Перед ней стоял дон Диего.
– Простите, сеньора, – сказал он, – не вы ли Паулита?
– Совершенно верно, кабальеро, но я не имею чести знать вас.
– Неважно. Мне надо поговорить с вами об одном деле. Разрешите войти.
– Но, кабальеро, у меня нет с вами никаких дел, и мне не годится впускать в дом незнакомца в такой поздний час; я честная замужняя женщина.
– Вам незачем опасаться меня.
– Как знать?
– Видите ли, я пришел поговорить с вами о доне Энрике Руис де Мендилуэта.
– О доне Энрике? – переспросила взволнованная Паулита. – Но чем вы можете доказать мне?..
– А если я вам скажу, что он в Мехико? Об этом могут знать лишь его самые близкие друзья.
– Вы правы. Войдите.
– Слава богу, – сказал Индиано, входя и усаживаясь.
– Что же дальше? – спросила Паулита.
– Дон Энрике и я желали бы знать всю правду, как и почему ваш муж спас его.
– Если вы пришли от имени дона Энрике, вам незачем расспрашивать меня, он и сам все знает.
– Верно, но кое-что ему неясно, а он непременно должен знать все.
– Что же именно?
– Кто послал вашего мужа спасти дона Энрике?
– Я.
– Вы?
– Да, я.
– Откуда вы узнали, что ему грозит опасность?
– Откуда я узнала?.. А как ваше имя?
– Мое имя?
– Да, должна же я знать, кому доверяю эту тайну.
– Мое имя дон Диего де Альварес.
– И зовут вас Индиано?
– Да, Паулита. Вы меня знаете?
– Знаю и потому не скажу вам больше ни слова.
– Но почему?
– Вы враг дона Энрике, и не может быть, чтобы вы пришли от его имени.
– Я – враг дона Энрике? Откуда вы это взяли?
– О, у меня отличная память, и я никогда не забуду, что именно из-за вас дон Энрике подвергся изгнанию.
– Но теперь мы с ним добрые друзья.
– Сомневаюсь.
– А если я принесу вам от него письмо?
– Тогда другое дело! – обрадовалась Паулита.
– И вы мне все расскажете?
– Все, все. Но письмо должно быть написано мне лично.
– Иду за ним.
– Ступайте и тогда узнаете все, что пожелаете.
– Ваш муж будет дома?
– А как вы хотели бы?
– Мне надо поговорить с вами наедине.
– Хорошо; его не будет дома.
Индиано поспешил к себе домой, чтобы раздобыть письмо от дона Энрике.
– Вот она, нить, – повторял он по дороге.
Радость переполнила сердце Паулиты.
– Боже мой! – говорила она себе. – Какое счастье! Письмо от него ко мне, ко мне. В жизни у меня еще не было такой радости! Неужто я получу письмо от дона Энрике? Неужто он мне напишет? Уж не сплю ли я? Лишь бы Индиано не задержался, пришел поскорее. – Она то и дело вскакивала, прислушивалась к шагам на лестнице.
Донья Ана тем временем тщетно поджидала дона Диего, с которым собралась вместе покинуть город. Часы шли, нетерпение доньи Аны возрастало. После полудня она почувствовала, что больше не в силах владеть собой. Дон Диего не только сам не пришел, но даже записку прислать не удосужился. А донья Ана, послушавшись его, уложила вещи и приготовилась к путешествию.
Тысяча мыслей, одна чудовищнее другой, теснились в ее голове. Она терялась в догадках, не зная, чем объяснить отсутствие дона Диего. Может быть, преследуемый воспоминаниями о Марине, он решил навсегда покинуть ее. Или одумался, понял, что она недостойна его любви; ведь ему были известны ее отношения и с доном Энрике, и с доном Кристобалем де Эстрадой. И наконец, донье Ане приходило в голову, что с ним стряслась какая-то беда, помешавшая прийти вовремя в этот торжественный для нее день.
За долгие часы томительного ожидания донья Ана, казалось, передумала все, но так и не догадалась о настоящей причине отсутствия дона Диего. Да и могло ли ей прийти в голову, что в Мехико появилась донья Марина?
Наступил вечер, и донья Ана решила действовать: закутавшись в вуаль, она направилась к дому дона Диего, чтобы покончить с терзавшими ее сомнениями.
Она пришла как раз в то время, когда дон Диего отправился к Паулите.
– Его милости нет дома, – ответил на ее вопрос привратник.
– А скоро он вернется? – спросила донья Ана.
– Не знаю.
– Можно подняться и подождать его?
– Пожалуйте, сеньора.
Донья Ана поднялась по лестнице и очутилась перед дверью, через которую просачивался свет.
В те времена не было ни звонков, ни колокольчиков, чтобы извещать о приходе посторонних лиц, и донья Ана подошла к двери никем не замеченная; заглянув в комнату, она отпрянула, как при виде призрака. В кресле подле стола с двумя горящими восковыми свечами сидела донья Марина с маленькой Леонорой на коленях. Донья Ана вмиг узнала ее и в ужасе попятилась.
 В первую минуту онабыла настолько ошеломлена, что растерялась, потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, Индиано встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньи Аны. Донья Ана оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда.
Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье, в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями.
Индиано – это был он – так поспешно прошел мимо доньи Аны, что не заметил ее. Донья Ана решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко.
– Дон Энрике, – начал он, – окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую.
– С большим удовольствием, – ответил дон Энрике.
– Вот письменный прибор.
– Диктуйте, я готов, – сказал дон Энрике после минутного молчания.
И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья, Ана не пропустила ни единого слова:
В первую минуту онабыла настолько ошеломлена, что растерялась, потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, Индиано встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньи Аны. Донья Ана оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда.
Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье, в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями.
Индиано – это был он – так поспешно прошел мимо доньи Аны, что не заметил ее. Донья Ана решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко.
– Дон Энрике, – начал он, – окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую.
– С большим удовольствием, – ответил дон Энрике.
– Вот письменный прибор.
– Диктуйте, я готов, – сказал дон Энрике после минутного молчания.
И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья, Ана не пропустила ни единого слова:
«Паулита, во имя моей привязанности к тебе прошу, расскажи дону Диего де Альваресу, подателю сего письма и моему другу, все, что тебе известно о моем изгнании по приказу вице-короля и о моем освобождении.
Это необходимо мне, чтобы восстановить мои права на имя и наследство покойного отца.
Неизменно любящий тебя
Энрике Руис де Мендилуэта».
– Превосходно. Запечатайте письмо, я тотчас отнесу его Паулите, она ждет меня.
– Вы разыскали ее?
– Без труда, по вашему точному указанию: в переулке, выходящем на Студенческую площадь; другого дома там нет.
Донья Ана, не ожидая ничего больше, поспешно сбежала вниз по лестнице. Очутившись на улице, она пошла к дому, адрес которого так неожиданного узнала.
– О дон Энрике! – прошептала она, прячась в тени дома. – Ты одним ударом разрушил мое счастье, я же в отместку расстрою твои замыслы и потребую, чтобы ты женился на мне. Мужчина за мужчину: ты лишил меня мужа, теперь тебе придется самому жениться на мне, не то – берегись моей мести!
В переулке послышались шаги; дон Диего постучался в дом Паулиты, вошел и запер за собой дверь.
– Итак, не спускать глаз! – сказала себе донья Ана. – Нить у меня в руках.
Подкравшись к двери, она сперва заглянула в замочную скважину, потом прильнула к ней ухом.
Держа в руках письмо дона Энрике, Паулита была не в силах скрыть своего волнения. Дочитав его до конца, она рассказала Индиано всю историю спасения дона Энрике, начав с того, как дон Хусто поручил Москиту застигнуть стражу врасплох и убить юношу.
– Нить в моих руках! – повторила шепотом донья Ана, стараясь не пропустить ни единого слова из разговора.
XII. ПЛАН СОЮЗА
Паулита рассказала дону Диего все, как было: Москит, по поручению дона Хусто, взялся убить дона Энрике, но вместо этого спас его по настоянию Паулиты. Теперь этот самый дон Хусто собирается жениться на молодой девушке, недавно приехавшей с Эспаньолы.
Дон Диего верил, что рассказ Паулиты правдив, но не мог разгадать причину, побудившую дона Хусто подослать убийцу к дону Энрике. Чтобы доискаться истины, он решил на следующий же день под любым предлогом увидеться с доном Хусто.
Донья Ана выслушала разговор до конца, потом, когда дон Диего собрался уходить, она снова отступила в тень и, переждав некоторое время, вернулась к себе. В сердце ее бушевали гнев, зависть и ревность!
Наутро вице-король получил следующее анонимное письмо:
«Сеньор, один из пиратов, совершивших неслыханные злодеяния на островах и побережье Нового Света, находится в Мехико. Он принадлежит к числу главарей, к тому же самых бесчестных, а нынче скрывается в доме дона Диего де Альвареса. Если ваша светлость желает схватить и примерно покарать его, вашей светлости достаточно послать в этот дом представителей закона».
Вице-король долго читал и перечитывал это послание; потом велел немедленно найти дона Диего.
Гонец поспел как раз вовремя: дон Диего намеревался выйти из дому для встречи с доном Хусто, но, узнав, что его вызывает к себе вице-король, поспешил во дворец.
– Плохи ваши дела, – начал вице-король.
– Почему, ваша светлость? – спросил Индиано.
– Вот, прочтите, – ответил вице-король, протягивая ему анонимное письмо.
Дон Диего внимательно прочел послание.
– Что вы на это скажете, дон Диего? – спросил вице-король.
– Не могу понять, от кого исходит эта клевета.
– Мне кажется, писала женщина.
– Совершенно верно, сеньор, но не могу догадаться, кто она.
– Вы говорили, что в Мехико живет дама, которой эта тайна известна?
– Да, сеньор, но этой даме неизвестно, что дон Энрике скрывается в моем доме.
– Может быть, еще какая-нибудь женщина посвящена в эту тайну?
– Ах! – воскликнул дон Диего – в голове его мелькнула мысль о Паулите. – Я подозреваю, кто мог это сделать.
– Кто же?
– Молодая женщина по имени Паулита. Это ее муж, прозванный Москитом, отбил дона Энрике у стражи вашей светлости.
– Как так?
– Да, сеньор, с этого и начались мытарства бедного юноши; мне здесь еще не все ясно, но я уже успел добыть важные сведения.
– Не поделитесь ли вы ими со мной?
– Я хотел было скрыть от вашей светлости часть правды, бросающей тень на мужа Паулиты, но ее недостойный поступок развязал мне руки, и я расскажу вашей светлости все, не утаив ни одного слова.
– Я вас слушаю.
Усевшись рядом с вице-королем, дон Диего поведал ему все, что ему удалось накануне услышать от Паулиты.
– Этот дон Хусто настоящий злодей! – воскликнул вице-король, выслушав рассказ.
– Да, сеньор, и теперь мне остается лишь узнать причину, по которой он так беспощадно преследовал дона Энрике.
– Что же вы собираетесь предпринять?
– Поговорить с доном Хусто.
– Он ни за что не признается.
– Если спросить его об этом прямо; но я постараюсь, чтобы он ни о чем не догадался, и, уверяю вашу светлость, я доищусь истины.
– А как быть с анонимным письмом?
– Если ваша светлость разрешит мне взять его с собой, я узнаю, чья рука его написала.
– Я не возражаю.
– Необходимо было бы, поскольку тайна разглашена, чтобы ваша светлость воспользовались своим правом, полученным от монарха – да хранит его бог, – и даровали полное прощение дону Энрике.
– Согласен.
– В таком случае с разрешения вашей светлости, – произнес дон Диего, пряча на груди анонимное письмо, – я удаляюсь и буду продолжать мои розыски.
– Да поможет вам бог.
Выйдя из дворца, дон Диего на миг задумался, идти ли ему сперва к дому Хусто или поспешить к Паулите, чтобы высказать ей все свое негодование.
Остановившись на последнем, он пересек Студенческую площадь и направился в переулок к дому Москита.
Дверь стояла настежь открытой, и Паулита в красной юбке, без корсажа и без лифа, в одной лишь белоснежной сорочке, обнажавшей ее плечи и шею, прибирала свой дом, весело распевая, как ранняя птичка.
– Добрый день, сеньор, – сказала она, завидя дона Диего и направляясь к нему навстречу.
– Добрый день, – сухо ответил дон Диего.
– Ну как, успешно ли продвигается дело дона Энрике? – спросила она, не заметив холодного тона своего гостя.
– Успешнее, чем вы могли бы предположить.
– Ах, какая радость!
– Умеете ли вы писать, сеньора?
– Немного, а почему вы спрашиваете?
– Сейчас узнаете. Вчера вы мне сказали, что многим обязаны дону Энрике?
– Да, сеньор, и я никогда этого не забуду.
– А что скажете вы о человеке, который постарался бы погубить и привести на виселицу своего благодетеля?
– Я назвала бы его низким существом.
– Так как же вы решились написать это письмо вице-королю и сообщить ему, где находится ваш покровитель?
– Это письмо! Это письмо! – в ужасе произнесла Паулита, беря протянутую ей бумагу. – Но я его никогда не писала!
– Прочтите и отвечайте, правда ли, что вы низкое существо?
Паулита с удивлением прочла послание; страшная догадка мелькнула у нее в голове: дон Энрике, человек которого она любила, был пиратом и этот пират – таинственный возлюбленный Хулии.
– Отвечайте! – в ярости крикнул Индиано, для которого искаженное лицо молодой женщины послужило лишним доказательством ее виновности.
– Признайтесь!
– Боже мой! – проговорила Паулита, не слушая дона Диего. – Это он! Это он! Боже мой! До сих пор я не знала, что такое ревность.
– Что вы говорите? Какая ревность?
– А вам что за дело? Это моя тайна, – рассердилась Паулита. – По какому праву вы меня выпытываете?
– По какому праву? Да ведь это письмо погубило дона Энрике, оно будет стоить ему жизни.
– Жизни? – закричала вне себя Паулита. – Жизни? По мне, пусть лучше погибнет, чем полюбит другую, я этого не вынесу, я сама убью его.
– Несчастная, что ты говоришь?
– Оставьте меня, оставьте! Замолчите! Я не желаю вас слушать!
Не в силах больше владеть собой, Паулита накинула на плечи шаль и выбежала на улицу.
Дон Диего вышел вслед за ней и направился к дому дона Хусто. Там царило необычайное оживление: маляры, каменщики, обойщики работали не покладая рук.
«Приготовления к свадьбе», – подумал дон Диего и обратился к слуге:
– Дома сеньор дон Хусто?
– Сеньор у себя в кабинете.
– Доложите о приходе дона Диего де Альвареса.
Слуга скрылся за дверью и, вернувшись, сказал:
– Прошу пройти, ваша милость.
Дон Хусто весьма церемонно встретил дона Диего.
– Я ждал вас.
– Вы меня ждали?
– Конечно. Вчера пришло ваше письмо, правда, без подписи, но, когда мне доложили о вашем приходе, я сразу догадался, что оно написано вами. Вот, возьмите.
И дон Хусто протянул Индиано лист бумаги.
Первым желанием дона Диего было оттолкнуть это письмо, крикнув, что не он написал его; но тут же в голове его молнией мелькнула мысль, что это анонимное послание, возможно, связано с тем, другим, направленным вице-королю. В самом деле, едва он взглянул на почерк, как тотчас понял, что оба письма написаны одной рукой. Он прочел:
«Сеньор дон Хусто, особа, которую вы, возможно, забыли, но с которой вы в свое время беседовали по поводу дона Энрике Руиса де Мендилуэты, просит вас быть дома завтра утром, для разговора о союзе для совместных действий».
– Как видите, догадаться было нетрудно, – сказал дон Хусто, когда дон Диего закончил чтение.
– В самом деле, – рассеянно подтвердил дон Диего.
– Так приступим к делу. Время дорого, завтра я венчаюсь, и сами понимаете…
– Я пришел… – нерешительно начал дон Диего.
– Понятно, – подхватил, приосанившись, дон Хусто, – вы пришли предложить мне союз, как некогда поступил я, явившись к вам за поддержкой. Но, друг мой, времена меняются; в ту пору дон Энрике, наследник графа, был еще жив, и я нуждался в вашей помощи, чтобы отделаться от него. Нынче его больше нет на свете. Завтра истекает срок, назначенный покойным графом, и сын моей сестры, – а по завещанию я его опекун, – унаследует титул и имущество графа де Торре-Леаль за отсутствием старшего в роде. Сами понимаете, я больше не нуждаюсь ни в чьей помощи, к тому же вы тогда, как мне помнится, вышвырнули меня из вашего дома. Так вот.
Оскорбленный Индиано готов был броситься на дона Хусто, но в этот момент в кабинет вошел слуга и обратился к хозяину дома:
– Сеньор, особа, от которой вы получили вчера письмо без подписи, желает видеть вас.
– Как? – удивился дон Хусто. – Значит, не вы его написали?
– Я этого никогда не утверждал, и не это побудило меня прийти к вам.
– Прошу прощения, выходит, я ошибся. Кто желает меня видеть?
– Женщина.
«Паулита», – подумал дон Диего.
– Передай, что я занят и не могу ее принять.
– Я удаляюсь, – поспешно сказал Индиано, боясь, что таинственная гостья ускользнет.
– Но почему же?
– Вы это сами поймете.
Взяв шляпу, дон Диего, не задерживаясь, направился к выходу. В прихожей какая-то женщина разговаривала со слугой. Нет, это не Паулита, решил он, – фигура, платье, все было иное. Незнакомка, с головы до ног закутанная в густую черную вуаль, повернулась и с видимой досадой вышла на улицу; дон Диего последовал за ней.
Направление, в котором пошла незнакомка, заставило дона Диего насторожиться; когда же она свернула на улицу Иисуса и Марии и постучалась в дверь знакомого дома, у дона Диего не осталось сомнений.
Женщина в черной вуали вошла в дом, но прежде, чем дверь за ней захлопнулась, дон Диего уже стоял в прихожей. Женщина успела поднять с лица вуаль; обернувшись на шум, она невольно вскрикнула.
Дон Диего одним прыжком очутился рядом с ней и схватил ее за руку.
– Смотрите! – сказал он, протягивая ей анонимное письмо, посланное на имя вице-короля.
– Боже мой! – простонала донья Ана, отворачиваясь.
– Донья Ана, – сказал Индиано, – вы низкая женщина! Вы предали дона Энрике вице-королю; вы пытались заключить союз с доном Хусто, чтобы окончательно погубить юношу. Вы ядовитая змея, я презираю вас! Забудьте меня навсегда. Вы мне ненавистны.
Оттолкнув донью Ану, дон Диего поспешил прочь из ее дома.
XIII. КАНУН СВАДЬБЫ
Паулита как безумная выбежала на улицу. Чувство ревности ей было еще незнакомо; она мирилась с тем, что дон Энрике ее не любит, но подозрение, что он влюблен в другую, причинило ей невыносимую боль.
Кроме того, она знала, что Хулия без памяти любит молодого пирата, в котором она женским чутьем угадала дона Энрике; и мысль о том, что он дорог еще одной женщине, ножом полоснула ее по сердцу.
Сперва она бросилась к дому Хулии: надобно убедиться, решила она, в самом ли деле пират и дон Энрике одно лицо. Но, поднимаясь по лестнице, она передумала.
Ведь стоит Хулии узнать, что ее возлюбленный в Мехико, как свадьба с доном Хусто немедленно расстроится, а там уж молодой девушке будет нетрудно соединиться со своим пиратом. Если же свадьба состоится, влюбленному дону Энрике останется лишь уехать в далекие края, и тогда – кто знает…
Брак Хулии с доном Хусто послужит залогом счастья Паулиты. Нет, она не станет рассказывать девушке о доне Энрике, решила Паулита и повернула назад. В глубине патио она увидела своего мужа, который о чем-то увлеченно беседовал с Хуаном де Борикой. О чем это они могли толковать?
Не задерживаясь долго на случайной мысли, – до того ли ей было? – молодая женщина поспешила домой. А Москит весь день где-то пропадал.
Дон Диего собрал уже достаточно сведений, чтобы предстать перед вице-королем; побуждения злого клеветника, дона Хусто, были для него совершенно ясны.
Не сказав дону Энрике ни слова, он отправился вечером к вице-королю.
– Полагаю, вам уже удалось разузнать немало интересного, – сказал маркиз де Мансера.
– Да, я уже могу нарисовать перед вашей светлостью полную картину.
– Вот как?
– Господь пришел мне на помощь в моих добрых намерениях; сейчас ваша светлость узнает все и сможет принять необходимые меры.
– Говорите.
– Прежде всего, сеньор, анонимное письмо написано той особой, которой была известна тайна дона Энрике; между тем он спас ей жизнь.
– Какая низкая женщина!
– Именно так я ей и сказал в лицо.
– Она призналась?
– Почти. Во всяком случае, отрицать не решилась.
– С этой стороны дело достаточно выяснено. Ну, а как с доном Хусто?
– Дон Хусто дал мне понять следующее: у графа де Торре-Леаль в первом браке родился сын, законный наследник его титула и состояния. Овдовев, граф вступил во второй брак с сестрой дона Хусто, и от этого союза у него родился сын, который мог стать его наследником лишь в случае смерти дона Энрике. Вот почему дон Хусто решил избавиться от законного наследника майората. Для полной свободы действий он исхлопотал себе назначение управителем имущества и опекуном племянника, к которому должно было перейти наследство.
– Чудовищный замысел!
– Итак, его план состоял в том, чтобы клеветой добиться изгнания дона Энрике и устроить засаду на его пути. Приказ об изгнании был дан, убийца нанят, но, по счастью, дон Энрике был не убит, а спасен. Бедному юноше пришлось бежать в дальние края, стать охотником и, наконец, примкнуть к пиратам.
– Печальная история. Дьявольский план!
– Которому я против своей воли способствовал, сеньор. Признаюсь вашей светлости, я искал случая вызвать дона Энрике на дуэль и заранее привлек судей на свою сторону, чтобы в случае моего торжества не подвергнуться преследованиям.
– А я, поверив злым наветам, также помог черным замыслам его недруга.
– Какое счастье, что во власти вашей светлости загладить нашу невольную вину.
– И это будет сделано.
– Сеньор, завтра свадьба дона Хусто, и завтра же истекает последний срок, назначенный покойным графом для введения в наследство дона Энрике.
– Но дон Энрике жив, и срок теряет свою силу. Однако было бы необыкновенно удачно, если бы именно в этот день он потребовал принадлежащее ему по праву имя графов де Торре-Леаль.
– Это было бы просто изумительно.
– Так мы и сделаем. Где дон Энрике?
– В моем доме, сеньор.
– Приходите с ним сегодня в полночь. Я подпишу помилование, и с этого момента дон Энрике получит право требовать наследство и титул.
– Ваша светлость дарует счастье дону Энрике.
– Итак, жду вас.
Дон Диего сияющий вышел из дворца. Но он задумал сделать дону Энрике сюрприз, чтобы полнее насладиться его радостью: вот почему он ничего не рассказал ему, только попросил быть готовым к двенадцати часам ночи. Дон Энрике молча выслушал своего друга. Пробило двенадцать, дон Диего взял шляпу, накинул плащ, опоясался шпагой и обратился к дону Энрике, который последовал его примеру:
– Прошу вас сопровождать меня.
Молчаливый и безразличный ко всему, дон Энрике направился со своим другом к воротам дворца.
Войдя в большое унылое здание, жилище вице-королей в Новой Испании, они пересекли ряд безлюдных, обширных патио и темных коридоров, скупо освещенных фонарями. Лишь кое-где им попадались часовые с алебардой. В тишине ночи гулко отдавались шаги молодых друзей. Наконец они подошли к апартаментам вице-короля.
Там было заметно некоторое оживление; в покоях горел свет, двигались рабы и слуги, слышались голоса, смех.
Казалось, там сосредоточилась жизнь прежнего дворца Монтесумы.
Вице-король ожидал прихода дона Диего и дона Энрике.
– Ваша светлость, – сказал Индиано, – вот юный граф де Торре-Леаль.
– Добро пожаловать, кабальеро, – произнес вице-король, – садитесь, и побеседуем с вами, мне многое нужно узнать у вас и сообщить вам.
– К вашим услугам, ваша светлость.
– Прежде всего, известно ли вам, что завтра истекает срок, назначенный вашим отцом, – упокой господи его душу, – и, ежели вы не явитесь вовремя, титул и состояние графа перейдут к его младшему сыну?
– Сеньор, об этом решении мне ничего не известно.
– Выходит, что вы совсем отказались от ваших прав?
– Сеньор, изгнанный по повелению вашей светлости, без надежды когда-либо вернуться в Новую Испанию, уверенный, что в случае пленения я буду приговорен к смерти, – ведь надо мной нависло обвинение в нападении на королевских солдат, хотя я и не принимал в нем участия, – я примирился с мыслью о печальном и безвестном существовании в чужом краю.
– Дон Энрике, – ответил вице-король, – все это в прошлом, моя доля в ваших несчастьях велика, теперь я хочу восстановить ваше доброе имя. Именем его величества дарую вам прощение за время, проведенное вами среди пиратов.
– Благодарю вас, сеньор.
– А теперь вы вправе требовать возвращения вам титула и состояния вашего покойного отца. Вас оклеветал тот, кто завладел вашим наследством.
Дон Энрике устремил вопрошающий взгляд на дона Диего. Вице-король понял.
– Этого человека зовут дон Хусто.
– Дон Хусто?
– Да, это брат вашей мачехи. Завтра вы появитесь перед ним, как выходец с того света, в торжественный для него час, когда, возможно, свадебная церемония будет уже закончена.
– Он женится?! – воскликнул дон Энрике, забывая, что по этикету не положено задавать вопросы вице-королю.
– Да. Дон Диего расскажет вам на ком.
– На очаровательной девушке, недавно поселившейся в нашем городе, – пояснил дон Диего. – Не знаю имени ее отца, но мне говорили, что семья жила постоянно на Эспаньоле, что девушка по происхождению француженка, а зовут ее Хулия.
– Хулия! – воскликнул дон Энрике, снова забывая, что он находится перед вице-королем. – Хулия! Но, боже мой, это невозможно!
– Как, вам знакома эта девушка? – спросил вице-король.
– О да, сеньор! Простите, ваша светлость, что я осмелился забыться в вашем присутствии. Ведь с этой девушкой я мечтал соединить свою судьбу в тот день, когда мне удастся вновь обрести свободу. И вернул бы я свое богатство и знатное имя или остался бы нищим изгнанником, все равно я предложил бы ей руку.
– А она знала все? Знала, кто вы?
– Нет, сеньор, она не знала даже моего имени. Но она знала, что я люблю ее, что мы поженимся, и поклялась ждать меня.
– Значит, она забыла вас.
– Не думаю. Хулия на это не способна. Здесь кроется непонятная для меня тайна. По доброй воле Хулия не вышла бы замуж за другого.
– В таком случае необходимо расстроить эту свадьбу, – сказал дон Диего.
– Вы находите, что это возможно? – спросил вице-король.
– Если девушка по-прежнему любит дона Энрике, то стоит ему появиться перед ней, как она откажется от брака с доном Хусто. А уладить все остальное очень просто, сеньор.
– Превосходно. Но не будем терять ни минуты. Ночь на исходе, а свадьба, возможно, состоится рано поутру.
– Просим у вашей светлости разрешения удалиться.
– Разрешаю. Дон Энрике, вот пергамент с дарованным вам прощением. Приходите сообщить, успешно ли продвигаются ваши дела.
– Благодарствуйте, сеньор, – ответил дон Энрике, почтительно склонившись перед вице-королем и принимая из его рук грамоту.
Молодые люди вышли из дворца.
– Дорогой друг, – сказал дон Энрике, – я вам и так уже многим обязан, но все же прошу вас, не покидайте меня: необходимо помешать этому браку. Если Хулия обвенчается с доном Хусто, я не знаю, что со мной будет.
– Дон Энрике, то, что я сделал для вас, ничтожно по сравнению с возвращенной мне честью и счастьем; располагайте мною, я весь к вашим услугам.
– Знаете ли вы, где живет Хулия?
– Нет, понятия не имею.
– У кого мы могли бы получить эти сведения?
– Я знаю только одну особу, которой это известно.
– Кто же она?
– Это молодая женщина по имени Паулита.
– Паулита?
– Да, она-то и сообщила мне, что дон Хусто женится.
– Так идемте же к ней.
– Идемте.
Дон Энрике с лихорадочной поспешностью направился к дому Паулиты. Дверь оказалась на запоре. На стук никто не отозвался. Подождав, дон Энрике снова постучал, потом забарабанил, но все было безуспешно.
– Очевидно, ее нет дома, – заметил Индиано.
– Как же быть?
– Ничего не поделаешь, придется ждать.
– Ждать? Но время летит… А если она до рассвета не вернется домой? Если никто не сможет сообщить нам, где дом Хулии, и бракосочетание тем временем состоится?
– А как вы предлагаете поступить?
Дон Энрике погрузился в размышления, потом горестно воскликнул:
– Вы правы, – остается лишь ждать. Может быть, она вернется.
– Будем ждать.
Оба продолжали стоять около двери. Дон Энрике – снедаемый сильнейшей тревогой, дон Диего – задумчивый и печальный.
Близилось утро, никто не появлялся, дон Энрике сходил с ума от беспокойства и нетерпения.
Внезапно в переулке послышались шаги, мужские шаги. Друзья бросились вслед за незнакомцем, который при виде людей попытался было бежать, но его уже крепко держали четыре руки.
– Москит! – с удивлением воскликнул дон Энрике. – Мы спасены.
– Да, это я, дон Энрике, – сказал Москит, справившись с испугом.
– Знаешь ли ты, где живет Хулия? – спросил дон Энрике.
– Да, сеньор.
– Ну, так веди меня к ней.
– Это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Сеньор, меня преследует стража, я должен бежать.
– Так укажи улицу, дом.
– А для чего это вам, сеньор?
– Москит, мне необходимо расстроить свадьбу Хулии, а для этого я должен с ней увидеться.
– Ну, вы можете быть совершенно спокойны, свадьба и без того расстроена.
– Свадьба расстроена? Откуда ты знаешь?
– Да очень просто: этой ночью сеньорита Хулия бежала из дому.
– Бежала?
– Вернее сказать, я ее похитил из дому по приказу дона Педро Хуана, он, видите ли, тоже жаждет расстроить эту свадьбу.
– И где же сейчас находится сеньорита?
– Сеньор, узнав, что за мной гонится стража, я ее оставил на попечение Паулиты в доме на углу той улицы, где монастырь Санто-Доминго. Ступайте туда.
– Чей же это дом?
– Спросите там дона Педро Хуана де Борику.
– Дом принадлежит ему?
– Он нанял его на время. Там же увидите и Паулиту.
– Плохо тебе придется, если ты нас обманываешь.
– Клянусь богом!
– Ступай. Вы пойдете со мной, дон Диего?
– Конечно.
Друзья поспешно направились на ту улицу, где стоял монастырь Санто-Доминго.
XIV. ПОХИЩЕНИЕ
Педро Хуан де Борика безуспешно пытался совладать со своей страстью и найти покой и счастье у домашнего очага. Любовь к Хулии нахлынула на него с такой силой, что ему никак не удавалось забыть девушку.
Правда, в первые дни после бурных объяснений между матерью и дочерью Педро Хуан испытал глубокое потрясение и, казалось, излечился от своей страсти.
Он избегал встречаться с Хулией, беседовать с ней и даже не справлялся о ней у жены. Но известие о ее браке с доном Хусто вновь зажгло в его сердце пламя страсти. Ревность терзала его, нелепая и бессмысленная ревность, которую можно было назвать скорее досадой.
Он не мог себе представить, что Хулия будет принадлежать другому; он привык жить с ней под одной кровлей, ежедневно видеть ее, слышать ее голос и нашептывать ей нежные слова; правда, Хулия выслушивала их без удовольствия, но все же ей приходилось считаться с отчимом, и это вселяло в его сердце некоторую надежду. Кто знает, не смягчится ли в один прекрасный день девичье сердце.
Но отдать ее другому, расстаться с ней означало навсегда потерять надежду, и с этим Педро Хуан не мог примириться. День свадьбы близился, и Педро Хуан решился на отчаянный шаг, лишь бы расстроить свадьбу.
Похитить девушку – вот первая мысль, которая пришла ему в голову; он понимал, что Хулия не покорится ему, но он желал во что бы то ни стало вырвать ее из дому. Он предпочитал видеть ее мертвой, чем замужем за другим.
Для выполнения этого замысла Педро Хуану нужен был соучастник; порывшись в памяти и перебрав всех, кого он знал в Мехико, – а знал он очень немногих, – он надумал обратиться за помощью к Москиту, мужу Паулиты, которая часто бывала у них в доме.
Педро Хуан мало знал Москита, а потому решил предварительно поговорить с ним.
– У вас как будто нет сейчас подходящего занятия, не правда ли? – начал бывший живодер.
– Что верно, то верно, – ответил Москит, – нынче дела в Мехико для нас, бедняков, идут из рук вон плохо; было бы славно, если бы ваша милость нашла мне выгодное дельце.
– Для меня это нетрудно, но прежде всего надо знать, что вы умеете делать.
Москит, как и все ловкие пройдохи, был неглуп и разом смекнул, что Педро Хуан нащупывает почву, желая убедиться, можно ли ему, Москиту, доверять.
– Ваша милость, – ответил он, – я умею делать все, что мне прикажут, и за хорошие денежки возьмусь обделать любое дельце, лишь бы при этом не требовалось ни читать, ни писать, – каюсь, в грамоте я не силен.
– О, я вижу, вы малый решительный.
– Каждый станет решительным, когда нужда подопрет. Дайте мне поручение, ваша милость, и вы убедитесь, что я способен на все.
– На все?
– На все.
– Это сильно сказано.
– На все, что возможно исполнить.
– А если бы понадобилось вступить в схватку с королевскими солдатами?
– То это был бы не первый случай в моей жизни, – хвастливо ответил Москит.
Педро Хуан с любопытством и некоторым сомнением поглядел на Москита.
– Ваша милость не верит мне? – вскипел Москит.
– А вы взялись бы помочь мне похитить даму из ее дома?
– Вашей милости нужна моя помощь, или мне придется все проделать одному?
– Возможно и то и другое.
– Все зависит от того, сколько ваша милость положит за дельце. Я ни от чего не откажусь.
– А если понадобится прибегнуть к какой-нибудь хитрой уловке?
– За этим дело не станет.
– Однако вы уверены в себе.
– Я побывал в разных переделках и не привык трусить.
– Отлично. Так я могу рассчитывать на вас?
– Безусловно.
– Так слушайте: речь идет о Хулии, о той самой девушке, которая в ту ночь оказалась в вашем доме.
– Продолжайте, сеньор, – сказал, не моргнув глазом, Москит.
– Действовать придется против ее воли. Другими словами, девушку надо выманить из дому обманом или силой, но так, чтобы об этом не узнала сеньора Магдалена. Каков ваш план?
Москит на миг задумался.
– Нет ли окна или балкона в комнате, где спит девушка? – спросил он.
– Есть балкон.
– Она спит одна в комнате?
– Одна.
– Сможет ли ваша милость подмешать девушке сонный порошок за ужином?
– Нет ничего легче; я его всыплю в стакан с вином.
– А можно ли незаметно прокрасться ночью в ее спальню?
– Можно. Дверь выходит в коридор; правда, она ее запирает на ключ, но я заказал себе второй в надежде, что мне посчастливится попасть в ее спальню.
– В таком случае ручаюсь за успех. Слушайте же, ваша милость: сегодня вечером я принесу вам порошок, после которого она уснет как мертвая. Тогда ваша милость даст мне знать – я буду поджидать где-нибудь неподалеку, – мы вдвоем вытащим девушку через балкон на улицу, и ваша милость мне скажет, куда ее отнести.
– Я уже снял для этого случая дом на углу улицы, где монастырь Санто-Доминго.
– Отлично, тогда все в порядке. Иду за порошком. А сколько ваша милость положит мне за труд?
– Тысячу дуро.
– Заметано. Спешу.
– Так сегодня вечером?
– Ровно в десять.
Нахлобучив шляпу, Москит отправился на поиски «бесчувственного порошка» к одной из тех знахарок, которые в те времена без зазрения совести торговали разными снадобьями по неслыханным ценам.
А в десять часов вечера он уже стучался в дверь к Педро Хуану.
С нетерпением поджидая Москита, бывший живодер не покидал склада, находившегося в первом этаже дома, и поспешил сам открыть ему дверь.
– Это вы? – спросил он шепотом.
– Да, сеньор.
– Где порошок?
– Вот возьмите, ваша милость.
Педро Хуан взял пакетик и тщательно спрятал его у себя.
– А теперь пойдемте, – сказал он.
Москит последовал за ним. Они пересекли главное патио и, попав во второй дворик, поднялись по тайной лестнице в комнату, где стояли кровать и несколько стульев. На столе горела сальная свеча.
– Вот ваш тайник, – сказал Педро Хуан, – запритесь на ключ; здесь вас никто не увидит; я приду за вами, когда наступит время. Хотите поужинать?
– Благодарствуйте, ваша милость, у меня нет аппетита.
– Если желаете прилечь, вот вам кровать; только не проспите моего стука…
– Об этом не беспокойтесь, – с улыбкой ответил Москит.
– Ну, так до скорого.
Педро Хуан вышел, а Москит повернул в замке ключ.
В тот вечер Педро Хуан ужинал дома; он сидел во главе стола между сеньорой Магдаленой и Хулией. Во время ужина Педро Хуан держался совершенно спокойно; Хулия выглядела озабоченной, сеньора Магдалена – веселой и оживленной.
– Сегодня Хулия проведет с нами свой последний вечер, – сказал Педро Хуан, обращаясь к жене. – Мне очень жаль, но я спокоен за нашу Хулию, ведь она отдаст свою судьбу в руки человека, который ее безгранично любит, хотя она и отвечает равнодушием на его чувство.
В этих словах скрывался тайный смысл, но разгадать его мог бы только Москит, ужинай он в это время за одним столом с семьей.
– Да, завтра свадьба, если богу будет угодно, – откликнулась сеньора Магдалена.
– Для нашего последнего ужина, – продолжал Педро Хуан, – я припас превосходное вино, которое, к сожалению, не придется по вкусу моей Магдалене, – ведь оно из Испании.
– Ошибаешься, мой друг, – с улыбкой заметила сеньора Магдалена, – я делаю исключение в двух случаях: мне нравятся, несмотря на их испанское происхождение…
– Вина, – подсказал Педро Хуан, – и…
– И мой дорогой муж, – нежно заключила сеньора Магдалена.
– Ну так вот, муж идет в погреб за вином! – весело воскликнул бывший живодер, поднимаясь из-за стола.
В этот миг сеньора Магдалена почувствовала себя поистине счастливой. Нагнувшись к Хулии и поцеловав ее в лоб, она сказала взволнованно:
– Видишь, дочурка? Тебе я обязана своим счастьем.
Хулия ответила матери поцелуем и украдкой смахнула слезу со щеки. Дорогой ценой платила она за счастье матери.
Педро Хуан вернулся, неся в одной руке откупоренную бутылку, а в другой – наполненный бокал.
– Вот так вино! – воскликнул он. – Я разрешил себе его отведать, сделал всего один глоток из вежливости, да, именно из вежливости. Это ваш бокал, Хулия, возьмите; ты, Магдалена, дай мне свой бокал, а тебе я налью в свой… отлично… Теперь выпьем втроем за то, чтобы Хулия была счастлива, как я на то надеюсь.
Все трое осушили свои бокалы.
– В самом деле, прекрасное вино, – сказала сеньора Магдалена, – не правда ли, дочурка?
– Да, чудесное, – ответила Хулия, подавляя ощущение какого-то неприятного привкуса.
Ужин проходил оживленно, семья засиделась за столом; Хулия первая встала со словами:
– Я пойду к себе, матушка.
– Тебе нездоровится?
– Нет, просто хочется спать. Покойной ночи.
– Храни тебя господь.
Хулия ушла в свою комнату.
– Уж не заболела ли она? – с участием спросил Педро Хуан.
– Да нет, у нее, наверно, голова закружилась от этого вина, – сказала сеньора Магдалена, – да и мне уже пора на покой.
– А я пойду заканчивать дела. Мы должны выделить Хулии приданое. Для нас это вопрос чести.
– Как ты добр, Педро Хуан! – сказала сеньора Магдалена. – Не задерживайся слишком долго.
Сеньора Магдалена удалилась в спальню, а Педро Хуан отправился на склад, чтобы там переждать некоторое время.
Хулия вошла к себе, еле держась на ногах от слабости и непреодолимой сонливости; чувство непривычной истомы охватило ее с такой силой, что, позабыв запереть дверь, она, как была в платье, бросилась на кровать, сомкнула глаза и погрузилась в глубокий сон.
Немного времени спустя дверь в ее комнату тихонько отворилась и два человека, проскользнув, как тени, повернули ключ в замке.
– А что, если она проснется? – шепотом спросил Педро Хуан.
– Для этого ей надо было бы дать понюхать уксусу, – успокоил его Москит.
– Что же дальше?
– Я открою балкон, спущусь по веревке вниз, а вы свяжете девушку и спустите ее вслед за мной.
– Веревка может поранить Хулию.
– Так оберните ее сперва в простыню и веревку привяжите к простыне. Здесь невысоко, я приму ее на руки.
– Отлично.
– Подождать вас внизу?
– Нет, отнесите ее в тот дом. Я приду туда только завтра, чтобы не вызвать подозрений.
Москит скользнул по веревке вниз, Педро Хуан спустил вслед за ним крепко спящую девушку. Москит взял ее на руки и пустился в путь.
Педро Хуан свернул веревку и вышел, заперев за собой на ключ спальню Хулии.
XV. СОПЕРНИЦЫ
Москит отнес Хулию в дом на улице Санто-Доминго. Покачивание в пути и свежий ночной воздух понемногу привели девушку в чувство, и, когда Москит со своей ношей вошел в дом, она окончательно очнулась от сна.
Против ожидания, дом оказался незапертым, но внутри Москит не нашел никого, кроме женщины, заранее нанятой Педро Хуаном; Паулита еще не успела прийти.
Задыхаясь от усталости, Москит опустил свою ношу на кровать в комнате, предназначенной для Хулии.
Девушка села на край кровати и с ужасом огляделась по сторонам; все происшедшее было так странно и необычно, как бывает только во сне. Наконец ее взгляд остановился на Моските; она узнала его.
– Что это?! – воскликнула она. – Где я? Это ваш дом? А мне снилось, будто я вернулась к матери и должна выйти замуж…
Москит молчал, не зная, что сказать.
– Ради бога, объясните, что происходит, – продолжала Хулия. – Кажется, я схожу с ума. Где Паулита?
На этот вопрос ответить было нетрудно:
– Она скоро придет, сеньора, вот-вот придет.
– Не понимаю, что со мной, была ли я больна или видела все это во сне? Никак не могу собраться с мыслями, голова такая тяжелая.
– Сеньора, вы еще не вполне выздоровели: думаю, вам будет полезно поспать до прихода Паулиты.
Хулия не могла отличить явь от сна, хотя она и проснулась, но наркотическое действие порошка продолжало туманить ей голову, мысли путались; она попыталась размышлять, но была не в силах сосредоточиться и припомнить все, что произошло ночью.
События вчерашнего дня всплывали перед ней сквозь легкую дымку – слишком ясные, чтобы походить на сон, и слишком смутные, чтобы быть явью.
Голова отяжелела и клонилась на грудь с ощущением неясной боли; казалось, Хулию лихорадит; с покорностью больного человека она согласилась:
– Вы правы, посплю до прихода Паулиты; у меня какая-то слабость.
И, опустив голову на подушку, она снова погрузилась в сон. Москит вышел из комнаты и встретился лицом к лицу с Паулитой.
– Как ты задержалась, Паулита!
– Ты еще не знаешь, какие дурные вести я тебе принесла.
– Что такое?
– А то, что едва я собралась уходить, как в дом пришли за тобой альгвасилы со стражей.
– За мной? А по какой причине?
– Они сказали, будто ты напал на отряд королевских солдат. Я соврала, что тебя нет в Мехико, они перерыли весь дом и, наконец, ушли, поклявшись разыскать тебя.
– Ну, пускай попробуют!
– А что же ты собираешься сделать?
– Прежде всего скроюсь, а там увидим.
– Зачем ты вызвал меня?
– Для одного дельца, – ответил Москит, показывая на комнату рядом, где спала Хулия. – Этой ночью я заработал хороший куш, будет на что прожить целый год, даже если мне весь год придется скрываться.
– Что же там такое?! – воскликнула Паулита, собираясь войти в таинственную комнату.
– Погоди, сейчас все расскажу толком и объясню, что тебе следует делать. Мне ведь придется бежать, понимаешь? С альгвасилами шутки плохи. Здесь спит девушка, которую я похитил по поручению одного кабальеро. С девушкой уговора не было, а потому ей пришлось дать сонный порошок, и уж потом я приволок ее сюда. Кабальеро придет только завтра утром; ты постереги ее здесь, чтобы она не сбежала, и подожди прихода сеньора.
– Но кто она, как ее зовут?
– Ты ее знаешь и будешь весьма удивлена.
– Скажи же мне…
– Сеньора, велевшего мне похитить девушку, зовут дон Педро Хуан де Борика, он муж той дамы, у которой ты бывала.
– А девушка?
– Сама увидишь. Мне пора. Завтра к ночи загляну домой, если не застану тебя, приду сюда. Что поделаешь, возиться с альгвасилами мне неохота.
Москит торопливо вышел, а Паулита шагнула в соседнюю комнату, чтобы увидеть, кто же там находится.
Хулия лежала лицом к стене; Паулита подошла к ней и при слабом свете ночника вмиг ее узнала.
– Хулия!
– Паулита! – откликнулась девушка, вскакивая.
– Что такое, Хулия? Почему вы здесь, что означает ваше спокойствие?
– Я сама не понимаю, что происходит. Разве я не в вашем доме?
– Нет.
– Так где же я? Чей это дом? Как я сюда попала?
– Не знаю, чей это дом. Вас привели сюда обманом, но я не дам свершиться этому злодейству, хотя мой собственный муж принимает в нем участие.
– Что, что вы говорите? Объясните все толком.
– Хулия, вчера вечером вам подсыпали порошок, и вы заснули как убитая. Пользуясь этим, вас вынесли из дому и принесли сюда.
– Кто это сделал?
– Дон Педро Хуан, ваш отчим.
– Боже мой, какая низость! Но зачем?
– Сами понимаете, ведь он влюблен в вас. Итак, он расстроил вашу свадьбу и держит вас в своей власти.
– Бесчестный человек! Я никогда, никогда не соглашусь на это. Прошу вас, Паулита, проводите меня домой. Я должна завтра же повенчаться, вот единственная возможность освободиться от преследований этого чудовища. Когда я буду замужем, ему придется расстаться со своей надеждой.
Паулиту вмиг осенила новая мысль: когда Хулия будет замужем, дон Энрике тоже навсегда потеряет надежду. Теперь она знала, как надо действовать.
– Вы правы! – сказала она. – Вам надо вернуться домой. Вставайте, я вас провожу.
Хулия, пошатываясь, встала.
– Мужайтесь, – сказала Паулита, – завтра в это время вы будете навеки связаны с доном Хусто.
Теперь настала очередь Хулии вспомнить о доне Энрике, или, вернее, об Антонии Железной Руке, – ведь она знала его лишь под этим именем.
– Паулита, – сказала она, – это неслыханно тяжелая жертва: я навеки расстаюсь с человеком, которого люблю, я решаюсь забыть его, хотя он не дал мне повода проявить столь черную неблагодарность. Появись он передо мной завтра в час венчания, я умерла бы от стыда и горя, – ведь он не только любил меня, он спас мне честь и жизнь, а я плачу ему, благороднейшему человеку, непростительной изменой.
Паулита вздрогнула, слова Хулии прозвучали упреком в ответ на ее недостойный замысел; ей показалось, что она слышит голос своих покойных родителей, шепчущих ей «неблагодарная», и ей стало невмоготу долее сдерживаться. По природе своей Паулита была создана, чтобы творить добро.
– Послушайте, – сказала она вдруг, – тот пират, о котором вы мне рассказывали, был родом мексиканец?
– Да, а почему вы спрашиваете?
– У себя на родине он был богат и знатен?
– Моей матери он говорил, будто самому королю не уступит в богатстве и знатности.
– Боже мой, Хулия, кажется, этот человек здесь, в Мехико.
– Что вы сказали?! – в ужасе воскликнула Хулия.
– Да, мне кажется, он здесь… а зовут его донЭнрике Руис де Мендилуэта, я вам говорила о нем.
– Милосердный боже! Тот самый, кого вы так страстно любите?
– Тот самый.
– Паулита, бог этого не допустит, ведь я способна возненавидеть вас.
– А вы не думаете, Хулия, что я тоже вправе возненавидеть вас? Ведь вы у меня отняли того, кого я полюбила задолго до вашей встречи.
– Но вы отказались от него и вышли замуж за другого.
– Потому что я не смела надеяться на счастье принадлежать ему.
– Так надо было пожертвовать всей своей жизнью и продолжать боготворить его, а не связывать себя с другим.
– А вы, Хулия, разве вы не решаетесь выйти замуж за другого?
– Ради счастья моей матери. И очень страдаю.
– И я, я тоже страдаю.
Обе застыли в молчании; недоверие, ревность, ненависть и любовь боролись в сердцах этих женщин. Они не знали, что делать, как поступить. Хулия восторгалась великодушием Паулиты, которая сообщила ей, что ее возлюбленный находится в Мехико. Паулита думала о том, что она своим сообщением, может быть, вернула счастье дону Энрике.
Неожиданно Паулита спросила:
– Как вы думаете поступить?
Хулия, не отвечая, посмотрела на нее с недоверием.
– Отвечайте, Хулия, вы еще не знаете, на что я способна.
Хулия поняла эти слова, как угрозу, и, закинув голову, спросила с вызывающим видом:
– На что же вы способны?
– Хулия, – сказала Паулина, бледнея, и голос ее дрогнул. – Хулия, я способна на все самое хорошее и самое дурное. Да удержит меня рука бога.
В ответ Хулия лишь надменно усмехнулась.
– Заклинаю вас счастьем вашей матери, не смейтесь надо мной – ревность сжигает меня, я способна убить вас или убить себя. Я не хочу мешать счастью дона Энрике, но я не в силах стать свидетельницей его счастья.
– Поступайте же так, как вам больше по душе.
Бледная, с обезумевшими глазами Паулита выхватила из-за корсажа кинжал, который зловеще блеснул в ее руке. Хулия вскрикнула.
Паулита замерла, потом, словно внезапная перемена произошла в ее сердце, она отбросила кинжал далеко от себя и судорожно схватила Хулию за руку.
– Идемте!
– Куда? – спросила Хулия.
– Я уже сказала вам, что одинаково способна на добро и на зло. В порыве ярости я готова была убить вас; опомнившись, я хочу вести вас к дону Энрике и отдать вас ему.
– Такая девушка, как я, – высокомерно проговорила Хулия, – не способна пойти к мужчине, которого она любит, тем более в полночь.
– Выходит, вы не доверяете тому, кого любите? Вы считаете его способным на низость? О, вы его не любите или недостаточно знаете. Дон Энрике настолько благороден, что ваша честь под его опекой осталась бы такой же незапятнанной, как и в доме вашей матери. Хулия, вы не знаете величия его души, вы недостойны его любви. Только ему я обязана своей чистотой, это он оберегал ее, а я, – слышите? – я была бы счастлива все принести ему в жертву. Ведь я люблю его так, как он этого заслуживает, для меня не существуют светские условности и соображения женской чести, ничто, ничто не существует для меня. Ради него все – даже смерть, ради него все – даже честь.
– Паулита, вы мне делаете больно.
– Вы не хотите понять; поймите, как велика моя любовь: ради нее я жертвую моим чувством и, не колеблясь, веду вас к дону Энрике.
– Вы великодушны, Паулита.
– Так вы пойдете со мной?
– Идемте! – воскликнула Хулия, чувствуя, как исчезает ее робость под влиянием твердой решимости Паулиты.
Они вышли на улицу. Вдруг Хулия остановилась и нерешительно спросила:
– А если это не он?
Паулиту тоже охватило сомнение.
– А если это не он? – повторила она вслед за Хулией.
– Кто может поручиться, что это одно и тоже лицо? Ведь я не знаю его настоящего имени. А вы, разве вы знаете, как звали среди охотников того, о ком вы мне рассказывали?
– В самом деле, вы правы: было бы просто нелепо прийти вдруг ночью к незнакомому человеку – что подумал бы о нас дон Энрике, если бы он узнал об этом?
– Паулита, проводите меня домой.
– Идемте.
Немного времени спустя в доме сеньоры Магдалены раздался стук в дверь.
Первым его услышал Педро Хуан, которому не спалось после всех пережитых волнений. Ему пришло к голову, что стук в дверь как-то связан с ночным похищением. Он поспешно вскочил и спустился вниз, чтобы, не дожидаясь привратника, самому открыть дверь.
– Что вы скажете вашей матери? – спросила Паулита молодую девушку. – Откроете ли вы ей глаза на этого бесчестного человека?
– Бог поможет мне скрыть от нее ужасную правду.
Тут дверь открылась, и Хулия вошла, бросив на прощание:
– До завтра.
– Прощайте, – ответила Паулита.
Педро Хуан держал в руках светильник, и Хулия вмиг его узнала.
– Низкий человек! – воскликнула она.
– Ради бога, не выдавайте меня! – ответил дрожащим голосом Педро Хуан.
– Я не способна нанести моей матери этот удар. Скажите ей, будто в дверь стучался посторонний человек. Надеюсь, никто не знает, что ночью меня не было дома?
– Никто.
– Так позаботьтесь, чтобы и матушка об этом не узнала.
Хулия легко взбежала по лестнице наверх, но дверь ее комнаты оказалась на ключе.
В этот момент сеньора Магдалена вышла из своей спальни.
– Что случилось?
– Не знаю, матушка, – ответила Хулия, – я тоже вышла, чтобы посмотреть, в чем дело.
– Ты еще не раздевалась?
– Я молилась.
Тем временем Педро Хуан тоже поднялся наверх.
– Кто стучался? – спросила его сеньора Магдалена.
– Какая-то пьяная женщина пыталась вломиться в дом.
– Ушла она?
– Да.
– Так я ложусь. – И сеньора Магдалена вернулась к себе.
– Дайте ключ, – сказала Хулия.
– Вот он, – ответил Педро Хуан, протягивая ей ключ.
Хулия вошла к себе в спальню и заперла дверь.
XVI. СЛЕД ПОТЕРЯН
Индиано и дон Энрике поспешили к дому, указанному им Москитом, на поиски Хулии. Но ни Хулии, ни Паулиты там уже не было; служанка не смогла сообщить, куда они исчезли.
Быстро светало; уже на бледном небе вырисовывались очертания церковных куполов, колокола ударили к ранней мессе, на улице появились первые прохожие.
– Что делать? – спросил дон Энрике.
– Право, я и сам не знаю, – сказал Индиано. – Вот уж и день настал, просто теряюсь в догадках, куда могла деться Хулия.
– Москита мы теперь не сыщем.
– Да и Паулита едва ли вернется домой, а время летит.
– По счастью, свадьба не может состояться из-за похищения Хулии.
– Это верно, но кто знает, что с ней случилось.
– Мне пришла в голову мысль.
– Говорите.
– Помните донью Ану?
– Помню.
– Не знаю почему, но эта женщина стала вашим заклятым врагом. Боюсь, уж не замешана ли она в этой истории, ведь она на все способна.
– Вы думаете?
– О да! Знаете что? Не пойти ли нам к ней?
– Если вы считаете, что это нам поможет…
– Только там я надеюсь что-нибудь узнать.
– Так поспешим же к ней.
Закутавшись в плащи, оба друга устремились к дому доньи Аны. Уже совсем рассвело, когда они постучались в дверь, которая тотчас открылась перед ними. Друзья переступили порог.
– Сеньоры желают видеть мою госпожу? – спросила служанка.
– Да.
– Госпожи нет дома.
– Так рано и уже нет дома?
– Госпожа вышла из дому до рассвета.
– Наверно, в церковь?
– Нет, сеньор, она пошла в сторону главной улицы.
Друзья переглянулись, их лица выражали отчаяние.
– Так вы думаете, все пропало? – спросил дон Энрике.
– Пока еще нет, – ответил дон Диего после короткого раздумья. – Сделаем последнее усилие – идем к дому Хусто. Донья Ана пыталась заключить с ним союз, и кто знает, не было ли это похищение приманкой, чтобы заполучить его…
– Но с какой целью?
– Я и сам этого не пойму, но замыслы злых людей так хитро сплетены, что, даже разгадав их, не сразу найдешь их тайные пружины.
– Так идем к дому Хусто.
Окрыленные новой надеждой, друзья пустились в путь.
Дом дона Хусто выглядел опустевшим и покинутым, из просторного патио не доносилось ни малейшего шума. Не было видно ни слуг, ни рабов, ни конюхов; лишь один привратник сидел на скамье и, прикрыв голову беретом, грелся на солнышке.
– Где сеньор дон Хусто? – спросил дон Энрике.
Старик с удивлением посмотрел на пришельцев.
– Видно, сеньоры не знакомы с моим господином.
– Почему ты так думаешь?
– Да иначе сеньоры знали бы, что сегодня у моего господина свадьба, может, как раз в эту минуту в церкви совершается обряд. Я не смог пойти в храм из-за проклятого ревматизма, который меня мучит вот уже десять лет, с той поры как покойный сеньор вице-король, упокой господи его душу…
– Отлично. Итак, дон Хусто в церкви?
– А как же моему господину было не поспешить в церковь? Его милость аккуратен, как часы. Я его хорошо знаю, скоро тридцать лет, как я ему служу. Еще молодая Гуадалупита не успела выйти замуж за сеньора графа, упокой господи его душу, да и знать-то мне ее жениха пришлось больше понаслышке, потому как сеньор граф в ту пору еще не бывал у нас в доме, а я из-за своего ревматизма…
– Так ты говоришь, что в церкви уже началось венчание?
– Да, если бог милостив. Мой господин поднялся спозаранку, да и ничего удивительного, что он торопился подняться, ведь девушка, говорят, прекраснее золотого дублона и белее китайской фарфоровой чашечки.
– А невеста тоже была готова к свадьбе?
– Разумеется, ведь мой господин чуть свет послал в ее дом гонца спросить, не пора ли ему уже ехать за невестой; а послал он Коласа, мальчишку-мулата, живого, словно ртуть, а уж как мой господин его любит, и сказать невозможно, так вот ваша милость сейчас услышит, как все произошло.
– Так что же ему в доме невесты ответили?
– Кому?
– Посланцу дона Хусто.
– К этому я и речь веду помаленьку да полегоньку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Так мы остановились на том, что паренек, а зовут его Колас, побежал к невесте спросить от имени моего господина, все ли готово и не пора ли моему господину уже идти навстречу своему счастью. А Колас уж так прыток – стрелу перегонит. Сеньорам, может, неизвестно, а я этого мальчишку вырастил и, как говорится, собственной грудью выкормил.
Дону Энрике и дону Диего не терпелось поскорее узнать, что же ответили гонцу в доме Хулии, но они понимали, – если прервать старика, он начнет все рассказывать сызнова, – и запаслись терпением.
– Так вот, – продолжал старик, – господин кликнул Коласа, – а паренек, надо вам сказать, ходит теперь в ливрее, ни дать ни взять алькальд из Севильи, – и говорит ему: «Колас, мигом слетай в дом сеньоры доньи Магдалены», – так зовут мать невесты, и, говорят, она родом оттуда, где шла война против турка, – позабыл, как зовется это место…
– Лепанто, – с яростью подсказал дон Диего.
– Так вот с божьей помощью она оттуда и приехала. «Спроси-ка у сеньоры, – говорит мой господин, – все ли готово и не пора ли мне уже явиться…»
– Ну, Колас спросил, а дальше что? – не утерпел прервать старика дон Энрике.
– А паренек – такой шустрый! Одна нога тут, другая там, и не успели мы оглянуться, как он уже вернулся. По чистой случайности мой господин стоял на этом самом месте в своем лиловом камзоле, и Колас говорит ему: «Так и так, сеньора Магдалена низко кланяется и целует руки вашей милости, а в доме все готово, и ждут только вашу милость, чтобы ехать венчаться»… Что за бесовское наваждение, сеньоры бегом пустились от меня прочь, даже договорить не дали, так слово на языке и застряло…
В самом деле, едва услышав полученный гонцом ответ, друзья переглянулись и, не обращая больше внимания на старика, быстро зашагали по улице.
– Здесь кроется какая-то тайна, я в ней никак не разберусь, – сказал дон Энрике.
– Да и я ничего не понимаю, – откликнулся дон Диего. – Если Хулии этой ночью не было дома, возможно ли, что сегодня поутру, она как ни в чем не бывало, поехала в церковь венчаться?
– Может, не она была похищена этой ночью?
– Конечно, могла произойти ошибка. Но самое ужасное, если как раз в эту минуту совершается венчание, и мы не поспеем вовремя.
– Прибавим же шагу.
И друзья чуть не бегом пустились вперед, к дому Хулии.
Там они ожидали застать шумное оживление, вереницу карет, толпу пажей и слуг, но, к их удивлению, дом оказался запертым, лишь на пороге задней двери стояла женщина, по виду служанка.
– Скажите, – обратился к ней дон Диего, – бракосочетание уже закончилось?
– Не знаю, сеньор, – ответила служанка.
– Не знаете? Разве вы не служите здесь в доме?
– Как же, сеньор, я здешняя, но сеньорита венчается не у себя в доме.
– А где же?
– В доме сеньоры графини, вдовы Торре-Леаль, своей посаженой матери.
– И все уже отправились туда?
– Да, сеньор. Жених поехал в карете вместе с сеньоритой Хулией, сеньорой, ее матерью и отчимом.
– Давно они выехали?
– С полчаса. Если ваши милости поторопятся, они, возможно, еще застанут венчание, а оглашение уже наверняка закончилось.
– Кто знает, может, еще поспеем, – сказал дон Диего и, подавая пример, торопливо зашагал прочь от дома Хулии. Дон Энрике, поникнув головой, последовал за ним. Ему предстояло вновь очутиться под отчим кровом, где он родился, где провел первые годы жизни и достиг юношеского возраста. Горькие воспоминания с небывалой силой нахлынули на него. Перед ним возник образ старого, безутешного отца, которому не привелось перед смертью повидаться с сыном, вспомнились все невзгоды, обрушившиеся на него, бедного изгнанника, и при этом он невольно подумал о доне Диего, виновнике его злосчастий.
Но мысль о благородном поведении дона Диего благодетельным бальзамом успокоила возмущенное сердце дона Энрике. Прибавив шагу, он взял под руку своего доброго друга.
XVII. МАТЬ И ДОЧЬ
Донья Ана поняла, что для нее все потеряно: дон Диего каким-то таинственным образом проведал, что анонимное письмо вице-королю с сообщением о жизни дона Энрике среди пиратов написано ею. К тому же возвращение доньи Марины в Мехико навсегда лишило донью Ану надежды стать женой или хотя бы возлюбленной дона Диего.
Но она отомстит за себя, она погубит и дона Энрике и дона Диего. Во что бы то ни стало, любой ценой.
В ее легкомысленном, непостоянном сердце любовные страсти – бурные и порывистые – сменяли одна другую, подобно тому как набегающие чередой волны меняют очертания песчаного побережья.
Донья Ана размышляла всю ночь напролет, и, прежде чем наступил рассвет следующего дня, она надела свой лучший наряд, накинула длинный плащ, закрыла лицо густой вуалью и отправилась к дону Хусто.
Несмотря на ранний час, жизнь в его доме кипела ключом; все были на ногах. Донья Ана, не колеблясь, с независимым видом прошла мимо слуг, словно она была здесь своим человеком. Никто не посмел остановить ее.
Поднявшись по лестнице, она столкнулась лицом к лицу с доном Хусто, который выходил из покоев.
– Кабальеро, – сказала донья Ана, обращаясь к нему, – мне надо поговорить с вами. – Дон Хусто в нерешительности молча остановился и готов был уже ответить отказом, как вдруг перед его глазами из-под плаща незнакомки мелькнули нарядное платье, прекрасная холеная рука и маленькие ножки в расшитых золотом башмачках. Пожалуй, решил он, стоит выслушать пришедшую даму.
Красота, скрытая от глаз, таит в себе особую манящую привлекательность. Если бы женщины понимали, какую прелесть придает таинственность даже тем из них, кто не блещет красотой, они никогда не согласились бы расстаться с маской и плащом из счастливых и романтических времен Филиппа II, эпохи чарующих приключений с «закутанными незнакомками».
Нынешние женщины показываются на улице при свете дня; конечно, они могут понравиться, но что бы ни проповедовали последователи материализма, ничто не производит такого неотразимого впечатления на сердце мужчины, как романтическая загадочность.
Бывало, под вуалью скрывалось лицо дурнушки, и разочарованный поклонник спасался от нее бегством. Но ведь нынче, когда все женщины ходят с открытыми лицами, дурнушка все равно не привлекает к себе восторженных взоров.
Дон Хусто, человек опытный, готов был поклясться, что перед ним красивая и знатная дама.
– Сеньора, – ответил он, – ежели вы пришли по важному делу, а главное, не намерены долго задержать меня, я буду весьма рад вас выслушать.
– О важности дела вы сможете судить сами, – сказала донья Ана.
– В таком случае благоволите следовать за мной.
Дон Хусто провел донью Ану в один из богато убранных покоев.
– Мы здесь одни? – спросила донья Ана, опускаясь в кресло.
– Да, сеньора.
– Будьте добры, заприте дверь.
Дон Хусто повиновался, удивляясь в душе таким предосторожностям.
– Вы узнаете меня, дон Хусто? – спросила донья Ана, откидывая вуаль.
– Донья Ана! – воскликнул, отступая, дон Хусто.
– Я вижу, вы не забываете старых друзей.
– Могу ли я вас забыть? – ответил дон Хусто, любуясь своей гостьей и находя ее еще прекраснее, чем прежде; даже накануне свадьбы встреча с доньей Аной взволновала его. – Забыть вас! Да вы стали еще красивее! Кто видел вас хоть раз в жизни, тот никогда вас не забудет.
– Бросьте расточать любезности в день вашей свадьбы и выслушайте меня.
– Говорите.
– Я была здесь вчера, но мне не удалось с вами увидеться.
– К моему большому огорчению.
– Я хотела сообщить вам, что дон Энрике Руис де Мендилуэта в Мехико.
Дон Хусто даже подскочил от ужаса, словно на него неожиданно упал скорпион.
– Дон Энрике?! – воскликнул он. – Вам пригрезилось. Он умер.
– Ошибаетесь. Дон Энрике жив, я сама его видела.
– Вы видели его?
– Да.
– Вы хотите сказать, он прибыл сюда вместе с вами?
– Нет. Но я хочу вас предупредить, будьте настороже, ибо дон Энрике намерен потребовать свой титул и отцовское наследство.
– Тогда я пропал, – прошептал в полном унынии дон Хусто.
– А может, и не пропал.
– Что вы говорите?
– Имеется средство предотвратить вашу гибель, незачем падать духом.
– Так что же вы молчите? Скажите, какое средство?
– Прежде всего нам надлежит заключить с вами договор. В этом мире все имеет свою цену, все зиждется на определенных условиях.
– Сообщите же ваши условия. Чего вы хотите? Золота? Вы его получите…
– Я пришла не за тем, чтобы торговать моей тайной.
– В таком случае?..
– Я жажду отомстить и дону Энрике и дону Диего де Альваресу.
– Каким образом?
– Об этом надобно подумать вам, вы должны помочь мне в моих намерениях. Ничего другого я не требую.
– Однако такие вещи не приходят сразу в голову.
– Поразмыслите. Придумайте, как вернее отомстить, хотя и с опозданием.
– Обещаю помочь вам.
– Поклянитесь.
– Клянусь богом, его пречистой матерью и всеми святыми, – торжественно произнес дон Хусто и, осенив себя крестом, поднес руку к губам.
– Хорошо. А теперь выслушайте мой план, как вам освободиться от дона Энрике. Этот план, пожалуй, хорош и для моей мести.
– Я вас слушаю.
– Мне известна роковая тайна в жизни дона Энрике, она не только помешает ему потребовать назад отцовское наследство, но даже может привести его на виселицу.
– Что это за тайна?
– Известно ли вам, чем занимался дон Энрике вдали от Новой Испании?
– Нет.
– Он был пиратом.
– Пресвятая дева! – в ужасе воскликнул дон Хусто.
– Да, пиратом, пиратом. Я сама видела, как он участвовал в осаде и разграблении Портобело. Он был любимцем этого богоотступника Моргана. Заодно с его злодеями грабил города и селения испанского короля, жег дома и храмы, бесчестил женщин и девушек из знатных семейств. Так неужто такой человек достоин стать графом де Торре-Леаль? И не спасаю ли я вас, разоблачая перед вами истинную сущность этого человека?
– Конечно, еще бы. Но готовы ли вы подтвердить это перед судом?
– И даже перед самим королем, если потребуется.
– В таком случае я пошлю за вами, когда понадобиться…
– Нет, вы должны сегодня же взять меня под свое покровительство. Поймите, ко мне подошлют убийц, и, мертвая, я навсегда умолкну. Дон Энрике знает, где я живу, знает, что мне известно его прошлое, что я одинока и беззащитна, и, прежде чем я успею громогласно разоблачить его, он убьет меня, я в этом уверена.
– Пожалуй, вы правы.
– Я единственная помеха на его пути, и он не остановится перед тем, чтобы убрать меня.
– Мне пришла в голову превосходная мысль.
– Какая?
– Сегодня состоится моя свадьба в доме моей сестры и посаженой матери Гуадалупе, вдовы де Торре-Леаль. Мы пробудем там весь день, сюда вернемся только к ночи. Я провожу вас сейчас к сестре, а потом вы поселитесь здесь, у меня. Согласны?
– Да.
– Моя сестра знает вас?
– Не думаю.
– Тем лучше. Идемте же.
– А как, по-вашему, мне следует поступать дальше?
– Вы приедете вместе со мной к графине, и едва в ее доме появится дон Энрике, вы бросите ему в лицо все, что вы о нем знаете, и прибавите к этому, что он похитил вас.
– В моем похищении он не виновен.
– Пусть так, но кто может опровергнуть ваши обвинения?
– Никто.
– Вот ему и не удастся оправдаться.
– Понимаю.
– Следуйте за мной, время не терпит.
Об руку со своей гостьей дон Хусто сошел вниз, где у подъезда их ожидала карета, запряженная парой превосходных мулов. Заговорщики уселись в карету, которая легко и быстро покатила по улицам города, пока не остановилась у величавого обиталища графов де Торре-Леаль. Здесь также царило лихорадочное оживление, – все готовилось к предстоящему торжеству.
Ведя закутанную в непроницаемую вуаль даму, дон Хусто прошел мимо слуг, толпившихся в патио. Слуги и конюхи провожали жениха низкими поклонами, уверенные, что он ведет свою невесту.
Чета поднялась по лестнице и вошла в одну из комнат, где, кроме служанки, никого не было.
– Хулиана, – обратился к ней дон Хусто, – передай сеньоре графине, что мне надо поговорить с ней. Она у себя одна?
– Нет, у сеньоры гостья.
– Все равно, передай, что я жду ее.
Мгновенье спустя дверь отворилась, и в комнату вошла графиня де Торре-Леаль. Это была женщина средних лет, необычайно бледная; черты ее лица и вся манера держать себя говорили о природной доброте и мягкости ее характера.
На ней было платье черного бархата, отделанное черными кружевами, брильянтовая диадема сверкала на головном уборе из черных кружев и бархатных лент. Длинные подвески, широкое ожерелье и брильянтовая брошь на груди дополняли ее богатый наряд.
– Добрый день, Гуадалупе, моя посаженая мать, – сказал ей с горделивой улыбкой дон Хусто. – Как ты сегодня почивала?
– Несколько лучше, – ответила графиня, легким наклоном головы приветствуя донью Ану, поднявшуюся с кресла.
– Гуадалупе, прошу тебя, приюти у себя на сегодняшний день эту даму.
– С большим удовольствием, – ответила графиня.
– И ты и я, мы чрезвычайно многим обязаны сеньоре. Потом я расскажу тебе об этом подробнее.
– Ты говоришь, мы многим обязаны?
– Да, позднее ты все узнаешь. Снимите вуаль, сеньора, – продолжал дон Хусто, обращаясь к донье Ане, – здесь вы можете чувствовать себя как дома.
Донья Ана открыла лицо и рассыпалась перед графиней в благодарностях, на что та с мягкой улыбкой ответила:
– Сеньора, я рада предложить вам гостеприимство, мне достаточно того, что за вас просит мой брат.
– Благодарствуйте, сеньора графиня, – ответила донья Ана.
– Я желал бы поговорить с тобой наедине, сестра, – сказал дон Хусто, – если ты не возражаешь, сеньора могла бы проследовать в другие покои.
– Прекрасно, она составит компанию моей гостье, которая сидит пока одна в ожидании венчания.
– Отлично.
– Хулиана, – сказала графиня, обращаясь к служанке, ожидавшей у дверей.
– Госпожа, – откликнулась служанка.
– Проводи сеньору в зал. Прощу вас, сеньора, чувствовать себя здесь, как в вашем собственном доме.
– Бесконечно тронута вашей добротой, сеньора графиня.
Донья Ана встала и последовала за служанкой через анфиладу покоев в зал, где собирались гости в ожидании свадьбы. По пути она внимательно разглядывала ковры и богатое убранство комнат. Войдя в зал, она увидела сидевшую в кресле пожилую, изысканно одетую даму.
Молодая женщина подошла ближе, чтобы приветствовать ее, дама повернула к ней голову, и у обеих одновременно вырвался крик удивления.
– Ана! – воскликнула старая дама.
– Матушка! – отозвалась донья Ана.
На какой-то миг женщины замерли в нерешительности, потом, рыдая, бросились друг другу в объятия.
Служанка, провожавшая донью Ану, с удивлением смотрела на эту сцену, потом, рассудив, что графиня, очевидно, заранее подготовила эту встречу и ей здесь делать нечего, ушла, покинув взволнованную мать наедине с дочерью.
Меж тем у графини с доном Хусто завязался горячий спор.
XVIII. БРАТ И СЕСТРА
– Хусто, – начала донья Гуадалупе, – я никогда не одобряла твоих намерений отделаться от дона Энрике.
– Я заботился о твоем сыне, моем племяннике. Наследство и титул принадлежат ему.
– Не будем обманываться, Хусто, наследство и титул ему не принадлежат. Бог накажет нас, если мы завладеем чужими правами.
– Ты слишком щепетильна для матери…
– Быть щепетильной, как это ты называешь, моя святая обязанность. Да, я мать, но прежде всего я христианка. Я люблю своего сына, но, именно любя его, я не желаю ему богатства, приобретенного преступным путем. Неправедно добытое богатство – проклятье для того, кто им завладел…
– Все эти рассуждения хороши в устах проповедника, Гуадалупе, они не заставят меня ни на йоту отступиться от намеченного плана. Как опекун, я обязан заботится о благе твоего сына.
– Но не в ущерб его совести…
– Его совести? А что понимает ребенок в таких делах? За них отвечаю я, что же касается моей совести, то она у меня вполне спокойна. Дай бог, чтобы дон Энрике мог похвалиться тем же.
– Это значит, что ты не уверен в его смерти?
– Да, не уверен… Сеньора, что явилась со мной, утверждает, что он жив и находится в Мехико.
– Жив! Боже, благодарю тебя! – с искренней радостью воскликнула донья Гуадалупе.
– Как, ты радуешься, что дон Энрике жив и в любой момент может появиться, чтобы отнять у твоего сына отцовское состояние?
– Хусто, будущность и состояние моего сына вполне обеспечены тем, что оставил ему и мне граф, нам не к лицу посягать на чужие богатства. Да, я счастлива, что дон Энрике жив, у меня сердце разрывалось при мысли, что на моем безвинном сыне лежит кровь брата. Запятнанные кровью дона Энрике, графский титул и состояние не принесли бы ничего, кроме несчастья, моему дорогому ребенку. Бог карает тех, кто нечестно завладел богатством.
– Итак, если дон Энрике появится, ты способна вернуть ему все, в ущерб твоему родному сыну?
– Конечно, и это не нанесло бы никакого ущерба моему ребенку, напротив, бог вознаградил бы его за такое доброе дело.
– Ну, знаешь, Гуадалупе, ты просто с ума сошла. Так ты в самом деле способна?.. По счастью, я еще жив и, вопреки твоей воле, помешаю такому сумасбродству, слышишь? Я опекун ребенка и не допущу, чтобы ты со своей щепетильностью подарила другому состояние, которое принадлежит твоему сыну по праву наследства. Я недаром сумел отстоять это право за моим племянником.
– Хусто, ради бога!
– Нет, нет, Гуадалупе, дай мне свободу, не мешай мне. Дон Энрике придет, я в этом уверен; но предупреждаю тебя – не мешай мне действовать. Пусть он появится здесь, но горе ему! Я сумею обратить его в бегство. Опозоренный, он или отступится, или погибнет.
– Но это низость! Не забывай, он брат моего сына.
– Однако теперь не время заниматься этим вопросом. Близится час венчания, мне пора ехать за Хулией и ее семьей. Увидим. Прощай. Позаботься о твоей гостье…
Не ожидая ответа, дон Хусто поднялся и вышел из комнаты.
Донья Гуадалупе склонила голову и задумалась. Потом, поднявшись с кресла, она решительно произнесла:
– Нет, тысячу раз нет! Мой сын не беден, но, будь он даже нищим, я не желаю ему сокровищ и титула, приобретенных нечестным путем. Я поговорю с этой женщиной, которую привел с собой брат… увидим…
Сеньора Магдалена не смогла уснуть после разбудившего ее ночного стука в дверь; поднявшись с постели, она прошла в комнату Хулии. Молодая девушка все еще не раздевалась; она молилась, плакала и размышляла.
Что, если юноша, о котором ей рассказала Паулита, в самом деле Антонио Железная Рука? Неужто она выйдет замуж за дона Хусто? А если это не он, то под каким предлогом отказаться от свадьбы? Что, если юный охотник навсегда забыл ее? Смеет ли она ради призрачной мечты пожертвовать покоем матери?
Вот какие мысли теснились в голове Хулии. Сердце ее разрывалось на части. Неопределенность была в тысячу раз тягостнее самой ужасной правды.
Она молилась, просила бога наставить ее и вернуть ей прежнюю решимость, утраченную после недавнего разговора с Паулитой. Внезапно послышался стук в дверь, это была сеньора Магдалена. Для Хулии настала решающая минута.
– Ты все еще не ложилась, дочурка? – спросила мать.
– Нет, матушка, – ответила Хулия.
– Что же ты делаешь?
– Я молю бога о мужестве и покорности судьбе.
– Хулия!
– Не обращайте внимания на мои слова, матушка…
– Ну, хорошо, пора одеваться, дон Хусто не замедлит приехать.
Хулия не отвечала. Сеньора Магдалена кликнула горничных, и началось облачение невесты в свадебный наряд.
Молодая девушка столько пережила за истекшую ночь, что мысли в ее голове путались; порой ей казалось, что она теряет рассудок.
До этой ночи надежды на возвращение Антонио не было, и Хулия чувствовала себя спокойной и готовой к жертве. Потом она, сама не зная как, очутилась в незнакомом доме во власти Паулиты, которая из прежней мягкой, дружелюбной женщины превратилась в тигрицу и угрожала ей смертью. Перед взором Хулии открылся неведомый мир, где Антонио Железная Рука назывался доном Энрике, а Паулита была ее соперницей.
Неожиданно великодушие одержало верх в сердце этой дочери народа; с ее помощью Хулия после мучительного кошмара вернулась домой и снова очутилась у себя в комнате; даже мать не заметила ее отсутствия. И вот теперь, когда едва занимается заря, ее облачают в свадебный наряд.
События минувшей ночи могли потрясти самые крепкие нервы; стоя в богатом уборе посреди комнаты, бедная Хулия едва соображала, что происходит, и всему подчинялась безропотно.
В дом приехал дон Хусто; сеньора Магдалена ждала его, одетая как полагалось для торжественного случая; Педро Хуан де Борика также появился в праздничном камзоле.
Бывший живодер, с налившимися кровью глазами на бледном лице, вошел сперва нерешительно; но, увидев безмятежное лицо жены, он понял, что Хулия не выдала его, и заметно повеселел. Вчетвером они уселись в карету и покатили к дому доньи Гуадалупе.
Графиня вышла навстречу приехавшим и ввела их в одну из гостиных; ждали священника, который должен был благословить новобрачных в домашней часовне.
Донья Ана удалилась во внутренние покои, где можно было, оставаясь невидимой для посторонних взоров, на свободе поговорить с матерью и рассказать ей все пережитые бури.
– Выходит, дочь моя, что ты была всего-навсего игрушкой в руках дона Энрике и дона Диего?
– А что я могла сделать, матушка? – ответила донья Ана. – Одинокая, беспомощная, я была сперва отвергнута доном Энрике, а потом доном Диего. После гибели дона Кристобаля де Эстрады я оказалась одна, совсем одна на белом свете, в чужой, далекой стране. Дон Диего предложил мне свое покровительство, и я без колебаний приняла его; своим благородством он завоевал мою любовь. Если бы он не сделал мне предложения, не убедил выйти за него замуж, удар не был бы так жесток; но в тот самый день, когда мы собирались вместе покинуть Мехико, моя злая судьба, а вернее, дон Энрике, виновник всех бед, привез в Мехико донью Марину, и мои планы рухнули. Я решила отомстить за себя и разоблачила дона Энрике перед вице-королем. Об этом письме каким-то образом проведал дон Диего, и вот теперь я потеряла даже его дружбу.
– Что же ты думаешь сейчас предпринять?
– Отомстить за себя, – глухо произнесла донья Ана, – отомстить дону Энрике, не давать ему пощады, заставить его просить у меня прощения и жениться на мне.
– Боюсь, ты не достигнешь своей цели.
– А вот увидишь. У меня против него страшное оружие.
– Да поможет тебе бог и да просветит он тебя.
– Поверьте, матушка, я достаточно сильна и не отступлю.
В этот миг на пороге показалась графиня.
– Вы не собираетесь присутствовать при обряде? – спросила она.
– Мне не хотелось бы, чтобы меня узнали, – ответила донья Ана.
– Если желаете, я могу провести вас в ризницу, где вас никто не увидит, а сами вы сможете все свободно разглядеть. Невеста необыкновенно хороша собой и одета с изысканным вкусом. Согласны?
– Благодарю вас, сеньора графиня. Уже пора?
– Нет еще. Священник приглашен к девяти утра, а сейчас только восемь. Я дам вам знать, а пока я вынуждена вас покинуть, надо встречать гостей.
– Я не желала бы служить вам помехой, сеньора графиня.
– После долгой разлуки вам, конечно, есть о чем поговорить с вашей матушкой.
– О да!
– Предоставляю вам полную свободу.
– Благодарствуйте, сеньора.
Графиня вышла, и донья Ана осталась наедине с матерью.
Между тем большой зал заполнили гости; то были дамы и кабальеро, принадлежавшие к высшей знати Мехико и приглашенные графиней на бракосочетание брата. Каждый жаждал посмотреть на невесту. Она приковала к себе все взгляды, была предметом всех разговоров и толков.
XIX. БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Дон Энрике и дон Диего, подойдя к дому графини, остановились в нерешительности, не зная, как лучше поступить: смело войти в дом или прибегнуть к какой-нибудь уловке.
Внезапно дон Энрике заметил среди слуг одного из давнишних служителей по имени Пабло.
– Мне пришла в голову хорошая мысль, – сказал он дону Диего.
– Какая?
– Видите ли вы этого старика у входа?
– Да, вижу.
– Ну, так вот, это один из старинных слуг моего отца, он меня, можно сказать, вынянчил. Окликните его, он, несомненно, меня узнает и может оказать нам большую услугу.
– Вы доверяете ему?
– Доверяю, но осторожность никогда не мешает. Я не покажусь ему, прежде чем мы не убедимся в его преданности.
Индиано приблизился к старику.
– Друг мой, – начал он, – один кабальеро желал бы сказать вам несколько слов; он ждет вас здесь, за углом дома.
– Ждет меня? – недоверчиво переспросил Пабло.
– Да, вас. Опасаться вам нечего, сейчас светлый день, и кабальеро находится всего в двух шагах отсюда.
После минутного колебания старик согласился:
– Идемте.
Дон Диего повел старого слугу туда, где, закутавшись в плащ и надвинув шляпу на лоб, его поджидал дон Энрике.
– К вашим услугам, – проговорил старик, оглядев с ног до головы дона Энрике.
– Если не ошибаюсь, вы Пабло, старый слуга графа де Торре-Леаль?
– К вашим услугам, – снова проговорил старик.
– Сегодня какое-то торжество в доме графини? – спросил дон Энрике.
– Да, сеньор, сегодня свадьба брата моей госпожи.
– И сегодня же истекает срок для возвращения дона Энрике, старшего сына, не так ли?
– Да, такие толки ходят среди слуг, – ответил Пабло с явным неудовольствием.
– А вы знали дона Энрике?
– Знал ли я его? – воскликнул со слезами в голосе Пабло. – Знал ли я его? Да я его на руках носил, когда он был ребенком, я его, как родного сына, любил… И да простит меня бог, разве можно сравнить дона Энрике с теми, что теперь владеют его добром, его наследством?
– А что же случилось с доном Энрике? Где он?
– Да если б я только знал, где он, неужто я не побежал бы к нему?
– Узнали бы вы его, если бы вам довелось с ним встретиться?
– Разом узнал бы.
– Вы уверены?
– А то как же?
– Ну, так взгляните на меня! – воскликнул юноша, откидывая плащ, наполовину закрывавший его лицо.
Удивление и горячая радость выразились на открытом лице старика, и, после мгновенного колебания, он, рыдая, бросился на шею к дону Энрике.
 – Мальчик! – закричал он. – Сеньорито! Это вы!.. Ах, какая радость, какая радость! Мальчик мой, какая радость!
– Полно, старина, – успокаивал его растроганный дон Энрике, – полно, умерь свою радость, еще кто-нибудь из прохожих увидит нас. Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой.
– Я просто глазам своим не верю, сеньорито, – повторял старик.
– Ну, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени.
– Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам.
– Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов.
– Это легче легкого, сеньорито: я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?
– Да. А кто там теперь спит?
– Никто, сеньорито, никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину; а я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платье, оружие, словно вы там по-прежнему живете.
– Спасибо, дружище!
– Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я. А все-таки никто их из конюшни не выводит.
– Так идем же, – сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
– Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил.
– Отлично… А в котором часу назначено венчание?
– Капеллана ждут в девять.
– Ну, так ступай, открой нам дверь.
Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покои дона Энрике.
Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные.
Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил; на всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье – все содержалось в образцовом порядке.
Сердце дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение.
– Ну, вот мы и дома, – сказал он дону Диего. – А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?
– Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю. С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле…
– Боюсь, что он откажет.
– Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше девяти утра, я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
– С условием, что вы вернетесь не позже девяти.
– Разумеется.
– Тогда согласен.
– Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
– Зачем?
– У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня.
– Хорошо.
– Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
– Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
– Я никогда, никогда вас не покину, – с восторгом подтвердил старик.
Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться.
Его старший друг направился во дворец; он был уверен, что маркиз де Мансера, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожей сидела Паулита.
– Что ты здесь делаешь, Паулита? – удивился дон Диего.
– Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа.
– Ты еще не говорила с ним?
– Нет.
– Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я испрошу помилование для твоего мужа.
– Дай-то бог! – вздохнула молодая женщина.
Дон Диего вошел в покои вице-короля.
– Как дела? – весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
– Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела…
– Касающегося дона Энрике?
– Да, сеньор.
– Что слышно нового?
– Сеньор, мы успешно действуем; противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайно.
– Это просто замечательно! – рассмеялся вице-король. – Но не позже чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание.
– Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться… Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено.
– Это было бы превосходно.
– Мы хотели просить вашу светлость быть посаженым отцом на свадьбе дона Энрике.
– Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет.
– Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покои молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным, и спектакль удастся на славу…
Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает.
Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии. В правой руке он держал черную шляпу, а в левой – длинный темный плащ.
– Я готов, крестник! – воскликнул он весело. – Помогите мне накинуть плащ.
Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев.
– Я думаю, – сказал вице-король, – что у нас получится великолепное представление; подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше.
Они вышли в прихожую, где сидела Паулита.
– Сеньора, – сказал ей вице-король, – если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом.
Паулита почтительно поклонилась, а дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине:
– Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, ия тебе ручаюсь за успех.
– Благодарствуйте, – ответила Паулита.
– О чем вы говорили с этой женщиной? – спросил вице-король.
– Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас.
– А в чем дело?
– Об этом ваша светлость узнает самое позднее через два часа, когда ваша светлость уже дарует эту милость.
– Вы слишком уверены…
– В доброте вашей светлости, она мне и в самом деле хорошо известна.
Вице-король и дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям дона Энрике; услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь.
Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал дон Энрике.
Юноша уже успел облачиться в придворный костюм; при виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку. Но вице-король раскрыл объятья и дружелюбно произнес:
– Дон Энрике, я буду вашим посаженым отцом и хочу обнять вас, как сына.
С этими словами он ласково обнял юношу.
– Час близится, – продолжал вице-король, – я хочу дать указания, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова.
– Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем.
Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя дона Диего и дона Энрике, сообщил им свои распоряжения.
Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда.
Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием.
Дон Хусто сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна.
Начался обряд, священник обратился к невесте со словами:
– Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора дона Хусто Салинаса де Саламанка-и-Баус?
Невеста в нерешительности молчала.
– Нет, – раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед.
– Я супруг этой сеньоры, я, дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение.
В этот момент из ризницы появилась женщина.
– Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират, я сама видела тебя среди пиратов.
То была донья Ана. Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников.
Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с доном Энрике, произнес властным голосом:
– Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов.
Все замерли от удивления.
– Граф, – продолжал вице-король, – подайте руку вашей супруге; я буду вашим посаженым отцом, а сеньора графиня посаженой матерью.
– Весьма охотно, – ответила донья Гуадалупе.
– Что же касается вас, дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
– А мой муж, – воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. – Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи?
– Помилован, – ответил вице-король. – Можно продолжать бракосочетание.
На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.
– Мальчик! – закричал он. – Сеньорито! Это вы!.. Ах, какая радость, какая радость! Мальчик мой, какая радость!
– Полно, старина, – успокаивал его растроганный дон Энрике, – полно, умерь свою радость, еще кто-нибудь из прохожих увидит нас. Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой.
– Я просто глазам своим не верю, сеньорито, – повторял старик.
– Ну, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени.
– Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам.
– Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов.
– Это легче легкого, сеньорито: я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?
– Да. А кто там теперь спит?
– Никто, сеньорито, никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину; а я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платье, оружие, словно вы там по-прежнему живете.
– Спасибо, дружище!
– Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я. А все-таки никто их из конюшни не выводит.
– Так идем же, – сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
– Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил.
– Отлично… А в котором часу назначено венчание?
– Капеллана ждут в девять.
– Ну, так ступай, открой нам дверь.
Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покои дона Энрике.
Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные.
Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил; на всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье – все содержалось в образцовом порядке.
Сердце дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение.
– Ну, вот мы и дома, – сказал он дону Диего. – А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?
– Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю. С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле…
– Боюсь, что он откажет.
– Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше девяти утра, я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
– С условием, что вы вернетесь не позже девяти.
– Разумеется.
– Тогда согласен.
– Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
– Зачем?
– У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня.
– Хорошо.
– Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
– Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
– Я никогда, никогда вас не покину, – с восторгом подтвердил старик.
Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться.
Его старший друг направился во дворец; он был уверен, что маркиз де Мансера, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожей сидела Паулита.
– Что ты здесь делаешь, Паулита? – удивился дон Диего.
– Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа.
– Ты еще не говорила с ним?
– Нет.
– Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я испрошу помилование для твоего мужа.
– Дай-то бог! – вздохнула молодая женщина.
Дон Диего вошел в покои вице-короля.
– Как дела? – весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
– Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела…
– Касающегося дона Энрике?
– Да, сеньор.
– Что слышно нового?
– Сеньор, мы успешно действуем; противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайно.
– Это просто замечательно! – рассмеялся вице-король. – Но не позже чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание.
– Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться… Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено.
– Это было бы превосходно.
– Мы хотели просить вашу светлость быть посаженым отцом на свадьбе дона Энрике.
– Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет.
– Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покои молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным, и спектакль удастся на славу…
Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает.
Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии. В правой руке он держал черную шляпу, а в левой – длинный темный плащ.
– Я готов, крестник! – воскликнул он весело. – Помогите мне накинуть плащ.
Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев.
– Я думаю, – сказал вице-король, – что у нас получится великолепное представление; подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше.
Они вышли в прихожую, где сидела Паулита.
– Сеньора, – сказал ей вице-король, – если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом.
Паулита почтительно поклонилась, а дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине:
– Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, ия тебе ручаюсь за успех.
– Благодарствуйте, – ответила Паулита.
– О чем вы говорили с этой женщиной? – спросил вице-король.
– Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас.
– А в чем дело?
– Об этом ваша светлость узнает самое позднее через два часа, когда ваша светлость уже дарует эту милость.
– Вы слишком уверены…
– В доброте вашей светлости, она мне и в самом деле хорошо известна.
Вице-король и дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям дона Энрике; услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь.
Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал дон Энрике.
Юноша уже успел облачиться в придворный костюм; при виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку. Но вице-король раскрыл объятья и дружелюбно произнес:
– Дон Энрике, я буду вашим посаженым отцом и хочу обнять вас, как сына.
С этими словами он ласково обнял юношу.
– Час близится, – продолжал вице-король, – я хочу дать указания, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова.
– Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем.
Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя дона Диего и дона Энрике, сообщил им свои распоряжения.
Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда.
Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием.
Дон Хусто сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна.
Начался обряд, священник обратился к невесте со словами:
– Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора дона Хусто Салинаса де Саламанка-и-Баус?
Невеста в нерешительности молчала.
– Нет, – раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед.
– Я супруг этой сеньоры, я, дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение.
В этот момент из ризницы появилась женщина.
– Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират, я сама видела тебя среди пиратов.
То была донья Ана. Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников.
Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с доном Энрике, произнес властным голосом:
– Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов.
Все замерли от удивления.
– Граф, – продолжал вице-король, – подайте руку вашей супруге; я буду вашим посаженым отцом, а сеньора графиня посаженой матерью.
– Весьма охотно, – ответила донья Гуадалупе.
– Что же касается вас, дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
– А мой муж, – воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. – Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи?
– Помилован, – ответил вице-король. – Можно продолжать бракосочетание.
На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.
Эрнст Питаваль
Голова королевы. Том 1
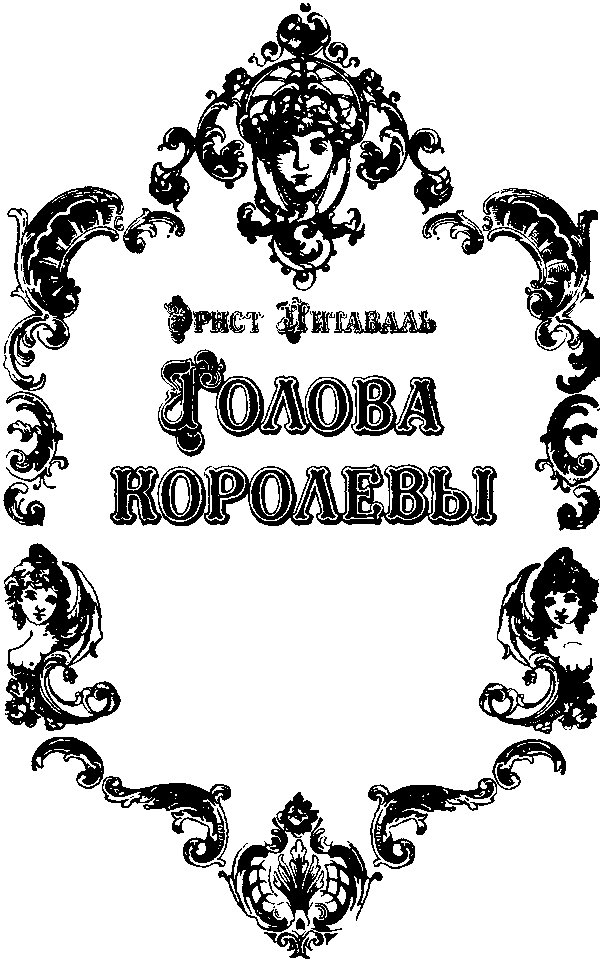
Книга первая
В БОРЬБЕ ЗА ТРОН

Глава первая
БАЛ-МАСКАРАД

I
 Всемогущий министр и любимец короля Генриха VIII, архиепископ Кранмер, давал бал-маскарад в своем дворце в Гэмптоне. Обширный парадный зал был задрапирован пурпурным сукном, галерея для герольдов и музыкантов была увешана богатыми коврами, бесчисленные свечи белого прозрачного воска заменяли дневной свет. Буфетные столы были уставлены бутылками, золотыми бокалами и блюдцами со всевозможными редкими и дорогими кушаньями. Пестрая толпа гостей двигалась и негромко шумела; тут стояли группы разговаривающих, там кавалеры пили вино; в уютных уголках беседовали парочки; в смежной комнате, рядом с банкетным залом, был устроен театр, а галерея вела в сад, где под навесом ветвей и среди благоухающих цветов были накрыты столики с дорогими фруктами и лакомствами.
У входа в эту галерею, в углублении за выдававшейся колонной, стоял высокий, статный мужчина; он скрестил руки на груди и мрачно смотрел на водоворот веселых гостей; но вдруг его глаза оживились, яркая краска ударила в лицо, рукой он схватился за пурпурный занавес, прикрывающий колонну, и поспешил спрятаться за ним.
К галерее приближалась дама. Она пробиралась в толпе с такой беспокойной поспешностью и шла такой воздушной поступью, что две другие маски едва успевали следовать за ней. Одеждой она задела мимоходом занавес, скрывающий мрачного мужчину, но даже и при этом не прямом прикосновении он вздрогнул. Дама скрылась со своими провожатыми в галерее, незнакомец же вышел из ниши, последовал за ней и дикая страсть загорелась в его взоре. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке.
— Здравствуйте, лорд Варвик, — прошептал изящно одетый молодой человек, — на одно слово… Видели вы сейчас молодую особу в белом атласном платье и синей бархатной маске?
— Зачем она понадобилась вам? — мрачно спросил Варвик, дружески пожимая руку молодого человека.
— Забавный вопрос, милорд! Ведь мы на балу, где молодежь охотится за красотой.
— Сэр Генри, эта добыча не для вас.
— Неужели вы, лорд Варвик, являетесь моим соперником в ухаживании за этой красавицей? Она в галерее. Вы, кажется, последовали за ней?..
При этом говоривший — граф Сэррей — сделал вид, что направляется в галерею.
Однако лорд Варвик схватил его руку с железной силой и с такой порывистой резкостью, что Сэррей поднял свой взор, точно желая потребовать у лорда объяснений его странного поступка.
— Сэррей, — дрожащим голосом прошептал Варвик, — я люблю вас, как родного сына. Не следуйте за ней, говорю вам, тот, кто последует за этой дамой, может поплатиться головой за свою опрометчивость. Влюбитесь в иной прекрасный образ и поспешите забыть тень, за которой я гоняюсь.
— Милорд, если вам угрожает опасность, то я не отстану от вас. Сын Чарльза Говарда держит сторону Варвиков. Разве я — ребенок, что вы гоните меня, как будто я рискую обжечь здесь пальцы?
Между тем Варвик становился все нетерпеливее.
— Делайте что угодно, — с досадой прошептал он, — оставайтесь только при мне и молчите, если вам сколько- нибудь дорога жизнь.
С этими словами лорд Варвик вступил в галерею, поспешно прошел по ней и остановился на миг у выхода, точно размышляя, куда направить свои шаги. Его темные глаза как будто имели свойство пронизывать мрак неосвещенных частей сада, потому что он внезапно взял свою шпагу под мышку, чтобы та не стучала по земле, поспешно направился к длинной аллее высоких вязов и стал украдкой пробираться там от дерева к дереву, избегая выступать из тени на свет.
Граф Сэррей следовал за ним. Сэр Генри Говард, граф Сэррей, английский Петрарка, был готов везде подозревать романтическое приключение, а тут, конечно, творилось нечто необычайное, полное захватывающего интереса, если гордый, мрачный лорд Варвик крался по саду как вор и предостерег его: в этом деле человек рискует собственной головой.
Между тем Варвик повернул к чаще кустарника и осторожно забрался в нее; заметив, что Сэррей последовал за ним, он стиснул его руку и подал знак молчания.
Сэррей видел, что рука лорда дрожала, и, глянув в сторону, куда смотрел Варвик, различил белое платье, видневшееся сквозь сети ветвей.
Место, где они притаились, было крайне уединенно, и Сэррей не мог сомневаться, что лорд подслушивает тайны людей, пришедших на условленное свидание. Но его удивляло, почему этот гордый, пылкий и смелый человек ограничивался подслушиванием вместо того, чтобы тут же вызвать соперника на поединок.
Так прошло около четверти часа, после чего стали приближаться шаги с той стороны, где Сэррей заметил белое платье.
Шаги приблизились. Сэррей услыхал тихий шепот, а затем в кустарнике произошло движение. Влюбленная парочка подошла настолько близко к притаившимся мужчинам, что Сэррей мог теперь разобрать слова и узнать голос.
— Милая Джэн, — произнес мужской голос, — ты говоришь, что Анна разлюбила меня? Как раз так нашептывала мне Анна для того, чтобы я оттолкнул от себя Екатерину.
Сэррей вздрогнул: голос, произнесший эти слова, принадлежал королю Генриху Восьмому.
— Сэр, — послышался ответный шепот, — Анна любит другого, я знаю это.
— Это — ложь! — раздалось из ближнего кустарника. Парочка в испуге разъединилась, и в тот момент, пылая волнением, бешенством и негодованием, Анна Болейн, королева Англии, предстала перед своим супругом и опять воскликнула: — Это — ложь, Генрих!… О, Боже мой, чем заслужила я это от тебя!
— Миледи, — возразил король, — вы подслушиваете маскарадную шутку, это недостойно вас.
— Генрих, это — больше, чем маскарадная шутка, это — измена… Мой супруг бесчестит себя с одной из моих служанок! Я требую, чтобы Джэн Сеймур немедленно оставила двор…
— Довольно, миледи! — резким, угрожающим тоном перебил супругу король. — Так смела говорить Екатерина Арагонская, а не вы. А так как вы вздумали разоблачить короля, — тут Генрих VIII откинул плащ пилигрима и снял с головы шляпу, широкие поля которой скрывали его лицо, — то вы найдете и судью, который расследует обвинение против вас, заявленное леди Сеймур.
С этими словами он подал руку своей любовнице, и тихий ликующий смех Джэн Сеймур, возвестил оскорбленной королеве торжество победы.
Анна Болейн чувствовала, что колени ее подгибаются, и уставила неподвижный взор на удаляющуюся пару.
— Месть Екатерины начинается! — пробормотала она, содрогаясь и трепеща словно от какого-то ужасного предчувствия.
Тут Варвик вышел из кустов.
Королева встрепенулась, заслышав шаги.
— Я погибла, Норфолк, — тихо промолвила она, — я погибла, как некогда Екатерина Арагонская.
— Удостойте взглянуть на меня, миледи! — сказал лорд, — Норфолк и Гарри убежали, пред вами граф Варвик.
— Варвик? — страдальческим тоном презрительно вскрикнула несчастная королева и отшатнулась, точно при виде призрака. — Это — Божие мщение…
— Скажите лучше: Божья кара, леди Болейн! — возразил мрачный человек, после чего низко поклонился и поспешил обратно в кусты, так как от дворца бежали слуги с факелами. — Уйдем отсюда, — шепнул Варвик графу Сэррею, — сад будут обыскивать.
— Королева близка к обмороку… смотрите, она шатается, мы должны помочь ей! — воскликнул граф.
— Вы, видно, захотели угодить в Тауэр? Желаете, должно быть, чтобы вас обвинили в любовной связи с королевой? Королю только этого и нужно.
Говоря таким образом, Варвик тащил Сэррея к выходу из парка.
Едва успели они выйти за решетчатые ворота и скрыться на соседней улице, как затрубили в рог.
— Это — сигнал запирать ворота парка! — с мрачной улыбкой произнес Варвик. — Теперь Анне несдобровать!
— Правда ли, что она обманывала короля? — спросил Сэррей. — Милорд, кажется, вы питаете к королеве личную ненависть. Но если она провинилась, то ей можно простить…
— Судьба карает ее по заслугам! — возразил Варвик. — Разве во Франции, при веселом дворе Франциска Первого, вам не рассказывали, из-за чего Генрих Восьмой оттолкнул от себя Екатерину Арагонскую и вступил в пререкания с церковью?
— Нет, милорд, там полагают, что несговорчивость папы, когда Генрих потребовал себе развода, подстрекнула короля поставить на своем, между тем как при иных условиях он, пожалуй, примирился бы со своей супругой. Вдобавок его мучили угрызения совести. Екатерина была вдовой его родного брата, и церковь называла этот брак кровосмешением.
Лорд Варвик горько рассмеялся и воскликнул:
— Генрих Восьмой — и угрызения совести! Эти слова не сопоставимы. Грубая чувственность и кровожадность — вот преобладающие страсти этого глупого современного Калигулы, которые требуют удовлетворения и смеются над всеми препятствиями, наглейшим образом издеваясь над чувством справедливости, когда им оказывают сопротивление. Вы жили во Франции, Сэррей, сочиняли там стихи и учились изящным танцам, но слышали, конечно, между прочим про то, что Генрих Восьмой, король Англии, вел ученый спор с церковью. По вашим словам, честолюбие и гордость побудили короля не уступать и пренебречь папским проклятием. Ну да, весь свет морочили этими выдумками!… Ведь король Генрих также соблюдает отчасти приличия, придерживается известной формальности… И я бьюсь об заклад, что в настоящее время Анна Болейн услышит весьма ученые доводы, по которым для блага Англии необходимо, чтобы Генрих Восьмой возвел ее бывшую горничную в сан английской королевы.
— Вы бредите, милорд! В сан королевы? Ваша ненависть ослепляет вас. Генрих может изменить своей супруге. Ведь он — король, и никто не вправе помешать ему в том, или вступиться за обиженную. Но едва ли он рискнет надругаться таким образом над всякой нравственностью, над всяким правом и общественным мнением.
— Генрих рискнет чем угодно; ведь Джэн Сеймур дала клятву, что он не получит от нее ничего, пока не возведет ее на английский трон.
— Это невозможно, милорд! Вспомните, ведь Анна Болейн — законная жена короля. Он пошел наперекор церкви и расторг свой брак с Екатериной, чтобы вступить в супружество с Анной Болейн, и вдруг он осмелится вторично насмеяться над священным таинством!…
— Сэррей, я намерен рассказать вам одну историю. Сегодня вы бежали вдогонку за красавицей Анной. Вы не подозревали того, что она — королева Англии и замужняя женщина. Сцена в саду, свидетелем которой вы сделались, возмутила вас, и вы, как дворянин, были готовы пролить собственную кровь, защищая право Анны Болейн?
— Вы отгадали мои помыслы, милорд. Я не побоялся бы публично заявить и подтвердить виденное мной сегодня, если бы Анне Болейн пришлось невинно пострадать.
— Хорошо, вот из-за этого именно и намерен я рассказать вам одну историю. Некогда я увидал прекрасную бледную женщину, и мое сердце пленилось ею, как сегодня — ваше. У этой женщины была фрейлина, которую она одаряла благодеяниями и застала однажды на коленях у своего супруга, осыпавшего ее поцелуями. Екатерина Арагонская — так звали ту бледную болезненную женщину — ограничилась при этом лишь горькими слезами и просьбами. Она так же потребовала удаления от двора Анны Болейн, как сегодня Анна Болейн потребовала отставки Джэн Сеймур, но, как сегодня презрительно расхохоталась Джэн Сеймур, так хохотала в то время Анна Болейн, потому что у короля хватило бесстыдства унизить жену пред ее служанкой. Екатерина вынесла незаслуженный позор, но ее слезы вопияли к Небу о мщении, и сегодня пробил час возмездия. Скажите мне теперь, Генри Говард, заслуживает ли Анна Болейн, чтобы дворянин обнажил за нее свой меч?
— Если это — правда, милорд, то пусть судит Бог прелюбодейку, а я умолкаю. Но куда же ведете вы меня?.. Мы, кажется, заблудились?
Лорд Варвик шел по дороге, которая вела к морскому берегу, и Сэррей следовал за ним и не обратил внимания на то, что они отклонялись все дальше от той части города, где находились его собственный дворец и дворец Варвика.
— Мы нисколько не заблудились, Сэррей. Но, пожалуй, вам недосуг?
— Совсем нет, милорд! Однако не могу ли я спросить, куда наш путь?
— Вот к тому домику, где светится угловое окно.
— А кто там живет?
— Увидите сами! — ответил Варвик. — Но прежде дайте мне окончить мой рассказ… Екатерина Арагонская была, как вам известно, вдовой покойного брата нашего короля, Генриху понадобилось испросить особое разрешение папы, чтобы жениться на ней. Екатерина была на шесть лет старше его, ее красота увядала, и вот после восемнадцати лет замужества вдруг оказалось, что короля мучат угрызения совести за женитьбу на близкой родственнице. Анна Болейн непременно требовала себе короны! Генрих стал просить папу о расторжении брачного союза, и когда из Рима пришел отказ в этой просьбе, то он велел одному молодому священнику тайно обвенчать себя с Анной Болейн. Этот молодой священник — тот самый всемогущий теперь вельможа-архиепископ, который угощал нас сегодня в своем дворце, а именно архиепископ Томас Кранмер. В то время в Лондоне жил знаменитый законовед, по имени Томас Морус. Его-то и избрал король для ведения бракоразводного процесса с церковью. Он сделал Моруса своим канцлером, но добросовестный и неподкупный ученый отозвался о браке короля с Анной Болейн как о двоеженстве. Генрих отстранил его от должности, а на его место назначил Кранмера; он объявил, в силу собственной верховной власти, свой брак с Екатериной расторгнутым, когда же церковь ответила на это проклятием и отлучением, то король отложился от нее сам, после чего издал закон, на основании которого назначил себя верховным главой англиканской церкви. Парламент открыто принял сторону короля, и Генрих потребовал также и от Томаса Моруса присяги, признававшей его верховным главой новой церкви. Анна Болейн поклялась, что этому ученому не быть живым, а услужливые власти сумели поставить заранее обреченному человеку такие вопросы, на которые совесть не позволила ему ответить, как того требовал король. Только этого и было надобно Генриху, только этого и добивалась Анна Болейн. Смертный приговор был произнесен над благородным ученым, как над государственным преступником, и после долгого заточения несчастного присудили к жестокой казни. Было приказано протащить его на веревке по городу к эшафоту, а там подвесить на столбе и оставить в висячем положении на долгие муки, после чего снять еще живым и изувечить, распороть ему живот, выжечь кишки, а тело четвертовать, каждую из этих четырех частей было приказано вывесить на городских воротах Лондона, а голову казненного воткнуть на позорный столб посреди Лондонского моста. Я видел своими глазами, как последнего защитника Екатерины влекли в Тауэр, видел потрясающую сцену прощания с ним его единственной дочери, видел, как народ безмолвно и торжественно обнажал головы, проходя мимо.
— Клянусь честью, милорд, — воскликнул Сэррей, — теперь я понимаю, за что вы ненавидите Анну Болейн.
Варвик промолчал, погрузившись в угрюмую задумчивость.
Всемогущий министр и любимец короля Генриха VIII, архиепископ Кранмер, давал бал-маскарад в своем дворце в Гэмптоне. Обширный парадный зал был задрапирован пурпурным сукном, галерея для герольдов и музыкантов была увешана богатыми коврами, бесчисленные свечи белого прозрачного воска заменяли дневной свет. Буфетные столы были уставлены бутылками, золотыми бокалами и блюдцами со всевозможными редкими и дорогими кушаньями. Пестрая толпа гостей двигалась и негромко шумела; тут стояли группы разговаривающих, там кавалеры пили вино; в уютных уголках беседовали парочки; в смежной комнате, рядом с банкетным залом, был устроен театр, а галерея вела в сад, где под навесом ветвей и среди благоухающих цветов были накрыты столики с дорогими фруктами и лакомствами.
У входа в эту галерею, в углублении за выдававшейся колонной, стоял высокий, статный мужчина; он скрестил руки на груди и мрачно смотрел на водоворот веселых гостей; но вдруг его глаза оживились, яркая краска ударила в лицо, рукой он схватился за пурпурный занавес, прикрывающий колонну, и поспешил спрятаться за ним.
К галерее приближалась дама. Она пробиралась в толпе с такой беспокойной поспешностью и шла такой воздушной поступью, что две другие маски едва успевали следовать за ней. Одеждой она задела мимоходом занавес, скрывающий мрачного мужчину, но даже и при этом не прямом прикосновении он вздрогнул. Дама скрылась со своими провожатыми в галерее, незнакомец же вышел из ниши, последовал за ней и дикая страсть загорелась в его взоре. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке.
— Здравствуйте, лорд Варвик, — прошептал изящно одетый молодой человек, — на одно слово… Видели вы сейчас молодую особу в белом атласном платье и синей бархатной маске?
— Зачем она понадобилась вам? — мрачно спросил Варвик, дружески пожимая руку молодого человека.
— Забавный вопрос, милорд! Ведь мы на балу, где молодежь охотится за красотой.
— Сэр Генри, эта добыча не для вас.
— Неужели вы, лорд Варвик, являетесь моим соперником в ухаживании за этой красавицей? Она в галерее. Вы, кажется, последовали за ней?..
При этом говоривший — граф Сэррей — сделал вид, что направляется в галерею.
Однако лорд Варвик схватил его руку с железной силой и с такой порывистой резкостью, что Сэррей поднял свой взор, точно желая потребовать у лорда объяснений его странного поступка.
— Сэррей, — дрожащим голосом прошептал Варвик, — я люблю вас, как родного сына. Не следуйте за ней, говорю вам, тот, кто последует за этой дамой, может поплатиться головой за свою опрометчивость. Влюбитесь в иной прекрасный образ и поспешите забыть тень, за которой я гоняюсь.
— Милорд, если вам угрожает опасность, то я не отстану от вас. Сын Чарльза Говарда держит сторону Варвиков. Разве я — ребенок, что вы гоните меня, как будто я рискую обжечь здесь пальцы?
Между тем Варвик становился все нетерпеливее.
— Делайте что угодно, — с досадой прошептал он, — оставайтесь только при мне и молчите, если вам сколько- нибудь дорога жизнь.
С этими словами лорд Варвик вступил в галерею, поспешно прошел по ней и остановился на миг у выхода, точно размышляя, куда направить свои шаги. Его темные глаза как будто имели свойство пронизывать мрак неосвещенных частей сада, потому что он внезапно взял свою шпагу под мышку, чтобы та не стучала по земле, поспешно направился к длинной аллее высоких вязов и стал украдкой пробираться там от дерева к дереву, избегая выступать из тени на свет.
Граф Сэррей следовал за ним. Сэр Генри Говард, граф Сэррей, английский Петрарка, был готов везде подозревать романтическое приключение, а тут, конечно, творилось нечто необычайное, полное захватывающего интереса, если гордый, мрачный лорд Варвик крался по саду как вор и предостерег его: в этом деле человек рискует собственной головой.
Между тем Варвик повернул к чаще кустарника и осторожно забрался в нее; заметив, что Сэррей последовал за ним, он стиснул его руку и подал знак молчания.
Сэррей видел, что рука лорда дрожала, и, глянув в сторону, куда смотрел Варвик, различил белое платье, видневшееся сквозь сети ветвей.
Место, где они притаились, было крайне уединенно, и Сэррей не мог сомневаться, что лорд подслушивает тайны людей, пришедших на условленное свидание. Но его удивляло, почему этот гордый, пылкий и смелый человек ограничивался подслушиванием вместо того, чтобы тут же вызвать соперника на поединок.
Так прошло около четверти часа, после чего стали приближаться шаги с той стороны, где Сэррей заметил белое платье.
Шаги приблизились. Сэррей услыхал тихий шепот, а затем в кустарнике произошло движение. Влюбленная парочка подошла настолько близко к притаившимся мужчинам, что Сэррей мог теперь разобрать слова и узнать голос.
— Милая Джэн, — произнес мужской голос, — ты говоришь, что Анна разлюбила меня? Как раз так нашептывала мне Анна для того, чтобы я оттолкнул от себя Екатерину.
Сэррей вздрогнул: голос, произнесший эти слова, принадлежал королю Генриху Восьмому.
— Сэр, — послышался ответный шепот, — Анна любит другого, я знаю это.
— Это — ложь! — раздалось из ближнего кустарника. Парочка в испуге разъединилась, и в тот момент, пылая волнением, бешенством и негодованием, Анна Болейн, королева Англии, предстала перед своим супругом и опять воскликнула: — Это — ложь, Генрих!… О, Боже мой, чем заслужила я это от тебя!
— Миледи, — возразил король, — вы подслушиваете маскарадную шутку, это недостойно вас.
— Генрих, это — больше, чем маскарадная шутка, это — измена… Мой супруг бесчестит себя с одной из моих служанок! Я требую, чтобы Джэн Сеймур немедленно оставила двор…
— Довольно, миледи! — резким, угрожающим тоном перебил супругу король. — Так смела говорить Екатерина Арагонская, а не вы. А так как вы вздумали разоблачить короля, — тут Генрих VIII откинул плащ пилигрима и снял с головы шляпу, широкие поля которой скрывали его лицо, — то вы найдете и судью, который расследует обвинение против вас, заявленное леди Сеймур.
С этими словами он подал руку своей любовнице, и тихий ликующий смех Джэн Сеймур, возвестил оскорбленной королеве торжество победы.
Анна Болейн чувствовала, что колени ее подгибаются, и уставила неподвижный взор на удаляющуюся пару.
— Месть Екатерины начинается! — пробормотала она, содрогаясь и трепеща словно от какого-то ужасного предчувствия.
Тут Варвик вышел из кустов.
Королева встрепенулась, заслышав шаги.
— Я погибла, Норфолк, — тихо промолвила она, — я погибла, как некогда Екатерина Арагонская.
— Удостойте взглянуть на меня, миледи! — сказал лорд, — Норфолк и Гарри убежали, пред вами граф Варвик.
— Варвик? — страдальческим тоном презрительно вскрикнула несчастная королева и отшатнулась, точно при виде призрака. — Это — Божие мщение…
— Скажите лучше: Божья кара, леди Болейн! — возразил мрачный человек, после чего низко поклонился и поспешил обратно в кусты, так как от дворца бежали слуги с факелами. — Уйдем отсюда, — шепнул Варвик графу Сэррею, — сад будут обыскивать.
— Королева близка к обмороку… смотрите, она шатается, мы должны помочь ей! — воскликнул граф.
— Вы, видно, захотели угодить в Тауэр? Желаете, должно быть, чтобы вас обвинили в любовной связи с королевой? Королю только этого и нужно.
Говоря таким образом, Варвик тащил Сэррея к выходу из парка.
Едва успели они выйти за решетчатые ворота и скрыться на соседней улице, как затрубили в рог.
— Это — сигнал запирать ворота парка! — с мрачной улыбкой произнес Варвик. — Теперь Анне несдобровать!
— Правда ли, что она обманывала короля? — спросил Сэррей. — Милорд, кажется, вы питаете к королеве личную ненависть. Но если она провинилась, то ей можно простить…
— Судьба карает ее по заслугам! — возразил Варвик. — Разве во Франции, при веселом дворе Франциска Первого, вам не рассказывали, из-за чего Генрих Восьмой оттолкнул от себя Екатерину Арагонскую и вступил в пререкания с церковью?
— Нет, милорд, там полагают, что несговорчивость папы, когда Генрих потребовал себе развода, подстрекнула короля поставить на своем, между тем как при иных условиях он, пожалуй, примирился бы со своей супругой. Вдобавок его мучили угрызения совести. Екатерина была вдовой его родного брата, и церковь называла этот брак кровосмешением.
Лорд Варвик горько рассмеялся и воскликнул:
— Генрих Восьмой — и угрызения совести! Эти слова не сопоставимы. Грубая чувственность и кровожадность — вот преобладающие страсти этого глупого современного Калигулы, которые требуют удовлетворения и смеются над всеми препятствиями, наглейшим образом издеваясь над чувством справедливости, когда им оказывают сопротивление. Вы жили во Франции, Сэррей, сочиняли там стихи и учились изящным танцам, но слышали, конечно, между прочим про то, что Генрих Восьмой, король Англии, вел ученый спор с церковью. По вашим словам, честолюбие и гордость побудили короля не уступать и пренебречь папским проклятием. Ну да, весь свет морочили этими выдумками!… Ведь король Генрих также соблюдает отчасти приличия, придерживается известной формальности… И я бьюсь об заклад, что в настоящее время Анна Болейн услышит весьма ученые доводы, по которым для блага Англии необходимо, чтобы Генрих Восьмой возвел ее бывшую горничную в сан английской королевы.
— Вы бредите, милорд! В сан королевы? Ваша ненависть ослепляет вас. Генрих может изменить своей супруге. Ведь он — король, и никто не вправе помешать ему в том, или вступиться за обиженную. Но едва ли он рискнет надругаться таким образом над всякой нравственностью, над всяким правом и общественным мнением.
— Генрих рискнет чем угодно; ведь Джэн Сеймур дала клятву, что он не получит от нее ничего, пока не возведет ее на английский трон.
— Это невозможно, милорд! Вспомните, ведь Анна Болейн — законная жена короля. Он пошел наперекор церкви и расторг свой брак с Екатериной, чтобы вступить в супружество с Анной Болейн, и вдруг он осмелится вторично насмеяться над священным таинством!…
— Сэррей, я намерен рассказать вам одну историю. Сегодня вы бежали вдогонку за красавицей Анной. Вы не подозревали того, что она — королева Англии и замужняя женщина. Сцена в саду, свидетелем которой вы сделались, возмутила вас, и вы, как дворянин, были готовы пролить собственную кровь, защищая право Анны Болейн?
— Вы отгадали мои помыслы, милорд. Я не побоялся бы публично заявить и подтвердить виденное мной сегодня, если бы Анне Болейн пришлось невинно пострадать.
— Хорошо, вот из-за этого именно и намерен я рассказать вам одну историю. Некогда я увидал прекрасную бледную женщину, и мое сердце пленилось ею, как сегодня — ваше. У этой женщины была фрейлина, которую она одаряла благодеяниями и застала однажды на коленях у своего супруга, осыпавшего ее поцелуями. Екатерина Арагонская — так звали ту бледную болезненную женщину — ограничилась при этом лишь горькими слезами и просьбами. Она так же потребовала удаления от двора Анны Болейн, как сегодня Анна Болейн потребовала отставки Джэн Сеймур, но, как сегодня презрительно расхохоталась Джэн Сеймур, так хохотала в то время Анна Болейн, потому что у короля хватило бесстыдства унизить жену пред ее служанкой. Екатерина вынесла незаслуженный позор, но ее слезы вопияли к Небу о мщении, и сегодня пробил час возмездия. Скажите мне теперь, Генри Говард, заслуживает ли Анна Болейн, чтобы дворянин обнажил за нее свой меч?
— Если это — правда, милорд, то пусть судит Бог прелюбодейку, а я умолкаю. Но куда же ведете вы меня?.. Мы, кажется, заблудились?
Лорд Варвик шел по дороге, которая вела к морскому берегу, и Сэррей следовал за ним и не обратил внимания на то, что они отклонялись все дальше от той части города, где находились его собственный дворец и дворец Варвика.
— Мы нисколько не заблудились, Сэррей. Но, пожалуй, вам недосуг?
— Совсем нет, милорд! Однако не могу ли я спросить, куда наш путь?
— Вот к тому домику, где светится угловое окно.
— А кто там живет?
— Увидите сами! — ответил Варвик. — Но прежде дайте мне окончить мой рассказ… Екатерина Арагонская была, как вам известно, вдовой покойного брата нашего короля, Генриху понадобилось испросить особое разрешение папы, чтобы жениться на ней. Екатерина была на шесть лет старше его, ее красота увядала, и вот после восемнадцати лет замужества вдруг оказалось, что короля мучат угрызения совести за женитьбу на близкой родственнице. Анна Болейн непременно требовала себе короны! Генрих стал просить папу о расторжении брачного союза, и когда из Рима пришел отказ в этой просьбе, то он велел одному молодому священнику тайно обвенчать себя с Анной Болейн. Этот молодой священник — тот самый всемогущий теперь вельможа-архиепископ, который угощал нас сегодня в своем дворце, а именно архиепископ Томас Кранмер. В то время в Лондоне жил знаменитый законовед, по имени Томас Морус. Его-то и избрал король для ведения бракоразводного процесса с церковью. Он сделал Моруса своим канцлером, но добросовестный и неподкупный ученый отозвался о браке короля с Анной Болейн как о двоеженстве. Генрих отстранил его от должности, а на его место назначил Кранмера; он объявил, в силу собственной верховной власти, свой брак с Екатериной расторгнутым, когда же церковь ответила на это проклятием и отлучением, то король отложился от нее сам, после чего издал закон, на основании которого назначил себя верховным главой англиканской церкви. Парламент открыто принял сторону короля, и Генрих потребовал также и от Томаса Моруса присяги, признававшей его верховным главой новой церкви. Анна Болейн поклялась, что этому ученому не быть живым, а услужливые власти сумели поставить заранее обреченному человеку такие вопросы, на которые совесть не позволила ему ответить, как того требовал король. Только этого и было надобно Генриху, только этого и добивалась Анна Болейн. Смертный приговор был произнесен над благородным ученым, как над государственным преступником, и после долгого заточения несчастного присудили к жестокой казни. Было приказано протащить его на веревке по городу к эшафоту, а там подвесить на столбе и оставить в висячем положении на долгие муки, после чего снять еще живым и изувечить, распороть ему живот, выжечь кишки, а тело четвертовать, каждую из этих четырех частей было приказано вывесить на городских воротах Лондона, а голову казненного воткнуть на позорный столб посреди Лондонского моста. Я видел своими глазами, как последнего защитника Екатерины влекли в Тауэр, видел потрясающую сцену прощания с ним его единственной дочери, видел, как народ безмолвно и торжественно обнажал головы, проходя мимо.
— Клянусь честью, милорд, — воскликнул Сэррей, — теперь я понимаю, за что вы ненавидите Анну Болейн.
Варвик промолчал, погрузившись в угрюмую задумчивость.
II
Вскоре Варвик и Сэррей достигли маленького домика, причем первый дернул за ручку звонка. Прошло порядочно времени, пока из полуотворенной двери выглянула старушка.
— Ах, это вы, милорд! — радостно воскликнула она, когда узнала Варвика. — Леди уже отчаялась увидеть вас сегодня и боялась, не случилось ли с вами какой-нибудь беды.
— Где же леди?
— В траурной комнате, милорд. Сегодня она не выходила оттуда с полудня. Я отворила бы вам раньше, но я была наверху и стучалась к леди в дверь. В десять часов вечера, не дождавшись вас, она заперлась одна.
Лорд Варвик стал подниматься по лестнице, пока старуха болтала таким образом. С бьющимся от любопытства сердцем следовал за своим спутником Сэррей. Маленький уединенный домик, довольно бедная обстановка и таинственное поведение лорда — все это приводило юного поэта в сильнейшее нетерпение, ему хотелось узнать, в каких отношениях находился могущественный лорд с обитательницей этого скромного жилища, кто была дама, ожидавшая лорда в такой поздний час и дозволявшая ему приводить с собой посторонних.
Когда шпоры лорда Варвика зазвенели по паркету гостиной, внезапно распахнулась дверь, и на пороге показалась высокая, стройная фигура женщины в черном траурном платье. Ее лицо носило следы благородной красоты, поблекшей под сокрушающей рукой горя, эти изящные черты были холодны и строги.
— Какую весть принесли вы, милорд? — спросила она, когда знатный гость молча поклонился. — Вы являетесь поздно! Неужели меня обманули? Неужели моя надежда снова оказалась тщетной?
— Леди Морус! — ответил Варвик, — Екатерина Арагонская отмщена!
Сэррей содрогнулся при этом имени: он видел пред собой дочь казненного ученого и понял теперь все. Это она, подобно призраку мщения, выслеживала короля и доставила Анне Болейн доказательства его измены; это она с Варвиком устроила так, что Анна застигла сегодня своего супруга врасплох.
Но как внезапно переменилась наружность этой женщины! На щеках у нее заиграл румянец, глаза загорелись, стан выпрямился, а голос, только что дрожавший от смятения, зазвучал теперь таким изменившимся тоном, как если бы погребальный колокол неожиданно залился ликующим благовестом.
— Мой отец отмщен! — ликовала она, но ее тон был мрачен, резок и вместе с тем торжественен. — Пойдемте, милорд Варвик, и расскажите о том бедному умершему, пусть он знает, что отмщен. Пусть узнают его остановившиеся стеклянные глаза, его холодные губы, окровавленная седая голова, что на небе есть Бог, который услышал мою молитву. Однако, — спохватилась вдруг молодая женщина, — кто это с вами?
— Это — мой друг, — ответил Варвик, взяв за руку Сэррея. — Настоящий час должен подвигнуть его на дальнейшее служение добру. Его зовут Генри Говард, граф Сэррей.
— Добро пожаловать! — сказала Маргарита Морус и протянула гостю свою белую худую руку. — Английский народ распевает ваши песни, пусть в них всегда прославляются только истинно благородные люди!
Сэррей пожал протянутую ему руку. Так вот кто подготовил гибель прекрасной королеве!… Именно эта холодная, бледная женщина! Мщение было справедливо, но ужасно.
Маргарита Морус взяла свечу и пошла впереди своих гостей; все они проследовали в небольшую обитую черным комнату, у задней стены которой помешался маленький алтарь. Над ним висело распятие, а под распятием стояло серебряное блюдо с отрубленной человеческой головой.
Маргарита преклонила колени. Эта голова, которую она, рискуя собственной жизнью, похитила ночью с позорного столба на Лондонском мосту, собственноручно набальзамировала и беспрерывно орошала слезами, — была головой ее отца, головой канцлера Томаса Моруса, павшей под секирой палача. Как часто молилась она пред этими мертвыми глазами, последний взгляд которых приветствовал ее с нежной любовью! Как жаждало мщения ее сердце и как ликовало оно сегодня, когда была унижена та женщина, которая, сладострастно целуя короля, требовала казни ее отца!…
— Теперь я предам тебя земле, — прорыдала любящая дочь, — теперь я могу умереть, потому что сдержала свое слово. Проклятие, произнесенное злополучной Екатериной, исполнилось и оно будет исполняться на всех, кого любит король Генрих. Да, — воскликнула она, и ее стан выпрямился, взор заблистал, как будто вдохновленный неземной силой, ее черты приняли зловеще-мрачное, но в то же время просветленное выражение, — я вижу кровавую тучу вокруг трона Генриха. Бог возмездия гневно взирает с небес. В Тауэре палачи оттачивают топор, убийственный удар обрушится на головы виновных, и кровь задымится к небу. Но гнев Господень еще не утолен! Проклятие церкви шипит вокруг трона. «Убийство!» — слышится вопль в стенах Тауэра! Граф Сэррей, ваши песни становятся мрачными, и последнюю из них поет ваша отрубленная голова. Лорд Варвик, ваши ноги утопают в крови. Где падают на эшафот королевы, там лорды Англии также исходят кровью. Отец, отец, ты отмщен; теперь бичуют рабов, смотревших на зрелище твоей казни, веселая Англия пляшет с палачом, и пламя костров взвивается к небесам… О Боже мой… умилосердись!… Я перестала проклинать, останови Свою карающую десницу, сжалься!
Маргарита изнемогла и словно окаменела пред страшным видением, которое представлялось в экстазе ее душе; ее колени подогнулись, и она, упав в обморок, ударилась плечом об алтарь, последний опрокинулся, и голова ее отца покатилась через нее на пол. Мужчины побледнели. Когда молодая девушка в своих предсказаниях назвала Варвика по имени, он машинально схватился за шпагу. Но Сэррей слушал, словно очарованный, и, хотя его члены дрожали от озноба, душа жадно упивалась ужасной картиной.
— Лорд Варвик, — потихоньку спросил он, когда они передали Маргариту на попечение старухи, — что думаете вы насчет этих предсказаний?
— Я истолковываю их в хорошую сторону! — серьезно ответил Варвик. — Если мои ноги тонут в крови, значит, я должен держать в руке меч; тогда я не боюсь ничего. Что же касается вас, то берегитесь этой последней песни… Избегайте королевского двора: ваше сердце слишком пылко для капризов короля Генриха, он способен заставить поэта поплатиться за песню, которая не понравилась ему.
— Тогда я стал бы мучеником поэзии! — с принужденным смехом воскликнул Сэррей. — Но я не могу поверить в ужасную кровавую тучу, созданную разгоряченным воображением.
Лорд Варвик не сказал на это ничего, он и его спутник молча дошли до того места, где их дороги разделились. Варвик на прощанье пожал руку Сэррея и промолвил:
— Генри Говард! Если бы пророчеству все-таки было суждено сбыться, то у вас найдется мститель, как нашелся он и у леди Маргариты.
Сэррей в шутливом тоне обещал то же самое. Однако его веселость была ненатуральной. Какое-то недоброе предчувствие легло тяжелым гнетом на его сердце. В первый раз сегодня английский Петрарка не пел никакой страстной песни, прохаживаясь по узорному мраморному полу своего дворца.
Варвик не ошибся в своем суждении о короле Генрихе, когда сказал, что в данном случае Анне Болейн предстоит поплатиться ни более ни менее как своей головой. На другой же день леди Джэн Сеймур видели верхом на белоснежном иноходце, в расшитом золотом платье, она скакала рядом с королем по Сент-Джемскому парку; но ее прекрасную голову венчала только дворянская корона, из черного бархата, унизанная жемчугом.
Вскоре иная корона должна была украсить ее благовонные кудри. В то время, когда она с веселыми шутками ехала возле Генриха, супругу короля, несчастную Анну Болейн, отводили в Тауэр; ее обвинили перед парламентом в прелюбодеянии, которое она будто бы совершила с пятью дворянами, в том числе со своим родным братом. В надежде на обещанное помилование один из обвиняемых дал ложное показание, тем не менее все они были приговорены к смерти и казнены. Анне Болейн также вынесли смертный приговор. Обсуждали, следует ли обезглавить ее или сжечь живую. Однако Генрих в воспоминание сладостных часов, пережитых им с ней, решил в виде милости обречь ее на секиру палача.
Это не была уже гордая красавица, насмехавшаяся над Екатериной Арагонской; проникнутая глубоким раскаянием, Анна Болейн бросилась к ногам жены тюремного смотрителя и умоляла эту женщину пойти к дочери отринутой королевы, принцессе Марии Тюдор, чтобы просить прощения от ее имени за то бедствие, которое навлекла она на принцессу и ее мать.
Несчастной осужденной не разрешили даже повидаться с ребенком, которого подарила она Генриху, — с златокудрой Елизаветой, похожей на нее как две капли воды. Мужество покинуло Анну при виде эшафота. В диком безумии она разразилась хохотом, потом задрожала от страха, и молилась, и плакала.
В тот же день, когда голова Анны Болейн скатилась на песок, в Виндзорском дворце гремела праздничная музыка. Король Генрих вел Иоанну Сеймур к алтарю.

Глава вторая
СЭРРЕЙ И ВАРВИК

I
 Прошло несколько лет с того дня, когда Генри Говард с лордом Варвиком стояли пред Маргаритой Морус, и многое изменилось с тех пор. Джэн Сеймур после недолгого замужества умерла при родах, и король Генрих отправил своего приближенного, сэра Томаса Кромвеля, в Клеве, просить руки принцессы Анны. Когда невеста, обвенчанная по обычаю того времени с королевским посланником вместо короля, была привезена к нему, то король нашел ее безобразной и разразился бранью, говоря, что ему вместо жены привели толстую фландрскую кобылу. Он устроил вторичный развод с Анной Клевской, а посредника этого брака приказал обезглавить.
Томас Кромвель, по словам палача в Тауэре, не позволил завязать себе глаза пред казнью:
— Скажите королю Генриху, — это были его последние слова, — что он поступил нехорошо, в насмешку упрекнув меня, будто я, сын кузнеца, плохо подковал его, обманув насчет огромной, толстой брабантской лошади, которая умеет ржать только на нижнегерманском наречии. Да будет ему известно, что, сто лет спустя, внук этого кузнеца выкует железо, которым будет казнен король Англии.
Окончив эту речь, Кромвель положил голову на плаху, а, когда она была отрублена, мертвые, остановившиеся глаза казненного так и остались широко раскрытыми и выпученными, точно его взор прозревал будущее. Сколько их ни закрывали, они снова открывались, и голова Кромвеля осталась лежать в гробу как бы зрячая.
— Это означает, — пояснил палач, — что лишь после того, как новый Кромвель отомстит за своего предка, умертвив короля Англии, обезглавленный сомкнет наконец свои вежды.
Однажды на пиру у архиепископа винчестерского Генрих увидел грациозную, пленительную Екатерину Говард, племянницу герцогов Норфолк и двоюродную сестру графа Сэррея. Напрасно граф Сэррей предостерегал свою родственницу против кровавого наследия Анны Болейн, Екатерина не послушала его предостережений; она отдала руку королю и сделала его настолько счастливым, что он заказывал всем церквям благодарственные молебны за свое супружеское счастье.
Однако непостоянство сладострастника опять довело его до пресыщения, а предлог предать суду надоевшую жену был скоро найден. Раньше своего брака с королем Екатерина состояла в нежных отношениях с неким Дургэмом, а предназначалась в супруги другому дворянину. Оба эти человека — бывший любовник и жених были немедленно приговорены к смертной казни, а несчастную королеву таскали с допроса на допрос, хотя она не могла дать иных показаний, кроме того что горько раскаивается в своем прежнем легкомыслии, но не признает себя виновной ни в какой неверности своему супругу.
Однако Екатерину обвинили в государственном преступлении, так как она скрыла, что была уже не девушка, когда отдавала Генриху свою руку.
Снова зазвонил погребальный колокол, и черный флаг на зубцах Тауэра возвестил, что голова королевы упала под секирой палача, а герольды провозглашали на улицах Лондона, что, «по праву справедливости», герб и имя казненной королевы должны исчезнуть со всех общественных зданий, а все ее портреты подлежат конфискации.
Это последнее бесчестье было придумано графом Линкольном, министром Генриха VIII и заклятым врагом Екатерины Говард.
Во дворце могущественного графа Килдара, из углового окна в среднем этаже, виднелась высокая, стройная фигура девушки, наблюдавшей сквозь слезы за тем, как кепстэбли снимали с таверны вывеску с гербом королевы Екатерины. Пульс девушки лихорадочно бился, красивые руки дрожали от ужаса, а сердце сжималось невыразимой тоской.
— Бедный Генри! — вздохнув, промолвила она. — Как, должно быть, тяжело ему в настоящую минуту!… Его сестра казнена, родовой герб его имени подвергается поношению, а самому ему, его брату и всем близким грозит опасность тяжкой немилости короля! Ведь они — ближайшие родственники несчастной Екатерины, а Генрих — этот ужасный тиран, не щадящий никого, кто так или иначе навлек на себя его гнев, — не остановится, пред тем, чтобы распространить свою ненависть на всех, кто был близок с виновной… Господи, научи меня, что мне сделать, как помочь Сэрреям? Ведь они — друзья нашего дома, и я сроднилась с ними всей душой!… Если их постигнет какое-либо несчастье, оно так же тяжко, как и их, поразит и меня!… Пойти к отцу, просить у него заступничества? Но согласится ли он на это? Ведь он так дорожит своим положением при дворе!…
В этот момент открылась дверь, и в комнату вступил тот, кем только что были полны мысли молодой дочери графа Килдара. Девушка быстро повернулась, и с тревогой на лице пошла навстречу Генри Сэррею.
Не дожидаясь его приветствия, она протянула к нему руки и воскликнула:
— Дорогой друг! Вы страдаете? Чем, чем могу я помочь вам? Я слаба и бессильна, но знайте, что мое сердце всецело разделяет ваше горе!…
— Благодарю вас, миледи Бэтси! Иного отношения я не ожидал от вас… вы всегда были добры ко мне и брату!…
— И это мое расположение к вам окрепло еще более теперь, в минуты вашего горя и той опасности, которая грозит вам со стороны короля… Бегите отсюда, сэр Генри! Спасите себя от гнева тирана!… О, Боже, как я ненавижу его!… Мне страшно, противно видеть его, улыбающегося в то время, как на эшафоте льется кровь жертв его кровожадности… О, что бы я дала, чтобы избегнуть возможности бывать в его дворце, проникнутом насквозь ужасом и страшными замыслами!… И я сделаю это!… Пусть мой отец говорит, что хочет, но я не последую ни одному приглашению короля!…
— Но, миледи, ведь вы этим навлечете на себя гнев короля… начнут расспрашивать о причинах и, весьма вероятно, зная о вашем расположении ко всей нашей семье, заподозрят, что вы уклоняетесь бывать при дворе из-за того, что там тяжко оскорбили нас.
— Мне все равно! — воскликнула леди Бэтси. — Зато моя душа будет спокойна!… Но довольно говорить обо мне!… Спешите вы сами избежать опасности!…
— Нет, я не боюсь никакой опасности! — гордо воскликнул Генри Говард, граф Сэррей. — Я всегда сумею защитить себя, и для этого у меня есть два оружия: моя шпага и мои стихи… О, последнее часто колет еще сильнее, чем первое!… Поэзия дает своим избранникам мощь, более сильную, чем сталь… И этот кровожадный Генрих почувствует силу моего слова!… Он думает, что он безгранично велик и могуч и может вершить все, что ему угодно… Но он ошибается!… Сила свободного слова разит каждого: и слабого и мощного; и слово поэта, в особенности то, которое подмечает грехи и слабости ненавистного тирана, легче и скорее, нежели самый строгий закон, повиновение которому достигается под угрозой смерти, — запоминается народом!… Час моей мести Генриху близок! Вчера я написал поэму, в которой, бичуя все мерзости, совершенные Генрихом, облек в поэтическую форму зловещее предсказание роду Тюдоров, вырвавшееся из уст несчастного Кромвеля пред его мученической казнью… Пройдет несколько дней — и вся Англия будет с наслаждением упиваться моими строфами. И если на Генриха не действуют вопли его жертв, если на его сердце не оказывают впечатления стоны и муки несчастных, то больно кольнут его стрелы моей сатиры и ужас содержания моей поэмы!
— Безумец! Что вы хотите сделать! — с ужасом воскликнула леди Килдар. — Умоляю вас, уничтожьте эту поэму!… Ведь она несомненно приведет вас к гибели!… Если уж теперь над вами навис грозящий ежесекундно обрушиться меч, если теперь грозит возможность смерти только за то, что вы — двоюродный брат несчастной казненной королевы Екатерины, то что же будет, когда вы стрелами своей безумно смелой речи затронете лично короля?
— Э, будь что будет! — махнув рукой, воскликнул Генри Сэррей. — Днем раньше, днем позже — не все ли равно? Разве можно еще питать хоть какую-либо жажду жизни, когда она здесь не ценится ни во что!…
— Одумайтесь, сэр Генри!… Ведь вы еще молоды!… А разве не прекрасна жизнь в молодости?.. Тяжело сейчас, но не всегда же так будет!… Не глядите на жизнь столь мрачно! Она и вам еще откроет свои радостные объятия! — убеждала его леди Килдар. — Умоляю вас, откажитесь от своего плана!… Вспомните об отце, сестре, о своем брате!…
В этот момент послышался звон шпор и звук тяжелых шагов и топот детских ног. В комнате появились лорд Варвик в военных доспехах и рядом с ним мальчик, брат Генри Сэррея, Роберт.
— А, лорд Варвик! — радостно промолвила леди Килдар. — Вы как нельзя кстати… И Роберт с вами? Это еще лучше!… Быть может, вид брата, пред которым еще вся жизнь впереди, заставит одуматься этого безумца, — сказала девушка, указывая на Генри Сэррея, и затем передала лорду Варвику весь разговор с пылким поэтом.
Холодный, спокойно-рассудительный Варвик слушал с насупленными бровями, а затем обратился к Генри Сэррею:
— Граф Сэррей! Я всем сердцем понимаю, что вы до глубины души оскорблены последними событиями… я понимаю ваш порыв, но должен остановить его. Вы знаете, что я не менее вас ненавижу этого тирана на троне, ввергнувшего в горе и несчастье свою жену — ту женщину, которую я когда-то любил… Помните наш разговор после бала у Кранмера, когда мы шли с вами к несчастной Маргарите Морус! Но не пришло еще время, когда мы будем в силах отплатить Генриху за его тиранию… Однако мы добьемся своего… Вспомните, что говорила Маргарита о нем и его женах!… Все это исполнилось, так отчего же не исполниться и тому, что она сказала о вас? Она сказала: «Ваши песни становятся все грустнее и горше, и последнюю из них поет ваша окровавленная голова». Конечно, вы вольны делать с собой, что хотите…
— Я не боюсь ничего! — прервал Варвика Генри Сэррей.
— Я знаю вас, — не слушая его, продолжал лорд, — но вы не вправе распоряжаться жизнью своего брата! Откажитесь от своего умысла или вручите мне Роберта! Я намеревался проститься с вами, так как собираюсь уехать в свой Варвик-Кастл; но теперь я уеду не один… Я увезу с собой Роберта, и думаю, что имею на это право в силу своей долголетней дружбы с вами… Поверьте, я сделаю из него человека, ценящего блага жизни больше, чем вы, и разбужу в нем такую же ненависть к Генриху Восьмому, какую питаю сам и какой проникнуты вы… И тиран не уйдет от мести, если не нашей, то по крайней мере нашего младшего поколения… Оно отплатит если не самому Генриху, то его потомству.
Генри Сэррей слушал лорда с заметным волнением; он, очевидно, колебался и не раз взглядывал на леди Килдар, как бы ища у нее решения своих сомнений. А она, нежно привлекши к себе Роберта, с затуманенными от слез глазами, в которых виднелось выражение мольбы, глядела на своего друга, побуждая его принять совет лорда Варвика.
Наконец Генри Сэррей произнес:
— Хорошо! Я подчиняюсь вам, я скрою до поры до времени заготовленное мной орудие против Генриха… Буду надеяться, что придет время, когда мне судьба дозволит прибегнуть к нему!… — Затем он обернулся к брату и, подозвав его к себе, сказал: — Роберт, ты пойдешь в Варвик-Кастл!… Стань настоящим мужчиной!… Помни, что на тебя падает долг отомстить за позор Англии!
Он обнял брата и, повернувшись, вышел из комнаты. Леди Килдар проводила его взглядом, но не сказала ни слова. За Сэрреем тотчас же, простившись с молодой девушкой, вышел лорд Варвик со своим новым воспитанником Робертом Говардом, графом Сэрреем.
Прошло несколько лет с того дня, когда Генри Говард с лордом Варвиком стояли пред Маргаритой Морус, и многое изменилось с тех пор. Джэн Сеймур после недолгого замужества умерла при родах, и король Генрих отправил своего приближенного, сэра Томаса Кромвеля, в Клеве, просить руки принцессы Анны. Когда невеста, обвенчанная по обычаю того времени с королевским посланником вместо короля, была привезена к нему, то король нашел ее безобразной и разразился бранью, говоря, что ему вместо жены привели толстую фландрскую кобылу. Он устроил вторичный развод с Анной Клевской, а посредника этого брака приказал обезглавить.
Томас Кромвель, по словам палача в Тауэре, не позволил завязать себе глаза пред казнью:
— Скажите королю Генриху, — это были его последние слова, — что он поступил нехорошо, в насмешку упрекнув меня, будто я, сын кузнеца, плохо подковал его, обманув насчет огромной, толстой брабантской лошади, которая умеет ржать только на нижнегерманском наречии. Да будет ему известно, что, сто лет спустя, внук этого кузнеца выкует железо, которым будет казнен король Англии.
Окончив эту речь, Кромвель положил голову на плаху, а, когда она была отрублена, мертвые, остановившиеся глаза казненного так и остались широко раскрытыми и выпученными, точно его взор прозревал будущее. Сколько их ни закрывали, они снова открывались, и голова Кромвеля осталась лежать в гробу как бы зрячая.
— Это означает, — пояснил палач, — что лишь после того, как новый Кромвель отомстит за своего предка, умертвив короля Англии, обезглавленный сомкнет наконец свои вежды.
Однажды на пиру у архиепископа винчестерского Генрих увидел грациозную, пленительную Екатерину Говард, племянницу герцогов Норфолк и двоюродную сестру графа Сэррея. Напрасно граф Сэррей предостерегал свою родственницу против кровавого наследия Анны Болейн, Екатерина не послушала его предостережений; она отдала руку королю и сделала его настолько счастливым, что он заказывал всем церквям благодарственные молебны за свое супружеское счастье.
Однако непостоянство сладострастника опять довело его до пресыщения, а предлог предать суду надоевшую жену был скоро найден. Раньше своего брака с королем Екатерина состояла в нежных отношениях с неким Дургэмом, а предназначалась в супруги другому дворянину. Оба эти человека — бывший любовник и жених были немедленно приговорены к смертной казни, а несчастную королеву таскали с допроса на допрос, хотя она не могла дать иных показаний, кроме того что горько раскаивается в своем прежнем легкомыслии, но не признает себя виновной ни в какой неверности своему супругу.
Однако Екатерину обвинили в государственном преступлении, так как она скрыла, что была уже не девушка, когда отдавала Генриху свою руку.
Снова зазвонил погребальный колокол, и черный флаг на зубцах Тауэра возвестил, что голова королевы упала под секирой палача, а герольды провозглашали на улицах Лондона, что, «по праву справедливости», герб и имя казненной королевы должны исчезнуть со всех общественных зданий, а все ее портреты подлежат конфискации.
Это последнее бесчестье было придумано графом Линкольном, министром Генриха VIII и заклятым врагом Екатерины Говард.
Во дворце могущественного графа Килдара, из углового окна в среднем этаже, виднелась высокая, стройная фигура девушки, наблюдавшей сквозь слезы за тем, как кепстэбли снимали с таверны вывеску с гербом королевы Екатерины. Пульс девушки лихорадочно бился, красивые руки дрожали от ужаса, а сердце сжималось невыразимой тоской.
— Бедный Генри! — вздохнув, промолвила она. — Как, должно быть, тяжело ему в настоящую минуту!… Его сестра казнена, родовой герб его имени подвергается поношению, а самому ему, его брату и всем близким грозит опасность тяжкой немилости короля! Ведь они — ближайшие родственники несчастной Екатерины, а Генрих — этот ужасный тиран, не щадящий никого, кто так или иначе навлек на себя его гнев, — не остановится, пред тем, чтобы распространить свою ненависть на всех, кто был близок с виновной… Господи, научи меня, что мне сделать, как помочь Сэрреям? Ведь они — друзья нашего дома, и я сроднилась с ними всей душой!… Если их постигнет какое-либо несчастье, оно так же тяжко, как и их, поразит и меня!… Пойти к отцу, просить у него заступничества? Но согласится ли он на это? Ведь он так дорожит своим положением при дворе!…
В этот момент открылась дверь, и в комнату вступил тот, кем только что были полны мысли молодой дочери графа Килдара. Девушка быстро повернулась, и с тревогой на лице пошла навстречу Генри Сэррею.
Не дожидаясь его приветствия, она протянула к нему руки и воскликнула:
— Дорогой друг! Вы страдаете? Чем, чем могу я помочь вам? Я слаба и бессильна, но знайте, что мое сердце всецело разделяет ваше горе!…
— Благодарю вас, миледи Бэтси! Иного отношения я не ожидал от вас… вы всегда были добры ко мне и брату!…
— И это мое расположение к вам окрепло еще более теперь, в минуты вашего горя и той опасности, которая грозит вам со стороны короля… Бегите отсюда, сэр Генри! Спасите себя от гнева тирана!… О, Боже, как я ненавижу его!… Мне страшно, противно видеть его, улыбающегося в то время, как на эшафоте льется кровь жертв его кровожадности… О, что бы я дала, чтобы избегнуть возможности бывать в его дворце, проникнутом насквозь ужасом и страшными замыслами!… И я сделаю это!… Пусть мой отец говорит, что хочет, но я не последую ни одному приглашению короля!…
— Но, миледи, ведь вы этим навлечете на себя гнев короля… начнут расспрашивать о причинах и, весьма вероятно, зная о вашем расположении ко всей нашей семье, заподозрят, что вы уклоняетесь бывать при дворе из-за того, что там тяжко оскорбили нас.
— Мне все равно! — воскликнула леди Бэтси. — Зато моя душа будет спокойна!… Но довольно говорить обо мне!… Спешите вы сами избежать опасности!…
— Нет, я не боюсь никакой опасности! — гордо воскликнул Генри Говард, граф Сэррей. — Я всегда сумею защитить себя, и для этого у меня есть два оружия: моя шпага и мои стихи… О, последнее часто колет еще сильнее, чем первое!… Поэзия дает своим избранникам мощь, более сильную, чем сталь… И этот кровожадный Генрих почувствует силу моего слова!… Он думает, что он безгранично велик и могуч и может вершить все, что ему угодно… Но он ошибается!… Сила свободного слова разит каждого: и слабого и мощного; и слово поэта, в особенности то, которое подмечает грехи и слабости ненавистного тирана, легче и скорее, нежели самый строгий закон, повиновение которому достигается под угрозой смерти, — запоминается народом!… Час моей мести Генриху близок! Вчера я написал поэму, в которой, бичуя все мерзости, совершенные Генрихом, облек в поэтическую форму зловещее предсказание роду Тюдоров, вырвавшееся из уст несчастного Кромвеля пред его мученической казнью… Пройдет несколько дней — и вся Англия будет с наслаждением упиваться моими строфами. И если на Генриха не действуют вопли его жертв, если на его сердце не оказывают впечатления стоны и муки несчастных, то больно кольнут его стрелы моей сатиры и ужас содержания моей поэмы!
— Безумец! Что вы хотите сделать! — с ужасом воскликнула леди Килдар. — Умоляю вас, уничтожьте эту поэму!… Ведь она несомненно приведет вас к гибели!… Если уж теперь над вами навис грозящий ежесекундно обрушиться меч, если теперь грозит возможность смерти только за то, что вы — двоюродный брат несчастной казненной королевы Екатерины, то что же будет, когда вы стрелами своей безумно смелой речи затронете лично короля?
— Э, будь что будет! — махнув рукой, воскликнул Генри Сэррей. — Днем раньше, днем позже — не все ли равно? Разве можно еще питать хоть какую-либо жажду жизни, когда она здесь не ценится ни во что!…
— Одумайтесь, сэр Генри!… Ведь вы еще молоды!… А разве не прекрасна жизнь в молодости?.. Тяжело сейчас, но не всегда же так будет!… Не глядите на жизнь столь мрачно! Она и вам еще откроет свои радостные объятия! — убеждала его леди Килдар. — Умоляю вас, откажитесь от своего плана!… Вспомните об отце, сестре, о своем брате!…
В этот момент послышался звон шпор и звук тяжелых шагов и топот детских ног. В комнате появились лорд Варвик в военных доспехах и рядом с ним мальчик, брат Генри Сэррея, Роберт.
— А, лорд Варвик! — радостно промолвила леди Килдар. — Вы как нельзя кстати… И Роберт с вами? Это еще лучше!… Быть может, вид брата, пред которым еще вся жизнь впереди, заставит одуматься этого безумца, — сказала девушка, указывая на Генри Сэррея, и затем передала лорду Варвику весь разговор с пылким поэтом.
Холодный, спокойно-рассудительный Варвик слушал с насупленными бровями, а затем обратился к Генри Сэррею:
— Граф Сэррей! Я всем сердцем понимаю, что вы до глубины души оскорблены последними событиями… я понимаю ваш порыв, но должен остановить его. Вы знаете, что я не менее вас ненавижу этого тирана на троне, ввергнувшего в горе и несчастье свою жену — ту женщину, которую я когда-то любил… Помните наш разговор после бала у Кранмера, когда мы шли с вами к несчастной Маргарите Морус! Но не пришло еще время, когда мы будем в силах отплатить Генриху за его тиранию… Однако мы добьемся своего… Вспомните, что говорила Маргарита о нем и его женах!… Все это исполнилось, так отчего же не исполниться и тому, что она сказала о вас? Она сказала: «Ваши песни становятся все грустнее и горше, и последнюю из них поет ваша окровавленная голова». Конечно, вы вольны делать с собой, что хотите…
— Я не боюсь ничего! — прервал Варвика Генри Сэррей.
— Я знаю вас, — не слушая его, продолжал лорд, — но вы не вправе распоряжаться жизнью своего брата! Откажитесь от своего умысла или вручите мне Роберта! Я намеревался проститься с вами, так как собираюсь уехать в свой Варвик-Кастл; но теперь я уеду не один… Я увезу с собой Роберта, и думаю, что имею на это право в силу своей долголетней дружбы с вами… Поверьте, я сделаю из него человека, ценящего блага жизни больше, чем вы, и разбужу в нем такую же ненависть к Генриху Восьмому, какую питаю сам и какой проникнуты вы… И тиран не уйдет от мести, если не нашей, то по крайней мере нашего младшего поколения… Оно отплатит если не самому Генриху, то его потомству.
Генри Сэррей слушал лорда с заметным волнением; он, очевидно, колебался и не раз взглядывал на леди Килдар, как бы ища у нее решения своих сомнений. А она, нежно привлекши к себе Роберта, с затуманенными от слез глазами, в которых виднелось выражение мольбы, глядела на своего друга, побуждая его принять совет лорда Варвика.
Наконец Генри Сэррей произнес:
— Хорошо! Я подчиняюсь вам, я скрою до поры до времени заготовленное мной орудие против Генриха… Буду надеяться, что придет время, когда мне судьба дозволит прибегнуть к нему!… — Затем он обернулся к брату и, подозвав его к себе, сказал: — Роберт, ты пойдешь в Варвик-Кастл!… Стань настоящим мужчиной!… Помни, что на тебя падает долг отомстить за позор Англии!
Он обнял брата и, повернувшись, вышел из комнаты. Леди Килдар проводила его взглядом, но не сказала ни слова. За Сэрреем тотчас же, простившись с молодой девушкой, вышел лорд Варвик со своим новым воспитанником Робертом Говардом, графом Сэрреем.
II
В Уайтхолле, у того самого окна, откуда много десятилетий спустя Оливер Кромвель смотрел на казнь Карла I, сидела девушка лет тринадцати, с рыжевато-золотистыми волосами, с благородной, высокой фигурой и серьезным бледным лицом. При ней находилась дочь графа Килдара.
— Это пройдет! — шепотом промолвила дочь Анны Болейн, принцесса Елизавета Английская.
Бэтси Килдар рыдала потихоньку, будучи не в силах скрыть свое горе, вызванное страшной казнью ее лучшего друга.
Да, Генри Говард, граф Сэррей, сложил свою голову на плахе.
Прошло два года со дня казни его двоюродной сестры Екатерины, и Генрих VIII утешился в объятиях иной женщины — своей шестой и последней жены Екатерины Парр. Эта дивная женщина сумела овладеть тираном настолько, что он, не терпевший над собой ничьей воли, все же часто исполнял то, что желала его шестая супруга. Но это обстоятельство принесло ей массу врагов. Интрига за интригой следовали против нее, однако с помощью поразительной выдержки и ума Екатерине удавалось благополучно избегать обрушивавшихся на нее опасностей. Одной из самых сильных была та, которая была связана с увлечением юной королевой Генри Говарда. Он влюбился в Екатерину Парр. Но придворная партия, во главе с архиепископом Гардинером и лордом Дугласом, сумела обмануть его. Генри Говард был допущен в Уайтхоллъский дворец на свидание с женщиной, которая выдавала себя за королеву, переодеваясь даже в платье последней. Страстный поэт клялся в любви этой мнимой королеве, принимая ее за настоящую, и даже публично воспел ее под именем Джеральдины, но в конце концов, по проискам врагов Екатерины Парр, был застигнут Генрихом VIII на месте свидания и отправлен в Тауэр. Он был обвинен в государственной измене и казнен на эшафоте. Сбылось предсказание Маргариты Морус, но совершилось и то, что говорил лорд Варвик, увозя с собой брата пылкого поэта — Роберта.
Как ни тягостно было леди Бэтси Килдар, но воля отца заставила ее принимать участие в жизни короля-тирана и стать фрейлиной его дочери — принцессы Елизаветы, дочери Анны Болейн.
— Леди Бэтси, — продолжала Елизавета, — король не мог помиловать Генри Говарда, ведь он был государственным преступником. Странно, — задумчиво пробормотала она про себя, когда Бэтси не ответила ничего, безучастно уставившись взором в пространство и будучи совершенно поглощена своим жестоким горем, — странно, как это можно любить государственного преступника или просто симпатизировать ему. Если женская гордость утрачивается в любви к мужчине, то я не хотела бы изведать это чувство.
— Но со временем вы изведаете его, ваше высочество, и тогда вам припомнятся мои слезы.
Принцесса покачала головой и возразила почти сердито:
— Нет, нет! Я читала песни Сэррея, они прекрасны и нежны, но это — сладкая отрава. Разве моей матери не пришлось умереть раньше времени из-за того, что она упивалась подобным ядом? Что такое влюбленная женщина, как не раба? О, я хотела бы лучше быть мужчиной!
Она прошлась взад и вперед по комнате.
Бэтси Килдар вздохнула. Даже в этом подростке не встречала онасочувствия. Еще менее того была склонна Елизавета замолвить слово в пользу осужденного. В ней явно сказывалась кровь Генриха VIII.
В это время в комнату вошла графиня Килдар и, бросив на дочь строгий взгляд, сказала:
— Бэтси, только что полученное известие подтверждает, как сильно заблуждалось твое сердце. Брат обезглавленного Сэррея — Роберт Сэррей — прислал королю письмо с отказом от подданства. Его привез посланец Варвика. Он отправляется к врагам короля, в Шотландию. Такая изменническая мысль не могла возникнуть в голове мальчика, она внушена ребенку бунтовщиком — старшим братом, это он внедрил ее в детское сердце.
— Варвик был его наставником? — воскликнула Елизавета. — Английские лорды в рядах шотландцев! Хорошо сделают, если разобьют гербы этого рода.
Бэтси Килдар не проронила ни слова. Ее сердце было готово разорваться. Леденящая дрожь пробегала по ее членам. Как холодно, как бессердечно говорила мать в тот момент, когда еще теплая кровь Сэррея текла потоками на сырую землю, а ведь она знала, как дорог был умерший сердцу дочери! Бэтси украдкой выскользнула из комнаты и неверными шагами направилась к себе в комнату, чтобы поплакать там и помолиться. Ей казалось, что теперь порвана последняя связь, которая еще соединяла ее с жизнью, с родными и со всем, что она любила во время краткого лета своего существования.
Вдруг послышался легкий стук в дверь, и к леди Бэтси вошла дама под вуалью.
Молодая девушка подняла взор и невольно испугалась при виде этой исхудалой фигуры с бледным лицом, этих зловеще сверкающих глаз, пытливый взор которых как будто пронизывал душу.
Вошедшая подала леди Килдар запечатанный пергамент, тихо промолвив:
— От графа Варвика!
Леди Бэтси вскрыла письмо. То был почерк мальчика, а не твердая рука старого лорда.
«Миледи, — гласило это послание, — проливается кровь моего убитого брата, и я отправляюсь в Шотландию. Лорд Варвик говорит мне, что хотя принцесса Мария Шотландская и помолвлена с британцем Уэльским, однако ее родные и не думают отдавать царственное дитя убийце нашего дорогого Генри. Стюарты имеют притязания на английский престол с той поры, как Генрих VIII отринул свою первую законную супругу. Поэтому для меня не может быть ничего лучше, как посвятить свою жизнь службе им. Прощайте, леди Бэтси. И да благословит вас Бог за преданность моему несчастному брату. Молитесь, чтобы мне удалось со временем отомстить за его смерть. Роберт Говард, граф Сэррей.»
— И он погибнет в свою очередь, — печально прошептала леди Килдар. — Бедный мальчик! Неумолимый рок влечет его от веселого отрочества к мрачному жребию.
— Вы горюете? — воскликнула Маргарита Морус (таинственная посетительница была именно она). — Неужели благородный Сэррей, предсмертное проклятие которого возмутило все сердца в Англии против дикого произвола короля Генриха, мог быть дружен не с существом с гордой душой, а с какой-то слезливой женщиной, изливающейся в малодушных жалобах? Неужели вы можете смотреть на льющуюся кровь, не пылая ненавистью к убийце, можете плакать, не проклиная? Тогда я ошиблась в вас, леди Бэтси, и ухожу отсюда, — Кто вы такая? Что могу сделать я, слабая женщина? Скажите мне, что могу я совершить, чтобы быть достойной Сэррея, а потом спрашивайте, стоила ли я того, чтобы Генри был мне другом.
Маргарита протянула свою худую руку и, схватив прекрасную, обнаженную руку леди Бэтси, блистающую белизной, прошептала, сверкая глазами:
— Будь я красива, как вы, я не плакала бы и не предавалась бы бессильному отчаянию, когда бешеный злодей замучил моего отца. Я вскружила бы голову развратнику своей улыбкой и умертвила бы его ядом ненависти, я наслаждалась бы его мучением…
— Перестаньте! — содрогаясь, перебила леди Килдар. — Уже одно подозрение, что я отгадала вашу мысль, внушает мне ужас. Лучше смерть, чем подобное лицемерие! По-вашему, мне следовало бы дарить улыбкой убийцу моего лучшего друга, следовало бы найти в себе достаточно сил, чтобы скрыть свою ненависть и презрение к злодею под маской любви?
— Миледи, ваша ненависть холодна, если мщение пугает вас. Варвик предупреждал меня, что вы станете противиться, но я не поверила ему.
— А разве лорду Варвику известен ваш план?
— Я не сообщила вам еще, чего потребует лорд Варвик от вас, если предсмертное желание умершего священно для вас.
— Тогда говорите, милорд не потребует от меня ничего унизительного для моей чести.
— Миледи, лорд Варвик воспитал Роберта Сэррея, брата казненного Генри Сэррея, и этим поставил себя во враждебные отношения ко двору. Он предполагает, что ваше влияние сделает возможным его возвращение в Лондон.
— Мое влияние? Это — насмешка или шутка?
— По мнению лорда, в награду за то, что вы, леди Бэтси, преодолеете свое горе, граф Килдар согласится на все. Ваш отец могущественен, но рискует попасть в немилость у короля, если вы, его дочь, станете горевать о Сэррее. Миледи, если вы в состоянии замкнуть свою скорбь в груди и ценою вашего появления при дворе склонить своего отца к тому, чтобы он потребовал безнаказанности Варвика, то это будет первым шагом к отмщению за убитого. Лорд Варвик добивается не только благосклонности короля Генриха, но также и дружбы вашего отца.
— Чтобы составить заговор против короля? Мой отец никогда не согласится содействовать ему в этом.
— Миледи, я только исполняю поручение, а решать должны вы сами. Завтра предстоит турнир в Винчестере. Граф Килдар потребует, чтобы вы появились на празднике, а он понимает, что с вашей стороны это будет тяжелой жертвой, так как он знает, какую ненависть питаете вы к королю за казнь вашего лучшего друга. И, поверьте мне, граф охотно согласится на ваши условия.
— Он назовет меня сумасшедшей, потому что посланный Варвика только что привез письмо Сэррея с отказом от подданства.
— Миледи, ответ вашего отца будет иным, когда вы передадите ему вот это письмо лорда Варвика и прибавите от себя, что он может рассчитывать на ваше послушание отцовской воле в случае его согласия и на ваше упорство в случае отказа.
Леди Килдар отрицательно покачала головой.
— Нет, нет! Я никогда не соглашусь на подобную сделку!
— Миледи, я вижу, что лорд Варвик ошибся; он думал, что в день казни Сэррея в вашем сердце не может быть места иным чувствам, кроме жажды мщения его врагам, что вы не колеблясь ухватитесь за каждого, кто обещает вам отомстить за его смерть. Между тем оказывается, что вы благоразумны, миледи, что вы обдумываете, сомневаетесь, взвешиваете…
— Довольно! — гордо перебила гостью леди Бэтси. — Где письмо лорда? Я передам его отцу, но решу сама, что мне пристойно требовать.
— Ну нет, миледи, — возразила Маргарита, — вас также лишают доверия, когда вы не хотите оказать его другим. Вы должны примкнуть к нам безусловно, в память о вашем друге Сэррее. Правда, смерть расторгает множество уз, несчастный благороднейший поэт Англии, очевидно, достоин только слез слабой женщины, но не жертвы.
Леди Бэтси вырвала из рук Маргариты пергамент и воскликнула с пылающим лицом:
— Вы жестоки, но справедливы. Я была бы недостойна моего Генри, если бы колебалась. Лорд Варвик был единственным, последним другом Генри Говарда, передайте же ему, что он может рассчитывать на меня.
Улыбка торжества промелькнула на холодных чертах Маргариты: она одержала победу.
III
Час спустя леди Килдар стояла перед отцом. Граф пришел сам изъявить ей свою волю, узнав от своей супруги, что их дочь не скрывает своего горя по поводу казни Сэррея даже в присутствии принцессы Елизаветы.
Граф Килдар был вспыльчивый, горячий человек, но именно эта необузданность нрава и заслужила ему королевское благоволение. Он принадлежал к числу тех, которые особенно усердно свирепствовали против католиков, когда Генрих VIII обнародовал новое англиканское вероисповедание. Когда же его представили на суд короля за тяжкие преступления, особенно за сожжение церкви в ирландском городе Кашеле, то граф Килдар заносчиво подтвердил на допросе, что действительно сжег церковь, и прибавил еще с видом упорства: «Я не посягнул бы на эти стены, если бы знал, что в них не находится архиепископ дублинский». Последний, присутствовавший при этом, обратился тогда к королю с такими словами: «Вы видите, ваше величество, что это за человек; всей Ирландии не управиться с ним». — «Так, — произнес Генрих VIII, — тогда будет лучше всего, если он сам станет управлять всей Ирландией!» И граф Килдар был немедленно назначен ирландским вице-королем. Это создало ему влияние, которое приходилось уважать даже самому королю. И Генрих VIII охотно делал это, он облекал властью своих любимцев и бывал неумолим и жесток лишь в том случае, когда затрагивали его слабости.
Граф Килдар рисковал очень многим, если бы его дочь отказалась присутствовать на придворном празднике. Печаль по государственному преступнику являлась в глазах Генриха VIII равносильной самому государственному преступлению, и короля должно было возмутить вдвое сильнее то, что Генри Сэррей приходился родственником казненной королеве.
— Бэтси, — сказал граф, устремив на дочь строгий и мрачный взор, — король будет завтра в пунцовом, ты появишься в тех же цветах, чтобы показать его величеству, что ты раскаиваешься в своем сердечном заблуждении.
— То не было заблуждением, отец, ведь ты сам одобрял мою дружбу с Сэрреем. Так неужели же ты после всего того, что выпало на его долю, можешь требовать от меня такой низости, как преклонение пред убийцей моего лучшего друга?
— Я не требую, чтобы ты это делала искренне, от всего сердца, я хочу, чтобы ты принесла мне жертву, затаив в себе свою скорбь. Я знаю, что требую от тебя тяжелой жертвы, но благоразумие предписывает тебе этот шаг.
— Ты, пожалуй, ошибаешься, отец!… Найдутся честные люди, которые зная мою дружбу с Сэрреем, признают мое согласие на твое предложение неблагородным. Вот например, лорд Варвик…
Лицо графа побагровело.
— Да, — промолвил он, скрипя зубами, — этот Варвик навлек на себя гнев короля тем, что приютил у себя Роберта Сэррея. Он первый будет насмешливо разглашать во всеуслышание что Килдары обесчещены. Лучше остаться бездетным, чем угодить в опалу, в изгнание!
— Ты ошибаешься относительно лорда Варвика! — воскликнула леди Бэтси. — Он, по-видимому, также находит нужным, чтобы я бывала при дворе. — Молодая девушка вынула из кармана письмо лорда и сказала: — Прочти сначала это, а потом уже осуждай Варвика.
— Письмо от него? — воскликнул пораженный Килдар, узнав графский герб Варвиков.
Граф распечатал письмо и торопливо пробежал глазами строки: его черты становились все серьезнее.
— Это смело, клянусь святым Георгом! — пробормотал он, и его глаза сверкнули. — «Английские лорды не могут идти наперекор Генриху VIII, но они должны подумать о будущем. Если мы станем руководить воспитанием юного Тюдора, то заложим фундамент того оплота, который должен защитить наших детей и внуков от произвола тирана!» Смелая и великая мысль, и я согласен с ней. Но как добиться помилования Варвика? Генрих в ярости, что малолетний Сэррей находится в его замке…
— Я готова помочь горю, отец, — воскликнула Бэтси, — я сама буду просить о том короля…
— Ты согласишься?..
— Разве лорд Варвик не замышляет отомстить за Сэррея, отец? Я буду улыбаться королю, когда мое сердце разрывается от горя и скорби, потому что мщу за Сэррея, исполняю то, чего он хотел.
Граф смотрел на пылавшую воодушевлением дочь, и в нем также заговорило давно дремавшее чувство. Фитцджеральды из Килдара никогда не склоняли головы ни перед каким государем.
Граф прижал к сердцу свою гордую дочь и воскликнул:
— Будь совестью Килдаров! Не Кромвелю суждено отомстить за истекающую кровью Англию, как пел твой Генри, — пэры короны поднимут свой щит, чтобы отразить удары Тюдоров!
IV
На другой день, на торжественном турнире, Бэтси Килдар появилась в пунцовом — то был цвет короля. Хотя горячая краска стыда залила ее лицо, когда она поймала презрительный взгляд принцессы Елизаветы, брошенный на нее с высоты балюстрады, однако ничто не выдало внутренней бури, бушевавшей в груди леди Бэтси, когда к ней приблизился король Генрих.
— Я рад видеть вас, прекрасная леди, — сказал он. — Ваше лицо цветет таким румянцем, как будто оно никогда не знавало слез.
— На него светит солнце! — льстиво ответила леди Килдар.
— Черт возьми, вы ставите меня в тупик! Но вам не отвертеться от меня так легко. Мне рассказывали, будто лорд Варвик был частым гостем у вас, когда в вашем доме бывал Сэррей.
— Ах, ваше величество, соблаговолите разрешить мне замолвить за него словечко, чтобы ему не лишиться на долгое время солнечного луча вашего благоволения.
— Черт возьми, вы, кажется, дурачите меня? Он — бунтовщик, и его голова скоро будет торчать на зубцах Варвик-Кастла.
— Ваше величество, он думал угодить вам, избавив Роберта Сэррея от скорбного впечатления, когда его старшему брату стала грозить ваша немилость.
— И поэтому он прислал мне письмо дерзкого мальчишки с отказом от подданства, вместо того, чтобы доставить его связанным в Тауэр?
— Ваше величество, лорда нет в Варвик-Кастле, случившееся там произошло против его воли.
— Варвика нет в его замке? Где же он тогда?
— Вон там, возле моего отца, которого он упрашивает отвратить от него вашу немилость, ваше величество. Вы видите, лорд не боится вашего правосудия и поэтому здесь. И что мог бы он придумать лучше этого? Солнце светит так радостно, что даже тень затаенных слез исчезает там, где греет и живит всю природу его светлое сияние. Неужели это солнце допустило бы заслонить себя туче из Варвик-Кастла? Разве король бывает когда-нибудь более велик, чем в те минуты, когда он дарует свою милость просящим ее?
— Леди Бэтси, — произнес Генрих VIII, — я был бы недостоин звания первого рыцаря Англии, если бы не повиновался словам, произносимым такими прекрасными устами, как ваши.
Тут он подал знак гофмаршалу подозвать лордов Килдара и Варвика.
Когда лорды низко поклонились государю, он сказал:
— Милорд Варвик, мы слышали о вашем усердии служить нам и за это намерены простить вам ваши самовольные действия. Мы решили иначе насчет Роберта Сэррея. В знак же нашей королевской милости мы намерены воспользоваться вашим гостеприимством в Варвик-Кастле и надеемся найти там цвет красоты.
Монарх милостиво кивнул головой и пустил свою лошадь на место турнира.
С балюстрады гремела музыка; герольды возвестили начало турнира и расставили партии, собиравшиеся ломать между собой копья в честь дам.
Трибуны были битком набиты зрителями, в королевской ложе сидели дети Генриха VIII: Принц Эдуард и принцессы Мария и Елизавета, которым предстояло со временем вступить на отцовский престол.
Партия короля была в пунцовом одеянии с золотым шитьем, партия Килдара — в черном шелковом с бархатной отделкой и серебряным шитьем. Плащ короля и чепрак на его коне были усеяны драгоценными камнями и золотыми литерами. На лорде Варвике под доспехами был надет пунцовый камзол, и, прежде чем начался турнир, он подвел к королевской партии еще двоих всадников. Один из них был крепкий мужчина во цвете лет, другой — почти еще мальчик в одежде пажа, но вооруженный по рыцарскому обычаю. Король спросил, что означает такое шествие, тогда Варвик низко поклонился в седле и ответил:
— Соизвольте, ваше величество, чтобы мой сын и мой внук сражались сегодня ради победы короля; я взял их с собой в подтверждение моей преданности.
Король улыбнулся, эта речь рассеяла остаток подозрения, которое он питал против Варвика, и его взор с особой благосклонностью остановился на красивом мальчике, который гордо и смело смотрел ему в лицо.
— Я принимаю этих бойцов, их имя служит мне порукой их храбрости, — сказал Генрих VIII. — Однако поберегите своего внука, лорд Варвик! Как бы с ним не приключилось беды в общей схватке.
— Соизвольте, ваше величество, чтобы семья Варвиков выбрала себе талисман, который должен охранять ее от всех напастей!
Король утвердительно кивнул головой, явно заинтересованный тем, что означает эта просьба.
Тогда трое Варвиков повернули своих коней к балюстраде и опустили копья пред королевской ложей. Трое детей короля вспыхнули, потому что им никогда еще до сих пор не оказывали подобной чести. Никто не знал, за кем из них признает Генрих права престолонаследия, так как они происходили от осужденных жен короля. По этой причине со стороны Варвика было тонко рассчитанным шагом, что он оказал им всем троим одновременно одинаковый почет, и король мог быть только польщен этим.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Лорд Варвик дает нам понять, что мы стареем и должны подумать о своих детях. Эдуард, подай лорду бант, чтобы он служил твердой опорой нашему наследнику, когда мы со временем отправимся к нашим предкам. Мария, дай Гилфорду Варвику-Дэдлею знак, что ты чествуешь храброго рыцаря, а ты, Елизавета, укрась хорошенько пажа.
Пока старшие дети короля суетились, спеша исполнить отцовское приказание, Елизавета замешкалась немного: гордая принцесса стыдилась того, что паж будет носить ее цвета, а так как она не смела возражать, то принялась так неловко откалывать бант, что у нее отстегнулся весь откидной рукав и упал на землю.
Молодой Дэдлей ждал, сконфуженный, потому что насмешливая улыбка уже мелькала на губах зрителей, но вдруг, быстро решившись, он схватил рукав и, вместо того чтобы отколоть от него бант, привязал его целиком на свой стальной шлем.
— Он не застенчив, — расхохотался Генрих. — Этот малый норовит захватить всю руку, стоит протянуть ему только один палец!
Елизавета покраснела от досады на такую смелость пажа, но когда она подняла взор, то встретила такой смелый и вместе с тем такой умоляющий взгляд мальчика, что отвернулась в смущении, точно этот взгляд зажег ей что-то в сердце и победил ее гордость.
— Дамский рукав и перья на шлеме… Что начато в шутку, покончат всерьез! — пропел вполголоса придворный шут, и тихий смех приближенных дам Елизаветы помешал ей преодолеть свое замешательство.
— Красивый паж! — насмешливо сказала принцесса Мария, и ее пронзительный взор уставился на сводную сестру. — Но я на твоем месте натянула бы рукав ему на лицо, чтобы он не засорил себе пылью на арене своих прекрасных очей. Однако смотрите! Кукла становится в ряды бойцов!
— Милая кузина, — вмешалась тут красавица Иоанна Грей, дочь родной сестры короля Генриха, — ваша насмешка звучит плохо, потому что она ударяет в щит рыцарского рода Англии.
— Леди Джэн, — возразила рассерженная Мария, — как жаль, что Гилфорд Варвик не выбрал ваших цветов вместо моих!… Вы так высоко цените отродье старого волка! Может быть, тогда он немного вежливее нагнул бы свою бычью шею.
Перебранка была прервана звуком труб, возвещавших начало состязания. Всадники пришпорили своих коней, облако пыли на короткое время скрыло дерущихся, когда же оно рассеялось, то на арене оказались там и сям рыцари, выбитые из седла, сломанные копья, упавшие лошади. Рыцари, усидевшие на конях, повернули назад для новой схватки. Король торжествовал: его партия отличилась на славу.
Раздался новый трубный сигнал — и кони опять помчались по арене, на этот раз для решительного боя. Старый Варвик ехал возле короля, за ним его внук, тогда как Гилфорд дрался с левой руки отца.
Предстояла так называемая «схватка», при которой, однако, сражались тупыми копьями. Старый Варвик сбросил своего противника наземь, но случилось так, что другой рыцарь одновременно наметил Варвика для своего удара, видя, что маститый граф сражается с другим, нападающий уклонился в сторону, но тут копье пажа так сильно ударило его по шлему, что стальные застежки отскочили.
При этом столкновении партия Килдара вторично уступила в ловкости партии короля, которой и был присужден таким образом приз. Король взял золотую цепь и подал ее принцессе Елизавете, чтобы она украсила ею, вместо него, самого младшего из бойцов, который хотя и против правил вмешался в бой, но храбро постоял за себя.
V
Небезынтересное зрелище во время турнира и раздачи наград представляла собой королевская ложа, где помещались принцессы со своей кузиной.
Хотя Мария только что вышла из отроческих лет, а Елизавету можно было назвать еще ребенком, однако они обе сознавали, что в качестве королевских дочерей считаются первыми дамами в государстве и стоят рангом выше своей двоюродной сестры леди Грэй, которой в то время было тринадцать лет. Принцессы отличались большей зрелостью, чем прочие девушки их возраста, но не только вследствие своего воспитания и высокого положения, суровый жребий, назначенный им роком, более всего иного рано приучил их благоразумно мириться с неизбежным и применяться к обстоятельствам.
Обе принцессы, как Мария, так и Елизавета, знали, что отцовский каприз ежеминутно может уничтожить их и что от умения угодить ему зависит все, даже то, оставит ли он свою корону одной из них или своему сыну Эдуарду. Никто их троих детей Генриха собственно не мог заявлять законные права на английский престол, потому что мать принцессы Марии была отвергнута королем и их брак был признан недействительным, а мать Эдуарда, Джэн Сеймур, хотя и умерла королевой, но сам он был меньшим сыном. Мать Елизаветы сложила голову на эшафоте, зато память Анны Болейн была королю дороже, чем память матери Эдуарда. Елизавета была строго воспитана в англиканском учении, Мария, напротив, была католичкой, и различные религиозные партии в стране возлагали поэтому надежды на ту или другую из принцесс.
Джэн Грей могла иметь притязания на трон в силу того, что браки короля признавались недействительными по заявлению церкви. Она не была честолюбива, но отличалась красотой, в чем ей завидовали как Мария, так и ее сводная сестра Елизавета. Мария уродилась некрасивой, в ее глазах было что-то пронзительное, а злобный нрав проглядывал в неприятно-резких чертах.
Мария закусила губы и завистливо смотрела, как Елизавета самодовольно улыбалась гордой, торжествующей улыбкой, потому что к ней подводили победителя, которому король назначил приз. Таким образом, младшая принцесса сделалась королевой праздника.
Генрих VIII был рад возможности присудить награду пажу, потому что не хотел отдавать предпочтения ни одному из лордов.
— Елизавета, — сказал он, — мы приписываем чарам твоих прекрасных глаз, что этот паж совершал сегодня чудеса. Повесь ему на плечи почетную награду, а мы дадим ему место за нашим столом возле тебя, потому что он сражался как доблестный рыцарь.
Дэдлей спрыгнул с лошади и поднялся по ступеням. Он преклонил колено пред прекрасной принцессой, его лицо сияло счастьем и гордостью, и, конечно, никогда еще столь юная и прекрасная голова не была украшена почетной наградой за храбрость.
VI
В кругу придворных дам сидела Бэтси Килдар. Она безучастно следила за турниром, ее мысли были заняты умершим, однако молодая девушка невольно улыбнулась при виде счастливого пажа возле принцессы, которая еще недавно называла Варвиков бунтовщиками. Но от нее не ускользнуло также, каким взором ядовитой ненависти смотрела Мария на свою сводную сестру, как она с рассчитанной, оскорбительной холодностью повернулась спиной к Гилфорду Варвику и взяла под руку своего брата, как будто была обязана вести его. Гилфорд покраснел с досады, но Джэн Грэй также заметила поведение своей кузины и, робко улыбнувшись, взяла его под руку, точно желая утешить обиженного.
Случай или судьба устроили так, что здесь столкнулись партии, которым предстояло в недалеком будущем вступить между собой в беспощадную борьбу не на жизнь, а на смерть. Джэн Грэй оперлась на мускулистую руку сильного мужчины; ею как будто овладело смутное предчувствие, что наступит время, когда эти ядовитые взоры принцессы Марии сделаются опаснее, чем сегодня. Гилфорд глубоко заглянул в глаза красавицы и шепнул ей тихонько:
— Леди Джэн, я носил цвета принцессы Марии на шлеме, а ваши в сердце.
Джэн Грэй покраснела, потупилась и ответила тихим, дрожащим голосом:
— Сэр, моя кузина раскается, что не приняла вашей руки, когда узнает, что вы умеете быть любезным кавалером.
— Благодарю вас, леди Джэн! Я — не мастер по части красноречия, но на мои слова можно положиться.
— Тогда объясните мне, как это вышло, что ваш отец внезапно превратился в царедворца, что Варвиков видят здесь в пунцовых одеяниях?
— Прекрасная леди! — воскликнул Гилфорд Варвик, — если бы я отвечал на каждый вопрос, тогда было бы безрассудно всегда говорить правду.
Джэн улыбнулась и, сочувственно кивнув, шепнула ему:
— С меня этого довольно, ведь я расспрашиваю не из любопытства, но чтобы напомнить об осторожности. Король отличал уже многих своим благоволением, щедро осыпал почестями, но это было не всегда знаком его милости.
Гилфорд украдкой пожал руку молодой девушки, которая выказывала ему такое сердечное и невинное доверие, и произнес:
— Не беспокойтесь, мой отец бдителен! Но тем не менее ваше доброжелательное предостережение заслуживает горячей благодарности. Отец должен узнать, какого благородного друга приобрел он в вашем лице при дворе, а вы позвольте вместо этой ребяческой потехи надеть мне на шлем знак, который покажет всему миру, что я готов отдать жизнь за прекраснейший цветок Англии!
С этими словами Гилфорд сорвал бант, полученный им от принцессы Марии, и хотел швырнуть его прочь.
Но Джэн Грэй схватила его руку и строго воскликнула:
— Без глупостей, сэр! Неужели вы хотите смертельно оскорбить дочь короля?
Тут она снова укрепила бант на шлеме. Но она не успела сделать это настолько проворно, чтобы скрыть происшедшее от принцессы Марии, потому что шествие достигло праздничного зала, а принцесса Мария уже передала своего маленького брата на руки воспитателю.
Багровая краска гнева залила лицо принцессы, когда Джэн Грэй, предупредив Гилфорда, несвязно извинилась перед ней, что только туже завязала бант, распустившийся в рукопашной схватке на турнире. И хотя Мария преодолела свою досаду, однако Джэн не сомневалась, что обида тем больнее уязвила ее. Сознавая свою невзрачность, старшая принцесса завидовала всякому знаку внимания, оказанному ее родственнице, и если она сама холодно обошлась с Гилфордом, то все же имела право обидеться на него, потому что он, по общепринятому обычаю, должен был оставаться ее кавалером на весь день.
Сердце женщины — загадка. Как раз в тот момент, когда принцесса Мария нашла причину явно обнаружить свое нерасположение к Гилфорду, она почувствовала, что он достоин женской любви, и пожалела, что упустила случай, которым воспользовалась Джэн Грэй. По ее мнению, было легко завладеть сердцем мужчины, который уже несколько лет не появлялся при дворе и вел однообразную жизнь охотника и воина в укрепленном пограничном замке. Теперь у принцессы Марии открылись глаза на благородство в его серьезных чертах, на соразмерность высокой, сильной фигуры, и хотя дело было только в том, чтобы превзойти Джэн Грэй в любезности, она с удовольствием пустила в ход все уловки с целью сделать этого мужчину с воловьей шеей чувствительным к ее прелестям и вызвать восхищение на его мрачном лице.
Она подала Гилфорду руку, чтобы он повел ее к столу, и в своем нетерпении одержать победу стала осыпать самыми лестными похвалами его сына, спрашивала, давно ли он овдовел, как живет и не чувствует ли потребности жениться вторично. Принцесса забрасывала его вопросами тем настойчивее, чем односложнее он отвечал, а со стороны можно было подумать, что они оба приятно проводят время за столом, в интересной беседе.
Король усердно осушавший бокал за бокалом, должно быть, заподозрил, что Гилфорд питает честолюбивые виды, и, внезапно прервав разговор, воскликнул:
— Сэр Дэдлей! Мне говорили, будто вы — враг женщин, но — черт возьми! — вы ухаживаете за ними как француз!
— Ваше величество, — ответил Гилфорд, — красота — это чародейка, которой нельзя противиться. Но, к сожалению, я не заслуживаю похвалы, которой вы хотели удостоить меня, потому что принцесса Мария тщетно старается придти на помощь моей робости и допытаться у меня, кто — та красавица, чья стрела глубоко пронзила мне сердце сквозь доспехи.
При первых словах принцесса Мария покраснела, потому что король насмешливо улыбнулся, когда Гилфорд превозносил красоту, она сомневалась не меньше своего отца, что ее кавалер мог подразумевать здесь только одну ее; но смелость его речи была почти так же оскорбительна, как обиден тон, и принцесса испугалась при виде жилы на лбу короля, вздувшейся от гнева. Она хотела уже придти на выручку Гилфорду и в шутку заметить, что застенчивость так сильно смущает его, что он говорит вздор, но Генрих не дал ей времени на это.
— Черт возьми! — загремел он. — Неужели сын лорда Варвика хочет похвастаться, что одна из Тюдоров домогается его руки?
— Ваше величество, — возразил Гилфорд с полным спокойствием, — я полагаю, что имею право просить даму, бант которой мне дозволено сегодня носить, о милости ходатайствовать за меня пред вашей высочайшей особой.
— А, так значит, это было лишь вступлением к вашей речи? — подхватил успокоенный Генрих. — Сейчас видно, что вы не учились в школе, потому что вам недостает ясности языка. Но, — с досадой продолжал он, чувствуя, что подверг насмешкам дочь, — нам также не по душе, когда один из наших дворян ищет посредников, как будто мы закрываем свой слух для тех, у кого есть к нам просьба. В наказание за такой недостаток доверия я не хочу ничего слышать о ней теперь.
Принцесса Мария была так горько разочарована словами Гилфорда, ее недолгое заблуждение было рассеяно так грубо, что она была готова расплакаться от бешенства.
Генриху VIII было достаточно лишь бросить взор на свою старшую дочь, чтобы угадать происходившее в ее душе. Марии не везло на женихов; уже три предполагавшихся брачных союза потерпели неудачу, и нельзя было ожидать, чтобы ее прелести заставили кого-нибудь из пэров Англии просить ее руки. Если бы Гилфорд сделал скромное предложение в надлежащее время, то Генрих, конечно, не ответил бы ему отказом, и, может быть, еще обрадовался бы случаю привязать могущественный род к своему трону. Тем более должно было раздосадовать Генриха, что он ошибся в своем предположении и навлек на свою дочь обидные насмешки. Он подал знак вставать из-за стола и, подозвав к себе Гилфорда, сказал с особенным резким ударением, которое было свойственно ему в минуты раздражения:
— Я понял из ваших слов, что вы любите даму, рукой которой я не так легко могу располагать; значит, то, чего вы домогаетесь, является уже милостью, и вы должны заслужить ее, прежде чем я выслушаю вашу просьбу. Вы безотлагательно отправитесь к моим войскам, стоящим на шотландской границе. Я выбрал невесту моему сыну, Марию Стюарт, и желаю заняться ее воспитанием. Но в Эдинбурге медлят доставить ее сюда. Я хочу, чтобы вы потребовали добром или силой от лорда-протектора Шотландии принцессу Марию Стюарт… Вы вернетесь обратно не иначе, как с царственной малюткой, хотя бы для этого вашим солдатам пришлось взять приступом замок Стерлинг и вскинуть детскую колыбель на свое седло. Наследница Шотландии сделается женой моего сына Эдуарда, или потеряет свое наследство. Гизы уже затеяли интригу, примите это к сведению. Я не хочу, чтобы у меня на острове появился сосед-француз. Вы отвечаете мне своей головой, если принцесса Мария Стюарт не прибудет в Лондон, живая или мертвая.
Гилфорд почтительно поклонился, против такого приказа было немыслимо никакое возражение.
VII
Первый Стюарт, вступивший на шотландский престол и основавший династию, был обязан королевской короной своей супруге, внучке великого Роберта Брюса; шотландская корона, как предсказали Банко Форресские ведьмы, должна была достаться Стюартам через женщину и через женщину быть утраченной.
История этой династии мрачна. Красивый, легкомысленный герцог Ротсей, сын Роберта III, был первым, кого постиг злой рок Стюартов. Его дядя Альбани, которому надлежало наследовать корову, если бы Ротсей умер бездетным, велел напасть на него во время его проезда через графство Файф и доставить царственного племянника к нему в замок. Тут он запер племянника в тесный подвал с решеткой и обрек его на голодную смерть. Слабохарактерный король не захотел потребовать к суду родного брата по обвинению в убийстве, но отправил своего младшего сына во Францию, желая предохранить его от подобной «горячки». Корабль, на котором плыл этот принц, попал в руки англичан, и наследника Шотландии держали пленником в Лондоне до тех пор, пока, по смерти Альбани, он не был выкуплен его братом.
Во время деспотического регентства Альбани шотландские дворяне расширили свое могущество и часто в своей заносчивой гордости жестоко угнетали население страны. Один предводитель клана, по имени Мак-Дональд, ограбил как-то некую вдову, когда же она пригрозила, что пожалуется королю, он ответил ей на угрозу: «Дорога туда длинна, поэтому не мешает подковать тебе ноги железом». Мак-Дональд позвал кузнеца и велел ему прибить башмаки к ногам вдовы гвоздями. Вылечившись, пострадавшая явилась к королю Иакову I и рассказала ему о своей обиде, как и о всеобщем бедствии в Шотландии. Тогда король Иаков выступил в поход против Мак-Дональда, взял его в плен и велел отрубить ему голову; но, когда он вздумал поступить с такой же строгостью с прочим знатным дворянством, самые могущественные из шотландских лордов восстали, и началась ожесточенная борьба. Сэр Грегам с наемными убийцами напал ночью на замок короля, и презренные злодеи, бросившись со своими кинжалами на злополучного короля Иакова, закололи его.
Супруга Иакова I приказала преследовать убийц, которые были узнаны, несмотря на маски. Грегэма подвергли жестокой казни. С него живого сдирали мясо острыми щипцами и прекратили ненадолго это мучительство лишь для того, чтобы тут же обезглавить его сына; после того принялись снова соскабливать у него мясо с костей и продолжали это, пока он не испустил дух в ужасных страданиях.
На трон вступил сын умерщвленного короля, Иаков II, но и он не мог положить конец междоусобице. Арчибальд Дуглас соединился с Гамильтонами против монарха, когда тот отнял у него занимаемый им важный государственный пост, он выступил в поход против короля и жестоко мстил дворянам, хранившим верность своему государю. Иаков II пригласил Дугласа на свидание, обещая ему полную безопасность. Дуглас положился на королевское слово и пришел на условленное место. Но не захотел уступить и подчиниться, тогда король обнажил кинжал и его приближенные умертвили первого лорда в государстве. Сторонники Дугласа привязали королевскую охранную грамоту к хвосту кобылы и принялись грабить королевские замки. Число мятежников росло, а власть короля ослабевала. Иаков II уже собирался бежать, но тут архиепископ Сент-Андре напомнил ему одно старинное предсказание и посоветовал положиться на него.
Это предсказание гласило: «Падут Дугласы только от меча Дугласа, когда на рыжего восстанет черный».
Старейший Дуглас младшей линии был рыжеволос, архиепископ советовал королю привлечь его на свою сторону и через это осуществить пророчество. Иакову II действительно удалось переманить рыжего Дугласа в ряды своих приверженцев и прогнать черноволосого. Однако при осаде одного укрепленного замка произошел взрыв орудия, король был смертельно ранен осколком. Его вдова с восьмилетним сыном встала во главе войска. Замок был взят приступом, его разрушили и сровняли с землей.
Новый король, вступивший на престол под именем Иакова III, приказал умертвить своего брата, графа Mappa, из боязни, что тот посягнет на его корону. Второй его брат бежал. Дворянство восстало также и против этого государя, взяло в плен его любимцев и принудило короля предать их казни. Иаков III собрал войско, чтобы наказать мятежников, но оно было разбито; король упал с лошади во время битвы и был умерщвлен, когда его перенесли в крестьянскую хижину.
Сын его Иаков IV вступил на престол и женился на красавице Маргарите, дочери Генриха VII, короля английского; этому браку надлежало в будущем дать Стюартам права на английский трон. Напуганный, но не умудренный судьбой своих предков, Иаков IV вступил в сделку со своими непокорными вассалами и искал мира с Англией. Однако преемник Генриха VII, английский король Генрих VIII, открыл ему свои завоевательские планы, и тогда Иаков IV заключил союз с Францией и объявил Англии войну.
Этот день был решающим для судеб Стюартов. В предостережениях не было недостатка. Несколько ночей подряд слышался голос, исходивший от Эдинбургского креста и призывавший короля и знатнейших лордов по именам и титулам явиться через сорок дней на суд Божий. Король не хотел поддаваться запугиваниям, но отворил в полночь окно и слышал сам этот голос, хотя крест отстоял от его дворца на четверть мили. Мало того, когда он однажды слушал обедню в линлитгонской церкви, позади него внезапно появился величественный старец, облаченный в длинное одеяние синего цвета, опоясанный кушаком, обутый в сандалии, с длинными волосами, которые отливали золотом, и воскликнул важным, торжественным тоном:
«Иаков, я — евангелист Иоанн Богослов и пришел от имени Пресвятой Девы Марии, которая особенно благоволит к тебе, чтобы запретить тебе затеянную тобою войну, потому что ни ты сам и никто из твоей свиты не вернется с нее обратно. Далее предостерегаю тебя от женской красоты, потому что тебе она принесет позор, а дому твоему бедствие».
Король Иаков посмеялся и над этим предостережением, как над всеми прочими, он перешел английскую границу со своим войском и овладел несколькими замками. Но, когда он завоевал замок Форд и расположился в нем на ночлег, прекрасная владелица замка соблазнила его остаться у нее. Пока Иаков IV наслаждался в объятиях, подоспел граф Сэррей с английским войском. Супруг этой обворожительной Армиды, завлекшей короля в свои сети, бастард Герон Форд, завел английское войско в тыл шотландцев, закипел неравный бой. Король был уже окружен, когда на выручку ему подоспел лорд Босвэл с отрядом; они устроили вал из копий вокруг монарха и защищали его до тех пор, пока английские алебардисты не перебили их одного за другим. Король лежал раненый среди трупов своих верных защитников до наступления ночи. Когда же стемнело, то появились, по старинному сказанию, четверо рыцарей в черных доспехах, на черных конях, подняли короля и перенесли в Шотландию. Он был погребен не в священную землю, потому что подлежал папскому проклятию за предпринятую им войну с Англией.
Вдова короля Маргарита приняла на себя регентство при своем двухлетнем сыне (Иакове V), она заключила мир с Англией, но влюбилась во внука старого Дугласа и вышла за него замуж. Этот выбор вызвал вновь междоусобную войну, потому что завистливые лорды не могли простить Дугласу столь высокой чести. Они соединились под знаменем Гамильтонов против него и разбили наголову его приверженцев в сражении под Эдинбургом. Маргарита была несчастлива в супружестве, она развелась с Дугласом и вступила в третий брак с молодым человеком, Генрихом Стюартом, который не пользовался никаким влиянием. Дуглас похитил у Маргариты сына и от его имени вел регентство, но воспитал его так, что сделал из него рьщаря-бойца.
По прошествии пяти лет врагам Дугласа удалось освободить Иакова V, тот немедленно объявил Дугласов государственными преступниками, обрек их на изгнание и энергично расправился с шотландским дворянством. Он бродил переодетый по всей стране, чтобы вникать в народные тяготы и устранять их, чем приобрел такую горячую любовь своего народа, что граф Атоль, угостив у себя однажды короля, поджег свой замок, чтобы зарево пожара освещало дорогу царственному гостю на обратном пути.
Генрих VIII Английский тем временем принял протестантскую веру и пытался насадить ее также и в Шотландии. Он предложил шотландскому королю руку своей дочери Марии Тюдор, если тот примет англиканскую веру, но Иаков отверг это предложение и женился на Марии Гиз, фанатичной католичке. Однако многие шотландцы перешли в новую веру и твердо держались ее, наперекор преследованиям. Дворяне также примкнули к Иакову V, когда Генрих VIII объявил ему войну за то, что тот отказался от свидания с ним; но они покинули войско, когда Иаков вздумал вторгнуться в пределы Англии, так как подняли оружие только на защиту Шотландии. Эта неудача и смерть двоих сыновей повергли Иакова в такое уныние, что он схватил горячку и скончался несколько дней спустя.
Когда он лежал на смертном одре, его супруга разрешилась дочерью. Иакову V показали новорожденную малютку, и он воскликнул страдальческим тоном:
«Через дочь досталась Стюартам корона, через дочь Стюарты и потеряют ее!»
Эта дочь по имени Мария Стюарт, которой было положено в колыбель такое печальное пророчество, и является героиней нашего рассказа. Клевета, которой предстояло придавить ее могилу, родилась уже у ее колыбели: Генрих VIII заставил мать Марии обещать руку новорожденной его сыну, принцу Уэльскому, в то время еще шестилетнему мальчику. Но вдруг распространилась молва, будто принцесса Мария родилась с физическими недостатками. Тогда ее матери пришлось положить ее голую на ковер, чтобы английский посол мог убедиться в нормальном сложении ее дочери.
Мать девочки, Мария де Гиз, была настоящей Гиз: недоверчивой к королям, фанатичной в своей религии. Она приказала перевезти свою маленькую дочь в укрепленный замок Стерлинг, а когда Генрих VIII все настоятельнее стал требовать Марию к себе, то ее привезли из замка в укрепленный монастырь, построенный на острове, посреди Ментейтского озера. Тут же королева завела тайком переговоры о том, чтобы выдать свою дочь, невесту принца Уэльского, за дофина Франции.
Получив известие об этих переговорах, Генрих VIII послал войско под предводительством герцога Сомерсета, чтобы разбить шотландцев и привезти принцессу Марию Стюарт в Лондон.

Глава третья
КАБАЧОК «КРАСНЫЙ ДУГЛАС»

I
 Старый граф Варвик поручил Роберта Сэррея заботам своеговерного слуги еще ранее того, как вернулся в Лондон из Варвик-Кастла, и едва только было отправлено письмо Сэррея королю Генриху, оба они поскакали по направлению к шотландской границе.
— Послушайте-ка, — начал старый Томас Мортон, так звали провожатого Роберта, — мне не очень-то нравится, что вы собираетесь сражаться вместе с этими голоногими парнями против своих соотечественников, а когда я подумаю, что мне, может, придется скрестить с вами в бою шпаги, то боюсь, как бы в пылу сражения я не увлекся и не познакомил вас слишком хорошо с моим искусством в ратном деле!
Этот разговор происходил утром того же дня, когда они уже скакали по шотландской земле.
— Не беспокойтесь, старик, — ответил Роберт, — уж я как-нибудь вывернулся бы и не остался бы в долгу. Но Варвик не отправится в поход под знаменем короля Генриха.
— Вот как? Вы уверены?
— Да разве в этом случае граф дал бы мне письмо к графу Аррану?
— Да хранит Господь ваше наивное сердце! Вы плохо знаете нашего лорда, если думаете, что ради вас он заключит дружбу с шотландцами. Он ненавидит их, как истинный англичанин, и стоит ему переехать через Твид, как он немедленно обнажит меч против шотландцев.
— Ошибаетесь, Мортон, этого не может быть. Лорд Варвик обошелся со мной как родной отец и не потребует, чтобы я покинул тех, кому однажды принес присягу верности. А это обязательно случиться, раз я увижу против себя знамена Варвика!
— Вот об этом-то я и говорю с вами! — воскликнул Мортон. — Не очень-то отдавайтесь душой вашим шотландским господам. Вы ищете убежища, и больше ничего. Поэтому немедленно повернитесь к ним спиной, как только в Англии воздух несколько прочистится!
— Это значило бы отплатить неблагодарностью за гостеприимство!
— Ну-ну, не горячитесь так! Варвик никогда не потребует от вас того, что принесло бы с собой бесчестье. Какое вам дело до шотландцев, раз вы поступите просто пажом к принцессе Марии? Ведь она — невеста принца Уэльского!
Роберт покачал головой. Его прямота не мирилась с тем, что он должен будет смотреть, как на врагов, на тех самых людей, которые окажут ему гостеприимство.
Навстречу показался блестящий кортеж рыцарей, быстрым карьером спускавшихся с холма.
— Вот и граф Арран! — воскликнул Мортон. — Соберитесь с духом, чтобы вы могли прямо и бесстрашно смотреть ему в глаза. Я узнаю его цвета по зеленым камзолам и черным перьям.
Роберт Сэррей с любопытством и напряженным ожиданием смотрел на могущественного рыцаря, который, сидя на черном, словно уголь, коне и будучи одет в черные доспехи, остановился в нескольких шагах от него и спросил Мортона, что могло заставить слугу Варвика переехать через границу.
Старик обнажил голову и достаточно обстоятельно передал поручение господина.
— Ладно, ладно! — перебил его граф Арран. — Благородный лорд посылает ко мне этого красивого мальчика для, забавы принцессы? Передайте ему мой привет и скажите, что я оставлю мальчика и пошлю его в Инч-Магом. Надеюсь, там он будет в безопасности от этого мясника Генриха!
С этими словами граф отпустил Мортона и, дав Сэррею знак подъехать ближе, спросил его: — Вы еще в состоянии проехаться верхом или очень устали? В таком случае вам придется обождать здесь на дороге, пока я вернусь.
— Милорд, — ответил Роберт, — я привык гонять лошадей до тех пор, пока они, а не я, будут в изнеможении.
— Тогда следуйте за мной, да смотрите же — не хныкать, если вы просто прихвастнули!
Вся кровь бросилась Роберту в лицо, и он быстро очутился рядом с графом, когда тот дал шпоры своей лошади.
— Граф! — сказал он. — Если в Шотландии существует обычай, чтобы юные дворяне хныкали от усталости во время верховой езды, то я покажу вам, как ездят верхом английские мальчики.
Граф сморщил лоб от такой смелой речи, но ответ все- таки понравился ему.
— Я не говорил ни о шотландцах, ни об английских мальчиках! — произнес он. — При Сольвэй-Мос им пришлось достаточно познакомиться друг с другом. Но я говорил о хорошеньких молодчиках, которые не прочь откармливаться в женских покоях и декламировать стишки. А вы, очевидно, жаждете этого, так как чего бы вам искать иначе в Инч-Магоме?
— Милорд, чем я заслужил ваши издевательства?
— А что можно подумать о человеке, спасающемся бегством и собирающимся спрятаться за женские юбки?
— Милорд, я бежал потому, что этого требовал от меня рыцарь, не менее храбрый, чем вы сами! — произнес Роберт. — Но мне никто не говорил, чтобы я искал здесь места, в котором я мог бы спрятаться из трусости! Я поклялся отомстить за моего несчастного брата, но лучше бы мне сидеть в Тауэре, чем слушать подобные упреки.
Граф испытующе посмотрел на Роберта и по его глазам увидал, что тот говорит совершенно искренне. Поэтому лицо графа стало проясняться, все более и более принимая благосклонное выражение — А золото-то кажется настоящим, хотя оно и английской чеканки! — пробормотал он. — Ну, не сердитесь! — громче продолжал он. — Не сердитесь, если я попробовал вас на зуб. Имя Варвика много значит, но часто бывает, что за границу переправляют гнилой товар под хорошим торговым клеймом. Ведь мы воюем с Англией, так что должны быть осторожны. Но теперь я готов верить вам: у вас слишком открытое лицо для шпиона.
— Милорд, если бы кто-либо другой, а не вы, позволил себе сказать это, то я только пожалел бы, что он настолько не доверяет себе, раз боится шпионов. Вас же, могущественного лорда, я только спрошу, нужно ли графу Варвику посылать шпионов во вражеский лагерь, и если да, то не нашел ли бы он кого-нибудь более полезного?
— Хороший ответ! Я вижу, мы еще с вами будем добрыми друзьями, — улыбнулся граф. — Вы смелы, но умеете сдерживать сердце в надлежащих границах. Ну что же, я откровенно говорю с вами. Я так же мало доверяю Варвику, как и королю Генриху, хотя ничуть не думаю задевать этим его честь. Варвик — англичанин и в силу этого желает как раз обратное тому, чего желаем мы, шотландцы. Он просит меня дать вам убежище и принять в придворный штат принцессы. Это возможно. Но, спрашивается, какую роль будете вы играть там? Правда, Мария Стюарт — невеста принца Уэльского, но пока мы еще намерены придержать ее у себя и очень благодарны королю Генриху за любезное предложение управлять Шотландией от ее имени. Поэтому вы можете сами видеть, что английский паж легко способен стать шпионом своего короля, не делая этим чего-либо заведомо нечестного, так как в лице Марии Стюарт он видит невесту наследника английского престола. Я же должен заботиться о том, чтобы Мария не имела ровно никаких сношений с английским двором, чтобы в Инч-Магом не смея проникнуть никто, способный содействовать похищению принцессы. Понимаете ли вы меня теперь? Имею я основания быть недоверчивым или нет?
— Милорд, у вас есть основания быть подозрительным, — ответил Роберт, — но мне кажется, что я могу легко поколебать сомнения. Король Генрих злодейски умертвил моего брата, равно как и двух своих жен, и если бы это была последняя нищенка на свете, я и то был бы готов защищать ее до последней капли крови, только чтобы она не попала в лапы к этому злодею!
— Я верю вам, иначе я молчал бы, — сказал старый граф, ласково кивнув Сэррею головой. — Но еще один вопрос: вы — протестант?
— Нет, мы с братом остались верными святой религии.
— Тем лучше, потому что в этом случае вас с особенным удовольствием примут в Инч-Магоме. Там вам будет очень хорошо и в смысле безопасности, и в других отношениях. Против ваших соотечественников вы не захотите сражаться, да и к английским беглецам в народе относятся очень подозрительно. Но сделать то, что вы только что сказали, то есть защитить женщину от лап короля Генриха, вы отлично сможете, если только постоянно будете настороже. Хитрость крадется рядом с силой. Следите, чтобы к замку не приблизился какой-нибудь предатель, способный увезти принцессу. Я хотел сначала взять вас с собой в лагерь, чтобы лично отвезти в Инч-Магом, но я верю вам и потому отправлю вас туда прямым путем. Будьте верны нам, и я, Джеймс Гамильтон граф Арран, буду вашим другом и покровителем, но вам не избежать моей мести, если ваше лицо обманывает!
С этими словами граф кликнул одного из своих стрелков, шепнул ему несколько слов и громко приказал проводить Сэррея по Эдинбургской дороге.
Стрелок напевал какую-то песенку, долгое время они скакали рядом, но никто из них не начинал разговора. Только тогда, когда в тумане вырисовались колокольни и башни Эдинбурга, Роберт спросил, далеко ли от города находится Инч-Магом.
— На расстоянии полудня пути. Мы останемся ночевать в Эдинбурге.
— В таком случае выберите харчевню получше, стрелок, чтобы мы могли опорожнить с вами по бокалу вина за здоровье графа Аррана, — сказал Сэррей.
— Да сохранит его Бог и да поразит врагов его! Значит вы вовсе не высокомерный английский дворянчик, который брезгует выпить с шотландцем?
— Клянусь честью, — ответил Сэррей, — я с большим удовольствием разделил бы с вами охапку сена в лагере, чем воспользовался бы постелью в Инч-Магоме!
— Неужто правда? — воскликнул шотландец с просиявшим лицом. Тогда заедем в харчевню «Красный Дуглас». Правда, там вы не встретите дворянчиков в шелковых штанах, зато найдете крепкий эль и кусок поджаренного мяса!
— Я с удовольствием отправлюсь с вами куда угодно.
— Решено! Только графу не словечка об этом! Говоря между нами, цвета Гамильтонов не могут рассчитывать в «Красном Дугласе» на любезный прием. Но для меня там делается исключение. Кэт, крестница хозяина, — моя душенька!
— Так выпьем вторую кружку за здоровье вашей Кэт, а если я встречу там пару прекрасных глаз для меня, так опорожним и третью! — воскликнул Роберт.
— Э, да вы — славный парень, хоть и англичанин. Вы не сердитесь, это только так, к слову… Видите вот тот дом под большой липой? Это и есть «Красный Дуглас».
Стрелок пришпорил лошадь, и скоро они подъехали к харчевне.
Путешественники соскочили с коней и собрались было отвести их в конюшню, когда на пороге появился хозяин харчевни, который бросился к стрелку, как только узнал его.
— Это вы, Вальтер Брай? Уезжайте скорей, во имя Господа! Здесь Дугласы в количестве двадцати всадников, они хотят подстеречь вас и поджечь мой дом, если я впущу вас!
— Вы с ума сошли? — воскликнул шотландец. — Однако что с вами? Ваш камзол разорван. Вы подрались с кем- нибудь?
— Спасайтесь, говорю вам! — сказал хозяин, робко оглядываясь по сторонам. — Дело касается вашей жизни, а вы один!
— Вдвоем! — воскликнул Сэррей и вышел вперед.
— Я желаю знать, что произошло! — сказал стрелок, не обращая внимания на Сэррея. — Где Кэт, ваша крестница?
— Не спрашивайте, уезжайте с Богом, Вальтер Брай!
— Клянусь святым Дунстаном, я сначала должен видеть Кэт, и если какой-нибудь негодяй…
— Она не достойна, чтобы вы спрашивали о ней!
— Не достойна? — спросил стрелок и схватил хозяина за шиворот. — Сейчас же говори, или я ножом вырву из тебя правду!
Хозяин оттолкнул его руки и произнес:
— Сегодня приехали дугласовские всадники. Вы ведь знаете, сэр Штротмур ухаживает за Кэт. Ее не было дома. Я клялся, что она отцеживает эль к обеду. Тогда они принялись искать и нашли… Кэт на сеновале с лордом Бэклеем!
— Это — неправда! — простонал Брай, задрожав всем телом.
— Лорд удрал. Дугласовцы вытащили Кэт на улицу, срамили ее, говоря, что вы обольстили ее…
— Дальше! Дальше!
— Она на папистском столбе, они погружали ее в воду; я не мог ее защитить! — простонал хозяин, вытирая слезы на глазах.
Из харчевни послышались громкие голоса: посетители звали хозяина.
— Уезжайте! Скорей уезжайте! — крикнул он. — Они убьют вас и этого молодого барина.
Напоминание о Роберте привело Вальтера Брая в себя. Словно пьяный, он неподвижно всматривался в пустое пространство пред собой, и его рука судорожно стискивала рукоятку меча. Наконец он встряхнулся, покачиваясь, вскочил на лошадь и кивнул Роберту, чтобы тот последовал его примеру.
— Лорд Бэклей! — тихо сказал он. — Ну, так клянусь Богом, он мне поплатится за это!
Дверь внезапно открылась, и на двор высыпала орава парней разбойничьего вида, которые громко требовали хозяина. Брай дал шпоры коню и успел вовремя выехать за ворота, так как дугласовцы узнали его и кинулись закрывать ворота, зарычав:
— Это — он! Рубите его!
— Мы еще увидимся! — с ироническим смехом ответил стрелок, и в несколько секунд всадники скрылись далеко от преследователей.
Доехав с Робертом до рыночной площади, стрелок натянул поводья, пустил лошадь более тихим ходом и сказал Сэррею:
— Вот здесь находится харчевня, которую граф Арран назначил нам для ночевки. Будьте добры, обождите меня там. Если до утра я не вернусь, то постарайтесь сами найти дорогу в Инч-Магом и дайте графу знать, что Дугласы убили меня.
— Что вы обо мне думаете! Неужели вы предполагаете, что я способен оставить в минуту опасности своего товарища по путешествию одного?
Стрелок, нетерпеливо покачав головой, дал лошади шпоры и поехал прочь. Но Сэррей поскакал за ним следом. Такое приключение было ему по сердцу: ведь дело касалось того, чтобы освободить женщину и наказать дерзких оскорбителей, и, по его понятиям, было бы бесчестно не принять в этом участия.
Старый граф Варвик поручил Роберта Сэррея заботам своеговерного слуги еще ранее того, как вернулся в Лондон из Варвик-Кастла, и едва только было отправлено письмо Сэррея королю Генриху, оба они поскакали по направлению к шотландской границе.
— Послушайте-ка, — начал старый Томас Мортон, так звали провожатого Роберта, — мне не очень-то нравится, что вы собираетесь сражаться вместе с этими голоногими парнями против своих соотечественников, а когда я подумаю, что мне, может, придется скрестить с вами в бою шпаги, то боюсь, как бы в пылу сражения я не увлекся и не познакомил вас слишком хорошо с моим искусством в ратном деле!
Этот разговор происходил утром того же дня, когда они уже скакали по шотландской земле.
— Не беспокойтесь, старик, — ответил Роберт, — уж я как-нибудь вывернулся бы и не остался бы в долгу. Но Варвик не отправится в поход под знаменем короля Генриха.
— Вот как? Вы уверены?
— Да разве в этом случае граф дал бы мне письмо к графу Аррану?
— Да хранит Господь ваше наивное сердце! Вы плохо знаете нашего лорда, если думаете, что ради вас он заключит дружбу с шотландцами. Он ненавидит их, как истинный англичанин, и стоит ему переехать через Твид, как он немедленно обнажит меч против шотландцев.
— Ошибаетесь, Мортон, этого не может быть. Лорд Варвик обошелся со мной как родной отец и не потребует, чтобы я покинул тех, кому однажды принес присягу верности. А это обязательно случиться, раз я увижу против себя знамена Варвика!
— Вот об этом-то я и говорю с вами! — воскликнул Мортон. — Не очень-то отдавайтесь душой вашим шотландским господам. Вы ищете убежища, и больше ничего. Поэтому немедленно повернитесь к ним спиной, как только в Англии воздух несколько прочистится!
— Это значило бы отплатить неблагодарностью за гостеприимство!
— Ну-ну, не горячитесь так! Варвик никогда не потребует от вас того, что принесло бы с собой бесчестье. Какое вам дело до шотландцев, раз вы поступите просто пажом к принцессе Марии? Ведь она — невеста принца Уэльского!
Роберт покачал головой. Его прямота не мирилась с тем, что он должен будет смотреть, как на врагов, на тех самых людей, которые окажут ему гостеприимство.
Навстречу показался блестящий кортеж рыцарей, быстрым карьером спускавшихся с холма.
— Вот и граф Арран! — воскликнул Мортон. — Соберитесь с духом, чтобы вы могли прямо и бесстрашно смотреть ему в глаза. Я узнаю его цвета по зеленым камзолам и черным перьям.
Роберт Сэррей с любопытством и напряженным ожиданием смотрел на могущественного рыцаря, который, сидя на черном, словно уголь, коне и будучи одет в черные доспехи, остановился в нескольких шагах от него и спросил Мортона, что могло заставить слугу Варвика переехать через границу.
Старик обнажил голову и достаточно обстоятельно передал поручение господина.
— Ладно, ладно! — перебил его граф Арран. — Благородный лорд посылает ко мне этого красивого мальчика для, забавы принцессы? Передайте ему мой привет и скажите, что я оставлю мальчика и пошлю его в Инч-Магом. Надеюсь, там он будет в безопасности от этого мясника Генриха!
С этими словами граф отпустил Мортона и, дав Сэррею знак подъехать ближе, спросил его: — Вы еще в состоянии проехаться верхом или очень устали? В таком случае вам придется обождать здесь на дороге, пока я вернусь.
— Милорд, — ответил Роберт, — я привык гонять лошадей до тех пор, пока они, а не я, будут в изнеможении.
— Тогда следуйте за мной, да смотрите же — не хныкать, если вы просто прихвастнули!
Вся кровь бросилась Роберту в лицо, и он быстро очутился рядом с графом, когда тот дал шпоры своей лошади.
— Граф! — сказал он. — Если в Шотландии существует обычай, чтобы юные дворяне хныкали от усталости во время верховой езды, то я покажу вам, как ездят верхом английские мальчики.
Граф сморщил лоб от такой смелой речи, но ответ все- таки понравился ему.
— Я не говорил ни о шотландцах, ни об английских мальчиках! — произнес он. — При Сольвэй-Мос им пришлось достаточно познакомиться друг с другом. Но я говорил о хорошеньких молодчиках, которые не прочь откармливаться в женских покоях и декламировать стишки. А вы, очевидно, жаждете этого, так как чего бы вам искать иначе в Инч-Магоме?
— Милорд, чем я заслужил ваши издевательства?
— А что можно подумать о человеке, спасающемся бегством и собирающимся спрятаться за женские юбки?
— Милорд, я бежал потому, что этого требовал от меня рыцарь, не менее храбрый, чем вы сами! — произнес Роберт. — Но мне никто не говорил, чтобы я искал здесь места, в котором я мог бы спрятаться из трусости! Я поклялся отомстить за моего несчастного брата, но лучше бы мне сидеть в Тауэре, чем слушать подобные упреки.
Граф испытующе посмотрел на Роберта и по его глазам увидал, что тот говорит совершенно искренне. Поэтому лицо графа стало проясняться, все более и более принимая благосклонное выражение — А золото-то кажется настоящим, хотя оно и английской чеканки! — пробормотал он. — Ну, не сердитесь! — громче продолжал он. — Не сердитесь, если я попробовал вас на зуб. Имя Варвика много значит, но часто бывает, что за границу переправляют гнилой товар под хорошим торговым клеймом. Ведь мы воюем с Англией, так что должны быть осторожны. Но теперь я готов верить вам: у вас слишком открытое лицо для шпиона.
— Милорд, если бы кто-либо другой, а не вы, позволил себе сказать это, то я только пожалел бы, что он настолько не доверяет себе, раз боится шпионов. Вас же, могущественного лорда, я только спрошу, нужно ли графу Варвику посылать шпионов во вражеский лагерь, и если да, то не нашел ли бы он кого-нибудь более полезного?
— Хороший ответ! Я вижу, мы еще с вами будем добрыми друзьями, — улыбнулся граф. — Вы смелы, но умеете сдерживать сердце в надлежащих границах. Ну что же, я откровенно говорю с вами. Я так же мало доверяю Варвику, как и королю Генриху, хотя ничуть не думаю задевать этим его честь. Варвик — англичанин и в силу этого желает как раз обратное тому, чего желаем мы, шотландцы. Он просит меня дать вам убежище и принять в придворный штат принцессы. Это возможно. Но, спрашивается, какую роль будете вы играть там? Правда, Мария Стюарт — невеста принца Уэльского, но пока мы еще намерены придержать ее у себя и очень благодарны королю Генриху за любезное предложение управлять Шотландией от ее имени. Поэтому вы можете сами видеть, что английский паж легко способен стать шпионом своего короля, не делая этим чего-либо заведомо нечестного, так как в лице Марии Стюарт он видит невесту наследника английского престола. Я же должен заботиться о том, чтобы Мария не имела ровно никаких сношений с английским двором, чтобы в Инч-Магом не смея проникнуть никто, способный содействовать похищению принцессы. Понимаете ли вы меня теперь? Имею я основания быть недоверчивым или нет?
— Милорд, у вас есть основания быть подозрительным, — ответил Роберт, — но мне кажется, что я могу легко поколебать сомнения. Король Генрих злодейски умертвил моего брата, равно как и двух своих жен, и если бы это была последняя нищенка на свете, я и то был бы готов защищать ее до последней капли крови, только чтобы она не попала в лапы к этому злодею!
— Я верю вам, иначе я молчал бы, — сказал старый граф, ласково кивнув Сэррею головой. — Но еще один вопрос: вы — протестант?
— Нет, мы с братом остались верными святой религии.
— Тем лучше, потому что в этом случае вас с особенным удовольствием примут в Инч-Магоме. Там вам будет очень хорошо и в смысле безопасности, и в других отношениях. Против ваших соотечественников вы не захотите сражаться, да и к английским беглецам в народе относятся очень подозрительно. Но сделать то, что вы только что сказали, то есть защитить женщину от лап короля Генриха, вы отлично сможете, если только постоянно будете настороже. Хитрость крадется рядом с силой. Следите, чтобы к замку не приблизился какой-нибудь предатель, способный увезти принцессу. Я хотел сначала взять вас с собой в лагерь, чтобы лично отвезти в Инч-Магом, но я верю вам и потому отправлю вас туда прямым путем. Будьте верны нам, и я, Джеймс Гамильтон граф Арран, буду вашим другом и покровителем, но вам не избежать моей мести, если ваше лицо обманывает!
С этими словами граф кликнул одного из своих стрелков, шепнул ему несколько слов и громко приказал проводить Сэррея по Эдинбургской дороге.
Стрелок напевал какую-то песенку, долгое время они скакали рядом, но никто из них не начинал разговора. Только тогда, когда в тумане вырисовались колокольни и башни Эдинбурга, Роберт спросил, далеко ли от города находится Инч-Магом.
— На расстоянии полудня пути. Мы останемся ночевать в Эдинбурге.
— В таком случае выберите харчевню получше, стрелок, чтобы мы могли опорожнить с вами по бокалу вина за здоровье графа Аррана, — сказал Сэррей.
— Да сохранит его Бог и да поразит врагов его! Значит вы вовсе не высокомерный английский дворянчик, который брезгует выпить с шотландцем?
— Клянусь честью, — ответил Сэррей, — я с большим удовольствием разделил бы с вами охапку сена в лагере, чем воспользовался бы постелью в Инч-Магоме!
— Неужто правда? — воскликнул шотландец с просиявшим лицом. Тогда заедем в харчевню «Красный Дуглас». Правда, там вы не встретите дворянчиков в шелковых штанах, зато найдете крепкий эль и кусок поджаренного мяса!
— Я с удовольствием отправлюсь с вами куда угодно.
— Решено! Только графу не словечка об этом! Говоря между нами, цвета Гамильтонов не могут рассчитывать в «Красном Дугласе» на любезный прием. Но для меня там делается исключение. Кэт, крестница хозяина, — моя душенька!
— Так выпьем вторую кружку за здоровье вашей Кэт, а если я встречу там пару прекрасных глаз для меня, так опорожним и третью! — воскликнул Роберт.
— Э, да вы — славный парень, хоть и англичанин. Вы не сердитесь, это только так, к слову… Видите вот тот дом под большой липой? Это и есть «Красный Дуглас».
Стрелок пришпорил лошадь, и скоро они подъехали к харчевне.
Путешественники соскочили с коней и собрались было отвести их в конюшню, когда на пороге появился хозяин харчевни, который бросился к стрелку, как только узнал его.
— Это вы, Вальтер Брай? Уезжайте скорей, во имя Господа! Здесь Дугласы в количестве двадцати всадников, они хотят подстеречь вас и поджечь мой дом, если я впущу вас!
— Вы с ума сошли? — воскликнул шотландец. — Однако что с вами? Ваш камзол разорван. Вы подрались с кем- нибудь?
— Спасайтесь, говорю вам! — сказал хозяин, робко оглядываясь по сторонам. — Дело касается вашей жизни, а вы один!
— Вдвоем! — воскликнул Сэррей и вышел вперед.
— Я желаю знать, что произошло! — сказал стрелок, не обращая внимания на Сэррея. — Где Кэт, ваша крестница?
— Не спрашивайте, уезжайте с Богом, Вальтер Брай!
— Клянусь святым Дунстаном, я сначала должен видеть Кэт, и если какой-нибудь негодяй…
— Она не достойна, чтобы вы спрашивали о ней!
— Не достойна? — спросил стрелок и схватил хозяина за шиворот. — Сейчас же говори, или я ножом вырву из тебя правду!
Хозяин оттолкнул его руки и произнес:
— Сегодня приехали дугласовские всадники. Вы ведь знаете, сэр Штротмур ухаживает за Кэт. Ее не было дома. Я клялся, что она отцеживает эль к обеду. Тогда они принялись искать и нашли… Кэт на сеновале с лордом Бэклеем!
— Это — неправда! — простонал Брай, задрожав всем телом.
— Лорд удрал. Дугласовцы вытащили Кэт на улицу, срамили ее, говоря, что вы обольстили ее…
— Дальше! Дальше!
— Она на папистском столбе, они погружали ее в воду; я не мог ее защитить! — простонал хозяин, вытирая слезы на глазах.
Из харчевни послышались громкие голоса: посетители звали хозяина.
— Уезжайте! Скорей уезжайте! — крикнул он. — Они убьют вас и этого молодого барина.
Напоминание о Роберте привело Вальтера Брая в себя. Словно пьяный, он неподвижно всматривался в пустое пространство пред собой, и его рука судорожно стискивала рукоятку меча. Наконец он встряхнулся, покачиваясь, вскочил на лошадь и кивнул Роберту, чтобы тот последовал его примеру.
— Лорд Бэклей! — тихо сказал он. — Ну, так клянусь Богом, он мне поплатится за это!
Дверь внезапно открылась, и на двор высыпала орава парней разбойничьего вида, которые громко требовали хозяина. Брай дал шпоры коню и успел вовремя выехать за ворота, так как дугласовцы узнали его и кинулись закрывать ворота, зарычав:
— Это — он! Рубите его!
— Мы еще увидимся! — с ироническим смехом ответил стрелок, и в несколько секунд всадники скрылись далеко от преследователей.
Доехав с Робертом до рыночной площади, стрелок натянул поводья, пустил лошадь более тихим ходом и сказал Сэррею:
— Вот здесь находится харчевня, которую граф Арран назначил нам для ночевки. Будьте добры, обождите меня там. Если до утра я не вернусь, то постарайтесь сами найти дорогу в Инч-Магом и дайте графу знать, что Дугласы убили меня.
— Что вы обо мне думаете! Неужели вы предполагаете, что я способен оставить в минуту опасности своего товарища по путешествию одного?
Стрелок, нетерпеливо покачав головой, дал лошади шпоры и поехал прочь. Но Сэррей поскакал за ним следом. Такое приключение было ему по сердцу: ведь дело касалось того, чтобы освободить женщину и наказать дерзких оскорбителей, и, по его понятиям, было бы бесчестно не принять в этом участия.
II
Вдали от города было озеро, поверхность которого заросла камышом. Там находился так называемый «папистский столб», представлявший собой прочный, вбитый в дно железный шест. Он был устроен там мудрой городской полицией Эдинбурга, так как в то время очищающее омовение было в порядке вещей и считалось крайне необходимым для ведьм, чародеев, сварливых женщин и упрямых папистов. Кроме того, везде в Европе излюбленным наказанием за преступление против общественной нравственности считалось погружение в воду, и ничто не доставляло достопочтенным гражданам и их женам такого удовольствия, как погружение какой-нибудь злосчастной ведьмы или бедного католика в глубокую и смрадную лужу. А так как в большинстве случаев подобного рода наказания постигали католиков, то столб и прозвали «папистским столбом». В это озеро сваливали все отбросы и нечистоты города, так что погружение было столь же опасным, сколь и отвратительным.
Несчастных осужденных привязывали к столбу, пока коршуны не расклевывали их тела, если только какая- нибудь сердобольная рука не освобождала их. Но последнее удавалось в редких случаях, потому что тот, кто однажды стоял у этого столба, считался навеки обесчещенным и прикосновение к нему могло быть только позорным. Смерть была самым счастливым уделом для такого несчастного, потому что ни под одной честной кровлей он не мог бы уже найти себе приют, ему оставалось только скрываться в лесу или же спрятаться у женщины, считавшейся колдуньей. Но и там ему пришлось бы каждую минуту дрожать, чтобы не стать опять жертвой народной ярости.
Всего этого даже и не подозревал Сэррей, когда следовал за стрелком в темноте наступающего вечера.
С холодным и бледным отсветом солнце скрылось за вершиной Корсторфина, и густой туман окутывал пустынное болото. Таинственная тишина нарушалась только неприятным журчанием воды да карканьем воронья, кружившего над камышами.
Стрелок Брай спрыгнул с коня, привязал поводья к терновому кусту и, вынув из ножен меч, зашагал по обрывистому берегу к тому месту, где стоял папистский столб.
— Кликните меня, если я вам понадоблюсь! — крикнул ему Сэррей. — А пока я побуду здесь и постерегу, если кто-нибудь появится, я свистну вам. Только смотрите, не осуждайте ее, не выслушав. Вспомните, что она пострадала от ваших врагов.
Роберт сказал последнюю фразу с легкой дрожью, невольная жуть, которую навеяла на него эта покрытая зловонными испарениями местность, заставила его почувствовать злейшую досаду, что в данном случае дело идет не о спасении Кэт, а об акте мести.
Его слова были кстати. Брай даже не подумал о том, что Кэт могла быть невиновной, только жажда мести переполняла его сердце.
Он кивнул Сэррею и зашагал вниз по пустынной дороге, по которой обыкновенно ходили только палачи, тогда как народ с обрыва любовался на приведение казни в исполнение.
Сэррей не мог преодолеть любопытства; он подошел к самому краю обрыва и заглянул вниз. Там он увидел высокий столб, окруженный стаями коршунов и воронов; что-то копошилось у столба, испуская жалобные стоны. Ужас пробежал по его телу: ведь там была прикована железными цепями слабая женщина, обреченная на мучительную смерть, женщина, которая в худшем случае была виновата только в том, что вняла обольстительным словам мужчины.
Какая-то темная тень приблизилась к столбу, послышались шепот и громкий стон радости. Очевидно, женщина, потрясенная боязнью страшной смерти, уверилась в своем спасении и с радостью внимала голосу любимого человека.
Сэррей облегченно вздохнул, но продолжал смотреть, дрожа всем телом от ожидания.
Но острый слух Роберта расслышал также и другой шум, словно по земле стучали копыта… От городских ворот двигались какие-то темные тени.
Роберт свистнул, сначала тихо, потом громче и взглянул вниз: столб был пуст — стрелок давно уже развязал веревки и взвалил возлюбленную на свои плечи. Но ему надо было еще минут пять, чтобы взобраться на обрыв, а удары копыт раздавались все громче и громче, и каждая секунда промедления несла с собой верную гибель. Сэррей отвязал лошадь стрелка, вскочил на своего коня, которого держал за поводья, и, подъехав к самому краю обрыва, крикнул:
— Дугласовцы! Торопитесь, они приближаются!
Стрелок кряхтел под своей ношей и уже достиг края обрыва. Но тут до него донесся ликующий рев: всадники заметили и узнали Сэррея и теперь изо всех сил погнали коней, и уже ясно виднелись их султаны. Но и стрелок тоже уже был около своей лошади.
— На коня! На коня! — крикнул Сэррей, обнажая меч.
Но не хватало ли стрелку силы, чтобы взвалить спасенную на лошадь, или он подумал, что спасение невозможно, только на один момент он нерешительно оглянулся вокруг.
— Слезайте! — крикнул он вдруг Роберту, подтягивая свою лошадь к отвесному краю. — Следуйте за мной.
Сэррей повиновался, но нечаянно споткнулся и упал, по счастью он успел выпустить поводья, так что лошадь не увлекла его за собой. Секундой позже он услышал, будто над ним с треском пронеслись, обрушиваясь, целые скалы; облако пыли закрыло все от его глаз, раздались крики и стоны, что-то падало, словно камни, с обрыва и с плеском хлопалось в воду.
Роберт взглянул и увидел, что стрелок стоял на коленях шагах в двадцати от него на краю обрыва, натягивая тетиву лука, а на краю пропасти заметил остолбеневших от испуга троих всадников. В тот же момент стрела Брая скользнула с тетивы и впилась одному из всадников в лицо. С криком боли всадник свергнулся с лошади, а двое остальных обратились в ужасе в позорное бегство.
Страшный план, придуманный стрелком для спасения, удался на славу. Всадники на полном ходу попали в пропасть, близости которой не ожидали, так как лошади врагов стояли на самом ее краю, да и туман скрывал за собой глубину. Большая часть их свалилась вниз, только троим посчастливилось в самый последний момент удержать лошадей на поводу. Браю удалось схватить за поводья лошадь убитого им всадника. Он протянул эти поводья Сэррею, затем ввел свою лошадь на самый верх и только потом уже принес на руках лежавшую без чувств девушку.
Глубоко внизу журчала вода и каркали вороны, доносились слабые стоны и громкие крики о помощи.
Девушка была совершенно обнажена и тихо вскрикнула, когда Брай стал закутывать ее в свою мантию. Кровавые полосы от ударов бича палача были расклеваны воронами, и все тело девушки представляло собой сплошную окровавленную массу. Когда Брай взваливал ее на лошадь, девушка издавала глухие стоны, от которых Сэррея до мозга костей охватывало бешенство на истязателей этого нежного создания.
Брай направил коня не в город, а пустил его далее по краю обрыва. Ни он, ни Сэррей не говорили ни слова: ужасная сцена, которую им только что пришлось пережить, и их чудесное спасение занимали все их мысли. Проскакав несколько сотен шагов, они выехали на свободную равнину, разделенную на отдельные поля валами, между которыми проходили рвы. Вода в них светилась отблесками лунного света, и казалось, словно обширное болото было покрыто серебряными полосками. Среди камышей и терновника танцевали блуждающие огоньки: не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, только лошадиный топот да тихие стоны несчастной девушки нарушали таинственную тишину.
Проскакав около часа по границе болота, Брай и Сэррей со спасенной девушкой доехали до развалин старого монастыря. Стена обвалилась, и камни заросли высокой травой. Казалось, что здесь уже несколько столетий, как замерла всякая жизнь, но стрелок все-таки соскочил с лошади, вошел во двор развалин, прошел через разрушенные ворота и три раза постучал рукояткой меча во вмазанную у стены дужку.
Прошло около пяти минут, а затем Сэррей услыхал голос, словно выходивший из могилы:
— Кто тут?
Вместо ответа Брай еще раз ударил по железу.
— Откройте, мамаша Гиль, — нетерпеливо крикнул он.
— Это — я, Вальтер Брай из Дэнсфорда.
Длинная, худая фигура внезапно вынырнула пред ними, и Сэррею показалось, что она появилась словно по волшебству из мрака.
— Что вам нужно, Вальтер Брай? — спросила старуха. — В уме ли вы, что приводите ко мне какого-то болвана, который начнет рассказывать людям, что в аббатстве живет старая ведьма? Вы хотите, чтобы я вас прокляла, как других?
— Не ворчите, Гиль, у моего приятеля такое храброе сердце, какого только можно пожелать мужчине. Но впустите же нас в свою пещеру! Нам нужны огонь и еда.
Старуха хрипло рассмеялась, а затем заворчала:
— Может быть, еще ванну и пуховики? Я постараюсь в самом непродолжительном времени прибить здесь вывеску и открою гостиницу для городских молодчиков, которые приходят к мамаше Гиль за целебным снадобьем или предсказанием, а потом, смеясь, глядят как топят ведьму!
— Молчите, старуха, мы пришли от папистского столба. Поглядите-ка сюда, здесь нужна ваша помощь!
Только теперь старуха заметила третьего свидетеля их разговора, так как Брай положил Кэт на камень, — От папистского столба? — сказала она. — А юный лорд помогал вам? Да благословит вас Бог, лорд! И моя кровь тоже обагрила папистский столб, и вы, Брай, были единственным человеком, который заговорил со мной тогда, когда меня схватили. Проклятие городу, проклятие его детям и детям детей! Да ну же, беритесь! Вы хотите, чтобы она окончательно истекла здесь кровью?
Старуха и Брай взяли на руки несчастную, и только теперь Сэррей заметил, что сзади широкого столба среди развалин виднелось отверстие. Когда же, следуя за старухой и Браем, он тоже спустился туда, то понял, что колдунья жила в уцелевших погребах старого развалившегося аббатства. Остальное он понял как из слов Гиль, так и из висевших по стенам пучков трав и кореньев и расставленных бутылок, блестевших при свете масляной лампы.
Старуха положила больную на ложе из мха, поставила перед Вальтером кружку пива, чтобы он отдохнул за ней, пока она посмотрит раны больной и смажет их болеутоляющей мазью. Но Вальтер даже не дотронулся до кружки, он мрачно смотрел прямо перед собой и казался глубоко ушедшим в свои мысли.
Трудно сказать, только ли жажда мести терзала его душу. Как ликовало его сердце, когда он увидал башни Эдинбурга и Сэррей согласился с ним завернуть в кабачок «Красный Дуглас»! Ему не приходилось изменять своим служебным обязанностям и оставлять Сэррея одного, он мог показать графу свою Кэт и распить с ним бутылочку за ее здоровье. Ведь они не виделись несколько месяцев. Когда он отправлялся на войну, она с преданностью, прямо посмотрела ему в глаза, обещая, что только он, и никто другой, будет ее мужем! И вот он неожиданно вернулся. Где же застал он ее? У позорного столба мерзких девок, колдуний и папистов… Правда, если она была не виновна, то он мог отомстить за нее, но грезы счастья все равно навсегда скрылись от него, так как стоявшая у позорного столба девушка не могла стать его законной женой — иначе его прокляла бы старуха-мать. Ну, а если Кэт была виновата? О, этого Брай почти желал, потому что было бы легче вонзить виновной нож в сердце и столкнуть вслед за всадниками в пропасть, чем покинуть невиновную!
Ужасны были эти муки сомнения!…
Наконец Брай нетерпеливо топнул ногой и спросил:
— Она уже может говорить, мамаша Гиль? Мне нужно побеседовать с ней!
— Неужели вы хотите мучить бедняжку? — воскликнула старуха. — Ей необходимы сон и покой, иначе слабый огонек ее жизни погаснет навсегда.
— Пусть гаснет, лишь бы она сказала, что нужно. Дайте ей такое средство, чтобы она собрала все свои силы на несколько минут.
— Разве вы для того спасали ее, чтобы убить? Если это ваша родственница, то не беспокойтесь — я буду ухаживать за ней и разделю с ней свой хлеб…
— Мамаша Гиль, она была моей невестой!
— Невестой? — вскрикнула старуха и посмотрела на Брая с скорбным участием. — Вашей невестой? Да, это — другое дело!
Старуха опустилась на колени около спавшей и влила ей в рот несколько капель. Они оказали немедленное действие: Кэт судорожно вздрогнула, ее губы задрожали, кровь прилила к щекам, и она открыла глаза.
— Где я? — пробормотала она, оглядываясь по сторонам.
— Или я видела все это во сне? О, Боже, это было ужасно! Коршуны… Что это? Вальтер, ты? О, Боже мой, значит, все это — правда!…
— Да, все это — правда, Кэт, — мрачно ответил стрелок, и ты, быть может, уже через несколько секунд предстанешь перед Вечным Судьей. Так заклинаю тебя спасением твоей души, на которое ты надеешься, заклинаю любовью, в которой ты клялась мне, нарушила ли ты мне верность?
— И ты меня спрашиваешь, об этом Вальтер? Пресвятая Богородица, что же, я с ума сошла или вы все помешались? Именно потому, что я любила тебя, я и оттолкнула Штрутмора, и только смеялась, когда он грозил мне. Я ведь никого не боялась, так как знала, что ты защитишь меня. Но все принялись со вчерашнего дня мучить меня, все говорили, что я лгу, что у меня имеется другой возлюбленный, кроме тебя. Тогда я поклялась, что дала тебе обет верности, и крестный подтвердил, но все остальные состроили такие рожи, будто я сделала что-то нехорошее.
— Дальше, Кэт, дальше! — нетерпеливо крикнул Брай.
— Тебя оклеветали?
— Должно быть, так, потому что сегодня под вечер пришел лорд Бэклей, и, когда я цедила ему пиво, он хотел усадить меня на колени, а когда я обругала его за это, то он повел нехорошие речи и грозил…
— Что же он говорил?
Кэт, потупившись, ответила:
— Он говорил, что подарит мне золотое кольцо, а это лучше, чем стоять у папистского столба!
— Он сказал это? — воскликнул Брай. — Что же ты ответила ему?
— Я ударила его по лицу, но он только расхохотался и хотел схватить меня, тогда я бросилась бежать, и так как в кабачке сидели дугласовские всадники, а крестный был на базаре, то я юркнула в маленькую дверцу, ведущую на чердак, и там заперлась. Но лорд пробрался двором, так что я даже и не видела, как он вскочил ко мне.
— Дальше, Кэт, дальше!
— Вальтер, он высмеял меня, что я бежала от него. Он уверял, что любит меня и хочет непременно ко мне посвататься. При этом он становился все навязчивее, а я не смела кричать на помощь, потому что всадники застали бы нас и подумали бы Бог знает что; я не могла и убежать, потому что лорд крепко держал меня. Но я не боялась ничего дурного, потому что теперь он не грозил, а просил и болтал всякую чушь, словно пьяный. Вдруг на дворе послышался шум. Меня звали, лорд сказал, что мы должны спрятаться, и я так и сделала, потому что вся дрожала от боязни, что Штротмур увидит меня с лордом Бэклеем.
— Дальше, Кэт, дальше!
— Они явились на сеновал, вырвали меня из сена, обругали и потащили на улицу.
— Ну а лорд, Кэт?
— Он? Как ни в чем не бывало! Когда меня тащили на улицу и я клялась, что невиновна, то он рассмеялся и сказал: «Ну, вот видишь? К чему ты столько времени ломалась?» Затем он сел на лошадь и ускакал прочь, тогда как мне связали руки и ругали меня початой.
— Кто, Кэт, кто?
— Все дугласовские всадники, особенно Штротмур. Он клялся, что я — уже давно початая и ему удалось, наконец, поймать меня с поличным. Он заявил, что в этом виноват ты, так как это ты обольстил меня.
— И никто не вступился за тебя, Кэт, никто? — воскликнул Брай.
— Вступился крестный, когда он вернулся с базара. Он встретился, когда меня гнали по улице, пытался заступиться, но его прогнали, избив, и кричали, что он давно все знал.
— Тогда тебя привели к судье? Кто был этот судья, кто?
— Меня не приводили к судье!
— Нет? Не приводили? — мрачно пробормотал Брай.
— Меня выволокли на базар и там забросали грязью. Уличные мальчишки кричали: «К столбу ее! Топить ее!» И весь народ кричал, и никто не хотел слушать мои мольбы. Меня потащили туда и — о, Боже! — Кэт вся задрожала при воспоминании, — коршуны, коршуны!
Вальтер подошел к ее ложу.
— Заклинаю тебя твоим вечным блаженством, Кэт, — серьезно и торжественно сказал он, — повтори мне еще раз, что ты невиновна, но если ты солжешь, то да падет на твою голову проклятие за тех, кого я убью!
Девушка поклялась трясущимися губами и простерла вперед свои руки, казалось, что покров смерти уже надвигается на нее.
— Вальтер! — простонала она, — Вальтер!
Брай не трогался с места, а только мрачно и холодно смотрел на несчастную девушку, и его губы что-то тихо пробормотали…
Была ли это клятва мести, или молитва? Вероятно, и то, и другое.
— Она умирает! — воскликнула старуха и оттолкнула его прочь. — Уходите! Вы узнали все, что же вам нужно еще? У вас нет никакого сострадания к несчастной! Убирайтесь вон и думайте себе что хотите о мести и убийствах, только не омрачайте последних минут несчастной!
— Она умирает? — тихо спросил Брай, не решаясь поднять взор.
— Ведь я и раньше говорила вам… Теперь слишком поздно.
— Да благословен будет Бог! Я и не думал о спасении. Вот, мамаша Гиль, — прибавил Брай, всовывая в ее руку золотой, — закажите обедню за упокой души Кэт, только под другим именем и там, где ее не знают… Ну, да вы уж знаете сами!
— Идите, идите! — нетерпеливо пробурчала старуха, выпроваживая гостя.
Роберт сунул старухе еще несколько золотых, и вместе с Сэрреем они сели на коней и понеслись вскачь к ближайшей деревне, чтобы провести остаток ночи в местной харчевне.
На другой день утром, когда они продолжали путь по направлению к Инч-Магому, то по дороге услыхали новости о вчерашних приключениях. Им рассказывали, что десять дугласовских всадников свалилось в пропасть, а одного из них горный дух подстрелил стрелой из лука. Это мог быть только дух, так как ни одного живого существа там не оказалось. Правда, видели человеческую фигуру, но она была просто призраком, заманившим всадников, так как, когда они вздумали подъехать к этой фигуре, то свалились в пропасть, между тем внизу не нашли других трупов, кроме трупов дугласовских всадников. Самое же удивительное было то, что черт унес девку от папистского столба, вместо того, чтобы, по обыкновению, оставить ее на добычу воронью.

Глава четвертая
ПАЖ

I
 Позволим себе опередить всадников и провести, до их прибытия, читателя в замок Инч-Магом.
Старое, похожее на крепость строение находилось, как мы уже упоминали, на маленьком острове посредине озера. Зубчатые стены, украшенные гербами шотландских королей, мрачно отражались в ясных водах; эта крепость казалась скорее тюрьмой, чем убежищем, и у каждого, смотревшего на тяжелые железные ворота, за которыми шотландцы прятали свою королеву, невольно тоскливо сжималось сердце.
Марию Стюарт называли пока еще принцессой, хотя корона досталась ей уже в колыбели, и для будущности несчастного ребенка едва ли могло бы быть более зловещее предзнаменование, чем печальная необходимость, заставлявшая ее опекунов перевозить ее из одного замка в другой, из Линлитау, где она родилась, в Стерлинг, а оттуда снова в Инч-Магом.
Королева-мать, Мария Лотарингская, называвшаяся также Мария Гиз, дала своей дочери в воспитатели лордов Эрскина и Ливингстона. Что же касается придворного штата, то таковой состоял из девиц знатнейших семейств страны: Флеминг, Сэйтон, Ливингстон, Бэйтон, — которых называли «четыре Марии», так как все они носили имя Мария.
Несколько дней тому назад в замок прибыл посетитель, которого впустили ночной порой и отвели в отдельную комнату, что возбудило любопытство не только всех четырех Марий, но и всей прислуги. Бойкая Сэйтон пустилась подсматривать да подслушивать и рассказала подругам, что незнакомец очень хорошо одет и сам очень красив собой, что он без всякого сомнения — иностранец, так как говорит только по-французски и не понял старого Драйбира, кастеляна замка, когда тот посетил его, чтобы спросить, достаточно ли удобно устроился гость. Самой же интересной новостью было сообщение, что во время их разговора неоднократно произносилось имя Марии и что, наконец, сегодня был отправлен с курьером толстый пакет на имя графа Аррана.
Все четыре девушки ломали себе голову, что нового может внести в их жизнь это посещение, не удастся ли наконец уехать из этого скучного замка и снова перебраться в Стерлинг или даже в Эдинбург, причем строились самые пышные воздушные замки. Вдруг послышались звуки большого рога, возвещавшие о прибытии постороннего лица, и все четыре Марии бросились к окну, в полной уверенности, что это уже прибыл курьер с ответом, хотя он и отправился всего каких-нибудь два часа тому назад.
По озеру скользил маленький челнок и вскоре вернулся с двумя гостями, из которых один был одет в цвета графа Аррана, а другой, судя по одежде, был молодым дворянином.
Королева-мать вполголоса рассмеялась и насмешливо сказала:
— Графу, кажется, угодно шутить над нами, или он хочет напомнить нам о том времени, когда мы были окружены королевской свитой? Пусть наш духовник примет его послание, я не пущу его к себе на глаза.
— И мы тоже! — воскликнула одна из Марий, обращаясь к остальным, и Марии Сэйтон было поручено передать прибывшим распоряжение королевы.
Мария Сэйтон сияла прелестью шестнадцатой весны, и из ее прекрасных карих глаз сверкала веселая насмешливость. Она была самой старшей из подруг маленькой королевы, но там, ще дело шло о веселой шутке, не она проповедовала рассудительность и осмотрительность. К тому же ее преданность королеве не имела границ. Она очень серьезно смотрела на свои обязанности защищать интересы Марии Стюарт против всякого нарушения кем бы то ни было. Поэтому она не принадлежала ни к какой партии и не служила в сущности никому, кроме самой королевы, — ни королеве-матери, то есть французской партии, ни английской, которую представляли собой некоторые лорды, ни дворянской, к которой принадлежали родственники самой Марии Сайгон и граф Арран. Все эти партии хотели по-своему решить участь маленькой королевы и склонить к себе сердце ребенка, преследуя личные интересы.
Мы не можем утверждать, что Мария Сайгон проводила в жизнь определенный план, она просто инстинктивно чувствовала, что Мария Стюарт нуждается в защите, и готова была пожертвовать своей жизнью, лишь бы охранить ее. Никто даже не подозревал, как сильна была эта преданность в легкомысленной на вид и веселой девушке, и Мария де Гиз тем более доверяла ей и покровительствовала ее близости к дочери, что не подозревала о стремлениях Марии Сэйтон влиять на юную королеву.
Читатель легко угадает, что прибывшие незнакомцы были Сэрреем и Браем.
Роберт был ослеплен веселым и светлым видом Марии Сэйтон и почти не заметил, с какой насмешливой надменностью ответила она на его глубокий, почтительный поклон.
— Прекрасный господин! — заговорила она задорным, вызывающим тоном. — Ее величество королева-мать прислала меня сказать вашей милости, что она не может принять ваше посланничество и что с вас будет совершенно достаточно, если вы передадите духовнику о цели вашего приезда. Должна прибавить к тому же, что мне и всем остальным обитательницам замка очень больно, что мы не находим возможным встретить вас словами: «Добро пожаловать!»
В ее тоне была такая смесь самой злой иронии и грациозной ласковости, что Роберт не нашелся, что ответить. Зато Брай немедленно вывел его из затруднительного положения.
— Прекрасная девица, — сказал стрелок резким, повелительным тоном, — это я являюсь посланцем могущественного и благородного графа Аррана к королеве. Будьте любезны передать ее величеству, что я послан не к ее духовнику и поэтому, в случае, если не буду иметь честь быть принятым королевой, окажусь вынужденным вернуться обратно и доложить моему господину о таком приеме.
— А! — воскликнула Мария Сэйтон, — так посланец — вы, а этот молодой господин — только свита? Простите, господин стрелок, я немедленно передам слова вашего господина моей госпоже и прошу немного обождать здесь.
— Что за наглое создание! — пробормотал Брай, когда Мария скрылась в дверях, тоща как Роберт словно очарованный смотрел ей вслед. — Если она заставит нас прождать здесь слишком долго, то я думаю, нам лучше всего будет вернуться обратно, чтобы она могла узнать, кто тот человек, который один во всей Шотландии имеет право приказывать!
Должно быть, королева догадалась о настроении посланца, потому что Мария Сэйтон вернулась очень быстро, чтобы позвать стрелка.
Но она не упустила при этом случая кинуть задорное замечание:
— Простите, стрелок, что я узнала в вас телохранителя регента сначала по тону, а уже потом по камзолу. Но это произошло потому, что мы сидим здесь, словно арестанты, хотя несмотря на всех телохранителей и стрелков, королева не может безопасно переехать через озеро!
Брай не счел нужным отвечать ей, зато Роберт теперь обрел дар слова.
— Прекрасная девица! — сказал он. — Я рад узнать по вашему тону, как весело живут в этой тюрьме, а так как мне предстоит честь остаться здесь, то я вижу в этом немалое утешение.
— Вы собираетесь остаться здесь? — живо спросила Мария. — В качестве кого же? В качестве кастеляна замка или даже великого сенешаля? Пресвятая Дева! А мы даже не в полном парадном туалете, чтобы встретить вас!
Роберт не мог удержаться от смеха, хотя и чувствовал насмешку в ее словах, и это вызвало у Марии милостивый взгляд по его адресу.
— Ну! — улыбнулась она. — Я вижу, что мы с вами еще позабавимся. Вы, по крайней мере, не имеете такого мрачного вида, как этот почтенный гвардеец!
В тот же момент дверь открылась и на пороге появилась Мария Лотарингская.
Королева уже не была в расцвете молодости, Ведь до того, как Иаков V прибыл во Францию, чтобы просить ее руки, она стала вдовой герцога Лонгвильского. Теперь на ней был двойной вдовий траур, но благородство черт ее лица, носившего, несмотря на мягкость, отпечаток жестокости, заменяло увядшую свежесть.
Стрелок поклонился королеве ровно настолько глубоко, насколько того требовали приличия, и непринужденно подошел вплотную к ней, тогда как Роберт почтительно, остановился у дверей.
— Какое известие понадобилось графу Аррану передать мне, — спросила королева-мать, — раз он выбирает в свои посланцы даже не представителя знати?
— У графа нет ни свободного времени, ни охоты думать о таких мелочах, поэтому-то он и выбрал меня, — спокойно ответил Брай.
— Самого наглого, какого только мог найти. Передай мне то, что поручено тебе!…
— С удовольствием, я и сам собирался сделать это! — раздраженно произнес Брай. — Его светлость, граф, милостиво рекомендует вам пажа, которого он избрал для нашей обожаемой королевы, а вас настоятельным образом просит смотреть на Роберта Говарда, графа Сэррея, как на друга и любимца регента.
— И это — все? — горько рассмеялась Мария Лотарингская. — Скажи регенту, что я исполню его просьбу, несмотря на все нахальство его посланца. Скажи кастеляну, чтобы он дал тебе выпить чего-нибудь и червонец за твои труды. В самом деле, ты не мог бы ревностнее исполнить возложенное на тебя поручение, если бы дело шло о судьбе Шотландии!
Сказав это, она знаком руки отпустила Брая.
Но стрелок не повиновался этому приказанию.
— Ваше величество, — заявил он, — я прошу вас оказать мне честь видеть мою королеву, чтобы передать ей почтительнейшую просьбу моего господина.
— Это совершенно ни к чему, я сама передам ей просьбу графа.
— Извините, ваше величество, граф поручил мне лично передать его слова королеве!
Мария Лотарингская до крови закусила губы. Это спокойное бесстыдство доводило ее до бешенства, так как она чувствовала свое бессилие. Господином положения был именно граф Арран, и его слуги давали ей понять, что королева — не она, а ее дочь. С того момента, как после смерти своего супруга Мария Лотарингская напрасно домогалась регентства, она потеряла всякое влияние, так как победителем остался граф Арран, и парламент передал ему опеку и регентство. Таким образом, каждый мальчишка в его армии знал, что королева завидовала его могуществу.
Королева-мать дала знак, и Мария Сэйтон, поняв язык ее глаз, вышла, чтобы позвать Марию Стюарт.
— Стрелок, так как ты требуешь этого по поручению регента, то я попрошу сюда свою дочь, чтобы она своевременно узнала, что регент требует от нее послушания.
Мария Сэйтон вернулась обратно и доложила:
— Ваше величество! Королева просит передать, что она не желает видеть этого посланца. Если графу Аррану нужно что-либо сказать ей, пусть он явится лично.
Мария Лотарингская с торжеством улыбнулась, но стрелок не позволил так просто отделаться от него.
— Ваше величество! — сказал он. — Можете ли вы поручиться, что эта дама говорит правду и в точности передает слова королевы?
Кровь кинулась в голову гордой Сэйтон при этом оскорблении, которое показалось ей тем тяжелее, что она сознавала свою вину.
Королева на мгновение поколебалась в нерешительности, не зная, поручиться ли ей или еще раз унизиться. И тут на сцену выступил Роберт Сэррей, бывший до того момента немым свидетелемпроисходившего, и воскликнул:
— Вальтер Брай! Если вам нужно поручительство, то примите мою поруку! Я заявляю и готов подтвердить это мечом, что дама сказала правду!
Брай улыбнулся, казалось, что он давно уже ожидал вмешательства Роберта.
— Если дама примет ваше поручительство, — сказал он, то я очень сожалею о необходимости передать регенту, что окружающие королеву лица враждебно настроены против него, потому что иначе ему не дали бы такого оскорбительного ответа.
Сказав это, он сухо поклонился и сделал вид, будто собирается удалиться.
И королева, и Мария Сэйтон почувствовали, сколько угрозы заключалось в сказанных стрелком словах, и смущенно переглянулись. Но тут Роберт, заметивший их взгляд, быстро пришел к ним на помощь.
— Подождите-ка один момент, Брай! — крикнул он, а затем, подойдя к королеве-матери и преклонив колено, сказал: — Ваше величество! Быть может, вам удастся уговорить королеву все-таки принять этого воина, которому нужно только передать ее величеству уверения регента в преданности и представить ей меня!
Мария Лотарингская улыбнулась с удовлетворением, и теплый взгляд ее глаз был наградой Роберту за то, что он вывел ее из неприятного положения.
— Вежливую просьбу я всегда исполняю с удовольствием, — ответила она, — в особенности потому, что она служит мне порукой, что к моей дочери приблизятся подобающим образом. Мария Сэйтон, передайте королеве, что я прошу ее принять посланника регента.
С этими словами она вышла из комнаты.
— Скажите мне, Брай, — шепнул Роберт, как только они остались наедине, — вы с ума, что ли, сошли? Вы говорите с вдовствующей королевой таким тоном, словно состоите придворным наставником!
— Тсс! — шепотом ответил ему Брай. — Здесь и у стен имеются уши! Можете быть уверены, что я в точности исполняю данные мне инструкции, но меня очень порадовало, что вы в конце концов потеряли терпение, так как это могло дать вам единственную возможность снискать здесь благоволение.
Роберт не успел ответить ему что-либо, так как их позвали к королеве.
Мария Стюарт, которой было в то время только шесть лет, была окружена своими фрейлинами и с большим достоинством сидела на кресле, спинка которого была украшена короной.
Брай опустился на колени перед ней и передал свое поручение в таких утонченных выражениях, которые доказывали, что по отношению к вдовствующей королеве он умышленно выказал солдатскую резкость.
Во время его речи Мария Стюарт с любопытством посматривала своими хорошенькими детскими глазками на красивого пажа, когда же Брай кончил, она кивнула, словно почти не слушала сказанных им слов:
— Передайте регенту мой привет и скажите ему, чтобы он сам заехал и навестил меня!
Затем она встала, ласковым кивком головы поздоровалась с Робертом Сэрреем и сделала рукой знак, означавший конец аудиенции, с такой важностью, словно она давала уже сотни таких аудиенций.
— Славно отделались! — улыбнулся Брай, когда они с Робертом прошли в приемную. — Ну, что же, у вас будет отличная дружба со всем этим бабьем!
— Ладно, смейтесь теперь, когда вы мне испортили прием!
Брай повел плечами и шепнул Роберту:
— Говоря между нами, мне кажется, что регент хочет вызвать разрыв, потому что он приказал мне быть таким грубым и резким, словно я попал в логово бунтовщиков. Но здесь не все ладно. Заметили ли вы, как вдовствующей королеве было тяжело подчиниться требованию регента и с каким трудом она подавляла гнев? Здесь что-то происходит, и если вы хотите сохранить голову на плечах, то смотрите в оба!
Роберт удивленно посмотрел на стрелка и, улыбнувшись, произнес:
— Неужели вам кажется непонятным, что королева может требовать больше вежливости и почтительности, чем проявили по отношению к ней вы?
— Она сама вызвала меня на это, а ведь она знала, что я явился от имени графа Аррана. Прежде, в Стерлинге, она приказывала страже делать на караул, когда являлся гонец от графа, и приглашала его к столу. Я остаюсь при своем мнении, что бабье затеяло здесь интригу. Но пусть они все поберегутся! Регент не станет шутить с теми, кто замышляет измену!
Среди такого разговора они дошли до прихожей. Духовник уже поджидал их там и пригласил Брая освежиться чем-нибудь прохладительным. Но стрелок отказался, заявив, что должен немедленно отправиться обратно.
Сэррей проводил его до лодки. На прощание стрелок так сердечно поблагодарил Роберта за оказанную ему в пути помощь, что Сэррей простился с ним как с братом.
— Можете рассчитывать на меня, если вам когда-нибудь понадобится верный друг в нужде или опасности, — сказал стрелок. — Прощайте, сэр, и еще раз повторяю вам: смотрите, чтобы женская хитрость не обманула вашего честного сердца. Граф полагается на вас!
Они еще раз пожали друг другу руки, и челнок отчалил.
Позволим себе опередить всадников и провести, до их прибытия, читателя в замок Инч-Магом.
Старое, похожее на крепость строение находилось, как мы уже упоминали, на маленьком острове посредине озера. Зубчатые стены, украшенные гербами шотландских королей, мрачно отражались в ясных водах; эта крепость казалась скорее тюрьмой, чем убежищем, и у каждого, смотревшего на тяжелые железные ворота, за которыми шотландцы прятали свою королеву, невольно тоскливо сжималось сердце.
Марию Стюарт называли пока еще принцессой, хотя корона досталась ей уже в колыбели, и для будущности несчастного ребенка едва ли могло бы быть более зловещее предзнаменование, чем печальная необходимость, заставлявшая ее опекунов перевозить ее из одного замка в другой, из Линлитау, где она родилась, в Стерлинг, а оттуда снова в Инч-Магом.
Королева-мать, Мария Лотарингская, называвшаяся также Мария Гиз, дала своей дочери в воспитатели лордов Эрскина и Ливингстона. Что же касается придворного штата, то таковой состоял из девиц знатнейших семейств страны: Флеминг, Сэйтон, Ливингстон, Бэйтон, — которых называли «четыре Марии», так как все они носили имя Мария.
Несколько дней тому назад в замок прибыл посетитель, которого впустили ночной порой и отвели в отдельную комнату, что возбудило любопытство не только всех четырех Марий, но и всей прислуги. Бойкая Сэйтон пустилась подсматривать да подслушивать и рассказала подругам, что незнакомец очень хорошо одет и сам очень красив собой, что он без всякого сомнения — иностранец, так как говорит только по-французски и не понял старого Драйбира, кастеляна замка, когда тот посетил его, чтобы спросить, достаточно ли удобно устроился гость. Самой же интересной новостью было сообщение, что во время их разговора неоднократно произносилось имя Марии и что, наконец, сегодня был отправлен с курьером толстый пакет на имя графа Аррана.
Все четыре девушки ломали себе голову, что нового может внести в их жизнь это посещение, не удастся ли наконец уехать из этого скучного замка и снова перебраться в Стерлинг или даже в Эдинбург, причем строились самые пышные воздушные замки. Вдруг послышались звуки большого рога, возвещавшие о прибытии постороннего лица, и все четыре Марии бросились к окну, в полной уверенности, что это уже прибыл курьер с ответом, хотя он и отправился всего каких-нибудь два часа тому назад.
По озеру скользил маленький челнок и вскоре вернулся с двумя гостями, из которых один был одет в цвета графа Аррана, а другой, судя по одежде, был молодым дворянином.
Королева-мать вполголоса рассмеялась и насмешливо сказала:
— Графу, кажется, угодно шутить над нами, или он хочет напомнить нам о том времени, когда мы были окружены королевской свитой? Пусть наш духовник примет его послание, я не пущу его к себе на глаза.
— И мы тоже! — воскликнула одна из Марий, обращаясь к остальным, и Марии Сэйтон было поручено передать прибывшим распоряжение королевы.
Мария Сэйтон сияла прелестью шестнадцатой весны, и из ее прекрасных карих глаз сверкала веселая насмешливость. Она была самой старшей из подруг маленькой королевы, но там, ще дело шло о веселой шутке, не она проповедовала рассудительность и осмотрительность. К тому же ее преданность королеве не имела границ. Она очень серьезно смотрела на свои обязанности защищать интересы Марии Стюарт против всякого нарушения кем бы то ни было. Поэтому она не принадлежала ни к какой партии и не служила в сущности никому, кроме самой королевы, — ни королеве-матери, то есть французской партии, ни английской, которую представляли собой некоторые лорды, ни дворянской, к которой принадлежали родственники самой Марии Сайгон и граф Арран. Все эти партии хотели по-своему решить участь маленькой королевы и склонить к себе сердце ребенка, преследуя личные интересы.
Мы не можем утверждать, что Мария Сайгон проводила в жизнь определенный план, она просто инстинктивно чувствовала, что Мария Стюарт нуждается в защите, и готова была пожертвовать своей жизнью, лишь бы охранить ее. Никто даже не подозревал, как сильна была эта преданность в легкомысленной на вид и веселой девушке, и Мария де Гиз тем более доверяла ей и покровительствовала ее близости к дочери, что не подозревала о стремлениях Марии Сэйтон влиять на юную королеву.
Читатель легко угадает, что прибывшие незнакомцы были Сэрреем и Браем.
Роберт был ослеплен веселым и светлым видом Марии Сэйтон и почти не заметил, с какой насмешливой надменностью ответила она на его глубокий, почтительный поклон.
— Прекрасный господин! — заговорила она задорным, вызывающим тоном. — Ее величество королева-мать прислала меня сказать вашей милости, что она не может принять ваше посланничество и что с вас будет совершенно достаточно, если вы передадите духовнику о цели вашего приезда. Должна прибавить к тому же, что мне и всем остальным обитательницам замка очень больно, что мы не находим возможным встретить вас словами: «Добро пожаловать!»
В ее тоне была такая смесь самой злой иронии и грациозной ласковости, что Роберт не нашелся, что ответить. Зато Брай немедленно вывел его из затруднительного положения.
— Прекрасная девица, — сказал стрелок резким, повелительным тоном, — это я являюсь посланцем могущественного и благородного графа Аррана к королеве. Будьте любезны передать ее величеству, что я послан не к ее духовнику и поэтому, в случае, если не буду иметь честь быть принятым королевой, окажусь вынужденным вернуться обратно и доложить моему господину о таком приеме.
— А! — воскликнула Мария Сэйтон, — так посланец — вы, а этот молодой господин — только свита? Простите, господин стрелок, я немедленно передам слова вашего господина моей госпоже и прошу немного обождать здесь.
— Что за наглое создание! — пробормотал Брай, когда Мария скрылась в дверях, тоща как Роберт словно очарованный смотрел ей вслед. — Если она заставит нас прождать здесь слишком долго, то я думаю, нам лучше всего будет вернуться обратно, чтобы она могла узнать, кто тот человек, который один во всей Шотландии имеет право приказывать!
Должно быть, королева догадалась о настроении посланца, потому что Мария Сэйтон вернулась очень быстро, чтобы позвать стрелка.
Но она не упустила при этом случая кинуть задорное замечание:
— Простите, стрелок, что я узнала в вас телохранителя регента сначала по тону, а уже потом по камзолу. Но это произошло потому, что мы сидим здесь, словно арестанты, хотя несмотря на всех телохранителей и стрелков, королева не может безопасно переехать через озеро!
Брай не счел нужным отвечать ей, зато Роберт теперь обрел дар слова.
— Прекрасная девица! — сказал он. — Я рад узнать по вашему тону, как весело живут в этой тюрьме, а так как мне предстоит честь остаться здесь, то я вижу в этом немалое утешение.
— Вы собираетесь остаться здесь? — живо спросила Мария. — В качестве кого же? В качестве кастеляна замка или даже великого сенешаля? Пресвятая Дева! А мы даже не в полном парадном туалете, чтобы встретить вас!
Роберт не мог удержаться от смеха, хотя и чувствовал насмешку в ее словах, и это вызвало у Марии милостивый взгляд по его адресу.
— Ну! — улыбнулась она. — Я вижу, что мы с вами еще позабавимся. Вы, по крайней мере, не имеете такого мрачного вида, как этот почтенный гвардеец!
В тот же момент дверь открылась и на пороге появилась Мария Лотарингская.
Королева уже не была в расцвете молодости, Ведь до того, как Иаков V прибыл во Францию, чтобы просить ее руки, она стала вдовой герцога Лонгвильского. Теперь на ней был двойной вдовий траур, но благородство черт ее лица, носившего, несмотря на мягкость, отпечаток жестокости, заменяло увядшую свежесть.
Стрелок поклонился королеве ровно настолько глубоко, насколько того требовали приличия, и непринужденно подошел вплотную к ней, тогда как Роберт почтительно, остановился у дверей.
— Какое известие понадобилось графу Аррану передать мне, — спросила королева-мать, — раз он выбирает в свои посланцы даже не представителя знати?
— У графа нет ни свободного времени, ни охоты думать о таких мелочах, поэтому-то он и выбрал меня, — спокойно ответил Брай.
— Самого наглого, какого только мог найти. Передай мне то, что поручено тебе!…
— С удовольствием, я и сам собирался сделать это! — раздраженно произнес Брай. — Его светлость, граф, милостиво рекомендует вам пажа, которого он избрал для нашей обожаемой королевы, а вас настоятельным образом просит смотреть на Роберта Говарда, графа Сэррея, как на друга и любимца регента.
— И это — все? — горько рассмеялась Мария Лотарингская. — Скажи регенту, что я исполню его просьбу, несмотря на все нахальство его посланца. Скажи кастеляну, чтобы он дал тебе выпить чего-нибудь и червонец за твои труды. В самом деле, ты не мог бы ревностнее исполнить возложенное на тебя поручение, если бы дело шло о судьбе Шотландии!
Сказав это, она знаком руки отпустила Брая.
Но стрелок не повиновался этому приказанию.
— Ваше величество, — заявил он, — я прошу вас оказать мне честь видеть мою королеву, чтобы передать ей почтительнейшую просьбу моего господина.
— Это совершенно ни к чему, я сама передам ей просьбу графа.
— Извините, ваше величество, граф поручил мне лично передать его слова королеве!
Мария Лотарингская до крови закусила губы. Это спокойное бесстыдство доводило ее до бешенства, так как она чувствовала свое бессилие. Господином положения был именно граф Арран, и его слуги давали ей понять, что королева — не она, а ее дочь. С того момента, как после смерти своего супруга Мария Лотарингская напрасно домогалась регентства, она потеряла всякое влияние, так как победителем остался граф Арран, и парламент передал ему опеку и регентство. Таким образом, каждый мальчишка в его армии знал, что королева завидовала его могуществу.
Королева-мать дала знак, и Мария Сэйтон, поняв язык ее глаз, вышла, чтобы позвать Марию Стюарт.
— Стрелок, так как ты требуешь этого по поручению регента, то я попрошу сюда свою дочь, чтобы она своевременно узнала, что регент требует от нее послушания.
Мария Сэйтон вернулась обратно и доложила:
— Ваше величество! Королева просит передать, что она не желает видеть этого посланца. Если графу Аррану нужно что-либо сказать ей, пусть он явится лично.
Мария Лотарингская с торжеством улыбнулась, но стрелок не позволил так просто отделаться от него.
— Ваше величество! — сказал он. — Можете ли вы поручиться, что эта дама говорит правду и в точности передает слова королевы?
Кровь кинулась в голову гордой Сэйтон при этом оскорблении, которое показалось ей тем тяжелее, что она сознавала свою вину.
Королева на мгновение поколебалась в нерешительности, не зная, поручиться ли ей или еще раз унизиться. И тут на сцену выступил Роберт Сэррей, бывший до того момента немым свидетелемпроисходившего, и воскликнул:
— Вальтер Брай! Если вам нужно поручительство, то примите мою поруку! Я заявляю и готов подтвердить это мечом, что дама сказала правду!
Брай улыбнулся, казалось, что он давно уже ожидал вмешательства Роберта.
— Если дама примет ваше поручительство, — сказал он, то я очень сожалею о необходимости передать регенту, что окружающие королеву лица враждебно настроены против него, потому что иначе ему не дали бы такого оскорбительного ответа.
Сказав это, он сухо поклонился и сделал вид, будто собирается удалиться.
И королева, и Мария Сэйтон почувствовали, сколько угрозы заключалось в сказанных стрелком словах, и смущенно переглянулись. Но тут Роберт, заметивший их взгляд, быстро пришел к ним на помощь.
— Подождите-ка один момент, Брай! — крикнул он, а затем, подойдя к королеве-матери и преклонив колено, сказал: — Ваше величество! Быть может, вам удастся уговорить королеву все-таки принять этого воина, которому нужно только передать ее величеству уверения регента в преданности и представить ей меня!
Мария Лотарингская улыбнулась с удовлетворением, и теплый взгляд ее глаз был наградой Роберту за то, что он вывел ее из неприятного положения.
— Вежливую просьбу я всегда исполняю с удовольствием, — ответила она, — в особенности потому, что она служит мне порукой, что к моей дочери приблизятся подобающим образом. Мария Сэйтон, передайте королеве, что я прошу ее принять посланника регента.
С этими словами она вышла из комнаты.
— Скажите мне, Брай, — шепнул Роберт, как только они остались наедине, — вы с ума, что ли, сошли? Вы говорите с вдовствующей королевой таким тоном, словно состоите придворным наставником!
— Тсс! — шепотом ответил ему Брай. — Здесь и у стен имеются уши! Можете быть уверены, что я в точности исполняю данные мне инструкции, но меня очень порадовало, что вы в конце концов потеряли терпение, так как это могло дать вам единственную возможность снискать здесь благоволение.
Роберт не успел ответить ему что-либо, так как их позвали к королеве.
Мария Стюарт, которой было в то время только шесть лет, была окружена своими фрейлинами и с большим достоинством сидела на кресле, спинка которого была украшена короной.
Брай опустился на колени перед ней и передал свое поручение в таких утонченных выражениях, которые доказывали, что по отношению к вдовствующей королеве он умышленно выказал солдатскую резкость.
Во время его речи Мария Стюарт с любопытством посматривала своими хорошенькими детскими глазками на красивого пажа, когда же Брай кончил, она кивнула, словно почти не слушала сказанных им слов:
— Передайте регенту мой привет и скажите ему, чтобы он сам заехал и навестил меня!
Затем она встала, ласковым кивком головы поздоровалась с Робертом Сэрреем и сделала рукой знак, означавший конец аудиенции, с такой важностью, словно она давала уже сотни таких аудиенций.
— Славно отделались! — улыбнулся Брай, когда они с Робертом прошли в приемную. — Ну, что же, у вас будет отличная дружба со всем этим бабьем!
— Ладно, смейтесь теперь, когда вы мне испортили прием!
Брай повел плечами и шепнул Роберту:
— Говоря между нами, мне кажется, что регент хочет вызвать разрыв, потому что он приказал мне быть таким грубым и резким, словно я попал в логово бунтовщиков. Но здесь не все ладно. Заметили ли вы, как вдовствующей королеве было тяжело подчиниться требованию регента и с каким трудом она подавляла гнев? Здесь что-то происходит, и если вы хотите сохранить голову на плечах, то смотрите в оба!
Роберт удивленно посмотрел на стрелка и, улыбнувшись, произнес:
— Неужели вам кажется непонятным, что королева может требовать больше вежливости и почтительности, чем проявили по отношению к ней вы?
— Она сама вызвала меня на это, а ведь она знала, что я явился от имени графа Аррана. Прежде, в Стерлинге, она приказывала страже делать на караул, когда являлся гонец от графа, и приглашала его к столу. Я остаюсь при своем мнении, что бабье затеяло здесь интригу. Но пусть они все поберегутся! Регент не станет шутить с теми, кто замышляет измену!
Среди такого разговора они дошли до прихожей. Духовник уже поджидал их там и пригласил Брая освежиться чем-нибудь прохладительным. Но стрелок отказался, заявив, что должен немедленно отправиться обратно.
Сэррей проводил его до лодки. На прощание стрелок так сердечно поблагодарил Роберта за оказанную ему в пути помощь, что Сэррей простился с ним как с братом.
— Можете рассчитывать на меня, если вам когда-нибудь понадобится верный друг в нужде или опасности, — сказал стрелок. — Прощайте, сэр, и еще раз повторяю вам: смотрите, чтобы женская хитрость не обманула вашего честного сердца. Граф полагается на вас!
Они еще раз пожали друг другу руки, и челнок отчалил.
II
Когда Роберт обернулся наконец, то увидел в окне Марию Сэйтон, которая, покраснев, отскочила в сторону.
Она следила за ним. Было ли то знаком особого интереса к нему или простым любопытством? Подозрительно, во всяком случае, было то, что она покраснела, когда увидела, что ее заметили.
— Что за бойкая, хорошенькая девушка! — сказал кастелян Сэррею. — Но расскажите же мне Бога ради, как это регенту могло прийти в голову послать вас сюда? Вы, должно быть, натворили чего-нибудь, если он наказывает вас скукой?
Роберт дал уклончивые объяснения, потому что пытливость взглядов старика доказывала, что этот вопрос вызван злобным недоверием. Он попросил, чтобы ему указали комнату, так как устал и хочет отдохнуть.
Кастелян пришел в явное замешательство, хотя вопрос и казался в высшей степени естественным.
— Да, да! — сказал он. — Конечно, вам нужна комната… Но вы можете поселиться у меня, пока я не приготовлю ее вам.
— Ну, это только стеснило бы меня и вас. Дайте мне первую попавшуюся; вот, например, там кто живет?
Роберт случайно указал на флигель, и кастелян пришел в такое смущение при этом вопросе, что Роберт невольно подумал о предупреждениях стрелка.
— Там водятся привидения! — сказал кастелян после короткой паузы.
— Привидения? — спросил Роберт. — А, в таком случае здесь можно встретиться с приключениями.
Старик недовольно поглядел на него.
— Господин паж, — сказал он укоризненным голосом, — возможно, вы мечтаете пережить здесь какие-нибудь приключения. Но здесь все и каждый живут по строгим правилам, предписанным регентом ради безопасности замка. В девять часов вечера запираются ворота внутри, а наружные — уже с наступлением сумерек. Никто не смеет уехать с острова без разрешения вдовствующей королевы, у меня находятся ключи к замкам, которыми заперты кольца цепей, удерживающих челноки. Таким образом, если вы помышляете о приключениях, то их вам придется искать на том берегу.
— Я говорил относительно того привидения, о котором вы только что упоминали. А пока что отведите мне комнату в заколдованном флигеле.
— Это я не смею сделать, да и не сделаю, так как грех испытывать Господа. Однако вот звонит колокол, призывающий к столу. Вам пора отправиться к месту служения.
— А что мне делать?
Старик повел плечами.
— Если вы сами этого не знаете, — ответил он, — то я знаю еще меньше.
Сэррею начинало казаться, что в его новом местопребывании гораздо скучнее, чем он думал прежде. Когда он появился в большом зале к столу, то все лишь с любопытством и насмешкой поглядывали на него; он сам чувствовал, что лишний здесь, и его недовольство возросло до крайней степени, когда он услыхал, что в этом зале обедает только дворцовая челядь, тогда как августейшие хозяева только что кончили обедать.
Сэррей потребовал, чтобы его проводили к вдовствующей королеве. Ему ответили, что в это время она никого не принимает. Сэррей спросил, не может ли он поговорить с королевой, но ответом ему было то, что она никого не принимает без присутствия матери. Сэррей хотел поговорить хоть с кем-нибудь из фрейлин, но вошедший как раз в этот момент духовник, улыбаясь, заявил ему:
— Они все у королевы!
— Так что же, к черту, делать мне здесь! — воскликнул Сэррей, нетерпеливо топнув ногой об пол.
Духовник повел плечами, как сделал это перед тем кастелян, но не ответил ни слова.
Это окончательно вывело Сэррея из себя. Он подошел к кастеляну, сидевшему во главе стола, и попросил у него, чтобы тот уделил ему несколько секунд внимания.
— После обеда! — ответил кастелян, даже не обернувшись в его сторону.
Сэррей хлопнул его рукой по плечу и крикнул:
— Встать, сейчас же! С меня довольно всех этих фокусов! Сейчас же доложите обо мне королеве и скажите ей, что я прошу или обходиться со мной соответственно моему рангу, или отпустить меня!
Кастелян не ожидал подобной выходки, а так как гордое, угрожающее выражение лица юноши доказывало ему, что тот может решиться в этот момент на все, он встал, но глаза его метнули взгляд смертельной ненависти, когда он сказал:
— Господин паж, я пойду к королеве, но только затем, чтобы спросит ее, обязан ли я повиноваться какому-то пажу, и если да, так пусть она снимет с меня мою должность и вручит ее тому, кому будет охота подвергать себя дерзостям первого встречного английского…
Последнее слово он проглотил, так как Сэррей схватился за меч.
— Поглядите-ка, — обратился кастелян к духовнику и дворцовой челяди, — господин паж изволит грозить мечом в резиденции королевы! В мое время всякий, кто обнажал в королевском замке меч, лишался правой руки, которую ему отрубал палач.
— А в наше время, — возразил ему Сэррей, — каждый лишится головы, кто осмелится выместить свою злобу на регента на том, кого он почтил своими поручениями!
— Довольно ссориться! — вмешался духовник, сделав кастеляну знак подавить в себе желание ответить резкостью, — Господин паж! Может быть, вы и правы, но вам все-таки следовало бы с большим уважением относится к старости. А вы, — повернулся он к кастеляну, — должны были бы быть поумнее и не раздразнивать из пустяков вспыльчивость молодого человека. Позднее я сам буду у вдовствующей королевы и расскажу ей, что видел и слышал здесь.
При этом он выразительно посмотрел на кастеляна, и Сэррей, поймавший этот взгляд, убедился, что духовник будет говорить далеко не в его пользу. Но это нисколько не обеспокоило его. Самое худшее, что могло с ним случиться, это увольнение из замка, а теперь он желал этого, пожалуй, гораздо больше, чем исполнения прежнего желания служить королеве, так как тот факт, что его не пригласили к столу, ясно показывал, что никто не думал быть с ним приветливым, как он рассчитывал.
В досаде Роберт отошел к окну и стал там поджидать возвращения кастеляна. Его взор случайно упал на флигель дворца и вдруг ему показалось, будто одна из тяжелых шелковых гардин зашевелилась.
Так как окна были заперты, то это движение могло произойти только благодаря сквозняку от открытых дверей.
Флигель, примыкавший к правому углу замка, непосредственно соединялся с покоями вдовствующей королевы. Роберт скользнул взором по веренице окон и в одном из них, выходившем на угол, заметил быстро промелькнувшие тени.
Если во всякое другое время такое наблюдение показалось бы ему неважным, то тем большую важность он придал ему в данный момент, когда в его мозгу проносились всякие подозрительные мысли. Замешательство кастеляна, когда Роберт попросил у него комнату во флигеле, было совершенно очевидным, так как ему должно было быть совершенно безразлично, станут или нет тревожить Сэррея привидения.
Манера, которой встретила Мария Лотарингская графского посланца, и ее стремление избежать открытого разрыва, точно так же доказывали неопределенность ее положения, что само по себе вызывало сомнения. А тот факт, что его, Роберта, не пригласили к столу, мог означать собой только желание обсудить за обедом кое-какие вопросы, которые нельзя было затрагивать в его присутствии.
«Ладно же! — подумал Сэррей. — Во мне боятся врага, шпионя графа Аррана. Сегодня мне открыто показывают недоверие и оскорбительное невнимание, даже не дав себе труда испытать меня!… Так пусть же узнают, что мной не приходится пренебрегать, как другом, а как врага — следует бояться! По крайней мере этой красивой, веселой девушке не придется высмеивать меня!»
Когда кастелян вошел в комнату королевы, то застал там фрейлин за веселой болтовней и шутками. Веселая игра была прервана, в первый раз с тех пор, как королевская семья жила в Инч-Магоме, кастелян явился с жалобой и торжественно испрашивал аудиенции у королевы. Мария Флеминг отправилась к вдовствующей королеве, а кастелян стал с гневом рассказывать маленькой королеве и ее фрейлинам, как дерзкий дворянчик потребовал его к ответу по поводу того, что его не пригласили к королевскому столу, как тот приказал ему встать со стула и взялся за меч, когда он стал уверять юношу, что он здесь ни при чем.
Мария Сэйтон расхохоталась и хотела обратить все это в шутку, но маленькая королева почувствовала себя оскорбленной в своем достоинстве и обещала кастеляну заступиться за него.
В этот момент дверь открылась, и появилась королева-мать с Марией Флеминг и духовником. Ее лицо было очень серьезно, и по ней было видно, насколько она была возбуждена.
— Вы были сегодня свидетельницами, — обратилась она к фрейлинам, когда кастелян кончил свой рассказ, — с каким бесстыдством этот подлый мужик позволил себе показать мне, что я, мать королевы, лишена всякой власти. Паж, которого нам послал регент, был вежливее, но этим он только доказал свой ум, так как просто хотел вкрасться к нам в доверие, чтобы лучше шпионить. Регент догадывается, что я не могу больше выносить такое невозможное положение и смотрю во все стороны, не найду ли где-нибудь поддержки, с помощью которой смогу выйти из него. Я убеждена, что моя дочь считает меня своей лучшей советницей, поэтому я и предприняла некоторые шага. И если они даже и не дадут нам никаких результатов, то от этого не будет хуже; если же задуманное удастся мне, то навсегда избавит от тирании регента. Быть сообщниками моих планов очень опасно, и я хотела сначала скрыть их от вас, но прибытие этого шпиона заставляет меня посвятить в них и вас. Могу ли я рассчитывать на вашу преданность и верность королеве?
Все четыре Марии принялись горячо уверять, что они только и желают того, чтобы иметь возможность на деле доказать свою преданность.
— Хорошо же, — продолжала Мария Лотарингская. — Так слушайте! Я заявила регенту, что здоровье королевы требует перемены климата. Регент не воспротивился открыто тому, чтобы в случае необходимости двор королевы переехал во Францию, но он медлит с этим и будет медлить, сколько ему покажется возможным. Я имею основание предполагать, что он хочет просто выждать время, когда победы англичан сделают невозможным бегство королевы. Вполне в его интересах держать нас как можно долее в этом погребе. Я снова повторила свое представление, но тем временем вступила в непосредственные переговоры с французами. Сюда во дворец тайно прибыл доверенный моего брата, герцога Гиза, и если от регента последует уклончивый ответ, то в мои планы входит устроить бегство дочери помимо разрешения. Появление здесь этого пажа весьма подозрительно. Совершенно ясно, что он должен просто наблюдать за всем происходящим; регент не хочет возбудить нашу подозрительность, так как иначе он послал бы кого- нибудь позначительнее. Но все поведение этого пажа ясно доказывает, что он опирается на поддержку. Очень может быть, что на том берегу озера сосредоточены графские войска, которые немедленно примчатся сюда по его вызову. Вот почему нам приходится торопиться с приведением нашего плана в исполнение ранее того, как шпион заподозрит, что у нас что-то затевается. Мария, скажи мне, доверяешь ли ты своей матери и готова ли ты сегодня же ночью бежать отсюда со мной?
Девочка схватила руку матери и поцеловала ее. фрейлины разразились криками радости, уже от мысли переменить скучную жизнь в Инч-Магоме на блестящий праздник парижского двора их глаза засверкали, и они заявили, что готовы на все.
Мария Лотарингская засмеялась довольным смехом, хотя, правду сказать, и не ожидала ничего другого. Она открыла дверь, и оттуда появился элегантный мужчина во французской одежде. В сопровождении духовника он подошел к королеве и склонил колена перед Марией Стюарт.
— Это — граф Монгомери, посланник дофина Франции, — сказала дочери Мария Лотарингская. — Он приносит тебе уверения в преданности своего повелителя.
Мария Стюарт протянула графу свою крошечную ручку. Тот поднес ее к своим губам, а затем встал и поклонился всем прочим дамам.
— Как вы думаете, граф, — начала вдовствующая королева, — могли бы мы уже сегодня решиться на побег?
— Ваше величество! Мой двоюродный брат, Андрэ Монталамбер, барон д’Эссе, находится с многочисленным флотом и десантом в заливе Форт. Стоит только королеве вступить на французский корабль, как она станет французской принцессой крови и миллионы людей будут готовы встать на ее защиту. Но бегство до моря мало еще подготовлено, так что я не могу ни за что поручиться.
— Но ведь вы слыхали, граф, что регент навязал нам наблюдателя, и можно ожидать, что он примет меры, которые сделают бегство невозможным, если только мы разбудим его подозрения. Сегодня бегство еще может быть осуществимо, а через несколько дней оно может стать невозможным!
— Ваше величество! Я готов рискнуть на все, но не могу ни за что поручиться. Если бы я смел дать вам совет, то рекомендовал бы вам под каким-нибудь предлогом арестовать шпиона, пока я съезжу в Дэмбертон и приведу с собой надежных людей!
— Ну, а если тем временем от регента прибудет новый гонец? Если этот паж заподозрит что-либо?
— Ваше величество! — вставил свое слово кастелян. — Да он уже очевидно заподозрил что-то. Он потребовал, чтобы я отвел ему комнату во флигеле, куда мы поместили его сиятельство, графа Монгомери. Если бы я смел дать вам совет…
— Ну? — спросила вдовствующая королева, когда кастелян запнулся.
— Ваше величество! Ведь дело идет о счастье королевы, а в сравнении с этим жизнь какого-то англичанина представляется слишком незначительной. Позвольте мне арестовать его, тогда я буду в состоянии поручиться, что он не предаст нас никогда!
— Убийство? — ужаснулась Мария Сэйтон, тогда как королева-мать, казалось, взвешивала предложение. — Ваше Величество, мне кажется такого ужасного средства совершенно не понадобится. Правда, прибытие сюда пажа очень подозрительно, но ведь он так молод, почти мальчик, и было бы очень нелестно для нас, если бы мы, четыре девушки, не сумели шутя перехитрить его. Разве вы не обратили внимания, как он вспыхнул гневом, когда стрелок оскорбил меня? Мне пришлось перекинуться с ним лишь несколькими словами, но я убеждена, что это — честный человек!
— Мария Сэйтон воображает, будто покорила его сердце! — саркастически улыбнулась Мария Лотарингская. — Средство, предлагаемое нам кастеляном, кажется мне куда вернее. Что вы скажете об этом, ваше преподобие? — обратилась она к духовнику. — Разве можно назвать убийством, когда насилием отражаешь насилие?
— Ваше величество! — ответил священник. — Очень многим людям предназначено умереть во имя счастья королей. Кто хочет остановить колесо событий, тот разрывается им на куски. Не напрасно вручен меч начальствующим лицам, а поднявший меч от меча и погибнет. Он взялся за меч, вы же представляете здесь начальствующее лицо, поставленное Самим Богом, и единственное ваше слово может стать его карающим роком!
— Прикажите людям вооружиться, кастелян! — приказала Мария Лотарингская.
Но Мария Сэйтон бросилась к ее ногам и принялась умолять:
— Ваше величество! Не выносите такого поспешного приговора! Ведь я была его обвинительницей, я рассказала вам, как сердечно он пожимал на прощанье руку. Я пробудила недоверие к нему, и я одна буду виновата в его смерти! Мария! — обратилась она к королеве. — Попросите хоть вы за меня, если вы любите меня! Не позволяйте оросить путь вашего спасения невинной кровью!
— Ну, конечно, к чему умирать! — воскликнула Мария Стюарт. — Ведь он такой хорошенький!
— И очень возможно, что он держал себя так вызывающе только потому, что в нем заговорила оскорбленная детская гордость! — вмешался в разговор также Монгомери. — Я вполне разделяю взгляд юной леди и думаю, что было бы гораздо лучше связать его взглядом прекрасных глаз, чем цепями. Ведь прекрасные глаза могут сделать что угодно с молодым сердцем!
Мария Сэйтон стыдливо покраснела. Она, быть может, только в этот момент почувствовала, какую жертву приносит Сэррею тем, что, отдавшись благородному порыву, просит оставить ему жизнь.
— Хорошо, я уступаю! — раздраженно ответила вдовствующая королева. — Я не знала, что этот паж так быстро завоюет здесь сердца. Но можете ли вы поручиться мне, леди Сэйтон, за него?
— Ваше величество! Как же я могла бы сделать это?
— Граф Монгомери дал вам намек, как это сделать, если вы сами действительно не знаете этого! — с горьким сарказмом ответила ей вдовствующая королева. — Но так как возможно, что прекрасные глаза переоценивают могущество своих чар, могу только рекомендовать вам, кастелян, величайшую осторожность.
Мария Сэйтон поднялась с колен и с горделивым сознанием своего достоинства и вся красная от гнева произнесла:
— Ваше величество! Мне кажется, что меня не так поняли здесь, но если дело касается услуги королеве, то я не вижу никакого стыда в том, чтобы разыграть роль кокетки. Я согласна поручиться за нового пажа, так как убеждена, что он — слишком безвредная личность. Но при этом я должна просить об одном, что мне кажется существенно необходимым. Вы требуете, чтобы я пощекотала его честолюбие, но для того, чтобы это могло удастся, никто не должен оскорблять его самолюбие, так как это могло бы только разрушить всякое действие моего обращения с ним. Мне кажется, что будет очень веселой и забавной игрой одурачить его, благодаря его же собственному тщеславию. Он все еще ждет ответа и удовлетворения, так я прошу, чтобы его не раздражали более.
— План очень хорош! — рассмеялся Монгомери. — Назначьте его комендантом дворца, начальником ваших десяти солдат. Это раздует его гордость, а несколько обещающих взглядов прекрасной леди погрузят его в сладчайшие сны. Я же тем временем понесусь в Дэмбертон и приведу с собой оттуда подмогу.
Мария Лотарингская принужденно улыбнулась. Гордой представительнице рода Гизов не нравилось соединять такое важное дело с шуткой, но ей пришлось уступить.
— Ну, так позовите его сюда, кастелян! — сказала она. — Вы же, граф, воспользуйтесь этой ночью и поезжайте с Богом!
— Ваше величество! — тихо сказал кастелян, когда граф простился с вдовствующей королевой. — Неужели вы серьезно хотите, чтобы паж оставался на свободе? Тогда я прошу освободить меня от моих обязанностей, прежде чем позовут его сюда!
— Вы — дурак, Дрейбир! — шепнула ему Мария Лотарингская. — Если я и требую, чтобы вы перенесли оскорбление от этого молокососа, то ведь этим еще не говорю вам, чтобы вы отказывались от мести. Верные слуги действуют не спрашиваясь!
Кастелян склонился перед королевой и вышел из комнаты, причем Мария Сэйтон отлично заметила, какая злобная улыбка исказила его черты.
III
Тем временем Роберт Сэррей почти потерял всякое терпение. Когда наконец кастелян вернулся и с глубоким поклоном заявил, что вдовствующая королева ждет его, то под маской преувеличенной вежливости Роберт инстинктивно угадал лицемерие.
— Вы очень переменились, сэр! — сказал он. — Если вы получили выговор, то мне это весьма прискорбно. На честный гнев я отвечаю тем же, но доносчиком никогда не был.
Сказав это, он протянул старику руку.
Но тот ответил только поклоном.
— Значит, враги? — раздраженно улыбнулся Сэррей и зашагал вперед.
— Боже упаси меня быть вашим врагом! — ответил кастелян. — Я — ваш слуга, только слуга.
Когда Роберт вошел в покои королевы, то ему тоже пришлось обратить внимание на перемену в обращении, которая поразила его уже у кастеляна. При его появлении фрейлины поднялись с мест, однако в этой почести заключалось что-то до того неуловимо насмешливое, что он покраснел.
— Граф! — сказала вдовствующая королева. — Простите, что мы не оказали по отношению к вам той внимательности, которую должны были бы проявить, как к человеку, находящемуся под особым покровительством регента. Но то, что он увеличивает наш придворный штат, представляется необычной и неожиданной внимательностью с его стороны, к которой мы, к сожалению, совершенно не были подготовлены. Кастелян отведет вам комнату, какую вы только пожелаете. Вам предоставляется полная свобода появляться за нашим столом и оказывать королеве пажеские услуги, когда вам это заблагорассудится, так как мы не решимся распоряжаться тем, кто получил от регента непосредственные приказания!
Разумеется, ничего не смогло быть более уничтожающего и оскорбительного для молодого человека, как получить подобный ответ на свой надменный дебош. Все его желания спешили исполнить и шли даже гораздо дальше, так как Мария Лотарингская предоставляла ему самому назначить, какую именно службу хотел бы он нести. Это было издевательством или злобным недоверием, которое исходило как раз от тех, кому он хотел посвятить всю свою жизнь до последней капли крови!
Сэррей хотел ответить, но Мария Лотарингская так гордо и высокомерно дала понять, что аудиенция окончена и он отпускается, что весь красный от стыда Роберт глубоко поклонился ей и с болью в сердце вышел из покоев.
— Какую комнату прикажете приготовить вам, ваша милость? — спросил кастелян, когда из-за двери донеслось тихое фырканье.
— Какую хотите. На эту ночь достаточно будет охапки соломы.
— Я прикажу приготовить для вас парадные комнаты правого флигеля, если вы действительно не боитесь привидений!
Сэррей ничего не ответил, он кивнул в знак согласия головой, даже не разобрав как следует, что спрашивал кастелян. Он поспешил выйти на воздух, так как бешенство и стыд переполняли его душу. Он бросился на прибрежный дерн у озера и стал смотреть на голубые волны.
Сначала пренебрежение, затем злобное издевательство — так вот какой прием ждал его в Инч-Магоме!
А как должны были смеяться красивые глазки Сэйтон над тем, что мальчишка потребовал удовлетворения от королевы!…
— Нет, нет! — вырвалось у него вслух. — Лучше стать простым рабочим в клане какого-нибудь лорда, чем быть здесь шутом насмешливых баб!
Вдруг Сэррея пробудил от этих мыслей какой-то шум. Он обернулся и увидел, что перед ним была Мария Сэйтон.
Юноша вскочил и в стыде и смущении потупился, догадавшись что она услышала его возглас. Однако во взгляде молодой фрейлины теперь не было ни малейшей насмешки. Ей достаточно было только взглянуть на него, чтобы отгадать, что он пережил.
— Роберт Говард! — шепнула она. — Ведь вы — не предатель?
Сэррей посмотрел на нее и вдруг почувствовал себя во власти этого нежного голоса и взгляда этих прекрасных глаз, которые смотрели на него хотя и испытующе, но с полным доверием…
Он схватил Марию за руку и сказал взволнованным, дрожащим голосом:
— Леди! Вы будете для меня спасительным ангелом, если хоть немного проникнетесь доверием ко мне, так как тогда я вновь обрету надежду. Да, да, я хотел нарушить данное слово и бросить этот замок, потому что чувствовал, что меня считают здесь негодяем. Но чем же я заслужил те издевательства, которыми меня здесь встретили?
Мария тихонько выдернула у него свою руку, но горячность сказанных им слов и мучительная правдивость его упреков так потрясли ее, что она забыла ту роль, которую собралась разыграть. И она заговорила и ним с такой же откровенностью:
— Роберт Говард, я была виновата в том, что вам не доверяют, да и вы сами тоже! Вы видели, с какой вызывающей дерзостью стрелок обращался к вдовствующей королеве, одно мгновение казалось, что вы, взбешенный этим, хотите встать на сторону слабейших. Но через несколько минут я видела, что вы шли по берегу под руку с этим бессовестным. Так разве не должны мы были подумать, что вы остались с нами только для того, чтобы еще хуже оскорбить королеву, чем это сделал наглый солдат, что вы своим оружием избираете не откровенную резкость, а предательскую маску преданности?
— Клянусь Богом, — ответил Роберт, — я не понимаю этого, если только вы не хотите сказать, что граф Арран — враг вдовствующей королевы. Придумывать ловушки? Приготовлять новые оскорбления? Леди, будьте добры, объясните мне все это! Я, разумеется, заметил, что граф страшно ревниво жаждет быть первым слугой королевы и боится, как бы королева-мать не измыслила каких-нибудь честолюбивых планов, заботясь об этом, он обходится с ней слишком необдуманно. Но клянусь честью, я не стал бы служить ему, если бы сомневался, что он — человек чести и верен своей королеве!
— Вы сами высказали то, что хотите узнать от меня, — улыбнулась Мария. — Честолюбие графа совершенно противоположно по интересам честолюбию вдовствующей королевы. Таким образом, самое важное заключается в том, чтобы отдать отчет: чьи планы принесут королеве больше пользы. Поэтому-то мы и предпочитаем королеву-мать регенту.
— И поэтому третируете его слуг, как негодяев?
— Этого никто не делал, Сэррей!
— Леди, мой брат, благородный граф Сэррей, был убит Генрихом Восьмым, так как не потерпел унижения своего герба. С помощью графа Варвика я ускользнул от мести убийцы, и граф дал мне рекомендацию к регенту Джеймсу Гамильтону графу Аррану. Он подал мне руку помощи и взял к себе на службу. Я не давал ему никаких других обещаний, кроме обещания честно служить королеве и не изменять его доверию. Если бы он потребовал от меня, чтобы я играл здесь сомнительную роль, я стал бы искать другого убежища. Я надеялся, что буду в силах посвятить всю свою жизнь службе властительнице, которая преследует убийцу Екатерины Говард; я вложил в эту надежду все свое честолюбие, и что же я вижу? Меня встречают как врага, как шпиона! Вы упрекаете меня в том, что я сердечно простился со стрелком. Ну, что же, я доверю вам секрет, который принадлежит ему. Его невесту тяжко оскорбили, и я помог ему отомстить за нее. Общая опасность, которой мы подверглись, сблизила нас, я узнал храбрость и благородство мыслей этого человека, постигшее его несчастье пробудило во мне участие к нему. Я пошел против него, чтобы помешать ему оскорбить вас, я потребовал от него объяснений, и мне пришлось замолчать, когда он ответил мне, что только следовал данным ему инструкциям, позволив себе держать себя настолько вызывающим образом. Должен ли я был упрекать его в том, что лежало на совести графа? Но я не принял бы на себя поручения графа Аррана, если бы оно было дано мне вчера.
— Значит сегодня вы могли бы так же грубо обойтись с беззащитными женщинами?
— Леди, женщины уже не беззащитны, раз издевательство служит им оружием.
— Что же делать, если граф Арран не оставил нам ничего другого!
— Вы хотите сказать: вдовствующей королеве, леди? Но ведь граф — регент государства и является ответственным за безопасность королевы. Говорят, будто в полном ходу какие-то хитрые интриги, целью которых является выдача королевы Марии Стюарт англичанам или французам. Это делается якобы для того, чтобы королева-мать Мария Лотарингская могла получить регентство, так как жажда власти настолько сильна в ней, что она не остановится даже перед счастьем дочери, только бы вырвать власть из рук графа Аррана!
— Точно также, как и, наоборот, сам граф не побрезгует никакими средствами, чтобы удержать эту власть в своих руках! — подхватила Мария Сэйтон. — Я вижу, что мы с вами не придем к соглашению: вы служите графу, я же — королеве-матери. Мы — враги, вы присоединяетесь к сильнейшей партии!
— Леди, я принадлежу к ней только в силу взятых на себя обязательств. Если бы, например, сегодня я мог выбирать, то, может быть, в партии королевы-матери для меня был бы более притягательный пункт, чем тот, который может разбудить самое смелое честолюбие!
— Теперь уже поздно, — улыбнулась Мария, слегка покраснев под пламенным взглядом юноши. — Но я довольна уже и тем, что вы хотите быть открытым, честным врагом. Правда, вам благодаря этому придется лишиться некоторых незначительных развлечений, которые при других обстоятельствах вы могли бы найти в общении с моими подругами. Ведь нам надо быть осторожными, нам нужно хорошенько беречь от вас свои тайны, чтобы вы не выдали их графу Аррану. Когда вы будете появляться у нас, то нам придется воздержаться от шуток и смеха. И в Инч-Магоме станет еще скучнее, чем прежде, потому что вдобавок к этим ужасным стенам, стеснявшим нас, к нам прибыл еще и наблюдатель, который будет следить за нами!
Сэррей был очарован этой любезной веселостью, но он был слишком умен, чтобы не разгадать под легким подразнивающим тоном обмана.
— Леди, — сказал он, — если бы я имел поручительство, исходящее из таких прекрасных, как ваши, губок, в том, что здесь не куют интриг против регента, то этот наблюдатель превратился бы в самого добродушного пажа, который был бы счастлив стать мишенью насмешек прелестных фрейлин!
— Ага! — засмеялась Мария. — Вы собираетесь вступить в переговоры? Нет! — воскликнула она с кокетливым поклоном, но от Роберта не ускользнул и недоверчивый взгляд. — Нет, вы объявили нам войну, и поэтому мы только тоща можем вступить в переговоры, когда кто- нибудь из нас победит. Но я хочу только дать вам добрый совет. Вы оскорбили кастеляна замка. Будьте осторожны, это — очень хитрый человек.
— Благодарю вас за предупреждение. Но еще раз, кроме всяких шуток, позвольте мне вступить с вами в переговоры еще до начала войны. Ведь я был бы неутешен, если бы мне пришлось оказаться победителем и вы рассердились бы на меня за это!
— Тогда заранее сдавайтесь, господин паж!
— Этого я не смею!
— Ладно же, господин, паж, мы тоже очень упрямы, но менее, чем вы. Желаю вам веселиться побольше! Мне нужно идти к королеве, так как темнеет, ну а вы, наверное, захотите осмотреть валы и ворота. Смотрите повнимательнее, не роем ли мы где-нибудь подкопов и не подпиливаем ли где-нибудь решеток!
Мария, смеясь, простилась с Робертом и исчезла в воротах, которые вели во внутреннюю часть замка.

Глава пятая
МАРИЯ ЛОТАРИНГСКАЯ

I
 Кастелян отвел пажу комнаты, находившиеся в том самом флигеле, где, как он уверял, водились привидения. Окна комнат находились в десяти футах от земли и были, как и большинство окон в замке, защищены железными решетками. Когда Роберт, вскоре после того, как расстался с Марией Сэйтон, явился в свою комнату, то слуга кастеляна принес ему кружку сваренного на кореньях вина, так называемого ночного напитка, а затем, поставив на дубовый стол тяжелые серебряные подсвечники со свечами, спросил, не будет ли еще каких-либо приказаний. Сэррей отпустил слугу, заметив при этом, что он сильно устал. Затем задернул занавеси на окнах, словно собираясь ложиться спать, погасил через несколько минут свечи, после чего, сменив тяжелые ботфорты на шелковые ночные туфли, подошел к окну и раздвинул гардины настолько, чтобы иметь возможность заглянуть сквозь них. Какое-то предчувствие говорило ему, что, быть может, уже сегодня произойдет что-либо и что именно в эту ночь, когда все будут думать, что он захочет отдохнуть с дороги, ему представится возможность разузнать, что представляет собой это привидение во флигеле замка.
Его окна выходили во внутренний дворик и через них он мог видеть окна королевской комнаты, где был сегодня. Наступил вечер, но все-таки комнаты не были освещены. Ворота были заперты, и казалось, что замок словно вымер.
Такая тишина в столь ранний час казалась зловещей и странной.
Сэррей взял свою шпагу, засунул за пояс кинжал и тихо отворил дверь в прихожую, собираясь сделать обход, чтобы выяснить, что замышлялось под покровом этой тишины. Он прислушался и выглянул в дверь коридора. Однако и здесь царила такая же тишина… Тогда Роберт тихо открыл дверь, бесшумно выскользнул на цыпочках, тихонько спустился по лестнице и вышел на двор.
Там он сделал несколько шагов, прячась в тени от стены, и потом осмотрелся по сторонам.
Комнаты флигеля, находившиеся над его комнатами, были ярко освещены, и луч света проникал сквозь спущенные тяжелые гардины окон.
Это удивило Сэррея; ведь кастелян уверял, что в этом флигеле никто не живет!…
Вдруг Роберт увидел, что мимо него проскользнули две фигуры, и он был убежден, что то были духовник и какой- то другой мужчина. Значит, там происходило что-то, что хотели скрыть от него!
С сильно бьющимся сердцем Сэррей проскользнул обратно в дом, бесшумно взобрался по лестнице, попал в коридор и на мгновение остановился здесь прислушиваясь.
Наверху открылась дверь.
Роберт спрятался в нишу под лестницей.
Какой-то мужчина осторожно спустился по лестнице, подошел на цыпочках к двери комнаты, где он помещался, и запер ее, а затем вернулся и тихо поднялся опять по лестнице.
Роберт последовал за мужчиной и, когда последний добрался до верхней ступеньки, услыхал тихий смех, по которому сейчас же узнал Марию Сэйтон.
Роберт приложил ухо к двери комнаты, откуда доносился смех.
— Нет, это великолепно! — промолвила Мария Сэйтон. — Я боюсь только одного, что он совсем не проснется, и мы напрасно оденемся в эти саваны. Но какая отличная комедия получится, когда храбрый молодчик будет рваться к решеткам и не сможет выбраться из комнаты, чтобы совершить геройские деяния! Но обещайте мне, кастелян, что тогда, когда челнок счастливо переберется через озеро, вы позволите нам шуметь, словно настал час Страшного Суда. А когда он выбьется из сил в желании взломать дверь и начнет кричать и ругаться в окно, тогда вы тихо отопрете дверь и дадите ему возможность приступить к погоне за привидениями. Ведь он не знает ни ходов, ни ковровых дверей. Мы уж помучаем его досыта! Если он примется догонять меня, тогда Флеминг начнет высмеивать его, а если он станет преследовать Марию Бейтон, то замогильный голос Ливингстон примется вышучивать его.
— А в конце концов мы устроим так, чтобы он свалился в погреб, пусть постынет там до завтрашнего утра! — засмеялась Флеминг.
— Мы же примемся танцевать наверху танец привидений! — фыркнула Сэйтон.
— Глупые девочки! — сказала Мария Лотарингская. — Я не хочу вам портить шутку над этим высокомерным мальчишкой, но смотрите, не браните меня потом, если она вызовет серьезные последствия. Если этот кичливый паж заподозрит что-либо, то не останется больше ничего иного, как заставить его онеметь навсегда, так как Арран скоро разгадает нашу игру!
— Ваше величество! — возразила ей Мария Сэйтон. — Право же, он совсем не так плох. Если бы он не был связан своим словом быть верным графу, он был бы для нас самым потешным и добродушным оруженосцем на свете!
— Мария Сэйтон с такой теплотой говорит о паже, — строго промолвила вдовствующая королева, — что я начинаю подозревать, не дорожит ли она гораздо больше его жизнью, чем благом моей дочери.
— Ваше величество! Как истинная Сэйтон, клянусь вам! Я отношусь к нему сочувственно только потому, что верю, что это вполне заслужено им. Но я не остановился бы перед тем, чтобы воткнуть ему кинжал в самое сердце своей рукой, если бы он служил помехой к спасению королевы. Но в то же время я искренне признаюсь, что мне причинило бы большое горе, если бы ему напрасно сделали бесполезное зло!
Услышав эти слова, Сэррей почувствовал лихорадочное сердцебиение. Эта милая девушка могла бы любить его, а ему придется только восстановить ее против себя, если он будет исполнять то, что предписывает ему долг.
— Пора! — раздался из комнаты решительный голос королевы. — Дрейбир, проводите графа и откройте ему ворота! На всякий случай велите завесить окна снаружи, чтобы тот ничего не увидел, в случае, если он все-таки будет подглядывать или проснется от шума. Ты же, Мария…
Дальнейшие слова Сэррей не мог расслышать, так как голос королевы понизился до глухого шепота.
Роберт услышал только тихое побрякивание оружия — значит, готовились пустить в ход насилие. Вероятно, гарнизон замка подкуплен королевой-матерью, так как иначе им не могло бы удастся проведение намеченного плана, И Роберт решил удостовериться в этом.
Он торопливо поднялся по лестнице еще выше, прошел во второй этаж, и нашел лестницу, ведшую на зубцы замка. Там он увидел часового-стрелка, лежавшего на сигнальной пушке, которой можно было поднять тревогу.
Часовой спал. Сэррей потряс его за плечо, но он не проснулся. Значит, часового усыпили каким-нибудь снадобьем!…
Роберт осмотрел пушку и убедился, что она заряжена. Значит, было вполне в его власти в крайнем случае поднять тревогу в замке и в окрестностях.
Он посмотрел на внутренний двор и увидел кастеляна, который выпускал из ворот какого-то мужчину. Королевы с ними не было. Перед дверью выстроилась толпа каких-то фигур, закутанных в белые покрывала.
Сэррей выскользнул за дверь. Когда в темноте он спустился по лестнице, которая вела во двор, то по ней поднималась как раз одна из этих белых фигур.
— Все удалось, — зашептал милый голосок Марии Сэйтон, — паж спит как сурок. Но теперь мы разбудим его.
— Ни звука, Мария Сэйтон! — шепнул ей Роберт, хватая ее за руку, а другой зажимая ей рот. — Следуйте за мной, если вам дорога жизнь, или произойдет большое несчастье!
— Говард! — узнала его фрейлина, и он почувствовал, как все тело девушки задрожало от испуга.
— Лучше добровольно следуйте за мной, — шепнул он, — клянусь Богом, это лучшее, что вы можете сделать.
Они добрались до зубцов. Сэррей запер дверь и задвинул железный засов.
— Теперь, — сказал он, — победитель — я! Я не только не попал в погреб, но стою около заряженной сигнальной пушки. Кроме того, здесь у меня арбалет часового, а стреляю я метко… Говорите же, кто это бежит отсюда!?
Мария поняла, что он подслушал их разговор.
— Делайте что хотите, — сказала она, кидая на него взгляд, полный холодного презрения. — Вы — пронырливыйчеловек, и я ненавижу вас, как злейшего врага!
Сэррей подошел к брустверу и посмотрел вниз. Челнок отвязали от причала, но туда никто не сел, кроме какого-то мужчины и лодочника.
Роберт вернулся к Марии и сказал:
— Леди! Если я разряжу эту пушку, то часовой там, снаружи, созовет весь гарнизон и поднимет тревогу в деревне. Беглеца поймают, будет произведено расследование, и я вынужден буду стать обвинителем тех, кого вы любите. Даже против вас самих мне придется свидетельствовать. Поклянитесь мне, что отныне вы будете предупреждать всякую интригу и откроете мне каждую тайну, касающуюся королевы. Тогда я готов ничего не видеть сегодня и вверить вам одной свою честь.
— Я не могу, я не хочу этого! — упрямилась фрейлина.
— Ну, что же, стреляйте из пушки, и все благородные шотландские сердца проклянут вас!
— За что? — спросил Сэррей. — Вы же знаете, что я своей честью поручился быть настороже королевы. А вы хотели обмануть меня, посмеяться над спящим, поиздеваться надо мной. Вот теперь взвешивайте, честный ли я враг? Я вступлю в переговоры, не выжидая победы. Согласны вы или нет?
— Нет, нет и нет!
Сэррей подошел к пушке и схватил запальник.
Мария торопливо подбежала к нему и крикнула:
— Роберт Сэррей! Вы хотите отомстить мне! Ну, что же! Убивайте меня, потому что, клянусь Богом, вместе с сигнальным выстрелом пушки я брошусь отсюда в озеро. Я не смогу жить, когда всем будет известно, что глупость Марии Сэйтон погубила королеву!
Сказав это, девушка подошла к брустверу.
Выражение ее лица дышало такой решимостью, что Роберт задрожал и, отбросив запальник, шепнул:
— Мария! Можете торжествовать: Роберт Сэррей жертвует вам своей честью!
Он обнажил шпагу и наступил на нее ногой, чтобы сломать ее.
Но фрейлина схватила его за руку.
— Роберт Говард, вы правы! Я плохо поступила против вас, но я имела в виду просто забавную шутку. Клянусь вам всем, что мне свято: королева должна узнать, каким благородством полны ваши мысли. И клянусь вам, что до тех пор, пока я нахожусь в этом замке, я никогда не буду замышлять измену.
— Мария, этого довольно, но я чувствую, что требую от вас поступиться вашей честью ради моей. Но можно еще как-нибудь выйти из положения. — Он поцеловал ее руку. — Я выстрелю из пушки, когда будет уже слишком поздно, чтобы догнать беглеца!
— Но этим вы вызовите расследование, которое даст регенту основание разлучить королеву с матерью! Нет, Сэррей! Доверьтесь мне, доверьтесь благородству вдовствующей королевы, которая будет обязана вам бесконечной благодарностью, если вы пощадите ее на этот раз!
— Хорошо, я последую вашему совету, — сказал он после короткой паузы. — Я рискую многим, доверяясь таким образом, но надеждой мне будет служить то, что заслужу этим сладкую награду!
Этот тон привел Марию в себя и напомнил ей, что она с ним наедине. Ее могли уже хватиться.
— Пустите меня! — взмолилась она. — Пустите меня!
— Я не пущу вас, пока не услышу, что вы простили меня, Мария! О, вы обязаны еще отплатить мне за ту ужасную шутку, которую хотели сыграть со мной!
— Роберт Говард, ввиду намеченной вами цели я прощаю то насилие, к которому вы прибегли, но теперь требую, чтобы вы исполнили мое желание!
Он отодвинул задвижку и, открыв дверь, тихо сказал:
— Вы свободны! Могу ли я надеяться на приветливое слово от вас?
Мария быстро исчезла, не дав ему никакого ответа.
— А что, если она все-таки лицемерит? — пробормотал про себя Сэррей. — Ведь это она хотела посмеяться надо мной, обманутым всеми ими!
Он спустился по лестнице, и уже издали до него донесся шум, которым веселые дамы думали разбудить мнимоспящего.
Достигнув двери, у которой он недавно подслушивал, Роберт на мгновение призадумался, предоставить ли Марии Сэйтон сообщить обо всем случившемся вдовствующей королеве, или сделать это самому. В конце концов он решился на последнее и открыл дверь.
Королева-мать сидела за столом с духовником, и оба они казались очень веселыми, но едва они увидели Сэррея, как священник побледнел, а Мария Лотарингская, пораженная, вскочила со стула, словно перед ней появилось привидение.
— Ваше величество, прошу простить меня, если я помешал, — произнес Роберт, — но здесь разыгрывается маскарад, а я присвоил себе другую роль, чем та, которая предназначалась мне.
— Вы не в своей комнате? Где вы были? — проговорила королева дрожащим голосом, с гневно сверкающими глазами.
— На башне дворца, ваше величество. Я видел спящего сторожа и плывущую по озеру лодку.
— Это невозможно, вы бредите!
— Ваше величество, виденное мной так мало походило на бред, что я хотел даже произвести выстрел из пушки, чтобы поднять тревогу. Но затем я подумал, что, быть может, вы сами, ваше величество, отправили куда-либо своего посланца, и пришел спросить, не ошибся ли я?
— Я? Нет!… Быть может, это сделал кастелян?
— Ваше величество, в таком случае он поступил самовольно, и я прошу о строгом расследовании.
— Граф Сэррей! Да разве регент поручил вам служить мне советником?
— Нет, ваше величество, но мне дано поручение наблюдать за безопасностью королевы и уведомить регента, если бы у меня явилось подозрение, что кто-либо из живущих в этом замке не заслуживает доверия, оказанного ему графом.
Пока он говорил, в комнату вошла Мария Сэйтон и шепнула королеве несколько слов, заставивших ту побледнеть.
— Граф Сэррей, — сказала она с самой ядовитой иронией, — весьма возможно, что регент пожелал позабавиться насчет вашего честолюбия, но все, что вы наблюдали здесь, произошло по моему приказанию! Желаю вам спокойной ночи!
Кровь бросилась в голову Сэррея, он увидел, как, пожимая плечами, засмеялся духовник, как по губам Марии Сэйтон скользнула легкая улыбка.
— Ваше величество, — сказал Сэррей, склоняясь перед вдовствующей королевой, — в таком случае прошу отдать приказ, чтобы в мое распоряжение была предоставлена лодка.
В это время на пороге появился уже вернувшийся кастелян.
Мария Лотарингская глазами дала ему знак, на который тот ответил злорадной усмешкой.
— Следуйте за кастеляном! — ответила она Сэррею.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты.
Кастелян отвел пажу комнаты, находившиеся в том самом флигеле, где, как он уверял, водились привидения. Окна комнат находились в десяти футах от земли и были, как и большинство окон в замке, защищены железными решетками. Когда Роберт, вскоре после того, как расстался с Марией Сэйтон, явился в свою комнату, то слуга кастеляна принес ему кружку сваренного на кореньях вина, так называемого ночного напитка, а затем, поставив на дубовый стол тяжелые серебряные подсвечники со свечами, спросил, не будет ли еще каких-либо приказаний. Сэррей отпустил слугу, заметив при этом, что он сильно устал. Затем задернул занавеси на окнах, словно собираясь ложиться спать, погасил через несколько минут свечи, после чего, сменив тяжелые ботфорты на шелковые ночные туфли, подошел к окну и раздвинул гардины настолько, чтобы иметь возможность заглянуть сквозь них. Какое-то предчувствие говорило ему, что, быть может, уже сегодня произойдет что-либо и что именно в эту ночь, когда все будут думать, что он захочет отдохнуть с дороги, ему представится возможность разузнать, что представляет собой это привидение во флигеле замка.
Его окна выходили во внутренний дворик и через них он мог видеть окна королевской комнаты, где был сегодня. Наступил вечер, но все-таки комнаты не были освещены. Ворота были заперты, и казалось, что замок словно вымер.
Такая тишина в столь ранний час казалась зловещей и странной.
Сэррей взял свою шпагу, засунул за пояс кинжал и тихо отворил дверь в прихожую, собираясь сделать обход, чтобы выяснить, что замышлялось под покровом этой тишины. Он прислушался и выглянул в дверь коридора. Однако и здесь царила такая же тишина… Тогда Роберт тихо открыл дверь, бесшумно выскользнул на цыпочках, тихонько спустился по лестнице и вышел на двор.
Там он сделал несколько шагов, прячась в тени от стены, и потом осмотрелся по сторонам.
Комнаты флигеля, находившиеся над его комнатами, были ярко освещены, и луч света проникал сквозь спущенные тяжелые гардины окон.
Это удивило Сэррея; ведь кастелян уверял, что в этом флигеле никто не живет!…
Вдруг Роберт увидел, что мимо него проскользнули две фигуры, и он был убежден, что то были духовник и какой- то другой мужчина. Значит, там происходило что-то, что хотели скрыть от него!
С сильно бьющимся сердцем Сэррей проскользнул обратно в дом, бесшумно взобрался по лестнице, попал в коридор и на мгновение остановился здесь прислушиваясь.
Наверху открылась дверь.
Роберт спрятался в нишу под лестницей.
Какой-то мужчина осторожно спустился по лестнице, подошел на цыпочках к двери комнаты, где он помещался, и запер ее, а затем вернулся и тихо поднялся опять по лестнице.
Роберт последовал за мужчиной и, когда последний добрался до верхней ступеньки, услыхал тихий смех, по которому сейчас же узнал Марию Сэйтон.
Роберт приложил ухо к двери комнаты, откуда доносился смех.
— Нет, это великолепно! — промолвила Мария Сэйтон. — Я боюсь только одного, что он совсем не проснется, и мы напрасно оденемся в эти саваны. Но какая отличная комедия получится, когда храбрый молодчик будет рваться к решеткам и не сможет выбраться из комнаты, чтобы совершить геройские деяния! Но обещайте мне, кастелян, что тогда, когда челнок счастливо переберется через озеро, вы позволите нам шуметь, словно настал час Страшного Суда. А когда он выбьется из сил в желании взломать дверь и начнет кричать и ругаться в окно, тогда вы тихо отопрете дверь и дадите ему возможность приступить к погоне за привидениями. Ведь он не знает ни ходов, ни ковровых дверей. Мы уж помучаем его досыта! Если он примется догонять меня, тогда Флеминг начнет высмеивать его, а если он станет преследовать Марию Бейтон, то замогильный голос Ливингстон примется вышучивать его.
— А в конце концов мы устроим так, чтобы он свалился в погреб, пусть постынет там до завтрашнего утра! — засмеялась Флеминг.
— Мы же примемся танцевать наверху танец привидений! — фыркнула Сэйтон.
— Глупые девочки! — сказала Мария Лотарингская. — Я не хочу вам портить шутку над этим высокомерным мальчишкой, но смотрите, не браните меня потом, если она вызовет серьезные последствия. Если этот кичливый паж заподозрит что-либо, то не останется больше ничего иного, как заставить его онеметь навсегда, так как Арран скоро разгадает нашу игру!
— Ваше величество! — возразила ей Мария Сэйтон. — Право же, он совсем не так плох. Если бы он не был связан своим словом быть верным графу, он был бы для нас самым потешным и добродушным оруженосцем на свете!
— Мария Сэйтон с такой теплотой говорит о паже, — строго промолвила вдовствующая королева, — что я начинаю подозревать, не дорожит ли она гораздо больше его жизнью, чем благом моей дочери.
— Ваше величество! Как истинная Сэйтон, клянусь вам! Я отношусь к нему сочувственно только потому, что верю, что это вполне заслужено им. Но я не остановился бы перед тем, чтобы воткнуть ему кинжал в самое сердце своей рукой, если бы он служил помехой к спасению королевы. Но в то же время я искренне признаюсь, что мне причинило бы большое горе, если бы ему напрасно сделали бесполезное зло!
Услышав эти слова, Сэррей почувствовал лихорадочное сердцебиение. Эта милая девушка могла бы любить его, а ему придется только восстановить ее против себя, если он будет исполнять то, что предписывает ему долг.
— Пора! — раздался из комнаты решительный голос королевы. — Дрейбир, проводите графа и откройте ему ворота! На всякий случай велите завесить окна снаружи, чтобы тот ничего не увидел, в случае, если он все-таки будет подглядывать или проснется от шума. Ты же, Мария…
Дальнейшие слова Сэррей не мог расслышать, так как голос королевы понизился до глухого шепота.
Роберт услышал только тихое побрякивание оружия — значит, готовились пустить в ход насилие. Вероятно, гарнизон замка подкуплен королевой-матерью, так как иначе им не могло бы удастся проведение намеченного плана, И Роберт решил удостовериться в этом.
Он торопливо поднялся по лестнице еще выше, прошел во второй этаж, и нашел лестницу, ведшую на зубцы замка. Там он увидел часового-стрелка, лежавшего на сигнальной пушке, которой можно было поднять тревогу.
Часовой спал. Сэррей потряс его за плечо, но он не проснулся. Значит, часового усыпили каким-нибудь снадобьем!…
Роберт осмотрел пушку и убедился, что она заряжена. Значит, было вполне в его власти в крайнем случае поднять тревогу в замке и в окрестностях.
Он посмотрел на внутренний двор и увидел кастеляна, который выпускал из ворот какого-то мужчину. Королевы с ними не было. Перед дверью выстроилась толпа каких-то фигур, закутанных в белые покрывала.
Сэррей выскользнул за дверь. Когда в темноте он спустился по лестнице, которая вела во двор, то по ней поднималась как раз одна из этих белых фигур.
— Все удалось, — зашептал милый голосок Марии Сэйтон, — паж спит как сурок. Но теперь мы разбудим его.
— Ни звука, Мария Сэйтон! — шепнул ей Роберт, хватая ее за руку, а другой зажимая ей рот. — Следуйте за мной, если вам дорога жизнь, или произойдет большое несчастье!
— Говард! — узнала его фрейлина, и он почувствовал, как все тело девушки задрожало от испуга.
— Лучше добровольно следуйте за мной, — шепнул он, — клянусь Богом, это лучшее, что вы можете сделать.
Они добрались до зубцов. Сэррей запер дверь и задвинул железный засов.
— Теперь, — сказал он, — победитель — я! Я не только не попал в погреб, но стою около заряженной сигнальной пушки. Кроме того, здесь у меня арбалет часового, а стреляю я метко… Говорите же, кто это бежит отсюда!?
Мария поняла, что он подслушал их разговор.
— Делайте что хотите, — сказала она, кидая на него взгляд, полный холодного презрения. — Вы — пронырливыйчеловек, и я ненавижу вас, как злейшего врага!
Сэррей подошел к брустверу и посмотрел вниз. Челнок отвязали от причала, но туда никто не сел, кроме какого-то мужчины и лодочника.
Роберт вернулся к Марии и сказал:
— Леди! Если я разряжу эту пушку, то часовой там, снаружи, созовет весь гарнизон и поднимет тревогу в деревне. Беглеца поймают, будет произведено расследование, и я вынужден буду стать обвинителем тех, кого вы любите. Даже против вас самих мне придется свидетельствовать. Поклянитесь мне, что отныне вы будете предупреждать всякую интригу и откроете мне каждую тайну, касающуюся королевы. Тогда я готов ничего не видеть сегодня и вверить вам одной свою честь.
— Я не могу, я не хочу этого! — упрямилась фрейлина.
— Ну, что же, стреляйте из пушки, и все благородные шотландские сердца проклянут вас!
— За что? — спросил Сэррей. — Вы же знаете, что я своей честью поручился быть настороже королевы. А вы хотели обмануть меня, посмеяться над спящим, поиздеваться надо мной. Вот теперь взвешивайте, честный ли я враг? Я вступлю в переговоры, не выжидая победы. Согласны вы или нет?
— Нет, нет и нет!
Сэррей подошел к пушке и схватил запальник.
Мария торопливо подбежала к нему и крикнула:
— Роберт Сэррей! Вы хотите отомстить мне! Ну, что же! Убивайте меня, потому что, клянусь Богом, вместе с сигнальным выстрелом пушки я брошусь отсюда в озеро. Я не смогу жить, когда всем будет известно, что глупость Марии Сэйтон погубила королеву!
Сказав это, девушка подошла к брустверу.
Выражение ее лица дышало такой решимостью, что Роберт задрожал и, отбросив запальник, шепнул:
— Мария! Можете торжествовать: Роберт Сэррей жертвует вам своей честью!
Он обнажил шпагу и наступил на нее ногой, чтобы сломать ее.
Но фрейлина схватила его за руку.
— Роберт Говард, вы правы! Я плохо поступила против вас, но я имела в виду просто забавную шутку. Клянусь вам всем, что мне свято: королева должна узнать, каким благородством полны ваши мысли. И клянусь вам, что до тех пор, пока я нахожусь в этом замке, я никогда не буду замышлять измену.
— Мария, этого довольно, но я чувствую, что требую от вас поступиться вашей честью ради моей. Но можно еще как-нибудь выйти из положения. — Он поцеловал ее руку. — Я выстрелю из пушки, когда будет уже слишком поздно, чтобы догнать беглеца!
— Но этим вы вызовите расследование, которое даст регенту основание разлучить королеву с матерью! Нет, Сэррей! Доверьтесь мне, доверьтесь благородству вдовствующей королевы, которая будет обязана вам бесконечной благодарностью, если вы пощадите ее на этот раз!
— Хорошо, я последую вашему совету, — сказал он после короткой паузы. — Я рискую многим, доверяясь таким образом, но надеждой мне будет служить то, что заслужу этим сладкую награду!
Этот тон привел Марию в себя и напомнил ей, что она с ним наедине. Ее могли уже хватиться.
— Пустите меня! — взмолилась она. — Пустите меня!
— Я не пущу вас, пока не услышу, что вы простили меня, Мария! О, вы обязаны еще отплатить мне за ту ужасную шутку, которую хотели сыграть со мной!
— Роберт Говард, ввиду намеченной вами цели я прощаю то насилие, к которому вы прибегли, но теперь требую, чтобы вы исполнили мое желание!
Он отодвинул задвижку и, открыв дверь, тихо сказал:
— Вы свободны! Могу ли я надеяться на приветливое слово от вас?
Мария быстро исчезла, не дав ему никакого ответа.
— А что, если она все-таки лицемерит? — пробормотал про себя Сэррей. — Ведь это она хотела посмеяться надо мной, обманутым всеми ими!
Он спустился по лестнице, и уже издали до него донесся шум, которым веселые дамы думали разбудить мнимоспящего.
Достигнув двери, у которой он недавно подслушивал, Роберт на мгновение призадумался, предоставить ли Марии Сэйтон сообщить обо всем случившемся вдовствующей королеве, или сделать это самому. В конце концов он решился на последнее и открыл дверь.
Королева-мать сидела за столом с духовником, и оба они казались очень веселыми, но едва они увидели Сэррея, как священник побледнел, а Мария Лотарингская, пораженная, вскочила со стула, словно перед ней появилось привидение.
— Ваше величество, прошу простить меня, если я помешал, — произнес Роберт, — но здесь разыгрывается маскарад, а я присвоил себе другую роль, чем та, которая предназначалась мне.
— Вы не в своей комнате? Где вы были? — проговорила королева дрожащим голосом, с гневно сверкающими глазами.
— На башне дворца, ваше величество. Я видел спящего сторожа и плывущую по озеру лодку.
— Это невозможно, вы бредите!
— Ваше величество, виденное мной так мало походило на бред, что я хотел даже произвести выстрел из пушки, чтобы поднять тревогу. Но затем я подумал, что, быть может, вы сами, ваше величество, отправили куда-либо своего посланца, и пришел спросить, не ошибся ли я?
— Я? Нет!… Быть может, это сделал кастелян?
— Ваше величество, в таком случае он поступил самовольно, и я прошу о строгом расследовании.
— Граф Сэррей! Да разве регент поручил вам служить мне советником?
— Нет, ваше величество, но мне дано поручение наблюдать за безопасностью королевы и уведомить регента, если бы у меня явилось подозрение, что кто-либо из живущих в этом замке не заслуживает доверия, оказанного ему графом.
Пока он говорил, в комнату вошла Мария Сэйтон и шепнула королеве несколько слов, заставивших ту побледнеть.
— Граф Сэррей, — сказала она с самой ядовитой иронией, — весьма возможно, что регент пожелал позабавиться насчет вашего честолюбия, но все, что вы наблюдали здесь, произошло по моему приказанию! Желаю вам спокойной ночи!
Кровь бросилась в голову Сэррея, он увидел, как, пожимая плечами, засмеялся духовник, как по губам Марии Сэйтон скользнула легкая улыбка.
— Ваше величество, — сказал Сэррей, склоняясь перед вдовствующей королевой, — в таком случае прошу отдать приказ, чтобы в мое распоряжение была предоставлена лодка.
В это время на пороге появился уже вернувшийся кастелян.
Мария Лотарингская глазами дала ему знак, на который тот ответил злорадной усмешкой.
— Следуйте за кастеляном! — ответила она Сэррею.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты.
II
Дрейбир уже знал, что все раскрыто, так как он встретил Марию Сэйтон, прежде чем та вошла к королеве, и успел принять меры.
В то мгновение, когда Роберт достиг лестницы, он вдруг был схвачен сзади, на его шею была накинута петля, туго стянувшая ему горло, а в рот ему сунули кляп; затем его связали, две сильные руки подняли его и потащили в нижние помещения замка.
Гнилой, сырой воздух охватил Роберта, и он тотчас же услышал скрип железной двери и голос Дрейбира, со злобным смехом отдававшего приказания:
— Доставьте его на место!… Только возьмите крепкие цепи! Это — опасный малый.
Тайные агенты кастеляна — иначе нельзя было их назвать, — надели на Сэррея железные наручники и приковали его цепью к сырой стене. Кастелян светил им факелом, и Роберт при слабом свете увидел, что он находился в большом сводчатом помещении, где стоят несколько столов.
Кастелян вынул кляп из его рта и сказал со смехом:
— Вот так! Теперь устраивайтесь поудобнее!… Удар за удар!
С этими словами он ударил юношу ногой, а затем, злорадно смеясь, вышел из помещения вместе со своими слугами.
Сэррей чувствовал себя смертельно усталым и как бы парализованным. Петля, которую набросили на его шею, была снята, но она так сильно сжала ему горло, что он на мгновение лишился чувств, а теперь тяжелые цепи гнули его тело к земле. Бессильная злоба бушевала в груди юноши. Он чувствовал, что его здесь умертвят, уморят голодом или заставят сгнить в заключении. Правда, у Сэррея оставалась одна слабая надежда, что Мария Сэйтон будет ходатайствовать за него. Но знала ли она о случившемся?! Если она знала, как же она могла допустить это и предать его? Если она этого не знала, кто откроет ей все?
Но куда же бросили его? Это не была тюремная камера, помещение было слишком велико.
Сэррей стал ощупывать стену, насколько мог достать рукой. Помещение было оштукатурено; железные кольца, к которым прикреплялись его цепи, были вделаны в стену; пол был выложен каменными плитами, и тюремщики не позаботились даже бросить для него хотя бы жалкую подстилку из соломы.
Шаря вокруг себя, чтобы составить понятие о своей тюрьме, Роберт вдруг услышал приближающиеся шаги, увидел проблески света через железную решетку двери.
Дверь открылась, и вошла Мария Лотарингская, в сопровождении кастеляна, духовника и двух служителей. Королева-мать была закутана в темный плащ, ее лицо было бледно, она вошла в помещение с легкой дрожью, словно ее лихорадило, но ее взор был мрачен и не предвещал ничего хорошего.
— Здесь холодно, — сказала она, — делайте скорей свое дело, Дрейбир! Где узник?
Дрейбир выступил вперед с факелом и показал ей закованного в цепи Сэррея.
— Ваше величество, — воскликнул Роберт, вставая, — вы пришли посмотреть на жертву самого низкого предательства? Но ваш ли приказ так позорно оскорбил права гостеприимства?
— Молчите! — холодно ответила Мария, садясь в кресло, подставленное ей священником. — Лишь ваше бесстыдство привело вас сюда, и я советую вам избрать другой тон в обращении ко мне, если вы не хотите, чтобы вас принудили к этому. С королевой говорить на коленях!
— Делайте все, что вам угодно, и в чем вам, конечно, придется дать ответ перед Богом, — произнес Сэррей, — но я не склонюсь перед вами.
Насмешливая улыбка показалась на губах королевы.
— Вы видите, ваше преподобие, — сказала она священнику, — необходимо прибегнуть к крайним мерам. Роберт Говард, — обратилась она после этих слов к узнику, — вы прибыли в этот замок в качестве шпиона регента, и ваша наблюдательность привела вас в застенок. Вы сами видите, что нам необходимо сделать вас безвредным. Но прежде я хочу узнать, какие цели преследует регент, обложив своими войсками окрестности этого замка. Ваше выступление было столь смело, что вы без сомнения должны иметь поддержку поблизости. Скажите откровенно все, что вы знаете! Это — единственное средство настроить нас милостивее по отношению к вам.
Роберт ничего не ответил и упрямо смотрел вниз.
— Не заставляйте нас долго ждать, — продолжала королева, — у нас есть средства заставить вас говорить.
У Роберта вся кровь прилила к сердцу, он чувствовал, что оно готово разорваться. Его страшила эта холодная, презрительная жестокость со стороны женщины, которую он пощадил, которую он час тому назад мог погубить. Вся его гордость возмущалась при мысли молить о пощаде, к тому же чувствовал, что и эта мольба была бы напрасна. Но в это время одна мысль внезапно озарила его мозг, сама королева привела его к этому, указав путь к спасению.
— Ваше величество, — сказал он, — я не боюсь ваших угроз, так как не считаю вас способной совершить столь бесславный поступок; а ведь я никогда не сделал вам ничего дурного, и потому, думаю, вы не можете ненавидеть меня настолько, чтобы вызвать месть регента. Нет, угрозы недостойны вас!…
Мария Лотарингская встала и подала Дрейбиру знак, заставивший Роберта содрогнуться.
— Достань плеть! — приказал кастелян одному из слуг.
Тот снял со стены висевшую среди прочих орудий пыток сплетенную из ремней плеть, а другой слуга, схватив Роберта за плечи, сделал попытку раздеть его.
— Бейте его, пока не сознается, — сказала Мария, а затем равнодушно, словно она отдала приказ дрессировать лошадь, повернулась к священнику и вместе с ним отошла на задний план помещения.
— Берегитесь тронуть меня! — злобно произнес Сэррей, обращаясь к слугам. — Не думайте, что вы можете здесь безнаказанно умертвить меня: прежде чем наступит день, я буду отомщен. Неужели вы думаете, что граф Арран прислал меня сюда, не позаботившись о моей охране, и что я сам не предвидел подобного предательства?
Слуги в недоумении остановились, смущенно глянув на кастеляна. Тот, казалось, тоже почувствовал беспокойство.
— Расскажите о принятых вами мерах предосторожности и о планах регента, — сказала королева, живо обернувшись в сторону Сэррея, — и тогда я избавлю вас от пытки.
— Я ничего не скажу, ваше величество, так как не могу верить словам той, которой руководит предательство. Но почему вы не обратитесь с тем же вопросом к леди Сэйтон, которая час тому назад стояла со мной на башне замка?
Королева побледнела, священник поднял удивленный взор, а кастелян вздрогнул, словно его ужалила змея.
— Да, — продолжал Сэррей в насмешливом тоне. — Пушечным выстрелом я мог известить о грозящей мне опасности, тем более часовой на башне спал так крепко, точно его напоили усыпительным напитком. Спросите вашу фрейлину, ваше величество, показал я себя вашим врагом?
Королева пошепталась с духовником. Она казалась смущенной, не зная, какое решение принять. Кастелян также подошел к группе разговаривающих.
Роберт воспользовался этим моментом и прошептал слугам:
— Если дотронетесь до меня, то завтра будете на виселице, если освободите, то получите кошелек с золотом.
Королева долго беседовала со своими советниками. Уверенность, с которой Сэррей угрожал им, привела их в смущение, которое усилилось особенно еще потому, что он ссылался на Марию Сэйтон.
— Если он был на башне дворца, — прошептал священник, — то у него непременно есть друзья по ту сторону озера. Я советовал бы добиться его клятвы молчать.
— Он не даст этой клятвы! — промолвила вдовствующая королева.
— Ваше величество, — заговорил кастелян. — Невероятно, что его отсутствие заметят так скоро. Иначе и графа Монгомери там также задержат. Паж хочет напугать нас. Я советую оставить его здесь в заключении, пока не придут люди его искать.
— Это самое лучшее. Но как мы объясним во дворце его исчезновение?
— Я скажу, что переправил его через озеро.
Священник, покачав головой, возразил:
— А люди, к которым он отправился, будут разыскивать его? Я не подозревал, что леди Сэйтон пользуется его доверием. Это портит все.
В это время в наружную дверь громко застучали, словно кто-то мечом или копьем бил о железо замка. Королева и ее советники вздрогнули, как злодеи, пойманные на месте преступления; слуги, начавшие колебаться под влиянием угроз Сэррея, заметив пугливую нерешительность своей повелительницы, с быстротою молнии освободили узника от цепей.
Когда королева-мать обернулась, чтобы объявить Сэррею помилование, она увидела, как тот схватил лежавшую среди других орудий пытки большую дубину, и в страхе отступила назад.
— Откройте двери! — громовым голосом приказал Сэррей слугам и одним страшным ударом положил на землю Дрейбира.
— Смилуйтесь над нами! — пролепетал священник.
Лишь королева-мать, бледная, дрожащая всем телом, стояла неподвижно.
Слуги поспешили исполнить приказание молодого пажа, тем более, что все сильнее становились удары в дверь.
— Ваше величество, — сказал Сэррей, обращаясь к трепещущей женщине, — серьезно ли вы хотели прибегнуть к пытке? Отвечайте скорей и, если даже вы принудите себя солгать, эта ложь будет вам во спасение.
Мария Лотарингская гордо выпрямилась, казалось, словно это оскорбление оживило ее упавшее мужество и отогнало страх.
— Роберт Говард, — ответила она, — я не лгу: я заставила бы пытать вас, если бы вы не сознались; я ненавижу вас как шпиона графа Аррана. Теперь вы — победитель, но я не жду никакой пощады и даже не приняла бы ее от вас.
В это мгновение с шумом раскрылась решетчатая дверь, но по каменным плитам раздались не тяжелые шаги вооруженных людей, как этого, быть может, ждала Мария Лотарингская, а легкие, воздушные шаги ребенка!
— Королева! — воскликнул пораженный Сэррей, и волна радостного чувства наполнила его сердце, так как он решил, что никто другой, кроме леди Сэйтон, не мог привести сюда Марию Стюарт.
Королева-мать сразу догадалась, кто раскрыл план ее действий и избрал этот решительный способ помешать ее намерениям.
— Зачем ты пришла сюда? — строго, со сверкающими глазами спросила она дочь.
Но Мария Стюарт поспешно подбежала к Сэррею и со слезами радости воскликнула:
— Слава Богу, что вы живы, что вам еще не сделали ничего дурного!… Очень прошу вас, простите мою мать!
С тех пор как Мария Сэйтон сумела внушить ей участие к судьбе Сэррея, Мария Стюарт из ребенка превратилась в молодую девушку, и хотя она только повторяла то, что было сказано ей Марией, однако она нашла в себе столько силы, чтобы не сробеть перед угрожающими взорами матери.
Сэррей понял, каким чудом мольбы возлюбленной довели этого ребенка до сопротивления королеве-матери, и увидел, как нежно и доверчиво смотрели на него эти юные голубые глазки. Он преклонил колено и, поднесши к губам руку Марии Стюарт, воскликнул:
— Клянусь вам моей честью, что вы не имеете более верного слуги, чем я, Ваше величество! Ваша мать убедилась бы в этом, если бы почтила меня своим доверием или согласилась выслушать меня. Но, проведенная словами негодяя, желавшего мстить мне, она выказала относительно меня подозрительность, озлобление и в конце концов оскорбительное насилие. Ваше величество! Ваша матушка ненавидит регента, думая, что он преследует только свои, но не ваши интересы. Я не знаю, ошибается ли она, или права, но могу поклясться, что он поручил мне только заботу о вашей безопасности и что я отказался бы от всякого другого поручения. В моей власти было помешать бегству тайного посла, отправленного сегодня ночью, но я не сделал этого, ваше величество, я преклонил перед вами колено, прикажите убить меня, если не доверяете мне, но я явился сюда с единственной целью — защитить королеву Шотландии от убийцы Анны Болейн, Екатерины Говард и палача моего брата.
При этих словах вдовствующая королева стала прислушиваться, и ее проницательный взор остановился на Сэррее.
— Правда ли это? — с удивлением спросила она. — Вы, англичанин, хотите идти против интриг Генриха Восьмого?
Роберт взглянул на Марию Стюарт, смотревшую на него глазами, в которых стояли слезы и в которых светилось детское доверие и трогательное участие, и произнес:
— Ваше величество! Ваша матушка спрашивает меня, действительно ли я ненавижу человека, убившего моего брата? Да неужели я мог бы быть таким негодяем, чтобы принимать участие в продаже вашей дивной, чистой юности сыну тирана? Верите ли вы мне, что я скорее дам разорвать себя на куски, чем изменю вам?
— Да, я верю этому! — воскликнула Мария Стюарт, схватив своими маленькими ручками руки Роберта. — Мама, он благороден и добр; ты не должна делать ему зла, я не хочу этого!…
— Дрейбир обманул меня, — тихо проговорила Мария Лотарингская. — Роберт Говард, — продолжала она громче, каждая мать со слепой страстностью защищает свое дитя. Я хотела пытать вас, чтобы вынудить признание относительно того, какие интриги ведет регент и каковы его планы насчет того, чтобы держать в зависимости от себя королеву, мою дочь. Я даже допускаю мысль, что в своем предательстве он способен отдать королеву Шотландии во власть англичанам, и считала вас за орудие его воли. Теперь я жалею о случившемся, но вы сами дали понять, что за вами стоит защита регента.
— Я сделал это только для того, чтобы испугать своих врагов ваше величество.
— Значит, это была хитрость? — удивилась вдовствующая королева. — Эта предосторожность была, быть может, очень умна, но повлекла за собой заблуждение, которое заставило меня поставить вас в крайне неприятное положение·.
— Значит, и ты, мама, прощаешь? — обрадовалась Мария Стюарт. — Но здесь холодно и мрачно. Пойдемте, — обратилась она к Сэррею, и в это мгновение она заметила кастеляна, который будучи поражен ударом Роберта, упал, обливаясь кровью, и умер, не проронив ни звука. — Пресвятая Дева! — воскликнула она. — Что это?
Мария Лотарингская подошла к кастеляну и, чуть дотронувшись до него ногой, произнесла с чувством внутреннего удовлетворения:
— Он мертв! Ваш меткий удар, Роберт Говард, избавляет меня от строгого и тягостного суда.
С этими словами, как бы в виде примирения и прощения, она протянула руку Сэррею.
Тот взял эту руку в свою, но ужаснулся бессердечию и бесчувственности этой женщины и не поднес ее руку к своим губам, не подумав о том, что в эту минуту смертельно оскорбил тщеславие женщины и гордость королевы.
Мария Лотарингская нервно пожала плечами и подала руку духовнику. Мария Стюарт побежала вперед, чтобы выйти первой из страшного подземелья, а Сэррей немного отстал от других и, подозвав служителей, приказал:
— Устройте кастеляну почетное погребение, а завтра зайдите ко мне получить свою награду.
Затем он последовал за королевами.
Перед наружной дверью ждали Мария Сэйтон и две камеристки, сопровождавшие королеву. Когда леди Сэйтон увидела Роберта невредимым, ее глаза заблестели радостью, но она тотчас же отвернулась, когда он подошел поблагодарить ее.
— Мария! — прошептал он с сильным волнением. — Жизнь, которую вы спасли, принадлежит вам!
Она подняла на него свой взор и с насмешливой улыбкой и свойственной ей веселостью задорно ответила:
— Что за пустяки!… Мы поквитались, вот и все!
В это мгновение королева-мать обернулась, и в ее глазах вспыхнул мрачный огонь. Теперь она точно знала, кого ей благодарить за то, что ее дочь в первый раз проявила волю королевы.

Глава шестая
ЖЕНСКАЯ ХИТРОСТЬ

I
 Роберт не видел ни одной из обитательниц замка в течение двух дней, последовавших за нападением на него, но ему, по молчаливому соглашению, были оставлены ключи, которыми заведовал кастелян.
Он сидел на берегу озера и удил рыбу, когда сторож на башне протрубил в рог, извещая о приближении гостя к замку. Роберт вскочил с места, будь то хорошие или плохие вести, для него это все же было развлечением, быть может, даже случаем увидеть Марию Сэйтон, если бы пришлось вести гостя к королеве.
Через озеро плыла лодка, и уже издали Роберт узнал своего друга-стрелка; Брая узнали также из окон замка, так как к Роберту вышла камеристка и объявила, что обе королевы нездоровы, не могут никого принять и просят сказать об этом посланцу.
Роберт обещал исполнить просьбу и сделал это с тем большей охотой, что мог без помехи вдоволь болтать с Браем.
Вальтер выпрыгнул на берег из лодки и сердечно поздоровался с Сэрреем. Узнав о нездоровье королев, он засмеялся и сказал, что предвидел это, добавив, что на этот раз ему нет надобности просить их об аудиенции, так как он только привез письмо регента и довольно долгое время будет находиться поблизости, чтобы иметь случай видеть высоких особ, когда они снова поправятся.
— Что? — воскликнул Сэррей. — Вы останетесь поблизости? Разве регент подозревает измену или предвидит какую-нибудь опасность?
— Быть может, и то и другое, — ответил стрелок, которого Роберт повел в свою комнату, куда приказал подать закуску и вино. — Многое произошло с тех пор, как мы расстались, да, многое, и притом не особенно неприятное для вас. Но прежде всего доставьте мое письмо по адресу, оно заключает в себе пилюлю, которая, быть может, лучше, чем доктор, вылечит вдовствующую королеву.
— Но все же в нем нет ничего неприятного? — спросил Сэррей, уже начинавший бояться, что граф Монгомери попался в руки регента…
— Снесите прежде письмо, а потом я расскажу вам, что знаю и что думаю! — предложил Брай.
Роберт взял запечатанное воском послание и направился через двор к главному зданию, желая вручить письмо дежурной придворной даме. Но на лестнице его уже встретила Мария Сэйтон, и ему показалось, что она, наверно, быстро бежала, так как едва дышала, когда он заговорил с ней.
— Прекрасная леди, — сказал он, — дерзаю нарушить запрет, державший меня несколько дней вдали от вас, так как имею поручение к ее величеству вдовствующей королеве.
— Отдайте мне письмо, — живо перебила Мария молодого человека, а когда тот с удивлением посмотрел на нее, так как письмо было спрятано у него в кармане, то она добавила: — Конечно, если у вас есть письмо. Ведь королева ожидает ответа регента на свой запрос.
— Вот оно, — сказал он, вручая ей пергамент, — а если в нем заключается что-либо неприятное, не ставьте мне это в вину!
— Вы хотите сказать, что королева не должна ставить вам этого в вину, так как письмо адресовано ей?
— Я хочу сказать, — ответил Сэррей, стараясь уловить взор красавицы-фрейлины, — что для меня здесь есть только одно существо, гнева которого я страшусь. Королева справедлива, но Мария Сэйтон…
— Ну? Почему вы остановились?
— Мария Сэйтон сурова, так как знает, что она любима, и…
— Прекрасный паж, ваши слова очень лестны, но вы наговорили мне столько любезностей, что с моей стороны было бы легкомысленно верить им.
— Мария, жертва моей честью не была ничтожной мелочью…
— Тсс!… Это должно быть позабыто! Или, быть может, напоминанием об этой ночи вы хотите сказать, что мы все теперь находимся в вашей власти и что одно ваше слово может навлечь на нас неприятности?
— Леди Мария, я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я не способен на низкую месть, — воскликнул Сэррей.
— Посмотрим, — засмеялась она. — Вы смелы, храбры и находчивы. Сегодня я увижу, умеете ли вы хранить секреты.
— А если сумею, Мария? — спросил Роберт.
— Тогда я буду считать вас за образец добродетели! — воскликнула девушка, смеясь и поспешно убегая, но при этом ее почти ласковый, нежный взгляд сказал Роберту более, чем могли бы сделать слова.
Сэррей вернулся в свою комнату, причем, когда он проходил по двору, ему снова показалось, что в окнах галереи, над его помещением, проскользнула какая-то тень.
Волнение Марии Сэйтон бросилось в глаза, а то обстоятельство, что она требовала письмо, которого она не видела, внушало подозрение. До Роберта доходили слухи о потаенных дверях и коридорах во дворце, следовательно, представлялось весьма возможным, что его разговор с приятелем был подслушан, и он решил наказать подслушивателей.
Прежде всего он дал знак стрелку говорить тихо о вещах, которые не должны быть разглашены, а затем начал громким голосом:
— Знаете, я веселюсь здесь более, чем ожидал; у королевы очень любезные придворные дамы.
— И вы, конечно уже влюбились? — спросил Брай.
— Да, я на пути к тому.
— В таком случае чокнемся. За ваше здоровье и счастье! Которая же это из дам?
— Самая прекрасная, самая веселая и, быть может, самая коварная.
— Тогда берегитесь, граф!…
— Я так и делаю, поэтому прошу вас говорить совсем тихо, — произнес Сэррей. — Вы не можете себе представить, какие у дам тонкие уши. Они слышат все, что желают скрыть от них, и не слышат того, что должны слышать.
Легкий шорох за стеной выдал, что подозрения Сэррея были верны.
— Они подслушивают! — шепнул Брай, а затем громко добавил: — Будь наша красавица любопытна, она не простила бы вам, что вы лишили ее удовольствия подслушивать.
— Я того же мнения, — засмеялся Сэррей. — Ну, теперь рассказывайте! Вы говорили, что у вас произошло многое?
— Да, и даже очень серьезное, — ответил стрелок, понизив голос. — До регента дошли слухи, что англичане и французы замышляют насильственное похищение королевы. Вследствие этого он, лично оберегая южную границу, двинул отряд к Дэмбертону, а мне с пятьюдесятью конными стрелками поручил защищать берега Ментейтского озера.
Для Роберта ничего не могло быть приятнее полученного известия: отныне уже не в его власти было разрешать кому-либо въезд или выезд из Инч-Магома, а Мария Сэйтон не могла требовать от него неисполнения данных ему инструкций. Блокада противоположного берега озера тоже была ему на руку, давая возможность не смотреть боле на замок как на тюрьму, из которой не было выхода.
Вальтер Брай продолжал рассказывать дальше, приковывая все внимание своего собеседника. Лорд Бэклей, нравственный убийца Екатерины Блоуэр, перешел в английский лагерь и даже под знамена Варвика, который, в свою очередь, отправился на службу в Лондон. Сэррей сначала не хотел верить, что лорд, защитивший его от Генриха VIII, мог искать службы у этого короля, но Брай уверил его, что регент получил на этот счет самые достоверные известия.
— Бьюсь с вами об заклад на бочку вина против одного пенни, что мы вскоре поработаем здесь! — сказал Брай. — Бэклей должен составить себе хорошую славу в глазах Варвика, и он попытается обрести ее ценой захвата Марии Стюарт. Надеюсь, что регент будет свергнут, а Дуглас со своими приверженцами снова введет прежнее правление, причем вдовствующую королеву изберут регентшей. Но, — заключил Брай свой рассказ, — регент поставил здесь хорошего сторожа: как охотничья собака, я выслежу Бэклея, прежде чем он подойдет к этому замку на три мили, и повешу его на самом высоком дереве, которое я только найду. Обратите внимание, не принимает ли вдовствующая королева каких-нибудь тайных послов, я был бы очень удивлен, если бы она не участвовала в заговоре.
Роберт призадумался. Если неизвестный, которого тайно выпустили из дворца, был лорд Бэклей, то было бы открытой изменой не признаться Вальтеру, что его подозрения были основательны. А можно ли было сомневаться в этом? Разве было бы неправдоподобно, что Мария Лотарингская готова была броситься в объятия англичан, лишь бы отнять власть у ненавистного регента? Разве она дрожала бы так перед раскрытием своих интриг, если бы дело шло не о государственном преступлении?
Роберт не видел ни одной из обитательниц замка в течение двух дней, последовавших за нападением на него, но ему, по молчаливому соглашению, были оставлены ключи, которыми заведовал кастелян.
Он сидел на берегу озера и удил рыбу, когда сторож на башне протрубил в рог, извещая о приближении гостя к замку. Роберт вскочил с места, будь то хорошие или плохие вести, для него это все же было развлечением, быть может, даже случаем увидеть Марию Сэйтон, если бы пришлось вести гостя к королеве.
Через озеро плыла лодка, и уже издали Роберт узнал своего друга-стрелка; Брая узнали также из окон замка, так как к Роберту вышла камеристка и объявила, что обе королевы нездоровы, не могут никого принять и просят сказать об этом посланцу.
Роберт обещал исполнить просьбу и сделал это с тем большей охотой, что мог без помехи вдоволь болтать с Браем.
Вальтер выпрыгнул на берег из лодки и сердечно поздоровался с Сэрреем. Узнав о нездоровье королев, он засмеялся и сказал, что предвидел это, добавив, что на этот раз ему нет надобности просить их об аудиенции, так как он только привез письмо регента и довольно долгое время будет находиться поблизости, чтобы иметь случай видеть высоких особ, когда они снова поправятся.
— Что? — воскликнул Сэррей. — Вы останетесь поблизости? Разве регент подозревает измену или предвидит какую-нибудь опасность?
— Быть может, и то и другое, — ответил стрелок, которого Роберт повел в свою комнату, куда приказал подать закуску и вино. — Многое произошло с тех пор, как мы расстались, да, многое, и притом не особенно неприятное для вас. Но прежде всего доставьте мое письмо по адресу, оно заключает в себе пилюлю, которая, быть может, лучше, чем доктор, вылечит вдовствующую королеву.
— Но все же в нем нет ничего неприятного? — спросил Сэррей, уже начинавший бояться, что граф Монгомери попался в руки регента…
— Снесите прежде письмо, а потом я расскажу вам, что знаю и что думаю! — предложил Брай.
Роберт взял запечатанное воском послание и направился через двор к главному зданию, желая вручить письмо дежурной придворной даме. Но на лестнице его уже встретила Мария Сэйтон, и ему показалось, что она, наверно, быстро бежала, так как едва дышала, когда он заговорил с ней.
— Прекрасная леди, — сказал он, — дерзаю нарушить запрет, державший меня несколько дней вдали от вас, так как имею поручение к ее величеству вдовствующей королеве.
— Отдайте мне письмо, — живо перебила Мария молодого человека, а когда тот с удивлением посмотрел на нее, так как письмо было спрятано у него в кармане, то она добавила: — Конечно, если у вас есть письмо. Ведь королева ожидает ответа регента на свой запрос.
— Вот оно, — сказал он, вручая ей пергамент, — а если в нем заключается что-либо неприятное, не ставьте мне это в вину!
— Вы хотите сказать, что королева не должна ставить вам этого в вину, так как письмо адресовано ей?
— Я хочу сказать, — ответил Сэррей, стараясь уловить взор красавицы-фрейлины, — что для меня здесь есть только одно существо, гнева которого я страшусь. Королева справедлива, но Мария Сэйтон…
— Ну? Почему вы остановились?
— Мария Сэйтон сурова, так как знает, что она любима, и…
— Прекрасный паж, ваши слова очень лестны, но вы наговорили мне столько любезностей, что с моей стороны было бы легкомысленно верить им.
— Мария, жертва моей честью не была ничтожной мелочью…
— Тсс!… Это должно быть позабыто! Или, быть может, напоминанием об этой ночи вы хотите сказать, что мы все теперь находимся в вашей власти и что одно ваше слово может навлечь на нас неприятности?
— Леди Мария, я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я не способен на низкую месть, — воскликнул Сэррей.
— Посмотрим, — засмеялась она. — Вы смелы, храбры и находчивы. Сегодня я увижу, умеете ли вы хранить секреты.
— А если сумею, Мария? — спросил Роберт.
— Тогда я буду считать вас за образец добродетели! — воскликнула девушка, смеясь и поспешно убегая, но при этом ее почти ласковый, нежный взгляд сказал Роберту более, чем могли бы сделать слова.
Сэррей вернулся в свою комнату, причем, когда он проходил по двору, ему снова показалось, что в окнах галереи, над его помещением, проскользнула какая-то тень.
Волнение Марии Сэйтон бросилось в глаза, а то обстоятельство, что она требовала письмо, которого она не видела, внушало подозрение. До Роберта доходили слухи о потаенных дверях и коридорах во дворце, следовательно, представлялось весьма возможным, что его разговор с приятелем был подслушан, и он решил наказать подслушивателей.
Прежде всего он дал знак стрелку говорить тихо о вещах, которые не должны быть разглашены, а затем начал громким голосом:
— Знаете, я веселюсь здесь более, чем ожидал; у королевы очень любезные придворные дамы.
— И вы, конечно уже влюбились? — спросил Брай.
— Да, я на пути к тому.
— В таком случае чокнемся. За ваше здоровье и счастье! Которая же это из дам?
— Самая прекрасная, самая веселая и, быть может, самая коварная.
— Тогда берегитесь, граф!…
— Я так и делаю, поэтому прошу вас говорить совсем тихо, — произнес Сэррей. — Вы не можете себе представить, какие у дам тонкие уши. Они слышат все, что желают скрыть от них, и не слышат того, что должны слышать.
Легкий шорох за стеной выдал, что подозрения Сэррея были верны.
— Они подслушивают! — шепнул Брай, а затем громко добавил: — Будь наша красавица любопытна, она не простила бы вам, что вы лишили ее удовольствия подслушивать.
— Я того же мнения, — засмеялся Сэррей. — Ну, теперь рассказывайте! Вы говорили, что у вас произошло многое?
— Да, и даже очень серьезное, — ответил стрелок, понизив голос. — До регента дошли слухи, что англичане и французы замышляют насильственное похищение королевы. Вследствие этого он, лично оберегая южную границу, двинул отряд к Дэмбертону, а мне с пятьюдесятью конными стрелками поручил защищать берега Ментейтского озера.
Для Роберта ничего не могло быть приятнее полученного известия: отныне уже не в его власти было разрешать кому-либо въезд или выезд из Инч-Магома, а Мария Сэйтон не могла требовать от него неисполнения данных ему инструкций. Блокада противоположного берега озера тоже была ему на руку, давая возможность не смотреть боле на замок как на тюрьму, из которой не было выхода.
Вальтер Брай продолжал рассказывать дальше, приковывая все внимание своего собеседника. Лорд Бэклей, нравственный убийца Екатерины Блоуэр, перешел в английский лагерь и даже под знамена Варвика, который, в свою очередь, отправился на службу в Лондон. Сэррей сначала не хотел верить, что лорд, защитивший его от Генриха VIII, мог искать службы у этого короля, но Брай уверил его, что регент получил на этот счет самые достоверные известия.
— Бьюсь с вами об заклад на бочку вина против одного пенни, что мы вскоре поработаем здесь! — сказал Брай. — Бэклей должен составить себе хорошую славу в глазах Варвика, и он попытается обрести ее ценой захвата Марии Стюарт. Надеюсь, что регент будет свергнут, а Дуглас со своими приверженцами снова введет прежнее правление, причем вдовствующую королеву изберут регентшей. Но, — заключил Брай свой рассказ, — регент поставил здесь хорошего сторожа: как охотничья собака, я выслежу Бэклея, прежде чем он подойдет к этому замку на три мили, и повешу его на самом высоком дереве, которое я только найду. Обратите внимание, не принимает ли вдовствующая королева каких-нибудь тайных послов, я был бы очень удивлен, если бы она не участвовала в заговоре.
Роберт призадумался. Если неизвестный, которого тайно выпустили из дворца, был лорд Бэклей, то было бы открытой изменой не признаться Вальтеру, что его подозрения были основательны. А можно ли было сомневаться в этом? Разве было бы неправдоподобно, что Мария Лотарингская готова была броситься в объятия англичан, лишь бы отнять власть у ненавистного регента? Разве она дрожала бы так перед раскрытием своих интриг, если бы дело шло не о государственном преступлении?
II
Пока Роберт размышлял, как бы ему предостеречь стрелка, не изменяя данному слову и не выдавая королевы, он был позван к Марии Лотарингской.
Заметив прибытие посланца, вдовствующая королева тотчас же вместе с Марией Сэйтон отправилась в галерею, из которой потайной ход вел в помещение, смежное с комнатой Сэррея. Услышав, что для нее есть письмо, она послала леди Сэйтон навстречу Роберту, а сама осталась подслушать его разговор со стрелком. Она выбрала себе в спутницы именно Марию Сэйтон, так как, во-первых, знала, что та одна могла влиять на Сэррея, и, во-вторых, ее первую следовало убедить в предательстве Роберта, прежде чем осмелиться снова думать о том, каким образом сделать его «немым».
Сэйтон вернулась обратно и принесла письмо. В узком проходе обе дамы пытались подслушать, сдержит ли Роберт данное слово. Когда они услышали громкий разговор, сконфуженная леди Сэйтон покраснела, а вдовствующая королева со страшной злобой топнула ногой и пробормотала:
— Этот хитрый плут догадывается, что мы подслушиваем! Но все же немыслимо, чтобы он знал об этом проходе!… Или вы, Мария Сэйтон, предупредили его?
— Ваше величество, этого подозрения я не заслужила! Я напоминала ему не нарушать данного слова, но я — не предательница, которая лишила бы вас возможности обличить его, если бы он оказался негодяем!…
Мария Лотарингская ничего не ответила. Когда Роберт и Вальтер стали говорить так тихо, что, несмотря на слуховые трубы, ничего из их беседы не было слышно, королева покинула свое место.
— Следуй за мной! — приказала она фрейлине и прошла в свой кабинет.
— Мария, — сказала она там, — этот паж слишком хитер, чтобы быть честным. Ты поручилась за него. Скажи мне, кто внушил тебе это доверие к нему?
Мария смущенно покраснела. Могла ли она похвастать, сказав: «Он будет верен, потому что любит меня?» Должна ли она была сознаться в том, что произошло в башне? Это одно могло убедить королеву, но признание ущемляло ее честь.
Королева становилась все настойчивее.
— Мария Сэйтон, — сказала она с нетерпением, — я не выношу мучительного сомнения, я не могу жить, терзаясь неизвестностью, предает ли нас этот паж или нет. Прошу еще раз, скажи, что внушает тебе доверие к нему, иначе я буду думать, что вся наша безопасность зависит от того, насколько твое кокетство в состоянии подчинить тебе этого мальчишку. Неужели мне придется прибегнуть к крайним мерам?..
Мария Сэйтон поняла значение этих слов, и, как ни тяжело ей было раскрыть тайну своего сердца женщине, бессердечие и эгоизм которой были ей известны, она решилась принести эту жертву, чтобы спасти Роберта и его гостя от «крайних мер» вдовствующей королевы.
Мария Лотарингская внимала ей с возрастающим интересом. Она и не подозревала, с какой смелостью и решимость действовал Роберт и как он уже до ее просьбы считал необходимым не компрометировать королеву.
И не только рассказ, но и краски, в которых Мария описывала происшедшую сцену, подействовали на королеву захватывающим образом. Юноша, которого она до сих пор считала нескромным, заносчивым, тщеславным человеком, подслушивающим у всех дверей, чтобы узнать, что делается в замке, увиделся ей вдруг совсем в другом свете; она стыдилась, что дурно поняла его, и почти завидовала Сэйтон за ее влияние на него.
— Лишь своим молчанием, — сказала вдовствующая королева, — ты виновата в том, что я упустила возможность перетянуть его на нашу сторону и смотрела на него, как на врага. Ты избавила бы меня от многих неприятных часов, если бы была откровенна. А регент пишет нам, что не нуждается в советах, — пробормотала она, шагая взад и вперед по комнате, — он благодарен за наше доброе желание облегчить его заботы… О, эта насмешка бесстыдна! Если я когда-нибудь достигну власти, — прошипела она дрожащими губами, — тогда его окровавленная голова будет торчать на зубцах башни моего дворца, а дикие лошади будут рвать его подлое сердце! Позови сюда Сэррея! — вдруг повелительно приказала она Марии. — Я должна сейчас же переговорить с ним.
Леди Сэйтон поклонилась и вышла из комнаты, чтобы передать Роберту Сэррею приказание королевы.
Некоторое время Мария Лотарингская была погружена в глубокое раздумье; она вся была полна жаждой мести.
— Я тоже еще прекрасна, — прошептала она, бросив взгляд в зеркало. — Посмотрим, не сможет ли эта красота одурманить пажа, отнять у регента верного слугу!…
Она остановилась перед зеркалом. Благородные и все же пышные формы женщины словно приподнялись и снова расцвели, после своего временного увядания в покое; как громовой дождь после долгой засухи освежает цветы, заставляя их благоухать, так воля женщины, желающей быть обольстительной, внезапно превратила ее в сладострастную сирену. Королева сорвала свою вдовью вуаль и распустила темные волосы, так что они рассыпались по всей спине, словно морская волна. Она отбросила тугой кружевной воротник, скрывавший шею, и распустила золотые шнуры, державшие верхнее одеяние. Она позвала свою камеристку и велела приготовить себе свой ночной туалет. Она, выдавая себя за больную, имела отличный предлог принять Сэррея в постели.
Жестокая радость вследствие задуманного плана горела на ее щеках, обычно бледных, и светилась в глазах, обыкновенно холодных и мрачных. Какое несравнимое удовольствие с помощью кокетства отнять у смертельного врага верного слугу, сделав его рабом своих желаний, и в то же время одержать победу над молодой женщиной, осмелившейся противиться ей, когда она думала о мщении! Какое веселое развлечение эта игра с юным пажом, и как гордо будет торжество, когда он, горя страстью и одурманенный ее чарами, даст ей клятву изменить регенту. В эту минуту Мария Лотарингская была прекрасна, как прекрасен демон-соблазнитель.
III
На окнах были спущены занавеси, а комната освещалась зажженным фонарем. Красный свет в соединении с полумраком комнаты давал волшебную игру теней, отражаясь розовыми лучами на постели и на прекрасной королеве. Камеристка зажгла благоухающее, одурманивающее курение, которое затемняет сознание людей еще ранее того, как они увидят богиню храма, и открыла дверь, чтобы впустить Сэррея, ожидавшего в передней, и сказать Марии Сэйтон, что она более не нужна королеве.
Навстречу Роберту из раскрытой двери несся запах амбры, и если он, в ожидании официального приема, готовился быть настороже с королевой и решил оставить ее в сомнении насчет своей уступчивости, то теперь, при виде представшего перед ним зрелища, был до крайности поражен. Он вступил в полутемную комнату, его ноги утопали в мягком, дорогом ковре, заглушавшем шаги; он вдыхал в себя сладкий, одурманивающий сладострастием аромат и видел перед собой на ложе роскошную и прекрасную женщину, словно осиянную жгучим солнцем Востока и созданную волшебной силой бога мечты. Неужели это была та самая королева, которая, бледная и мрачная, как окутывавшее ее траурное одеяние, отдавала приказ пытать его? Неужели это была Мария Лотарингская, гордая матрона с презрительно насмешливым взглядом? Или это была сирена, принявшая образ королевы, чтобы обольстить его?
Роберт остановился поодаль, пока королева слабым голосом не попросила его подойти поближе. Он не устремился исполнить этот приказ, а сделал несколько шагов к ней.
— Подойдите к самой постели, граф Сэррей! — сказала королева. — Мне вредно говорить громко. Я нездорова, последние дни страшно потрясли меня. Вы еще сердитесь на меня, Сэррей?
Вопрос был так внезапен, так неожидан, тон его так мягок, что Роберт почувствовал, как кровь закипела в его жилах.
— Вы не отвечаете? — продолжала королева, словно желая предупредить его ответ. — Это деликатно и благородно, благодарю вас. Вы могли бы только пристыдить меня; вы должны питать ко мне ненависть, я знаю, чувствую это, и эта ненависть справедлива. Несмотря на нее, я велела позвать вас, как единственного охранителя моих прав и безопасности. Разве это не безрассудно? Я не в состоянии спокойно рассуждать. Скажите мне, Сэррей, как это я пришла к тому, что доверяю именно вам?
Роберт с удивлением смотрел на странно изменившуюся женщину, думая, не смеется ли она над ним. Но ее глаза глядели на него так печально, так страдальчески и с такой мольбой, что тронули его сердце.
— Ваше величество, — сказал он, — если вы доверяете мне — это лучшее удовлетворение, которое вы могли бы дать мне!… Ни в каком случае чувство, внушающее вам это доверие, не будет обмануто мной: я буду служить вам честно и искренне.
— Вы? — страдальчески улыбнулась королева. — Вы, которого я чуть было не велела убить? Или, быть может, это было только сном? Была ли я в полном сознании, или видела все это во сне?
— Ваше величество! Вы были в полном сознании. Вы просто ненавидели того, кто помешал вашим планам, и придали значение злым нашептываниям негодяя. Теперь, когда я узнал, какую тяжелую борьбу вы выдержали, я понимаю, что жизнь какого-то пажа должна была вам представляться очень малоценной. Я понимаю вашу ненависть и горечь сердца, когда я освободился от цепей и надменно торжествовал, Я оскорбил вашу гордость, выставляя себя победителем, и я не мог больше рассчитывать на милость.
Королева посмотрела на Роберта с улыбкой, которая вызвала краску на его щеках.
— Вы глубоко проникаете в душу женщины, — прошептала она, — но все-таки недостаточно глубоко, Сэррей. Я ненавидела вас также еще и по другой причине. Я — женщина, и там, где королева требует почтения, женщина в ней требует ухаживания, льстящего ее тщеславию. Вы были свидетелем, как грубый слуга регента оскорбил меня, но не заметили моего взора, требовавшего от вас рыцарского порыва, но зато я видела, что подобный порыв тотчас же проявился, как только была обижена моя придворная дама. Сэррей, это может показаться мелочью, но такая мелочь оскорбляет глубже, чем скрытая насмешка. Я не ставлю вам в вину увлечение кокеткой, но вы хотели поступить на службу к моей дочери и равнодушно смотрите на то, как оскорбляют мою честь. К тому же вы знаете еще не все. В тот день я уже и без того была в сильном возбуждении, мои нервы были болезненно настроены и малейший пустяк мог рассердить меня.
— Ваше величество, — прервал ее Роберт, — быть может, вам представляется необходимым дать мне это объяснение, но объяснение тягостно для вас, а для меня постыдно.
— Но это необходимо, — возразила королева. — Как я уже сказала вам, я принуждена просить вашей помощи. Я уже думала о том, чтобы избрать посредницей Марию Сэйтон, но боюсь, что вы могли бы разгадать ее игру.
— Игру, ваше величество? Какую игру? — спросил Роберт более тоном упрека, чем с любопытством.
— Милый Сэррей, — засмеялась королева, — по этому поводу я могу дать вам объяснения только тогда, когда мы будем союзниками.
— Для союза необходимо полное доверие, ваше величество, — ответил Сэррей. — Если вам требуется какая-нибудь услуга, то в моем лице вы найдете самого послушного слугу, что же касается союза, то, прежде чем говорить о нем, я должен быть убежден, что ваше лестное предложение не является лишь приманкой, желанием возбудить мое тщеславие, над которым вы посмеетесь потом самым обидным образом.
— Как мало вы доверяете мне, Роберт! — прошептала королева. — А с другими вы более благородно доверчивы. Вы верите той женщине, которая недостойна вашего доверия. Скажу вам правду, граф Сэррей!… Вначале, когда Мария Сэйтон, смеясь, рассказывала мне, что вы для нас ничем не опасны, что она может заставить вас действовать гак, как ей угодно, я хотела воспользоваться влиянием этой маленькой кокетки для своих целей. Но теперь я изменила свое намерение. Сегодня, когда она сообщила мне о том, что произошло в башне замка, как вы хотели сломать свою шпагу в доказательство того, что жертвуете для нее своей честью, я пришла к заключению, что пора прекратить эту недостойную игру. С моей стороны было бы преступлением поощрять дальнейшее кокетство Марии Сэйтон.
— Мария Сэйтон все рассказала вам? — пробормотал Роберт, совершенно сраженный тем, что услышал. Мария Сэйтон смеялась над его самым святым чувством! Она издевалась, в то время как его сердце обливалось кровью! — Так по была игра, только игра! — снова пробормотал он.
— Да, это была игра! — подтвердила королева. — И недостойная игра, как я вижу. Вы побледнели, дрожите? Эта коварная кокетка не только нанесла удар вашему самолюбию, но и жестоко ранила ваше сердце?
Роберт пронизывающим насквозь взглядом смотрел на нее, как бы желая проникнуть в самую глубину ее души.
— Ваше величество, может быть, вы ошибаетесь? — прошептал он. — Скажите, что ошибка возможна, и я с радостью ухвачусь за малейшее сомнение. Ни однаженщина не может быть так жестока, так бессердечна! Нет, нет, это не так. Мария Сэйтон спасла меня от мук пытки и после такого великодушного поступка не станет издеваться над человеком, который ни в чем не провинился перед ней!
— Вы смотрите слишком серьезно на Марию Сэйтон, и потому у вас теплятся сомнения, — улыбаясь заметила вдовствующая королева. — Молодой девушке льстило ваше поклонение. Мы были в отчаянии, узнав, что регент прислал сюда свою стражу, и Мария решила попытаться склонить вас на нашу сторону. Заметив, что вы очарованы ее красотой, она пустила в ход кокетство, как военную хитрость. Не любовь к вам заставила ее спуститься к вам в подвал и прекратить мучения пытки, а боязнь, чтобы палачи не убили вас и не вызвали печальных последствий для королевы. Она надеялась совершенно овладеть вами, но так как это ей не вполне удалось, то она переменила тактику. Мария Сэйтон подслушала ваш разговор с посланцем регента и очень оскорбилась им. Вы легкомысленно говорили о ее любви и советовали быть осторожным. Марии самой надоела игра, тем более, что она не вполне удалась ей. Мне кажется, что вы можете упрекнуть молодую девушку лишь в вероломном кокетстве и больше ни в чем. Впрочем, я не знаю, может быть, она дала вам повод рассчитывать на серьезное чувство с ее стороны? Она говорила вам о нем?
— О, нет, ваше величество! — с горькой усмешкой возразил Роберт. — Наивный человек, еще верящий в добродетель, мог бы тешиться тщеславными мечтами, но я могу поклясться, что Мария Сэйтон была очень осторожна в своих выражениях. До сих пор, ваше величество, я не знал, что такое кокетство, теперь я постиг его.
— С какой горечью вы говорите это, Сэррей! — прошептала королева. — Бедный, вы серьезно любите ее! Но не теряйте надежды!… Быть может, Мария считает ваше чувство легким увлечением и потому и вела свою недостойную игру, а теперь, когда она узнает…
— Нет, нет, ваше величество, — прервал Роберт, — пусть Мария Сэйтон даже не подозревает, какое страдание причинила она мне. Если для вас имеет значение моя благодарность, то знайте, что я навеки буду признателен вам, если вы ничего не скажете ей о моем горе. Я могу перенести насмешки над своим глупым легковерием, над тщеславными мечтами, но не допущу, чтобы смеялись над страданиями моего сердца.
— Как? Вы обладаете таким мужеством? — воскликнула вдовствующая королева, приподнимаясь с подушек, причем намеренно или случайно легкая шелковая накидка сползла с ее плеча и обнажила белоснежную грудь. — Вы обладаете таким мужеством?.. Нет, нет, — прервала она себя, улыбаясь, — в вас говорит оскорбленная детская любовь. Приветливый взгляд Марии снова наполнит ваше сердце восторгом; достаточно одной ее улыбки, чтобы вы склонились к ее ногам. Да, ваша любовь — это любовь без гордости, без самолюбия; такая любовь забывает обман, терпеливо переносит все страдания и в конце концов выходит победительницей благодаря своему долготерпению. Благо тому, кто может так любить! Но это — иллюзия.
Сэррей невольно скользнул взглядом по обнаженным плечам и груди вдовствующей королевы и, встретившись с се взглядом, смущенно опустил глаза. Ее слова зажгли кровь в жилах молодого человека.
— Разве не всякая любовь — царство сладких иллюзий и грез? — спросил Роберт дрожащим голосом.
— Нет, Сэррей, — возразила вдовствующая королева, — гордые, сильные души не довольствуются мечтами и грезами, они борются на земле и побеждают. Только пустые, тщеславные женщины любят, чтобы их идеализировали, обоготворяли, это — кокетки с холодными сердцами, желающие сначала вызвать страсть, а затем насмеяться над ней. Гордая, сильная женщина тоже с удовольствием видит любимого мужчину у своих ног, но она не играет его чувством, она говорит мужчине, какой ценой он может заслужить ее любовь. Чем выше она стоит, тем труднее добиться ее расположения, но тем более чести покорить ее, тем сильнее и радостнее успех. Однако куда мы зашли? — улыбаясь, прервала себя Мария Лотарингская. — Я ведь позвала вас не для того, чтобы говорить о любви. Право, не знаю, каким образом мы коснулись этой темы.
— А я знаю, ваше величество! — живо воскликнул Роберт. — Вы хотели показать мне, как я был глуп и слеп, принимая отражение солнца за светило и не замечая самого солнца. Я поддавался чарам кокетки и забыл о храме, где в сиянии лучезарной красоты царствует богиня. Вот где этот храм, вот перед кем я должен преклонить колени! Скажите, наше величество, какой ценой я могу приобрести ваше расположение? Если бы вы даже потребовали для этого моей смерти, то и тогда цена вашей любви не показалась бы мне слишком высокой.
Роберт бросился на колени и, весь дрожа от страсти, схватил руку королевы.
— Если бы в тот день, когда вы прибыли сюда, вы склонились так передо мной и спросили меня, чем можете заслужить мою любовь, — прошептала королева, кладя другую руку на плечо Роберта, — то я ответила бы вам, что мне нужна только ваша верность. Но вы этого не сделали, так как видели перед собой лишь Марию Сэйтон. За это я возненавидела вас так, что хотела даже убить. Теперь я чувствую себя отмщенной. Ступайте к Марии Сэйтон и наслаждайтесь ее любовью!… При случае я замолвлю за вас словечко. Вы знаете, я слишком горда для того, чтобы быть соперницей своей же фрейлины.
— Да, вы правы, вы можете меня только презирать, — воскликнул граф Сэррей, вскакивая с пола. — Но вы ошибаетесь, если думаете, что я могу носить в своем сердце чей-нибудь другой образ, а не ваш. Вы открыли мне глаза, и я вижу теперь, как я был глуп и слеп. Вы отталкиваете меня — я подчиняюсь вашей воле, но уверяю вас, что те муки, которые я стану испытывать вдали от вас, будут гораздо чувствительнее, чем терзания пытки, которой вы пугали меня. Прощайте, ваше величество! Вы больше не увидите меня, и если вам придет когда-нибудь в голову мысль, что я оскорбил вас, то вы можете успокоить себя тем, что жестоко отомстили мне за эту обиду.
С последними словами Роберт хотел уйти, но вдовствующая королева удержала его.
— Роберт, — прошептала она, — я все прощу, если увижу, что могу верить вам, что вы действительно забыли Марию Сэйтон и хотите принадлежать мне.
— Душой и телом! — пылко воскликнул Сэррей, опускаясь на колени и охватывая руками стан вдовствующей королевы. — Если вы — демон-искуситель, я продам вам свою душу, отрекусь от ее спасения и готов собственной кровью подписать свое отречение.
— Так вы могли бы серьезно полюбить меня? — спросила королева полусомневающимся тоном.
— Испытайте меня, ваше величество, и если окажется, что я лгу, то прикажите вашим слугам вздернуть мое тело на виселицу.
— Роберт, — нежно проворковала вдовствующая королева, обнимая шею графа, если кто-нибудь настолько полюбит меня, что будет готов отдаться мне всей душой и телом, если кто-либо не побоится умереть за меня, не испугается пересудов и насмешек, то я сделаю такого человека самым счастливым на земле, я разделю с ним королевскую корону.
— Приказывайте! — воскликнул Роберт, сверкая главами. — Скажите, что нужно делать? Хотите, чтобы я убил регента и подготовил к восстанию благородных шотландцев?
— Ты способен это сделать, Роберт? — спросила Мария Лотарингская.
— Я все, все сделаю! Приказывайте! — воскликнул Сэррей, прижимая к губам ее ладони.
— В таком случае я посвящу тебя в свои рыцари! Преклони колени! Я надену на тебя знаки моего ордена, — улыбаясь, проговорила королева и, отстегнув бант со своей кружевной косынки, прикрепила его к плечу Роберта. — Теперь скажи мне, что тебе сообщил посланный регента, — продолжала она, — у тебя не должно быть от меня тайн.
Роберт с ужасом взглянул на вдовствующую королеву, которая с улыбкой требовала от него бесчестного поступка. Только теперь Сэррею стало ясно, какую ошибку он сделал в порыве страсти.
— Ты колеблешься? — с укором проговорила королева, приподнимаясь с места и снова, как бы случайно, спуская накидку со своих плеч. — Ведь ты только что уверял, что принадлежишь мне душой и телом, и уже колеблешься? Ведь ты поклялся мне в беспредельном послушании!
— Но еще раньше я присягнул регенту хранить его тайну, — возразил Роберт. — Я могу убить регента по вашему желанию, но не имею права нарушать клятву.
— У тебя честная душа, Роберт, — растроганным голосом заметила королева. — Но если бы ты только знал, как и ненавижу регента!… Я вся дрожу, когда слышу его имя! Одной его смерти для меня мало. Я хочу сначала низвергнуть его, уничтожить, оскорбить, как самого низкого человека, а затем только убить. Бели ты исполнишь это, разве любовь королевы менее ценна, чем слово, данное негодяю, который воспользовался твоей юношеской неопытностью и восторженностью для своих личных целей? Разве не более благородно защищать слабую женщину, чем в союзе с сильным мужчиной нападать на нее и шпионить за ней? Если ты даже нарушишь свое слово, данное регенту, то и в этом нет никакого бесчестия. Ведь ты обещал регенту свое содействие, не зная еще того, что он потребует от тебя. Ты поклялся ему в верности, думая, что участвуешь в рыцарском поступке, а не в мошеннической проделке.
— Я дал клятву регенту защищать вашу дочь от козней Генриха Восьмого, — возразил Роберт. — Скажите мне, ваше величество, что вы не ведете переговоров с англичанами, и тогда я без колебаний перейду на вашу сторону.
— Я не принимаю никаких условий, Роберт, — ответила королева, — мне нужно повиновение, слепое повиновение, иначе я не поверю твоей любви. Я вижу, впрочем, и без того, что ты не любишь меня. Для Марии Сэйтон ты готов был пожертвовать своей честью, а для меня не можешь! Уходи отсюда, я не признаю торга. Кто хочет покоиться в моих объятиях, тот должен принадлежать мне всецело, а не наполовину. Ты — холодный, расчетливый любовник, Ты взвешиваешь свое чувство, вместо того, чтобы сгорать от страсти; ты торгуешься там, ще каждый с радостью отдаст все, что имеет. Уходи, я не хочу больше ничего от тебя.
— Ваше величество!… клянусь вам… — пробормотал Роберт.
— Вон! — она резко прервала его, вскакивая с места, и останавливаясь перед коленопреклоненным молодым человеком в виде разгневанной богини. — Тебе, верно, хочется, чтобы я позвала своих людей и приказала вывести тебя отсюда?
Роберт задрожал от угроз королевы и, задыхаясь от страсти, охватил руками ее колени.
— Я повинуюсь вам, повинуюсь, — прошептал он, — я схожу с ума. Приказывайте — у меня нет воли, нет силы сопротивляться вам. Позвольте мне поцеловать вас… Мне нужно забыться, чтобы не слышать укоров совести, не помнить того, чего требует моя честь.
Вдовствующая королева опустилась на кушетку и завернулась в свою шелковую мантию.
— Такого послушания мне не нужно, — тихо проговорила она. — Тебе не следует бороться с собой, чтобы повиноваться мне, ты должен исполнять мою волю так же легко и свободно, как это делает моя собственная рука. Но я верю в твое доброе намерение служить мне и поэтому могу успокоить тебя: я с большим удовольствием увижу свою дочь в могиле, чем отдам ее в руки Генриха Восьмого… Моя дочь, дочь француженки, найдет себе приют во Франции, раз ей не дают им пользоваться у себя на родине.
— О, как вы были жестоки, что не сказали мне этого сразу! — воскликнул Роберт. — Чего мне стоило заглушить свою совесть!.. А между тем, если бы я знал истину, я с радостью повиновался бы вам, без всяких оговорок. Вы говорите, что я пожертвовал бы своей честью для Марии Сэйтон, если бы она потребовала это? Да, это так, но в следующую же минуту я убил бы себя или предал бы в руки регента, чтобы он беспощадно наказал меня. Я не был бы в состоянии вынести ваш гнев и сделал бы все, что вам угодно. Но разве вы могли бы уважать бесчестного человека, могли бы довериться тому, кто нарушил свою клятву?
— Не знаю! — задумчиво ответила королева. — Однако ты должен оставить меня, — прибавила она, как бы вдруг заметив, что Роберт остается слишком долго с ней наедине.
Мои придворные дамы, вероятно, негодуют, что ты уже целый час сидишь в моей комнате. Скажи скорее, что тебе сообщил посланный регента?
Сэррей, не колеблясь, рассказал ей все то, что узнал от Брая.
— Прекрасно, — заметила она, когда Роберт окончил свой рассказ, — мы найдем средство перехитрить этого Брая. Узнай, как он думает расположить своих людей. Сегодня ночью мы с тобой увидимся и переговорим о дальнейшем. Время проходит, а мой посланный, которого я отправила в Дэмбертон, может каждый день вернуться обратно. Приходи ко мне вечером, как только я отпущу своих камер-фрейлин. Войди в ту комнату, за дверью которой ты подслушивал наш разговор, оттуда пройди по галерее до лестницы, где тебя будет ждать наш духовник. Никто во всем замке, за исключением этого священника, не должен знать, что ты — мое доверенное лицо. Бант спрячь! Ну, иди!.. Я надеюсь на твой ум, думаю, что у тебя хватит ловкости для того, чтобы обмануть посланца регента.
Она сделала такой величественный жест рукой, чтобы Сэррей удалился, что юноша вздрогнул.
— Можно мне поцеловать вашу руку? — смущенно спросил он.
Королева, смеясь, протянула ему руку и прошептала:
— Сначала месть, а затем награда!
IV
Когда Роберт, выйдя от королевы, проходил по комнате, в которой собралась свита, ему казалось, что все присутствующие видят на его лбу печать предательства. Он собственно не нарушил своего слова, так как поклялся положить свою жизнь за Марию Стюарт и ни одной минуты не сомневался, что регент точно так же, как и Мария Лотарингская, преследует лишь личные цели; но сознание того, что он пошел на сделку, точно продал себя, угнетало его до последней степени. Совсем иначе чувствовал он себя, когда его сердце было полно любовью к Марии Сэйтон. Но молодая девушка позорно осмеяла его любовь!
«А можно ли верить Марии Лотарингской? — вдруг подумал Роберт. — Не изменит ли и она? Она потребовала от меня самой большой жертвы и затем отпустила так холодно, точно совершенно позабыла, какую цену предлагала за эту жертву. Может быть, теперь, достигнув своей цели, она оттолкнет меня? Нет, нет, это невозможно! — поспешил успокоить себя Роберт. — Если бы Мария Сэйтон не обманула меня, — продолжал он развивать свою мысль, — то вдовствующей королеве не удалось бы достигнуть своей цели».
Вся горечь, накопившаяся в душе Роберта при сознании, что он нравственно опустился, была направлена теперь против Марии Сэйтон, той девушки, которую он любил чистой, бескорыстной любовью!
В коридоре Роберта встретила сама Мария Сэйтон.
— Вы были у вдовствующей королевы, — прошептала она, — если вы рассердили ее, то будьте осторожны: Мария Лотарингская и так страшно зла на регента за его письмо. Заставляйте слуг пробовать все кушанья и напитки, которые будут подаваться вам. Но что с вами? Почему вы так странно улыбаетесь? Вы смеетесь над моими опасениями? Право, вы еще не знаете характера Марии Лотарингской.
Молодая девушка проговорила последние слова с видимой тревогой, в ее дрожащем голосе чувствовалось горячее, непритворное чувство. В другое время оно не ускользнуло бы от внимания Роберта, но теперь оскорбленное самолюбие, сознание своего неблаговидного поступка делали его глухим и немым ко всему окружающему.
— Берегитесь, прекрасная леди, — насмешливо ответил он, — я моту возгордиться и подумать, что вы желаете из ревности очернить свою повелительницу.
— Из ревности? — воскликнула Мария, и краска негодования залила ее щеки, а глаза вопросительно смотрели в лицо Роберта, как бы сомневаясь, действительно ли он позволил себе такую грубую выходку.
— Да, из ревности и досады, что, может быть, и другой женщине удалось одурачить влюбленного пажа, — ответил Сэррей. — О, я знаю, что тут не может быть и речи о ревности любви, так как я никогда не был настолько тщеславен, чтобы надеяться на серьезное чувство с вашей стороны. Да, прекрасная миледи, я был уверен, что вы можете снизойти лишь до мимолетной милости.
— Вы были совершенно правы, Роберт Говард, — гордо заметила Мария Сэйтон, хотя ее голос дрожал от обиды, — Мария Сэйтон не отдает своей любви глупцам, а тем более жалким людям.
Она повернулась к Сэррею спиной и быстрой походкой направилась к двери.
— Я был бы жалким человеком, прекрасная леди, если бы вам удалось завербовать меня в число ваших глупых поклонников! — крикнул Роберт вслед молодой девушке, изнемогая от чувства стыда, горечи и раскаяния.
Мария Сэйтон остановилась у дверей, на ее глазах дрожали слезы, а лицо приняло выражение горя и презрения.
— Роберт Говард, вы достигли того, что я стала презирать вас, — проговорила она, — ваши недостойные насмешки доказывают, что вы не заслуживаете ни участия, ни сострадания.
Молодая девушка давно скрылась, а Роберт все стоял на одном месте, точно пригвожденный. Слова Марии Сэйтон проникли в его душу.
«Ну, что же, — подумал он, — пусть презирает! Я и сам презираю себя. Но разве не хвастала она перед другими своей силой надо мной? Если она даже никогда не любила меня, то та минута, в которую я хотел пожертвовать для нее всем, тоже должна была быть для нее святыней. Нет, нет, нужно выбросить ее образ из своего сердца. Только холодный разум не обманывает. Я покажу Марии Сэйтон, что быстро утешился и презираю ее не меньше, чем она меня. Мария Лотарингская поступает честнее. Она требует, но предлагает и награду за свои требования».
Роберт вернулся к Браю в сильно возбужденном состоянии; его глаза сверкали мрачным огнем, лицо горело, сердце учащенно билось.
— Честное слово, женщины, видно, разгорячили вас, — засмеялся стрелок, встретив Роберта и испытующе глядя на него. — Могу себе представить, сколько они испускают яда по поводу письма графа. Да, Джеймс Гамильтон не станет рассыпаться в комплиментах.
— Этого никто не требует, — недовольным тоном возразил Роберт, — но — Простите меня, Вальтер! — нельзя не сознаться, что не особенно благородно третировать женщину, сидевшую когда-то на шотландском троне, как презренную тварь.
— Вот вы как заговорили? — проворчал стрелок. — Вижу, что бабьи слезы тронули ваше сердце! а я, приятель, скорее поверю клятвам влюбленного, чем слезам женщин!
— Что же? Каждый молодец на свой образец! — пренебрежительно заметил Сэррей.
— Замолчите, Роберт Говард, — воскликнул Вальтер, вскакивая с места. — Даю вам слово, что, если бы кто-нибудь другой произнес эту фразу и таким пренебрежительным тоном, я, нисколько не задумываясь, поднял бы против него свой меч. Но на вас я не сержусь. Вам лучше, чем кому бы то ни было известно, что мое сердце не остается непреклонным перед слезами одной из женщин, поэтому ваша фраза неуместна. Я не похож на вас лишь в том отношении, что умею отличать голубя от крокодила. Эта вдовствующая королева — холодная, гордая, бессердечная женщина. Она готова пожертвовать собственным ребенком для удовлетворения своего тщеславия; и доказательств этого недалеко искать. Ее слезы — это слезы бессильной злобы. Для того, чтобы отомстить, она готова пустить в ход и нож и яд, она ни перед чем не остановится.
— Но она все-таки женщина. Не забывайте этого, Вальтер Брай! — возразил Роберт.
— Называйте ее женщиной, если хотите, хотя в ней нет ни одной женской черты, за исключением ревности и низменной злобы, — проговорил Брай. — Скажите, кто из женщин способен предложить свою руку и сердце мужчине, которого она ненавидит, с единственной целью разделить с ним власть?
— Разве вдовствующая королева способна на это? Не думаю! — усомнился Роберт.
— Не только способна, но и предлагала себя в жены регенту, — ответил Брай. — Регент отклонил эту честь, и с тех пор Мария Лотарингская ненавидит его с удвоенной силой. Она противится союзу с Францией, к которому стремится регент, имея в виду благо. Шотландии и Марии Стюарт.
— Это — неправда! — горячо возразил Роберт. — Наоборот, вдовствующая королева желает, чтобы ее дочь поехала во Францию.
— Да, для того, чтобы надеть на себя шотландскую корону, она готова расстаться с дочерью, — заметил Брай. — Регент требует, чтобы Мария Стюарт приехала во Францию как шотландская королева, он хочет сохранить для Марии Стюарт корону. Только на таких условию регент соглашается, чтобы Мария Стюарт вышла за французского дофина. А вдовствующая королева соглашается на брак Марии Стюарт без всяких условий. Надеясь на помощь Марии Лотарингской, французы отклоняют справедливые требования регента. Всем известно, что вдовствующая королева тайно принимает французов, идущих против регента. Чтобы не дать возможности этим заморским птицам перелететь на наш берег, я везде расставлю свою стражу. Я надеюсь, что вы, как честный человек, не измените клятве, данной регенту, несмотря ни на какие женские слезы. Ну, спокойной ночи! Завтра навестите меня, мы еще с вами потолкуем.
Роберт проводил стрелка до его лодки. Протягивая ему руку на прощанье, Сэррей не мог смотреть прямо в глаза товарищу.
От внимания Брая не ускользнуло смущение Роберта, и он, пожимая руку молодого человека, сказал:
— Берегитесь женщин!… Предостерегаю вас еще раз. Женщина, достойная любви, должна приноравливаться к мужчине. Женщинам больше нравится твердый характер. Они смеются над слабыми мужчинами и играют ими. Будьте же настоящим мужчиной, Сэррей, и помните об этом всегда!
С последними словами Брай отчалил от берега.
«Будьте настоящим мужчиной», — повторил Роберт про себя сказанное приятелем, возвращаясь в замок. — Хорош же я мужчина! Я — раб, продавший свою волю. Но Вальтер Брай вовремя предостерег меня. Посмотрим, достойна ли награда королевы той жертвы, которую она потребовала от меня!»

Глава седьмая
НАПАДЕНИЕ

I
 Вдовствующая королева отпустила своих приближенных дам. Она была все в том же легком туалете, в котором принимала Роберта Говарда. Все свечи были погашены, за исключением одной, стоявшей на ночном столике. Наконец королева приподнялась, как только умолк последний звук в соседней комнате, и три раза ударила по ковру, висевшему над постелью. Вслед за этим дверь тихо открылась, и в комнату вошел духовник.
— Готово письмо? — спросила королева, дружески приветствуя его.
— Письмо здесь, но кто его доставит в Дэмбертон? — ответил священник. — Весь берег охраняется стражей регента, а его паж усердно следит за тем, что происходит вокруг в нашем замке.
— Этот паж сам и доставит письмо! — спокойно заметила вдовствующая королева. — Он перешел на мою сторону.
— Перешел на вашу сторону? — изумленно воскликнул священник. — Да сохранит вас Бог от подобной мысли. Роберт Говард — самый хитрый юноша из всех, кого я знаю.
— Но вместе с тем и человек, очень чувствительный к женской красоте. Надеюсь, что вы простите мне, если я несколько пококетничала с этим молодым человеком, хотя нисколько не горжусь той победой, которую одержала над ним. Он уже успел разболтать мне то, что ему сообщил посланец регента. Теперь должен доставить письмо в Дэмбертон, позвать Монгомери и переправить мою дочь во Францию! — закончила королева.
— А что будет дальше, ваше величество? — спросил священник.
— Затем, я надеюсь, глоток подслащенного вина избавит меня от присутствия этого милого юноши; это и будет ему наградой, о которой он мечтает. А может быть, регент, узнав о его измене, повесит его своевременно и тем избавит меня от лишних хлопот! — спокойно ответила вдовствующая королева.
— А вы уверены, что он исполнит ваше указание? — сомневающимся тоном заметил священник. — Будьте осторожны, ваше величество! У Марии Сэйтон сегодня заплаканы глаза, и я заметил, что она недоверчиво посматривает на вас и меня.
— Тем лучше, — возразила королева, — это доказывает, что яд уже начал действовать и Мария Сэйтон не станет предостерегать этого мальчишку. Однако пора ввести его. Он ждет вас у маленькой лестницы. Пойдите за ним и приведите сюда!
Духовник вышел и через несколько минут вернулся с Робертом.
— Вы аккуратны, — проговорила королева, с улыбкой отвечая на глубокий поклон графа Сэррея. — Просьба, с которой я обращусь к вам, доказывает величайшее доверие с моей стороны. Вы, кажется, говорили, что имеете право оставить наш замок на некоторое время?
— Совершенно верно, ваше величество, мне дано это право, так как та сторона берега тщательно охраняется! — ответил Роберт.
— А вы знаете, как расположена стража? — спросила королева.
— Я не расспрашивал об этом, ваше величество, из боязни возбудить подозрение! — заметил Сэррей. — Но могу узнать, в каких пунктах стоят часовые.
— Прекрасно! Узнайте, а затем поедете в Дэмбертон и передадите эго письмо барону д’Эссе! — приказала вдовствующая королева. — От него вы подучите дальнейшие инструкции.
— Ваше величество, я должен сообщить вам кое-что раньше, чем исполню ваше приказание.
— Говорите!
— Простите, ваше величество, но то, что я хочу сказать, не должен слышать никто из свидетелей! — заметил Роберт.
Королева нетерпеливым движением руки приказала духовнику удалиться.
— Будьте поблизости! — прибавила она.
— Ваше величество, и стены имеют уши. Я должен быть убежден, что его преподобие не может слышать нас! — настаивал Сэррей.
— Хорошо, хотя вы слишком требовательны!
Сэррей проводил духовника до лестницы и запер за ним входную дверь.
Когда он вернулся, королева нетерпеливо шагала взад и вперед по комнате.
— Что означает этот поступок? — холодно и властно спросила она. — Не понимаю, почему мой духовник не мог слышать то, что ты хочешь сказать! Ну говори!…
— Я люблю тебя, Мария, сгораю от страсти и требую награды, которую ты мне обещала! — воскликнул Роберт, обняв королеву.
— Вы с ума сошли! — воскликнула Мария, негодующе отталкивая Сэррея.
— Нет, Мария! У меня тоже должно быть доказательство, что я не обманут. То поручение, которое вы мне даете, может стоить для меня жизни, а поэтому я имею право просить обещанной награды! — спокойно возразил Роберт.
Королева побледнела, и ее глаза мрачно засверкали.
— А если я откажу вам в ней? — гневно спросила она. — Если я не исполню ваших дерзких требований? Что тогда?
— Тогда я спрячу ваше письмо у себя, как защиту от вашего гнева, и буду считать, что наш договор расторгнут! — ответил Роберт.
— Отдай письмо, — прошипела королева, вся дрожа от гнева, — сейчас же отдай письмо, мальчишка, иначе никакие силы на земле не спасут тебя от моей мести.
— От вашей мести? — повторил Роберт. — За что же вы собираетесь мстить мне? За то, что я потребовал обещанной награды, вы грозите местью?.. Я не так низок, чтобы предать женщину, если она даже обманула меня, но не хочу быть игрушкой ее настроения. Вы не согласны исполнить мою просьбу, следовательно, и сами не имеете права ничего требовать от меня. Что касается этого письма, ваше величество, то будьте уверены, что я не злоупотреблю им, как, надеюсь, и вы не злоупотребите той тайной, которую я доверил вам.
Вдовствующая королева закусила губы, чтобы ни одним звуком не выдать того, что происходило в ее гордом сердце. Паж снова перехитрил ее, и на этот раз она сама вложила ему в руки оружие, чтобы он погубил ее. В руках Роберта было письмо, из которого регент мог узнать не только ее планы, но и всех сообщников. Вдовствующая королева не могла позвать никого на помощь, так как все узнали бы, что она, по собственному желанию, впустила ночью к себе в спальню графа Сэррея. Поэтому ей приходилось выбирать: либо уступить наглому требованию пажа, либо жить в постоянной тревоге, что он умышленно или по неосторожности выдаст ее тайну регенту.
Гордость не позволяла вдовствующей королеве остановиться ни на одном из двух выходов. Мария Лотарингская считала за оскорбление, что ничтожный паж осмеливается претендовать на обладание ею. В эту критическую минуту у нее не хватало силы снова начать игру и выбрать для этого подходящую роль. Правда, на миг ей пришла в голову мысль постараться обмануть Роберта, и в то время, как он будет в ее объятиях, убить его; но она была слишком рассержена и никак не могла притвориться кроткой, любящей женщиной.
— Ну и держите у себя письмо! — наконец проговорила она, пронзив Роберта взглядом ненависти. — Что же делать!… Я слишком быстро поверила вам. Ступайте теперь к графу Аррану и похвастайте, что обманули женщину, которая отдала в ваши руки свою тайну. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой мести со стороны своего смертельного врага, чем протяну кончики пальцев наглецу, осмеливающемуся посягать на женщину, малейшее внимание которой — такая милость, что за нее можно заплатить жизнью.
С последними словами королева гордо указала графу Сэррею на дверь и повернулась к нему спиной.
— Ваше величество, за эту милость, о которой вы говорите, я заплатил тем, что гораздо дороже жизни — своей честью, — возразил Роберт. — Ведь не я первый осмелился поднять на вас взор, вы сами заговорили о любви, вы сами подали мне надежду. Если я оказался слишком смелым в своих мечтаниях, то ведь вы сами хотели этого. Вы можете смеяться над моей доверчивостью, моим легкомыслием, но сердиться на меня у вас нет никаких оснований. Наоборот, вы могли бы иметь что-нибудь против меня, если бы ваши чары оказались малодейственными, и я остался бы равнодушен к вашей красоте. Вы мало знаете меня, ваше величество. Очнувшись от опьянения, в котором я находился, когда вы говорили мне о вашей любви, я нашел, что не способен на измену. То, что я сделал, выдав вам тайну Брая, сделано мной в невменяемом состоянии… Теперь я прошу вас вернуть мне мое слово, которое я дал в забвении страсти. А вам нужна была только моя измена. Вы добились своего, и у вас не осталось даже ласковой улыбки, даже участливого слова для человека, пожертвовавшего ради вас своей честью. Вы не дали себе труда, ваше величество, поддержать во мне возбужденную вами иллюзию. Заподозрив это, я решил потребовать исполнения нашего условия, хотел убедиться, что данное слово и для вас обязательно. Я решил убедить вас, что не так глуп, как вы, по-видимому, думаете. Можете быть спокойны! Я не принадлежу к числу тех низких людей, которые пользуются чьим-нибудь доверием для предательства. Вот ваше письмо; возвращаю вам его обратно.
Роберт бросил письмо на пол, к ногам королевы, и вышел из комнаты через потайной ход.
У лестницы его нетерпеливо поджидал священник.
— Вам придется поискать другого посыльного для королевы, — быстро и отрывисто обратился к нему Сэррей, — но только предупредите ее, что я вместе со стрелками регента зорко буду охранять берег и следить за тем, что происходит в замке. Я никому никогда не донесу о том, что знаю, но зато с удвоенным рвением постараюсь быть бдительнее. Я был слишком снисходителен, считая строгость регента к вдовствующей королеве несправедливостью, теперь же, конечно, я так не думаю.
— Я ничего лучшего и не ожидал, — ответил священник, — благодарю Бога, что королева оказала такое доверие вам, а не кому-нибудь другому. Идите с миром, да благословит вас Господь, если вы действительно никогда не заикнетесь о том, что произошло!
Священник направился в комнату королевы, а Роберт поспешил уйти к себе.
Вдовствующая королева отпустила своих приближенных дам. Она была все в том же легком туалете, в котором принимала Роберта Говарда. Все свечи были погашены, за исключением одной, стоявшей на ночном столике. Наконец королева приподнялась, как только умолк последний звук в соседней комнате, и три раза ударила по ковру, висевшему над постелью. Вслед за этим дверь тихо открылась, и в комнату вошел духовник.
— Готово письмо? — спросила королева, дружески приветствуя его.
— Письмо здесь, но кто его доставит в Дэмбертон? — ответил священник. — Весь берег охраняется стражей регента, а его паж усердно следит за тем, что происходит вокруг в нашем замке.
— Этот паж сам и доставит письмо! — спокойно заметила вдовствующая королева. — Он перешел на мою сторону.
— Перешел на вашу сторону? — изумленно воскликнул священник. — Да сохранит вас Бог от подобной мысли. Роберт Говард — самый хитрый юноша из всех, кого я знаю.
— Но вместе с тем и человек, очень чувствительный к женской красоте. Надеюсь, что вы простите мне, если я несколько пококетничала с этим молодым человеком, хотя нисколько не горжусь той победой, которую одержала над ним. Он уже успел разболтать мне то, что ему сообщил посланец регента. Теперь должен доставить письмо в Дэмбертон, позвать Монгомери и переправить мою дочь во Францию! — закончила королева.
— А что будет дальше, ваше величество? — спросил священник.
— Затем, я надеюсь, глоток подслащенного вина избавит меня от присутствия этого милого юноши; это и будет ему наградой, о которой он мечтает. А может быть, регент, узнав о его измене, повесит его своевременно и тем избавит меня от лишних хлопот! — спокойно ответила вдовствующая королева.
— А вы уверены, что он исполнит ваше указание? — сомневающимся тоном заметил священник. — Будьте осторожны, ваше величество! У Марии Сэйтон сегодня заплаканы глаза, и я заметил, что она недоверчиво посматривает на вас и меня.
— Тем лучше, — возразила королева, — это доказывает, что яд уже начал действовать и Мария Сэйтон не станет предостерегать этого мальчишку. Однако пора ввести его. Он ждет вас у маленькой лестницы. Пойдите за ним и приведите сюда!
Духовник вышел и через несколько минут вернулся с Робертом.
— Вы аккуратны, — проговорила королева, с улыбкой отвечая на глубокий поклон графа Сэррея. — Просьба, с которой я обращусь к вам, доказывает величайшее доверие с моей стороны. Вы, кажется, говорили, что имеете право оставить наш замок на некоторое время?
— Совершенно верно, ваше величество, мне дано это право, так как та сторона берега тщательно охраняется! — ответил Роберт.
— А вы знаете, как расположена стража? — спросила королева.
— Я не расспрашивал об этом, ваше величество, из боязни возбудить подозрение! — заметил Сэррей. — Но могу узнать, в каких пунктах стоят часовые.
— Прекрасно! Узнайте, а затем поедете в Дэмбертон и передадите эго письмо барону д’Эссе! — приказала вдовствующая королева. — От него вы подучите дальнейшие инструкции.
— Ваше величество, я должен сообщить вам кое-что раньше, чем исполню ваше приказание.
— Говорите!
— Простите, ваше величество, но то, что я хочу сказать, не должен слышать никто из свидетелей! — заметил Роберт.
Королева нетерпеливым движением руки приказала духовнику удалиться.
— Будьте поблизости! — прибавила она.
— Ваше величество, и стены имеют уши. Я должен быть убежден, что его преподобие не может слышать нас! — настаивал Сэррей.
— Хорошо, хотя вы слишком требовательны!
Сэррей проводил духовника до лестницы и запер за ним входную дверь.
Когда он вернулся, королева нетерпеливо шагала взад и вперед по комнате.
— Что означает этот поступок? — холодно и властно спросила она. — Не понимаю, почему мой духовник не мог слышать то, что ты хочешь сказать! Ну говори!…
— Я люблю тебя, Мария, сгораю от страсти и требую награды, которую ты мне обещала! — воскликнул Роберт, обняв королеву.
— Вы с ума сошли! — воскликнула Мария, негодующе отталкивая Сэррея.
— Нет, Мария! У меня тоже должно быть доказательство, что я не обманут. То поручение, которое вы мне даете, может стоить для меня жизни, а поэтому я имею право просить обещанной награды! — спокойно возразил Роберт.
Королева побледнела, и ее глаза мрачно засверкали.
— А если я откажу вам в ней? — гневно спросила она. — Если я не исполню ваших дерзких требований? Что тогда?
— Тогда я спрячу ваше письмо у себя, как защиту от вашего гнева, и буду считать, что наш договор расторгнут! — ответил Роберт.
— Отдай письмо, — прошипела королева, вся дрожа от гнева, — сейчас же отдай письмо, мальчишка, иначе никакие силы на земле не спасут тебя от моей мести.
— От вашей мести? — повторил Роберт. — За что же вы собираетесь мстить мне? За то, что я потребовал обещанной награды, вы грозите местью?.. Я не так низок, чтобы предать женщину, если она даже обманула меня, но не хочу быть игрушкой ее настроения. Вы не согласны исполнить мою просьбу, следовательно, и сами не имеете права ничего требовать от меня. Что касается этого письма, ваше величество, то будьте уверены, что я не злоупотреблю им, как, надеюсь, и вы не злоупотребите той тайной, которую я доверил вам.
Вдовствующая королева закусила губы, чтобы ни одним звуком не выдать того, что происходило в ее гордом сердце. Паж снова перехитрил ее, и на этот раз она сама вложила ему в руки оружие, чтобы он погубил ее. В руках Роберта было письмо, из которого регент мог узнать не только ее планы, но и всех сообщников. Вдовствующая королева не могла позвать никого на помощь, так как все узнали бы, что она, по собственному желанию, впустила ночью к себе в спальню графа Сэррея. Поэтому ей приходилось выбирать: либо уступить наглому требованию пажа, либо жить в постоянной тревоге, что он умышленно или по неосторожности выдаст ее тайну регенту.
Гордость не позволяла вдовствующей королеве остановиться ни на одном из двух выходов. Мария Лотарингская считала за оскорбление, что ничтожный паж осмеливается претендовать на обладание ею. В эту критическую минуту у нее не хватало силы снова начать игру и выбрать для этого подходящую роль. Правда, на миг ей пришла в голову мысль постараться обмануть Роберта, и в то время, как он будет в ее объятиях, убить его; но она была слишком рассержена и никак не могла притвориться кроткой, любящей женщиной.
— Ну и держите у себя письмо! — наконец проговорила она, пронзив Роберта взглядом ненависти. — Что же делать!… Я слишком быстро поверила вам. Ступайте теперь к графу Аррану и похвастайте, что обманули женщину, которая отдала в ваши руки свою тайну. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой мести со стороны своего смертельного врага, чем протяну кончики пальцев наглецу, осмеливающемуся посягать на женщину, малейшее внимание которой — такая милость, что за нее можно заплатить жизнью.
С последними словами королева гордо указала графу Сэррею на дверь и повернулась к нему спиной.
— Ваше величество, за эту милость, о которой вы говорите, я заплатил тем, что гораздо дороже жизни — своей честью, — возразил Роберт. — Ведь не я первый осмелился поднять на вас взор, вы сами заговорили о любви, вы сами подали мне надежду. Если я оказался слишком смелым в своих мечтаниях, то ведь вы сами хотели этого. Вы можете смеяться над моей доверчивостью, моим легкомыслием, но сердиться на меня у вас нет никаких оснований. Наоборот, вы могли бы иметь что-нибудь против меня, если бы ваши чары оказались малодейственными, и я остался бы равнодушен к вашей красоте. Вы мало знаете меня, ваше величество. Очнувшись от опьянения, в котором я находился, когда вы говорили мне о вашей любви, я нашел, что не способен на измену. То, что я сделал, выдав вам тайну Брая, сделано мной в невменяемом состоянии… Теперь я прошу вас вернуть мне мое слово, которое я дал в забвении страсти. А вам нужна была только моя измена. Вы добились своего, и у вас не осталось даже ласковой улыбки, даже участливого слова для человека, пожертвовавшего ради вас своей честью. Вы не дали себе труда, ваше величество, поддержать во мне возбужденную вами иллюзию. Заподозрив это, я решил потребовать исполнения нашего условия, хотел убедиться, что данное слово и для вас обязательно. Я решил убедить вас, что не так глуп, как вы, по-видимому, думаете. Можете быть спокойны! Я не принадлежу к числу тех низких людей, которые пользуются чьим-нибудь доверием для предательства. Вот ваше письмо; возвращаю вам его обратно.
Роберт бросил письмо на пол, к ногам королевы, и вышел из комнаты через потайной ход.
У лестницы его нетерпеливо поджидал священник.
— Вам придется поискать другого посыльного для королевы, — быстро и отрывисто обратился к нему Сэррей, — но только предупредите ее, что я вместе со стрелками регента зорко буду охранять берег и следить за тем, что происходит в замке. Я никому никогда не донесу о том, что знаю, но зато с удвоенным рвением постараюсь быть бдительнее. Я был слишком снисходителен, считая строгость регента к вдовствующей королеве несправедливостью, теперь же, конечно, я так не думаю.
— Я ничего лучшего и не ожидал, — ответил священник, — благодарю Бога, что королева оказала такое доверие вам, а не кому-нибудь другому. Идите с миром, да благословит вас Господь, если вы действительно никогда не заикнетесь о том, что произошло!
Священник направился в комнату королевы, а Роберт поспешил уйти к себе.
II
На другое утро Сэррея поразил вид слуги, принесшего завтрак: глаза у него бегали, он как-то странно ежился и оглядывался по сторонам.
Роберт вдруг вспомнил совет Марии Сэйтон не прикасаться к напиткам и кушаньям, не дав их предварительно попробовать тому, кто будет служить за его столом. Он взял бокал и налил в него вино, пристально глядя на лакея.
Тот побледнел, его колени подгибались.
— Что с тобой? — спросил Роберт. — Разве ты принес мне плохое вино? Попробуй прежде сам, а потом я выпью.
Лакей бросился перед графом на колени и умоляюще произнес:
— Не пейте этого вина! Так будет лучше, Я не знаю, хорошее ли оно или плохое, но вас крайне ненавидят в этом замке, и это вино было приготовлено специально для вас.
— Кто тебе дал его? — спросил Роберт.
— Не спрашивайте меня об этом, я не смею сказать!
— Ну, хорошо! — согласился Сэррей и дал лакею знак, что он может удалиться.
«Итак, это — яд! — размышлял Роберт. — Впрочем, кто может поручиться, что бедному малому не чудится беда! С этой ночи слуги особенно внимательны ко мне. Они знают, что месть регента отразится скорее на них, чем на вдовствующей королеве».
Он опустился в кресло и погрузился в свои думы. Если это вино действительно отравлено, то он снова обязан жизнью Марии Сэйтон. Ее предупреждение сделало его более осторожным и недоверчивым. И как раз в ту минуту, когда она предостерегала его, он кровно оскорбил ее. Раз она уже спасла его, стукнув в железные двери подвала, этот стук испугал холопов и они выпустили его. Весьма возможно, что Мария поступила так не из интереса к нему, даже не из чувства жалости, а из боязни печальных последствий, тем не менее факт оставался фактом: она спасла его тогда от смерти, и теперь он обязан ей своим спасением. Он оскорбил Марию Сэйтон вследствие сердечной обиды, но было ли у него достаточно оснований поступить так? Кто обвинил Марию Сэйтон? Женщина, которая ненавидела его и, вместе с тем, вероятно, была недовольна молодой девушкой, помешавшей ей отомстить ему.
Роберт взял кружку вина и вылил его в камин. Когда он поднял серебряное блюдо с жарким, чтобы тоже выбросить его, он нашел под блюдом, на подносе, листок бумаги, исписанный мелким почерком.
«Чтобы отклонить от себя упрек в ревности, — гласило письмо, — я заменила предназначавшийся для Вас завтрак другим. Желаю Вам приятных воспоминаний об удовольствиях той ночи. Я только теперь вполне поняла, как глубоко было то оскорбление, которым Вы поразили меня вчера. Знайте, Роберт Говард, что я еще больше жалею Вас, чем презираю. Если в Вашей душе осталась хоть искра порядочности; то избавьте меня от неприятного чувства встречаться с человеком, в котором я так жестоко ошиблась. М. С.»
Письмо Марии совершенно уничтожило Роберта. Однако воспоминание об «удовольствиях ночи» утешало тем, что Мария Сэйтон не была в такой мере оскорблена, как думала! Но каким образом объяснить ей, что грубое оскорбление явилось следствием поруганного чувства? Да, наконец, могло ли это быть для него извинением? Роберту казалось, что жизнь для него окончилась. Сладкие мечты первой любви рассеялись как дым, и тяжелые воспоминания, по его мнению, должны были тенью лечь на все его дальнейшее существование.
Роберт взял бумагу и написал ответ:
«Исполняя Ваше желание, леди Сэйтон, я постараюсь как можно реже появляться в замке. Вы правы — я больше заслуживаю сожаления, чем презрения. Я не должен был так близко принимать к сердцу то, что, может быть, было лишь результатом минутного настроения. Если бы я не так сильно любил Вас, то, вероятно, был бы спокойнее. Страсть к Вам заставила меня забыть чувство благодарности и уважения. Я не могу сказать Вам, что так сильно взволновало меня, что лишило меня разума и довело до того, что я осмелился так низко, так недостойно оскорбить Вас. Да и к чему было бы это говорить? Вы никогда не выказывали мне особенного доверия, а теперь тем более не поверили бы мне. В одном только могу уверить Вас — и последствия это докажут, — что я сдержу свое слово. Из благодарности к Вам, я не стану мстить за «удовольствия этой ночи» особе, для блага которой Вы готовы принести какую угодно жертву. Роберт Говард, граф Сэррей».
Передав письмо лакею, который казался Роберту вполне благонадежным после происшедшей сцены, он снял лодку с цепи и переплыл на другую сторону озера, ни разу даже не оглянувшись на стены замка, где ему пришлось в течение нескольких дней пережить столько необыкновенного.
III
По ту сторону озера находилась так называемая «крепость». Это было мрачное здание с толстыми стенами, амбразурами и башней, на которой всегда дежурил часовой. Его обязанность состояла в том, что он уведомлял караульного, находившегося на башне замка Инч-Магом, когда лодка должна причалить к замку и отчалить обратно. По приказанию регента, во время пребывания королевы в Инч-Магоме, все суда подвергались строжайшему осмотру. Сообщение между жителями замка и Дэмбертона было совершенно отрезано, и если какое-нибудь письмо проникало из Инч-Магома в Дэмбертон и обратно, то это объяснялось недостаточным надзором со стороны коменданта крепости.
Вальтер Брай, сейчас же по приезде в Ментейт, принял самые строгие меры для того, чтобы из замка и в замок не передавались никакие вести. Каждый, кто приезжал из Инч-Магома, подвергался тщательному обыску, и сам Брай, к величайшему неудовольствию коменданта, осматривал лодку с провизией, которую нагружали жители соседних деревень для обитателей замка.
Когда Сэррей подъехал к пристани, он застал Вальтера именно за этим занятием. Поприветствовав его, он, чтобы не мешать ему, сел у окна и отлично мог следить за тем, что происходит снаружи. Случайно его заинтересовал лодочник, который снял свою шапку с гербом регента, бросил ее на дно лодки и, выскочив на берег, стал нетерпеливо ходить взад и вперед, бросая беспокойные взгляды на пристань, точно поджидая кого-то или стараясь убедиться, не следил ли кто-нибудь за ним. Вдруг он исчез в кустарнике, и через несколько минут со стороны леса показался лодочник, совершенно не похожий на первого, хотя у него была точно такая же длинная черная борода и одет он был в такие же брюки и зеленую фуфайку. Второй лодочник тоже несколько времени походил по берегу, затем сел в лодку и надвинул на глаза шапку, брошенную первым перевозчиком на дно лодки. Только очень внимательный наблюдатель мог заметить, что это — не тот молочник, который привез Сэррея. В ту минуту, когда второй перевозчик сел в лодку, из-за кустов показался какой-то человек. Хотя он был теперь без бороды и на нем не было зеленой фуфайки, тем не менее для Роберта не было сомнений, что он видит перед собой первого лодочника.
Сэррей поднялся с места, чтобы проследить за этим человеком; но ему не пришлось пройти и нескольких шагов, кик он увидел, что незнакомец делает таинственные знаки коменданту крепости. Для Роберта стало совершенно ясно, что тайна передачи писем открыта. Несомненно, что комендант крепости был подкуплен партией вдовствующей королевы.
Вальтер Брай не заметил обмана; мнимый перевозчик сел в нагруженную лодку, и она направилась обратно в Инч-Магом. Сэррей решил сразу не сообщать о сделанном наблюдении, а хотел проследить, что будет дальше: поменяются ли снова лодочники своими костюмами, передадут ли они что-нибудь друг другу, и лишь после этого, смотря по обстоятельствам, или посвятить в свою тайну Вальтера Брая, или лично принять нужные меры.
Брай был в очень возбужденном настроении. Когда лодка отчалила и оба приятеля сидели в деревенской пивной, Вальтер дал волю своему негодующему чувству.
— Или вы плохо следите за тем, что происходит в замке, — обратился он к Роберту, — или сам черт помогает этим бабам. Представьте себе, им снова удалось переправить тайно письмо в Дэмбертон. Караульный у ворот монастыря, лежащего по дороге в Дэмбертон, сообщил мне, что сегодня утром проскакал мимо всадник. Караульный окликнул его и, когда тот не отозвался, выстрелил в него. Держу пари, что это был курьер с депешей. Но каким образом письма переплывают через озеро — для меня остается загадкой.
— А приезжала сюда лодка из Инч-Магома? — спросил Роберт.
— Да, ночью приезжал духовник. Он сказал мне, что должен причастить умирающего крестьянина в селе. Когда я спросил, каким образом он узнал, что крестьянин умирает, священник вместо ответа расхохотался мне в лицо. Но он не солгал. Я пошел вместе с ним и действительно нашел умирающего.
— Вот вам и объяснение, каким образом письмо переплыло сюда, — улыбаясь заметил Роберт, — духовник мог привезти письмо с собой или написать его здесь.
— Нет, это невозможно! — возразил Брай. — Я обыскал его и затем велел следить за ним, пока он не отчалил от берега.
— Следить надо лучше, — посоветовал Сэррей.
— Я и слежу! — ответил Брай. — Сам осматриваю каждую лодку, каждого проезжающего.
— Это вы напрасно делаете, — заметил Роберт, — каждый день осматривать всех у вас не хватит сил и волей-неволей вам придется предоставить это кому-нибудь другому. Я придумал лучший план. Если письма попадают сюда, беды в этом нет: в Инч-Магоме ничего не могут сделать без помощи извне. На вашем месте я смотрел бы сквозь пальцы на писание писем, это сделало бы приближенных вдовствуюшей королевы смелее, и тогда нам открылись бы их карты. Вместо того, чтобы охранять берега озера и следить за замком, я готовился бы к нападению. Я расставил бы везде по деревне патрули, обыскал бы всех крестьян, чтобы убедиться, не скрывается ли враг среди них. Причем не считал бы, конечно, врагами тех, кого мы призваны защищать.
— Честное слово, ваш план очень хорош! — воскликнул Брай. — До сих пор я не думал о нападении, но вы правы. Раз здесь шныряют разные рассыльные, то могут пробраться и переодетые солдаты. Вы можете один остаться в замке и следить за тем, что там происходит. В случае необходимости вы должны потопить судно, вот и все.
— Ваше предложение мне не особенно нравится, Вальтер, — возразил Сэррей. — Я убедился, что мне нечего делать в замке. Я буду здесь следить за озером и берегом, а вы сделайте разведку вокруг. Дайте мне десять или двенадцать ваших стрелков, и я ручаюсь вам, что хитрость этих женщин не приведет ни к чему.
— Я охотно дам вам своих стрелков, если вы берете ответственность на себя! — проговорил Брай.
Приятели условились, что Брай, взяв половину солдат, отравится в тот же день на разведку по направлению к Дэмбертону, а вторая половина останется частью оберегать пристань, частью следить за деревней и замком.
Около полудня стрелки сели на лошадей и поскакали к Дэмбертону. Комендант крепости с иронической улыбкой смотрел им вслед. В это же время на башне Инч-Магома стояла Мария Лотарингская со своим духовником и еще каким-то человеком, одетым в толстую зеленую фуфайку, какие носят лодочники. Позади вдовствующей королевы находились придворные дамы. Все они насмешливо улыбались, только Мария Сэйтон не проявляла никаких признаков злорадства.
— Все вышло так, как мы ожидали, — с ехидным смехомпроговорила Мария Лотарингская, и ее темные глаза засверкали адским пламенем. — Хитрый паж рассказал тому грубияну-стрелку, что мы ждем помощи из Дэмбертона, и вот эти храбрые воины уселись на лошадей, чтобы схватить графа Монгомери. А отважные французы приготовили нам помощь по ту сторону озера. Безумно смелая мысль пришла ним в голову, лорд Бэклей. На глазах этой глупой стражи вы переправились к нам в костюме лодочника, чтобы сообщить эту радостную весть! Да, само провидение помогает нам. И комендант делает приветственные знаки. Еще одна ночь — и мы будем на свободе!
— Совершенно верно, ваше величество! — поклонился ей Бэклей. — Сидя на корабле «Франция», вы продиктуете графу Аррану свои условия. Ему придется принять их, если он не желает вовлечь Шотландию в междоусобную войну.
— Условия! — процедила вдовствующая королева, и загадочная улыбка заиграла на ее лице. — Может быть, нам потребуется голова изменника. Надеюсь, когда я представлю французскому дофину мою дочь Марию Стюарт, шотландский парламент провозгласит меня правительницей; в противном случае французские войска заставят мятежную страну признать их требования.
— Бартон д 'Эссе считает ваши притязания вполне справедливыми, — заметил Бэклей, — и я, в свою очередь, ручаюсь вам, что все шотландское дворянство, за исключением нескольких мятежников, в ту же минуту оставить графа Аррана, как только вы покажете ему, что он должен склониться перед волей королевы.
Мария Лотарингская с довольным видом кивнула головой. Ее глаза сияли гордым торжеством.
— Вот еще что, — прошептала она Бэклею, — паж, живший здесь в замке, глубоко оскорбил меня. Надеюсь, вам удастся схватить его живым и доставить в Дэмбертон. Смотрите, остерегайтесь его! Он очень хитер и подозрителен.
— Я видел эту разряженную обезьяну на пристани, ваше величество; мы доставим его в Дэмбертон и прежде всего прикажем высечь! — ответил Бэклей. — Как только стемнеет, наши люди переоденутся в крестьянское платье и проникнут в квартиру стрелков. Комендант крепости не пожалеет вина, чтобы ускорить дело. Как только гарнизон будет арестован, мы поставим три зажженные свечи на угловое окно башни, это будет сигналом того, что все готово к побегу. Граф Монгомери предоставил мне честь сопровождать вас, ваше величество, и вашу дочь, а сам будет в это время ждать возвращения стрелков. Было бы желательно, чтобы вы и ваши дамы надели военные костюмы, чтобы не привлекать внимания людей в тех местностях, где мы будем проезжать.
— Прекрасно, — с улыбкой согласилась Мария Лотарингская, — мне пришла в голову хорошая мысль по этому поводу. Мария Сэйтон одного роста с пажом Сэрреем. Если она наденет его мундир, то, в случае надобности, может отдавать распоряжения от его имени.
— Это — великолепная мысль, ваше величество, — воскликнул Бэклей. — Но если леди Сэйтон согласна на это, то было бы лучше, если бы она заранее переправилась на тот берег, ведь Брай может вернуться раньше, чем мы ожидаем.
— Вы решитесь на это, леди Мария? — спросила королева.
— Если это требуется для блага королевы, то я с радостью пойду на все и отдам за нее свою жизнь! — ответила Мария Сэйтон.
Переговорив подробно о том, что предстояло делать, Бэклей откланялся, и духовник поехал опять в деревню, чтобы помочь мнимому лодочнику переправиться на противоположный берег.
От взгляда Роберта не укрылось, что на башне замка Инч-Магом движутся какие-то фигуры. У него явилось подозрение, что в Инч-Магоме могут воспользоваться отсутствием Брая для того, чтобы увезти королеву. В это время к Сэррею вошел комендант крепости и попросил разрешения угостить стрелков вином по случаю именин регента. Роберт не мог отклонить эту просьбу, но, как только комендант ушел, чтобы сделать соответствующие распоряжения, он созвал солдат и попросил их быть очень умеренными в питье, обещая за это двойную награду, а тем, и из напьется, пригрозил суровым наказанием.
Убедившись, что на людей Брая можно вполне положиться, Роберт прошел в свою квартиру в сопровождении одного из солдат. Под видом шутки он с помощью стрелка переоделся в простое солдатское платье; он сделал это для того, чтобы можно было незаметно смешаться с толпой.
Как только рог на башне возвестил, что к Ментейту приближается лодка, на берегу появилась толпа народа, среди которой был и Сэррей. Число любопытных оказалось необыкновенно велико, и Роберт не мог не заметить, что среди присутствующих крестьян было много таких, которые никогда в жизни не видели ни сохи, ни плуга. Мнимый перевозчик вышел из лодки в то время, когда духовник разговаривал с комендантом, который для вида обыскал его. Лодочника сейчас же окружили какие-то подозрительные личности. Так как Брай отсутствовал, а Сэррея не видели, то на этот раз обошлись без той комедии переодевания, которая производилась утром. Роберт последовал за толпой, окружавшей мнимого лодочника. Вдруг вся кровь застыла в жилах Сэррея — он узнал в одном из крестьян слугу графа Варвика.
Следовательно, это были не французы, а англичане, солдаты Генриха VIII, покушавшиеся на шотландскую королеву. Вот с кем была в заговоре Мария Лотарингская!
Роберт вспомнил, как Брай рассказывал ему, что его смертельный враг, Бэклей перешел на сторону англичан. Теперь было ясно, откуда шла измена.
Опасность была очень велика и с каждой минутой приближалась. На северной стороне находился уединенный дом, расположенный на значительном расстоянии от других домов. Сюда направилась толпа, окружавшая мнимого лодочника. Через несколько минут Роберт увидел, что из ворот дома показался всадник и быстро умчался.
Сэррей решил, что каждая секунда промедления приносит непоправимый вред, что нужно действовать как можно скорее, а между тем он не мог с уверенностью сказать, на кого ему следует рассчитывать! В его распоряжении было всего около двадцати пяти стрелков, неприятель же мог быть гораздо сильнее, да, по-видимому, и крестьяне были на стороне вдовствующей королевы.
Прежде всего нужно было предупредить стрелков о грозящей опасности и оградить пристань от врагов. С этой целью Роберт поспешил к крепости. Еще издали он услышал веселые голоса и раскаты смеха. В первой комнате сидели за кружками вина солдаты в обществе крестьян подозрительного вида. Дверь, которая вела на лестницу башни, была заперта на ключ.
Роберт снял с себя солдатскую шинель, наброшенную на его обыкновенное платье, и вошел в комнату. Комендант, взяв бокал вина в руки, пошел к нему навстречу.
— Добро пожаловать! — приветствовал он Роберта. — А мы уж боялись, что не увидим вас на нашем празднике, За здоровье регента!
Сэррей чокнулся с командиром, но к вину не прикоснулся и произнес:
— Мне очень жаль, что приходится помешать вашему пиру, но я обещал Браю последовать за ним со стрелками.
— Вы хотите уехать? — недоверчиво спросил комендант.
Роберт между тем сделал знак солдатам, и те поднялись со своих мест.
— Мы только сделаем маленький обход, чтобы исполнить возложенную на нас обязанность, — ответил Сэррей, — а затем можете пировать хоть до утра, если хватит выпивки.
Уход солдат вызвал недовольные возгласы среди присутствующих. Достаточно было одного слова коменданта для того, чтобы началась кровопролитная схватка, но слова Сэррея успокоили его.
Он вышел вместе с Робертом в переднюю, и там Сэррей прошептал ему на ухо:
— Надеюсь, что никто не узнает, если я отлучусь ненадолго из Ментейта: у меня назначено свидание. Ведь вы остаетесь здесь и в случае надобности можете распорядиться за меня.
— Конечно, конечно, можете быть спокойны, — довольным тоном ответил комендант, которому было на руку отсутствие Сэррея. — Что у нас может произойти? Мы живем в такой тишине!
Роберт между тем приблизился к дверям, которые вели на лестницу башни, и шутливо обратился к коменданту:
— Пожалуйста, поднимитесь наверх и посмотрите хорошенько, не видно ли каких-нибудь отрядов солдат, не собираются ли они штурмовать Инч-Магом, а я тем временем сделаю обход.
Комендант засмеялся над легкомысленным юношей, так доверчиво шутившим с ним, отпер дверь и стал подниматься по лестнице. Но едва он достиг башни, как увидел позади себя Роберта, и шпага последнего блеснула перед его глазами.
— Если вы издадите хоть звук, — шепнул Роберт, — то будете немедленно убиты! Свяжите его и заткните ему рот! — приказал он стрелкам, которые смотрели на него с удивленным недоумением. — В Ментейте англичане, негодяй хотел предать нас!
Комендант не решился звать на помощь, так как чувствовал у горла острие шпага Роберта.
— Теперь заприте ворота, — приказал Сэррей, когда коменданта связали. — Просуньте железные засовы — тогда мы посмотрим, как проберутся враги через защищенные решетками окна!
В то время как часть стрелков принялась исполнять это распоряжение, Роберт с остальными шестью влез на сторожевую башню. В комнате сторожа сидел духовник из Инч-Магома, занимавшийся тем, что приспосабливал три свечки у верхнего окошка. Сторожа связали, и один из стрелков занял его пост.
Таким образом, ближайшая опасность была устранена, башня была в руках Роберта, а в случае крайней необходимости он мог отражать оттуда в течение нескольких дней всякую атаку с помощью стрелков.
Но этого было мало — он должен во что бы то ни стало помешать бегству королевы Марии Стюарт.
Оглянувшись, Сэррей заметил, что солнце почти скрывалось за горизонтом, но было еще достаточно светло, чтобы иметь возможность рассмотреть, что вдали, на горизонте, двигалась какая-то темная масса. Если это была вражеская конница, то она могла бы меньше чем в час достигнуть берега озера, и тогда уже никто не смог бы помешать челноку пристать к берегу вне досягаемости выстрелов с башни.
Роберту пришло в голову, что три зажженные свечи могли быть условным сигналом. Правда, это могло быть также знаком неудачи, но Сэррей приказал снова зажечь свечи и к своему удовольствию увидел, как сейчас же вслед за этим от Инч-Магома отъехала лодочка.
Он торопливо сбежал вниз по лестнице, накинул на себя рясу с капюшоном духовника и скользнул к берегу. К этому времени стемнело уже настолько, что Сэррей мог рассчитывать не быть узнанным. Но каково же было его удивление, когда он увидел, как из челнока выскочил паж, одетый в его, Роберта, платье.
— В чем дело, ваше преподобие? — услыхал он дрожащий голос Марии Сэйтон. — Ведь три свечи должны были быть зажжены только тогда, когда королева может бежать. Разве граф Сэррей уже арестован?
— Пока еще нет, леди, — измененным голосом ответил ей Роберт. — Это удовольствие мы доставим вам позднее!
Мария удивленно вскинула свой взор, так как голос показался ей слишком странным. Вдруг она узнала Сэррея, и крик отчаяния сорвался с ее уст.
Подоспевшим стрелкам Роберт велел арестовать лодочника.
— Отведите леди в башню, — приказал он. — Да смотрите, хорошенько стерегите ее!
Затем послал трех стрелков на другой берег озера дать сигнальный выстрел из пушки и поднять по тревоге стражу замка, если та не усыплена снова сонным питьем. После этого он вернулся в башню, велел стрелкам занять бойницы, заперев изнутри все выходы железными засовами, и только после этого отправился к пленникам.
— Вам не везет, леди, — сказал Сэррей. — Я снова не попал в расставленную мне ловушку, и как вам однажды не удалось поиздеваться надо мной в подвале замка, так и сегодня придется отказаться от торжества увидеть, как я буду отдан во власть вдовствующей королевы!
Мария молчала. Отвернувшись от него, она закрыла руками лицо.
— Леди! — продолжал Роберт. — Вы писали, что жалеете и презираете меня. Сегодня утром мне было безумно больно от этого, потому что я чувствовал себя совершенно невиновным в том, в чем вы обвиняли меня. Но теперь я удивляюсь вашему лицемерию, постыдному предательству!
— Перестаньте, Роберт Говард! — перебила его Мария, покраснев от стыда и гнева. — Нет ничего постыднее как издеваться над пленником. Если я изменила, то только для того, чтобы исполнить свою священную обязанность и помочь моей королеве ускользнуть от сыщиков и соглядатаев регента. Вы же — холоп дерзкого тирана. Вы лжете, будто хотите защитить королеву, вы просто исполнительный раб шотландского палача!… Честного врага я еще могла бы уважать — но такого…
В комнату ворвался стрелок и перебил речь Марии Сэйтон воплем:
— Идут!
— Чтобы никто не осмеливался стрелять, пока я не дам знака! — воскликнул Сэррей. — Нам нужно выиграть как можно больше времени.
— Роберт! — воскликнула Мария Сэйтон, падая на колени перед Сэрреем. — Еще раз заклинаю вас, не мешайте королеве бежать. Я готова отдать за это даже свою жизнь!
— Леди, — холодно ответил Роберт, хотя его голос заметно дрожал при этом, — даже если бы я все еще любил вас, как в те первые дни, то и тогда я не послушался бы вас. Нм требуете от меня несчастья Марии Стюарт, я же поклялся защищать ее!
Глухой звук выстрела прогремел со стороны Инч-Магома. Сторожевая пушка замка дала сигнальный выстрел, поднимая тревогу во всех окрестных деревнях, и в тот же момент земля затряслась от топота копыт.
— Слишком поздно! — пробормотала Мария Сэйтон. — Так будьте же прокляты, Сэррей! Пусть будет проклята та женщина, которую вы будете любить в будущем, и да падет она от такого же предательства, какое вы уготовили шотландской королеве!
— Дать залп по коннице! — скомандовал Сэррей, которого страшно задело это проклятие. — Стреляйте в холопов английского палача! Сбрасывайте на их головы плиты и камни!
Голос Роберта гремел в башне, а дикие проклятия и бешеный вой атакующих вскоре доказали ему, что кровавое дело началось. Всадники уже наполовину спешились перед башней, и теперь смерть загуляла по тесно сомкнувшимся рядам. Они не успели еще сообразить, что им угрожает, как сверху на них покатились плиты, положившие сразу на месте несколько дюжин, а громадные камни, сброшенные на них с зубцов башни, убивали на месте всадников вместе с лошадьми. Тем временем сигнальная пушка замка продолжала давать выстрел за выстрелом, призывая население к оружию, и каждая секунда промедления делала спасение бегством все невозможнее. Поэтому все, кто еще не пал окровавленным на землю, поспешили вскочить на коней и дали им шпоры, и через несколько минут были слышны только стоны умирающих и крики торжества победителей.
IV
Для Марии Сэйтон бегство королевы, если бы оно удалось, означало долгожданный выход из невыносимого положения. Вместо того, чтобы терзаться скучным и безрадостным существованием в тесных стенах замка, ей предстояло последовать за Марией Стюарт в Париж, двор которого отличался весельем и блеском. Разрыв с вдовствующей королевой в значительной степени стеснял ее положение, и ей приходилось терпеливо переносить выражения ненависти этой мстительной особы.
И вот уже, казалось, зазвенел колокол освобождения. Она уже увидела в своем воображении, как в Дэмбертоне толпой теснятся французские кавалеры, как Мария Стюарт освобождается от тягостного надзора бессердечной интриганки-матери и от подозрительного недоверия регента. Она уже видела, как несчастный ребенок, постоянно мучимый интригами за оспариваемую власть, наконец-то мог расцветать для радостей своего возраста… И вдруг, в ту самую минуту, когда все это должно было разрешиться, прекрасный сон развеялся без остатка, и вместо освобождения нависла гроза мести регента за задуманную против него измену…
И кому же была она обязана этим горьким разочарованием?
О, это был не фанатик-шотландец, а чужак, беглый англичанин, который встал на сторону регента так же случайно, как при других обстоятельствах мог оказаться на стороне вдовствующей королевы.
А ведь ей и Марии Стюарт этот чужак был обязан своей жизнью, и он как будто был даже растроган видом преследуемого царственного ребенка и клялся ей, что всей целью его жизни будет теперь только ее благо!
И хуже всего, что этот лжец сумел вкрасться в ее сердце, а потом, вероятно, каким-либо лживым обещанием добился благосклонности женщины, из коварных рук которой она, Мария Сэйтон буквально вырвала его на краю гибели.
Мария Сэйтон подсмотрела, как Роберта вводили в спальню королевы. И вместе с грубым презрением к вероломному юноше в ее сердце закралось также сожаление к нему. Ведь она знала, что вдовствующая королева способна только обмануть его. Она знала, как отделывались родственники Медичи от надоевших любовников. Самым сильным выражением презрения к нему за пережитые ею огорчения было показать, что она знает его подлый обман, знает, что он только играл ее сердцем, и все-таки спасает его от яда сирены. Сердце Марии обливалось кровью, но гордость запрещала ей прощать и поддаваться сомнению. Хотя слова прощания в его письме в первый момент подействовали на нее ошеломляющим образом. Если это было новым обманом, то, значит, он был очень искусен и ловок в надругательствах над священнейшими чувствами.
Когда Мария Сэйтон переплыла через озеро, то первым делом хотела спросить, арестован ли Роберт. Одно ее слово могло спасти его от позора и смерти, если бы он поклялся, что не будет мешать бегству королевы. И ее сердце уже заранее ликовало при мысли о сладкой победе.
Но случилось так, что спрашивать ей пришлось бы у самого Роберта, и в его ушах этот вопрос должен был отдаться, как самая горькая насмешка, как жажда мести… И вот она оказалась его пленницей, ее судьба была в его руках. Она напрасно молила его о помощи, на ее мольбы он ответил бранным кличем, выстрелами из сигнальной пушки, звучавшими словно панихида всем надеждам. И если он выдаст регенту затеянный побег, то в этом окажется виновной только она одна.
Мария Сэйтон скользнула к окну. Стрелки торопливо сбегали вниз, чтобы забрать в плен раненых.
— Здесь под лошадью лежит какой-то паж, помогите ему! — крикнул Сэррей. — Господа англичане позаботились обо всем — даже о паже для королевы!
— Кто бы вы ни были, — произнес юношеский голос, — отведите меня к Роберту Говарду или позовите его сюда.
— Роберт Сэррей перед вами. Кто вы такой?
Мария не слышала дальнейшего разговора, но она была страшно поражена. Пленник говорил по-английски, а ведь они ждали французов?
Снова послышался топот копыт, но теперь он раздался с другой стороны.
— Эй, Вальтер Брай! — воскликнул Сэррей. — Нам пришлось поработать без вас, но вы явились все-таки вовремя! Они скрылись в ту сторону, и клянусь, что среди них был лорд Бэклей!
— Лорд? Так это были англичане? Ад и смерть! — загремел Брай. — Стрелки, отдаю все, что у меня есть, если вам удастся захватить этого негодяя!
Всадники карьером понеслись вдогонку за англичанами.
Мария Сэйтон не верила своим ушам. Значит, вдовствующая королева обманула их всех и предала собственного ребенка, чтобы добиться шотландской короны? Но ведь Сэйтон лично видела графа Монгомери!
Словно во сне, Мария бессмысленно уставилась прямо перед собой. На лестнице послышались шаги, открылась дверь в маленький кабинет, находившийся рядом с той комнатой, в которую ее заперли.
— Входите! — услышала она голос Сэррея. — Внук лорда Варвика не должен быть среди пленников. Но скажите мне, Роберт Дэдлей, как могло случиться, чтобы знамена Варвика развевались во время такого предприятия, которое способно только опозорить его участников?!
— Вы ошибаетесь, Роберт Сэррей. Англия в войне с Шотландией. Мой отец не является игрушкой в руках Генриха Восьмого, но как истинный англичанин, не может не желать, чтобы принц Уэльский соединил браком с Марией Стюарт обе короны двух островных королевств.
— Сэр Роберт Дэдлей, вы защитите своего отца, и я не буду оспаривать у вас права на эту защиту. Но ваш дед, лорд Варвик, послал меня сюда, чтобы оберегать шотландскую королеву против посягательств Генриха Восьмого.
— Очевидно, он надеялся на то, что вы и при шотландском дворе останетесь англичанином.
— В этом он не ошибся, но именно как истинный англичанин я не способен на предательство. Если бы вы только посмотрели на царственного ребенка, Роберт Дэдлей, вы бы задумались, можно ли назвать рыцарским поступком передачу его в руки палача Англии?
— Вы загнали меня в самый угол, Сэррей! — ответил Дэдлей. — Скажу вам прямо: король Генрих потребовал или головы моего отца, или невесты принцу Уэльскому, и я, помимо его воли, отважился с пятьюдесятью всадниками на это дело!
— С помощью шотландского предателя Бэклея!
— Нам нужен был проводник.
— И вы действовали по соглашению с королевой?
— Это известно только Бэклею. Мы перехватили письмо вдовствующей королевы к графу Монгомери. Бэклей провел нас к аббатству святого Джонстона и обещал все устроить, чтобы обеспечить успех. Сегодня после полудня он явился к нам, и… остальное вам известно. Если же этот негодяй-шотландец играл с нами в фальшивую игру, тогда я не завидую вашей победе, он торжественно клялся, что соединяется с нами из ненависти к регенту.
— Он не обманул вас, Дэдлей, — произнес Роберт. — И я благодарю Бога за то, что знаю теперь о переговорах. Что вы, как враги шотландцев воспользовались предательством — я не могу ставить вам в вину. Солдаты будут считаться военнопленными, вы же, сэр Дэдлей, свободны, если дадите слово, что в этой войне больше не обнажите меча против регента.
— Я свободен? Сэр Говард! Но ведь вы сильно рискуете!
— Внук человека, бывшего другом моего несчастного брата, не может оставаться моим пленником.
— Говард, — в волнении воскликнул молодой человек, — мне не преувеличивали, когда рассказывали в Варвик-Кастле, что в Инч-Магоме бьется самое благородное английское сердце, и ставили мне условием, чтобы я пощадил вашу жизнь. Вашу руку, Говард, я даю вам слово, что окажусь достойным дружбы, которой вы меня подарите!
Мария Сэйтон с бьющимся от волнения сердцем слушала весь этот разговор и с ужасом думала о том. какое страшное разочарование постигло бы вдовствующую королеву, если бы в своих освободителях она вместо французов узнала англичан. Насколько велика была бы вина всех обитателей Инч-Магома, которые способствовали бы превращению шотландской королевы в английскую принцессу.
И Сэррей предупредил это несчастье. Он не думал о мелочной мести, так как называл Бэклея единственным виновником, хотя его подозрения должны были бы коснуться всех обитателей замка. На глаза Марии набежали слезы стыда, нежности и любви к этому человеку.
Вдруг дверь открылась, и на пороге показался Сэррей.
— Леди Сэйтон, — сказал он с ледяной холодностью, — я не знаю, да и не хочу знать, насколько виноваты лично вы и все обитатели Инч-Магома в том преступлении, которое было замышлено сегодня против шотландской королевы. Но оно предупреждено, я надеюсь, что каждый, принимавший участие в этих преступных замыслах, может извлечь для себя урок. Благодарите случай, что здесь командую я, а не Вальтер Брай. Я поручу вашему духовнику отвезти вас в Инч-Магом. Скажите королеве Шотландии, что верные сердца горой стоят за нее, вдовствующей же королеве передайте, что через час голова ментейтского коменданта будет торчать на зубцах сторожевой башни, чтобы внушать страх каждому, замышляющему предательство. Скажите ей, чтобы она удовольствовалась этой второй жертвой, так как в следующий раз я не буду обращать внимание ни на что и отправлю виновного, кем бы он ни был, связанным к регенту, если он окажется слишком знатным, чтобы поплатиться головой по простому приказу какого-то Сэррея.
Мария Сэйтон, чувствовавшая, что она уничтожена и подавлена вконец, заикаясь, пролепетала:
— Будьте уверены, что все мы только благодарны вам за то…
Леди, — перебил ее Роберт Сэррей, — не теряйте времени. Как только вернется Брай, я уже не буду в силах защитить вас. Я заранее верю всему, что вы скажете.
С этими словами он глубоко склонился перед Марией и вышел из комнаты.
Не прошло нескольких минут, как челнок повез Марию Сэйтон и духовника через озеро.
Когда поздно ночью Вальтер Брай вернулся после погони, не давшей никаких результатов, Сэррей успел уже позаботиться об отъезде Варвика, голова коменданта торчала на зубце сторожевой башни, а военнопленные ждали решения своей участи.

Глава восьмая
ПРОЩАНИЕ

I
 В 1548 году умер Генрих VIII и королем стал его малолетний сын от несчастной Джэн Сеймур, Эдуард VI, а регентом королевства, ввиду малолетства Эдуарда, был назначен герцог Соммерсет. Война Англии с Шотландией вспыхнула с удвоенной силой. Армия Аррана была наголову разбита в сражении при Пинкенклей, а флот во главе с адмиралом Клинтоном был направлен в шотландские воды со специальной миссией перехватить королеву в случае, если она попытается бежать на французском корабле.
Роберт Сэррей не появлялся в замке Инч-Магом с того дня, как после нападения англичан на Ментейт поселился там. Со стороны обитателей Инч-Магома не предпринималось никаких шагов, которые дали бы ему основание искать общения с ними или питать подозрения против них. Королевы и их свита жили исключительно замкнутой жизнью и, казалось, навсегда отказались от надежды когда-либо расстаться с Инч-Магомом. Так что у Сэррея не было других развлечений, кроме охоты, рыбной ловли или рыцарских упражнений. Вальтер Брай был его верным товарищем и наставником, и отношения переросли в самую сердечную и тесную дружбу.
Когда в Ментейт пришла весть о кончине Генриха VIII, Сэррей немедленно послал гонца к графу Варвику, обращаясь к нему с просьбой о разрешении ему поступить на английскую службу, что позволило бы ему вернуться в Англию. В то же время он написал регенту просьбу освободить его от занимаемой должности, причем Вальтер Брай тоже просил об отставке. Он не хотел расставаться со своим другом, а так как граф Сэррей обещал ему, в случае если ему вернут отобранные в казну родовые имения, сделать его управляющим, то Брай с легким сердцем решил расстаться с отечеством, где у него оставались одни только печальные воспоминания.
Лорд Бэклей бесследно скрылся, и надежда отомстить ему казалась осуществимой, если он поищет предателя в Англии.
Не знал Брай и куда делась Кэт. Однажды, отправившись и Эдинбург, он заехал в развалившееся аббатство, чтобы спросить старуху Гиль, где она похоронила девушку. Но старая колдунья наотрез отказалась давать какие-либо сведения. Брай, перед отъездом из Шотландии, намеревался снова заехать в аббатство и повторить попытку разузнать, что стало с Кэт, чтобы по крайней мере оставить несчастной свои сбережения, но проходили недели и месяцы, а ни от Варвика, ни от регента не приходило ответа.
Тогда Роберт решил лично заявить регенту о своем решении оставить Ментейт, он как раз обсуждал со своим другом детали поездки, когда звук конских копыт заставил их обоих подойти к окошку.
— Цвета Варвика! — с удивлением воскликнул Сэррей.
— Клянусь святым Андреем, да ведь это — сам Роберт Дэдлей.
Прибытие кавалера в цветах Варвика могло удивить кого угодно, так как Англия все еще воевала с Шотландией и враг уже показался в окрестностях Лейта.
Сэррей поспешил выйти на улицу, всадник соскочил с лошади и, бросившись в его объятия, воскликнул:
— Клянусь Богом, это — вы! Узнаете ли вы своего пленника, Роберта Дэдлея? Простите, что ответ деда заставил вас так долго ждать, но виноват в этом только я, так как мне непременно хотелось лично привезти его вам в знак оказанной мне вами услуги. Но, — продолжал он, входя с Робертом в дом, и заметив там Вальтера Брая, смущенно добавил: — Вести, которые я привез, в высшей степени конфиденциальны и спешны.
— Вальтер Брай — мой друг! — ответил Сэррей.
— Это — другое дело. Тем лучше, если мы все трое сплотимся для общего дела. Королева Мария Стюарт должна убежать сегодня вечером. Выслушайте меня!
— Стойте! — перебил Сэррей молодого Варвика и кинул Вальтеру многозначительный взгляд. — Сохраните вашу тайну при себе. Вспомните, что я обязался регенту своим словом…
— Я помню Сэррей и, несмотря на это, вы должны выслушать меня. Неужели же вы думаете, что Дэдлей Варвик может рекомендовать своему другу предательство? Однако к делу! Прежде всего учтите, что мой дед пользуется полным доверием юного короля Эдуарда Шестого, или — вернее сказать — стоит во главе английской знати, которая решила строго следить за тем, чтобы в Англии никогда не могли повториться дни злодейской тирании. Эдуард Шестой во всем слушается моего деда, и то, что поручил передать вам мой дед, имеет то же значение, как если бы к вам обратился сам король. Дед имеет другие планы относительно престолонаследия, чем те, которые упомянуты в завещании Генриха Восьмого. В интересах блага страны он хочет устранить всякие спорные притязания на английский престол. Каждый из незаконнорожденных детей Генриха Восьмого предъявляет свои права, и даже шотландская королева Мария Стюарт могла бы оказаться претенденткой. Поэтому дед мой хочет, чтобы Марии Стюарт удалось скрыться во Францию, пока наша армия еще не завоевала Шотландии. Регент разбит, его армия почти разбежалась, он не может более удерживать нас и поэтому-то не нашел другого выхода, как склониться на предложения деда, разумеется, в секрете. Он обещал не мешать более бегству королевы, за что, со своей стороны, мой дед обещал ему отозвать английскую армию, как только объект спора окажется вне границ Шотландии.
— Ах, опять политика! — иронически пробормотал Вальтер Брай и, бросив многозначительный взгляд на Сэррея прибавил: — В том и невыгодна политика для нас, грешных, что как ни поступи, а никого не порадуешь! Мы вооружили против себя вдовствующую королеву, потому что служили регенту; сегодня регент требует от нас того, чему еще вчера препятствовал; а завтра вопрос может стать опять иначе, и тогда нам скажут: «К чему вы так торопились слушаться?»
— Необходимо действительно торопиться, — возразил Дэдлей, — потому что адмирал Виллеганьон явится сегодня с четырьмя французскими галиотами в Дэмбертон, чтобы взять на борт королеву, и ему придется сделать все это как можно скорее, чтобы не попасться в руки английской эскадре.
— Роберт Дэдлей! — вступил в разговор Сэррей. — Позвольте мне открыто высказать вам свое мнение. Если герцог Нортумберленд, ваш дед, и регент Шотландии вступят между собой в тайное соглашение, и если предметом этого соглашения является такой поступок, который им придется официально именовать государственной изменой, то пусть они и подыскивают себе людей, готовых пойти на это, а не поручают честному дворянину во имя секретных приказов нарушать долг чести. Я был здесь в качестве слуги регента, всем известно, что я охраняю замок Инч-Магом, и если завтра королева будет похищена, то ответственным буду я. Что же скажут? Скажут, что либо я обманул, либо дал себя обмануть. И то, и другое навлечет на меня одинаковый позор, и поэтому я не пойду на это. Пусть регент отзовет меня или пришлет мне официальный приказ, без этого Мария Стюарт выйдет из замка только через мой труп.
Дэдлей улыбнулся, хотя и не без удивления взглянул на Сэррея и произнес:
— Это было предусмотрено, и я могу только удивляться прозорливости моего деда, который так верно понял вас. Он поручил мне напомнить регенту о вас, и регент пошел навстречу нашему желанию. Вот приказ о вашем отзыве с распоряжением передать ваш пост мне.
— Ну, а я и мои стрелки? — воскликнул Брай. — Сэр Дэдлей, уж не думаете ли вы, что я пущу вас через озеро?
— Нет, сэр Брай, — улыбнулся Дэдлей. — Вот приказ регента о передаче мне власти над Инч-Магомом и Ментейтом. Регент нуждается в войсках. Поэтому велите своим стрелкам готовиться в поход и отправляйтесь с Богом. Если же вы предпочитаете следовать за графом Сэрреем, то пусть отряд поведет ваш капрал. Могу дать вам увольнительное свидетельство, так как я захватил для этого чистые бланки.
Сэррей прочел свое увольнительное свидетельство, которое гласило следующее:
В 1548 году умер Генрих VIII и королем стал его малолетний сын от несчастной Джэн Сеймур, Эдуард VI, а регентом королевства, ввиду малолетства Эдуарда, был назначен герцог Соммерсет. Война Англии с Шотландией вспыхнула с удвоенной силой. Армия Аррана была наголову разбита в сражении при Пинкенклей, а флот во главе с адмиралом Клинтоном был направлен в шотландские воды со специальной миссией перехватить королеву в случае, если она попытается бежать на французском корабле.
Роберт Сэррей не появлялся в замке Инч-Магом с того дня, как после нападения англичан на Ментейт поселился там. Со стороны обитателей Инч-Магома не предпринималось никаких шагов, которые дали бы ему основание искать общения с ними или питать подозрения против них. Королевы и их свита жили исключительно замкнутой жизнью и, казалось, навсегда отказались от надежды когда-либо расстаться с Инч-Магомом. Так что у Сэррея не было других развлечений, кроме охоты, рыбной ловли или рыцарских упражнений. Вальтер Брай был его верным товарищем и наставником, и отношения переросли в самую сердечную и тесную дружбу.
Когда в Ментейт пришла весть о кончине Генриха VIII, Сэррей немедленно послал гонца к графу Варвику, обращаясь к нему с просьбой о разрешении ему поступить на английскую службу, что позволило бы ему вернуться в Англию. В то же время он написал регенту просьбу освободить его от занимаемой должности, причем Вальтер Брай тоже просил об отставке. Он не хотел расставаться со своим другом, а так как граф Сэррей обещал ему, в случае если ему вернут отобранные в казну родовые имения, сделать его управляющим, то Брай с легким сердцем решил расстаться с отечеством, где у него оставались одни только печальные воспоминания.
Лорд Бэклей бесследно скрылся, и надежда отомстить ему казалась осуществимой, если он поищет предателя в Англии.
Не знал Брай и куда делась Кэт. Однажды, отправившись и Эдинбург, он заехал в развалившееся аббатство, чтобы спросить старуху Гиль, где она похоронила девушку. Но старая колдунья наотрез отказалась давать какие-либо сведения. Брай, перед отъездом из Шотландии, намеревался снова заехать в аббатство и повторить попытку разузнать, что стало с Кэт, чтобы по крайней мере оставить несчастной свои сбережения, но проходили недели и месяцы, а ни от Варвика, ни от регента не приходило ответа.
Тогда Роберт решил лично заявить регенту о своем решении оставить Ментейт, он как раз обсуждал со своим другом детали поездки, когда звук конских копыт заставил их обоих подойти к окошку.
— Цвета Варвика! — с удивлением воскликнул Сэррей.
— Клянусь святым Андреем, да ведь это — сам Роберт Дэдлей.
Прибытие кавалера в цветах Варвика могло удивить кого угодно, так как Англия все еще воевала с Шотландией и враг уже показался в окрестностях Лейта.
Сэррей поспешил выйти на улицу, всадник соскочил с лошади и, бросившись в его объятия, воскликнул:
— Клянусь Богом, это — вы! Узнаете ли вы своего пленника, Роберта Дэдлея? Простите, что ответ деда заставил вас так долго ждать, но виноват в этом только я, так как мне непременно хотелось лично привезти его вам в знак оказанной мне вами услуги. Но, — продолжал он, входя с Робертом в дом, и заметив там Вальтера Брая, смущенно добавил: — Вести, которые я привез, в высшей степени конфиденциальны и спешны.
— Вальтер Брай — мой друг! — ответил Сэррей.
— Это — другое дело. Тем лучше, если мы все трое сплотимся для общего дела. Королева Мария Стюарт должна убежать сегодня вечером. Выслушайте меня!
— Стойте! — перебил Сэррей молодого Варвика и кинул Вальтеру многозначительный взгляд. — Сохраните вашу тайну при себе. Вспомните, что я обязался регенту своим словом…
— Я помню Сэррей и, несмотря на это, вы должны выслушать меня. Неужели же вы думаете, что Дэдлей Варвик может рекомендовать своему другу предательство? Однако к делу! Прежде всего учтите, что мой дед пользуется полным доверием юного короля Эдуарда Шестого, или — вернее сказать — стоит во главе английской знати, которая решила строго следить за тем, чтобы в Англии никогда не могли повториться дни злодейской тирании. Эдуард Шестой во всем слушается моего деда, и то, что поручил передать вам мой дед, имеет то же значение, как если бы к вам обратился сам король. Дед имеет другие планы относительно престолонаследия, чем те, которые упомянуты в завещании Генриха Восьмого. В интересах блага страны он хочет устранить всякие спорные притязания на английский престол. Каждый из незаконнорожденных детей Генриха Восьмого предъявляет свои права, и даже шотландская королева Мария Стюарт могла бы оказаться претенденткой. Поэтому дед мой хочет, чтобы Марии Стюарт удалось скрыться во Францию, пока наша армия еще не завоевала Шотландии. Регент разбит, его армия почти разбежалась, он не может более удерживать нас и поэтому-то не нашел другого выхода, как склониться на предложения деда, разумеется, в секрете. Он обещал не мешать более бегству королевы, за что, со своей стороны, мой дед обещал ему отозвать английскую армию, как только объект спора окажется вне границ Шотландии.
— Ах, опять политика! — иронически пробормотал Вальтер Брай и, бросив многозначительный взгляд на Сэррея прибавил: — В том и невыгодна политика для нас, грешных, что как ни поступи, а никого не порадуешь! Мы вооружили против себя вдовствующую королеву, потому что служили регенту; сегодня регент требует от нас того, чему еще вчера препятствовал; а завтра вопрос может стать опять иначе, и тогда нам скажут: «К чему вы так торопились слушаться?»
— Необходимо действительно торопиться, — возразил Дэдлей, — потому что адмирал Виллеганьон явится сегодня с четырьмя французскими галиотами в Дэмбертон, чтобы взять на борт королеву, и ему придется сделать все это как можно скорее, чтобы не попасться в руки английской эскадре.
— Роберт Дэдлей! — вступил в разговор Сэррей. — Позвольте мне открыто высказать вам свое мнение. Если герцог Нортумберленд, ваш дед, и регент Шотландии вступят между собой в тайное соглашение, и если предметом этого соглашения является такой поступок, который им придется официально именовать государственной изменой, то пусть они и подыскивают себе людей, готовых пойти на это, а не поручают честному дворянину во имя секретных приказов нарушать долг чести. Я был здесь в качестве слуги регента, всем известно, что я охраняю замок Инч-Магом, и если завтра королева будет похищена, то ответственным буду я. Что же скажут? Скажут, что либо я обманул, либо дал себя обмануть. И то, и другое навлечет на меня одинаковый позор, и поэтому я не пойду на это. Пусть регент отзовет меня или пришлет мне официальный приказ, без этого Мария Стюарт выйдет из замка только через мой труп.
Дэдлей улыбнулся, хотя и не без удивления взглянул на Сэррея и произнес:
— Это было предусмотрено, и я могу только удивляться прозорливости моего деда, который так верно понял вас. Он поручил мне напомнить регенту о вас, и регент пошел навстречу нашему желанию. Вот приказ о вашем отзыве с распоряжением передать ваш пост мне.
— Ну, а я и мои стрелки? — воскликнул Брай. — Сэр Дэдлей, уж не думаете ли вы, что я пущу вас через озеро?
— Нет, сэр Брай, — улыбнулся Дэдлей. — Вот приказ регента о передаче мне власти над Инч-Магомом и Ментейтом. Регент нуждается в войсках. Поэтому велите своим стрелкам готовиться в поход и отправляйтесь с Богом. Если же вы предпочитаете следовать за графом Сэрреем, то пусть отряд поведет ваш капрал. Могу дать вам увольнительное свидетельство, так как я захватил для этого чистые бланки.
Сэррей прочел свое увольнительное свидетельство, которое гласило следующее:
«Ввиду того, что сэр Роберт Говард, граф Сэррей, по представлению графа Варвика, герцога Нортумберленда, восстанавливается английским королем Эдуардом VI во всех титулах, отличиях, правах и имениях, отнятых у его рода вследствие государственной измены графа Генриха Сэррея, то мы, Джеймс Гамильтон, граф Арран и регент Шотландии, увольняем упомянутого Роберта Говарда от службы королеве Марии и настоящим указом даем ему свободный пропуск и позволение вернуться в свое отечество каким ему заблагорассудится путем, будь то на одном из французских галиотов, находящихся в Дэмбертоне, или же накатанными дорогами нашего государства».
— Граф Сэррей, раз мы выходим в отставку, — сказал Брай, — то нам следует сделать визит дамам в замке и сказать им, что не от нас зависит, если сегодня им предлагают то, что еще вчера было бы сочтено государственной изменой.
Позволение уехать на французском судне намекало Сэррею на то, что ему разрешается проводить королеву, Марию Стюарт, если он того пожелает, и что он не должен чинить никаких препятствий ее побегу. Поэтому, когда Брай сделал предложение сделать прощальный визит дамам, то Сэррей почувствовал, что ему не получить более полного нравственного удовлетворения за все неприятности, испытанные из-за вдовствующей королевы, чем если он объявит ей об исполнении всех ее желаний. Кроме того, его сердце шептало ему, что он получит возможность увидеть Марию Сэйтон. И Сэррей согласился с Браем посетить замок Инч-Магом.
II
Со сторожевой башни после долгого перерыва снова зазвучали звуки рога, возвещавшего о визите в Инч-Магом.
В замке все с любопытством сбежались к окнам. До обитательниц замка уже дошли вести о поражении армии регента, и они были готовы переселиться в более надежное убежище. Будет ли там лучше или нет — но эта перемена уже могла влить надежду в сердца.
Глазки Марии Сэйтон тоже заблестели ярче. Все время она ждала Сэррея. Сперва надеялась на встречу со всей страстью любви, сознавая, что глубоко обидела любимого человека и желая искупить свою вину, и в сердце Марии начало закрадываться сомнение, что Роберт не любил ее, а просто поддался минутному увлечению. С течением времени сомнение перешло в уверенность, и Мария Сэйтон стала ненавидеть Сэррея за то, что он мог так быстро позабыть ее!
Однако теперь, глядя, как спокойную гладь озера рассекал легкий челнок, Мария вдруг почувствовала, что ее сердце бьется беспокойнее, чем всегда.
— Нам посылают нового пажа, — сказала вдовствующая королева. — У меня нет ни малейшего желания принять этот визит.
— А я непременно хочу! — воскликнула Мария Стюарт. — Авось новый паж окажется повежливее, чем сэр Говард! Правда, ему пришлось перенести здесь так много неприятностей. Пожалуйста, мама, будь полюбезнее с новым пажом!
— Я готова льстить нашему тюремщику, если ты требуешь, — сказала Мария Лотарингская.
Мария Флеминг вышла, чтобы передать распоряжение вдовствующей королевы, но вскоре вернулась и доложила:
— Ваше величество! У этих господ, должно быть, случилось что-нибудь необыкновенное, так как они напаивают на приеме и говорят, что их цель посещения не терпит отлагательства.
— Хорошо же! — улыбнулась вдовствующая королева. — Но пусть они никого не винят, если прием им не понравится.
Вошли все трое — Сэррей, Дэдлей и Брай.
— С каких это пор, — спросила вдовствующая королева, — регент настолько позабыл всякие приличия, что перестал даже уважать собственные покои королевы?
— Ваше величество, — ответил Сэррей, — вы ошибаетесь. Регент не заставлял нас добиваться у вас приема. Я и Вальтер Брай оставили службу у регента, а на мое место вступает сэр Роберт Дэдлей.
— Сэр Роберт Дэдлей! — удивилась Мария Лотарингская.
Сэррей повернулся к Марии Стюарт и преклонил перед нею колено.
— Ваше величество! — сказал он. — Когда я поступил на службу к графу Аррану, я поклялся ему, что буду защищать вас от каждого, кто бы это ни был. Если бы даже сам регент захотел заставить вас бежать, то и тогда я с такой же энергией восстал бы против этого, как и тогда, когда чужие расчеты хотели предопределить вашу судьбу. Так поверьте же моему честному слову дворянина, что я только верно и преданно исполнял свою обязанность!…
Мария Стюарт улыбнулась, как и тогда, когда он преклонил перед ней колено в застенке.
— Роберт Говард, — сказала она, — верю, что в вашей груди бьется преданное, горячее сердце, и радуюсь за вас, что вы уезжаете отсюда. Я уважаю вас за вашу преданность. Да сохранит вас Господь за это, и когда вы помчитесь по прекрасным лесам и зеленым лугам, когда увидите радостные лица людей, то вспомните о бедной королеве, которая отдала бы свою корону только за то, чтобы поменяться судьбами с самой простой жницей! И помолитесь тогда за бедную Марию Стюарт!
В глазах королевы заблестели слезы.
Дэдлей обнажил меч и, бросившись на колени, обратился к Марии Стюарт:
— Ваше величество! Когда-то я думал увезти вас и доставить к принцу Уэльскому, чтобы он мог возложить на ваши локоны английскую корону. Тогда Роберт Говард вышиб меня из седла, но сегодня никто не помешает вам скрыться из этих стен. Вы хотите быть свободной, и Франция простирает вам навстречу свои объятия. Еще сегодня ночью шотландская королева должна достичь Дэмбертона, где ее ждут четыре французских галиота с распущенными парусами.
— Да вы с ума сошли! — воскликнула вдовствующая королева, резко перебив Дэдлея и показывая на Вальтера Брая, остававшегося немым свидетелем всей сцены.
Радость загоревшаяся на всех лицах, вдруг сменилась ужасом и смущением. Как? Новый властитель их судеб вслух говорит о том, о чем до сих пор решались говорить только шепотом? Сейчас Вальтер Брай арестует его!…
Но каково же было их изумление, когда Брай подошел к Марии Лотарингской и, преклонив колено перед ней — той самой женщиной, с которой он до сих пор держался самым высокомерным, вызывающим образом, — сказал:
— Ваше величество! До сих пор я еще ни перед кем, кроме Бога и моего короля, не преклонял колен. Вы считали меня врагом, да и продолжаете считать, потому что ненавидите во мне верного слугу вашего врага. Но, как и граф Сэррей, я повиновался приказу. Однако теперь, когда я покончил со службой, я должен сказать вам, что мне было в высшей степени неприятно служить графу Аррану. Он не смел так оскорблять вас. Теперь я свободен, и если шотландская королева хочет бежать, то меня ей нечего бояться; в настоящее время я — слуга только графа Сэррея.
— И в качестве слуги, — добавил Роберт, — он будет сегодня ночью эскортировать поезд, если королева разрешит мне ее сопровождать.
— Возможно ли это? — возликовала Мария Стюарт. — Я могу бежать, могу быть свободной? О, Боже мой! Роберт Говард, поклянитесь мне своей честью, что не обманете меня!
— Ваше величество, вы свободны! Это — не обман. Мы отвезем вас в Дэмбертон, — уверил ее Дэдлей. — Клянусь нам в этом за себя и за своих друзей.
— Но мы знаем подлость графа Аррана, — ответила вдовствующая королева. — Дайте мне доказательства, что наш план имеет хоть шансы на успех. Покажите мне французских солдат, которые защитят нас от стрелков! Покажите мне письмо от Д’Эссе в доказательство того, что он ждет нас, что мы найдем в Дэмбертоне французские корабли.
— Я не могу показать вам ни письма, ни французских солдат, — возразил Дэдлей. — Я не могу даже выдать вам то, что дает мне непоколебимую уверенность в успехе моего плана, так как вы не должны становиться нашей сообщницей. Но я обращаюсь к шотландской королеве с вопросом, может ли она думать, что два дворянина и честный стрелок поручились бы своей честью, если бы дело шло только о проделке пажей, и что мне удалось бы привлечь таких сообщников, если бы у них могла оставаться хоть тень сомнения?
— Я мог бы доставить все доказательства, — вступил в разговор Роберт Сэррей. — Но для этого понадобилась бы целая неделя. А уже завтра бегство — немыслимо. Ваше величество! — обратился он к вдовствующей королеве. — У нас есть прочная сводчатая камера во дворце. Я готов быть вашим узником, чтобы у вас был заложник, если против королевы замышляется предательство.
— Нет! — воскликнула Мария Стюарт, покраснев, как огонь, и обеими руками схватив Роберта за руку. — Я верю нам, и вам ни к чему отправляться в эту ужасную камеру! Я убегу с вами, и если нам будет угрожать засада, то я приказываю вам, сэр Говард, щадить свою жизнь. Лучше снова заточение, чем ради меня пролитая кровь. И тот, кто не хочет обидеть меня, должен отбросить в сторону всякое сомнение. Мария Флеминг, Мария Сэйтон, хотите ли вы сопровождать меня?
Подруги детских игр окружили молодую королеву и стали целовать ей руки.
— Клянусь святым Андреем, — пробормотал Вальтер Брай, — я даже буду рад, если нам повстречается дюжина всадников. За такую королеву и умереть чистое наслаждение!
Брай, Сэррей и Дэдлей уехали, чтобы подготовить все необходимое для бегства. Роберт Говард не обменялся с Марией Сэйтон ни единым словом, но он с горделивой радостью заметил, как она невольно покраснела, когда вдовствующая королева высказала свое обидное недоверие.
— А она меня все-таки любит! — шепнул он Вальтеру Браю.
Однако тот только недовольно нахмурил брови и сказал:
— Роберт Говард, вы мужественно боролись со своим сердцем, и я удивился, что вы одержали победу над ним. Но поверьте мне, если бы даже вы и могли теперь любить ее всей душой, то скоро пожалели бы об этом. Мужчина не должен сомневаться в женщине, которую он любит, потому что сомнение быстро разрастается, как сорная трава. Вспомните мою Кэт! Она была обесчещена, и ее вид постоянно возбуждал бы во мне сомнения в ее чистоте. Благо ей, если она умерла, если она еще жива, тогда благо, что я тогда убежал. Откажитесь от предмета своей страсти, сэр Говард! Думайте, что она надсмеялась над вами!
— Вы правы, Вальтер, — пробормотал Сэррей, пожимая ему руку. — Но я все-таки скажу Марии, что любил ее так, как никогда больше не буду любить ни одну женщину!
— Ну и поступите, с позволения сказать, как дурак! Она порядком-таки поиздевалась над вами, и если вы хотите, чтобы она по крайней мере уважала вас, так не исповедуйтесь ей, словно несчастныйгрешник, а обходитесь с ней гордо и холодно. Не беспокойтесь, женщины с такой же достоверностью, как и сатана, знают, поймали ли они чужую душу! Для вас будет лучше оставаться на расстоянии выстрела от ее черных глаз, чтобы я мог целым и невредимым привезти вас в Англию, где вы забудете про привидения Инч-Магома!
III
Когда стемнело, на берегу озера приготовили лошадей. Дэдлей переехал через озеро и перевез сначала придворных дам, потом королеву, а уж потом воспитателей королевы, которым секрет был сообщен только в самую последнюю минуту, причем им был предоставлен выбор, последовать ли за королевой во Францию или остаться здесь. Они решились на бегство, так как думали, что гнев регента обрушится на них.
Едва только члены этого маленького общества собрались ни берегу, как кони быстрым карьером помчали их прочь.
Как ликовало сердце Марии Стюарт, когда темные башни Инч-Магома стали скрываться вдали, и как жадно ее грудь вдыхала свежий воздух свободы! Когда же в ее душу прокрадывались опасения, то Дэдлей смехом разгонял заботы. О, если бы она могла знать, что этот самый Роберт Дэдлей уже не будет в силах спасти ее, как сегодня, что он, став любовником двух королев, предаст их обеих! О, если бы она могла знать, что готовит для нее в будущем судьба, так она не убежала бы из Инч-Магома, или может быть, все-таки убежала? Ведь Мария Стюарт была женщиной, а женщина охотно покупает себе час счастья ценою тысячи часов слез!…
За такой час и Мария Сэйтон теперь заплатила бы несколькими годами своей жизни. Как сочилось кровью ее сердце, как бушевала страсть в ее груди, как боролась гордость с тоской любви, когда она думала о том, что Роберт Говард даже не поздоровался с ней при ее высадке из лодки на берег! Он сидел верхом на коне, с опущенным забралом, неподвижный, вытянувшийся, словно бронзовая статуя, и казался немым и холодным. Едва только королева села на коня, как Сэррей повернул лошадь и последовал вперед, и для нее, Марии Сэйтон, у него не нашлось ни взгляда, ни слова, она была чужой ему.
Это было не ненавистью, а презрением. Мария еще перенесла бы ненависть, но презрение разрывало ей сердце и заставляло лицо гореть пламенем стыда. Однако, как растаял тот панцирь, которым она раньше оградилась от него, когда он сегодня опустился на колени пред королевой и с теплотой благодарного сердца, со страстью и воодушевлением говорил о своей преданности ей! Это было воплощение ее грез, это был тот человек, на груди которого она могла бы с рыданием и радостью признаться: «Я люблю…»
Ночной ветер гнал по полям холодные туманы, но у Марии кровь огненным ключом стремилась по жилам.
«Он не смеет так расстаться, — кричало в ней, — я должна сказать ему, что любила его и что его холодность превратила мою любовь в ненависть».
«Нет! — снова перечил в душе Марии Сэйтон другой голос. — Пусть он не торжествует! Пусть не видит, что мое сердце истекает кровью!… Мое лицо должно смеяться, даже если горе рвется криком из сердца».
Когда начало рассветать, кавалькада доехала до возвышенности, с вершины которой взорам беглецов открылось море. Море — дорога к свободе!
— Море! — возликовала Мария Стюарт.
В этот момент к ней подскакал Сэррей.
— Приближается отряд всадников, ваше величество! — доложил он, глубоко склоняясь перед ней. — У них знамена с лилиями, королевскими знаками Франции. Да поддержит Господь вас, ваше величество, и да благословит вас на всех путях ваших!
У Марии Стюарт от радости и растроганности выступили слезы на глазах; она не находила слов, только ее нежная ручка схватилась за панцирную перчатку Сэррея, и она, всхлипывая, прошептала:
— Благодарю вас, благодарю вас!
Действительно, на гору въезжали всадники французского короля. Это был блестящий рой дворян; расшитые золотом платья сверкали в утреннем солнце, копья и доспехи блестели, а знамена весело развевались по ветру. Граф Монгомери соскочил с лошади и на коленях приветствовал невесту своего дофина, радостный клич свиты огласил воздух.
Роберт Сэррей отъехал в сторону и наблюдал издали, как дворяне окружили Марию Стюарт и ее дам; казалось, словно он олицетворял собою мрачные тени ее прошлого. Дэдлей уже откланялся королеве, а Монгомери поместился рядом с ней. Весь поезд уже пришел в движение, когда королева вдруг приостановила лошадь и, оглянувшись по сторонам, заметила одинокого всадника.
Почувствовала ли она, что еще одно слово благодарности будет для него целебным бальзамом, заподозрила ли она, как он страдал, или это было просто следствием ее ласковой сердечности, которая очаровывала всех, — но только она повернула лошадь к Сэррею и кивнула дамам, последовавшим за ней.
— Мы должны проститься с нашим инч-магомским тираном! — крикнула она французам. — Останьтесь там, господа! — С этими словами она подскакала к Сэррею, сняла с груди бант и, подав ему его, взволнованно сказала:
— Я — очень бедная королева, я ничего не могу подарить вам ценного, чтобы отблагодарить за верность, но этот бант — знак благодарности и уважения, которым вам обязана Мария Стюарт. И вы, — обратилась она к дамам, — тоже одарите нашего храброго инч-магомского пажа знаками, приличествующими смелому рыцарю.
Дамы повиновались. Мария Сэйтон замешкалась, но, устыдясь своего смущения, тоже сорвала с себя бант и подала его Роберту.
— Я — ваша должница, — сказала она, — потому что вы одержали победу и с честью взяли верх над хитростью и коварством.
Ее смех прозвучал как-то глухо, и голос дрожал, ее глаза были полны слез.
— Леди Сэйтон, — шепнул он, — я беру этот бант как знак вашего прощения.
Остальные дамы уже отъехали и последовали за королевой.
— Роберт Сэррей — ответила Мария Сэйтон, и ее лицо стало белее снега. — Вы причинили мне очень много горя, когда так позорно отвернулись от меня, но эти слова снова примиряют нас. — Ее взгляд прожег сердце Сэррея.
— Мария! — воскликнул он.
Но Мария Сэйтон, сказав: «Прощайте навсегда!» — погнала лошадь и через несколько секунд уже скрылась в пестрых рядах французских кавалеров.

Глава девятая
ПРОРОЧЕСТВО

I
 Сэррей, Дэдлей и Брай оставались на высоком холме, пока на главной мачте галиота не взвился рядом с боевой орифламой Франции королевский штандарт Шотландии, и это возвестило им, что Мария Стюарт вступила на французскую землю. Они словно сговорились дождаться этого важного момента и, когда ветер надул паруса и корабль понесся по волнам в открытое море, с молчаливым, скорбным сочувствием посмотрели друг на друга как друзья, которые простились с любимым родственником.
— Бедная Шотландия! — буркнул Вальтер Брай, — Кажется, что от тебя улетает твой ангел-покровитель! Горе стране, из которой этот ангел должен бежать в силу того, что она не способна укрыть его!
— Скажите лучше: позор нам, что мы позволили ей бежать! — откликнулся Дэдлей. — Сэр Говард, у меня такое чувство, словно я совершил государственную измену. Если бы я видел королеву раньше и не дал Монгомери слова, то, клянусь Богом, я не отдал бы этой добычи французам.
— Она не виновата в той крови, которая пролилась из-за нее, — возразил Сэррей. — Но, как истинные англичане, мы можем только радоваться, что яблоко раздора между Англией и Шотландией плывет теперь по морю.
— Вы так думаете? — улыбнулся Брай, пожимая плечами. — Неужели вы предполагаете, что король Генрих Восьмой начал эту войну из-за ребенка? Полноте, ему просто нужно было приданое нашей королевы, а сама она как невеста шла только в придачу. Сэр Дэдлей, я помог вам увезти королеву, потому что мое сердце было тронуто тем, что этот милый ребенок должен так жалко влачить свою юность в мрачном замке. Но не думайте, что я поверил вашему деду, он англичанин и только несколько иначе подходит к вопросу, чем Генрих Восьмой. Лисица изобрела другие средства. Шотландская королева стала теперь французской принцессой, а Франция — враг Англии. Лорд Варвик скажет, что с того момента, как королева Мария Стюарт вступила на французскую почву, она потеряла права на корону, и таким образом Шотландия, как страна без властителя, попадет в руки Англии. Но я не хочу оскорблять вас, я говорю просто то, что думаю. Лучше, чтобы англичане властвовали в Шотландии, чем нам подчиняться Дугласам.
— Черт возьми! — воскликнул Дэдлей. — Так значит, мы с вами — друзья, и, может быть, я когда-нибудь еще раздобуду из Франции эту прекрасную добычу. Сэррей, я завидую дару, полученному вами от королевы, и еще более тому, что она рассказывала мне про вас. Не смотрите так мрачно! Английский штандарт развевается в Кале и, быть может, вскоре взовьется и над Парижем. Тогда мы утащим у дофина его прекрасную добычу, а вы возьмете себе Марию Сэйтон…
— Дэдлей, — перебил его Говард, — если вы любите меня, то не называйте в моем присутствии этого имени.
— Я очень люблю вас, Говард, как друга, поэтому так сочувствую вам. Знаете, что рассказала мне королева? По ее мнению, вам следовало бы схватить ту, которую я не смею называть по имени, взвалить ее на лошадь и умчаться с ней!
— Довольно, сэр Дэдлей, я уже не прошу, а требую от вас, чтобы вы перестали говорить об этом!…
— Да упаси Бог сердить вас! Замолкаю. Но куда же мы едем? Ведь эта дорога не ведет к границе! Вы с ума сошли, Брай!… Ведь это — дорога в Эдинбург!
Дэдлей и Сэррей следовали за Браем, не обращая внимания на дорогу, по которой он поехал. Только теперь они заметили, что он избрал путь, который вел к шотландской столице.
— Мы сделаем очень небольшой крюк, — ответил Брай, — и если вы действительно мои друзья, то дадите мне возможность перед тем, как покинуть Шотландию, исполнить священную обязанность.
— Конечно, сэр Брай, — кивнул Дэдлей. — Но что это за таинственное приключение?
— Ничего особенного, сэр Дэдлей.
— Хо-хо, сэр Брай! Мне очень хочется стать вам таким же добрым другом, как и Роберт Говард. А тот, кому я протянул свою руку, может быть уверен во мне до конца своих дней.
— Я верю, верю вам, и хоть вы и нарядный дворянчик, но ваш кулак и в шелковой перчатке доказывает, что кости у вас железные. Пусть сэр Говард расскажет вам, в чем тут дело, а я не могу, — сказал Брай, снова выехав вперед.
А когда Сэррей рассказал Дэдлею, как они спасли Кэт от папистского столба, как дугласовские всадники свалились в пропасть, то лицо Дэдлея просияло.
— Клянусь святым Георгом, — уверил он, — я отдал бы год своей жизни, чтобы быть с вами тогда! Но где же эта несчастная?
— Вальтер оставил ее полумертвой, отдав старой колдунье приказание похоронить Кэт. Но когда он пришел к колдунье, она не могла показать ему могилу. Может быть, она рассчитывала обрадовать его этим, но он только мрачно посмотрел на нее и сказал: «Женщина, которую я любил, не может желать жить после того, как ее обесчестили, а если дело обстоит иначе, то пусть она остерегается повстречаться со мной. Значит, она была виновата, и я был дураком, что спас ее от позорного столба». И я готов побиться об заклад, — заключил Сэррей, — что сегодня он собирается навестить старуху только для того, чтобы убедиться, не живет ли с ней Кэт.
— И чтобы убить ее?
Сэррей повел плечами:
— Это известно лишь Богу!
— И вы не помешаете убийству?
— Это — вопрос его чести, и тут никто не вправе ни давать советы, ни мешать, ни способствовать.
— Прокляни меня Бог! Вы оба так мрачны в своей любви! — воскликнул Дэдлей.
Сэррей, Дэдлей и Брай оставались на высоком холме, пока на главной мачте галиота не взвился рядом с боевой орифламой Франции королевский штандарт Шотландии, и это возвестило им, что Мария Стюарт вступила на французскую землю. Они словно сговорились дождаться этого важного момента и, когда ветер надул паруса и корабль понесся по волнам в открытое море, с молчаливым, скорбным сочувствием посмотрели друг на друга как друзья, которые простились с любимым родственником.
— Бедная Шотландия! — буркнул Вальтер Брай, — Кажется, что от тебя улетает твой ангел-покровитель! Горе стране, из которой этот ангел должен бежать в силу того, что она не способна укрыть его!
— Скажите лучше: позор нам, что мы позволили ей бежать! — откликнулся Дэдлей. — Сэр Говард, у меня такое чувство, словно я совершил государственную измену. Если бы я видел королеву раньше и не дал Монгомери слова, то, клянусь Богом, я не отдал бы этой добычи французам.
— Она не виновата в той крови, которая пролилась из-за нее, — возразил Сэррей. — Но, как истинные англичане, мы можем только радоваться, что яблоко раздора между Англией и Шотландией плывет теперь по морю.
— Вы так думаете? — улыбнулся Брай, пожимая плечами. — Неужели вы предполагаете, что король Генрих Восьмой начал эту войну из-за ребенка? Полноте, ему просто нужно было приданое нашей королевы, а сама она как невеста шла только в придачу. Сэр Дэдлей, я помог вам увезти королеву, потому что мое сердце было тронуто тем, что этот милый ребенок должен так жалко влачить свою юность в мрачном замке. Но не думайте, что я поверил вашему деду, он англичанин и только несколько иначе подходит к вопросу, чем Генрих Восьмой. Лисица изобрела другие средства. Шотландская королева стала теперь французской принцессой, а Франция — враг Англии. Лорд Варвик скажет, что с того момента, как королева Мария Стюарт вступила на французскую почву, она потеряла права на корону, и таким образом Шотландия, как страна без властителя, попадет в руки Англии. Но я не хочу оскорблять вас, я говорю просто то, что думаю. Лучше, чтобы англичане властвовали в Шотландии, чем нам подчиняться Дугласам.
— Черт возьми! — воскликнул Дэдлей. — Так значит, мы с вами — друзья, и, может быть, я когда-нибудь еще раздобуду из Франции эту прекрасную добычу. Сэррей, я завидую дару, полученному вами от королевы, и еще более тому, что она рассказывала мне про вас. Не смотрите так мрачно! Английский штандарт развевается в Кале и, быть может, вскоре взовьется и над Парижем. Тогда мы утащим у дофина его прекрасную добычу, а вы возьмете себе Марию Сэйтон…
— Дэдлей, — перебил его Говард, — если вы любите меня, то не называйте в моем присутствии этого имени.
— Я очень люблю вас, Говард, как друга, поэтому так сочувствую вам. Знаете, что рассказала мне королева? По ее мнению, вам следовало бы схватить ту, которую я не смею называть по имени, взвалить ее на лошадь и умчаться с ней!
— Довольно, сэр Дэдлей, я уже не прошу, а требую от вас, чтобы вы перестали говорить об этом!…
— Да упаси Бог сердить вас! Замолкаю. Но куда же мы едем? Ведь эта дорога не ведет к границе! Вы с ума сошли, Брай!… Ведь это — дорога в Эдинбург!
Дэдлей и Сэррей следовали за Браем, не обращая внимания на дорогу, по которой он поехал. Только теперь они заметили, что он избрал путь, который вел к шотландской столице.
— Мы сделаем очень небольшой крюк, — ответил Брай, — и если вы действительно мои друзья, то дадите мне возможность перед тем, как покинуть Шотландию, исполнить священную обязанность.
— Конечно, сэр Брай, — кивнул Дэдлей. — Но что это за таинственное приключение?
— Ничего особенного, сэр Дэдлей.
— Хо-хо, сэр Брай! Мне очень хочется стать вам таким же добрым другом, как и Роберт Говард. А тот, кому я протянул свою руку, может быть уверен во мне до конца своих дней.
— Я верю, верю вам, и хоть вы и нарядный дворянчик, но ваш кулак и в шелковой перчатке доказывает, что кости у вас железные. Пусть сэр Говард расскажет вам, в чем тут дело, а я не могу, — сказал Брай, снова выехав вперед.
А когда Сэррей рассказал Дэдлею, как они спасли Кэт от папистского столба, как дугласовские всадники свалились в пропасть, то лицо Дэдлея просияло.
— Клянусь святым Георгом, — уверил он, — я отдал бы год своей жизни, чтобы быть с вами тогда! Но где же эта несчастная?
— Вальтер оставил ее полумертвой, отдав старой колдунье приказание похоронить Кэт. Но когда он пришел к колдунье, она не могла показать ему могилу. Может быть, она рассчитывала обрадовать его этим, но он только мрачно посмотрел на нее и сказал: «Женщина, которую я любил, не может желать жить после того, как ее обесчестили, а если дело обстоит иначе, то пусть она остерегается повстречаться со мной. Значит, она была виновата, и я был дураком, что спас ее от позорного столба». И я готов побиться об заклад, — заключил Сэррей, — что сегодня он собирается навестить старуху только для того, чтобы убедиться, не живет ли с ней Кэт.
— И чтобы убить ее?
Сэррей повел плечами:
— Это известно лишь Богу!
— И вы не помешаете убийству?
— Это — вопрос его чести, и тут никто не вправе ни давать советы, ни мешать, ни способствовать.
— Прокляни меня Бог! Вы оба так мрачны в своей любви! — воскликнул Дэдлей.
II
Только с наступлением темноты путешественники добрались до цели. Но напрасно Вальтер стучался во дворе развалившегося аббатства — никто не отзывался на бряцание железа.
— Проклятие! — буркнул он. — Не слышит эта старая ведьма что ли, или ее утащили, чтобы кинуть в воду?
— Я посоветовал бы, — шепнул Дэдлей, — отыскать какую-нибудь харчевню, так как здесь чувствуешь себя не по себе.
С этими словами он показал на освещенную лунным светом стену, на которой ясно вырисовывалась некая тень.
— Где же ты, ведьма? Чтобы тебя черти взяли! — крикнул Брай.
Тень исчезла, но сквозь развалившиеся ворота скользнула какая-то фигура. Лошади взволновались.
— Стой, кто бы ты ни был, черт или человек! — крикнул Брай, выхватывая пистолет.
Темная фигура понеслась тенью над болотом. Вальтер выстрелил. В ответ сзади всадников раздался иронический, хриплый смех.
Всадники испуганно вздрогнули — так жутко звучал этот смех, так необъяснимо было это видение. Но когда они оглянулись, сзади никого не оказалось.
— Да охранит нас Пресвятая Дева! — осенил себя крестным знамением Дэдлей. — Сэр Вальтер, не дразните дьявола!
— Клянусь святым Андреем, — буркнул тот, — вы правы; но пусть у меня отсохнет рука, если я когда-нибудь снова сжалюсь над ведьмой!
С этими словами он повернул лошадь назад.
Вдруг сзади него послышался голос:
— Вальтер Брай!
— Пусть малодушно бежит тот, кто хочет, — заскрежетали зубами Брай.
Он соскочил с коня и привязал его к камню, затем собрал валежник и зажег его.
Сэррей и Дэдлей последовали его примеру.
В несколько минут огонь ярко загорелся, но вдруг откуда-то сверху упал тяжелый камень, брошенный так ловко, что, не задев никого, потушил огонь.
— Колдовство! — задрожал Дэдлей, да и его спутники тоже были страшно перепуганы, так как кругом не было никого видно.
И опять они услышали голос:
— Берегись! Бледная смерть поразит каждую руку, которая осмелится зажигать огонь там, где горело священное пламя! Почему вы не просите, Вальтер Брай, вместо того, чтобы грозить? Та которую вы ищете, уже не живет более среди живых, ее душа витает в пространстве и терзает совесть убийц.
— О ком вы говорите? — крикнул Брай. — Где вы? Покажитесь и не бойтесь! Где старуха Гиль?
— Отыщите золу, которую палачи развеяли на все четыре стороны, и тогда вы найдете ее.
— Значит, она умерла? Какой же негодяй предал ее?
— Тот самый парень, который причинил вам столько горя.
— Вы лжете! — возразил Брай. — Она здесь, и Кэт тоже: я слышал ее голос.
— Ее голос ты должен услышать еще раз, Вальтер Брай. — На этот раз Вальтер заметил, что это кто-то старается подделаться под интонации Кэт. — Она говорит с тобой моими устами. Да, — продолжал голос, ставший опять старчески хриплым, — ты не должен убивать того, кого охраняют духи. Они утащили на горящих облаках ту женщину, которую ты ищешь. Но не ворчи, Вальтер Брай! Настанет время, когда ты узнаешь, что мы воздаем ненавистью за ненависть и благородством за любовь. Твоя рука спасла одну из наших от смерти и позора — этого мы никогда не забудем!
— Так скажите же мне, где Кэт, или я прокляну день, когда сжалился над ведьмой! — крикнул Брай.
— Проклинай или благословляй!… Что значит проклятие — проклятому, благословение — презираемому? Ты, Брай, найдешь свою Кэт, когда не будешь думать о ней, и в такое время, когда ты этого не ожидаешь. И тогда ты возликуешь, что твой кинжал не поразил ее. Неужели ты хочешь быть умнее тех, которые смотрят в будущее?
— Я готов верить и повиноваться, — ответил Вальтер, — но сначала должен убедиться, что здесь не кроется обмана. Покажись и не разыгрывай из себя духа! Впусти меня в твое подземелье, чтобы я мог убедиться, действительно ли там живет другая женщина, а не та, которую я ищу. Если ты не захочешь сделать этого, то я останусь здесь до утра, и тогда я уже откопаю тебя, клянусь своей головой!
— Вальтер Брай, — ответил голос, — ты не прав, угрожая мне. Пока наступит день, я могу десять раз уничтожить тебя. Достаточно одного слова, чтобы поднялись зловредные пары, которые высушат твое тело и заставят твои колени подогнуться! Достаточно одного звука, и на твою голову свалится тяжелый камень, или здоровенная стрела вонзится в твою грудь. Берегись раздражать духов, которые могущественнее тебя!
— Вот она! — крикнул Брай и бросился вперед, но его нога подвернулась, и он так неудачно упал, что не мог больше встать.
Сэррей и Дэдлей подумали, что его бросила наземь какая-то сверхъестественная сила. Первый перекрестился, а второй бросился бежать.
— Останьтесь! — остановил его голос, и из темноты словно по волшебству появилась старуха. — Случилось несчастье, а вы хотите бросить друзей? Помогите мне и не бойтесь!… Его просто оглушило, и он очнется.
В голосе старухи звучало внутреннее беспокойство, и ужас Сэррея и страх Дэдлея сразу пропали.
Старуха открыла потайную дверь, и Сэррей с Дэдлеем подняли Вальтера, при свете в подземелье Роберт увидал, что его обитательницей теперь является другая женщина, а не та, которую он видел в первый раз. Вальтера положили на ложе из мха, старуха распустила его набедренники и панцирь и, ощупывая его тело, спросила.
— Где у вас болит?
— Кажется, я сломал себе ногу, — ответил Брай. — Но кто вы такая?
Старуха ощупала ногу, достала бутылочку из угла и стала втирать в ногу ее содержимое.
— Нога не сломана, а только вывихнута, — сказала она, — и если вы отдохнете несколько часов, то будете в состоянии завтра утром бодрым и свежим сесть в седло. Почему вы так неосторожны? Ведь вы могли сломать себе шею в этом тяжелом панцире!
Старуха произнесла все это почти ласковым голосом, и выражение сердечного участия странно противоречило отвратительному уродству ее лица. Словно нищета и порок расцветили это лицо красками мрачных страстей; из-под широкого лба выглядывали маленькие хитрые глаза, беззубый рот был крепко стиснут, скулы выступали наружу, а кожа, на которой годы и нищета оставили глубокие морщины, была желта и похожа на пергамент.
— Да, да, — сказала она с неприятным смешком. — Я — не тетушка Гиль, но вы не хотели этому верить. Теперь вы на свое несчастье исполнили то, что хотели. Ну убедились, что я не укрываю здесь молодую девку.
— Здесь все-таки лучше, чем там, в тумане, — улыбнулся Сэррей. — Но ваш огонь погас и очаг пуст. Если у вас имеется валежник, то я помогу вам развести огонь, у которого мы могли бы погреться.
— Вот как? Так вы думаете, что я дам вам убежище на всю ночь?
— Так или иначе, но мы здесь, и для вас было бы большим позором, если бы вы выгнали нас теперь на улицу.
— Было бы позором, говорите? А я думаю, было бы умно сварить для вас такое питье, от которого вы заснули бы навсегда, чтобы вы не могли выдать ведьму, как это сделал подлый лорд!
— Что же, варите свой напиток, я не боюсь! — сказал Сэррей. — Потому что вы лучше, чем хотите казаться. А если вы на самом деле прозорливая женщина, то должны видеть, что мы не таим никаких злых умыслов.
Взор маленьких глаз старухи впился в Сэррея; она вдруг схватила его за руку и, посмотрев на нее, пробормотала:
— Это — правда, вы никого не выдадите, кроме себя самого. Вы честный и порядочный человек и умрете только потому, что вы таковы. Берегитесь собственного сердца! Благодарность ввергнет вас в несчастье, и ваш лучший друг предаст вас, чтобы спасти себя самого!
Дэдлей с любопытством подошел ближе, чтобы послушать, что говорит старуха, она глянула на него и, с угрозой подняв кверху костлявую руку, воскликнула хриплым голосом:
— Вы хотите узнать свою судьбу, а в душе смеетесь над моими словами! Говорю вам, ваша надменность послужит причиной многих слез и покроет ваше имя позором. Вы будете домогаться короны и ради этого предадите то, что будет вам дороже всего; вы будете разбивать сердца и рыдать над гробом той, которую убьете. Но месть близка, и позор! У вас холодное сердце и горячая кровь, смазливое лицо, но обман на уме!
— Вы лжете! — крикнул Дэдлей. — Я лучше умру, чем переживу позор или предам кого бы то ни было!
Старуха покачала головой.
— Разве можно помешать тому, что написано на звездах и что судьба запечатлела в чертах человека? Мне кажется, я вижу морские волны и слышу как они шумят. Она несется по волнам, но буря относит обратно то, что убежало с ветром. Берегитесь той, которую вы хотите спасти и которая окажет роковое влияние на судьбы вас обоих. Вы будете идти рука об руку, пока ревность не разъединит ваши сердца; я вижу, один из вас истекает кровью, а другой захлебывается в этой крови. Берегитесь друг друга! — С этими словами старуха оттолкнула от себя руку Сэррея и вернулась к Вальтеру Браю.
— Она предсказывает нам, что мы станем соперниками, — шепнул Дэдлей Сэррею. — Давайте поклянемся друг другу, что каждый из нас заранее отказывается от той женщины, которую полюбит другой.
— Я верю твоему сердцу больше, чем предсказаниям старой бабы! — возразил Сэррей и пожал руку другу.
Но, как тихо ни произнес он эти слова, старуха услышала их и рассмеялась с такой горькой иронией, что оба молодых человека вздрогнули от смутных предчувствий. Сейчас же вслед за этим она вышла из подземелья, и послышался протяжный свист.
Старуха вернулась не одна, за ней следом шел мальчик с всколоченными волосами, горбом и злыми глазами. Это маленькое гибкое существо скользнуло мимо посетителей, словно боясь встретиться с ними взглядом.
— Разведи огонь и приготовь нам поесть, Филли! — сказала старуха. — Да поторопись, у нас сегодня знатные гости!
Маленький горбун засуетился вокруг очага, и вскоре там загорелось жаркое пламя и по каморке разнесся приятный аромат кореньев и жареного мяса.
— Жаркое? — воскликнул Дэдлей. — Бабушка, это — очень приятная неожиданность. Ваш Филли, вероятно, и повар и поставщик дичи?
— Он ловит дичь руками на болотах, хотела бы я видеть такого коня, который перегнал бы его!
— Ну, что же, — сказал Дэдлей, подходя к очагу и похлопывая горбуна по плечу, — если тебе когда-нибудь надоест жизнь в этой трущобе, тогда приходи в Варвик-Кастл. Роберт Дэдлей даст тебе красивую одежду и сделает тебя своим скороходом.
— Вот это называется благодарностью! — вздохнула старуха. — Взять и переманить у меня ребенка, который является последней опорой моей старости. Но так уж идет все на свете: богатые берут у бедных последнее и оставляют им только право проклинать.
— Я совсем не хотел этого, — спохватился Дэдлей. — Если и вы тоже придете в Варвик-Кастл, то и для вас найдутся там кусок жаркого и кровать.
— Я приду и напомню вам о вашем слове! Я приду, когда ваш отец положит голову на плаху, когда запылают костры, и вы будете желать, чтобы ваши ноги могли унести вас так же быстро, как Филли.
— Как вам не стыдно! — вспыхнул Дэдлей. — Вы сыплете проклятия за то, что вам хотят помочь. Что вам сделал мой отец или я, почему вы желаете нам столько зла?
— Разве я желаю того, что вижу начертанным в будущем? Если бы будущее зависело от моих желаний, то мы были бы сейчас не здесь, а в моем доме в Эдинбурге, а город скорее сам сгорел бы, чем сжег на костре мою родственницу Гиль. Спросите Бэклея, хотела ли я, чтобы меня стегали кнутом и окунали в воду — xa-xa!… Но очередь дойдет и до лордов, а потом и до королев и королей! И, словно горный поток, польется кровь, а ведьмы тогда запляшут и запоют от радости.
— Женщина, перестань! — перебил ее Вальтер. — Лучше скажи мне, куда скрылся негодяй Бэклей. Ты знаешь?
— Ты найдешь его, Вальтер, и найдешь раньше, чем хотел бы, но позже, чем это могло бы помочь тебе!
— Скажи — где и оставь свои дурацкие пророчества.
— Где? Разве у пространства имеются границы и местности? — промолвила старуха. — Я говорю то, что вижу в откровении духа, неведомая сила заставляет меня говорить. Если бы я умела лгать и говорить людям одни приятные вещи, тогда меня не стали бы преследовать и гнать. Но именно потому, что я говорила то, что невольно набегало на мои уста, они стали преследовать меня, словно я накликала на них то несчастье, которое было предначертано в веках.
Старуха сказала это скорбно-жалобным тоном, и воспоминания о преследовании за колдовство, которое пришлось пережить ей, наполнило слушателей ужасом.
III
Обитательница подземелья в аббатстве, старуха Гуг, накормила гостей и рассказала о своем несчастье.
— Была ночь. Я сидела в своей комнате; вдруг в дверь постучались. Я подумала, что это — какой-нибудь больной, который пришел за лекарством, и отодвинула железный засов. Но дверь раскрылась, и вошел лорд Бэклей.
— Так вы уже знали его? — воскликнул Брай.
— Да, я знала его, так как мне про него рассказывала моя родственница Гиль, когда я увидела у нее бледную хорошенькую девушку.
— Значит, Кэт жива? Ведьма обманула меня! Дальше!
— Я иногда приносила Гиль платье и припасы, — продолжала Гуг, — за что получала от нее коренья, которые они собирала. Когда я была в последний раз, то увидала хорошенькую крестницу хозяина трактира «Красный Дуглас», про которую люди болтали, будто она была в связи с дьяволом и он утащил ее от папистского столба. Родственница рассказала мне также и о вас, Брай, и прибавила, что в случае, если вам понадобится помощь и вы обратитесь за ней к нам, детям ночи, то пусть проклятие поразит ту, которая откажет вам в этой помощи. Я не знала вас, Вальтер Брай, да и Кэт была мне чужой, но я лучше дала бы себя разрубить в куски, чем выдать лорду Бэклею сведения о том, куда вы отвезли несчастную девушку.
— Бэклей спрашивал вас об этом? Но откуда он знал, что вы знакомы с Гиль?
— Я умею приготовлять целебные напитки, и люди считали меня ведьмой. А ведь они думают, что одна ведьма должна знать другую. Бэклей приказал связать меня, заткнуть мне рот и взвалить на лошадь. Затем его люди привезли меня в какой-то замок, где бросили в погреб. Они принялись стегать меня плетьми, пока от боли я не согласилась провести этих мучителей к месту нахождения Кэт. В следующую ночь меня доставили к берегу озера, откуда я должна была провести их в аббатство к Гиль. Я пошла впереди всадников, они же с оружием в руках грозились, что убьют меня, если я попробую убежать от них. Но их угрозы не страшили меня, так как передо мной было болото и туман был очень густой. Я довела их до места, где перекрещиваются рвы аббатства, и скрылась в ольховых кустах. Всадники стали стрелять, но не попали в меня. Пока же они блуждали среди рвов и тонули с лошадьми в болоте, я кинулась к аббатству, чтобы предупредить мою родственницу Гиль и Кэт. Но до Гиль уже дошли слухи о том, что ее ищут всадники, поэтому она поручила Кэт какому-то страннику, обещавшему проводить ее за горы. Я советовала Гиль бежать, но она ответила, что во сне получила предсказание о близости смерти, да и вообще утомлена жизнью. Я окольными путями вернулась в город, чтобы спасти свои пожитки. Но чернь уже разгромила мой дом, так как люди уверяли, будто меня схватил черт. Я несколько дней блуждала по лесу, пока не узнала, что дугласовцы поймали мою родственницу Гиль и сожгли ее. С тех пор я поселилась здесь и проклинаю людей.
— Ужасно! — пробормотал Сэррей. — Но разве вы не боитесь, что всадники или народ могут когда-нибудь заявиться сюда, чтобы узнать, не поселилась ли здесь другая ведьма?
— Они уже пробовали сделать это, — хрипло рассмеялась старуха. — Они явились с надменными улыбками, а потом бросились бежать так, словно за ними гналась сама чума. Они сделали меня ведьмой, так я и доказала им, что умею колдовать. Существует такая смесь, которая дает ядовитые пары, как только зажигают ее. Я вырыла во дворе четыре ямы, наполнила их этой смесью, соединила серной веревкой и снова закопала. Когда пришли мои преследователи, то из подземелья я крикнула им: «Вам нужно бабушку Гиль? У меня в гостях черт, который приглашает вас разделить с ним компанию!» С этими словами я подожгла серную веревку. Поднялся отравленный дым, и шестеро из преследователей попадали, словно мухи, а остальные бросились бежать. С тех пор они думают, что душа сожженной ведьмы поселилась вместе с чертом в этих местах, и сюда никто не осмеливается подойти, кроме тех, кого нужда заставляет искать помощи хотя бы у самого черта.
— Что стало с этими шестерыми? Они умерли?
— Нет, но они стали искалеченными на всю жизнь, так как яд выел у них мозг из костей. Их эдинбургские родственники явились сюда целой процессией, с кадильницами и иконами, чтобы забрать их. Но народ в конце концов их все-таки сжег, так как решил, что в их тела вселился черт.
— Но скажите мне, откуда у вас этот парнишка? — спросил Брай.
— Вам какое дело! — воскликнула Гуг. — Разве я спрашиваю, кто такие ваши друзья?
— Да, но вы умолчали еще кое о чем, а я не буду вам благодарен, пока вы не скажете мне этого. Где Бэклей?
— Так спрашивайте вот этого! — огрызнулась старуха, внезапно показывая на Дэдлея, который смущенно покраснел.
— А, вы знаете это, сэр? — крикнул Вальтер, и его глаза заметали пламя. — Да, да, теперь я вспоминаю, что и в первый раз вы вместе с ним явились в Ментейт!
— Вальтер Брай, — возразил Дэдлей, — эта женщина права. Но все-таки не спрашивайте меня, потому что мой язык связан клятвой.
— А! — заскрипел зубами Вальтер Брай, хватаясь за меч. — Так если не его самого, мне по крайней мере удалось найти одного из приятелей негодяя!
— Стой! — крикнул Сэррей и бросился между ними. — Не надо ссоры, Вальтер. Скажите ему, сэр Дэдлей, что вы не можете быть другом такому негодяю, как Бэклей. Если же вы не в состоянии сказать это, тогда лучше садитесь на лошадь и поезжайте другой дорогой.
— Вы оба ошибаетесь! — ответил Дэдлей. — Я поклялся третьему лицу хранить эту тайну, где скрывается Бэклей. Но настанет время, когда мое слово уже не будет больше связывать меня, и тогда, если сэр Вальтер не хочет внимать предупреждению, я сам отведу его туда, где находится лорд Бэклей, и сам помогу ему, насколько это будет в моих силах.
— Я ловлю вас на слове, и пусть ваша честь будет мне порукой в том, что вы его сдержите! — произнес Вальтер Брай, протягивая Дэдлею руку, которую тот пожал не без внутреннего трепета.
На следующее утро, щедро одарив старуху, всадники поскакали дальше.

Глава десятая
ДВОЙНАЯ ИЗМЕНА

I
 Снова поведем мы читателя в Лондон ко двору. Корону носил мальчик Эдуард VI, а страной правил от его имени старый Варвик, герцог Нортумберленд. Чарльз Килдар правил Ирландией в качестве вице-короля, но его дочь, несчастная невеста убитого Сэррея, осталась статс-дамой принцессы Елизаветы.
Прошло несколько лет с тех пор, как шотландская королева Мария Стюарт бежала во Францию. Прибыв в Лондон, Роберт Сэррей отправился к Варвику, чтобы поблагодарить его, а затем вместе с Вальтером Браем уехать в свой родовой замок. Расставаясь с ними, Роберт Дэдлей еще раз повторил свое обещание относительно Бэклея, хотя тот был ближе от них, чем они могли думать.
С того момента, когда Бэклей отправился в английский лагерь и предложил свои услуги увезти Марию Стюарт из Инч-Магома, он отдался в руки Варвика. Когда же атака не удалась, то он счел более благоразумным остаться на службу у щедрого лорда, чем продолжать с партией Дугласов дразнить регента Шотландии. Гилфорд Варвик рекомендовал Бэклея отцу, могущественный герцог нашел в дерзком, хитром и гибком характере лорда благодарный материал для своих планов. Как шотландский дворянин, лорд Бэклей встретил при дворе, где мечтали о завоевании Шотландии, отличный прием. Генрих VIII дал ему титул графа Гертфорда, так как хитрый лорд живо втерся к нему в доверие, а Варвик, рекомендациям которого он был обязан своим счастьем, использовал его как шпиона при дворе. Таким обрати, Бэклей пользовался благоволением обеих сторон, и его значение и влияние еще возросли, когда после смерти Генриха VIII Варвик стал регентом. Бэклею удалось попасть в милость к той принцессе, которая имела больше всего прав на престолонаследие после Эдуарда VI, и Варвик ценил его тем более, что предполагал, будто Бэклей делал это только ради того, чтобы услужить ему, так как эта принцесса — Мария Тюдор дочь первой супруги Генриха VIII — была его заклятым врагом, и за ней стояла все еще влиятельная католическая партия. Бэклей выдавал Варвику все, что придумывала принцесса или ее приближенные для уменьшения его влияния на Эдуарда VI, и Варвик согласился бы скорее принести любую жертву, чем расстаться с этим человеком.
В этом-то и заключалась причина, почему Дэдлей должен был скрыть от Вальтера, где находится его враг. Он хотел объяснить деду истинный характер его доверенного и предостеречь его, но натолкнулся на такое безусловное, слепое доверие, что менее всего мог думать об исполнении данного Вальтеру Браю слова, особенно когда старый Варвик объявил, что будет смотреть на вражду против графа Гертфорда, как на направленную против него лично. Дэдлей был посвящен в замыслы деда, которые все были направлены ни более, ни менее, как на то, чтобы после смерти Эдуарда VI надеть королевскую корону на голову его отца — Гилфорда Варвика. Старому Варвику удалось получить согласие короля на брак Гилфорда с леди Иоанной Грэй, и теперь дело заключалось только в том, чтобы в решительный момент воспользоваться претензиями леди Грей, племянницы Генриха VIII, на королевский престол. Для этого необходимо было признать принцесс Марию и Елизавету незаконнорожденными, как зачатыми в незаконном браке, а потому не имеющими прав на английский престол.
Король Эдуард VI был нежным, слабым ребенком, по мнению врачей, он был болен чахоткой; враги же Варвика уверяли, будто бы тот отравляет мальчика медленно действующим ядом, от которого король постоянно угасает. Вместе с тем, так же ревностно, как Варвик искал приверженцев для леди Грей, его враги искали таковых для принцесс Марии и Елизаветы.
В маленькой комнате Уайтхолльского дворца стояли аналой и кровать. Хотя католицизм и был запрещен в Англии, но никто не нашел бы ничего необыкновенного в том, что в королевском дворце какой-то благочестивый католик поставил аналой в спальне, чтобы без помехи и надзора проводить здесь свои молитвенные часы. Однако все же удивляло, каким образом аналой попал в спальню или постель — в эту часовню. Комната производила такое впечатление, будто ее хотели в одно и то же время сделать и прихотливым будуаром, и часовней.
Шелковые занавеси скрывали подушки кровати, ковры покрывали пол; элегантный умывальник был заполнен сосудами из червонного золота или китайского фарфора; а маленький столик с венецианским зеркалом был уставлен всевозможными хрустальными флакончиками, фарфоровыми вазочками и маленькими коробочками. Все, что только было известно в те времена из косметических средств, можно было найти на этом столике.
Из всего этого можно было вывести определенное заключение о характере обитательницы этой комнаты, а картины, которыми были украшены стены, еще более подчеркивали это впечатление. На стене у кровати были развешаны портреты почти всех находящихся в живых принцев королевских царствующих домов, а между ними помещались фривольные, если не непристойные жанровые картинки; далее было несколько мифологических картин, где художник вдохновляется мужской красотой. Противоположная стена тоже была заполнена изображениями святых, картинами из жизни Христа, а также изображениями адских мук грешников. В маленьком, висевшем на стене стеклянном шкафу находились всевозможные реликвии: зубы, кости и волосы святых и мучеников за веру; над простым деревянным аналоем висело распятие, а через аналой был перекинут бич для самобичевания. На одной стороне комнаты все, что может вызывать сладострастие, на другой — сладострастие самоистязания.
Эта комната была спальней английской принцессы Марии Тюдор. Она вошла в комнату; высокая, худая, она была одета почти вычурно, а следовательно, безвкусно, но богато. Острый взгляд ее темных глаз с годами приобрел нечто столь отталкивающее, что уже шестой раз переговоры с очередным претендентом на ее руку прервались после того, как жених увидел невесту. До сих пор вся жизнь принцессы протекала очень безрадостно: детство прошло около вечно оскорбляемой и заброшенной матери, юность — при дворе тирана-отца. С самого раннего детства она привыкла слепо повиноваться своему духовнику, примиряться с небом путем покаяния и умерщвления плоти и все надежды своей жизни и честолюбия возлагать на победу церкви. Тщеславное, жаждущее любви сердце ее было затравленным, глубокую горечь пробуждали в ее душе все, прекрасней и счастливей ее. И единственным ее утешением был безраздельный, слепой религиозный фанатизм.
Мария была сильно возбуждена, когда вошла в свою комнату. Ее взор скользнул по всем тем княжеским портретам, которые напоминали ей о разбитых надеждах. Она расстегнула платье и обнажила плечо, затем приподняла юбку, стала голыми коленями на деревянный помост аналоя, взяла в руки бич и принялась так ожесточенно бичевать им себя, что вся кожа покрылась красными полосками. Губы принцессы шептали молитву, а она все безжалостнее неистовствовала над собственным телом, причем ее глаза блестели диким, фанатическим восторгом.
Дверь неслышно открылась, в комнату вошел человек в одежде католического священника и с молчаливым удовлетворением стал смотреть на кающуюся. Когда наконец она в изнеможении выпустила из рук бич, он тихонько подошел к ней и, благословив, промолвил:
— Того, кто унизится, Господь возвысит. Он избрал тебя для великой участи, дочь моя! Ты вооружишься Божьим мечом и уничтожишь врагов Божьих, а твоя нога растопчет твоих врагов.
— Я — несчастная женщина, над которой все смеются и которую все отталкивают! — воскликнула принцесса Мария.
— У меня нет ничего, кроме моей ненависти, и за нее вы заставляете меня каяться!
— Ты ненавидишь из греховного побуждения, а не из религиозного воодушевления, лишь плотская похоть возбуждает в тебе желания, которые далеки от высокой цели. Если ты будешь слушаться Господа, он даст тебе все, о чем тоскует твоя душа, и ты погрузишься в океан блаженства. Поднимись и оденься! Тебя ждет тот, кого Господь просветил положить большой камень в строение, воздвигаемое слабыми руками с верующими сердцами.
Мария снова оделась и поднялась; ее щеки раскраснелись, от нервного возбуждения грудь высоко вздымалась, она дышала быстро и прерывисто.
— Кто это, ваше высокопреосвященство? — спросила она, обращаясь к своему духовнику, архиепископу Гардинеру.
— Шотландский лорд. Приукрась свое лицо и заставь глаза сиять очарованием, ведь красота для того и дана женщинам, чтобы ослеплять глаза глупцов и соблазнять людей.
— Разве не грех давать обещания, которые не собираешься исполнить?
— Разумеется, если ты это делаешь из тщеславия сердца или ради греховного желания нравиться. Но Господь, даровавший тебе красоту, может требовать, чтобы ты пользовалась ею для службы церкви. Ухо любящего охотно слушает, а сердце — с радостью повинуется. Всякое средство хорошо, если оно употребляется ради благочестивой цели; и, с тех пор как ересь подняла голову и дьявол овладел землей, всякое средство хорошо для уничтожения ненавистных жрецов Ваала! Если ты, дочь моя во Христе, стремишься к короне из святой ревности послужить своей властью на помощь церкви и преследовать еретиков, то каждое средство окажется хорошим и благоугодным Господу; ведь Лойола говорит: «Не существует ничего такого, что само по себе может являться истиной, следовательно, нет добродетели, нет греха, нет чести, нет права, нет морали, которые могли бы быть хорошими сами по себе. Человек дает всему и каждому определенное освещение, которое зависит исключительно от цели. Что служит на пользу церкви, то хорошо, что идет против ее, то плохо, что способствует ее процветанию — хорошо, что вредит ей — плохо». Если ты действуешь в интересах церкви, то ни убийство, ни грабеж, ни прелюбодеяние не является преступлением. Но и то, что считается нравственным и добродетельным, может оказаться греховным, если обращено к еретику или не служит на пользу церкви.
В то время как Гардинер говорил все это, принцесса Мария окончила свой туалет. Ее щеки пылали ярким румянцем возбуждения, и глаза горели диким огнем фанатизма. Ведь вся ее юность прошла в слезах и безрадостных днях; с детства она была воспитана в вечных молитвах и покаянии и подвергалась самым тяжелым унижениям, какие только могут достаться на долю принцессы крови и которые оскорбляют тем глубже, что задевают не только женские чувства, но и царственную гордость.
С каким наслаждением принцесса впитывала в себя сладкий яд слов архиепископа. Как стремилась по жилам принцессы Марии блаженная надежда стать королевой и тогда поднимать бич уже не на собственное тело, а на всех могущественных лордов, спокойно смотревших на то, как тиран Генрих VIII отверг ее мать, и смеялся над ее слезами! Дивное наслаждение дает власть почитаемой всеми женщине, но она еще тем слаще — для отвергнутой и презираемой! Ведь прославленная сестра принцессы Марии, гордая Елизавета, стала бы тогда ее рабой. И леди Грэй, жена гордого Варвика, была бы в ее власти. А разве не явилось бы услугой церкви заставить голову еретички скатиться с плеч на окровавленном эшафоте?..
— Думай о том, что я сказал тебе! — шепнул архиепископ принцессе Марии, следуя за ней в гостиную. — Клятва, которую ты даешь, ничем не связывает тебя, если нарушение ее делается во славу Божию. Обман позволителен против тех, кто сам хочет обмануть нас; в Писании сказано: «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби».
— Но ведь вы останетесь со мной, чтобы я могла по вашему взору знать, так ли я все делаю? — спросила принцесса, направившись к боковой галерее.
Архиепископ, покачав головой, ответил:
— Граф Гертфорд не хочет никому доверять свою тайну, кроме тебя, и я должен сторожить у наружной двери, чтобы вам не помешали. Если бы стало известно, что Гертфорд прошел к тебе, то все пропало бы, так как Варвик держит бесчисленное количество шпионов и непоколебимо доверяет Гертфорду. Будь умна, Мария, и пусти в ход все средства, чтобы очаровать его.
Снова поведем мы читателя в Лондон ко двору. Корону носил мальчик Эдуард VI, а страной правил от его имени старый Варвик, герцог Нортумберленд. Чарльз Килдар правил Ирландией в качестве вице-короля, но его дочь, несчастная невеста убитого Сэррея, осталась статс-дамой принцессы Елизаветы.
Прошло несколько лет с тех пор, как шотландская королева Мария Стюарт бежала во Францию. Прибыв в Лондон, Роберт Сэррей отправился к Варвику, чтобы поблагодарить его, а затем вместе с Вальтером Браем уехать в свой родовой замок. Расставаясь с ними, Роберт Дэдлей еще раз повторил свое обещание относительно Бэклея, хотя тот был ближе от них, чем они могли думать.
С того момента, когда Бэклей отправился в английский лагерь и предложил свои услуги увезти Марию Стюарт из Инч-Магома, он отдался в руки Варвика. Когда же атака не удалась, то он счел более благоразумным остаться на службу у щедрого лорда, чем продолжать с партией Дугласов дразнить регента Шотландии. Гилфорд Варвик рекомендовал Бэклея отцу, могущественный герцог нашел в дерзком, хитром и гибком характере лорда благодарный материал для своих планов. Как шотландский дворянин, лорд Бэклей встретил при дворе, где мечтали о завоевании Шотландии, отличный прием. Генрих VIII дал ему титул графа Гертфорда, так как хитрый лорд живо втерся к нему в доверие, а Варвик, рекомендациям которого он был обязан своим счастьем, использовал его как шпиона при дворе. Таким обрати, Бэклей пользовался благоволением обеих сторон, и его значение и влияние еще возросли, когда после смерти Генриха VIII Варвик стал регентом. Бэклею удалось попасть в милость к той принцессе, которая имела больше всего прав на престолонаследие после Эдуарда VI, и Варвик ценил его тем более, что предполагал, будто Бэклей делал это только ради того, чтобы услужить ему, так как эта принцесса — Мария Тюдор дочь первой супруги Генриха VIII — была его заклятым врагом, и за ней стояла все еще влиятельная католическая партия. Бэклей выдавал Варвику все, что придумывала принцесса или ее приближенные для уменьшения его влияния на Эдуарда VI, и Варвик согласился бы скорее принести любую жертву, чем расстаться с этим человеком.
В этом-то и заключалась причина, почему Дэдлей должен был скрыть от Вальтера, где находится его враг. Он хотел объяснить деду истинный характер его доверенного и предостеречь его, но натолкнулся на такое безусловное, слепое доверие, что менее всего мог думать об исполнении данного Вальтеру Браю слова, особенно когда старый Варвик объявил, что будет смотреть на вражду против графа Гертфорда, как на направленную против него лично. Дэдлей был посвящен в замыслы деда, которые все были направлены ни более, ни менее, как на то, чтобы после смерти Эдуарда VI надеть королевскую корону на голову его отца — Гилфорда Варвика. Старому Варвику удалось получить согласие короля на брак Гилфорда с леди Иоанной Грэй, и теперь дело заключалось только в том, чтобы в решительный момент воспользоваться претензиями леди Грей, племянницы Генриха VIII, на королевский престол. Для этого необходимо было признать принцесс Марию и Елизавету незаконнорожденными, как зачатыми в незаконном браке, а потому не имеющими прав на английский престол.
Король Эдуард VI был нежным, слабым ребенком, по мнению врачей, он был болен чахоткой; враги же Варвика уверяли, будто бы тот отравляет мальчика медленно действующим ядом, от которого король постоянно угасает. Вместе с тем, так же ревностно, как Варвик искал приверженцев для леди Грей, его враги искали таковых для принцесс Марии и Елизаветы.
В маленькой комнате Уайтхолльского дворца стояли аналой и кровать. Хотя католицизм и был запрещен в Англии, но никто не нашел бы ничего необыкновенного в том, что в королевском дворце какой-то благочестивый католик поставил аналой в спальне, чтобы без помехи и надзора проводить здесь свои молитвенные часы. Однако все же удивляло, каким образом аналой попал в спальню или постель — в эту часовню. Комната производила такое впечатление, будто ее хотели в одно и то же время сделать и прихотливым будуаром, и часовней.
Шелковые занавеси скрывали подушки кровати, ковры покрывали пол; элегантный умывальник был заполнен сосудами из червонного золота или китайского фарфора; а маленький столик с венецианским зеркалом был уставлен всевозможными хрустальными флакончиками, фарфоровыми вазочками и маленькими коробочками. Все, что только было известно в те времена из косметических средств, можно было найти на этом столике.
Из всего этого можно было вывести определенное заключение о характере обитательницы этой комнаты, а картины, которыми были украшены стены, еще более подчеркивали это впечатление. На стене у кровати были развешаны портреты почти всех находящихся в живых принцев королевских царствующих домов, а между ними помещались фривольные, если не непристойные жанровые картинки; далее было несколько мифологических картин, где художник вдохновляется мужской красотой. Противоположная стена тоже была заполнена изображениями святых, картинами из жизни Христа, а также изображениями адских мук грешников. В маленьком, висевшем на стене стеклянном шкафу находились всевозможные реликвии: зубы, кости и волосы святых и мучеников за веру; над простым деревянным аналоем висело распятие, а через аналой был перекинут бич для самобичевания. На одной стороне комнаты все, что может вызывать сладострастие, на другой — сладострастие самоистязания.
Эта комната была спальней английской принцессы Марии Тюдор. Она вошла в комнату; высокая, худая, она была одета почти вычурно, а следовательно, безвкусно, но богато. Острый взгляд ее темных глаз с годами приобрел нечто столь отталкивающее, что уже шестой раз переговоры с очередным претендентом на ее руку прервались после того, как жених увидел невесту. До сих пор вся жизнь принцессы протекала очень безрадостно: детство прошло около вечно оскорбляемой и заброшенной матери, юность — при дворе тирана-отца. С самого раннего детства она привыкла слепо повиноваться своему духовнику, примиряться с небом путем покаяния и умерщвления плоти и все надежды своей жизни и честолюбия возлагать на победу церкви. Тщеславное, жаждущее любви сердце ее было затравленным, глубокую горечь пробуждали в ее душе все, прекрасней и счастливей ее. И единственным ее утешением был безраздельный, слепой религиозный фанатизм.
Мария была сильно возбуждена, когда вошла в свою комнату. Ее взор скользнул по всем тем княжеским портретам, которые напоминали ей о разбитых надеждах. Она расстегнула платье и обнажила плечо, затем приподняла юбку, стала голыми коленями на деревянный помост аналоя, взяла в руки бич и принялась так ожесточенно бичевать им себя, что вся кожа покрылась красными полосками. Губы принцессы шептали молитву, а она все безжалостнее неистовствовала над собственным телом, причем ее глаза блестели диким, фанатическим восторгом.
Дверь неслышно открылась, в комнату вошел человек в одежде католического священника и с молчаливым удовлетворением стал смотреть на кающуюся. Когда наконец она в изнеможении выпустила из рук бич, он тихонько подошел к ней и, благословив, промолвил:
— Того, кто унизится, Господь возвысит. Он избрал тебя для великой участи, дочь моя! Ты вооружишься Божьим мечом и уничтожишь врагов Божьих, а твоя нога растопчет твоих врагов.
— Я — несчастная женщина, над которой все смеются и которую все отталкивают! — воскликнула принцесса Мария.
— У меня нет ничего, кроме моей ненависти, и за нее вы заставляете меня каяться!
— Ты ненавидишь из греховного побуждения, а не из религиозного воодушевления, лишь плотская похоть возбуждает в тебе желания, которые далеки от высокой цели. Если ты будешь слушаться Господа, он даст тебе все, о чем тоскует твоя душа, и ты погрузишься в океан блаженства. Поднимись и оденься! Тебя ждет тот, кого Господь просветил положить большой камень в строение, воздвигаемое слабыми руками с верующими сердцами.
Мария снова оделась и поднялась; ее щеки раскраснелись, от нервного возбуждения грудь высоко вздымалась, она дышала быстро и прерывисто.
— Кто это, ваше высокопреосвященство? — спросила она, обращаясь к своему духовнику, архиепископу Гардинеру.
— Шотландский лорд. Приукрась свое лицо и заставь глаза сиять очарованием, ведь красота для того и дана женщинам, чтобы ослеплять глаза глупцов и соблазнять людей.
— Разве не грех давать обещания, которые не собираешься исполнить?
— Разумеется, если ты это делаешь из тщеславия сердца или ради греховного желания нравиться. Но Господь, даровавший тебе красоту, может требовать, чтобы ты пользовалась ею для службы церкви. Ухо любящего охотно слушает, а сердце — с радостью повинуется. Всякое средство хорошо, если оно употребляется ради благочестивой цели; и, с тех пор как ересь подняла голову и дьявол овладел землей, всякое средство хорошо для уничтожения ненавистных жрецов Ваала! Если ты, дочь моя во Христе, стремишься к короне из святой ревности послужить своей властью на помощь церкви и преследовать еретиков, то каждое средство окажется хорошим и благоугодным Господу; ведь Лойола говорит: «Не существует ничего такого, что само по себе может являться истиной, следовательно, нет добродетели, нет греха, нет чести, нет права, нет морали, которые могли бы быть хорошими сами по себе. Человек дает всему и каждому определенное освещение, которое зависит исключительно от цели. Что служит на пользу церкви, то хорошо, что идет против ее, то плохо, что способствует ее процветанию — хорошо, что вредит ей — плохо». Если ты действуешь в интересах церкви, то ни убийство, ни грабеж, ни прелюбодеяние не является преступлением. Но и то, что считается нравственным и добродетельным, может оказаться греховным, если обращено к еретику или не служит на пользу церкви.
В то время как Гардинер говорил все это, принцесса Мария окончила свой туалет. Ее щеки пылали ярким румянцем возбуждения, и глаза горели диким огнем фанатизма. Ведь вся ее юность прошла в слезах и безрадостных днях; с детства она была воспитана в вечных молитвах и покаянии и подвергалась самым тяжелым унижениям, какие только могут достаться на долю принцессы крови и которые оскорбляют тем глубже, что задевают не только женские чувства, но и царственную гордость.
С каким наслаждением принцесса впитывала в себя сладкий яд слов архиепископа. Как стремилась по жилам принцессы Марии блаженная надежда стать королевой и тогда поднимать бич уже не на собственное тело, а на всех могущественных лордов, спокойно смотревших на то, как тиран Генрих VIII отверг ее мать, и смеялся над ее слезами! Дивное наслаждение дает власть почитаемой всеми женщине, но она еще тем слаще — для отвергнутой и презираемой! Ведь прославленная сестра принцессы Марии, гордая Елизавета, стала бы тогда ее рабой. И леди Грэй, жена гордого Варвика, была бы в ее власти. А разве не явилось бы услугой церкви заставить голову еретички скатиться с плеч на окровавленном эшафоте?..
— Думай о том, что я сказал тебе! — шепнул архиепископ принцессе Марии, следуя за ней в гостиную. — Клятва, которую ты даешь, ничем не связывает тебя, если нарушение ее делается во славу Божию. Обман позволителен против тех, кто сам хочет обмануть нас; в Писании сказано: «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби».
— Но ведь вы останетесь со мной, чтобы я могла по вашему взору знать, так ли я все делаю? — спросила принцесса, направившись к боковой галерее.
Архиепископ, покачав головой, ответил:
— Граф Гертфорд не хочет никому доверять свою тайну, кроме тебя, и я должен сторожить у наружной двери, чтобы вам не помешали. Если бы стало известно, что Гертфорд прошел к тебе, то все пропало бы, так как Варвик держит бесчисленное количество шпионов и непоколебимо доверяет Гертфорду. Будь умна, Мария, и пусти в ход все средства, чтобы очаровать его.
II
Когда лорд Бэклей появился при дворе, принцесса Мария Тюдор возненавидела его, как фаворита Варвика. Это чувство обострялось по мере того, как он все более входил в милость семьи, объявившей открытую войну ей, Марии. С того дня, как Гилфорд Варвик на турнире не обратил на нее должного внимания, окружив ухаживаниями ее кузину, а его сын Дэдлей смелой проделкой выбрал Елизавету царицей праздника, принцесса Мария заподозрила, что старыйВарвик не напрасно соединился с Килдаром и гнул спину перед Генрихом. Подозрения не обманывали ее, когда она боялась, что после смерти короля Генриха лорд Варвик всецело овладеет волей и доверием несовершеннолетнего наследника. Свадьба Гилфорда и Джэн Грей заставляла предполагать дальнейшие посягательства; Мария чуть не задохнулась от зависти, когда ее кузина раньше нее надела на голову миртовый венок, а кругом нее шептали: «Варвики наденут на нее еще и другой венец — королевский!»
Граф Гертфорд был шафером леди Джэн Грей, но во время пиршества он, не обращая внимания на резкие насмешки и холодное презрение Марии Тюдор, окружил ее самым нежным почтением и ухаживаниями. Для нее это было еще больнее, так как она видела в этом только насмешку фаворита ее врагов. И вдруг ее духовник заявил, что имеет виды склонить к ней Бэклея! Она не верила в искренность человека, который назвал Джэн Грей самой красивой женщиной на свете. И вдруг сегодня ее духовник сказал, что она должна увидаться с Бэклеем, посоветовал ей обольстить его чарами кокетства и намекнул, что это было бы не трудно.
Принцесса Мария не собиралась оплачивать Бэклею любовью, но каким блаженством было бы для нее заставить преданного Варвикам человека изменить своим благодетелям!
Но если бы она только могла знать, что Гардинер шепнул Бэклею: «Вы добьетесь всего, если будете говорить Марии любезности!» — быть может, тогда она скорее отказалась бы от всяких надежд на корону, чем приняла бы его.
Бэклей вошел в гостиную, приблизился к принцессе Марии и, преклонив перед ней колено, сказал:
— Ваше высочество! Я рискую жизнью, входя сюда, так как месть Варвиков безжалостна. Из этого вы можете видеть, с каким полным доверием являюсь к вам, так что осмеливаюсь рассчитывать, что и вы тоже подарите меня вашим полным доверием.
Эти слова были так далеки от признаний смущенного влюбленного, что принцесса ответила Бэклею с мало скрытой насмешкой:
— Граф Гертфорд! Если вы так сильно рискуете, то вам лучше было бы совсем не приходить сюда!
— Ваше высочество, кто хочет достигнуть многого, тот должен многим рисковать. Разрешите мне объяснить вам, что дало мне основание просить вашего доверия? — сказал Бэклей с легким выражением нетерпения, так как принцесса Мария все еще не давала ему знака встать с колен, а лишь пытливо смотрела на него.
— Граф Гертфорд, — ответила наконец она. — Если вы явились только для того, чтобы предложить какое-либо соглашение преследуемой и загнанной дочери Генриха Восьмого, то говорите с Гардинером. Но вы, кажется, раскаялись и поняли, что существует только один человек, имеющий право наследовать английский трон, и сожалеете, что служили его врагам…
— Ваше высочество…
— Не прерывайте меня! Граф Гертфорд, вы были бунтовщиком. Если бы я хотела отплатить вам тем же, то послала бы сказать лорду Варвику, что его предают. Но я надеюсь, истинное право восторжествует, раз слуги предателя готовы приветствовать во мне свою законную госпожу. Но, чтобы доверять вам, я должна знать сначала, что заставляет вас покинуть лагерь мятежников, готовых предназначенную мне корону дать незаконнорожденным детям моего отца?
Мария сказала это с гордостью оскорбленного права. Она забыла все предупреждения Гардинера. Оскорбленная девушка видела перед собой только слугу своего смертельного врага и уже не могла притворяться.
Бэклей смутился и покраснел. Он ждал, что его примут с распростертыми объятиями, а принцесса оставляла его стоять на коленях и требовала отчета. Но, вспомнив о наставлениях Гардинера, он произнес:
— Ваше высочество, вы изволили знать, что привело меня к вам? Я отвечу. Когда я поступил на службу к Варвикам, то хотел служить Англии, а не лорду. Как беглец, я нашел здесь убежище, так что благодарность обязывала меня по отношению к покровителю. Но когда я увидел вас, ваше высочество, услышал о вашем уме и добродетели, я решил искать возможность служить вам, но когда я понял, что лорд Варвик является вашим врагом, разве смел я приблизиться к вам, зная, что вы считаете меня доверенным лицом мятежника? И все-таки я решился бы на это. Ваше высочество, корона, которая принадлежит вам, еще не украшает вашей головы, и мое сердце зашло в своей дерзости гак далеко, что увидело в Марии Тюдор только женщину, затмевавшую собой всех остальных представительниц своего пола… О, не сердитесь! — воскликнул он, когда принцесса Мария, покраснев, отвернулась от него. — Я сознавал, насколько преступна дерзость моего сердца, и потому оставался на службе вашего врага. Вы не должны были узнать, насколько бесконечно я уважаю вас, я боялся вашего гнева. Но теперь более высокая обязанность заставляет меня преодолеть этот страх.
— Граф Гертфорд, — улыбнулась Мария, лицо которой пылало, — встаньте! Я охотно прощаю вам ваше «преступление», хотя вы из галантности льстите женщине. Но я совсем не тщеславна. Зеркало говорит мне, какова я собой, а молитва показывает мне все мои прочие недостатки и пороки. А теперь перейдем к цели вашего прихода.
— Как! — воскликнул Бэклей. — Вы не сердитесь? Вы благодарите? О, это — жестокая насмешка и справедливое возмездие за дерзость глупца!
— Нет, граф! — смутилась принцесса. — Если бы я на самом деле обладала теми преимуществами, которые многие женщины считают достойными зависти, то очень гордилась бы этим. Для королевы никакой блеск не бывает чересчур ослепительным. И те поданные, которые оценили в ней женщину, будут всегда самыми верными слугами правительницы.
— О, тогда причислите и меня к ним, ваше высочество. Если бы все смотрели моими глазами на жемчужину Тюдоров, то трон Англии не был бы позорим несчастным Сеймуром!
— Перестаньте, граф, лесть, заходящая слишком далеко, может оскорбить. Но вы, надеюсь, не имели в виду ничего дурного, — спохватилась принцесса, увидев, что Бэклей сбит с толку. — Я готова поверить вам, что вы представляете собой исключение, и если настанет когда-нибудь время, когда Англия увидит во мне свою королеву, Мария Тюдор не забудет, что льстили ей еще до того, как она носила корону!
С этими словами она протянула графу руку, которую он покрыл пламенными поцелуями. Принцесса Мария не отнимала руки. Ее глаза затуманились. Она блаженно сознавала возможность отвергать или вознаграждать такую страсть. Вдруг, вспомнив, что перед ней слуга Варвика, она вырвала руку и сказала:
— Когда я буду королевой, Гертфорд, можете рассчитывать на награду. А теперь скажите мне, какие планы таит мятежник Варвик. Под страхом нашей немилости приказываю вам, сэр Гертфорд, забыть в нас женщину и говорить с нами, как с принцессой, дочерью Генриха Восьмого!
— Ваше высочество, — ответил Бэклей, сейчас же принявший формальный и почтительный тон, — лорд Варвик собирается сделать королевой леди Джэн Грей в тот день, когда король Эдуард отойдет в лоно праотцов…
— Это я знаю. Но как же он хочет заставить парламент утвердить такой акт, который нарушает законные права единственной наследницы Генриха Восьмого?
— Ваше высочество, лорд Варвик имеет бесстыдство утверждать, что первый брак Генриха Восьмого был незаконен, так как ваша мать была вдовой вашего дяди.
Мария побледнела, но заставила себя улыбнуться.
— Глава церкви, — ответила она, — объявил брак моей матери и отца действительным, а если отец потом и переменил религию, то ведь законное не могло благодаря этому превратиться в незаконное.
— Ваше высочество, точно так же говорят и лондонские горожане. Я лично был свидетелем тайных переговоров лорда Варвика с вожаками горожан.
— Далее!
— Ваше высочество, лорд Варвик нашел выход, как уговорить горожан отступиться от поддержки вам. Он указал им на то, что вы остались католичкой, хотя вся страна приняла реформатство.
— Насилием и смертными приговорами?
— Да, ваше высочество. Но известная часть населения уже освоилась с новым вероучением, остальные же предпочитают господство новой церкви, хотя и введенной путем насилия, так как таким образом возобновятся религиозные преследования уже под владычеством государыни-католички.
— Я готова обязаться, что этого не случиться; пусть горожане поверят мне!
— Ваше высочество, если горожане вступят в открытую борьбу с лордом Варвиком, то они потребуют поручительства. Я беседовал с влиятельными лицами, и они говорят: «А что, если бы вы, ваше высочество, приняли реформатское вероисповедание?»
— Что? Я должна отречься от своей религии? Навлечь на себя Божье проклятие ради короны?
— Ваше высочество, нужно только, чтобы вы дали обещание.
Бэклей сделал особенное ударение на слове «обещание», и принцесса Мария вспомнила совет Гардинера. Но она не могла решиться, так как предполагала, что этим переступает границы дозволенного, хотя бы цель и освящала средства. Разве небо простит ей обещание отречься от своей религии?
— Я подумаю об этом, — ответила она после короткого раздумья. — Эдуард может еще долго проскрипеть…
— Вы думаете?
— Как? — содрогаясь воскликнула принцесса. — Разве пойдут даже на преступление? Неужели это возможно?
— Ваше высочество, я не знаю, да и не могу знать, что происходит в королевских покоях Уайтхолла, когда ночью стража запирает дверь и не пропускает никого, кроме герцога Нортумберленда, в королевские покои. Я не могу знать, что думают врачи, когда, боясь гнева озабоченного лорда Варвика, предсказывают королю долгую жизнь. Но скажу, что еще только третьего дня было созвано совещание из представителей горожан, а сегодня курьеры понеслись во все графства, где только имеются приверженцы Варвиков, и я узнал то, что должны возвестить повсюду эти курьеры. Их клич: «Вооружайтесь! Час близок!» Я узнал еще, что в доме Килдара приготавливают комнаты для приема леди Грей и ее супруга. Последние должны остановиться там, чтобы их приезд в Варвик-Хауз не обратил на себя внимания и не внушил подозрений. Так можете ли вы сомневаться, что все это обозначает ожидание близкой смерти Эдуарда?
От возбуждения принцесса Мария дрожала всем телом. То, что, по ее мнению, должно было случиться лишь через много лет, вдруг выросло перед ней в самом близком будущем. Настал момент, когда должна была решиться ее участь. Так могла ли она колебаться далее и не схватиться за первую протянутую руку?
— Я готова дать обещание, — решилась она, — только чтобы не допустить до трона эту ненавистную мне женщину! Но как сообщить горожанам о моем решении? Как составить партию — в такой спешке! Что же вы до сих пор колебались? На что мне ваш совет, если я не могу извлечь из него никакой пользы? Ну, клянусь кровью моего отца, это издевательство дорого…
— Я могу помочь вам, ваше высочество, — ответил Бэклей и вынул из кармана пергаментный свиток. — Подпишите вот это, и лондонские горожане с оружием в руках встанут на защиту королевы Марии!
Принцесса схватила документ, это была составленная по всей форме присяга перейти в реформатское вероисповедание, если Мария Тюдор взойдет на английский трон.
Рука принцессы дрожала, когда она схватила перо…
Ведь это была присяга, которая обрекала ее душу черту и должна была вызвать на ее голову гром папского отлучения! Принцесса опустила перо. Но тогда Джэн Грей станет королевой?
«Цель освящает средство!» — закричало что-то внутри нее, и она подписала документ и оттиснула на нем свою восковую печать.
— Кому вы отдадите эту бумагу? — спросила она беззвучным голосом. — Разве ее должны будут увидеть все лондонские горожане?
— Нет, ваше высочество, достаточно будет, если ее увидит епископ Кранмер и поручится за вас. Было бы очень разумно, если бы вы, ваше высочество, написали несколько слов этому влиятельному человеку, смертельно ненавидящему Варвиков, так как они лишают его всякого влияния…
— Эту бумагу вы тоже приготовили? — улыбнулась принцесса Мария, видя, как Бэклей вытаскивает из кармана другой пергамент. Не читая, она подписала его и спросила:
— Ну, нет ли у вас еще и третьего документа?
— Какого, ваше высочество?
— Разве вы не потребуете от меня ручательства в моей благодарности?
Бэклей снова упал на колени и прошептал:
— Ваше высочество, королеве могло бы быть неприятно то, что обещала принцесса. А если я верну Марии Тюдор то, что ей было так трудно подписать, тогда, быть может, королева вспомнит, что я посвятил ей всю свою жизнь!
Яркий румянец залил лицо принцессы, когда она увидела, что Бэклей понял ее, но это обещание было таким неожиданным утешением, что в порыве чувства, она нагнулась и почти коснулась губами его щеки.
— Если вы сумеете сделать это, — шепнула она, — тогда требуйте от Марии Тюдор всего, что только способна дать женщина тому, кто понял ее сердце…
Граф поцеловал ее руку и, вскочив с колен, поклялся:
— За эту награду я готов пожертвовать своей жизнью! — И удалился.
— Лицемерна, как черт, — бормотал он по пути, — но поп прав. Сладкими словами можно околдовать принцесс!
Гардинер уже шел ему навстречу.
— Удалось, — шепнул ему Бэклей, — она подписала!
— Слава Богу! А я уже боялся, что мне придется идти вам на подмогу, так как все это продолжалось слишком долго. Теперь спешите, и да будет с вами Господь!
Архиепископ пожал ему руку и довел до потайной лестницы, после чего отправился к принцессе.
III
Гардинер нашел Марию на коленях у аналоя.
— Вы знаете, что я сделала? — тихо спросила принцесса Мария.
— Исповедуйся, дочь моя, облегчи свое сердце перед Господом! — ответил духовник.
Когда Мария исповедалась, он благословил ее:
— Если ты от чистого сердца сделала это, тогда ты принесла Господу благоугодную жертву. Постись и молись! Ты, избранная перед лицом Господа, должна будешь повести отвернувшийся от Господа народ к святому лону Его. Клятва, данная еретикам, значит не более чем детская болтовня, если ты поступилась правдивостью своего сердца ради Господа и Его церкви.
Принцесса Мария стала уверять духовника, что при виде шотландского лорда ею не овладевала плотская похоть, но Гардинер сказал ей:
— Я не стал бы порицать тебя, если бы этот человек оказал влияние на твое сердце, но счел бы это большим несчастьем для тебя, так как он недостоин твоей привязанности; он притворяется влюбленным в женщину, чтобы стяжать себе милость правительницы!
Принцесса Мария покраснела; этими словами была оскорблена ее гордость; ее самолюбие, еще никогда не чувствовавшее такого торжества, как в то время, когда она внимала сладким, льстивым словам Бэклея, было теперь унижено, как никогда. Когда принцы отвергали ее руку, это могло быть из-за политических соображений. Но в данном случае она снизошла до внимания к льстивым уверениям простого дворянина. Значит, Бэклей осмелился смеяться втайне над слабостью тщеславной женщины? Нет, это не могло быть! Гардинер просто ошибался или хотел удержать ее от глупости!
— Мне совершенно безразлично, что воображает себе этот человек, — ответила принцесса раздраженным тоном, — но мне кажется, что вы требуете от меня чересчур большого смирения, заставляя сомневаться, обладаю ли я хотя бы каким-либо очарованием, чтобы пленить человека, если я захочу этого!
— Мария, дочь моя! Мне не подобает глядеть на тебя и оценивать плотскими очами. Пойми меня правильно: женские чары побеждают путем духа, просветляющего их. А кто тебя знает, тот изумляется, как богато одарил тебя Творец тем, что не так преходяще, как краска ланит или блеск очей. Поэтому-то я и говорю тебе: берегись того, который готов смотреть на женщину только с чувственным вожделением и способен добиваться счастья у женщины, не соображаясь с силой ее духа. Все это — рабы тела. Человек, которого я привел к тебе, — дитя наслаждений, им владеет низкая похоть. Он ищет любви ради наслаждения, ради власти и почета. Проклятие греха тяготеет над его сознанием. Поэтому-то он и снискивал благоволение Варвиков. А с тех пор, как он стал бояться, что Варвики не смогут защитить его, он стал домогаться твоего благоволения…
— Если это правда, то почему вы с самого начала не предупредили меня?
— Потому что так было нужно. Необходимо было, чтобы ты подарила его полным доверием, потому что, если бы он возымел хоть самое легкое подозрение — а ведь у недоверия слух острый, — он ускользнул бы от той сети, которую я расставил для него. Я хотел, чтобы ты могла открыто обещать ему как можно больше, но теперь я открываю тебе глаза и предупреждаю тебя, чтобы ты могла со спокойной совестью немедленно отбросить грязное орудие твоих планов, как только они сбудутся. Он любит женщину, которую сделал несчастной.
— Если бы у меня были доказательства, если бы я могла знать наверное, что он осмелился просто шутить со мной, словно с уличной девкой, тогда я впилась бы в его гладкое лицо острыми шипами, а потом приказала бы отдать его на растоптание диким лошадям! Но откуда вы знаете, что он сделал несчастной женщину и продолжает любить ее?
— Потому что он продолжает искать ее, как скупец, потерявший грош. Она сама рассказала мне и сейчас находится под моим покровительством. Я рассчитываю в случае крайней необходимости обещать ему эту женщину в качестве награды, если он поможет мне свергнуть Варвика с вершины его власти…
— Эта женщина у вас?..
— У меня на службе. Когда я возвращался домой с богомолья, из монастыря святой Екатерины Пертской, то одна из несчастных женщин, которых еретики объявили ведьмами за то, что они не изменили истинной вере, передала на мое попечение бедную гонимую. История ее страданий трогательна. Но что заинтересовало меня особенно, так это то, что возлюбленный несчастной, считающий ее обесчещенной и поклявшийся умертвить Бэклея, — один из стрелков регента шотландского. Тот самый, кого назначили на подмогу беглецу Сэррею для охраны Марии Стюарт в Инч-Магоме. Между этими двумя людьми завязалась тесная дружба, и они, как тебе известно, дочь моя, благополучно доставили шотландскую королеву на французский корабль. Им помогал задумавший этот план сын Гилфорда Варвика. Когда ты вступишь на престол, то будет легко направить этого стрелка на Бэклея, а Сэррея вместе с Дэдлеем обвинить в государственном преступлении за то, что они выдали невесту принца Уэльского французам. Если семейства знатных лордов смирить и запугать, то королевской власти удастся снова поставить высоко святую церковь в Англии и искоренить семя, посеянное антихристом.
Принцесса Мария почти не слушала архиепископа; ее губы дрожали, глаза искрились зловещим огнем, а волнение ее груди выдавало бушевавшую в ней страсть.
— Я хочу видеть эту девушку, — потребовала она, — хочу принять ее в свой придворный штат. Посмотрим, осмелится ли шотландец преследовать ее, когда она попадет под мое покровительство. Не беспокойтесь, шотландец ничего о ней не узнает до той поры, пока я получу возможность стереть его с лица земли.
Как раз в эту минуту вошла камеристка с докладом, что принцесса Елизавета настоятельно желает переговорить с ней; принцесса Мария презрительно пожала плечами, но архиепископ шепнул ей:
— Прими ее! Притворяйся, дочь моя, она явилась, потому что почуяла грозу, рассей ее страх и польсти ей.
По знаку Марии камеристка распахнула дверь, и в комнату вошла принцесса Елизавета, дочь Анны Болейн.
Странный контраст существовал между этими двумя дочерьми Генриха VIII, которые ненавидели одна другую, словно заклятые враги. Елизавета была так же высока и стройна, но исполнена грации и величавости. В наружности Марии было что-то зловещее, благодаря мрачному блеску маленьких глаз, недоверчивому, пронзительному взору и худобе некрасивого лица, умные темно-синие глаза Елизаветы сияли, как звезды, на слегка загоревшем от солнца лице, обрамленном белокурыми волосами рыжеватого оттенка.
— Должно быть, случилось нечто особенное? — спросила Мария. — Чему я обязана честью, что дочь Анны Болейн вспомнила о сводной сестре?
— Ты не ошиблась, Мария, — ответила Елизавета, — и по причине нашей кровной связи, я осмелилась просить тебя о разговоре наедине.
Архиепископ встал, но принцесса Мария его остановила:
— Его высокопреосвященство — мой духовник, я не имею от него тайн.
— Тогда я прошу его остаться, — улыбнулась принцесса Елизавета. — У меня дело, которое непременно следует обсудить нам обеим. Ты знаешь, что наш отец обещал мне престолонаследие в своем завещании и что его воля утверждена решением парламента.
— Ты забываешь важное условие! — злобно усмехнулась принцесса Мария. — Ты будешь признана наследницей престола, если Эдуард и я умрем бездетными.
— Совершенно верно, и я охотно подчиняюсь этому, потому что ты — старшая сестра. Между тем лорд Варвик угрожает твоим и моим правам: с помощью Томаса Уайта он вербует приверженцев леди Грей и велит провозглашать по графствам, будто бы завещание нашего отца, по законам Англии, недействительно. Эдуард при смерти, и я полагаю, что нам пора действовать сообща против кузины и ее приверженцев.
— Благодарю тебя за такую заботливость о моем будущем, — ответила принцесса Мария. — Я угадываю ее побудительные причины. Ты надеешься, что я умру бездетной, потому что я еще не замужем; подобной сестринской любви я и ожидала от дочери Анны Болейн.
Оскорбительный тон, с каким принцесса Мария вторично упомянула имя матери принцессы Елизаветы, не оставлял ни малейшего сомнения в том, что старшая принцесса не допускает и мысли о признании прав Елизаветы на престол.
— Королева Анна, моя мать, — возразила Елизавета, — не захотела потребовать смерти Екатерины Арагонской и ее дочери, если ты осталась в живых, то обязана тем сердечной кротости моей матери. Не в чем упрекать друг друга; вместо того, чтобы ссориться, лучше действовать единодушно.
— Принцесса права! — подал голос архиепископ Гардинер. — Спор о правах дочерей Генриха будет только на руку приверженцам леди Грей. Но принцесса Мария привыкла получать так мало доказательств привязанности со стороны своих родных, что вы сделали бы хорошо, ваше высочество, если бы назвали условия, на которых вы согласны поддерживать притязания вашей сестры.
— Я не требую ничего, — ответила принцесса Елизавета, — кроме того, чтобы мне было обеспечено подобающее положение, если Мария унаследует корону, пока что моя сестра доказывает мне лишь ненависть, совершенно не заслуженную мной.
— Это — разумное требование…
— И я охотно исполню его, — перебила Гардинера принцесса Мария, — если дочь Анны Болейн признает несправедливость обиды, нанесенной моей матери ее матерью, если она попросит у меня прощенья, как сделала Анна Болейн в Тауэре. Тщеславная гордость не подобает дочери казненной.
— Довольно! — воскликнула принцесса Елизавета. — Все, сказанное тобой, безобразно, как ты и твое черствое сердце. Я запачкала бы руку, если бы протянула ее дочери женщины, которой наш отец не удостаивал даже своей ненавистью. Кровосмешение наложило проклятие на твое чело. Лорды избавят от тебя Англию!
Принцесса Мария стиснула кулаки, онемев от бешенства. И когда сестра вышла, она упала почти без чувств на руки духовника.
— На эшафот! — успела промолвить она, скрежеща зубами. — На эшафот незаконнорожденную!… Крови!…
Гардинер положил изнеможденную принцессу Марию на постель. Его пугала эта женщина, до такой степени обуреваемая мрачными страстями, что у нее не было силы даже лицемерить.
Когда Мария очнулась, духовника уже не было. Колеблющимися шагами подошла она к шкафчику, вынула оттуда бутылку, наполнила из нее большой стакан и стала пить большими, жадными глотками, после чего, шатаясь, направилась к аналою.
Выпитое оказало свое действие: в экстазе опьянения принцесса приступила к истязанию своей плоти!

Глава одиннадцатая
РОКОВАЯ НОЧЬ

I
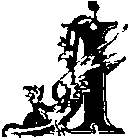 Леди Бэтси Фитцджеральд, графиня Килдар, не последовала за принцессой Елизаветой в ее дворец в Эшридж, но жила в доме своего отца в Лондоне. Многие знатные дворяне искали руки прекрасной графини, однако все их притязания были безуспешны. План Варвика — провозгласить королевой леди Грей, встретил в ней горячую сторонницу, потому что он был направлен против детей Генриха VIII. Леди Килдар видела в нем мщение кровавому тирану.
Маргарита Морус полюбила Бэтси как дочь, а та видела в ней сторонницу, которая отбросила все слабости тщеславия, чтобы жить одной идеей — отомстить за умерщвление отца потомству тирана. Мрачность и суровая замкнутость характера Маргариты не остались без влияния на Бэтси Килдар, и эта некогда веселая девушка превратилась теперь в существо с серьезными, холодными, строгими чертами, придававшими ее благородной наружности прямо царственную красоту.
Лорд Бэклей также принадлежал к числу тех, которые напрасно сватались за Бэтси. Бэклей был натурой честолюбивой, энергичной и настойчивой, он не обладал мужеством для смелых подвигов, но питал страсть к безумно-смелым планам, он был отважным в интригах, но трусил перед опасностями.
Хотя он и любил Кэт, но отдал ее в жертву всадникам Дугласа, потому что не смел оказать отпор грубой силе. Когда же узнал, что она спасена, то загорелся желанием иметь ее в своей власти, чтобы помешать ей выдать его позор, и надеясь, что молодая девушка прельстится любовной связью с дворянином. Таким образом, страх и вместе с тем похоть побуждали его разыскивать Кэт в развалинах. Так что Гардинер ошибался, предполагая, что Бэклей до сих пор питает к ней глубокое чувство. Иного рода была его склонность к леди Килдар. Она превратилась в жгучее влечение, и чем равнодушнее принимала Бэтси его уверения в преданности, тем сильнее пожирало Бэклея желание назвать своею гордую красавицу. Напрасно упрашивал он Варвика замолвить за него слово перед леди Килдар, лорд. Варвик с самого начала считал безуспешной всякую попытку подобного рода, которая могла повлечь за собой немилость.
Молодой Дэдлей явно избегал Бэклея, а когда и Гилфорд Варвик охладел к нему, то подозрительный Бэклей почуял, что сюда из Эдинбурга дошла дурная слава о нем и что если его не отталкивают окончательно, то лишь потому, что еще нуждаются в нем. Когда же Варвикам удастся достичь своей цели, для него будет слишком поздно приобрести себе другого покровителя.
Вот почему Бэклей со смелой решимостью ухватился за рискованный план продаться партии принцессы Марии. Если лорд Варвик погибнет, а принцесса Мария сделается королевой и будет обязана ему, Бэклею, короной, тогда он станет всемогущим. Тогда и графиня Килдар лишится всякой защиты, и он предложит ей выбор: быть обвиненной в государственном преступлении или отдать ему свою руку.
Гардинер принял Бэклея с распростертыми объятиями, и измена, по-видимому, должна была увенчаться успехом. Лондонские горожане отнюдь не желали власти высокомерных лордов, однако потребовали бы, чтобы принцесса Мария приняла религию страны. У Бэклея лежало в кармане клятвенное обещание принцессы на этот счет, но, прежде чем отправиться с ним на тайное заседание членов магистрата, он поспешил к графине Килдар, чтобы узнать, не принято ли Варвиками какого-либо неожиданного решения.
Дворец уже был полон знатными дворянами, созванными Варвиком, чтобы в решительную минуту обнажить за него меч. В большом зале сидели кавалеры и угощались вином; Бэклей шел по галерее мимо зала, когда, бросив взгляд вниз, увидал возле Дэдлея графа Сэррея и… Вальтера Брая. Щеки лорда побледнели. Как попал подчиненный в компанию знатных господ? Дэдлей знал Брая. Следовательно, не было сомнения, что Варвики только терпели Бэклея, потому что боялись измены с его стороны. Значит, он вовремя переменил цвет, чтобы спастись.
Графиня Килдар сидела с Маргаритой Морус у себя в гостиной, когда вошел Бэклей. При виде его раскрасневшегося, взволнованного лица она подумала, что он принес недобрую весть, однако она спокойно пошла ему навстречу и спросила:
— Вы от герцога, сэр?
— Нет, леди, я рассчитывал увидеть его тут.
— Он в Уайтхолле при больном короле.
— А милорд Гилфорд?
— Уехал с леди Грэй в Варвикшир.
— Слава богу! Вероятно, кавалеры герцога получили приказ последовать туда?
— Нет, надо выждать, что решит городское сословие, а в неблагоприятном случае принудить город последовать примеру графств.
— Город взволнован. Еще вчера настроение горожан благоприятствовало лорду Варвику; сегодня же город хочет, чтобы ему доверяли, и его оскорбляет, что друзья Варвиков явились в Лондон со своими воинами, точно дело идет о каком-нибудь завоевании. Все погибнет, если дворяне не распустят своих латников.
— Чтобы дожидаться решения горожан безоружными.
— Всегда успеется пригрозить городу вооруженной силой, если он не захочет взять сторону леди Грэй.
В это время двери распахнулись, и в гостиную внезапно пошла принцесса Елизавета.
Неожиданный выстрел не вызвал бы пожалуй большего испуга и замешательства, как это внезапное появление дочери Генриха VIII в доме, где притаился очаг заговора против престолонаследования принцесс Марии и Елизаветы. Неужели среди заговорщиков нашелся предатель? Что привело сюда Елизавету из ее поместья, как не подозрение, что тут затевается измена?
С первого взгляда на принцессу можно было догадаться, что ей известно, с какой целью собралось знатное дворянство в зале. Ее щеки пылали от волнения, глаза горели, и гордая, торжествующая усмешка мелькнула на лице, когда она заметила внезапную бледность графини и явный испуг Бэклея.
— Скажите, милая леди Бэтси, что происходит в вашем доме? Право, это смахивает на мятеж, но ведь вы — приятельница Варвиков, а Варвик владычествует.
— Ваше высочество, — запинаясь, промолвила Бэтси Килдар, — это — родственники моего дома.
— Молчите! — надменно перебила ее принцесса. — Ваше замешательство выдает вас. Разве смерть Эдуарда уже так близка, что наследникам надо собраться? Говорите правду! Ведь вы дрожите, точно я — король Генрих, а за мной стоит шериф. Неужели вы думаете, что я соглашусь сделаться служанкой моей сводной сестры? Передайте леди Грэй, когда увидите ее, что я, Елизавета Тюдор, первая стану молить Бога, чтобы бремя королевского венца было для нее легким. Пусть только Варвик остерегается. Сегодня я слышала такие речи от дочери Екатерины Арагонской, которые заставили меня догадаться, что леди Грэй будет трудно утвердиться на престоле.
Замешательство присутствующих сменилось удивлением.
— Слышите? — подхватил Бэклей. — А ведь принцесса Мария опирается не на что иное, как на брожение в городе. Скажите рыцарям, чтобы они удалили своих латников, лондонские горожане не могут вынести подобную угрозу. Я посоветовал бы собравшимся здесь дворянам остаться только в качестве свиты лорда Варвика, но непременно отослать своих воинов в Варвикшир, чтобы сосредоточить там военную силу, которая, в случае надобности, возьмет приступом Лондон, если город не захочет подчиниться.
— Этот план кажется мне разумным! — сказала принцесса Елизавета. — Если в зале сидит кто-нибудь из Варвиков, то позовите его сюда.
Бэклей поклонился и вышел, однако передал поручение слуге в прихожей, а сам поспешил оставить дворец, чтобы явиться на заседание горожан.
Принцесса Елизавета, конечно, не предвидела, когда велела позвать Варвика, что перед ней предстанет молодой человек, который в качестве пажа некогда был ее рыцарем. Она тотчас узнала его, хотя со дня знаменательного турнира протекло уже несколько лет и отроческая красота лица Роберта Дэдлея уступила выражению мужественной силы. Принцесса покраснела и на минуту потупилась: до того красив и благороден был этот мужской облик, часто являвшийся ей в девичьих сновидениях.
— Роберт Дэдлей! Я полагала, что вы в Шотландии или даже во Франции, так как мне рассказывали, что королева Стюарт обязана вам своим освобождением, — сказала Елизавета.
Дэдлей тоже менее всего ожидал встретить здесь принцессу, но незаметно поданный графиней Килдар знак успокоил его. И все же он не мог подозревать, что сестра принцессы Марии примкнула к партии его отца. Поэтому, преклонив колено и поцеловав протянутую ею руку, Дэдлей ответил, что считает за счастье увидеть еще раз перед своим отъездом из Англии принцессу, которая, как он надеется, позволит ему рискнуть своей жизнью против ее врагов, когда королевский венец украсит ее голову.
— Браво! — крикнула принцесса Елизавета. — Однако вы очень развились: вы лжете и лицемерите, точно провели целые годы подряд при французском дворе. Но я ищу помощи и не могу сердиться на вас. Пожелаете ли вы быть сегодня моим рыцарем, как тогда, на турнире, если я вам скажу, что уступаю моей кузине корону?
— Ваше высочество… вы хотите отказаться!…
— У меня нет друзей, поэтому я выбираю среди врагов тех, от которых жду пощады.
— Ваше высочество, скажите, где находите вы сердца, которые за одну вашу улыбку готовы пролить свою кровь?
Принцесса Елизавета нетерпеливо пожала плечами, она чувствовала, что такая изысканная лесть в данный момент похожа скорее на насмешку, чем почтение, и, обернувшись, спросила:
— Где же лорд, которого я здесь застала?
— Граф Гертфорд не возвращался назад! — ответила Бэтси.
— Граф Гертфорд? — насторожился Дэдлей. — Что ему тут надо?
— Он предостерегал против брожения в городе. По его словам, многочисленные свиты лордов тревожат горожан, — ответила графиня Килдар.
— Верно, хотя вы и слышали это от Бэклея.
— Вы не доверяете ему? — заволновалась графиня.
— Он — мошенник, которому не следует больше носить цвета Варвиков.
— Однако не предатель? — осведомилась принцесса Елизавета.
— Что может он выдать? — воскликнул Дэдлей.
— Тогда сообщите лордам приказ отпустить своих латников, — сказала принцесса Елизавета, — а я вернусь к себе в имение, успокоенная тем, что Варвики защищают меня.
Дэдлей проводил принцессу до экипажа, после чего вернулся в зал и объявил собравшимся, что принцесса Елизавета с ними. Клики торжества потрясли своды, и бокалы зазвенели за здоровье леди Джэн Грэй и храброго Варвика.
Вдруг в зал вбежал гонец и передал пергамент Дэдлею. Тот, прочтя письмо, воскликнул:
— Вот мне и не надо никуда ехать! Мой дед шлет нам приказ отослать наших латников в Варвикшир, так как их пребывание в Лондоне волнует горожан и может настроить их против нас… Однако странно: на пергаменте нет печати!
— Герцог, должно быть, писал второпях, — возразил гонец. — У него были представители Сити, лорд-мэр и шериф.
Объяснение показалось настолько правдоподобным, а приказ так согласовался с тем, что Дэдлей признавал правильным, что приказ был выполнен.
Леди Бэтси Фитцджеральд, графиня Килдар, не последовала за принцессой Елизаветой в ее дворец в Эшридж, но жила в доме своего отца в Лондоне. Многие знатные дворяне искали руки прекрасной графини, однако все их притязания были безуспешны. План Варвика — провозгласить королевой леди Грей, встретил в ней горячую сторонницу, потому что он был направлен против детей Генриха VIII. Леди Килдар видела в нем мщение кровавому тирану.
Маргарита Морус полюбила Бэтси как дочь, а та видела в ней сторонницу, которая отбросила все слабости тщеславия, чтобы жить одной идеей — отомстить за умерщвление отца потомству тирана. Мрачность и суровая замкнутость характера Маргариты не остались без влияния на Бэтси Килдар, и эта некогда веселая девушка превратилась теперь в существо с серьезными, холодными, строгими чертами, придававшими ее благородной наружности прямо царственную красоту.
Лорд Бэклей также принадлежал к числу тех, которые напрасно сватались за Бэтси. Бэклей был натурой честолюбивой, энергичной и настойчивой, он не обладал мужеством для смелых подвигов, но питал страсть к безумно-смелым планам, он был отважным в интригах, но трусил перед опасностями.
Хотя он и любил Кэт, но отдал ее в жертву всадникам Дугласа, потому что не смел оказать отпор грубой силе. Когда же узнал, что она спасена, то загорелся желанием иметь ее в своей власти, чтобы помешать ей выдать его позор, и надеясь, что молодая девушка прельстится любовной связью с дворянином. Таким образом, страх и вместе с тем похоть побуждали его разыскивать Кэт в развалинах. Так что Гардинер ошибался, предполагая, что Бэклей до сих пор питает к ней глубокое чувство. Иного рода была его склонность к леди Килдар. Она превратилась в жгучее влечение, и чем равнодушнее принимала Бэтси его уверения в преданности, тем сильнее пожирало Бэклея желание назвать своею гордую красавицу. Напрасно упрашивал он Варвика замолвить за него слово перед леди Килдар, лорд. Варвик с самого начала считал безуспешной всякую попытку подобного рода, которая могла повлечь за собой немилость.
Молодой Дэдлей явно избегал Бэклея, а когда и Гилфорд Варвик охладел к нему, то подозрительный Бэклей почуял, что сюда из Эдинбурга дошла дурная слава о нем и что если его не отталкивают окончательно, то лишь потому, что еще нуждаются в нем. Когда же Варвикам удастся достичь своей цели, для него будет слишком поздно приобрести себе другого покровителя.
Вот почему Бэклей со смелой решимостью ухватился за рискованный план продаться партии принцессы Марии. Если лорд Варвик погибнет, а принцесса Мария сделается королевой и будет обязана ему, Бэклею, короной, тогда он станет всемогущим. Тогда и графиня Килдар лишится всякой защиты, и он предложит ей выбор: быть обвиненной в государственном преступлении или отдать ему свою руку.
Гардинер принял Бэклея с распростертыми объятиями, и измена, по-видимому, должна была увенчаться успехом. Лондонские горожане отнюдь не желали власти высокомерных лордов, однако потребовали бы, чтобы принцесса Мария приняла религию страны. У Бэклея лежало в кармане клятвенное обещание принцессы на этот счет, но, прежде чем отправиться с ним на тайное заседание членов магистрата, он поспешил к графине Килдар, чтобы узнать, не принято ли Варвиками какого-либо неожиданного решения.
Дворец уже был полон знатными дворянами, созванными Варвиком, чтобы в решительную минуту обнажить за него меч. В большом зале сидели кавалеры и угощались вином; Бэклей шел по галерее мимо зала, когда, бросив взгляд вниз, увидал возле Дэдлея графа Сэррея и… Вальтера Брая. Щеки лорда побледнели. Как попал подчиненный в компанию знатных господ? Дэдлей знал Брая. Следовательно, не было сомнения, что Варвики только терпели Бэклея, потому что боялись измены с его стороны. Значит, он вовремя переменил цвет, чтобы спастись.
Графиня Килдар сидела с Маргаритой Морус у себя в гостиной, когда вошел Бэклей. При виде его раскрасневшегося, взволнованного лица она подумала, что он принес недобрую весть, однако она спокойно пошла ему навстречу и спросила:
— Вы от герцога, сэр?
— Нет, леди, я рассчитывал увидеть его тут.
— Он в Уайтхолле при больном короле.
— А милорд Гилфорд?
— Уехал с леди Грэй в Варвикшир.
— Слава богу! Вероятно, кавалеры герцога получили приказ последовать туда?
— Нет, надо выждать, что решит городское сословие, а в неблагоприятном случае принудить город последовать примеру графств.
— Город взволнован. Еще вчера настроение горожан благоприятствовало лорду Варвику; сегодня же город хочет, чтобы ему доверяли, и его оскорбляет, что друзья Варвиков явились в Лондон со своими воинами, точно дело идет о каком-нибудь завоевании. Все погибнет, если дворяне не распустят своих латников.
— Чтобы дожидаться решения горожан безоружными.
— Всегда успеется пригрозить городу вооруженной силой, если он не захочет взять сторону леди Грэй.
В это время двери распахнулись, и в гостиную внезапно пошла принцесса Елизавета.
Неожиданный выстрел не вызвал бы пожалуй большего испуга и замешательства, как это внезапное появление дочери Генриха VIII в доме, где притаился очаг заговора против престолонаследования принцесс Марии и Елизаветы. Неужели среди заговорщиков нашелся предатель? Что привело сюда Елизавету из ее поместья, как не подозрение, что тут затевается измена?
С первого взгляда на принцессу можно было догадаться, что ей известно, с какой целью собралось знатное дворянство в зале. Ее щеки пылали от волнения, глаза горели, и гордая, торжествующая усмешка мелькнула на лице, когда она заметила внезапную бледность графини и явный испуг Бэклея.
— Скажите, милая леди Бэтси, что происходит в вашем доме? Право, это смахивает на мятеж, но ведь вы — приятельница Варвиков, а Варвик владычествует.
— Ваше высочество, — запинаясь, промолвила Бэтси Килдар, — это — родственники моего дома.
— Молчите! — надменно перебила ее принцесса. — Ваше замешательство выдает вас. Разве смерть Эдуарда уже так близка, что наследникам надо собраться? Говорите правду! Ведь вы дрожите, точно я — король Генрих, а за мной стоит шериф. Неужели вы думаете, что я соглашусь сделаться служанкой моей сводной сестры? Передайте леди Грэй, когда увидите ее, что я, Елизавета Тюдор, первая стану молить Бога, чтобы бремя королевского венца было для нее легким. Пусть только Варвик остерегается. Сегодня я слышала такие речи от дочери Екатерины Арагонской, которые заставили меня догадаться, что леди Грэй будет трудно утвердиться на престоле.
Замешательство присутствующих сменилось удивлением.
— Слышите? — подхватил Бэклей. — А ведь принцесса Мария опирается не на что иное, как на брожение в городе. Скажите рыцарям, чтобы они удалили своих латников, лондонские горожане не могут вынести подобную угрозу. Я посоветовал бы собравшимся здесь дворянам остаться только в качестве свиты лорда Варвика, но непременно отослать своих воинов в Варвикшир, чтобы сосредоточить там военную силу, которая, в случае надобности, возьмет приступом Лондон, если город не захочет подчиниться.
— Этот план кажется мне разумным! — сказала принцесса Елизавета. — Если в зале сидит кто-нибудь из Варвиков, то позовите его сюда.
Бэклей поклонился и вышел, однако передал поручение слуге в прихожей, а сам поспешил оставить дворец, чтобы явиться на заседание горожан.
Принцесса Елизавета, конечно, не предвидела, когда велела позвать Варвика, что перед ней предстанет молодой человек, который в качестве пажа некогда был ее рыцарем. Она тотчас узнала его, хотя со дня знаменательного турнира протекло уже несколько лет и отроческая красота лица Роберта Дэдлея уступила выражению мужественной силы. Принцесса покраснела и на минуту потупилась: до того красив и благороден был этот мужской облик, часто являвшийся ей в девичьих сновидениях.
— Роберт Дэдлей! Я полагала, что вы в Шотландии или даже во Франции, так как мне рассказывали, что королева Стюарт обязана вам своим освобождением, — сказала Елизавета.
Дэдлей тоже менее всего ожидал встретить здесь принцессу, но незаметно поданный графиней Килдар знак успокоил его. И все же он не мог подозревать, что сестра принцессы Марии примкнула к партии его отца. Поэтому, преклонив колено и поцеловав протянутую ею руку, Дэдлей ответил, что считает за счастье увидеть еще раз перед своим отъездом из Англии принцессу, которая, как он надеется, позволит ему рискнуть своей жизнью против ее врагов, когда королевский венец украсит ее голову.
— Браво! — крикнула принцесса Елизавета. — Однако вы очень развились: вы лжете и лицемерите, точно провели целые годы подряд при французском дворе. Но я ищу помощи и не могу сердиться на вас. Пожелаете ли вы быть сегодня моим рыцарем, как тогда, на турнире, если я вам скажу, что уступаю моей кузине корону?
— Ваше высочество… вы хотите отказаться!…
— У меня нет друзей, поэтому я выбираю среди врагов тех, от которых жду пощады.
— Ваше высочество, скажите, где находите вы сердца, которые за одну вашу улыбку готовы пролить свою кровь?
Принцесса Елизавета нетерпеливо пожала плечами, она чувствовала, что такая изысканная лесть в данный момент похожа скорее на насмешку, чем почтение, и, обернувшись, спросила:
— Где же лорд, которого я здесь застала?
— Граф Гертфорд не возвращался назад! — ответила Бэтси.
— Граф Гертфорд? — насторожился Дэдлей. — Что ему тут надо?
— Он предостерегал против брожения в городе. По его словам, многочисленные свиты лордов тревожат горожан, — ответила графиня Килдар.
— Верно, хотя вы и слышали это от Бэклея.
— Вы не доверяете ему? — заволновалась графиня.
— Он — мошенник, которому не следует больше носить цвета Варвиков.
— Однако не предатель? — осведомилась принцесса Елизавета.
— Что может он выдать? — воскликнул Дэдлей.
— Тогда сообщите лордам приказ отпустить своих латников, — сказала принцесса Елизавета, — а я вернусь к себе в имение, успокоенная тем, что Варвики защищают меня.
Дэдлей проводил принцессу до экипажа, после чего вернулся в зал и объявил собравшимся, что принцесса Елизавета с ними. Клики торжества потрясли своды, и бокалы зазвенели за здоровье леди Джэн Грэй и храброго Варвика.
Вдруг в зал вбежал гонец и передал пергамент Дэдлею. Тот, прочтя письмо, воскликнул:
— Вот мне и не надо никуда ехать! Мой дед шлет нам приказ отослать наших латников в Варвикшир, так как их пребывание в Лондоне волнует горожан и может настроить их против нас… Однако странно: на пергаменте нет печати!
— Герцог, должно быть, писал второпях, — возразил гонец. — У него были представители Сити, лорд-мэр и шериф.
Объяснение показалось настолько правдоподобным, а приказ так согласовался с тем, что Дэдлей признавал правильным, что приказ был выполнен.
II
Лишь поздним вечером, когда латники лордов уже покинули город, пришло новое письмо от герцога, оно вызвало недоумение ввиду уверения, что лорд Варвик не посылал до этого никакого письма, что ворота Уайтхолла были заперты и никому другому, кроме него, не выдавали пропускного листа для выхода из дворца.
Лорд Варвик сообщил Дэдлею, что леди Грэй в эту ночь должна прибыть в Лондон со своим супругом, потому что кончины короля ожидают с часу на час. Роберту Дэдлею поручали приготовить комнаты для отца и миледи во дворце Килдаров, и Варвик полагал, что в случае бунта в городе Дэдлей сумеет защитить «королеву» вооруженной силой. К этому письму была приложена печать; значит, первое оказалось подложным. Но кто же был предатель и какую цель мог преследовать?
Необходимо было вернуть свиту лордов в Лондон. Хороший всадник был бы в состоянии догнать латников через несколько часов.
— Боюсь, что дело не так просто, — сказал Вальтер Брай, к которому обратился Дэдлей. — Сядемте-ка все мы на коней, нагоним и вернем латников и станем вместе с ними ожидать у городских ворот леди Грэй, тогда будем уверены, что сможем защитить ее.
— Вы правы, — согласился Дэдлей. — Если моя догадка верна, то предатель, написавший подложное письмо — не кто иной, как тот, кого вы ищете.
— Бэклей! — понял Вальтер, и лицо его побагровело.
Дэдлей поспешил во двор, где уже ожидали оседланные лошади.
Свыше двадцати рыцарей вскочили в седла и в ночной темноте поскакали из дворца Килдаров по улице, которая вела к городским воротам. Еще дорогой им показалось странным необычайное движение на улицах, но их удивление возросло до крайности, когда привратник отказался отпереть им ворота и вдруг, чтобы придать больше веса его словам, на зубцах и у бойниц башни появились вооруженные люди.
— Что это значит? — воскликнул Дэдлей. — Кто осмеливается запирать ворота перед цветами Варвиков? Кто дал вам приказ?
— Лорд-мэр Лондона, милорд. Сегодня ночью никого не выпускают из города.
— Послушайте, любезный, этот приказ может касаться простонародья, черни, но не лордов. Поднимайте сейчас же опускную решетку или берегите свою голову!
— Берегите ее сами! — загремел голос с башни. — Лорд-мэр охраняет благосостояние города, и лорд или нищий повинуются наравне его приказу, иначе наши самострелы проучат непокорных.
Рыцари стали совещаться между собой, что предпринять, и хотя негодование на заносчивую дерзость башенной стражи побуждало их к нападению, однако было несомненно, что они ничего не сделают своими мечами и копьями против крепких каменных стен и железной решетки. Они с гневными угрозами и проклятиями повернули коней, но лишь насмешливый хохот с зубцов башни послужил им презрительным ответом.
— Это — бунт! — горячился Дэдлей, и если бы Сэррей и Вальтер Брай не удержали его, то он швырнул бы алебардой в бойницу.
— Вы испортите все! — сказал Брай. — Городу известно, что ваш дед нуждается в нем, и он хочет дорого продать свой голос.
— Негодяи должны поплатиться за это! — проворчал Дэдлей и, дав шпоры коню, быстро двинулся к Уайтхоллу.
Признаки чего-то необычайного становились все грознее. Ремесленные цехи подавали сигнал к тревоге, гулко звучавший в ночной тишине; вооруженные горожане спешили к месту сборищ, и кое-где в переулках конному отряду стоило немалого труда пробираться в густой толпе. Но — странное дело! — в народе не раздавалось ни приветственного клика, ни изъявления неприязни, когда Дэдлей возглашал: «Дорогу Варвикам! Расступитесь!» А между тем это необычайное движение в городе очевидно было направлено или в пользу его дома, или с враждебным намерением против него.
Когда всадники достигли наконец ворот парка при дворце Уайтхолл, то этот вход был уже занят городской стражей, отказавшейся пропускать их; но тут караул не был защищен стенами, и Дэдлей крикнул:
— Настежь ворота, иначе я сброшу решетку силой и раскрою вам черепа, бунтовщики! Разве вы не знаете цвета Варвиков?
— Поезжайте назад, сэр Дэдлей, — произнес сильный, приземистый мужчина с тяжелой алебардой в руке. — Разве вы еще не знаете, что вашей власти наступил конец? Ведь король Эдуард умер.
— Умер?! — воскликнул пораженный Роберт Дэдлей.
— Как же, скончался, а королева Мария не благоволит к вашему роду. Поэтому позвольте подать вам совет: уезжайте отсюда и укройтесь в безопасном месте, прежде чем наступит день.
— Никакой королевы Марии не существует. Королеву Англии зовут Иоанной Грэй. Или вы, может быть, желаете сделаться папистами?
— Замолчите, сэр, ваши речи наделают вам беды. Королева обещала принять реформатскую веру, и потому город подчинился ей. Удалитесь подобру-поздорову; нам было бы жаль, если бы пришлось арестовать вас.
— Попробуйте! — заскрежетал зубами Дэдлей, бледный от бешенства, и опустил забрало. — Вы обмануты паписткой… Позор и стыд гражданам Лондона!
Он хотел повернуть коня, как вдруг из парка раздался приказ:
— Хватайте Варвика! Иначе не сносить вам головы! Арестуйте подлого нахала!
— А, Бэклей! — воскликнул Роберт. — Низкий предатель!
— Это — он! — зарычал Брай, после чего спрыгнул с седла и одним ударом алебарды сбил замок с ворот. — Друзья, пусть владеет короной, кто хочет, а мне оставьте этого мерзавца!
Нападение произошло так быстро и неожиданно, что Брай успел ворваться в парк, прежде чем против него поднялся хоть один меч. Всадники, закованные в латы, кинулись следом за ним. Однако, хотя бурный натиск рыцарей произвел в первый момент испуг и смятение, но горожане оказали им ожесточенное сопротивление и с дикими криками: «Рубите их в куски!» — бросились на конный отряд, встреченный залпом из самострелов со стороны дворца.
Бэклею удалось улизнуть от Брая, гнавшегося за ним, меткая стрела свалила яростного преследователя на землю, и свои не могли ему помочь. Для рыцарей было полной неожиданностью, что дворец также занят их противниками, они вдруг очутились под обстрелом с двух сторон. Не оставалось ничего иного, как проложить себе оружием дорогу к отступлению. «К Варвику! К Варвику!» — гремел Роберт Дэдлей, и рыцари окружили его сомкнутым строем. Затем, держа копья наперевес, эти закованные в железо всадники, пустили коней во всю прыть и ускакали. Но третья часть полегла под могучими ударами и метко пущенными секирами. Сэррею такой секирой сорвало стальные застежки шлема, Дэдлей был ранен стрелой, но их лошади остались невредимы, так что им удалось спастись бегством вместе с остальными друзьями.
Когда городские стражники стали подбирать убитых и раненых, один из них, кузнец, узнал Брая, положившего начало нападению.
— Хватайте этого, — сказал он, — мы не хотели обижать лордов, но этот негодяй коварно сыграл с нами скверную шутку.
— Что тут такое? Вы поймали Варвика? — спросил подоспевший Бэклей, но тотчас отпрянул назад, встретив изор, горевший мрачной угрозой. — Этого оставьте, — приказал он, — я позабочусь о нем!
— Добрый человек, — простонал поверженный Вальтер Брай, хватаясь за подол кольчуги, надетой на кузнеца, — убейте меня, прежде чем отдать этому мерзавцу. Его-то я и разыскивал, потому что он соблазнил мою невесту.
— Заколите его! — крикнул Бэклей и, словно пантера, кинулся с обнаженным мечом на раненого.
Но кузнец, схватив лорда с железной силой, крикнул:
— Этот пленный безоружен, и над ним произнесет приговор судья, а не вы. — И поднял алебарду так грозно, что лорд отступил.
— Вы должны повиноваться мне по приказу королевыи лорда-мэра! — заскрежетал зубами Бэклей. — Возьмите мой кошелек и отнесите пленника в подземелье Уайтхолла.
— Оставьте при себе свое золото, а я оставлю за собой пленного; пусть он попадет в подземелье, но я стану сам стеречь его. Ведь он сдался мне а не вам, — возразил кузнец.
Внезапно Бэклей наклонился над пленником.
— Вальтер Брай, — стал шептать он ему на шотландском наречии, — я желаю вам добра, потому что вас, по моей вине, постигло жестокое горе. Я — вовсе не мерзавец, каким вы считаете меня. Сдайтесь мне, и не успеет наступить утро, как вы будете на свободе, в противном случае вы умрете еще до рассвета.
— Не отдавайте меня этому негодяю! — сказал Вальтер Брай кузнецу, не удостоив графа ответом.
Тогда тот выхватил кинжал и с быстротою молнии, прежде чем кузнец заметил это, ударил им Вальтера в грудь. Но сталь клинка скользнула мимо: под плащом шотландца была надета кольчуга.
— Проклятье! — заскрежетал зубами Бэклей и рванулся бежать, но кузнец метнул ему вслед секиру, и тяжелое железо сшибло его с ног.
— Я беру на себя ответственность, — проворчал честный малый товарищам, растерявшимся от такой неожиданности, — граф хотел умертвить моего пленника. Мне очень жаль, — прибавил он, обращаясь к Вальтеру, — но я должен перенести вас в подземелье: мы получили строгий приказ. Будьте спокойны, на допросе я не умолчу о том, что может послужить к вашей пользе!…
— Советую вам, куманек, — шепнул ему мясник, ставший очевидцем разыгравшейся сцены, — поскорее убраться куда-нибудь подобру-поздорову со своим раненым, если он — ваш приятель. Ваше заступничество поможет привести его с виселицы на колесо. Не с ума ли вы сошли? Ведь граф Гертфорд — любимец королевы, она обязана ему своей короной, а вы кидаете ему в голову секиру!
— Потому что он оскорбил меня и совершил подлость. Если он — любимец королевы, тем хуже для нее, тогда нам не стоило надевать доспехи, чтобы выгнать Варвиков.
Между тем Бэклей поднялся с помощью подскочивших горожан, и, так как к тому времени подоспел отряд королевской гвардии, привлеченный шумом стычки, то Бэклей приказал арестовать кузнеца за содействие бегству Варвиков и нападение на него самого.
Кузнец отдал свое оружие при первом требовании королевских гвардейцев.
— Я повинуюсь, — сказал он, — но справедливый судья не осудит меня и лорд-мэр и мой цех не дадут меня в обиду. Но захватите, пожалуйста, с собой и моего пленника, а вы, кумовья, — обратился он к товарищам, — надеюсь, не откажете мне в защите.
— Мы все постоим за тебя! — сказал мясник. — Рука, осмелившаяся коснуться тебя, сгниет на позорном столбе Лондонского моста.
С зубовным скрежетом слушал граф Гертфорд эти угрозы; алебарда кузнеца ударила его тупой стороной и только разбила ему панцирь на спине, причинив ему болезненную контузию, но он предпочел бы получить опасную рану, если бы мог этим предотвратить случившееся.
Кузнеца и пленника поместили в подземелье дворца, теперь предстояло предать их суду и успокоить лорд-мэра, если бы тот потребовал освобождения кузнеца. Для Бэклея важнее всего было перевести арестованных в Тауэр, тогда у него нашлось бы достаточно средств заставить их умолкнуть навсегда.
Граф поспешил к Гардинеру: духовник королевы не смел отказать ему ни в какой просьбе, так как был обязан именно его предательству успехом своего замысла.
III
В то самое время, когда Бэклей договаривался с принцессой Марией, Варвик, герцог Нортумберленд, получил письменное предостережение без подписи. Ему советовали быть осмотрительным, так как среди горожан обнаруживается враждебное настроение против него, главной причиной которого было то, что он вызвал в Лондон своих приверженцев с их латниками. Старый Варвик видел лишь два пути для достижения намеченной цели: или привлечь на свою сторону горожан обещаниями и посулами, или прибегнуть к открытому насилию. Первый путь был менее надежен, второй — обещал удачу, если он успеет захватить городское население врасплох. Король был при смерти. Переворот должен был последовать в момент его кончины. Варвик принял быстрое и смелое решение. Он отправил гонца в Варвикшир, чтобы вызвать сына Гилфорда и леди Грэй в Лондон, после чего распорядился запереть ворота Уайтхолла. Герцог намеревался держать в тайне кончину короля в том случае, если бы она последовала до наступления ночи, чтобы дать время Гилфорду и леди Грэй прибыть во дворец Килдаров; затем он хотел объявить о смерти короля и в Уайтхолле провозгласить королевой Иоанну Грэй как раз в тот момент, когда она будет торжественно въезжать в Тауэр во главе приверженцев Варвиков. Принцессу Марию готовились арестовать, и таким образом обманутому городу пришлось бы признать новую королеву. Однако Варвик не подозревал, что горожане, благодаря предательству Бэклея, уже приняли меры, чтобы противопоставить силе силу. Когда Бэклей предоставил членам городского совета формальное письменное обещание принцессы Марии принять реформатское учение, то не раздалось ни единого голоса в пользу лорда Варвика; ремесленным цехам дали приказы удалить из Лондона латников, вступивших в город вслед за приверженцами Варвиков. Ему удалось достичь своей цели с помощью подложного распоряжения герцога Нортумберленда, причем он прибегнул к такой уловке более из боязни битвы, чем во избежание кровопролития. Бэклею было легко подделать почерк Варвика, так как он часто изготовлял за него приказы. Когда это было сделано, он отправился в Уайтхолл, предварительно сговорившись с лорд-мэром, чтобы тот при наступлении темноты отворил ворота парка вооруженным городским цехам.
Духовник принцессы Марии пришел в немалое волнение, узнав от прислуги Уайтхолла, что ворота заперты и дан строгий приказ не выпускать никого, кто не представит пропускного листа за печатью герцога Нортумберленда. Шептали потихоньку, будто король лежит в агонии и уже приобщился Святых Тайн; другие даже уверяли, что Эдуарда нет более в живых, но лорд Варвик скрывает его смерть, чтобы выждать прибытия леди Грэй. Флигель, где жил царственный мальчик, был строго изолирован и охранялся усиленным нарядом стражи. Бэклей не вернулся, а это означало, что весь Лондон кишит латниками Варвиков. Одним словом, Гардинер имел много поводов к беспокойству, потому что каждый час мог принести развязку, и трудно было угадать, насколько она окажется благоприятной для принцессы Марии и для нового утверждения католичества в Англии.
Духовник навестил принцессу Марию и нашел ее лежащей на диване, по-видимому, в крепком сне; однако яркая краска лица и клокотание в горле доказывали, что она прибегла к алкоголю, чтобы этим тяжелым сном забыться от своих горестей.
Гардинер бесцеремонно растолкал ее, он боялся, что опьяневшая Мария проспит тот важный момент, когда одно ее появление могло помешать гвардейцам провозгласить королевой леди Джэн Грэй.
Принцесса Мария проснулась, но тупо оглядывалась по сторонам, будучи не в силах опомниться и прийти в сознание. Но тут внезапно вошла служанка с докладом, что граф Гертфорд настоятельно желает повидаться с ним.
— Пусть войдет сюда! — воскликнул духовник в надежде, что принцесса Мария отрезвится при виде Бэклея.
Однако ее лицо приняло грозное выражение такой ядовитой ненависти, что архиепископ опрометью выбежал вон.
— Все идет отлично! — сказал Бэклей встретившемуся Гардинеру. — Варвик запутается в собственных сетях. Лондон запрет свои ворота и провозгласит принцессу Марию королевой. Латников Варвика я удалил с помощью подложного приказа. С наступлением темноты вооруженные группы ремесленных цехов вступят в Уайтхолл, и, будет ли король еще жив или уже мертв, мы провозгласим принцессу Марию королевой, а Варвика арестуем.
— Ну а гвардейцы?
— Им не устоять против вдесятеро сильнейшего неприятеля. Когда появится принцесса и потребует повиновения, когда лорд-мэр Лондона подчиниться ей и я открыто перейду на ее сторону, то королевская гвардия откажется защищать проигранное дело герцога Нортумберленда.
— Знаете, — воскликнул ликующий Гардинер, — вы — отчаянно-смелый сорви-голова, а смелость обещает победу. Если замысел удастся, то принцесса Мария будет обязана вам своей короной, и все, чего вы ни потребуете, покажется ничтожным для благодарности принцессы.
— Да! — раздался голос принцессы Марии позади них. — Я сумею отблагодарить по достоинству и по заслугам. Милорд Гертфорд, сегодня ночью, если вы представите мне связанных бунтовщиков: Варвика с его сыновьями и леди Грэй, королева вознаградит вас, как вы того заслуживаете.
Гертфорд преклонил колено и поцеловал протянутую ему руку, но, когда его губы коснулись ее, принцесса Мария бросила Гардинеру такой взгляд, что тот содрогнулся, опасаясь, как бы Бэклей не заметил этого.
Замысел удался, как мы видели, вполне, однако старый герцог, почуяв измену, успел бежать настолько своевременно, что был уже на дороге в Варвикшир, когда Бэклей только хотел приступить к его аресту. Таким образом, важная часть задачи — арест Варвиков — не удалась Бэклею.
Когда граф бросился к Гардинеру, чтобы свалить на кузнеца всю вину в бегстве Дэдлея, ему сказали, что королева Мария ожидает его, а архиепископ находится при ней.
Караул королевской гвардии, стоявший у входа в комнату, где король Эдуард испустил дух, занял теперь пост перед покоями королевы, и тщеславная женщина уже украсила свою голову короной Англии. Гвардейцы отдали Бэклею честь, и кое-кто из придворных низко поклонился человеку, которому уже завидовали, как любимцу принцессы — теперь королевы — Марии.
— Ах, — воскликнула она, — вот является наш нерадивый друг! Милорд, я слышала, что герцог Нортумберленд бежал; а где пленники, которых вы обещали доставить мне?
— Ваше величество…
— Ну ладно, — перебила королева, — мы побраним вас за это в другой раз. Пишите, секретарь! Когда будет читаться вслух мой королевский манифест, приказываю строго следить за тем, чтобы немедленно хватали тех, кто позволит себе обнаружить неудовольствие. Все наши войска должны быть высланы в погоню за государственными изменниками: герцогом Нортумберлендом, его сыном Гилфордом Варвиком и его женой, леди Иоанной Грэй, как и за его внуками, и за всеми лицами, которые оказывали поддержку вышеупомянутым мятежникам. Отряд всадников пусть отправится в Эшридж с моим приказом принцессе Елизавете немедленно прибыть в Лондон и присягнуть мне.
Речь королевы была прервана приходом гонца, который доложил, что лорд Гилфорд Варвик и леди Джэн Грэй арестованы у южных лондонских ворот.
Лицо королевы исказилось такой злорадной улыбкой торжества, что каждый из присутствующих прочел в ней приговор пленникам.
— Вот вам поручение, — воскликнула она, обращаясь к Бэклею, после чего подошла к письменному столу, написала несколько строк, сложила и запечатала письмо. — Возьмите его, отведите пленников в Тауэр и передайте наш приказ прямо в руки коменданту Тауэра.
— Что вы написали? — шепотом спросил королеву Гардинер. — Не спешите чересчур со своим мщением!
— Я достаточно долго терпела и ненавидела, чтобы не насладиться каждой минутой мести, — улыбнулась королева Мария. — Комендант получит только приказ никого не выпускать из Тауэра; он отвечает мне за это головой.
— Ваше распоряжение относится также и к Бэклею?
— Если комендант поймет меня верно, то нет.
— Дай Бог, чтобы такая опрометчивость прошла безнаказанно! Еще слишком рано…
Тем временем лорд-мэру сделали донесение о происшествии в парке и запросили его, куда отправить пленников. Он изложил дело королеве, и ее ответ гласил:
— В Тауэр!
«В Тауэр!» Эти слова должны были в скором времени повергнуть в ужас Англию. «Кровавая Мария» вступила на трон Генриха VIII.

Глава двенадцатая
В ТАУЭРЕ

I
 Дни, последовавшие за восшествием на престол Марии, были шумными. Королева заставила принцессу Елизавету ехать верхом в своей свите при торжественном объезде лондонского Сити, а на коронации носить за ней корону. То было первое унижение, нанесенное гордому сердцу соперницы, и если Мария надеялась побудить этим принцессу Елизавету к необдуманным поступкам, то ее план был задуман удачно. Королева остерегалась в первые дни своего царствования обнаруживать жажду мести, которой кипела ее душа. Пленники томились в Тауэре, а Елизавета получила разрешение возвратиться в Эшридж.
Граф Гертфорд, которого комендант задержал в Тауэре, написал Гардинеру; сначала он думал, что его заключили в Тауэре по ошибке, но когда архиепископ оставил его письмо без ответа, а просьбы, заклинания и даже угрозы оказались тщетными, то он обратился к самой королеве и напомнил ее обещание.
На его просьбу об аудиенции она приказала сообщить ему, что будет лично заседать в суде при разбирательстве его дела и что он может надеяться на благоприятный исход.
Бэклей терялся в догадках, что могло побудить Марию дать приказ о его аресте, и это мучительное сомнение и беспокойство о своей участи были ужаснее самых горьких опасений. С ним обращались изысканно-вежливо, у него в заточении не было недостатка ни в каких удобствах, только свободу, по-видимому, не хотели давать ему.
Наконец королеве представился повод для мести. Варвики восстали, и, как того ожидала Мария, у заговорщиков завязались сношения с принцессой Елизаветой, причем шпионами были перехвачены письма, на основании которых можно было обвинить в государственной измене и Варвиков и принцессу.
Конная стража привезла Елизавету из Эшриджа и доставила в Тауэр. Придя в комнату, которая предназначалась послужить ей тюрьмой, принцесса написала королеве краткое письмо, в нем она клятвенно подтверждала свою невиновность и заявляла, что никогда не думала завидовать короне старшей сестры. Далее она требовала строгого и справедливого разбора возводимого на нее обвинения.
Не успела принцесса дописать эти строки, как затрубили трубы, затрещали мортиры, и Мария въехала в главные ворота Тауэра в сопровождении придворных дам и государственных сановников. Со стороны Темзы были расположены комнаты, иногда служившие жилищем английских королей. Мария опустилась на кресло в виде трона и знаком подозвала к себе коменданта Тауэра.
— Елизавета Тюдор помещена у вас под крепким караулом?
Комендант поклонился с утвердительным ответом.
— Ее высочество, — сказал он, — прибыла час тому назад и попросила письменных принадлежностей, чтобы обратиться к милосердию вашего величества с просьбой о помиловании.
— Я рассмотрю просьбу принцессы в государственном совете. Скажите принцессе, что сестра советует ей молиться и каяться. Ступайте, сэр, и пришлите сюда пленников: Вальтера Брая и кузнеца Брауна.
Комендант покинул зал.
— Мы желаем разобрать, — сказала королева придворным, — одно ли пылкое усердие служить нам заставило графа Гертфорда прибегнуть к гнусному обману, или же он интриган по натуре — осмеливался преступно шутить над нашей священной особой.
По ее знаку поднялся с места Гардинер и произнес:
— Лондонский лорд-мэр предъявил мне бумагу за подписью королевы Марии. В ней ее величество изъявляет с вою высочайшую волю принять реформатское учение. Этот документ не может быть не чем иным, как грубым подлогом, которым воспользовался мошенник, чтобы обмануть лондонских граждан, а так как упомянутая бумага была вручена лорд-мэру графом Гертфордом, то надо думать, что граф знает плута, совершившего подлог.
Трудно передать растерянность и замешательство придворных, вызванные этим объяснением. Все смотрели на королеву, словно ожидая, что она опровергнет слова Гардинера; казалось невозможным, чтобы тут все дело сводилось к обыкновенному обману, и каждый невольно посматривал на Марию, не покраснеет ли она.
— Мы слышали, — заговорила государыня, — что граф Гертфорд подделал почерк герцога Нортумберленда, чтобы удалить из Лондона латников варвикского рода, и потому можно не сомневаться, что он подделал и нашу руку, чтобы ввести в обман лондонских граждан. Никогда не отречемся мы от веры, которой надеемся спасти свою душу. И хотя допускаем, что обманщик действовал в наших интересах, но все-таки взыщем с него без всякого снисхождения, так как цель его действий совершенно ясна: своим преступлением он хотел лукаво войти в милость королевы.
Лорды переглянулись между собой с явным недоверием к словам королевы.
Но вот в зал ввели Брая с кузнецом. Когда шотландец рассказал, как низко поступил Бэклей с бедной девушкой Кэт, загубленной им, а кузнец заявил, что Бэклей сначала соблазнял пленника разными посулами, а потом хотел украдкой убить его, то негодование против обвиняемого сделалось всеобщим.
— Введите графа Гертфорда! — приказала королева.
Бэклей вошел и, не заметив Вальтера с кузнецом Брауном, отступивших в сторону, увидел пред собой королеву с ее дамами и лордами. Граф поклонился государыне и смело и вопросительно посмотрел ей в лицо, точно его взор хотел напомнить королеве обещание, данное ею в то время, когда она была принцессой.
— Милорд, — начала Мария с улыбкой, способной поддержать его тщетные надежды, — ввиду услуг, оказанных вами нам, мы явились сюда лично, чтобы убедиться в вашей вине или невиновности, прежде чем предоставить судьям произнести над вами свой приговор.
— Какое преступление возводят на меня, ваше величество? Все, что я сделал, произошло на вашей службе.
— Милорд, вы вручили лорд-мэру документ за подписью принцессы Марии. Почерк — наш, но мы не выдавали этой грамоты. Неужели вы зашли так далеко в своем усердии, что вздумали оказать нам услугу с помощью подлога? Сознайтесь чистосердечно!
Бэклей понял, к чему клонится дело: его приносили в жертву. Судьи не могли произнести ему иной приговор, кроме смертного. Но Мария была королевой, она имела власть помиловать его, и если он добровольно примет на себя вину, то окажет ей услугу. Но что если Мария примет жертву, а его не помилует?
— Ваше величество, — ответил Бэклей, — я сознаюсь в своей вине. Граждане Лондона требовали подобного обещания, время не терпело…
Он запнулся, увидев, как Мария обернулась с торжествующей улыбкой к духовнику.
— И тогда вы совершили подлог, обманули нас и лондонских граждан! — досказала королева, но с таким взглядом, который опять успокоил Бэклея.
— Ваше величество, — подхватил он, — если я виновен, то покарайте преступника, вот вам моя голова!
— Милорд, вы хорошо знаете, что нам было бы тяжело приказать казнить кого-нибудь, кто совершил преступление ради нас. Но правосудие должно идти своим чередом, и лишь после того, как вы сознаетесь во всем, я буду в состоянии судить, может ли королева даровать помилование там, где простила принцесса. На подложном документе наш герб из воска, объясните мне, как приложили вы нашу печать к письму?
— Ваше величество, я проник в ваши покои, чтобы умолять вас подписать этот документ, но нашел вас спящей…
Бэклей снова запнулся. Мария с таким яростным гневом взглянула на него, что он невольно попятился. Она подошла к нему, ударила его веером по лицу и, точно стыдясь своей запальчивости, отвернулась.
— Вы слышали, милорды, — сказала она, — этот человек осмелился проникнуть тайком в наши покои! Уже за одну подобную гнусность заслуживает он смертной казни. Пусть палач чинит ему дальнейший допрос, эта бесстыдная дерзость истощает наше терпение.
Бэклей побледнел как смерть. То не было притворство, то была беспощадная ненависть. Но возможно ли это?
— Ваше величество, если вы станете отрицать, что ваша благосклонность ко мне дала мне смелость надеяться, что мои услуги придутся кстати, тогда, конечно, я был тщеславным дураком, — произнес Бэклей.
— Милорды, — возмутилась королева, — граф Гертфорд оказывает мне честь, намекая, что я ему нравилась. Может быть, он даже надеялся почтить меня своими ухаживаниями, которые отвергла шотландская девица из шинка… Вон отсюда!
Бэклей не мог более сомневаться, что он погиб.
— Ах! — воскликнул он. — Я вижу, что был глупцом, так как поверил словам лживой женщины! Вы сами написали тот документ и обещали мне свою любовь, если наш замысел удастся.
Но сыщики Тауэра уже схватили его и стали вязать ему руки.
— Заткните ему рот! — грозно приказала королева, и злоба исказила ее черты. — Так как он берет назад свое признание, то должен показать правду при пытке. Однако еще раньше, чем разобьют его герб, я приказываю, чтобы он дал удовлетворение моей камеристке, Екатерине Блоуэр, за то бедствие, которое навлек на нее. Пусть их сочетают браком, который я тут же удостоверю, равно как и то, что к графине Гертфорд, перейдет по наследству все состояние ее мужа. Кузнеца я повелеваю отпустить на свободу. Слугу графа Сэррея также, но предварительно отсчитать ему пятьдесят ударов розгами, чтобы он остерегался впредь служить мятежникам.
— Ваше величество! — воскликнул бедный Вальтер. — Мне розги?.. Нет, лучше смерть! Ведь я — шотландский дворянин.
— Тогда число ударов должно быть удвоено, — злорадно улыбнулась Мария.
Стражники едва успели схватить Вальтера, который в слепой ярости хотел броситься на королеву. Его повалили на землю, однако, несмотря на увещевания кузнеца, он с зубовным скрежетом грозил местью и сжимал кулаки.
— Доложите мне о нем после экзекуции! — приказала королева. — Во всяком случае заковать его в кандалы, потому что он, кажется, закоренелый бунтовщик.
С этими словами она хотела удалиться из зала. Но одна из ее дам, стоявшая последней в свите, бросилась к ее ногам и стала молить:
— Помилуйте Вальтера Брая, помилуйте!
— Глупая женщина! — возразила королева. — Она умоляет за человека, который отдал ее в жертву бедствию, после того как спас от позорного столба. — И прошла мимо стоявшей на коленях Кэт, направляясь по длинному ряду комнат к угловой башне, из окон которой был виден малый двор Тауэра.
Дни, последовавшие за восшествием на престол Марии, были шумными. Королева заставила принцессу Елизавету ехать верхом в своей свите при торжественном объезде лондонского Сити, а на коронации носить за ней корону. То было первое унижение, нанесенное гордому сердцу соперницы, и если Мария надеялась побудить этим принцессу Елизавету к необдуманным поступкам, то ее план был задуман удачно. Королева остерегалась в первые дни своего царствования обнаруживать жажду мести, которой кипела ее душа. Пленники томились в Тауэре, а Елизавета получила разрешение возвратиться в Эшридж.
Граф Гертфорд, которого комендант задержал в Тауэре, написал Гардинеру; сначала он думал, что его заключили в Тауэре по ошибке, но когда архиепископ оставил его письмо без ответа, а просьбы, заклинания и даже угрозы оказались тщетными, то он обратился к самой королеве и напомнил ее обещание.
На его просьбу об аудиенции она приказала сообщить ему, что будет лично заседать в суде при разбирательстве его дела и что он может надеяться на благоприятный исход.
Бэклей терялся в догадках, что могло побудить Марию дать приказ о его аресте, и это мучительное сомнение и беспокойство о своей участи были ужаснее самых горьких опасений. С ним обращались изысканно-вежливо, у него в заточении не было недостатка ни в каких удобствах, только свободу, по-видимому, не хотели давать ему.
Наконец королеве представился повод для мести. Варвики восстали, и, как того ожидала Мария, у заговорщиков завязались сношения с принцессой Елизаветой, причем шпионами были перехвачены письма, на основании которых можно было обвинить в государственной измене и Варвиков и принцессу.
Конная стража привезла Елизавету из Эшриджа и доставила в Тауэр. Придя в комнату, которая предназначалась послужить ей тюрьмой, принцесса написала королеве краткое письмо, в нем она клятвенно подтверждала свою невиновность и заявляла, что никогда не думала завидовать короне старшей сестры. Далее она требовала строгого и справедливого разбора возводимого на нее обвинения.
Не успела принцесса дописать эти строки, как затрубили трубы, затрещали мортиры, и Мария въехала в главные ворота Тауэра в сопровождении придворных дам и государственных сановников. Со стороны Темзы были расположены комнаты, иногда служившие жилищем английских королей. Мария опустилась на кресло в виде трона и знаком подозвала к себе коменданта Тауэра.
— Елизавета Тюдор помещена у вас под крепким караулом?
Комендант поклонился с утвердительным ответом.
— Ее высочество, — сказал он, — прибыла час тому назад и попросила письменных принадлежностей, чтобы обратиться к милосердию вашего величества с просьбой о помиловании.
— Я рассмотрю просьбу принцессы в государственном совете. Скажите принцессе, что сестра советует ей молиться и каяться. Ступайте, сэр, и пришлите сюда пленников: Вальтера Брая и кузнеца Брауна.
Комендант покинул зал.
— Мы желаем разобрать, — сказала королева придворным, — одно ли пылкое усердие служить нам заставило графа Гертфорда прибегнуть к гнусному обману, или же он интриган по натуре — осмеливался преступно шутить над нашей священной особой.
По ее знаку поднялся с места Гардинер и произнес:
— Лондонский лорд-мэр предъявил мне бумагу за подписью королевы Марии. В ней ее величество изъявляет с вою высочайшую волю принять реформатское учение. Этот документ не может быть не чем иным, как грубым подлогом, которым воспользовался мошенник, чтобы обмануть лондонских граждан, а так как упомянутая бумага была вручена лорд-мэру графом Гертфордом, то надо думать, что граф знает плута, совершившего подлог.
Трудно передать растерянность и замешательство придворных, вызванные этим объяснением. Все смотрели на королеву, словно ожидая, что она опровергнет слова Гардинера; казалось невозможным, чтобы тут все дело сводилось к обыкновенному обману, и каждый невольно посматривал на Марию, не покраснеет ли она.
— Мы слышали, — заговорила государыня, — что граф Гертфорд подделал почерк герцога Нортумберленда, чтобы удалить из Лондона латников варвикского рода, и потому можно не сомневаться, что он подделал и нашу руку, чтобы ввести в обман лондонских граждан. Никогда не отречемся мы от веры, которой надеемся спасти свою душу. И хотя допускаем, что обманщик действовал в наших интересах, но все-таки взыщем с него без всякого снисхождения, так как цель его действий совершенно ясна: своим преступлением он хотел лукаво войти в милость королевы.
Лорды переглянулись между собой с явным недоверием к словам королевы.
Но вот в зал ввели Брая с кузнецом. Когда шотландец рассказал, как низко поступил Бэклей с бедной девушкой Кэт, загубленной им, а кузнец заявил, что Бэклей сначала соблазнял пленника разными посулами, а потом хотел украдкой убить его, то негодование против обвиняемого сделалось всеобщим.
— Введите графа Гертфорда! — приказала королева.
Бэклей вошел и, не заметив Вальтера с кузнецом Брауном, отступивших в сторону, увидел пред собой королеву с ее дамами и лордами. Граф поклонился государыне и смело и вопросительно посмотрел ей в лицо, точно его взор хотел напомнить королеве обещание, данное ею в то время, когда она была принцессой.
— Милорд, — начала Мария с улыбкой, способной поддержать его тщетные надежды, — ввиду услуг, оказанных вами нам, мы явились сюда лично, чтобы убедиться в вашей вине или невиновности, прежде чем предоставить судьям произнести над вами свой приговор.
— Какое преступление возводят на меня, ваше величество? Все, что я сделал, произошло на вашей службе.
— Милорд, вы вручили лорд-мэру документ за подписью принцессы Марии. Почерк — наш, но мы не выдавали этой грамоты. Неужели вы зашли так далеко в своем усердии, что вздумали оказать нам услугу с помощью подлога? Сознайтесь чистосердечно!
Бэклей понял, к чему клонится дело: его приносили в жертву. Судьи не могли произнести ему иной приговор, кроме смертного. Но Мария была королевой, она имела власть помиловать его, и если он добровольно примет на себя вину, то окажет ей услугу. Но что если Мария примет жертву, а его не помилует?
— Ваше величество, — ответил Бэклей, — я сознаюсь в своей вине. Граждане Лондона требовали подобного обещания, время не терпело…
Он запнулся, увидев, как Мария обернулась с торжествующей улыбкой к духовнику.
— И тогда вы совершили подлог, обманули нас и лондонских граждан! — досказала королева, но с таким взглядом, который опять успокоил Бэклея.
— Ваше величество, — подхватил он, — если я виновен, то покарайте преступника, вот вам моя голова!
— Милорд, вы хорошо знаете, что нам было бы тяжело приказать казнить кого-нибудь, кто совершил преступление ради нас. Но правосудие должно идти своим чередом, и лишь после того, как вы сознаетесь во всем, я буду в состоянии судить, может ли королева даровать помилование там, где простила принцесса. На подложном документе наш герб из воска, объясните мне, как приложили вы нашу печать к письму?
— Ваше величество, я проник в ваши покои, чтобы умолять вас подписать этот документ, но нашел вас спящей…
Бэклей снова запнулся. Мария с таким яростным гневом взглянула на него, что он невольно попятился. Она подошла к нему, ударила его веером по лицу и, точно стыдясь своей запальчивости, отвернулась.
— Вы слышали, милорды, — сказала она, — этот человек осмелился проникнуть тайком в наши покои! Уже за одну подобную гнусность заслуживает он смертной казни. Пусть палач чинит ему дальнейший допрос, эта бесстыдная дерзость истощает наше терпение.
Бэклей побледнел как смерть. То не было притворство, то была беспощадная ненависть. Но возможно ли это?
— Ваше величество, если вы станете отрицать, что ваша благосклонность ко мне дала мне смелость надеяться, что мои услуги придутся кстати, тогда, конечно, я был тщеславным дураком, — произнес Бэклей.
— Милорды, — возмутилась королева, — граф Гертфорд оказывает мне честь, намекая, что я ему нравилась. Может быть, он даже надеялся почтить меня своими ухаживаниями, которые отвергла шотландская девица из шинка… Вон отсюда!
Бэклей не мог более сомневаться, что он погиб.
— Ах! — воскликнул он. — Я вижу, что был глупцом, так как поверил словам лживой женщины! Вы сами написали тот документ и обещали мне свою любовь, если наш замысел удастся.
Но сыщики Тауэра уже схватили его и стали вязать ему руки.
— Заткните ему рот! — грозно приказала королева, и злоба исказила ее черты. — Так как он берет назад свое признание, то должен показать правду при пытке. Однако еще раньше, чем разобьют его герб, я приказываю, чтобы он дал удовлетворение моей камеристке, Екатерине Блоуэр, за то бедствие, которое навлек на нее. Пусть их сочетают браком, который я тут же удостоверю, равно как и то, что к графине Гертфорд, перейдет по наследству все состояние ее мужа. Кузнеца я повелеваю отпустить на свободу. Слугу графа Сэррея также, но предварительно отсчитать ему пятьдесят ударов розгами, чтобы он остерегался впредь служить мятежникам.
— Ваше величество! — воскликнул бедный Вальтер. — Мне розги?.. Нет, лучше смерть! Ведь я — шотландский дворянин.
— Тогда число ударов должно быть удвоено, — злорадно улыбнулась Мария.
Стражники едва успели схватить Вальтера, который в слепой ярости хотел броситься на королеву. Его повалили на землю, однако, несмотря на увещевания кузнеца, он с зубовным скрежетом грозил местью и сжимал кулаки.
— Доложите мне о нем после экзекуции! — приказала королева. — Во всяком случае заковать его в кандалы, потому что он, кажется, закоренелый бунтовщик.
С этими словами она хотела удалиться из зала. Но одна из ее дам, стоявшая последней в свите, бросилась к ее ногам и стала молить:
— Помилуйте Вальтера Брая, помилуйте!
— Глупая женщина! — возразила королева. — Она умоляет за человека, который отдал ее в жертву бедствию, после того как спас от позорного столба. — И прошла мимо стоявшей на коленях Кэт, направляясь по длинному ряду комнат к угловой башне, из окон которой был виден малый двор Тауэра.
II
На малом дворе Тауэра сегодня был воздвигнут эшафот, и стоял палач в кроваво-красном камзоле, в черном плаще и черной маске, готовый утолить жажду мести в сердце английской королевы.
Как раз над угловым окном башни, у которого расположились королева со своей свитой, стояло прекрасное, бледное создание за железной решеткой своей темницы. Молодая женщина страдальчески смотрела на толпу людей, которую впустили, чтобы присутствовать на зрелище казни. Племянница Генриха VIII леди Джэн Грей не питала иного желания, как сделаться счастливой супругой любимого человека, победившего ее сердце на турнире в Винчестере, и только честолюбие ее свекра было виной тому, что она один день называлась королевой Англии. Всего один день! Поэтому и прозвали ее «однодневным цветком». В Тауэре суждено было ей завянуть и умереть на кровавом помосте. Но для мстительной Марии было недостаточно казнить ее, она хотела еще растерзать сердце своей кузины перед смертью.
Ее приговоренного к смерти мужа вели на эшафот мимо темницы Джэн. Гилфорд Варвик, подняв голову, кивнул жене, послав ей нежный прощальный поцелуй. С плачем упала она на колени и тихонько молилась.
Вскоре пришел священник, он сказал ей, что Гилфорд умер мужественно, и лицо ее просветлилось. Теперь смерть ее не имела ничего горького для этой страдалицы: она должна была соединить ее навек с казненным супругом.
Леди Грэй твердо шла к эшафоту. Вдруг королева внезапно встала и подошла ближе к окну, захотев посмотреть, как содрогнулась леди Грэй, когда подручные палача пронесли навстречу осужденной залитое кровью обезглавленное тело ее мужа!
Пока леди Джэн Грэй исходила кровью на эшафоте, Вальтера Брая привели на большой двор Тауэра для наказания у позорного столба розгами.
— Добрые люди, — молил стражников Вальтер, — Господь вознаградит вас, если вы убьете меня или дадите мне кинжал, чтобы я смог избавиться от позора.
Стражники отрицательно трясли головой, но сочувственно смотрели на человека, соглашавшегося лучше умереть, чем принять бесчестье. Суровые наказания ожидали того, кто по недосмотру допустил бы побег заключенного или другой способ избавления его от назначенного наказания.
Вальтер рвал свои наручники так, что кровь сочилась у него из рук, а он клялся, что не хочет жить обесчещенным, не отмстив за себя королеве. Вдруг шотландец поднял голову, расслышав далекий свист, и увидел у окна нижнего этажа Кэт, которая подавала какие-то знаки. Неужели она думала утешить его? Неужели воображала, что он согласится жить, постояв у позорного столба?
Снова раздался свист, на этот раз совсем близко. Брай осмотрелся по сторонам и заметил, как вдоль стены кралась какая-то тень, кто-то внезапно юркнул в чащу кустарника, тянувшегося вдоль ограды шагах в двадцати от него.
— Дайте мне отдохнуть там в тени, — попросил шотландец своих караульных.
У него мелькнул луч надежды, что похожее на кошку существо, прыгающее от дерева к дереву, спешит ему на помощь. Он слыхал уже раньше подобный свист, то был условный сигнал, которым старуха Гут призывала Филли. Но возможно ли, чтобы Филли очутился в Лондоне? Правда, старуха говорила ему, что он увидит ее в час нужды!
Караульные посмотрели на Брая недоверчиво, но не стали противиться его желанию, а отвели беднягу к кустарнику.
Вальтер растянулся на земле. Вдруг его тонкий слух различил тихий, еле слышный шелест и чья-то рука сунула ему пузырек.
— Выпейте! — раздался тихий шепот.
Караульные ничего не заметили, потому что к ним подходила камеристка королевы Екатерина Блоуэр.
— Вы принесли помилование, мисс? — спросил старший страж.
Кэт отрицательно покачав головой, ответила:
— Нет, но я хотела просить вас, чтобы вы позволили этому несчастному немного подкрепиться. Там у меня в сенях вино.
— Нельзя, мисс! — возразил один.
— После! — шепнул другой. — Мастер не станет бить жестоко, ручаюсь вам за это.
Шум от падения тела, заставил стражей оглянуться. Их арестованный лежал навзничь с побелевшим лицом, неподвижный, вытянувшийся и замерший.
— Он мертв! С ним приключился удар! — закричали испуганные караульщики, причем один из них заметил валяющийся пустой пузырек.
— Яд! Вот для чего он хотел прилечь! Чтобы мы не видели, как он вытащит из-за пазухи эту склянку.
Кэт скрылась.
— Это придворная кошка виновата, что мы оплошали, — сказал первый караульщик, — но если мы признаемся, нам достанется вдвое.
Стражи отнесли бездыханное тело к позорному столбу, и, когда пришел палач, мертвец был освидетельствован им: он ткнул кинжал в его руку — кровь не пошла.
— Он мертв, мы избавлены от труда сечь его, — сказал заплечный мастер.
— Похоронить ли нам его за оградой или отправить в город?
— Он не был приговорен к смертной казни, значит, нам нет дела до его трупа. Выбросьте его вон, пускай хоронит покойника тот, кто хочет.
Караульные вынесли мертвеца за пределы Тауэра.
У наружных ворот стоял кузнец Браун.
Отдайте мне тело, — сказал он. — Этот человек храбро сражался и потому должен быть погребен по-христиански.
Он подал караульным несколько монет, и те за его щедрость охотно донесли труп до ломовой телеги, стоявшей поблизости.
Когда стражи воротились обратно в Тауэр, лошадь понесла телегу во всю прыть, а женщина, правившая лошадью, откинула свой капюшон, чтобы осмотреться, не догоняет ли их кто-нибудь.
— Разве вы поджидаете кого-то? — спросил кузнец, когда они остановились.
Гуг — то была она — указала на мальчика, стрелой мчавшегося за ними следом, хотя его фигура казалась уродливой и неуклюжей, однако он ловко вскочил на телегу.
Когда кузнец был выпущен из Тауэра, эта незнакомка осведомилась, не он ли — мастер Браун. Кузнец ответил утвердительно и на дальнейшие расспросы сообщил, как распорядилась королева с Вальтером Браем. Тогда женщина что-то шепнула бывшему с ней мальчику, а Брауна попросила посторожить телегу до ее возвращения, так как она хотела освободить шотландца. Браун согласился, приняв старуху за родственницу Вальтера. Когда прошло полчаса, кузнец пошел к воротам тюрьмы, чтобы поискать старуху, но она уже спешила ему навстречу.
— Попросите его труп! — шепнула старуха и проворно прошмыгнула мимо.
Кузнец сделал, как ему велели, но стал побаиваться этой женщины. Не она ли отправила Брая на тот свет. И когда старуха передала вожжи мальчику, а сама обернулась к телу Брая, он крикнул на нее:
— Прочь! Я не допущу, чтобы вы касались останков честного малого! Что такое вы затеваете с ним?
— Молчите и не дурите! Лучше горячо молитесь, чтобы Господь и Пресвятая Дева помогли мне, потому что это был славный человек и я поклялась спасти его от позора и смерти.
Кузнец недоверчиво покачал головой. Женщина явно бредила, ну разве можно спасти того, кто уже умер и окоченел?
А тем временем старуха тщательно перевязала рану, нанесенную Браю кинжалом палача, потом приподняла его голову, подсунула под нее связку сена, расстегнула камзол, приложила ухо к его сердцу и поднесла перо к губам покойника.
Возглас изумления вырвался из уст кузнеца — перо шевелилось.
— Он оживет! — прошептала Гут. — Через два дня он будет разгуливать таким же бравым молодцом, как вы сами. Теперь же он только спит, благодаря выпитому им снотворному средству, которое приготовлено мной.
— Вы говорите, что Вальтер только спит? Но ведь тогда его члены не окоченели бы, а из раны сочилась бы кровь.
— Есть вещи, которые мы не можем понять, хотя знаем их по опыту. Глупцы объясняют это колдовством, когда им не удается постичь, как действуют дивные силы природы. Однако, мы доехали, тут нам надо расстаться.
Телега остановилась на берегу Темзы, вдали от самых крайних предместий Лондона. На большом расстоянии не было видно ни дома, ни хижины.
— Доехали до места? — с недоумением переспросил Браун. — Что же вы намерены тут делать?
— Сейчас увидите. Помогите мне снять этого малого с телеги.
На кузнеца, человека не робкого десятка, напал жуткий страх, когда он дотронулся до холодных, окоченелых членов Вальтера, не видя вокруг себя никого, кроме старухи и калеки-мальчика. Но, пересилив себя, спросил, куда нести Брая.
Старуха указала на ольховый кустарник, простиравшийся до самого берега реки.
Кузнец взвалил на свои могучие плечи тело Вальтера и последовал за женщиной в кусты, но не успел он сделать и нескольких шагов, как мальчик вскочил на тележку и уехал.
— Нам он больше не нужен, — успокоила старуха и увидев, как кузнец побледнел, прибавила, злобно смеясь: — Мы здесь в заколдованной роще, тут будут править наши духи!
Ее слова прозвучали настолько насмешливо, что Браун решительно последовал за старухой в самую чащу. Он вспомнил, что слышал про это убежище лондонских колдуний, где по вечерам, якобы, поднимаются ядовитые испарения и тем защищают ведьм от преследований праведными христианами.
Вдруг старуха остановилась перед хижиной, так искусно построенной из хвороста и гнутых ветвей, что ее можно было заметить не ранее, как подойдя к самому входу. Из хижины вышли двое молодых мужчин, вид которых, несмотря на сильно поношенную одежду, говорил о благородном происхождении.
— Слава Богу! Он спасен! — обрадовался Сэррей, нашедший приют у старухи вместе со своим другом Дэдлеем, когда им обоим удалось тайными путями бежать из Лондона.
— Теперь мы можем поспешить на корабль! — ликовал Дэдлей. — Однако он мертв!
Кузнец положил Вальтера на сенник, а Сэррей опустился на колена пред мнимоумершим и с горечью в голосе обратился к старухе:
— Вы сдержали слово, но доставили его мертвым!
— Он спит, а когда проснется, я вернусь в горы, где пламя пожрет меня так же, как пожрало мою несчастную тетку. Скажите ему, что я была его спасительницей.
— Останьтесь! — пытался задержать ее Сэррей. — Мы возьмем вас с собой во Францию, там никто не знает вас и не будет преследовать. Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас.
— Отблагодарите какую-нибудь другую несчастную вместо меня. Судьба каждого человека предопределена, и никто не в состоянии избегнуть ее. Вы хотите выразить мне благодарность, однако не можете воспрепятствовать тому, что я уйду от вас еще несчастнее и беднее, чем была. Единственное существо, которое любило меня, покинет меня ради вас; и я смиренно подчиняюсь этому, так как каждый человек должен терпеть то, что ему послано судьбой. Филли пойдет с вами, я отдаю его под защиту этого человека, — при этом она указала на Вальтера. — Скажите ему, что я вручаю ему мальчика по завещанию старухи Гиль, пусть он бережет его, и за это воздастся ему во сто крат.
— Филли поедет с нами? На что нам этот горбун? — засмеялся Дэдлей. Но осекся под строгим взглядом Сэррея.
— Я буду отцом для этого мальчика. Разве вы забыли, что он — сирота и что эта женщина, которой мы обязаны спасением Вальтера и нас самих, завещает его нам. Но вы подумайте хорошенько — обратился он к старухе. — Филли дорог вашему сердцу и мог бы быть опорой вам в старости.
— Молчите! — воскликнула старуха. — Можете не объяснять мне, что я чувствую. Это дело господ — вызывать у страждущих слезы вместо того, чтобы утешать их! Филли придет сюда на рассвете и принесет все, что нужно, чтобы пробудить вашего приятеля. Затем спешите на корабль, который унесет вас за море, и будьте добры к ребенку, который заслужит ваше расположение своей преданностью. Прощайте! Этого доброго человека, — кивнула она на кузнеца, — я провожу до ворот. — Старуха взяла свой посох и позвала Брауна следовать за собой.
— У этой колдуньи более благородное сердце, чем у многих святош! — пробормотал Сэррей, глядя ей вслед. — Действительно, Божьей кары достойна та страна, где убивают невинных из-за гнусного суеверия!
— Во всяком случае, хорошо, что она не стала обременять нас, — признался Дэдлей.
— Если бы я не был уверен в твоем благородном образе мыслей, — сказал Сэррей, — то порвал бы нашу дружбу. Ты смеешься над мальчиком, а я же уверен, что ты расположен к нему. И он, прежде чем ты выскажешь какое-либо желание, уже спешит исполнить его.

Глава тринадцатая
ФИЛЛИ

I
 Несмотря на то, что Екатерина получила разрешение удалиться в Уайтхолл, она направила своего коня к Тауэру со стороны, окруженной водой. Это уединенное место было предназначено для тех, кто лишался христианского обряда погребения. Старуха-колдунья сказала ей, что на этом месте она получит известие о Брае.
Кэт, как уже известно, была передана Гардинеру старухой Гиль, он привез ее в Лондон и взял к себе в дом в качестве экономки. Благочестивый архиепископ имел полное основание проявить такое человеколюбие: во-первых, Кэт могла служить орудием против фаворита Варвика; а во-вторых, — не требовалось большой жертвы пользоваться заботливым уходом особы, рабски преданной ему из благодарности, которую вдобавок он мог уничтожить единым словом в случае, если бы она оказалась неблагодарной. Для Екатерины настала новая жизнь. Гардинер вырвал ее из горькой нужды и в то время, когда она потеряла уже всякую надежду на счастье, устроил ей существование, много более завидное, чем то, какое было у нее в корчме «Красный Дуглас». Ее красота расцвела снова, ее щеки, еще так недавно изборожденные слезами, покрылись ярким румянцем. Ее сердце преисполнилось любовью и преданностью к человеку, который спас ее из ужасной ямы и дал ей счастье.
Но в душе Кэт сохранились два воспоминания, более властные, чем это чувство благодарности. Первым воспоминанием было заклинание старухи: «Ты принадлежишь мне и, где бы ты ни была, берегись ослушаться меня, когда услышишь мой зов!» Вторым — любовь Брая, который лучше желал бы видеть ее теперь мертвой, чем простил бы ее позор, в котором повинны другие, а не она.
Было ли это воспоминание о Вальтере Брае любовью, сердечной тоской, не умолкающей, даже когда она отвергнута и осмеяна, той любовью, которая все прощает во имя любви, или же то было желание отомстить человеку за то, что он в своей любви не нашел мужества побороть все предрассудки света и открыто заявить: «К чистому грязь не пристанет!» — трудно сказать.
Екатерина была женщиной в полном смысле слова, существо, сотканное из слабостей, красоты, недостатков и достоинств; она была мягкий воск и в искусных руках могла бы превратиться в преданную, добродетельную супругу. Но тот злополучный день выбил ее из колеи. У столба папистов она молилась, плакала и проклинала судьбу. Вальтер усомнился в ней, несмотря на то что она клялась в своей невинности. Она задавала себе вопрос, что было бы, если бы она не отвергла Бэклея, и приходила к выводу, что он одарил бы ее богатством и защитил, может быть, лучше, чем Вальтер. За то, что осталась верна Браю, она подверглась преследованию, а он оттолкнул ее, как развратницу. В ней пробудилось чувство, похожее на ненависть к Вальтеру. «Если бы я сделалась падшей женщиной, — думала она, было бы лучше, а теперь я обречена нести проклятие порока, не испытав сладости греха.»
Кэт продолжала жить в землянке у старухи Гиль. Однажды она попала в замок графа Дугласа, принеся туда, по поручению старухи, целебные травы для больного. Молодой граф удержал ее в своих покоях. Когда через час Кэт покинула замок, ее глаза были красны и вся она была в лихорадочном волнении; она мечтала в объятиях дворянина, и ее мечты снова разлетелись. Год спустя старуха Гиль передала ее Гардинеру.
Когда мысли Кэт переносились в пещеру под развалинами аббатства, в ее душе звучали плач ребенка и проклятия старой Гуг:
«Этим ублюдком я удержу тебя, когда ты будешь богата, знатна и отвернешься от тех, кто тебя кормил и холил».
И в этом проклятии повинен был Вальтер. Зачем он спас ее у столба папистов, если хотел оттолкнуть от себя?
Когда принцесса Мария потребовала себе Кэт, та рассказала ей свою судьбу и тронула ее сердце, которое также испытало презрение и терзалось завистью.
— В твоем лице я отомщу за себя! — прошептала принцесса Мария.
Ей доставляло наслаждение видеть среди своих придворных дам женщину, которая была выставлена к позорному столбу, и возвести ее в звание графини Гертфорд. Она рассердилась, что Екатерина просит за Вальтера, а не ликует, узнав, что и он будет обесчещен рукой палача.
В ту ночь, когда Лондон восстал против Варвиков, старуха Гуг явилась в комнату Кэт и разбудила ее.
— Проснись, Кэт!… Вальтер Брай пойман, ты должна спасти его!…
— А он разве спас меня? Разве я не умерла для него? — рассердилась Кэт.
Старуха испытующе взглянула на нее.
— Будь по-другому, — пробормотала она, — ты была бы тогда счастлива, а счастливые забывают о мести. Ты сделаешься бичом для преследователей и богачей. Твое сердце отравлено и будет отравлять других своим притворством. Ты прекрасна и будешь гореть ненасытным желанием и утопать в роскоши. Твоя улыбка будет отравой, твоя любовь — смертью. Так будь же приманкой дьявола! Накрась лицо, губы и отравляй, смейся над своими жертвами и над глупцами, пока не задохнешься в собственной ненависти!… Но только одного ты не должна губить! Я хочу сдержать слово и спасти Вальтера Брая; когда ты исполнишь это, можешь идти обычным путем, каким идет красота. Я пришлю тебе кольцо, которое даст тебе свободу и расторгнет нашу связь, отнеси кольцо тому, кого укажет тебе мой посланец; ты будешь иметь могущественных покровителей и тебе укажут путь, на котором ты можешь губить так же, как погубили твое счастье. Но скажи мне, разве ты не тоскуешь по своему ребенку?
Екатерина слушала старуху с содроганием. Картина, которую рисовала ей колдунья, была ужасна. Она догадывалась, что своей красотой она должна была отомстить всему роду тех, кто разбил ее сердце. Она должна была возбуждать любовь, не любя сама; она должна была разбивать сердца и глумиться, как глумились над ней. Да, это была месть, ненасытная месть за счастье, загубленное навеки. Но ее дитя… Неужели ей придется отречься от ребенка! Утопать в роскоши, когда он прозябает?
— Мой сын! — зарыдала Кэт. — Отдай мне его — и я забуду про месть, забуду о том, что сделало меня несчастной. Я хочу жить для своего ребенка, пусть терпеть нужду, но любить его!
— Ты будешь любить его, такого безобразного и уродливого? Будешь любить его, когда его вид напоминает тебе о проклятии его рождения, а люди говорят, «Это — леший из заколдованной рощи, это — привидение ада?»
— О Боже, — содрогнулась Кэт. — Мое дитя — леший? Ты лжешь!
— А ты полагала, что в пещерах у колдуний родятся эльфы? Разве не болото было его родиной, буря — его колыбелью и тростник — его постелью?
— Прочь! Я хочу забыть об этом. Это — дурной сон, пусть он исчезнет!
Старуха и не желала ничего другого. Она уже давно скрылась, а Кэт все еще лежала в постели и ей мерещились развалины монастыря и демоны на болоте. Холодный пот крупными каплями выступил на ее лбу, она стонала, дрожа как в лихорадке.
— Прочь воспоминания, прочь сны и тоску! — решила наконец Кэт. — Пусть лучше мертвое дитя, чем быть матерью-колдуньей, которую бичуют и проклинают. Ведь старуха обещала свободу, обещала снять это ужасное заклятие!
И вот теперь Вальтер освобожден при ее содействии, он должен бежать и с его исчезновением еще одно воспоминание отойдет в прошлое. Еще несколько часов — и она будет совершенно свободна; после ужасного прошлого наставало радостное будущее, как после туманной сырой ночи настает ясный, но холодный зимний день. Еще одно последнее известие от колдуньи — и она будет графиней Гертфорд, богатой вдовой казненного плута; настала месть, сладостное чувство свершившегося возмездия!
Несмотря на то, что Екатерина получила разрешение удалиться в Уайтхолл, она направила своего коня к Тауэру со стороны, окруженной водой. Это уединенное место было предназначено для тех, кто лишался христианского обряда погребения. Старуха-колдунья сказала ей, что на этом месте она получит известие о Брае.
Кэт, как уже известно, была передана Гардинеру старухой Гиль, он привез ее в Лондон и взял к себе в дом в качестве экономки. Благочестивый архиепископ имел полное основание проявить такое человеколюбие: во-первых, Кэт могла служить орудием против фаворита Варвика; а во-вторых, — не требовалось большой жертвы пользоваться заботливым уходом особы, рабски преданной ему из благодарности, которую вдобавок он мог уничтожить единым словом в случае, если бы она оказалась неблагодарной. Для Екатерины настала новая жизнь. Гардинер вырвал ее из горькой нужды и в то время, когда она потеряла уже всякую надежду на счастье, устроил ей существование, много более завидное, чем то, какое было у нее в корчме «Красный Дуглас». Ее красота расцвела снова, ее щеки, еще так недавно изборожденные слезами, покрылись ярким румянцем. Ее сердце преисполнилось любовью и преданностью к человеку, который спас ее из ужасной ямы и дал ей счастье.
Но в душе Кэт сохранились два воспоминания, более властные, чем это чувство благодарности. Первым воспоминанием было заклинание старухи: «Ты принадлежишь мне и, где бы ты ни была, берегись ослушаться меня, когда услышишь мой зов!» Вторым — любовь Брая, который лучше желал бы видеть ее теперь мертвой, чем простил бы ее позор, в котором повинны другие, а не она.
Было ли это воспоминание о Вальтере Брае любовью, сердечной тоской, не умолкающей, даже когда она отвергнута и осмеяна, той любовью, которая все прощает во имя любви, или же то было желание отомстить человеку за то, что он в своей любви не нашел мужества побороть все предрассудки света и открыто заявить: «К чистому грязь не пристанет!» — трудно сказать.
Екатерина была женщиной в полном смысле слова, существо, сотканное из слабостей, красоты, недостатков и достоинств; она была мягкий воск и в искусных руках могла бы превратиться в преданную, добродетельную супругу. Но тот злополучный день выбил ее из колеи. У столба папистов она молилась, плакала и проклинала судьбу. Вальтер усомнился в ней, несмотря на то что она клялась в своей невинности. Она задавала себе вопрос, что было бы, если бы она не отвергла Бэклея, и приходила к выводу, что он одарил бы ее богатством и защитил, может быть, лучше, чем Вальтер. За то, что осталась верна Браю, она подверглась преследованию, а он оттолкнул ее, как развратницу. В ней пробудилось чувство, похожее на ненависть к Вальтеру. «Если бы я сделалась падшей женщиной, — думала она, было бы лучше, а теперь я обречена нести проклятие порока, не испытав сладости греха.»
Кэт продолжала жить в землянке у старухи Гиль. Однажды она попала в замок графа Дугласа, принеся туда, по поручению старухи, целебные травы для больного. Молодой граф удержал ее в своих покоях. Когда через час Кэт покинула замок, ее глаза были красны и вся она была в лихорадочном волнении; она мечтала в объятиях дворянина, и ее мечты снова разлетелись. Год спустя старуха Гиль передала ее Гардинеру.
Когда мысли Кэт переносились в пещеру под развалинами аббатства, в ее душе звучали плач ребенка и проклятия старой Гуг:
«Этим ублюдком я удержу тебя, когда ты будешь богата, знатна и отвернешься от тех, кто тебя кормил и холил».
И в этом проклятии повинен был Вальтер. Зачем он спас ее у столба папистов, если хотел оттолкнуть от себя?
Когда принцесса Мария потребовала себе Кэт, та рассказала ей свою судьбу и тронула ее сердце, которое также испытало презрение и терзалось завистью.
— В твоем лице я отомщу за себя! — прошептала принцесса Мария.
Ей доставляло наслаждение видеть среди своих придворных дам женщину, которая была выставлена к позорному столбу, и возвести ее в звание графини Гертфорд. Она рассердилась, что Екатерина просит за Вальтера, а не ликует, узнав, что и он будет обесчещен рукой палача.
В ту ночь, когда Лондон восстал против Варвиков, старуха Гуг явилась в комнату Кэт и разбудила ее.
— Проснись, Кэт!… Вальтер Брай пойман, ты должна спасти его!…
— А он разве спас меня? Разве я не умерла для него? — рассердилась Кэт.
Старуха испытующе взглянула на нее.
— Будь по-другому, — пробормотала она, — ты была бы тогда счастлива, а счастливые забывают о мести. Ты сделаешься бичом для преследователей и богачей. Твое сердце отравлено и будет отравлять других своим притворством. Ты прекрасна и будешь гореть ненасытным желанием и утопать в роскоши. Твоя улыбка будет отравой, твоя любовь — смертью. Так будь же приманкой дьявола! Накрась лицо, губы и отравляй, смейся над своими жертвами и над глупцами, пока не задохнешься в собственной ненависти!… Но только одного ты не должна губить! Я хочу сдержать слово и спасти Вальтера Брая; когда ты исполнишь это, можешь идти обычным путем, каким идет красота. Я пришлю тебе кольцо, которое даст тебе свободу и расторгнет нашу связь, отнеси кольцо тому, кого укажет тебе мой посланец; ты будешь иметь могущественных покровителей и тебе укажут путь, на котором ты можешь губить так же, как погубили твое счастье. Но скажи мне, разве ты не тоскуешь по своему ребенку?
Екатерина слушала старуху с содроганием. Картина, которую рисовала ей колдунья, была ужасна. Она догадывалась, что своей красотой она должна была отомстить всему роду тех, кто разбил ее сердце. Она должна была возбуждать любовь, не любя сама; она должна была разбивать сердца и глумиться, как глумились над ней. Да, это была месть, ненасытная месть за счастье, загубленное навеки. Но ее дитя… Неужели ей придется отречься от ребенка! Утопать в роскоши, когда он прозябает?
— Мой сын! — зарыдала Кэт. — Отдай мне его — и я забуду про месть, забуду о том, что сделало меня несчастной. Я хочу жить для своего ребенка, пусть терпеть нужду, но любить его!
— Ты будешь любить его, такого безобразного и уродливого? Будешь любить его, когда его вид напоминает тебе о проклятии его рождения, а люди говорят, «Это — леший из заколдованной рощи, это — привидение ада?»
— О Боже, — содрогнулась Кэт. — Мое дитя — леший? Ты лжешь!
— А ты полагала, что в пещерах у колдуний родятся эльфы? Разве не болото было его родиной, буря — его колыбелью и тростник — его постелью?
— Прочь! Я хочу забыть об этом. Это — дурной сон, пусть он исчезнет!
Старуха и не желала ничего другого. Она уже давно скрылась, а Кэт все еще лежала в постели и ей мерещились развалины монастыря и демоны на болоте. Холодный пот крупными каплями выступил на ее лбу, она стонала, дрожа как в лихорадке.
— Прочь воспоминания, прочь сны и тоску! — решила наконец Кэт. — Пусть лучше мертвое дитя, чем быть матерью-колдуньей, которую бичуют и проклинают. Ведь старуха обещала свободу, обещала снять это ужасное заклятие!
И вот теперь Вальтер освобожден при ее содействии, он должен бежать и с его исчезновением еще одно воспоминание отойдет в прошлое. Еще несколько часов — и она будет совершенно свободна; после ужасного прошлого наставало радостное будущее, как после туманной сырой ночи настает ясный, но холодный зимний день. Еще одно последнее известие от колдуньи — и она будет графиней Гертфорд, богатой вдовой казненного плута; настала месть, сладостное чувство свершившегося возмездия!
II
Кэт ждала у рва близ Тауэра, но посланец не являлся. Как узнать его, как найти?
Прождав напрасно с полчаса, она направила своего коня в Уайтхолл, подумав, что, быть может, колдунья и ее посланец были пойманы.
Как хорошо лежалось на мягких подушках, как сладострастно обвивало ее тело одеяние из мягкого шелка и как приятно было вспоминать о похвалах, которые расточали ей кавалеры! И всю роскошь она хотела променятьна нищету, для того, чтобы воспитывать безобразного лешего, вскормленного колдуньей! Екатерину передернуло от ужаса, и в глубине души она почувствовала желание услышать о том, что еще одна колдунья сожжена на костре.
Стало смеркаться. Вдруг за окном послышался шорох, и не успела Кэт вскочить с дивана, как стекло зазвенело и в комнату вскочила какая-то темная фигура.
Екатерина вздрогнула и отшатнулась: то был урод, горбатый, со взъерошенными жесткими волосами, дико блестящими глазами и тощими руками. Его темное лицо осклабилось.
— Не подходи ко мне! — в ужасе крикнула Кэт. — Чего тебе надо? Прочь, уходи, или я позову на помощь!
— Я принес вам поклон от бабушки Гуг, — произнес урод чистым серебристым голоском, — а это колечко вы должны передать леди Морус, которая живет у леди Фитцджеральд во дворце Кильдара.
— Хорошо, положи; возьми вот эго! — и Кэт бросила к ногам урода кошелек с деньгами.
Но мальчик не поднял его, а только смотрел с мольбой на красавицу, дрожавшую от страха.
— Сжальтесь, дайте мне поесть! — попросил он. — Я голоден и хочу пить!
— Купи себе что-нибудь!… Прочь, прочь отсюда!… Я боюсь тебя, ты какой-то грязный!
— Я грязный потому, что провел ночь в конюшне, а наутро конюхи выгнали меня. Разве я виноват, что безобразен, беден и жалок? Разве я виноват, что у меня нет родителей? Но я никому не сделал зла и проклинаю тех, кто меня ненавидит и гонит прочь, когда я прошу хлеба и воды.
Екатерине казалось, что он как будто грозит ей, как будто хочет приласкаться. И в ней рос страх, что это — ее ребенок, и он от колдуньи знает, кем она приходится ему. Она готова была провалиться сквозь землю от стыда, если выяснится, что это безобразное существо — ее ребенок, но вместе с тем и боялась оттолкнуть его от себя.
— Подними кошелек, — сказала Кэт. — У меня нет ничего, а если я позову слуг, они испугаются тебя. Уходи, добрый мальчик, мне будет жаль, если тебя здесь обидят.
— Я уйду, чтобы не рассердить вас, но вашего золота я не возьму. Меня могут поймать, как вора, когда я пойду менять это золото, и мне придется сказать, кто дал мне его.
Мальчик отступил к окну. Екатерина чувствовала себя пристыженной.
— Останься! — сказала она. — Я принесу тебе вина и пирожное. Только смотри, ничего не трогай здесь, заклинаю тебя твоей жизнью! — Но когда она заметила, как глубоко оскорбила мальчика, раскаялась в своих словах.
Мальчик выпрямился, его глаза горели, как раскаленные угли.
— Не трудитесь, сударыня, — вымолвил он, — я попросил вас только потому, что так велела бабушка Гуг. Сам же я сразу понял, как вы горды и жестоки. Но все же могли бы обойтись и без оскорбления! Нехорошо обижать бедняков, у которых есть только слезы благодарности и слезы проклятия.
— Остановись! — крикнула Кэт в ужасе от мысли, что это, быть может, ее ребенок, который проклинает ее; она бросилась к нему, но мальчик ускользнул из ее рук и ловким прыжком скрылся за окном.
Что это? Дьявольское наваждение или обман чувств? Она успела прикоснуться к шелковистым волосам, нежной щеке и гибкому мягкому телу. Нет, то был не урод!…
А что если старуха обманула ее и только хотела подвергнуть испытанию ее материнское чувство?
III
На другой день в белом атласном платье с венком на голове Кэт явилась в часовню Тауэра, чтобы сочетаться браком с графом Гертфордом, закованным в кандалы. Перед ней стоял Бэклей, граф Гертфорд, проигравший игру и теперь дрожащий за свою участь. Все на свете отдал бы он теперь женщине, которую он предал и покинул; он готов был довольствоваться даже подаянием. Он боялся смерти. Мария напрасно думала унизить гордого мужчину этим принудительным браком: Бэклей тешился надеждой, что этот брак принесет ему помилование. Екатерине не терпелось скорее кончить этот обряд, который даст ей его имя, его богатства и навеки разлучит ее с ним. Она не испытывала ни сострадания, ни жалости, ни тени участия. Но у Бэклея не было того холодного равнодушия, ледяного презрения, которое он читал в глазах Екатерины и которое вызывало в нем стыд и раскаянье.
— Кэт, прости меня! — прошептал он.
Но она гордо и холодно смотрела перед собой и, когда обряд венчания окончился, повернулась к нему спиной, не удостоив его взглядом, хотя знала, что из часовни его поведут прямо на пытку, а затем на смерть.
Холодный пот выступил на лбу Бэклея. Одно слово жены могло бы спасти его, но она была безучастна. И в нем пробудилась ненависть к этой женщине.
Бэклея повели через переднюю, где палач и грубые слуги с голыми мускулистыми руками поджидали свою жертву. В застенке стоял и Гардинер, который соблазнил Бэклея на измену, вселил в него смелые надежды и склонил довериться принцессе Марии.
— Я сознаюсь! — крикнул Бэклей Гардинеру. — Вы думаете, что пытка смирит меня? Но вы ошибаетесь! Все муки ада не могут воспрепятствовать мне громко объявить, как гнусно вы обманули меня!
— Не кричите так громко! — прошептал Гардинер и знаком велел палачам удалиться из застенка. — Вы вынудите меня отказаться от вас, а между тем я пришел помочь вам.
— Помочь?
— Мог ли я ожидать, что человек, который строил такие смелые планы, потеряет вдруг рассудок и самообладание? Архиепископ Кранмер не держал у себя дома той грамоты, которой вы так счастливо добились, он дал ее на хранение лорд-мэру. Королеве ничего более не оставалось, как не признать своей подписи и избрать вас жертвой своего возмущения. Вы должны были догадаться, что ее возмущение — лишь вынужденное средство. А вы, вместо того чтобы смириться и тем самым возвыситься еще более, обвиняете королеву в обмане!
— То, что вы говорите, звучит утешающе, но я не поддамся больше на обман. Королева чувствует ненависть ко мне и вы обманули меня. Кто как не вы доставили сюда эту женщину из Шотландии?
— Вы глупец! Эта женщина искала своего возлюбленного. И только ваша вина в том, что Вальтер Брай пойман живым и что Екатерина попала в Лондон. Я считал вас умнее и осторожнее, а вы объясняетесь принцессе в любви, не позаботясь предварительно покончить со всеми воспоминаниями о прошлых событиях. Всякий усмотрел бы в гневе королевы ревность и действовал бы соответственным образом. Теперь вам не поможет ничего, кроме признания своей вины.
— Никогда!… Вы снова хотите заманить меня обещаниями. Но кто поручится мне, что вы сдержите слово? По глупости я мог довериться один раз, но во второй не сделаю этого!…
— Клянусь вам, — ответил Гардинер, — что жизнь будет дарована вам, если вы под легкой пыткой сознаетесь, что подделали подпись. В противном случае, как это ни жаль мне, степень пытки будут усиливать до тех пор, пока вы не сознаетесь!
Бэклея обдало смертным холодом. Гардинер говорил о какой-то степени пытки так, словно дело шло о незначительной неприятности.
— Избавьте меня от пытки! — попросил граф. — Я сознаюсь во всем, чего вы требуете.
Гардинер, презрительно покачав головой, сказал:
— Вспомните о святых, они переносили большие мученья и при этом были совершенно невиновны! Ваше признание должно послужить доказательством, что королева Англии никогда и не помышляла отречься от своей веры. Вы обвинили ее во лжи, и теперь признания истины можно добиться от вас только под пыткой, иначе может возникнуть подозрение, что вы подкуплены.
Он постучал, и вошли палачи и судьи.
— Привяжите его на дыбу, — приказал Гардинер.
Палачи стали сдирать платье Бэклея, архиепископ и судьи разместились в креслах, секретарь же приготовил бумагу для составления протокола.
— Прошу помилования! — взмолился несчастный. — Я готов сознаться!
Гардинер посмотрел на судью, но тот отрицательно покачал головой. Графа повалили и привязали к треугольнику из деревянных кольев, его руки закрутили назад, а ноги прикрепили круглыми железными скобами, приделанными внизу машины; затем с помощью подъемного аппарата треугольник вздернули кверху. Плечевые кости Бэклея вышли из своих суставов, послышался треск, а затем ужасный вопль от невыразимой боли. Двое палачей с зажженными факелами подошли к преступнику, а третий проволочным бичом хлестнул его по спине.
— Желаешь сознаться, так говори! — сказал судья.
— Остановитесь, я виновен! — крикнул Бэклей. — Я подделал подпись, хотел обмануть, надеясь услужить королеве и тем добиться высоких почестей.
— А разве ты не думал, что попадешь в руки правосудия?
— Нет, я надеялся, что королева защитит меня.
— Кто дал тебе повод к такой надежде? Быть может, тебя соблазнил кто-нибудь обещанием?
— Нет!
Судья сделал знак и на окровавленную спину несчастного посыпались новые удары.
— Сознайся, кто были твои соучастники или я велю усилить пытку.
— У меня нет соучастников, — простонал Бэклей. — Клянусь в том… Сжальтесь!
Судья подал знак, палач хотел зажать в тисках грудную кость преступника. Но тут поднялся Гардинер и велел остановиться.
— Поставим вопрос иначе, ведь он почти без памяти от боли! — сказал архиепископ. — Бэклей, я спрашиваю тебя, кто подал тебе мысль к этому мошенническому делу: сама ли королева или кто-либо другой, кому могло быть желательно, чтобы она была вынуждена отречься от своей веры?
Этого намека было достаточно. Бэклей крикнул:
— Я сознаюсь, то был архиепископ Кранмер.
Гардинер улыбнулся торжествующе, но судья не удовольствовался этим.
— Он говорит так, чтобы избавится от пытки, — сказал судья. — Вы сами навели его на это признание.
После этого он сделал знак палачу. Тот сжал тиски, кости затрещали, преступник перестал стонать; только тихое хрипение указывало, что он еще жив.
Винт подняли и освободили тиски.
— Кранмер, — простонал несчастный. — Кранмер!
— Вот признание. Вы теперь довольны? — спросил Гардинер судью. — Если желаете, перейдите к третьей степени пытки, но вы видите, что он не выдержит более!
На полу лежала бесформенная кровавая масса.
Палачи отнесли Бэклея в тюремную камеру, перевязали ему раны, а по прошествии недели ему объявили смертный приговор через колесование. Но затем, по особой милости королевы, ему была дарована жизнь и наказание было заменено пожизненным тюремным заключением.
Слабый, истерзанный страданием Бэклей вздохнул свободно. Мария даровала ему жизнь, но жизнь на гнилой соломе в беспросветном мраке тюрьмы! Он скрежетал от бессильной злобы, но мысль об ужасах пытки заставляла его молчать.
Так начала Мария свое кровавое царствование.
По признанию Бэклея был арестован архиепископ Кранмер, родоначальник англиканской церкви. В Лондон явился папский легат и на торжественном заседании парламента, в присутствии всего королевского двора, объявил, что королевство освобождено от еретиков и что вводится суд для преследования тех, кто не пожелает добровольно вернуться в лоно единой святой церкви. По всей стране были разостланы шпионы, и у кого находили библию или книги лютеранского вероучения, тех призывали на суд и подвергали пыткам.
Сын Карла I, наследный принц Филипп Испанский, предложил свою руку королеве Марии, несмотря на то что она была обручена девять раз и была на двенадцать лет старше его. Чтобы Англию превратить в католическую страну, церковь дала Марии в помощь этого чопорного, мрачного испанского владыку.
И вот началось кровавое царствование, более ужасное, чем тирания Генриха VIII. В течение трех лет сожгли на кострах около тысячи человек. От шестидесятисемилетнего епископа Кранмера потребовали, чтобы он отказался от своего учения и перешел в правоверную католическую веру. Угрозами заставили старца подписать свое отречение, но, когда он увидел, что его все же не помиловали, он отказался от своего отречения и был приговорен к сожжению. Идя на костер, Кранмер протянул в огонь свою правую руку, подписавшую отречение, сжег ее на медленном огне и тогда только вступил сам на костер. Жестокостям фанатизма противопоставлялось геройство мучеников, так как всегда насилие и преследование порождают упорное сопротивление.
Восьмидесятилетний епископ Латимер обратился к епископу Ридлею, когда они оба были возведены на костер:
— Будь бодр, мой брат, мы сегодня зажжем для Англии факел, который с Божьей помощью никогда не угаснет.
Горе и ужас наполняли страну. А в Уайтхолле вероломная королева Мария мучила супруга своей навязчивой нежностью, желая его любовью вознаградить себя за утерянную молодость. Он помогал ей преследовать еретиков с неумолимой строгостью, но все же остерегался удовлетворять все ненасытные желания ее мстительного сердца. Мария повелела объявить смертный приговор своей сводной сестре, принцессе Елизавете, и он был бы приведен в исполнение, если бы не вмешательство Филиппа. По его настоянию Елизавету освободили из заключения и предоставили ей для жительства замок Вудсток.
Мог ли Филипп, спасая Елизавету, предвидеть, что приговорит к смерти собственного сына, дона Карлоса, и будет претендовать на руку спасенной?!

Глава четырнадцатая
У ЦЕРКВИ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ И В ЛУВРЕ

I
 В школе утонченности и разврата, откуда вышли остроумные безнравственные короли и изящные, легкомысленные принцессы, воспитывалась и Мария Стюарт.
На долю наследника французского престола выпало счастье сорвать роскошную шотландскую розу, переселенную на французскую почву. Мария Стюарт пышно расцвела: она была высокого роста, красива собой, в глазах светились ум и невинность, голос был нежный, мягкий, а руки чрезвычайно изящны. Но более всего привлекательной и неотразимой была ее очаровательная улыбка. Когда ей исполнилось семнадцать лет, при участии депутации шотландского парламента был подписан контракт о ее бракосочетании с дофином Франции, на основании которого принц получил титул и герб короля Шотландии.
По этому контракту за Марией Стюарт был утвержден титул «королевы-наследницы», а ее мать, Мария Лотарингская, была назначена регентшей с обязательством поддерживать законы и неприкосновенность Шотландии. Будущий старший сын Марии Стюарт от брака с дофином должен был получить корону Франции, в случае же если бы родились исключительно дочери, то старшая из них должна была сделаться королевой Шотландии.
Мария Стюарт, улыбаясь, подписала все то, что было договорено за нее и занесено на пергамент. Юная мечтательная невеста видела в этом скучную формальность, но отнюдь не клятвенное обязательство. Ее советники хорошо знали это и в дальнейшем использовали как нельзя лучше; не прошло и двух недель, как от Марии потребовали новое обещание, по которому Шотландия была бы присоединена к Франции.
Мария Стюарт подписала бы двадцать договоров, чтобы только ускорить свою свадьбу. Она была счастлива в любви к дофину и была готова исполнить желания всего света, лишь бы видеть вокруг себя веселые, довольные лица. Наконец 19-го апреля 1558 года настал желанный день, когда ее головка украсилась короной, перевитой миртовым венком.
Торжественное шествие было великолепно. Впереди шествовал блестящий отряд королевских стрелков в шлемах, панцирях, в зеленых, вышитых золотом кафтанах и ярко-красных рейтузах; затем следовало духовенство с кадильницами и хоругвями, под золотым балдахином кардинал Лотарингский в сопровождении четырех епископов нес Святые Дары в золотой капсуле, украшенной драгоценными камнями; Мария Стюарт шла под белым балдахином, который несли двенадцать человек: герцоги и графы. Далее следовали молодые девушки в белых затканных золотом платьях и сыпали лилии и розы под ноги красавицы-невесты. Роскошные каштановые кудри рассыпались по ее дивным плечам, белоснежную шею окружало драгоценное кружево, а платье было из белого атласа с жемчужной отделкой. В руках она несла распятие, усеянное бриллиантами, и четки из изумрудных шариков. За ней следовали придворные дамы. Дофин был в королевском одеянии, сопровождаемый вельможами, чувствуя уже себя властелином Шотландии. Огромное количество гвардии и конницы заключало шествие невесты.
За ним следовали под красным балдахином Екатерина Медичи, в сопровождении шести французских принцесс, далее королевская лейб-гвардия в красных и голубых мундирах, и наконец король, под красным бархатным балдахином, украшенным жемчужными лилиями. Шестнадцать князей несли балдахин, за ними шли дворяне и хор музыкантов в роскошных одеждах.
Громкие радостные крики толпы сопровождали Марию Стюарт до самого входа в собор, где ее ожидал кардинал Бурбонский, чтобы благословить.
К паперти, где шотландские дворяне встречали королеву, стали протискиваться трое молодых людей. Конвой хотел отогнать их, но одна из придворных дам, заметив это, обратила внимание Марии Стюарт. Королева узнала молодых людей и отдала приказание, чтобы их пропустили.
— Это — англичане, — пробормотал Георг Сэйтон, — это трусы из Кале!
— Это — друзья! — возразила Мария Стюарт и ласково кивнула трем иностранцам и поручила сенешалю пригласить чужестранцев к празднествам, чтобы представить их королю.
Три иностранца слышали слова Сэйтона. Выждав, когда королева со своей свитой прошла, один из них схватил Сэйтона за руку и шепнул:
— Если вы — не негодяй, то следуйте за мной!
Молодой лорд повернулся к нему и, смерив презрительным взглядом, ответил:
— Если вы — не дурак, то поймете, что я теперь занят другим делом и подождете, пока кончится церемония.
— Пожалуй, — усмехнулся тот, — раз придворная служба для вас важнее собственной чести.
Георг Сэйтон покраснел и, несмотря на указание епископа глазговского, руководителя депутации, следовать к алтарю, вышел из церкви боковым ходом. Трое иностранцев последовали за ним.
— Ах, все трое? — спросил он насмешливо. — Это похоже на разбой. Впрочем, я готов. Знаете ли вы какое-нибудь надежное место, где можно испробовать действие шотландского клинка на английских спинах?
— Сударь, — вмешался старший их трех, — ваши слова пустое хвастовство, но вы нравитесь мне, у вас есть отвага. Если вы согласны, спустимся под мост; нам никто не помешает, все заняты торжеством. Вы оскорбили всех нас троих, поэтому обязаны дать удовлетворение каждому из нас в отдельности, если только первый сразу не убьет вас.
— Предложение говорит в пользу вашего ума, сударь, — ответил Сэйтон, — только одно мне не нравится. Королева, по-видимому, интересуется вами. Если вы убьете меня, то у нас будет два свидетеля нашего честного поединка — если же я убью вас, то у меня не будет свидетелей. — И поспешил к спуску, чтобы там дождаться своего первого противника.
— До свиданья, Сэррей! — шепнул Вальтер и пожал Роберту руку, его примеру последовал и Дэдлей.
Сэйтон ожидал Сэррея под мостом с обнаженной шпагой, стоя на сухом месте, которое было так невелико, что едва могли поместиться два сражавшихся человека. При этом малейший неосторожный шаг при борьбе был уже проигрышем, так как оступившийся мог увязнуть в болоте.
Роберту Сэррею показалось, что он где-то раньше видел этого шотландца, надменного и вместе с тем веселого, шаловливого.
— Ваше имя, милостивый государь? — спросил он.
— А, вам нужны все формальности? Думаю, достаточно моего слова, что вы деретесь с человеком более благородной крови, чем кровь Тюдоров, даже когда на английском престоле еще не было незаконнорожденных.
Сэйтон намекал тем на детей Генриха VIII, надеясь вывести англичанина из себя, но, к своему удивлению, услышал от противника:
— Вы не угадали причины моего вопроса! Я и сам охотнее видел бы на английском престоле прекрасную Марию Стюарт, нежели тех незаконнорожденных. А спросил о вашем имени лишь потому, что ваше лицо показалось мне знакомым и хотел известить вашу семью о преждевременной гибели из-за слишком легкомысленно высказанных суждений.
Сэррей обнажил шпагу и стал против своего противника.
Георг Сэйтон прекрасно фехтовал, он учился в Париже у фехтовальщиков, которые считались лучшими на материке, поэтому надеялся легко справиться с неуклюжим англичанином. Но встретил в своем противнике достойного соперника, который спокойно и ловко парировал, только защищаясь, но сам не нападая.
Спокойствие противника приводило Сэйтона в бешенство; он чувствовал, что будет побежден, если у противника хватит терпения выждать, когда он утомится. Сэйтон метнулся в сторону и так сильно стал напирать на Сэррея, что тот был выбит из позиции и острие шпаги коснулось груди Роберта, но столкнуть противника в трясину ему не удалось. Увидев кровь, Сэйтон возликовал, но Сэррей, несмотря на полученную рану, все же не наступал. Сэйтон хотел повторить свой фокус и перекинул шпагу в левую руку. Это был момент очень опасный как для него самого, так и для противника. Но Сэррей не использовал этого благоприятного момента для нанесения удара и продолжал стоять в той же позиции. Но был настороже и, когда противник хотел сделать новое нападение, поразил его. Обливаясь кровью, Сэйтон упал на землю и, ослабев, закрыл глаза.
Роберт подскочил к нему, заложил рану своим платком и поспешил за друзьями.
Вальтер и Дэдлей уже стали беспокоиться за участь друга и, увидев его, обрадовались.
— Уходим отсюда, — предложил Дэдлей. — Как бы нам не навлечь подозрения. Люди уже смотрят…
— Мы должны спасти его, он еще жив! — сказал Сэррей.
— Вы хотите кончить жизнь на эшафоте? — спросил Дэдлей. — Дуэли запрещены, к тому же вы ранили гостя короля, члена шотландской делегации. Он сбросил бы вас в болото. Уходим!
— Я должен спасти его, будь что будет! — решил Сэррей и направился к конвою, шпалерами окружившему церковь.
— Вы с ума сошли? — воскликнул Вальтер. — Если вы уж так настаиваете, то попытаемся собственными силами унести его незаметно для других.
Он свистнул — и из толпы к ним подскочил паж, следивший за происшествием. Это был Филли. В роскошной одежде он уже не выглядел прежним замарашкой. Многим казалось смешным, что английские кавалеры избрали себе в пажи такого уродливого, безобразного мальчика. Но Вальтер Брай, по-видимому, не замечал этого, а Дэдлей примирился с этим мальчишкой, так как при осаде Кале убедился в его достоинствах. Филли был верный, преданный слуга. Под градом стрел он приносил им на вал пищу, когда усталые после боя они хотели отдохнуть, то всегда находили удобное ложе. Паж был ловок и надежен, скромен и сдержан.
И сейчас Филли нашел выход, как только ему сказали в чем дело.
— Пусть он лежит там, пока не стемнеет, а я сбегаю за травами, которые остановят кровотечение, — сказал он. — Оставаться на свежем воздухе ему не будет вредно — погода мягкая, а для вас могло бы быть опасно переносить его в другое место. Предоставьте дело мне, и клянусь вам, что к ночи он будет уже в постели в нашей гостинице.
Вальтер кивнул Филли, и урод поспешил в аптеку за травами.
— Этот мальчишка — настоящее сокровище, — сказал Дэдлей, когда они все трое снова очутились в толпе у входа в церковь, где к ним подошел богато одетый кавалер и пригласил их на праздник ко двору. Дэдлей и Сэррей согласились охотно, а Вальтер — лишь после некоторого колебания.
В школе утонченности и разврата, откуда вышли остроумные безнравственные короли и изящные, легкомысленные принцессы, воспитывалась и Мария Стюарт.
На долю наследника французского престола выпало счастье сорвать роскошную шотландскую розу, переселенную на французскую почву. Мария Стюарт пышно расцвела: она была высокого роста, красива собой, в глазах светились ум и невинность, голос был нежный, мягкий, а руки чрезвычайно изящны. Но более всего привлекательной и неотразимой была ее очаровательная улыбка. Когда ей исполнилось семнадцать лет, при участии депутации шотландского парламента был подписан контракт о ее бракосочетании с дофином Франции, на основании которого принц получил титул и герб короля Шотландии.
По этому контракту за Марией Стюарт был утвержден титул «королевы-наследницы», а ее мать, Мария Лотарингская, была назначена регентшей с обязательством поддерживать законы и неприкосновенность Шотландии. Будущий старший сын Марии Стюарт от брака с дофином должен был получить корону Франции, в случае же если бы родились исключительно дочери, то старшая из них должна была сделаться королевой Шотландии.
Мария Стюарт, улыбаясь, подписала все то, что было договорено за нее и занесено на пергамент. Юная мечтательная невеста видела в этом скучную формальность, но отнюдь не клятвенное обязательство. Ее советники хорошо знали это и в дальнейшем использовали как нельзя лучше; не прошло и двух недель, как от Марии потребовали новое обещание, по которому Шотландия была бы присоединена к Франции.
Мария Стюарт подписала бы двадцать договоров, чтобы только ускорить свою свадьбу. Она была счастлива в любви к дофину и была готова исполнить желания всего света, лишь бы видеть вокруг себя веселые, довольные лица. Наконец 19-го апреля 1558 года настал желанный день, когда ее головка украсилась короной, перевитой миртовым венком.
Торжественное шествие было великолепно. Впереди шествовал блестящий отряд королевских стрелков в шлемах, панцирях, в зеленых, вышитых золотом кафтанах и ярко-красных рейтузах; затем следовало духовенство с кадильницами и хоругвями, под золотым балдахином кардинал Лотарингский в сопровождении четырех епископов нес Святые Дары в золотой капсуле, украшенной драгоценными камнями; Мария Стюарт шла под белым балдахином, который несли двенадцать человек: герцоги и графы. Далее следовали молодые девушки в белых затканных золотом платьях и сыпали лилии и розы под ноги красавицы-невесты. Роскошные каштановые кудри рассыпались по ее дивным плечам, белоснежную шею окружало драгоценное кружево, а платье было из белого атласа с жемчужной отделкой. В руках она несла распятие, усеянное бриллиантами, и четки из изумрудных шариков. За ней следовали придворные дамы. Дофин был в королевском одеянии, сопровождаемый вельможами, чувствуя уже себя властелином Шотландии. Огромное количество гвардии и конницы заключало шествие невесты.
За ним следовали под красным балдахином Екатерина Медичи, в сопровождении шести французских принцесс, далее королевская лейб-гвардия в красных и голубых мундирах, и наконец король, под красным бархатным балдахином, украшенным жемчужными лилиями. Шестнадцать князей несли балдахин, за ними шли дворяне и хор музыкантов в роскошных одеждах.
Громкие радостные крики толпы сопровождали Марию Стюарт до самого входа в собор, где ее ожидал кардинал Бурбонский, чтобы благословить.
К паперти, где шотландские дворяне встречали королеву, стали протискиваться трое молодых людей. Конвой хотел отогнать их, но одна из придворных дам, заметив это, обратила внимание Марии Стюарт. Королева узнала молодых людей и отдала приказание, чтобы их пропустили.
— Это — англичане, — пробормотал Георг Сэйтон, — это трусы из Кале!
— Это — друзья! — возразила Мария Стюарт и ласково кивнула трем иностранцам и поручила сенешалю пригласить чужестранцев к празднествам, чтобы представить их королю.
Три иностранца слышали слова Сэйтона. Выждав, когда королева со своей свитой прошла, один из них схватил Сэйтона за руку и шепнул:
— Если вы — не негодяй, то следуйте за мной!
Молодой лорд повернулся к нему и, смерив презрительным взглядом, ответил:
— Если вы — не дурак, то поймете, что я теперь занят другим делом и подождете, пока кончится церемония.
— Пожалуй, — усмехнулся тот, — раз придворная служба для вас важнее собственной чести.
Георг Сэйтон покраснел и, несмотря на указание епископа глазговского, руководителя депутации, следовать к алтарю, вышел из церкви боковым ходом. Трое иностранцев последовали за ним.
— Ах, все трое? — спросил он насмешливо. — Это похоже на разбой. Впрочем, я готов. Знаете ли вы какое-нибудь надежное место, где можно испробовать действие шотландского клинка на английских спинах?
— Сударь, — вмешался старший их трех, — ваши слова пустое хвастовство, но вы нравитесь мне, у вас есть отвага. Если вы согласны, спустимся под мост; нам никто не помешает, все заняты торжеством. Вы оскорбили всех нас троих, поэтому обязаны дать удовлетворение каждому из нас в отдельности, если только первый сразу не убьет вас.
— Предложение говорит в пользу вашего ума, сударь, — ответил Сэйтон, — только одно мне не нравится. Королева, по-видимому, интересуется вами. Если вы убьете меня, то у нас будет два свидетеля нашего честного поединка — если же я убью вас, то у меня не будет свидетелей. — И поспешил к спуску, чтобы там дождаться своего первого противника.
— До свиданья, Сэррей! — шепнул Вальтер и пожал Роберту руку, его примеру последовал и Дэдлей.
Сэйтон ожидал Сэррея под мостом с обнаженной шпагой, стоя на сухом месте, которое было так невелико, что едва могли поместиться два сражавшихся человека. При этом малейший неосторожный шаг при борьбе был уже проигрышем, так как оступившийся мог увязнуть в болоте.
Роберту Сэррею показалось, что он где-то раньше видел этого шотландца, надменного и вместе с тем веселого, шаловливого.
— Ваше имя, милостивый государь? — спросил он.
— А, вам нужны все формальности? Думаю, достаточно моего слова, что вы деретесь с человеком более благородной крови, чем кровь Тюдоров, даже когда на английском престоле еще не было незаконнорожденных.
Сэйтон намекал тем на детей Генриха VIII, надеясь вывести англичанина из себя, но, к своему удивлению, услышал от противника:
— Вы не угадали причины моего вопроса! Я и сам охотнее видел бы на английском престоле прекрасную Марию Стюарт, нежели тех незаконнорожденных. А спросил о вашем имени лишь потому, что ваше лицо показалось мне знакомым и хотел известить вашу семью о преждевременной гибели из-за слишком легкомысленно высказанных суждений.
Сэррей обнажил шпагу и стал против своего противника.
Георг Сэйтон прекрасно фехтовал, он учился в Париже у фехтовальщиков, которые считались лучшими на материке, поэтому надеялся легко справиться с неуклюжим англичанином. Но встретил в своем противнике достойного соперника, который спокойно и ловко парировал, только защищаясь, но сам не нападая.
Спокойствие противника приводило Сэйтона в бешенство; он чувствовал, что будет побежден, если у противника хватит терпения выждать, когда он утомится. Сэйтон метнулся в сторону и так сильно стал напирать на Сэррея, что тот был выбит из позиции и острие шпаги коснулось груди Роберта, но столкнуть противника в трясину ему не удалось. Увидев кровь, Сэйтон возликовал, но Сэррей, несмотря на полученную рану, все же не наступал. Сэйтон хотел повторить свой фокус и перекинул шпагу в левую руку. Это был момент очень опасный как для него самого, так и для противника. Но Сэррей не использовал этого благоприятного момента для нанесения удара и продолжал стоять в той же позиции. Но был настороже и, когда противник хотел сделать новое нападение, поразил его. Обливаясь кровью, Сэйтон упал на землю и, ослабев, закрыл глаза.
Роберт подскочил к нему, заложил рану своим платком и поспешил за друзьями.
Вальтер и Дэдлей уже стали беспокоиться за участь друга и, увидев его, обрадовались.
— Уходим отсюда, — предложил Дэдлей. — Как бы нам не навлечь подозрения. Люди уже смотрят…
— Мы должны спасти его, он еще жив! — сказал Сэррей.
— Вы хотите кончить жизнь на эшафоте? — спросил Дэдлей. — Дуэли запрещены, к тому же вы ранили гостя короля, члена шотландской делегации. Он сбросил бы вас в болото. Уходим!
— Я должен спасти его, будь что будет! — решил Сэррей и направился к конвою, шпалерами окружившему церковь.
— Вы с ума сошли? — воскликнул Вальтер. — Если вы уж так настаиваете, то попытаемся собственными силами унести его незаметно для других.
Он свистнул — и из толпы к ним подскочил паж, следивший за происшествием. Это был Филли. В роскошной одежде он уже не выглядел прежним замарашкой. Многим казалось смешным, что английские кавалеры избрали себе в пажи такого уродливого, безобразного мальчика. Но Вальтер Брай, по-видимому, не замечал этого, а Дэдлей примирился с этим мальчишкой, так как при осаде Кале убедился в его достоинствах. Филли был верный, преданный слуга. Под градом стрел он приносил им на вал пищу, когда усталые после боя они хотели отдохнуть, то всегда находили удобное ложе. Паж был ловок и надежен, скромен и сдержан.
И сейчас Филли нашел выход, как только ему сказали в чем дело.
— Пусть он лежит там, пока не стемнеет, а я сбегаю за травами, которые остановят кровотечение, — сказал он. — Оставаться на свежем воздухе ему не будет вредно — погода мягкая, а для вас могло бы быть опасно переносить его в другое место. Предоставьте дело мне, и клянусь вам, что к ночи он будет уже в постели в нашей гостинице.
Вальтер кивнул Филли, и урод поспешил в аптеку за травами.
— Этот мальчишка — настоящее сокровище, — сказал Дэдлей, когда они все трое снова очутились в толпе у входа в церковь, где к ним подошел богато одетый кавалер и пригласил их на праздник ко двору. Дэдлей и Сэррей согласились охотно, а Вальтер — лишь после некоторого колебания.
II
Как только стемнело и в залах зажгли огни, весь огромный королевский дворец и сад Лувра были иллюминированы фонариками, бросавшими разноцветные огни на Сену и ее противоположный берег. В направлении Сен-Жерменского аббатства возвышался колоссальный транспарант с инициалами дофина и королевы Марии Стюарт, а над ними — шотландская корона.
Внутренний двор Лувра был превращен в роскошный сад с благоухающими беседками, фонтанами и певчими птицами. Лестницы и проходы были устланы дорогими коврами и украшены гирляндами из цветов. В роскошных залах собрались высшее дворянство Франции, знатные иностранцы из Шотландии и Италии, римские легаты и королевские посланники. Словом, было все, что считалось наиболее выдающимся по знатности, красоте и блеску.
Сэррей, Дэдлей и Брай казались в достаточной мере одинокими среди этой пестрой толпы. Мир между Францией и Англией еще не был заключен, и все прекрасно понимали, что женитьба французского дофина на шотландской королеве является унижением для Англии.
Вальтер и Роберт Сэррей, по-видимому, чувствовали свое унижение, что касается Дэдлея, то он был погружен в созерцание красавиц высшего французского общества; на его лице ясно выражалось желание завести с ними знакомство, но для этого необходимо было представиться королю.
Наконец приехал двор. Как только высокопоставленные лица перешагнули порог большого зала, от зоркого взгляда Екатерины Медичи не ускользнуло присутствие иностранцев. Она с удивлением спросила короля, знает ли он их.
— Клянусь Богом, нет! — воскликнул король. — Неужели наш кузен Гиз притащил сюда несчастных военнопленных, чтобы унизить их? Это неделикатно с его стороны.
— Я предлагаю прогнать их отсюда, — заметил маршал Монморанси, любимец герцогини Валентинуа и заклятый враг герцога Гиза. — В лучшем случае они — английские шпионы, их физиономии только испортят наш веселый праздник.
Между тем министр двора прошептал несколько слов Марии Стюарт, и та, опираясь на руку мужа, подошла к королю и попросила его разрешения представить ему трех гостей, которых она лично пригласила.
— Как? — удивленно спросил король. — У вас, прекрасная королева, имеются друзья среди англичан?
— Да, ваше величество, — ответила Мария Стюарт, — и я прошу милостиво принять их, так как только благодаря им мне удалось счастливо избегнуть преследований Генриха Восьмого.
— В таком случае они для меня — дорогие гости, — заметил король, — им я обязан самой прекрасной победой.
Он сделал знак герольду, и тот громогласно доложил имена иностранных гостей:
— Его сиятельство Роберт Говард, граф Сэррей, его сиятельство лорд Дэдлей, герцог Нортумберленд, сын графа Варвика и сэр Вальтер Брай.
Если до сих пор иностранцы возбуждали лишь любопытство, то теперь интерес к ним возрос в высшей степени. Фамилии Сэррей и Варвик не только принадлежали к самым аристократическим во всей Англии, но и напоминали собой ужасные события из новейшей английской истории. Генри Сэррей, известный поэт, написал свои первые произведения во Франции, и ни одно из убийств Генриха VIII не возмутило в такой мере высшее французское общество, как казнь поэта; никто из английских лордов не вызывал к себе также такого участия и симпатии, как муж прекрасной и несчастной леди Грэй. Французское общество видело теперь перед собой сына и брата осужденных; оба, следовательно, были смертельными врагами английской тирании, принужденными бежать из своего отечества.
Чужестранцы приблизились к балдахину короля с высоко поднятыми головами, оцененными очень дорого в Англии. Мария Стюарт сделала несколько шагов навстречу своим старым знакомым и, приказав подать цветы, разделила их между тремя иностранцами.
Когда я прощалась с вами, господа, я могла дать вам на память только бантик, — проговорила она, — теперь же я встречаю вас в прекрасной Франции, моем новом отечестве, с цветами в руках и говорю вам: «Добро пожаловать». Ваше величество, — обратилась она затем к королю, указывая рукой на Сэррея, — вот тот строгий страж, о котором я рассказывала вам. Он оказывал всевозможные препятствия графу Монгомери, но, как только освободился от данного слова, помог ему провезти меня в Дэмбертон. Верность, мужество и храбрость были отличительными чертами графа Сэррея даже в его юношеском возрасте.
— Наши рыцари, вероятно, позавидуют вам, что вы выслушали такую похвалу из столь прекрасных уст, — улыбаясь, заметил король, — а как было бы интересно заглянуть в сердца красавиц, желающих обратить на себя ваши взоры.
Екатерина Медичи и Диана Валентинуа с нескрываемым благоволением смотрели на красивого юношу, о котором женщина говорила, что он храбр и верен. Сотни прекрасных глаз испытующе смотрели на Сэррея, как бы желая убедиться, может ли он так же мужественно и скромно посвятить себя обыкновенной женщине, как был предан королеве.
Это было для Сэррея сладкой наградой за грустное прошлое. Чувство благодарности наполнило его сердце, и растроганно поцеловав руку Марии Стюарт, он стал искать взорами Марию Сэйтон.
Она была единственной дамой из всех присутствующих, которая, казалось, не слышала милостивых слов молодой королевы. Что это было — продолжение старой игры или желание скрыть свое смущение? Молодая девушка оживленно болтала с графом Габриелем Монгомери, и их беседа была настолько интересна, что Мария Сэйтон не заметила, что к ней подходит Сэррей.
— Итак, сегодня ночью, третье окно от боскета Юноны! — прошептала она графу Монгомери.
Но Сэррей расслышал слова молодой девушки. Мария Сэйтон подняла глаза, и густая краска залила ее лицо. Это смущение еще более убедило Роберта, что любимая им девушка назначила свидание другому. Он слышал о разнузданной жизни парижского двора и потому допускал возможность подобного свидания. Дикое бешенство охватило Сэррея при этой мысли. Понятно, подобной особе была смешна почтительная, робкая любовь мечтательного юноши!
«Она мне ответит за это!» — подумал Роберт, а вслух произнес:
— Позвольте мне, прекрасная леди, напомнить вам старого врага из Инч-Магома. Надеюсь, что вид его не вызовет новой вспышки гнева в вашем сердце.
В тоне его голоса слышалась насмешка, которой Мария Сэйтон никак не ожидала, тем более, что, прощаясь с ним в Дэмбертоне, она прекрасно чувствовала, что юноша любит ее.
— Я никогда не сердилась на вас, — робко возразила она, не решаясь взглянуть на Роберта. — Вам лучше, чем кому бы то ни было, должно быть известно, что я как преданная слуга королевы Марии Стюарт могу чувствовать к вам лишь величайшую благодарность.
— Да, если вы скажете, что благодарны мне за то, что отчасти по моей милости переменили Инч-Магом на Париж, то я пожалуй поверю вам, — насмешливо заметил граф Сэррей. — Еще бы!… Там томился любовью к вам робкий, мечтательный паж, здесь же вы окружены блеском придворной роскошной жизни, все ухаживают за вами, восхищаются вашей красотой, и вам, конечно, чрезвычайно трудно остановить свой выбор на ком-нибудь из целой сотни влюбленных и подарить избранника своей милостью.
— Если бы это было так, лорд Говард, — возразила Мария Сэйтон, — то, право, моя участь была бы незавидна. Нисколько не интересно видеть ухаживание многих, истинной же любви так мало, что не на ком остановить свой выбор. К счастью, я не нахожусь в таких условиях.
— Следовательно, у вас уже имеется избранник? — резко спросил Роберт.
— Я не понимаю ни вашего тона, ни вашего вопроса, лорд Говард! Вы настолько изменились, что я колеблюсь, признать ли в вас старого знакомого.
— Может быть, я только выиграю от этого, прекрасная леди, — возразил Сэррей. — Все новое имеет особенную прелесть для вас. Если бы я мог превратиться во француза…
— Вы хотите оскорбить мен я, лорд Говард? — прервала его Мария, и ее голос задрожал от волнения. — Или, может быть, вы услышали то, что я сказала графу Монгомери? — прибавила она в глубоком смущении.
— Ах, вы еще не забыли моего порока — подслушивать? — горько рассмеялся Роберт. — Но ведь здесь я — не ваш страж.
— Вы знаете, лорд Говард, что я простила бы старому другу, которому когда-то доверчиво протянула руки, самый неуместный вопрос, — сказала Мария Сэйтон, — но ваш тон оскорбителен, недостоин порядочного человека.
— Вы считаете недостойным, что человек, любивший вас, испытывает горькое чувство, видя, что его любовь осмеяна. Я перенес бы равнодушие и даже презрение к своему чувству, — горячо прибавил он, не замечая, что Мария побледнела и задрожала, — но насмешки я не прощу и требую удовлетворения! Я…
— Довольно! — прервала его Мария. — Мой брат даст вам это удовлетворение, сэр Говард.
Роберт вздрогнул.
— Ваш брат? — пробормотал он и вдруг вспомнил о раненом шотландце. Теперь ему стало ясно, кого напоминали ему глаза молодого человека. — Скажите, ради Бога, разве у вас есть брат в Париже? Может быть, он состоит членом шотландской депутации?
Волнение Сэррея поразило Марию Сэйтон. Она вспомнила, что не видела Георга за обедом, тревога охватила ее сердце.
— Что знаете вы о моем брате? — испуганно спросила она. — С ним случилось какое-нибудь несчастье?
— Может быть, ваше желание уже исполнилось, леди Сэйтон. С одним из членов шотландской депутации сегодня мы дрались на дуэли…
— И он убит? — воскликнула Мария. — Вы убили моего брата?
— Нет, леди, я только не позволил ему убить себя, — ответил Роберт, — и подарил ему жизнь, потому что он невольно напомнил мне кого-то. Теперь я знаю — кого…
— Где он? Говорите правду, сэр Говард! — проговорила Мария. — Иначе я обращусь к королю.
— Этим вы только навлечете наказание на своего брата! — ответил граф Сэррей. — Но будьте покойны, за ним станут ухаживать так, как будто он — мой брат, а не ваш. Я сделаю это, чтобы не лишить вас удовольствия сказать ему, чтобы он меня убил. А я буду очень доволен, так как уже устал быть мишенью для ваших насмешек. Желаю вам сохранить надолго свое веселое расположение духа, леди Сэйтон, и да пошлет вам Бог много блестящих побед. — С этими словами Роберт отошел от молодой девушки.
Он готов был убить себя за то, что оскорбил Марию, и в то же время торжествовал, что отомстил ей.
В глубине зала сидела на красном бархатном диване Диана Валентинуа рядом с маршалом Монморанси.
— Я поражен, что вы так спокойны, — проговорил маршал. — Сестра Монгомери очень хороша, и Екатерина не без задней мысли привлекла ее ко двору. Поверьте мне, это не пустое увлечение короля, здесь кроется интрига Гиза, он хочет удалить вас и лишить меня силы. Если эта интриганка обовьет Генриха, если ей удастся отдалить его от вас, то…
— Мы погибли! — смеясь закончила Диана. — Храбрый маршал, вы становитесь трусливы к старости. Неужели вы думаете, что так легко разорвать старые цепи? Было бы глупо с моей стороны выражать беспокойство и проявлять ревность. Раз не надеешься на успех, то игра проиграна. Несмотря на то что Генрих время от времени изменяет мне, мое влияние на него не уменьшается. Моя сила заключается именно в том, что я сквозь пальцы смотрю на его увлечения. Ничто не уничтожает так быстро страсть, как ревность старой возлюбленной. Если хотят надолго заковать кого-нибудь в цепи, не следует слишком сильно натягивать их. Клара Монгомери поплатится за свое минутное торжество над Дианой Валентинуа; она лишится чести и ничего не получит взамен, так как не в состоянии будет надолго удержать возле себя Генриха.
— Будем надеяться, что вы правы, — сказал маршал. — Но посмотрите: Екатерина Медичи улыбается, а ее улыбка не предвещает ничего хорошего.
— Она означает, что Екатерине нравится красивый англичанин, — возразила Диана. — Королева ищет утешения в горе, которое причиняет ей измена Генриха. Желаю успеха в этом деле и записываю еще трех врагов в длинный список своих недоброжелателей. Молодой Варвик ослеплен зрелой прелестью нашей Венеры; граф Сэррей, пожалуй, отнимет у дофина шотландскую розу; а что касается третьего, с таким странным именем, то, мне кажется, он готов проглотить всякого, кто осмелится косо взглянуть на его друзей.
У Дианы Валентинуа был зоркий взгляд; хотя Екатерина Медичи обменялась лишь несколькими словами с Дэдлеем, но в выражении ее лица промелькнула нежность, заставившая Дэдлея просиять. Его самолюбию льстило, что он обратил на себя внимание королевы. И он позабыл о существовании других красавиц.

Глава пятнадцатая
МАСКАРАД

I
 Роберт Сэррей не заметил, что граф Монгомери сейчас же покинул зал, как только он подошел к Марии Сэйтон, его не поразило и то обстоятельство, что граф, по-видимому, позабыл, что встречался с ним и его друзьями в Шотландии. Вообще Роберт был так ослеплен обидой, что не слышал и не видел ничего, что происходило вокруг него. Он не мог дождаться того часа, когда высокопоставленные особы удалятся и можно будет уйти к месту свидания, о котором Сэйтон сказала Монгомери. Он не думал об опасности, которой подвергался при выполнении задуманной мести, он мысленно видел лишь окно и в нем Марию Сэйтон в ночном одеянии, ожидающую развратного графа. Роберт представил себе, как задрожит Мария, когда вместо графа к окну подойдет он с кинжалом, обрызганном кровью убитого Монгомери, и скажет ей: «Попробуй, может быть я окажусь не хуже твоего графа».
Друзья подошли к Сэррею и напомнили ему, что следует осведомиться о здоровье раненного на дуэли, которого Филли должен перенести в их гостиницу. Сэррей сказал друзьям, что хочет еще остаться. Через несколько минут свита короля удалилась, и гости начали расходиться. Брай и Дэдлей не могли убедить Роберта вернуться с ними домой.
— Держу пари, что тебе уже назначено свидание, — завистливо воскликнул Дэдлей, — но даю слово, что не оставлю тебя, пока ты не доберешься благополучно до комнаты своей возлюбленной. Мы должны постоять один за другого.
— Оставь меня одного! — ответил Сэррей. — Мне не нужна ничья помощь.
— Как? Ты остаешься здесь, в Лувре? — удивленно просил Дэдлей. — Неужели одна из принцесс ожидает тебя?
— Я боюсь, что здесь дело идет не о любви, а о чем-то другом, — вмешался Вальтер, пристально всматриваясь в лицо Сэррея. — Роберт, позвольте мне остаться с вами.
— Если вы любите меня, друзья, то не расспрашивайте ни о чем и возвращайтесь спокойно домой. Завтра я сам все расскажу вам, — возразил Сэррей.
— Да поможет вам Бог! — прошептал Вальтер и направился к выходу, увлекая за собой Дэдлея.
Роберт остался один.
Как только его друзья скрылись из виду, он прошел через галерею на лестницу, которая вела в сад. Он уже успел раньше сориентироваться в Лувре, заметил, где стояла статуя Юноны, и теперь, несмотря на темноту, ему не трудно было найти верную дорогу. Роберт спрятался в кусты и устремил взор на окно, о котором говорила Мария Сэйтон. Окно было освещено, но шторы были спущены.
— Она уже ждет его! — простонал Сэррей и выхватил свою шпагу, чтобы броситься на графа Монгомери, как только тот покажется у окна, и бороться с ним не на жизнь и на смерть.
Роберт ждал около четверти часа. В комнатах, где только что веселилась толпа гостей, было теперь темно и тихо. Вот захлопнулись ворота Лувра; по саду прошел патруль и скрылся.
Граф Монгомери, вероятно, тоже спрятался где-нибудь невдалеке и ждал, пока все стихнет.
Вот поднялась штора; свет в комнате погас, и у окна показалась фигура, но это была не Мария Сэйтон, а сам граф Монгомери. Он выглянул вниз, как бы измеряя высоту между окном и землей.
«Слишком поздно! — подумал Сэррей. — Мне остается только отомстить за ее позор, а не предупредить его».
В эту минуту его внимание было отвлечено светом, показавшимся в окнах верхнего этажа, как будто кто-то проходил по комнатам с фонарем в руках. Вот осветилась лестница, и Роберт узнал короля, который спускался по внутренней лестнице вниз.
«Генрих II, очевидно, ищет комнату Марии Сэйтон, и теперь встретится с графом Монгомери, если тот не успеет убежать, но скрыться граф может, только выскочив в окно. И ему не миновать моих рук!» — злорадно подумал Роберт, сжимая шпагу в руках.
Но что это? Окно тихонько закрылось, и граф, по-видимому, подошел к двери, навстречу королю. Холодный пот выступил на лбу Сэррея, он не понимал, почему граф не убегает, но чувствовал, что перед его глазами происходит какая-то странная загадочная драма.
«А что если граф серьезно любит Марию и она позвала его за тем, чтобы он защитил ее от насилия короля?» — предположил Роберт.
Свет показался в угловой комнате нижнего этажа, затем осветились третье и четвертое окна… Вдруг раздался крик.
Сэррей выскользнул из кустарника и приблизился к окну. И вдруг оно открылось.
— Видите ту маленькую калитку, позади боскета? — прошептал голос Марии Сэйтон. — Бегите все прямо, вы не можете ее миновать, а я уже открыла засов. Из калитки поверните сначала направо, а затем налево. Не забудьте этого! Да хранит вас Бог!
— Благодарю вас. Теперь скорее прочь отсюда! — шепотом ответил граф Монгомери, и его голос задрожал.
— Вы поклялись мне, что будете избегать убийства, помните о своей клятве! — тихо напомнила Мария.
— Только в том случае, если над ней не было совершено насилие, а она сама пошла на разврат. Но тогда от всей души проклинаю ее, — так же тихо прошептал Монгомери.
Голоса удалились от окна.
Роберт Сэррей не заметил, что граф Монгомери сейчас же покинул зал, как только он подошел к Марии Сэйтон, его не поразило и то обстоятельство, что граф, по-видимому, позабыл, что встречался с ним и его друзьями в Шотландии. Вообще Роберт был так ослеплен обидой, что не слышал и не видел ничего, что происходило вокруг него. Он не мог дождаться того часа, когда высокопоставленные особы удалятся и можно будет уйти к месту свидания, о котором Сэйтон сказала Монгомери. Он не думал об опасности, которой подвергался при выполнении задуманной мести, он мысленно видел лишь окно и в нем Марию Сэйтон в ночном одеянии, ожидающую развратного графа. Роберт представил себе, как задрожит Мария, когда вместо графа к окну подойдет он с кинжалом, обрызганном кровью убитого Монгомери, и скажет ей: «Попробуй, может быть я окажусь не хуже твоего графа».
Друзья подошли к Сэррею и напомнили ему, что следует осведомиться о здоровье раненного на дуэли, которого Филли должен перенести в их гостиницу. Сэррей сказал друзьям, что хочет еще остаться. Через несколько минут свита короля удалилась, и гости начали расходиться. Брай и Дэдлей не могли убедить Роберта вернуться с ними домой.
— Держу пари, что тебе уже назначено свидание, — завистливо воскликнул Дэдлей, — но даю слово, что не оставлю тебя, пока ты не доберешься благополучно до комнаты своей возлюбленной. Мы должны постоять один за другого.
— Оставь меня одного! — ответил Сэррей. — Мне не нужна ничья помощь.
— Как? Ты остаешься здесь, в Лувре? — удивленно просил Дэдлей. — Неужели одна из принцесс ожидает тебя?
— Я боюсь, что здесь дело идет не о любви, а о чем-то другом, — вмешался Вальтер, пристально всматриваясь в лицо Сэррея. — Роберт, позвольте мне остаться с вами.
— Если вы любите меня, друзья, то не расспрашивайте ни о чем и возвращайтесь спокойно домой. Завтра я сам все расскажу вам, — возразил Сэррей.
— Да поможет вам Бог! — прошептал Вальтер и направился к выходу, увлекая за собой Дэдлея.
Роберт остался один.
Как только его друзья скрылись из виду, он прошел через галерею на лестницу, которая вела в сад. Он уже успел раньше сориентироваться в Лувре, заметил, где стояла статуя Юноны, и теперь, несмотря на темноту, ему не трудно было найти верную дорогу. Роберт спрятался в кусты и устремил взор на окно, о котором говорила Мария Сэйтон. Окно было освещено, но шторы были спущены.
— Она уже ждет его! — простонал Сэррей и выхватил свою шпагу, чтобы броситься на графа Монгомери, как только тот покажется у окна, и бороться с ним не на жизнь и на смерть.
Роберт ждал около четверти часа. В комнатах, где только что веселилась толпа гостей, было теперь темно и тихо. Вот захлопнулись ворота Лувра; по саду прошел патруль и скрылся.
Граф Монгомери, вероятно, тоже спрятался где-нибудь невдалеке и ждал, пока все стихнет.
Вот поднялась штора; свет в комнате погас, и у окна показалась фигура, но это была не Мария Сэйтон, а сам граф Монгомери. Он выглянул вниз, как бы измеряя высоту между окном и землей.
«Слишком поздно! — подумал Сэррей. — Мне остается только отомстить за ее позор, а не предупредить его».
В эту минуту его внимание было отвлечено светом, показавшимся в окнах верхнего этажа, как будто кто-то проходил по комнатам с фонарем в руках. Вот осветилась лестница, и Роберт узнал короля, который спускался по внутренней лестнице вниз.
«Генрих II, очевидно, ищет комнату Марии Сэйтон, и теперь встретится с графом Монгомери, если тот не успеет убежать, но скрыться граф может, только выскочив в окно. И ему не миновать моих рук!» — злорадно подумал Роберт, сжимая шпагу в руках.
Но что это? Окно тихонько закрылось, и граф, по-видимому, подошел к двери, навстречу королю. Холодный пот выступил на лбу Сэррея, он не понимал, почему граф не убегает, но чувствовал, что перед его глазами происходит какая-то странная загадочная драма.
«А что если граф серьезно любит Марию и она позвала его за тем, чтобы он защитил ее от насилия короля?» — предположил Роберт.
Свет показался в угловой комнате нижнего этажа, затем осветились третье и четвертое окна… Вдруг раздался крик.
Сэррей выскользнул из кустарника и приблизился к окну. И вдруг оно открылось.
— Видите ту маленькую калитку, позади боскета? — прошептал голос Марии Сэйтон. — Бегите все прямо, вы не можете ее миновать, а я уже открыла засов. Из калитки поверните сначала направо, а затем налево. Не забудьте этого! Да хранит вас Бог!
— Благодарю вас. Теперь скорее прочь отсюда! — шепотом ответил граф Монгомери, и его голос задрожал.
— Вы поклялись мне, что будете избегать убийства, помните о своей клятве! — тихо напомнила Мария.
— Только в том случае, если над ней не было совершено насилие, а она сама пошла на разврат. Но тогда от всей души проклинаю ее, — так же тихо прошептал Монгомери.
Голоса удалились от окна.
II
Роберт понял, что тут замешана тайна какого-то третьего лица и что он совершенно напрасно заподозрил и оскорбил Марию.
У него было большое желание послушать дальнейший разговор, но побоялся скомпрометировать Марию Сэйтон. Если бы патруль наткнулся на Сэррея, то Роберт мог объяснить свое присутствие лишь тем, что хотел помешать свиданию Марии Сэйтон и таким образом наложил бы пятно на репутацию девушки.
Сэррей осторожно прошмыгнул в кусты, затем прошел сад и нашел ту самую калитку, о которой говорила Мария. В нескольких шагах от калитки было перекрестие дорог.
«Куда же повернуть: направо или налево?» — вспоминал он, забыв какой путь указывала Мария.
Постояв несколько секунд на одном месте, Сэррей повернул налево и скоро очутился перед винтовой лестницей. Он спустился по ней вниз, держась за стены, совершенно мокрые от сырости. В темноте он нащупал вдруг железную решетку и содрогнулся от ужаса, услышав чей-то жалобный голос:
— Боже, вы уже пришли!
Роберт понял, что заблудился и попал в подземную тюрьму Лувра, о которой слышал раньше. Жалобный голос заключенного, ожидавшего тюремного надзирателя или даже, может быть, палача, не оставлял сомнения в этом.
В Бастилию заключали лишь государственных преступников и тех особ, которые, по желанию короля, должны были исчезнуть с лица земли; подземная же тюрьма Лувра предназначалась для тех, кто навлекал на себя гнев Дианы Пуатье и Екатерины Медичи. Эти лица считались малодостойными Бастилии, слишком незначительными для этого. В большинстве случаев заключенные в Лувре представляли собойбывших фаворитов Екатерины Медичи, которых королева сплавляла сюда для того, чтобы они не могли разболтать о милостях, которыми пользовались раньше. В эту же тюрьму сажали и молодых девушек, не желавших подчиниться любовным требованиям короля, а также и тех, которых хотели спрятать от мести разгневанных родственников.
Сэррей быстро взбежал вверх по лестнице и вышел опять на ту же дорожку, от которой начиналась лестница. Едва успел он остановиться, чтобы перевести дух, как услышал шаги, тихие голоса и шелест платья.
Роберт остановился у темной стены так, что его не могли видеть, но сам он мог рассмотреть, что происходило.
Впереди шел паж с факелом в руках, за ним следовала Екатерина Медичи, которую сопровождал неприятного вида старик с седой бородой, в длинной черной мантии, какую в то время носили ученые, астрологи, аптекари в отличие от придворных кавалеров; шествие замыкали два ключаря с голыми руками и длинными ножами за поясом.
Все это общество спустилось вниз, и Роберт почувствовал, что сейчас в подземелье произойдет убийство.
Он быстро направился к тому месту, где начинался перекресток и, едва добежав до него, услышал чьи-то шаги.
«Это — граф Монгомери!» — подумал Сэррей и медленно последовал за ним в некотором отдалении, чтобы не привлекать внимания.
Дойдя до первого поворота, Сэррей потерял из вида графа Монгомери. Глянув налево, он увидел перед собой какое-то слабое свечение. Подойдя ближе, понял, что это блестела вода Сены, освещенная бледным светом луны. Посередине реки скользила лодка. На пристани не было другого судна, и Роберт, не размышляя долго, бросился в воду. Хотя Сэррей был искусным пловцом, но тяжесть намокшей одежды и сапоги настолько стесняли его движения, что он вскоре начал выбиваться из сил. Сидевший в лодке поспешил к нему на помощь и втащил его в свое судно.
— Благодарите Бога, что стража сегодня праздновала свадьбу и, кажется, спит, — сказал граф Монгомери. — Впрочем, вы не похожи на убегающего узника, — прибавил он, вглядываясь в Роберта, — у вас даже имеется шпага при себе. Следовательно, вы возвращались после какого-нибудь ночного приключения?
— Во всяком случае не веселого, граф! — ответил Роберт.
— Вы знаете меня? — удивился Монгомери. — Да и ваше лицо мне кажется знакомым.
— Мы встречались с вами в Шотландии, — заметил Сэррей.
— Ах, это вы, сэр Говард?.. Вы остались в Лувре для того, чтобы поговорить с Марией Сэйтон? — тревожно спросил Монгомери. — Постойте, вы шли из дворца тем же потайным ходом, что и я. Значит, вы следили за мной?
— А если бы и так? — вызывающе ответил Роберт. — У меня возникло подозрение, и я решил узнать, ошибаюсь я или нет.
— Если вы все время следили за мной, то один из нас должен умереть! — решительно завил Монгомери.
— Я с этим не согласен, — ответил Сэррей, — напротив, мы должны сделаться друзьями, граф Монгомери, так как нас соединяет общая ненависть.
— О какой ненависти вы говорите? — спросил Монгомери.
Я испытал такое же чувство ненависти к вам, когда думал, что вы идете на любовное свидание к Марии Сэйтон, какое испытывали вы к королю, когда он пробирался к любимой вами девушке. Благодаря Богу, мои подозрения относительно вас не оправдались и мое чувство ненависти к вам перешло на того человека, который сегодня посягает на вашу невесту, а завтра может обратиться с гнусным предложением ко всякой другой порядочной девушке. Меня самого трясло при мысли о том, что вам пришлось испытать на деле.
— А что вы сделали бы, сэр Говард, если бы ваши подозрения оправдались? — спросил Монгомери.
— Я убил бы вас! — не задумываясь, ответил Роберт.
— А если бы виновным оказался не я, а король? — продолжал допрашивать Монгомери.
— Тогда я посмотрел бы, сумеет ли защитить Марию тот, кого она позвала на помощь, и если бы оказалось, что нет, то сам отомстил бы за нее даже королю.
Граф Монгомери протянул руку Роберту и воскликнул:
— В таком случае мы — друзья! Я ненавижу короля не за свою возлюбленную, а за собственное опозоренное имя. Он преследует с гнусной целью не мою невесту, а мою сестру. Когда Екатерина пригласила ее ко двору, у меня не было возможности противиться этому. Моя сестра так же, как и я, сирота, а потому находится под покровительством королевы. Вот сестра и последовала совету Екатерины и явилась ко двору; да и ее самолюбию льстило стать фрейлиной королевы. Я утешал себя тем, что имя моей сестры слишком известно, чтобы кто-нибудь осмелился забыться перед ней; кроме того, приглашение самой королевы должно бы было служить гарантией этому. Однако же тревога не покидала меня. Наконец один из моих друзей признался мне, что при дворе распространился слух о любви короля к Кларе, а Екатерина Медичи смотрит на это очень благосклонно, надеясь вырвать Генриха из цепей Дианы. Я обратился за объяснением к сестре. Она посмеялась над моей мнительностью. В следующий раз меня вообще не допустили к Кларе, объяснив ее нездоровьем. Сейчас она опять отсутствовала на вечере; это обстоятельство заставило меня утвердиться в том, что мою сестру умышленно прячут от меня, боясь, чтобы я как-то не повлиял на нее. Тогда я решил посвятить в мою тайну одну из придворных дам, которую я особенно уважаю за ее преданность Марии Стюарт и еще больше за ее безупречное поведение, о котором говорят при дворе, как о необычайной редкости. Мария Сэйтон нашла, что гораздо честнее открыть мне правду. Она сказала, что предупредить позор сестры я уже не могу, так как Клара сделалась любовницей короля! Я не мог, я не хотел верить в этот ужас. И готов был в присутствии всей французской знати, в присутствии всего двора призвать короля к ответу, бросить ему перчатку в лицо. Мария Сэйтон горько улыбнулась. В глазах этой милой девушки я увидел столько участия! Ее взгляд подействовал на меня и помог мне собраться с мыслями.
«Тише! — проговорила она. — Король, конечно, виноват, но меньше, чем вы думаете. Ваша сестра любит его и боготворит. Лучше молчите, ведь дело поправить уже нельзя; зачем же вам разглашать позор сестры?» И я решил лично убедиться.
Мария Сэйтон взяла с меня слово, что я не прибегну к покушению на короля, если она представит мне доказательство, что Клара полюбила Генриха и добровольно отдалась ему. Я дал слово в надежде, что Мария ошибается. Тогда она провела меня в помещение фрейлин, и там, стоя у дверей, я слышал, как развратница обрадовалась королю. Что теперь делать? Какой способ мести может стереть пятно позора с моего имени, если это вообще возможно? Клара должна умереть, раньше чем развратник пресытится ею или прежде чем обнаружатся милости короля, купленные бесчестьем одного из членов нашей семьи.
— Я помогу вам, граф! — горячо воскликнул Сэррей. — Нельзя назвать убийством, когда лишаешь жизни человека, сгубившего себя позором. Я достану вам быстро действующий яд и пришлю человека, который передаст этот яд вашей сестре.
— Нет, вернее будет, если я сам отравлю ее! — возразил Монгомери.
— Уверяю вас, граф, что месть будет сильнее, если ваша сестра сама лишит себя жизни. Скажите ей, что вам известен ее позор; убедите ее, что если она не согласится покончить с собой, то вы призовете короля публично к ответу. Если у нее сохранилась хоть искра стыда, она не переживет такого позора и без колебаний примет яд.
Монгомери уступил, но с условием, что он сам будет сопровождать человека, который доставит яд Кларе.
Новые друзья условились встретиться на другой день в Лувре, где предполагался фейерверк.
III
Когда Сэррей вернулся домой, он застал Брая и Дэдлея в тревожном ожидании. Дэдлей, увидев его мокрое платье, воскликнул:
— Господи, опять приключение! Право, я завидую тебе. Ты, кажется, переплыл Сену?
— Нет, доплыл только до середины, — ответил Роберт.
— А где раненый?
— Он спит, ему лучше! — успокоил Дэдлей. — Расскажи, что…
— Где Филли? — перебил его Сэррей. — Мне нужно поговорить с ним.
— Филли при больном, — ответил Дэдлей. — Да рассказывай, черт возьми! Неужели тебе хочется, чтобы я умер от любопытства!
— Вы видите, что граф не расположен теперь говорить, — вмешался Вальтер.
— Здесь замешана тайна третьего лица, Вальтер, поэтому не сердитесь на меня, но я принужден молчать.
Как Роберт ожидал, так и случилось: Филли охотно согласился приготовить яд, когда Сэррей заявил, что он нужен ему. Ловкий мальчик был так же искусен в приготовлении трав, как и его воспитательница. Готовность Филли даже несколько испугала Роберта: мальчик, не задумываясь, согласился приготовить яд и отнести его тому лицу, которое укажет Сэррей.
— Филли, ведь ты понимаешь, что твой яд должен моментально убить человека? — проговорил он.
— Да, вы будете довольны им, сэр, — спокойно ответил Филли.
— Ты, очевидно, сильно мне доверяешь, если решаешься дать мне такое сильное средство, — заметил Роберт. — А вдруг я задумал совершить преступление?
— Вы не способны ни на что дурное!
— Но меня могут арестовать, а тогда обвинят и тебя! — продолжал пугать мальчика Роберт.
— Сэр Брай и сэр Дэдлей спасут вас, если вы будете в опасности! — убежденно возразил Филли.
Наивная уверенность мальчика вызвала улыбку у Сэррея, и он произнес:
— Они могут помочь мне в борьбе с отдельными личностями, милый Филли, но беспомощны перед силой закона. Если меня поймают с этим ядом, то казнят, и тебе придется умереть вместе со мной.
— Я не хотел бы жить, если бы кто-нибудь из вас умер!
— Ты — славный мальчик, Филли, — растроганно проговорил Роберт, — подойди ко мне и дай мне свою руку.
Мальчик повиновался, но сделал это так медленно и робко, точно боялся Сэррея.
— Филли, — сказал он, поглаживая маленькую, нежную руку мальчика, — ты должен был бы быть так же прекрасен по своему внешнему виду, как мужественны и благородны твои мысли и сердце. И помни, что я скорее позволю отрубить себе правую руку, чем злоупотреблю твоим доверием и сделаю что-нибудь преступное. Та цель, для которой мне нужен яд, совершенно чиста; я обратился к тебе за помощью потому, что ты умен и ловок, а вовсе не потому, что желаю подводить тебя. Назови мне травы, из которых сделан яд, или еще лучше, напиши мне рецепт, чтобы в случае несчастья я мог сказать, что яд приготовлен моими руками.
— Нет, — воскликнул он, — нет, я не скажу вам этого.
Филли взглянул на Роберта, и в его глазах ему показалось что-то знакомое. Они как будто говорили: «Пощади меня». Когда-то во взгляде Марии Сэйтон было то же выражение.
Вдруг внезапная догадка охватила Сэррея: он вспомнил, что Филли никогда не раздевался в его присутствии, никогда не спал с ним в одной комнате.
— Ты — женщина! — невольно воскликнул он.
Смуглое лицо Филли покраснело от смущения, его ноги задрожали, и он опустился на колени перед Робертом.
— Будьте милостивы, сэр, не выдавайте меня! — прошептал он.
Итак, этот «мальчик», преданно служивший Сэррею, не знавший усталости, переносивший все трудности и неудобства их жизни, был женщиной! Роберт чувствовал, что его сердце лихорадочно бьется.
— Филли, клянусь тебе, что сохраню твою тайну; только скажи мне, что заставляет тебя приносить такие жертвы?
— Я не мог сказать это! — ответила Филли. — Пожалейте меня и не расспрашивайте ни о чем. О, теперь все пропало! — с горечью прибавила она, и слезы полились по ее щекам. — Теперь я постоянно буду бояться, что и другие проникнут в мою тайну. Тогда все погибло!
— Не бойся ничего, Филли, — поспешил успокоить «мальчика» Роберт. — В доказательство того, что все остается по-старому, я не отменяю данное тебе раньше поручение. Твой яд нужен для того, чтобы спасти одну женщину и всю ее семью от позора. Она сделалась возлюбленной короля, и вот, чтобы оградить ее от оскорбления — быть брошенной им или открыто быть признанной его любовницей, — она должна выпить яд и умереть. Хочешь ты мне помочь в этом деле, Филли?
Филли схватила руку Роберта и хотела поцеловать ее.
Но Сэррей не допустил этого.
— Не прикасайся ко мне, Филли, — прошептал он, — иначе я не ручаюсь за себя. Ты красива, несмотря на свою внешность.
Филли задрожала и закрыла лицо руками.
Роберт не сомневался, что и горб, и темные пятна на лице сделаны нарочно, чтобы скрыть красоту Филли. Маленькие нежные руки красивой формы не могли принадлежать уроду. С большим трудом Роберт заставил себя отвести взор от Филли; он чувствовал, что кровь горячей волной приливает к его сердцу.
IV
На другой день Вальтер и Дэдлей удивились, узнав, что Сэррей берет с собой в Лувр Филли. И пока Дэдлей засыпал Роберта вопросами, Брай попросил хозяйку гостиницы о том, чтобы к раненому была приглашена сиделка на время их отсутствия.
Одеваясь на бал, Вальтер шепнул Дэдлею:
— Возьмите с собой кинжал и самый лучший меч. Сэррей так тревожно и мрачно настроен, что, боюсь, эти вещи понадобятся нам.
Хотя Роберт не слышал этих слов, но тоже тщательно вооружился.
В Лувре снова горели тысячи огней, и веселая толпа сновала по комнатам так же, как и накануне.
Когда Сэррей вошел в зал, к нему подошла Мария Сэйтон и, сняв свою маску, проговорила, красная до корней волос:
— Сэр Говард! Благосклонность к вам королевы Марии Стюарт заставила меня отказаться от своего намерения обратиться с просьбой к королю, чтобы он приказал разыскать моего брата. Поэтому прошу вас немедленно сообщить мне, где в настоящее время он находится.
— Я уже имел честь сообщить вам, что ваш брат лежит у меня, на моей постели. Даю вам слово, что забочусь о нем, как о родном брате. Несчастное недоразумение заставило меня вчера потерять голову, и я наговорил вам много неприятного, чем, вероятно, вызвал в вас сожаление ко мне, так как считаю себя недостойным вашего гнева…
— Я очень рада, что вы пришли к такому заключению, — холодно перебила его Мария. — Что касается моего брата, то вы успокоили меня. Я больше верю вашему честному слову, чем прежней любви. — С этими словами Мария отвернулась и пошла от Роберта, но он последовал за ней.
— Вы знаете, леди, что можно уничтожить самое нежное чувство. Я просил у вас прощения за то, что в порыве безумного отчаяния позволил себе оскорбить вас. Но, право, тот, который когда-то боготворил вас, нисколько не виноват, что дошел до такого состояния. Оглянитесь назад, леди Сэйтон!… Вспомните, какую роль вы заставили меня сыграть, и, если у вас есть, как я надеюсь, чувство справедливости, вы найдете, что я не заслуживаю того презрения, на которое вы осудили меня.
Сэррей говорил суровым, обиженным тоном. А Мария надеялась, что заденет самые нежные струны его души, что он будет чувствовать себя уничтоженным и умолять о прощении.
Мария инстинктивно почувствовала, что любви Сэррея к ней наступает конец, что сейчас, в эту минуту, вспыхнула последняя искра, которая вот-вот погаснет. Точно острый нож вонзился в сердце молодой девушки, и горькая судорожная улыбка искривила ее губы.
— Господи, сэр Говард, стоит ли вспоминать о таких пустяках! — с высокомерным равнодушием возразила она. — Если я виновата перед вами, то покаюсь в своем грехе на исповеди. Только избавьте меня, пожалуйста, от этих скучных объяснений; в Инч-Магоме они еще могли служить некоторым развлечением, а здесь прямо невыносимы.
— Как вам будет угодно, леди Сэйтон, — сказал Роберт.
— Мне тоже нисколько не интересно разбирать, уважаете ли вы кого-нибудь, или презираете, если то, что для других свято, для вас — скучные пустяки.
Он почтительно поклонился леди Сэйтон и оставил ее сконфуженной с сознанием, что теперь Роберт презирает ее и что она достойна этого презрения. Молодая девушка готова была плакать от гнева и стыда. Видя, как непринужденно весело Роберт болтает с какой-то дамой, Мария решила, что он никогда ее не любил.
V
В то время, когда Сэррей рвал последние звенья, связывавшие его с Марией, Дэдлей готовился надеть на себя цепи, которые могли вознести его на головокружительную высоту или отправить на эшафот. Он был одет с необыкновенным вкусом и изяществом, требовавшимися от каждого кавалера, желавшего играть роль в обществе. Он обладал от природы всеми качествами, которые нравились женщинам. Когда он вошел в зал в белом атласном камзоле, великолепном галстуке и в шелковых чулках, взоры всех красавиц устремились на него. Мужчины с завистью смотрели на стройного, элегантного англичанина и, несмотря на все желание найти в нем какую-нибудь черточку, которую можно было бы осмеять, не могли ни к чему придраться. Ответы Дэдлея были всегда смелы и остроумны, а так как большинство публики было в масках, то у него было много поводов выказать свою находчивость, отвечая каждой маске что-нибудь, соответствующее ее костюму.
Екатерина Медичи впервые ввела во Франции маскарад, к которому она привыкла в Италии. Ею было сделано распоряжение, чтобы все гости, приглашенные в Лувр, снимали при входе свои маски. Она объясняла это тем, что боялась, как бы во дворец не проник кто-нибудь без приглашения, в сущности же это делалось для того, чтобы королеве легче было найти, кого ей хотелось. Иностранные гости, в том числе Сэррей, Вальтер и Дэдлей, по ее желанию были без масок.
Дэдлей только что собирался подойти к очаровательной турчанке, которая манила его к себе ласковым взглядом, как его остановила цветочница, слегка прикоснувшись к его плечу.
— Сэр Дэдлей, — прошептала она, — ваши доброжелатели не считают вас мотыльком, перелетающим с цветка на цветок; они читают в ваших глазах стремление к высшей цели и достаточную смелость для того, чтобы достичь ее.
Цветочница говорила низким, почти мужским повелительным тоном. Дэдлею показалось, что он узнал этот голос.
— Благодарю моих доброжелателей за их лестное мнение, — ответил он, — но ты, прекрасная маска, очевидно этого не думаешь — иначе ты не помешала бы мне подойти к той турчанке…
— Тебе нравится турчанка? Она назначила свидание?
— Ты крайне нескромна, прекрасная маска, но у тебя такие очаровательные ножки и такие чудесные глаза, что у меня нет сил сердиться на тебя!
— Ты любишь турчанку? — настаивала цветочница.
— Я ни разу не видел ее без маски, — ответил Дэдлей, — но предполагаю, что она хороша, и хочу убедиться в этом.
— Ах, понимаю, ты ищешь ту даму, которая вчера похитила твое сердце! — засмеялась цветочница. — Назови мне ее имя и, может быть, я помогу тебе.
— Я действительно — не мотылек, прекрасная маска, — ответил Дэдлей, — но так же и не ночная бабочка.
— Расскажи мне, кто пленил тебя? Имени можешь не называть. — Цветочница взяла под руку Дэдлея и повела его в сад…
Молодой граф уже почти не сомневался, что на его руку опирается Екатерина Медичи.
— Ты знаешь, прекрасная маска, — проговорил он, — что любимая женщина всегда является королевой для любящего ее человека, особой самой высокопоставленной.
— Ты уклоняешься от ответа! — заметила цветочница.
— Я вчера видела тебя с королевой Екатериной и думаю, что ты понравился ей.
— Это очень немного! — произнес Дэдлей и почувствовал, что его дама вздрогнула.
— Как? — воскликнула она. — Ты придаешь так мало значения расположению королевы?
— Не искажай моих слов, прекрасная маска! — возразил Дэдлей, — Расположение королевы, выраженное перед всем светом., очень лестно, но ничего не дает сердцу. Разве ты не знаешь, прекрасная маска, что истинное чувство не высказывается публично, а прячется глубоко?
— Однако ты слишком смел и быстро шагаешь вперед! — воскликнула цветочница, входя в беседку и усаживаясь на скамью. — Неужели ты льстил себя надеждой, что королева назначит тебе свидание в первый же день знакомства?
— Ты говоришь, прекрасная маска, так уверенно о королеве, точно знаешь, что она думает обо мне, — проговорил Дэдлей. — Если бы я осмелился полюбить ее и надеялся на взаимность, то…
— Что тогда? — перебила его цветочница.
— Тогда я отдал бы за нее последнюю каплю своей крови, — продолжал Дэдлей, — Но я просил бы ее, прежде чем мог бы поверить в осуществление своей мечты, испытать меня, дать мне возможность доказать ей на деле всю силу моей любви.
— И вы были бы счастливы, сэр Дэдлей, если бы ваша безумная мечта осуществилась? — спросила цветочница.
— Тебе, прекрасная маска, требуются привычные слова для выражения святых чувств!
— Браво, — засмеялась цветочница, — теперь вы выдали себя, сэр Дэдлей. Я могу рассказать герцогине Валентинуа смешную историю: сэр Дэдлей желает утешать королеву, в то время как король развлекается с Дианой. Известно ли вам, прекрасный лорд, что в Париже существует Бастилия?
— И палач! — закончил Дэдлей. — Если гордость вашего величества оскорблена тем, что нашелся безумец, осмелившийся при виде прекрасной женщины забыть о ее высоком сане, то прикажите снять с меня голову.
Дэдлей опустился на колени и поднес к своим губам подол платья цветочницы.
— Вы, значит, узнали меня! — смеясь, сказала Екатерина Медичи. — Можно простить даже дерзость, если она связана с красотой и умом. Встаньте, сэр Дэдлей, я здесь — цветочница, а не королева. Вы имели счастье понравиться цветочнице, и она посвящает вас в свои рыцари. Представьте себе, что она — ваша королева, и исполните ее каприз. В той галерее — склад масок и маскарадных костюмов. Выберите себе какой-нибудь костюм, который больше понравится вам, только воткните в шляпу красное и белое перо, чтобы я могла узнать вас. А теперь вы услышите мое главное поручение, от исполнения которого будут зависеть наши дальнейшие отношения. Вы должны следить за тремя масками: одна — в костюме испанца; другая — венецианки, л третья — рыцаря в черном. Эта третья маска наиболее интересует меня; следите за тем, с кем она говорит, к кому подходит. Эта маска ускользнула от контроля, не понимаю, каким образом она проникла во дворец. И все время не отходит от венецианки. Поспешите переодеться. Скоро начнется фейерверк, и тогда вам легче будет исполнить мое поручение.
Дэдлей повиновался. Он выбрал себе костюм германского дворянина и лишь только успел закрыть галерею, ключ от которой ему дала Екатерина, — как раздался сигнал, извещавший о начале фейерверка.
Сэррей, Брай и Дэдлей условились встретиться у статуи Юноны, как только раздастся этот сигнал, и потому Дэдлей поспешил к месту свидания. Он был очень удивлен, не встретив там никого, и собрался уже уйти, как вдруг из темноты показался Сэррей с каким-то незнакомым господином.
— Дэдлей, — обратился Роберт к своему приятелю, — дай слово, что ты никому не скажешь о том, что услышишь от этого господина.
— Ну, говори, в чем дело! — попросил Дэдлей.
— Знаешь ли ты маску, с которой ты исчез из зала?
— Нет! — ответил Дэдлей. — Почему ты спрашиваешь о ней?
— Это была королева Екатерина! — заявил Роберт.
— С чего ты взял? — смущенно пробормотал Дэдлей.
— Я отгадал вашу тайну, сэр Дэдлей, — вмешался в разговор незнакомец, — и конечно умолчал бы о ней, если бы граф Сэррей не уверил меня, что вы — его ближайший друг. Я — граф Монгомери и обращаюсь к вам с просьбой, в которой, мне кажется, ни один честный человек не отказал бы мне. Дело в то, что король соблазнил мою сестру. Ваш друг, граф Сэррей, хотел помочь мне избавить несчастную девушку и всю нашу семью от еще большего позора. Теперь я узнал, что моя сестра сегодня исчезла и что за час до ее исчезновения у нее была Екатерина Медичи. Боюсь, что ее засадили в тюрьму. Во всяком случае королеве Екатерине все известно. Вот я и прошу вас помочь мне узнать истину.
— Вы ошибаетесь граф, что королева станет разговаривать со мной об этом, — возразил Дэдлей. — Она удостоила меня маскарадной интригой — не больше.
— Этого совершенно достаточно для того, чтобы помочь мне, — заметил Монгомери. — Мне нужно только знать, заключили ли в тюрьму мою сестру или нет. Вам даже не нужно спрашивать ни о чем. Стоит только указать на какую-нибудь маску королеве и проговорить: «Вот идет виконтесса Монгомери», и по лицу Екатерины вы сразу увидите, так ли это.
Дэдлей замялся. Конечно, просьбу Монгомери было не трудно исполнить, но весь вопрос заключался в том, как отнесется к его словам королева? Если она действительно сделала что-нибудь злое сестре графа Монгомери, то заподозрит Дэдлея в неискренности и в результате вместо расположения получится вражда.
— Вашу просьбу, граф, легко исполнить, — наконец проговорил он, — последствия…
— Я беру их на себя, — перебил его Монгомери. — Как только я узнаю правду о сестре, вы можете сказать Екатерине Медичи, что я разыскиваю свою сестру.
— Он этого не сделает, — вмешался в разговор Роберт. — Мимолетное увлечение женщиной не может разрушить многолетнюю дружбу. Поэтому Дэдлей не может помешать нам.
— Ты рассуждаешь совершенно правильно! — заверил его Дэдлей. — Черт с ней, с этой итальянкой, если она даже и рассердится на меня! Через час мы сойдемся на этом же месте, и я надеюсь кое-что сообщить вам. — И Дэдлей быстро ушел на маскарад.
— Будьте уверены, мы победим, — сказал Сэррей Монгомери. — Вальтер запасется инструментами, чтобы взломать двери тюрьмы, если понадобится, а дорогу к ней мы уже знаем. Трудно предположить, что вашу сестру увезли в Бастилию.
— Мария Сэйтон клянется, что сестра не выезжала из Лувра, да и я не видел ни одной кареты, хотя все время зорко следил за всем, что происходит во дворце. Яд у вас?
— Яд у пажа, — ответил Роберт. — Он должен быть уже здесь, по крайней мере я его видел только что в саду.
VI
В большом парке Лувра прогуливались маски, любуясь фейерверком. Прекрасная венецианка оставила руку испанца и, пробравшись через толпу, вошла в темную аллею, которая вела к беседке. Дэдлей незаметно следовал за ней и вскоре увидел рыцаря в черном, шедшего навстречу венецианке.
— Ради Бога, Кастеляр, скажите мне, в чем дело? — тревожно спросила венецианка. — Почему вы хотели говорить со мной наедине? Разве моему мужу грозит опасность?
— Это — единственное, что тревожит вас, — грустно заметил рыцарь в черном. — Вы любите его?
— Что за вопрос! — негодующим тоном воскликнула венецианка. — Вы, кажется, с ума сошли!
— Да, это — правда! — прошептал Кастеляр. — Раньше я сходил с ума от надежды на счастье, а теперь — от отчаяния, я завидую тому, что вы — его жена. Мария, послушайте меня!… Коронованные особы не любят своих жен…
— Молчите! — прервала его Мария Стюарт и продолжала более ласковым голосом. — Вы больны, Кастеляр, иначе вы не могли бы завидовать счастью друга. Вы говорите, что любите меня; если это — правда, то не портите мне этого праздника, не омрачайте моего светлого настроения, не заставляйте меня думать, что самый верный друг моего мужа только представляется его другом!… Вы — сильный мужчина; неужели же вы не можете побороть себя? Нельзя желать обладать тем, что уже принадлежит другому. Обещайте мне, что никогда больше не будете говорить мне о любви, и я поверю, что вы действительно лучший друг моего мужа; я буду любить и уважать вас, как любит и уважает вас мой муж.
— Как любит и уважает ваш муж! — горько повторил Кастеляр. — Везде только он! О, чистое, святое создание, я повинуюсь вам, хотя мое сердце разрывается от муки. Я сделаю это не ради вашего мужа, а ради вас, потому что вы желаете этого, потому что мне дороже всего на свете ваш покой.
— Тише; кто-то идет! — прошептала Мария Стюарт. — Уходите скорее!…
Кастеляр поклонился ей и вышел из беседки, а Мария направилась в противоположную сторону.
Пройдя несколько шагов, Кастеляр заметил, что германский дворянин не успел скрыться вовремя. Кастеляр пришел в бешенство. В руках незнакомца оказалась не только его тайна, но и тайна шотландской королевы.
— Если вы — человек чести, то следуйте за мной! — прошептал он Дэдлею. От волнения тот не знал, как поступить. Уже второй раз приходилось убедиться в благородстве души молодой королевы Марии Стюарт, и он чувствовал, что готов скорее умереть, чем выдать ее тайну королеве Екатерине.
Дэдлей молча последовал за Кастеляром, а когда они были почти у выхода, вдруг остановился и обратился к рыцарю в черном:
— Вы хотите драться со мной, маркиз Кастеляр, не на жизнь, а на смерть? А я думаю, что мы, может быть, будем друзьями, если открою вам глаза: ведь Мария Стюарт знает, что вы любите ее, но не сердится на вас за это.
— Мне очень жаль, что на ваши вежливые слова я моту казать только одно: о тайне моей любви никто не должен ничего знать. Поэтому я вызываю вас сегодня же на поединок, — заявил Кастеляр.
— Завтра я могу с вами драться, но сегодня ни в коем случае. Если вы хотите знать причину моего отказа, то последуйте за мной; вы услышите, что я буду говорить цветочнице, которая послала меня подслушать ваш разговор. Я должен оказать услугу королеве Марии и развеять всякое подозрение на ее счет, которое может быть опасно для нее.
— Как! — опешил Кастеляр. — Неужели Екатерина подозревает…
— Не только подозревает, а знает наверняка, что Марии Стюарт предстояло свидание. Уйдите скорее отсюда и перемените костюм. Поверьте честному слову лорда Дэдлея, что ваша тайна находится в чистых руках.
— Если вы — тот лорд Дэдлей, который спас Марию Стюарт от англичан, то я верю вам, — несколько успокоился Кастеляр. — Во всяком случае завтра мы увидимся — как пожелаете: с оружием или без оружия в руках!
Только успел Дэдлей проститься с Кастеляром, как к нему подошла цветочница.
— Ну, что, кто этот рыцарь в черном? — торопливо спросила она.
— Я слышал от него лишь одно имя, прекрасная маска, — ответил Дэдлей.
— Я знаю какое: «Мария Стюарт!» О чем они говорили? — допрашивала цветочница.
— Рыцарь спрашивал об одной фрейлине, которая исчезла сегодня, и просил заступничества у молодой королевы!
Екатерина испуганно вздрогнула.
— А что сказала на это Мария Стюарт? — спросила она.
— Мария Стюарт сказала, что не вмешивается в дела фрейлин вашего величества! — ответил Дэдлей.
— Вы лжете! — воскликнула Екатерина. — Не советую вам шутить со мной!
— Я думал, ваше величество, что имею право ответить на шутку шуткой, — нашелся Дэдлей. — Я не допускаю мысли, чтобы вы, ваше величество, серьезно думали, что я могу взять на себя шпионские обязанности.
Екатерина выпрямилась, и ее глаза сверкнули через отверстия черной маски.
— Вы подслушали разговор Марии Стюарт с рыцарем, сэр Дэдлей, — сказала она дрожащим от злобы голосом. — Во избежание моего гнева сообщите мне всю правду.
— Ваше величество, я до тех пор слушал чужой разговор, пока думал, что речь идет о какой-то маскарадной интриге, — возразил Дэдлей, — но убедившись, что это не то, не посчитал себя вправе подслушивать дальше, тем более выдавать чужую тайну. Могу только уверить вас честным словом, что ничего не было сказано такого, что могло задеть честь дофина, его жены или кого-нибудь из высочайших особ.
— Да, если тут замешана чужая тайна, то вы совершенно правы, не следует болтать о ней, — ласково заметила королева. — Однако скажите, от кого вы слышали об исчезнувшей фрейлине?
Несмотря на ласковый тон Екатерины Медичи, Дэдлей. почувствовал, что вместо недавнего расположения она воспылала к нему ненавистью, как обыкновенно поступала со всеми, кто отказывался быть рабом ее воли.
— Об этом вообще говорили в зале, — ответил Дэдлей.
— Кто же говорил? Какие маски? — продолжала допрашивать Екатерина.
— Не знаю, право, не заметил! Какой-то турок или испанец!
— А может быть, палач! — грозно воскликнула королева. — Вы очень смелы, сэр Дэдлей, если позволяете себе не обращать внимания на гнев Екатерины Медичи.
— Ваше величество, цветочница дала мне право надеяться, что благородная королева снизойдет до того, что подарит меня своей милостью. Одну минуту я был так ослеплен, что принял шутку за правду, но, услышав имя венецианки, сразу опомнился. Я понял, что надо мной только посмеялись. Конечно, королеве легче всего было узнать от своей невестки, что говорил ей рыцарь в черном, к чему ей понадобилось бы прибегать к помощи постороннего лица? Что касается фрейлины, то я слышал, как одна маска спросила другую: «Скажите, это — не виконтесса Монгомери стоит у окна?», а другая ответила: «Нет, фрейлина королевы Екатерины сегодня куда-то исчезла!»
— Это — неправда, я здесь! — вдруг прошептал чей-то голос.
Королева отшатнулась, вся побледнев, точно увидела перед собой привидение, а маска, прошептавшая эти слова, со смехом удалилась.
— Догоните ее! — простонала Екатерина. — Задержите се, Дэдлей, и я все прощу вам. Скорее бегите за ней, вот она идет по галерее!… Столкните ее вниз, если она захочет сопротивляться.
Последних слов Дэдлей уже не слышал, так как побежал за маской по коридору. Дойдя до поворота, маска исчезла бесследно.
Дэдлей вернулся в дурном настроении к королеве, которая, не вытерпев, пошла к нему навстречу.
— Маска исчезла! Это какая-то нечистая сила!
— Как вы неловки, сэр Дэдлей! — сердито заметила королева.
— Он не виноват! — внезапно раздался тот же голос. — Не так-то легко схватить привидение, ха-ха-ха!
Смех был хриплый, неприятный.
— Это — сам сатана, вырвавшийся из ада! — испуганно проговорила Екатерина и перекрестилась. — Маска должна скрываться где-нибудь здесь, так как все наружные выходы закрыты. Обнажите шпагу, сэр Дэдлей, и следуйте на мной…
Королева пошла по коридору, прилегавшему к запасным комнатам дворца, в которых никто не жил. Здесь не было нигде огня, только в самом конце коридора, сквозь единственное окно, пробивался лунный свет. При этом слабом свете Дэдлей, опередивший королеву, заметил притаившуюся таинственную маску. Он бросился к ней.
Но вдруг случилось что-то невероятное. Был ли это обман зрения, или действительно существовало колдовство, но маска отделилась от земли, поднялась вверх и с хриплым смехом исчезла. Когда Дэдлей подошел к окну, то увидел, что оно открыто. Он заглянул вниз и задрожал от ужаса: цепляясь за выступы, как кошка, спускалась вниз таинственная маска, в которой Дэдлей вдруг узнал Филли. Одно неловкое движение — и несчастный мальчик полетел бы с высоты верхнего этажа на гранитную мостовую набережной.
Дэдлей оглянулся — королева еще была далеко, в другом конце коридора. Когда через несколько секунд Дэдлей снова выглянул в окно, Филли на стене уже не было. Дэдлей наклонился, чтобы рассмотреть, не упал ли Филли, но никого не увидел.
— Что случилось? — спросила подоспевшая королева.
— Ваше величество! — воскликнул Дэдлей. — Дьявол обманул нас. Посмотрите вниз! Если то, что мы видели, человек, то он лежит теперь на улице, разбитый вдребезги.
Королева взглянула вниз, потом — на Дэдлея и сказала:
— Вы несчастливы, сэр, будь вы попроворнее, то кончик шпаги, пожалуй, остановил бы этого дьявола. Забудьте, что вы говорили с Екатериной Медичи… — И жестом руки она приказала Дэдлею удалиться.

Глава шестнадцатая
ТЕМНИЦА ЛУВРА

I
 С маркизом Боскозелем Кастеляром Мария Стюарт познакомилась год назад при необычных обстоятельствах.
Однажды вечером трое всадников промчались от Сен-Жерменского дворца к женскому монастырю того же имени. Двор, находившийся в это время в Сен — Жермене, был на охоте, и трое всадников воспользовались этим случаем, чтобы посетить монастырь.
— Ей-Богу же, великолепно проникать в тайны друзей, — смеясь, проговорил самый юный из троих. — Теперь мне следует быть жестоким по отношению к Боскозелю и наказать его за то, что он питает тайную любовь, для этого я оставлю его на страже вне стен монастыря.
— Тогда вы не узнаете, кого я обожаю, — слегка краснея, ответил Боскозель. — Кроме того, и я не имею чести быть поверенным вашей любви.
— Это — нечто другое. Вы уже целый месяц мечтаете о своей возлюбленной и под всевозможными предлогами избегаете нашего общества. Я же, напротив, даже не знаю, какая прелестница очаровала меня своим пением сирены. Может быть, она отвратительна… Впрочем, нет, это невозможно.
Между тем всадники достигли монастырской стены. Они соскочили с коней и самый юный из них постучал кольцом в железную дверь.
Прежде чем привратница успела спросить прибывших, что им нужно, и объявить им, что мужчинам строжайше воспрещен доступ в монастырь, все трое молодых людей, по предварительному уговору, перескочили порог и побежали в сад, где тотчас же исчезли за кустами, скрывшись таким образом из поля зрения старухи-привратницы, которой не оставалось ничего другого, как пойти к игуменье с докладом о случившемся.
Молодые люди между тем спешили по парку.
— Они вон там, у павильона, я слышу голос моей прелестницы среди щебетанья других, — восторженно проговорил самый юный. — Теперь осторожнее, друзья, мы поразим их своим неожиданным появлением.
Толпа девочек, в возрасте от десяти до шестнадцати лет, резвилась на траве под роскошной зеленью деревьев. Эти пансионерки монастыря были дочерьми знатных дворян.
Молодые люди подкрались ближе.
— Это — она, — показал младший из прибывших на белокурую девушку в локонах, украшенных белыми розами.
— Вот та в белом платье? — затаив дыхание, переспросил Боскозель, и его голос задрожал, а лицо зарделось румянцем.
— Ангел белых роз! Разве она не создана из эфира и звуков? Разве она — не очаровательное олицетворение своего русалочьего пения? А где ваша красавица, Боскозель?
Но, прежде чем Боскозель ответил, девочки заметили присутствие посторонних, и — как вспугнутая стая диких козочек, — бросились в чащу; только одна из них осталась и с любопытством смотрела на молодых людей, словно ей было стыдно бежать. То была певица, и младший из прибывших поспешил к ней. Но, когда он приблизился, сразу оробел и смутился как девушка, и яркий румянец залил его лицо.
— Простите, — пролепетал юноша, — не вы ли так хорошо пели вчера… там, у павильона?..
— Да, я, — ответила девушка. — Но кто вы такой? Как попали сюда? Бегите, мать-настоятельница строга, а мне не хочется, чтобы с вами поступили дурно.
— Пока вы не скажите мне свое имя, я не уйду.
— Мария, — с улыбкой ответила она, — а ваше?
— Франциск. Скажите, вы не сердитесь на меня за то, что я проник сюда? О, ради Бога, останьтесь! — стал умолять юноша, когда девушка отвернулась от него, едва преодолевая какой-то необъяснимый страх.
— Господи Боже, — дрожащим голосом произнесла Мария. — Сюда идет мать-игуменья; вас поймают и засадят в темницу. Бегите, прошу вас!…
— Будете ли вы помнить обо мне, Мария? — спросил юноша. — Дайте надежду!
Смущение, страх и стыд боролись в сердце девочки, но в просьбе юноши было столько мольбы, его голос звучал таким нежным восторгом, что она предпочла бы разгневать мать-настоятельницу, чем опечалить юношу. Ее рука потянулась к груди и тихим стыдливым движением, словно сознавая, как много значения в этом даре, как бы чувствуя, что в этот момент и благодаря этому поступку ребенок превращается в зрелую девушку, она взяла букет, благоухавший на ее груди, и протянула его юноше. Ее взгляд между тем был украдкой обращен в ту сторону, откуда показалась мать-настоятельница. Но та вдруг самым странным образом исчезла, и Мария, как бы раскаиваясь в том, что так скоро исполнила просьбу юноши, стыдливо прошептала:
— Нет, нет!
Но юноша уже схватил цветы, упал на колени и не сводил с нее глаз.
— Оставьте мне эти цветы! — стал умолять он. — Пусть они покоятся на моей груди. Пусть люди говорят что им угодно; пусть устрашают вас, но скажите, поверите ли вы моей клятве, что я никогда не полюблю никого кроме вас, и что я готов скорее умереть, чем увидеть слезинку на ваших глазах по моей вине?
— Я верю, что вы не замыслите дурного и не сможете причинить мне страдания, — пролепетала Мария, — верю нам, вы добры и достойны быть счастливым. Но вы не знаете…
Юноша вскочил с колен.
— Без всяких «но», — воскликнул он, привлекая девушку в свои объятия. — Если вы любите меня, то для меня ничто — весь мир!…
В тот самый момент, когда мать-настоятельница готова была предстать перед дерзкими нарушителями монастырского запрета и высказать им все свое неудовольствие по поводу их грубого вторжения, ее остановило неожиданное препятствие. Старший из трех новых всадников, прибывших вслед за первыми в монастырь, тронул за плечо настоятельницу и шепнул ей:
— Не мешайте детям…
Затем он подкрался вдоль опушки к счастливой юной парочке и в ту минуту, когда юноша пылко клялся пренебречь всем миром, окликнул его по имени.
При звуке этого голоса Франциск вздрогнул.
— Король! — побледнев, воскликнула Мария.
— Что же, ты намерен пренебречь и мной? — полусердито, полунасмешливо спросил король, обращаясь к юноше, — Вот почему ты тайком ускакал с охоты! Ты что же? Врываешься в монастырь и кружишь здесь головы красоткам?
— Нет, нет, отец, — запротестовал юноша, — я хотел видеть лишь ту, чей дивный голос заворожил меня, а с той минуты, как увидел ее, я твердо решил, что мое сердце никогда не будет принадлежать другой.
— Гром и молния, мне следовало бы разгневаться, но, слава Богу, все обстоит как нельзя лучше! — улыбаясь, сказал король. — Итак, ты намерен завоевать свое счастье и жениться, не подумав даже о своем долге? Разве ты знаешь, как зовут твою красавицу?
— Мария… и она прекрасна и чиста, как королева небес!
— Потому-то ты и думаешь сделать ее королевой своих небес и вовсе не спрашиваешь о том, чего требуют наши высшие политические соображения? А что ты скажешь на то, что мы уже присмотрели для тебя невесту?..
— Отец, я клянусь…
— Не клянись! — остановил его король. — Сделанного не поправишь. Твоя красавица уже давно помолвлена и только через несколько месяцев впервые увидит своего суженого. Ты женишься на королеве шотландской, и ни на ком более.
Франциск хотел было протестовать, но его ожидало странное зрелище. Король остановил свой взор не на нем, а на Марии. Бледная, трепещущая вначале, она вдруг ярко зарделась и с громким радостным криком бросилась в объятия короля Генриха II.
— Ну что, — улыбнулся король, обращаясь к сыну, — согласен ли ты?
Так счастливой случайности было угодно заставить полюбить другдруга детей, которых без согласия с их стороны уже обручила политика.
А в это же время в нескольких шагах в тени деревьев стоял Боскозель Кастеляр, он нервно сжимал руками свою грудь, словно желая вырвать из нее бушующее сердце. Эту самую девушку с белой розой в локонах волос он высмотрел с монастырской стены и поклялся посвятить ей свою жизнь. Сегодня он последовал за дофином, увлекаемый сладостной надеждой услышать голос прелестной певицы, увидеть ее глаза и иметь возможность шепнуть ей несколько слов любви. Неожиданное открытие, что он и дофин любят одну и ту же, поразило его. Но удар не убил в Боскозеле надежды, напротив, он пробудил в нем мужество. Если та, которую любил дофин, рождена не для трона, то он мог лишь обесчестить ее, и Кастеляр мог оградить ее от бесчестья. Дофину придется отказаться от нее, в противном случае он, Боскозель, увидит в нем не принца, а соперника. Увидев, что дофин коснулся Марии, пылкий Кастеляр схватился за шпагу. Но в этот момент появился король — и все осложнилось.
Неужели Франциск обманул его? Неужели то была его невеста. Бледный Кастеляр потерял надежду. Мария любила дофина!…
«Нет, нет! — запротестовал в нем внутренний голос. — Она лишь думает, что любит Франциска, так как ее уже предназначили для него. Это — не истинная любовь, не сердечное влечение!
Но ведь она — королева! Теперь он, Кастеляр, бедный маркиз, не может предложить ей свою защиту и свою руку. Теперь этикет, подобно аргусу, сторожит ее.
— Как счастлив был бы я с этим ребенком! — мечтал Кастеляр. — Мария слишком добра, слишком беззаботна и весела для трона! Она будет скучать в строгих придворных рамках, этикет убьет в ней ее резвость, похитит невинную улыбку с ее детских уст. Уделом Марии будет носить корону, в то время как ее муж будет пировать со своими метрессами!»
Так размышлял Кастеляр, и ревность создала для его любящего сердца ужасную картину, так как пример, данный королем Генрихом II своему сыну, был возмутителен: Генрих в присутствии своей жены носил на публичном турнире цвета своей фаворитки.
В эту минуту счастливая парочка приблизилась к нему, и дофин с сияющим от радости лицом, воскликнул:
— Боскозель, смотри, вот моя дорогая невеста… Мария, это мой лучший друг, храбрый и верный товарищ… Но где же ваша красавица? Или вас постигла неудача, бедняга? Покажите мне ее! Я буду вашим сватом.
— У меня нет счастья, — ответил Кастеляр. — То был лишь сон, и он миновал.
— Вы играете в молчанку и пренебрегаете моей помощью? Он горд, Мария, он хочет добыть себе невесту сам.
— В таком случае тебе не следует быть любопытным! — заметила Мария и взглянула в серьезное, бледное лицо Кастеляра, желая ободрить его, но встретила пламенный взор и, покраснев, догадалась, кто его возлюбленная.
После того дня Кастеляр редко видел Марию Стюарт, но каждый раз, когда они встречались, их взоры многое говорили друг другу. Мария с участием смотрела на него и в своей сердечной доброте невольно уделяла ему приветливую улыбку; он же, терзаемый сомнениями, мучимый ревностью и пылающий страстью, лелеял ее образ в своем сердце.
На маскараде в Лувре Кастеляр в первый раз осмелился приблизиться к Марии Стюарт и просить ее выслушать его. Он хотел слышать от нее самой, что она счастлива. Только это могло придать ему мужество отречься от нее. Если же она несчастлива, то он хотел слышать это «нет», и тогда… О, что он сделал бы тогда? Одна мысль о том сводила его с ума и заставляла бушевать его кровь.
Однако святая невинность Марии одержала победу над его мрачной страстью. Но это не ускользнуло от зоркой подозрительности Екатерины Медичи, видевшей Кастеляра насквозь. Что же, она желала облагодетельствовать Кастеляра или погубить его? Маркиз достаточно знал придворную жизнь, чтобы ожидать от королевы-матери всего что угодно, только не защиты интересов истинного счастья ее невестки. Никто даже не скрывал, что брак Марии с дофином принесет политические плоды, вовсе не желательные для шотландцев. Кастеляру было известно и то, что Екатерина изо всех сил старалась удержать сына в зависимости от себя и только благодаря тому согласилась на брак с родственницей Гизов, что они были смертельными врагами Монморанси. Монморанси помогали герцогине Валентинуа и пользовались влиянием на короля, но Генрих был почти влюблен в свою красавицу-падчерицу. Это тем более заставило Екатерину стараться поставить Марию Стюарт в зависимость от нее, предоставив ей обожателя и держа ее под угрозой лишения доверия мужа. И потому Кастеляр готов был убить соглядатая его свидания с Марией Стюарт, перед тем как нашел в нем друга-
С маркизом Боскозелем Кастеляром Мария Стюарт познакомилась год назад при необычных обстоятельствах.
Однажды вечером трое всадников промчались от Сен-Жерменского дворца к женскому монастырю того же имени. Двор, находившийся в это время в Сен — Жермене, был на охоте, и трое всадников воспользовались этим случаем, чтобы посетить монастырь.
— Ей-Богу же, великолепно проникать в тайны друзей, — смеясь, проговорил самый юный из троих. — Теперь мне следует быть жестоким по отношению к Боскозелю и наказать его за то, что он питает тайную любовь, для этого я оставлю его на страже вне стен монастыря.
— Тогда вы не узнаете, кого я обожаю, — слегка краснея, ответил Боскозель. — Кроме того, и я не имею чести быть поверенным вашей любви.
— Это — нечто другое. Вы уже целый месяц мечтаете о своей возлюбленной и под всевозможными предлогами избегаете нашего общества. Я же, напротив, даже не знаю, какая прелестница очаровала меня своим пением сирены. Может быть, она отвратительна… Впрочем, нет, это невозможно.
Между тем всадники достигли монастырской стены. Они соскочили с коней и самый юный из них постучал кольцом в железную дверь.
Прежде чем привратница успела спросить прибывших, что им нужно, и объявить им, что мужчинам строжайше воспрещен доступ в монастырь, все трое молодых людей, по предварительному уговору, перескочили порог и побежали в сад, где тотчас же исчезли за кустами, скрывшись таким образом из поля зрения старухи-привратницы, которой не оставалось ничего другого, как пойти к игуменье с докладом о случившемся.
Молодые люди между тем спешили по парку.
— Они вон там, у павильона, я слышу голос моей прелестницы среди щебетанья других, — восторженно проговорил самый юный. — Теперь осторожнее, друзья, мы поразим их своим неожиданным появлением.
Толпа девочек, в возрасте от десяти до шестнадцати лет, резвилась на траве под роскошной зеленью деревьев. Эти пансионерки монастыря были дочерьми знатных дворян.
Молодые люди подкрались ближе.
— Это — она, — показал младший из прибывших на белокурую девушку в локонах, украшенных белыми розами.
— Вот та в белом платье? — затаив дыхание, переспросил Боскозель, и его голос задрожал, а лицо зарделось румянцем.
— Ангел белых роз! Разве она не создана из эфира и звуков? Разве она — не очаровательное олицетворение своего русалочьего пения? А где ваша красавица, Боскозель?
Но, прежде чем Боскозель ответил, девочки заметили присутствие посторонних, и — как вспугнутая стая диких козочек, — бросились в чащу; только одна из них осталась и с любопытством смотрела на молодых людей, словно ей было стыдно бежать. То была певица, и младший из прибывших поспешил к ней. Но, когда он приблизился, сразу оробел и смутился как девушка, и яркий румянец залил его лицо.
— Простите, — пролепетал юноша, — не вы ли так хорошо пели вчера… там, у павильона?..
— Да, я, — ответила девушка. — Но кто вы такой? Как попали сюда? Бегите, мать-настоятельница строга, а мне не хочется, чтобы с вами поступили дурно.
— Пока вы не скажите мне свое имя, я не уйду.
— Мария, — с улыбкой ответила она, — а ваше?
— Франциск. Скажите, вы не сердитесь на меня за то, что я проник сюда? О, ради Бога, останьтесь! — стал умолять юноша, когда девушка отвернулась от него, едва преодолевая какой-то необъяснимый страх.
— Господи Боже, — дрожащим голосом произнесла Мария. — Сюда идет мать-игуменья; вас поймают и засадят в темницу. Бегите, прошу вас!…
— Будете ли вы помнить обо мне, Мария? — спросил юноша. — Дайте надежду!
Смущение, страх и стыд боролись в сердце девочки, но в просьбе юноши было столько мольбы, его голос звучал таким нежным восторгом, что она предпочла бы разгневать мать-настоятельницу, чем опечалить юношу. Ее рука потянулась к груди и тихим стыдливым движением, словно сознавая, как много значения в этом даре, как бы чувствуя, что в этот момент и благодаря этому поступку ребенок превращается в зрелую девушку, она взяла букет, благоухавший на ее груди, и протянула его юноше. Ее взгляд между тем был украдкой обращен в ту сторону, откуда показалась мать-настоятельница. Но та вдруг самым странным образом исчезла, и Мария, как бы раскаиваясь в том, что так скоро исполнила просьбу юноши, стыдливо прошептала:
— Нет, нет!
Но юноша уже схватил цветы, упал на колени и не сводил с нее глаз.
— Оставьте мне эти цветы! — стал умолять он. — Пусть они покоятся на моей груди. Пусть люди говорят что им угодно; пусть устрашают вас, но скажите, поверите ли вы моей клятве, что я никогда не полюблю никого кроме вас, и что я готов скорее умереть, чем увидеть слезинку на ваших глазах по моей вине?
— Я верю, что вы не замыслите дурного и не сможете причинить мне страдания, — пролепетала Мария, — верю нам, вы добры и достойны быть счастливым. Но вы не знаете…
Юноша вскочил с колен.
— Без всяких «но», — воскликнул он, привлекая девушку в свои объятия. — Если вы любите меня, то для меня ничто — весь мир!…
В тот самый момент, когда мать-настоятельница готова была предстать перед дерзкими нарушителями монастырского запрета и высказать им все свое неудовольствие по поводу их грубого вторжения, ее остановило неожиданное препятствие. Старший из трех новых всадников, прибывших вслед за первыми в монастырь, тронул за плечо настоятельницу и шепнул ей:
— Не мешайте детям…
Затем он подкрался вдоль опушки к счастливой юной парочке и в ту минуту, когда юноша пылко клялся пренебречь всем миром, окликнул его по имени.
При звуке этого голоса Франциск вздрогнул.
— Король! — побледнев, воскликнула Мария.
— Что же, ты намерен пренебречь и мной? — полусердито, полунасмешливо спросил король, обращаясь к юноше, — Вот почему ты тайком ускакал с охоты! Ты что же? Врываешься в монастырь и кружишь здесь головы красоткам?
— Нет, нет, отец, — запротестовал юноша, — я хотел видеть лишь ту, чей дивный голос заворожил меня, а с той минуты, как увидел ее, я твердо решил, что мое сердце никогда не будет принадлежать другой.
— Гром и молния, мне следовало бы разгневаться, но, слава Богу, все обстоит как нельзя лучше! — улыбаясь, сказал король. — Итак, ты намерен завоевать свое счастье и жениться, не подумав даже о своем долге? Разве ты знаешь, как зовут твою красавицу?
— Мария… и она прекрасна и чиста, как королева небес!
— Потому-то ты и думаешь сделать ее королевой своих небес и вовсе не спрашиваешь о том, чего требуют наши высшие политические соображения? А что ты скажешь на то, что мы уже присмотрели для тебя невесту?..
— Отец, я клянусь…
— Не клянись! — остановил его король. — Сделанного не поправишь. Твоя красавица уже давно помолвлена и только через несколько месяцев впервые увидит своего суженого. Ты женишься на королеве шотландской, и ни на ком более.
Франциск хотел было протестовать, но его ожидало странное зрелище. Король остановил свой взор не на нем, а на Марии. Бледная, трепещущая вначале, она вдруг ярко зарделась и с громким радостным криком бросилась в объятия короля Генриха II.
— Ну что, — улыбнулся король, обращаясь к сыну, — согласен ли ты?
Так счастливой случайности было угодно заставить полюбить другдруга детей, которых без согласия с их стороны уже обручила политика.
А в это же время в нескольких шагах в тени деревьев стоял Боскозель Кастеляр, он нервно сжимал руками свою грудь, словно желая вырвать из нее бушующее сердце. Эту самую девушку с белой розой в локонах волос он высмотрел с монастырской стены и поклялся посвятить ей свою жизнь. Сегодня он последовал за дофином, увлекаемый сладостной надеждой услышать голос прелестной певицы, увидеть ее глаза и иметь возможность шепнуть ей несколько слов любви. Неожиданное открытие, что он и дофин любят одну и ту же, поразило его. Но удар не убил в Боскозеле надежды, напротив, он пробудил в нем мужество. Если та, которую любил дофин, рождена не для трона, то он мог лишь обесчестить ее, и Кастеляр мог оградить ее от бесчестья. Дофину придется отказаться от нее, в противном случае он, Боскозель, увидит в нем не принца, а соперника. Увидев, что дофин коснулся Марии, пылкий Кастеляр схватился за шпагу. Но в этот момент появился король — и все осложнилось.
Неужели Франциск обманул его? Неужели то была его невеста. Бледный Кастеляр потерял надежду. Мария любила дофина!…
«Нет, нет! — запротестовал в нем внутренний голос. — Она лишь думает, что любит Франциска, так как ее уже предназначили для него. Это — не истинная любовь, не сердечное влечение!
Но ведь она — королева! Теперь он, Кастеляр, бедный маркиз, не может предложить ей свою защиту и свою руку. Теперь этикет, подобно аргусу, сторожит ее.
— Как счастлив был бы я с этим ребенком! — мечтал Кастеляр. — Мария слишком добра, слишком беззаботна и весела для трона! Она будет скучать в строгих придворных рамках, этикет убьет в ней ее резвость, похитит невинную улыбку с ее детских уст. Уделом Марии будет носить корону, в то время как ее муж будет пировать со своими метрессами!»
Так размышлял Кастеляр, и ревность создала для его любящего сердца ужасную картину, так как пример, данный королем Генрихом II своему сыну, был возмутителен: Генрих в присутствии своей жены носил на публичном турнире цвета своей фаворитки.
В эту минуту счастливая парочка приблизилась к нему, и дофин с сияющим от радости лицом, воскликнул:
— Боскозель, смотри, вот моя дорогая невеста… Мария, это мой лучший друг, храбрый и верный товарищ… Но где же ваша красавица? Или вас постигла неудача, бедняга? Покажите мне ее! Я буду вашим сватом.
— У меня нет счастья, — ответил Кастеляр. — То был лишь сон, и он миновал.
— Вы играете в молчанку и пренебрегаете моей помощью? Он горд, Мария, он хочет добыть себе невесту сам.
— В таком случае тебе не следует быть любопытным! — заметила Мария и взглянула в серьезное, бледное лицо Кастеляра, желая ободрить его, но встретила пламенный взор и, покраснев, догадалась, кто его возлюбленная.
После того дня Кастеляр редко видел Марию Стюарт, но каждый раз, когда они встречались, их взоры многое говорили друг другу. Мария с участием смотрела на него и в своей сердечной доброте невольно уделяла ему приветливую улыбку; он же, терзаемый сомнениями, мучимый ревностью и пылающий страстью, лелеял ее образ в своем сердце.
На маскараде в Лувре Кастеляр в первый раз осмелился приблизиться к Марии Стюарт и просить ее выслушать его. Он хотел слышать от нее самой, что она счастлива. Только это могло придать ему мужество отречься от нее. Если же она несчастлива, то он хотел слышать это «нет», и тогда… О, что он сделал бы тогда? Одна мысль о том сводила его с ума и заставляла бушевать его кровь.
Однако святая невинность Марии одержала победу над его мрачной страстью. Но это не ускользнуло от зоркой подозрительности Екатерины Медичи, видевшей Кастеляра насквозь. Что же, она желала облагодетельствовать Кастеляра или погубить его? Маркиз достаточно знал придворную жизнь, чтобы ожидать от королевы-матери всего что угодно, только не защиты интересов истинного счастья ее невестки. Никто даже не скрывал, что брак Марии с дофином принесет политические плоды, вовсе не желательные для шотландцев. Кастеляру было известно и то, что Екатерина изо всех сил старалась удержать сына в зависимости от себя и только благодаря тому согласилась на брак с родственницей Гизов, что они были смертельными врагами Монморанси. Монморанси помогали герцогине Валентинуа и пользовались влиянием на короля, но Генрих был почти влюблен в свою красавицу-падчерицу. Это тем более заставило Екатерину стараться поставить Марию Стюарт в зависимость от нее, предоставив ей обожателя и держа ее под угрозой лишения доверия мужа. И потому Кастеляр готов был убить соглядатая его свидания с Марией Стюарт, перед тем как нашел в нем друга-
II
Когда Дэдлей наконец снова достиг парка, он прежде всего постарался отыскать Марию Стюарт. Ему во что бы то ни стало необходимо было предупредить ее и в то же время найти в ней могучую помощницу против Екатерины Медичи.
Несмотря на то, что Мария шла под руку с дофином, Дэдлей подошел к ней и сказал:
— Прекрасная маска, не видела ли ты черного рыцаря?
Мария слегка вздрогнула. Дофин хотел оттолкнуть назойливого немца, но последний приподнял маску и сказал:
— Простите ваше высочество, но под маскарадной шуткой часто скрываются серьезные вещи. Черный рыцарь разыскивает графиню Монгомери и опасается, что ее ожидает несчастье. Я только что видел его с ее высочеством вашей супругой и сделал вывод, что он просил ее помощи. Я могу лишь сказать, что ее величество королева-мать осведомлена об исчезнувшей.
— Прежде всего, сэр Дэдлей, я не понимаю, кто исчез? Мария, тебе известно что-либо об этом?
— Я тоже ничего не понимаю, — пробормотала Мария.
— В таком случае прошу простить, — с глубоким поклоном произнес Дэдлей, — следовательно, черный рыцарь ошибся в маске; он отыскал королеву, и я устроил недурную путаницу, сказав королеве, что рыцарь уже выпросил у супруги дофина милость для своей сестры.
— Что же, королева справлялась о рыцаре? — шепнула Мария.
— Да, и я сказал, что эту маску, вероятно, избрал для себя граф Монгомери.
Теперь Мария угадала намерение Дэдлея и, улыбаясь, сказала:
— Заверьте его, что Мария Стюарт заступится за его сестру, если графиня Монгомери только нуждается в этом.
Она приветливо кивнула Дэдлею, и он, обрадованный тем, что ему удалось провести Екатерину Медичи, пробрался в галерею. Там он сменил костюм на домино, в котором надеялся инкогнито пройти во внутренний двор Лувра, где предполагал встретить Сэррея и Монгомери.
Дэдлей пришел туда как раз вовремя. Несмотря на увещевания со стороны Вальтера и Сэррея, Монгомери только что решил открыто спросить у сенешаля относительно своей сестры. После тою как Дэдлей рассказал им все вышеописанное, ни Сэррей, ни Монгомери уже не сомневались, что Клара находится в казематах Лувра.
— Сейчас же туда! — воскликнул Монгомери. — Помогите мне лишь отыскать дорогу и затем оставьте меня одного, я заставлю тюремщика показать мне каземат Клары.
— Мы не оставим вас, — возразил Сэррей. — Четверо все же лучше одного, и там, где нужно вырвать жертву или раскрыть преступление, я ни за что не отступлю.
— И я тоже, — поддержал его Вальтер.
— Пусть будет, что будет, я доведу до конца борьбу, — воскликнул Дэдлей. — Но советую подождать Филли, этот повеса сродни нечистому и при свете солнца отыщет дорогу в ад.
— Время летит… я не могу ждать, — возразил Монгомери. — Простите, лучше я предпочту отказаться от благородно предложенной вами помощи, чем стану медлить хоть одну минуту…
Он бросился к маленькой двери, и все трое последовали за ним. Едва они открыли дверь и вступили в коридор, как навстречу им скользнула чья-то фигура, почти не производившая никакого шума на ходу, как будто у нее были крылья.
— Это — Филли! — шепнул Сэррей, по пятам следовавший за Монгомери.
— Да, это — я! — послышался голос Филли. — Оставайтесь здесь и остерегайтесь малейшего шума… Недалеко королева Екатерина.
— Где она? Где?
— Она спускается по винтовой лестнице. Оставайтесь здесь, я позову вас.
— Я пойду за тобой, смелый юноша! — шепнул Монгомери, но Сэррей и Вальтер удержали его.
III
Король Генрих II как-то увидел в Сен-Жерменском монастыре Клару Монгомери, и шпионы Екатерины сообщили ей, что эта красивая девушка произвела на него очень сильное впечатление. Екатерина тотчас же решила воспользоваться Кларой, чтобы отдалить мужа от герцогини Валентинуа и таким окольным путем снова приобрести влияние на него. Екатерина не впервые замышляла такие планы, но ни один из них не сулил такого блестящего успеха, как этот. Клара Монгомери тотчас же была зачислена в фрейлины, и король стал чаще появляться в ее покоях; Екатерина же со своей стороны приложила все усилия к тому, чтобы дать Генриху возможность удовлетворить свою страсть. К тому же и Клара восторженно бредила королем, и не оставалось ничего более, как способствовать продлению страсти короля.
Все шло согласно плану Екатерины. Новая фрейлина сказалась больной, и ей отвели комнату в нижнем этаже Лувра, Старые статс-дамы знали, что это значит; узнала об этом и одна из подруг Клары, Мария Сэйтон, а через нее узнал и брат Клары, Габриэль Монгомери.
Клара приняла у себя короля, Слабое сопротивление добродетели было побеждено распаленной страстью, и Генрих восторжествовал. Он осушил горячими поцелуями стыдливые слезы и тысячью уверений, утешений и ложных клятв успокоил робкое сердце Клары. Она не так трепетала перед позором, как перед своим братом. Но Генрих обещал на следующий же день отыскать ей супруга, который даст ей свое имя и свободу. При дворах такие ширмы были привычны, и Клара вполне успокоилась, Она была тщеславна и жаждала наслаждений, король же освободил ее из монастыря и обещал создать блестящее положение… Будущее казалось Кларе чудным раем.
Был уже светлый день, а Клара еще спала. Еще бы!.. Она всю ночь как в угаре провела с королем, Но вот кто-то тронул ее за руку, и она открыла глаза. Перед ней стояла королева Екатерина.
— Клара, мне известно все, — сурово произнесла королева. — Ваша болезнь — пустое притворство. Король любит вас, он был у вас.
— Ваше величество…
— Не прерывайте меня! Для меня проще всего было бы с позором удалить вас от двора, но я буду снисходительна, если вы подчинитесь моей воле. В продолжении нескольких дней вы не будете принимать короля.
— Ваше величество…
— Да не прерывайте же меня… Вы прикинетесь раскаивающейся и запрете перед ним дверь. Он будет писать вам; вы же напишете ему ответ, что не хотите ни с кем делить сердце возлюбленного, и потребуете изгнания Дианы Пуатье. Если вы будете упорствовать, король согласится на все.
— Ваше величество, вы приписываете мне власть, которой я не только не обладаю, но и не пытаюсь обладать, — возразила Клара, приподнимаясь с постели.
— Ах, вы не хотите? — с улыбкой произнесла королева, и ее взор заметал искры.
— Нет, ваше величество… Но король так добр ко мне! Только он один может спасти меня от позора, и вдруг я стану предписывать ему условия! Я не нуждаюсь в них…
— Речь вовсе не идет о вашем желании или нежелании, я предлагаю лишь выбор: или повиноваться мне, или испытать на себе последствия моего гнева.
— Ваше величество, король защитит меня от кого бы то ни было.
Клара произнесла это с легкой насмешкой; она знала, что Екатерина не пользуется властью, и ее повелительный тон вызвал в ней упорство.
— В таком случае, — улыбнулась королева, — одевайтесь и пойдемте ко мне в западный флигель Лувра. Я дам вам доказательства того, как вы можете полагаться на обещания Генриха. Вы услышите, что он говорит мне, когда думает, что вы далеко, и тогда мы с вами продолжим разговор.
В словах королевы звучало почти сострадание, и Клара почувствовала страх за себя. Она сразу вспомнила и о своей обязанности повиноваться королеве, а потому быстро оделась и последовала за Екатериной.
Королева провела ее по многочисленным переходам и коридорам, тянувшимся вдоль луврских стен, затем спустилась по лестнице и, нажав потайную пружину, открыла дверь в небольшую комнату, расположенную как раз напротив той, в которой жила Клара и отделялась от нее только внутренним двором.
— Садитесь! — приказала королева, указывая Кларе на кресло, стоявшее в нескольких шагах от нее.
Клара повиновалась. Но, едва она опустилась в кресло, железные тиски, представлявшие собой его подлокотники, обхватили ее руки и ноги и крепко сжали их; королева Екатерина подошла к стене и потянула железное кольцо, вделанное в стену за камином. Тотчас же в полу открылось отверстие и кресло провалилось в люк.
Все это было делом одного момента. Страшный крик Клары затих, отверстие в полу снова закрылось, и Екатерина с торжествующей улыбкой дернула сонетку.
Появился паж.
— Беги к страже, — приказала королева, — графиня Монгомери, переодевшись в мужское платье, выскочила в окно и убежала. Во что бы то ни стало нужно настигнуть ее, но держать все это в тайне; только в том случае, если не найдут ее, нужно доложить об этом королю. Скажи, что ты видел, как графиня выскочила из окна, но слишком поздно признал ее.
Мальчик молча поклонился — он уже не раз получал подобные приказания.
Екатерина открыла потайную дверь и небольшим коридором прошла к винтовой лестнице, недавно случайно обнаруженной Сэрреем. Королева спустилась по ней и вошла в подвал, железные двери которого были открыты настежь. Она закрыла их за собой и уверенным шагом пошла по темному подвалу; нажав потайную пружину, она открыла вторую дверь и вошла в следующее помещение, значительно большее, чем предыдущее. Здесь уже было зажжено множество свечей.
У входных дверей стояли три женщины с четками и под густыми черными вуалями, в глубине подвала виднелось распятие, на стенах висели орудия пытки, покрытые следами крови. В потолок подвала упиралась толстая колонна, к которой были прикреплены цепи и поручни.
Духовник Екатерины ввел Клару в комнату, склонился перед королевой и сказал:
— Прежде чем выслушать исповедь этой несчастной, я налагаю на нее первую степень эпитимии, так как ее душа закоснела и она осмелилась предложить мне деньги, чтобы я освободил ее.
— Помолитесь за нее, святой отец, — ответила Екатерина, — после того как она выполнит эпитимию и ее душа очистится слезами, я пришлю вам ключи от ее каземата.
Духовник оставил подвал.
Кто из фрейлин королевы не подчинялся беспрекословно ее воле или, подчинившись, все же вызывал ее неудовольствие, те могли быть уверены, что никогда не оставят исповедальни, не выслушав горьких упреков исповедника, или не получив унизительной эпитимии.
Три дамы под черными вуалями были любимицами Екатерины и служили для исполнения ее желаний; это были графиня Сейрди, мадемуазели Фиен и дю Руе. Они сорвали с Клары ее платье и, не обращая внимания на мольбы, приковали к столбу; дю Руе взмахнула бичом и с фанатичной яростью намеревалась искромсать спину бедной девушки, но графиня Сейрди крикнула ей, что не должно быть ни малейшего следа от бича. Наказание окончилось. На бедняжку надели простую власяницу, дали ей четки и втолкнули в каземат на кучу соломы.
Екатерина Медичи, хладнокровно наблюдавшая за наказанием, кивком головы приказала дамам удалиться, Клара бросилась ей в ноги и стала молить о пощаде.
— Клара, — сказала королева несчастной, — здесь ты будешь нести покаяние за то, что прегрешила из плотской похоти. Я могу избавить тебя от этого наказания, если ты будешь послушна мне. Король поверит, что ты убежала; только я могу открыть твое местонахождение, когда буду убеждена, что ты навсегда пересилила свое упрямство. Иначе тебя перевезут отсюда в монастырь, и там в таком же, как этот, каземате, ты окончишь безвестно свое существование. Итак, подумай, что ты выбираешь.
Клара со слезами стала клясться, что подчинится ее каждому желанию, если только будет выпущена из этого каземата. Но королева, отрицательно покачав головой, сказала:
— Эпитимия, наложенная святым отцом, должна быть выполнена. Ты рассчитывала на любовь Генриха. Отлично, зови его на помощь, но, если он не придет, кайся в том, что оскорбила меня, и подумай о том, что я найду и погублю тебя даже в объятиях Генриха, если ты не будешь беспрекословно повиноваться мне.
Екатерина опустила железную решетку, замкнула ее и удалилась, не обращая внимания на страшные крики и плач несчастной.
Закрыв наружную дверь, королева в сопровождении своих дам поднялась по лестнице, и никто из видевших ее в этот вечер не мог бы заподозрить, что в кармане этой веселой женщины находятся ключи от темницы, в казематах которой изнывают и проклинают ее несчастные жертвы… Для придворных дам не было ничего необычайного в том, что одна из них исчезала на время и возвращалась бледной и истомленной.
И сейчас двор сожалел, что Клара больна. Но кто мог угадать, что именно произошло? Кто посмел бы искать Клару, кто посмел бы произнести ее имя?
Екатерина была взбешена тем, что призрак напугал ее. Не суеверный страх овладел ею, а мучительное сознание того, что кто-то проник в ее замыслы и насмехается над ней. Она сжала в кармане ключ и поспешно направилась к подвалам. Ей хотелось скорее увидеть, заперты ли двери и томится ли Клара в своем каземате…
Королева бежала по коридорам и слышала хихиканье призрака. Открыв дверь каземата, она нашла Клару на соломенном ложе. Но ужас обуял ее, так как за прикрытой дверью снова раздалось хихиканье, насмешливое, вызывающее, грозное…
Екатерина бросилась обратно. Впервые она испытала настоящий страх, В этот момент потух ее фонарь и дверь перед самым ее носом захлопнулась. Она оказалась в плену… Снова раздалось хихиканье. Пот выступил на лбу у Екатерины. Она тронула дверь и убедилась, что она не заперта. Королева одним духом взбежала по лестнице и пошла по освещенным залам, но все слышала хихиканье у себя за спиной.
«Это — игра расстроенного воображения, у меня лихорадка!» — решила королева, легла на диван и, позвонив, приказала позвать врача. Ее мозг, казалось, пылал, и перед глазами ходили огненные круги.
На следующее утро по всему дворцу пронеслась ужасная весть: Клару Монгомери нашли мертвой в ее постели и возле ее трупа — клочок пергамента, на котором было написано следующее:
«Я покончила с собой, так как меня бичевали и бросили в темницу за то, что я не хотела служить похотям короля!»
Это — уже не была игра воображения, это была хитро обдуманная месть. Король под страхом смертной казни запретил распространять эту весть и приказал говорить, что Клара умерла от разрыва сердца.
Граф Монгомери приехал во дворец и просил выдать ему тело его сестры. Ему было отказано в этом, так как королева взяла на себя хлопоты по ее погребенью, За похоронной процессией шли пэры Франции. Король хотел пожать руку Монгомери, но тот сделал вид, что не заметил этого, и Генрих опустил руку, но ни слова гнева не сорвалось с его губ.
Мария Стюарт бросила цветы на гроб бедной Клары и со слезами на глазах шепнула графу:
— Пощадите короля! Не он убил ее.
Монгомери преклонил колено и поцеловал ее руку; Мария почувствовала, что снова приобрела себе друга.
— Граф Монгомери, — сказала Екатерина, — вы настаивали на том, чтобы видеть покойницу… Я предполагаю здесь яд, но яд, для меня неизвестный. Спросите-ка у своего друга Дэдлея или у его пажа, нечестивого шотландца, пожалуй, они слышали у себя на родине о том, что человека поражает удар, когда он понюхает фиалку.
— Ваше величество, если вы не знаете этого яда, то его и не было, — возразил Монгомери. — Должно быть, моя сестра была изнурена ударами бича, холодом, страхом и прочими муками; все это действует как яд.
— Вы так думаете? — с иронической улыбкой произнесла королева. — Меня весьма интересует это сравнение, и я расспрошу вас еще об этом.
Монгомери поклонился и сказал:
— Где будет угодно вам, ваше величество, только не над опускными дверями Лувра. Впрочем, что это я болтаю, — продолжал он, увидев, как Екатерина закусила губы, — вместо того, чтобы поблагодарить вас за то, что ваши строгие меры избавили мою сестру от позора стать графиней Альбеф.
Альбеф был именно тот кавалер, которого король избрал в женихи Кларе.

Глава семнадцатая
ПЕРЕМЕНЫ

I
 Свадебные торжества не прекратили дипломатических интриг, но только на время прервали их. Миру улыбались солнечные лучи, а между тем уже собирались бури, и те, кто могли прозреть далекое будущее, вместо того чтобы завидовать красавице-супруге дофина, молились за нее.
Генрих II, не довольствуясь тем, что женитьбой своего сына на Марии Стюарт укреплял связь Франции с Шотландией, хотел еще унаследовать престол в этом королевстве в том случае, если Мария умрет бездетной. Таким образом он думал предупредить вступление на престол леди Гамильтон и приковать к Франции страну, которая не хотела сплотиться с Англией. 4 апреля 1558 года за две недели перед тем, как Мария Стюарт приняла условия, поставленные ей депутатами от имени шотландского парламента, она подписала в Фонтенбло два тайных акта, весьма важных и опасных. Первый из них просто-напросто дарил Шотландию Франции; второй же был подписан на случай неисполнения первого и содержал в себе передачу французским королям наследных прав Марии Стюарт на английский и ирландский престолы. Она подписала тайный протест против торжественных обещаний, данных в присутствии шотландских депутатов, и объявила их утратившими силу.
Шотландские депутаты не подозревали о подлоге. Они возвратились в Эдинбург, и парламент дал согласие на получение дофином шотландской короны, приобретаемой им через брак с Марией Стюарт; с того же дня все государственные акты Шотландии должны были подписываться как Марией Стюарт, так равно и дофином. Мать Марии Стюарт, Мария Лотарингская, получила протекторат над Шотландией при условии, что она снова введет там католичество, и это условие Гизов, равно как влияние Франции, заранее настраивало гордое шотландское дворянство против королевы.
В Париже могли добиться всего от Марии Стюарт — для этого достаточно было призвать на помощь религию. Учение католической церкви глубоко запало в нежную душу Марии, бредившей миром чудес и идеалов, внушаемых ей бесчисленными легендами и сказаниями о святых отцах и мучениках. Во Франции постарались снабдить эту девушку всем тем, что могло сделать ее восстановительницей католической церкви в Шотландии.
Мария была разносторонне образована, у нее были такой ребячески наивный образ мыслей, такая кипучая жизнерадостность, такое остроумие, коловшее, но не причинявшее боли, что она быстро освоилась с пестрой придворной жизнью и очаровывала всех и каждого, кто был с ней. Вот эта легкомысленная доброта, с которой Мария рассматривала мир сквозь розовое стекло поэтической мечтательности, и привычка придавать всему романтический вид и были причиной всех несчастий этой красивейшей из женщин, носивших когда-либо корону.
Для того, чтобы царствовать в Шотландии, нужны были холодный и ясный кругозор, знание духа реформации, твердых основ торговли и твердый кулак. Марии же были знакомы лишь монастырь, Платон, оды Ронсара и блестящий рыцарский мир.
Дофин Франциск и Мария находились под постоянным наблюдением Гизов и Екатерины Медичи. Они жили точно в специально созданном для них раю, до которого допускался лишь аромат и блеск придворного мира, но от внешней гнили этого мира они оставались совершенно в стороне. Эта детская идиллия была как раз опаснее всего для их будущего, но в ней заключался строго обдуманный план как Екатерины Медичи, так и Гизов.
Но на этом еще не заканчивались их честолюбивые планы. Смерть короля Карла возвела на испанский престол Филиппа, супруга Марии Английской, и Филипп покинул свою стареющую жену, всю отдавшуюся любовным утехам и пьянству и наконец умершую из-за привязанности к спиртным напиткам. Едва эта весть достигла Франции, как там задумали подстрекнуть Марию Стюарт, согласно своим наследственным правам, провозгласить себя английской королевой и соединить таким образом у себя на голове чертополох Шотландии, английский дрок и французские лилии, опираясь при этом на то, что Елизавета, дочь обезглавленной Анны Болейн, была незаконной дочерью Генриха VIII, а она, Мария Стюарт, как его племянница, являлась законной наследницей английской короны.
Какова же была та монархиня, возбудить неприязнь которой к Марии Стюарт нисколько не задумались при французском дворе? Будучи женщиной с надменным умом, властным характером, чрезвычайной гордостью, огромной энергией, коварством и своенравием, Елизавета долгое время была принуждена отрекаться от своих убеждений из страха перед сестрой, которая изгнала бы ее из Англии, если бы ее не защитил Филипп II Испанский, Находясь под постоянными подозрениями и надзором, Елизавета жила вдали от двора и привыкла к вечной фальши, соединяющейся с надменной и необузданно страстной натурой.
Свадебные торжества не прекратили дипломатических интриг, но только на время прервали их. Миру улыбались солнечные лучи, а между тем уже собирались бури, и те, кто могли прозреть далекое будущее, вместо того чтобы завидовать красавице-супруге дофина, молились за нее.
Генрих II, не довольствуясь тем, что женитьбой своего сына на Марии Стюарт укреплял связь Франции с Шотландией, хотел еще унаследовать престол в этом королевстве в том случае, если Мария умрет бездетной. Таким образом он думал предупредить вступление на престол леди Гамильтон и приковать к Франции страну, которая не хотела сплотиться с Англией. 4 апреля 1558 года за две недели перед тем, как Мария Стюарт приняла условия, поставленные ей депутатами от имени шотландского парламента, она подписала в Фонтенбло два тайных акта, весьма важных и опасных. Первый из них просто-напросто дарил Шотландию Франции; второй же был подписан на случай неисполнения первого и содержал в себе передачу французским королям наследных прав Марии Стюарт на английский и ирландский престолы. Она подписала тайный протест против торжественных обещаний, данных в присутствии шотландских депутатов, и объявила их утратившими силу.
Шотландские депутаты не подозревали о подлоге. Они возвратились в Эдинбург, и парламент дал согласие на получение дофином шотландской короны, приобретаемой им через брак с Марией Стюарт; с того же дня все государственные акты Шотландии должны были подписываться как Марией Стюарт, так равно и дофином. Мать Марии Стюарт, Мария Лотарингская, получила протекторат над Шотландией при условии, что она снова введет там католичество, и это условие Гизов, равно как влияние Франции, заранее настраивало гордое шотландское дворянство против королевы.
В Париже могли добиться всего от Марии Стюарт — для этого достаточно было призвать на помощь религию. Учение католической церкви глубоко запало в нежную душу Марии, бредившей миром чудес и идеалов, внушаемых ей бесчисленными легендами и сказаниями о святых отцах и мучениках. Во Франции постарались снабдить эту девушку всем тем, что могло сделать ее восстановительницей католической церкви в Шотландии.
Мария была разносторонне образована, у нее были такой ребячески наивный образ мыслей, такая кипучая жизнерадостность, такое остроумие, коловшее, но не причинявшее боли, что она быстро освоилась с пестрой придворной жизнью и очаровывала всех и каждого, кто был с ней. Вот эта легкомысленная доброта, с которой Мария рассматривала мир сквозь розовое стекло поэтической мечтательности, и привычка придавать всему романтический вид и были причиной всех несчастий этой красивейшей из женщин, носивших когда-либо корону.
Для того, чтобы царствовать в Шотландии, нужны были холодный и ясный кругозор, знание духа реформации, твердых основ торговли и твердый кулак. Марии же были знакомы лишь монастырь, Платон, оды Ронсара и блестящий рыцарский мир.
Дофин Франциск и Мария находились под постоянным наблюдением Гизов и Екатерины Медичи. Они жили точно в специально созданном для них раю, до которого допускался лишь аромат и блеск придворного мира, но от внешней гнили этого мира они оставались совершенно в стороне. Эта детская идиллия была как раз опаснее всего для их будущего, но в ней заключался строго обдуманный план как Екатерины Медичи, так и Гизов.
Но на этом еще не заканчивались их честолюбивые планы. Смерть короля Карла возвела на испанский престол Филиппа, супруга Марии Английской, и Филипп покинул свою стареющую жену, всю отдавшуюся любовным утехам и пьянству и наконец умершую из-за привязанности к спиртным напиткам. Едва эта весть достигла Франции, как там задумали подстрекнуть Марию Стюарт, согласно своим наследственным правам, провозгласить себя английской королевой и соединить таким образом у себя на голове чертополох Шотландии, английский дрок и французские лилии, опираясь при этом на то, что Елизавета, дочь обезглавленной Анны Болейн, была незаконной дочерью Генриха VIII, а она, Мария Стюарт, как его племянница, являлась законной наследницей английской короны.
Какова же была та монархиня, возбудить неприязнь которой к Марии Стюарт нисколько не задумались при французском дворе? Будучи женщиной с надменным умом, властным характером, чрезвычайной гордостью, огромной энергией, коварством и своенравием, Елизавета долгое время была принуждена отрекаться от своих убеждений из страха перед сестрой, которая изгнала бы ее из Англии, если бы ее не защитил Филипп II Испанский, Находясь под постоянными подозрениями и надзором, Елизавета жила вдали от двора и привыкла к вечной фальши, соединяющейся с надменной и необузданно страстной натурой.
II
Вдовый король испанский Филипп II просил руки дочери Екатерины Елизаветы Валуа, что должно было укрепить могущество Гизов. Екатерина решила пожертвовать своим ребенком ради выгодного союза с Испанией! Какое дело ей было до того, что Елизавета уже ранее была помолвлена с испанским инфантом дон Карлосом, сыном Филиппа II! Раз дело касалось создания новой опоры католицизма, Екатерина не задавалась вопросом, не разобьет ли она сердце девочки.
Прибыл герцог Инфантадо, чтобы принять невесту. Красавица Елизавета имела грустный вид. Ей много рассказывали о строгости и суровости короля Филиппа II, о его человеконенавистничестве и ледяной холодности и о пылком темпераменте его сына. Шли блестящие приготовления к торжественному празднованию помолвки, но казалось, что печальное предчувствие охватило всех, кто собирался на устроенный по случаю этого торжества турнир, где рыцарям предстояло преломить копье в честь дам своего сердца. Для зрителей были возведены особые трибуны, и еще никогда обитые пурпуром скамьи не служили для более гордого и прекрасного цветника дам, чем в тот день, когда в качестве рыцарей выступили на борьбу могучие партии Гизов и Монморанси.
Король появился в цветах Дианы Пуатье. Черный с серебром шарф означал, что Генрих и в оковах любви носит цвета повелительницы своего сердца. Гневный румянец залил лицо Екатерины, когда сиявшая бриллиантами фаворитка с торжествующей улыбкой послала воздушный поцелуй королю. Монарха окружили Монморанси, приверженцы Дианы, рыцари, считавшие своим священным долгом сражаться в честь своей дамы со всяким, кто осмелится задеть ее. Цвета старого Клавдия Гиза были ярко-красными, на короле Намюрском были желтые и черные, Франциск Ошаль был в светло-голубом, Дэдлей и Сэррей появились в цветах Марии Стюарт. Проезжая в сопровождении Филли мимо Екатерины Медичи, Дэдлей довольно высокомерно поклонился ей; королева бросила в ответ сердитый и насмешливый взгляд. Боскозель Кастеляр был не только в цветах Марии Стюарт, но имел на щите шотландский чертополох. За иностранцами следовал рыцарь в черном вооружении с опущенным забралом. На нем не было никаких боевых отличий. Все время первых состязаний, заключавшихся в пронизывании цветочных венков, он держался в стороне.
Король и его товарищи устояли против всех нападений, одному лишь Кастеляру удалось добыть венок в честь Марии Стюарт, и губы Екатерины уже сложились в саркастическую улыбку, когда на вызовы глашатая вдруг откликнулся черный рыцарь.
Рыцарь сообщил через своего герольда, что готов сразиться со всеми, кроме короля. Началось сражение на тупых копьях и так как победа здесь зависела от ловкости и силы рыцаря, то она могла считаться важнее и выше, чем победа в состязании с венками. Страсти уже разгорелись, и после того как рыцарь выбил из седла целый ряд противников одного за другим, сам король вызвал его на бой.
Черный рыцарь настаивал на своем отказе биться с королем и, когда король нетерпеливо потребовал объяснить ему причину, рыцарь поднял забрало и показал свое лицо.
— Монгомери! — пробормотал король. В этот миг его взор упал на Диану, и он увидел на ее лице насмешливую улыбку: ведь, если бы он не победил Габриэля, последний вышел бы с первым призом из состязаний. — Я приказываю вам сразиться со мной! — крикнул он. — Или вас, как труса, с позором выгонят с арены.
— Ваше величество, — хладнокровно возразил Монгомери, — я робею не перед человеком, а перед королевской короной.
— Ха-ха-ха, — рассмеялся король, — это — только отговорка, я сумею защитить корону, вы боитесь меня!
— Вы слышите, король приказывает! — мрачно крикнул Монгомери и опустил забрало.
— Не деритесь с ним! — шепнул королю герцог Феррера. Диана послала Генриху своего пажа с той же просьбой — странное беспокойство короля озаботило и ее, — но это уже было слишком поздно.
Оба противника опустили копья и с такой силой налетели друг на друга, что копьища обоих разбились в щепы. Густое облако пыли скрыло их от глаз зрителей, и вдруг из него раздался страшный крик.
Осколок копья Монгомери пробил железную чешую на шлеме короля и через глаз проник в мозжечок Генриха.
— Король умирает! — раздался крик ужаса.
Судьи подскакали к Генриху, ни никто из них не посмел коснуться короля, тогда он собственноручно вырвал осколок. Кровь брызнула фонтаном из открытой раны.
— Не обвиняйте Монгомери, — простонал король, — он не виноват… я сам принудил его к бою.
Монгомери оставил арену, не выразив ни слова сожаления, не высказав сочувствия. Слепая судьба отомстила его рукой за смерть Клары. Он был неповинен в смерти короля.
— Арестуйте графа с его друзьями, лордами Дэдлеем и Сэрреем, и пажом, — приказала Екатерина, после того как короля унесли.
Кровью Генриха была смочена фата Елизаветы. Принцессу отвезли в Гваделаяру, где ее принял Филипп II.
Дон Карлос с восторгом и болью смотрел на нее. Эго была красавица-невеста, отобранная у него его же собственным отцом. С этого дня он впал в меланхолию. Дикая страсть и дикая ненависть терзали его грудь. А Елизавета с юным любопытством смотрела на своего господина и повелителя, которому предстояло стать всем для нее, и это так бросалось в глаза, что Филипп в конце концов спросил, что она рассматривает, не его ли седые волосы. Цветущая жертва была отправлена в Эскуриал на увядание. Жгли еретиков, чтобы придать больше пышности свадебным торжествам. Тридцать женщин прислуживали Елизавете за столом. Ее превратили в золотую куклу с умирающим сердцем.
Дон Карлос намеревался бежать, но король удержал его; бездеятельность, на которую он был осужден, и преступная любовь, которую он не мог побороть, свели его с ума.
Филипп отобрал у него оружие и приказал обходиться с ним как с арестованным. Тщетно со слезами молила за него Елизавета; Филипп холодно отвечал, что ради благосостояния церкви и государства он жертвует своей собственной плотью и кровью. Дон Карлос сделал попытку удавиться, но неудачно. Он подвергал себя холодному сквозному ветру, наполнял свою постель льдом, разливал по комнате воду и целыми часами голый с босыми ногами бродил по холодным каменным плитам. Но и все это не действовало. Дон Карлос хотел уморить себя голодом и в продолжение одиннадцати дней не принимал пищи. Когда же ему стали силой вводить пищу, он объедался, желая умереть. И наконец смерть пришла и освободила его от земных страданий.
Никто, кроме Елизаветы Валуа, его мачехи, не оплакивал его. Через три месяца и она умерла, убитая ледяной холодностью Филиппа, замогильным дыханием Эскуриала и запахом тления жертв инквизиции.
III
Мария Стюарт оплакивала короля, которого любила как родного отца, и так как до сих пор она была так же покорна, как и дофин, то Екатерина Медичи решила бесцеремонно захватить в свои руки всю власть. Диана Валентинуа была удалена, и королева приказала начать процесс против арестованного графа Монгомери, но вдруг встретила сопротивление, которого не ожидала. Герцоги Гизы, до сих пор искавшие поддержки у Екатерины против Монморанси, теперь, увидев, что Монморанси близки к падению, решили оставить партию Екатерины, поняв, что если королева захватит в свои руки бразды правления, уже никогда не выпустит их. Когда Вальтер Брай сообщил герцогу, что арестовали его друзей, Гиз сказал об этом королеве Марии Стюарт.
Та, помня об услугах, оказанных ей Дэдлеем и Сэрреем, равно как и обещания, которые она дала Монгомери, добилась того, что Франциск II (так звали ее супруга по вступлении на престал) отдал приказ освободить арестованных.
Это был первый королевский приказ, отданный Франциском, и он противоречил повелению Екатерины. Королева-мать (так звали Екатерину) не хотела верить своим ушам, что мальчик Франциск, ее сын, осмелился на такую дерзость. Она с гневным видом и без доклада направилась в покои короля. Как раз в это время герцог Гиз сообщал королевской чете, что королева-мать отобрала у офицера лейб-гвардии приказ об освобождении арестованных Дэдлея и Сэррея.
Мария Стюарт сидела на диване возле своего супруга и ласково гладила его руку; герцог откинулся в кресле. Этот момент был решающим для политики Франциска II, для всего его царствования.
— Королева Екатерина намерена захватить в свои руки правление, — сказал герцог, — она начинает с мелочей, но если уступить ей, то мало-помалу заберет в свои руки всю власть.
— Ведь ты не допустишь этого, Франциск? — ласково шепнула Мария. — Дядя Гиз прав — твоя мать считает нас детьми.
В этот момент и вошла королева Екатерина.
— А, здесь, кажется, происходит государственное совещание? Я помешала? — с иронической улыбкой спросила она.
— Нет, мама, — ответил Франциск, — но я спрашиваю дядю Гиза о том, как следует поступить умному королю в том случае, если кто-нибудь оскорбит его корону, но занимает слишком высокое положение для того, чтобы король мог привлечь его к ответственности.
— Какой же совет дал тебе герцог Гиз? — спросила Екатерина.
— Я посоветовал его величеству предоставить вам наказание государственного изменника.
— О ком идет речь? — спросила Екатерина, сильно пораженная ответом герцога Гиза.
— О том, кто мешает исполнению королевского приказания.
— А-а-а! Теперь я понимаю! — воскликнула Екатерина, краснея от гнева. — Герцог называет государственной изменой то, что я удерживаю короля от непростительной глупости?
— Ваше величество, — воскликнула Мария Стюарт, — вы говорите с королем! Если он хочет делать глупости, то он имеет право на это. Во всяком случае лучше допустить глупость, чем несправедливость.
— Вы слишком молоды для того, чтобы уже выражать свои мнения, — строго заметила Екатерина.
— Милый Франциск, скажи ей, что мы уже покончили с обсуждением этого, — шепнула Мария Стюарт.
— Да, конечно — пробормотал Франциск, ободренный и взглядом Гиза, — мы уже покончили с этим, так как я отдал приказ освободить арестованных.
— А я протестую! — воскликнула Екатерина. — Я не потерплю, чтобы убийца моего мужа остался безнаказанным, если сын не мстит за смерть отца под влиянием хорошенькой рожицы, интересующейся юным рыцарем.
— Интересующейся, да не так сильно, как некоторые стареющие дамы, которые тщетно стараются возбудить его интерес к себе — парировала Мария Стюарт.
Во взоре, которым Екатерина ответила на эту шпильку, блеснула смертельная ненависть, но Мария Стюарт рассмеялась, так как Франциск сказал матери:
— Вы хотите мстить не за отца, а за себя. Ведь отец приказал не преследовать Монгомери.
— Он приказал так под влиянием последней минуты. Так как я отдала приказ арестовать Монгомери и его друзей, то для меня будет оскорблением, если они не предстанут перед судом, и мне придется освободить от моих советов и дружбы правительство, которое начинает с того, что выставляет меня в смешном свете.
— В таком случае мы обойдемся без этих советов, — шепнула Мария Стюарт.
— Да, мы обойдемся без них, — повторил ее слова Франциск.
— Тогда мне нечего говорить и остается лишь просить Бога о том, чтобы вам не пришлось раскаяться в своих словах, — грозно крикнула Екатерина и оставила королевские покои с бешенной яростью в сердце и с проклятием на устах.
Арестованные были освобождены, и Мария Стюарт радостно принимала выражение их благодарности. А посрамленная королева-мать написала герцогу Бурбону-Кондэ, что она поддержит восстание, целью которого будет падение Гизов, и этим самым возбудила борьбу, закончившуюся кровавой Варфоломеевской ночью.

Глава восемнадцатая
СИРЕНА

I
 К многочисленным средствам, которыми пользовалась Екатерина, чтобы приобрести влияние, принадлежал также ее цветник дам, научившихся у нее всем тайнам кокетства и представляющих собой истинный союз, целью которого было увлекать пылких придворных кавалеров и взамен дарованных им чувственных наслаждений получать от них содействие интересам королевы-матери или по крайней мере выманивать вверяемые им тайны. Утонченные оргии этого круга дам действительно привлекали в их союз множество властолюбцев-мужчин.
У Дэдлея еще до его ареста начались нежные отношения с одной из дам этого цветника, но он, конечно, и не подозревал, что красавица герцогиня Фаншон Анжели (так звали ее) обладает такой корыстью в радостях любви. Красивые глаза герцогини совершенно очаровали Дэдлея, но она отлично умела сдерживать в рамках дерзкую смелость своего страстного обожателя, так что сладостная цель ему казалась то совсем близкой, то снова далекой, в зависимости от того, каким хотелось ей видеть его: печальным или веселым. Дэдлей думал, что Фаншон борется с стыдливой добродетелью, а она в это время покоилась в объятиях какого-нибудь из многочисленных своих поклонников и смеялась над красавцем англичанином, занимающимся платоническим обожанием. Чем пламеннее становилась страсть Дэдлея, тем больше прелести находила герцогиня в том, чтобы заставлять его томиться.
Вот Екатерина и потребовала от Фаншон, чтобы Дэдлей разъяснил события той ночи, когда была убита Клара, но прелестной герцогине все никак не удавалось приподнять покров над этой тайной, так как Дэдлей, несмотря на ее просьбы и уловки, тотчас же обрывал разговор, как только он касался этой темы.
Арест Дэдлея также не помог Екатерине. Его еще не успели допросить, как был получен приказ об освобождении. Таким образом, оставалось лишь снова предоставить Фаншон добиться желаемых результатов.
Дэдлей, оставив Бастилию и едва успев пожать руки своим друзьям, немедленно отправился в особняк герцогини. Его не приняли, но он тут же получил записку, в которой герцогиня приглашала его в тот же вечер к десяти часам в один маленький домик Сен-Жерменского предместья, где обещала встретить его. В той же записке были точно описаны и приметы домика. Дэдлей подумал, что, может быть, его заключение и страх за его жизнь тронули сердце Фаншон, и, упиваясь надеждой, уже видел себя в роскошном будуаре наедине с герцогиней.
Сэррей и Брай видели, что он счастлив, но, так как он сам ничего не говорил, то они не утруждали его расспросами. Только Филли, казалось, сильно беспокоилась, и это так бросалось в глаза, что Сэррей заподозрил опасность, которая была известна Филли, но о которой умалчивал его друг Дэдлей.
С того дня, как Сэррей угадал пол Филли, он избегал оставаться наедине с ней, и это было тем легче для него, что Филли стремилась к тому же. Поэтому Сэррей был крайне поражен, когда дверь его комнаты вдруг отворилась и на пороге показалась Филли, робкая и смущенная. Застенчивость придавала особую очаровательность Филли. Сэррей не видел фигуры, не видел цвета лица, он видел лишь глаза, и его охватывали неописуемое страстное чувство и жажда обнять это существо.
— Что тебе, Филли? — спросил Сэррей. — Ты сегодня весь день неспокойна и словно чего-то боишься. Разве нам грозит опасность?
— Да, грозит, но не нам всем, а только сэру Дэдлею, милорд! — ответил паж. — Ради Бога, не давайте ему сегодня выходить одному. Ему назначили свиданье.
— Что же, ты в союзе с дьяволом или шпионишь за нами? — недовольно спросил Сэррей. — Разве ты не знаешь, что Дэдлей никогда не простит тебе, если увидит, что ты стараешься проникнуть в его тайны?
— Пусть он возненавидит меня, милорд, пусть побьет, если ему будет угодно. Я охотно вытерплю, лишь бы предостеречь его. Ведь дама, которую он любит, обманывает его.
— Откуда ты знаешь, что она обманывает его? Да и что опасного в этом?
— Милорд, сэр будет больно уязвлен, когда узнает, что дама, которую он любит, насмехается над ним в объятиях других. Неужели ваш друг так мало значит для вас, что вы не хотите помешать ему выставить себя на посмешище?
— Филли, — возразил Сэррей, — если бы мой слуга рассуждал таким образом, я приказал бы ему молчать. Чего ты боишься? Забота о том, что Дэдлея обманут, не может заставить тебя так трепетать за него. Тебе известно нечто большее?
— Милорд, — прошептала Филли, — эта дама — наперсница королевы Екатерины.
— Что же, разве это портит ее красоту?
— Она замужем. Ее муж может убить сэра Дэдлея…
— Филли, — перебил пажа Сэррей, — и у Дэдлея есть шпага. Будь ты юношей, ты поняла бы, что слишком неловко под предлогом дружбы быть опекуном мужчины.
— Тогда я последую за ним! — сказала Филли.
— Если ревность заставляет тебя делать это, значит у тебя недостало силы воли скрыть в себе ревность…
— Довольно! — вскрикнула Филли и закрыла лицо руками. — О, не говорите о том, о чем я не смею и думать.
— Милая Филли, — улыбнулся Сэррей, — если бы он знал тебя, как знаю я… Сказать ему?..
— Ради Бога… милорд… я лучше брошусь в воду… И вы насмехаетесь над моей жалкой участью…
— Я вовсе не смеюсь, — перебил ее Сэррей и как бы случайно положил руку на шею девушки-пажа.
Он впервые дотронулся таким образом до нее, но Филли не обратила внимания на это. Боль и стыд одолели ее, она не заметила и того, что его рука тихо соскользнула с шеи и слегка надавила нагорб. И Сэррей с радостью почувствовал, что горб фальшивый. Он отдернул руку, словно прикоснулся к раскаленному железу, и едва смог побороть в себе жгучее желание. С трогательной любовью и участием он смотрел на Филли.
Она любила! Как должна была страдать она, когда Дэдлей говорил о красивых женщинах и в то же время не удостаивал ее и взглядом!… А может быть, она была прекраснее, чем те, и во всяком случае достойнее его любви. Теперь была вполне понятна ее самоотверженность: ревность снабдила ее глазами аргуса, когда Екатерина заманивала его, любовь спасла его и их всех, так как без вмешательства Филли они попали бы к Екатерине в подвалы Лувра.
Сэррей не долго колебался. Он решил избавить ее от любви к Дэдлею, даже если бы это разбило ее сердце.
— Филли, — сказал он, — ты любишь Дэдлея. Не отрекайся от этого и не смотри так на меня! Я очень далек от того, чтобы смеяться над тобой и предпочел бы утешить тебя. Но ты не знаешь Дэдлея, его обманчивая внешность ослепила тебя. Я вовсе не хочу унижать его в твоих глазах, но хочу показать его таким, каков он есть. Держу пари, что женщина, перед которой он сегодня преклонялся, завтра, после того, как его тщеславие восторжествует, будет для него уже безразлична. Дэдлей верен в дружбе, но ветренен в любви. Вырви его из сердца. Я сам попрошу Дэдлея взять тебя сегодня с собой.
Филли схватила руку Сэррея и, прежде чем он успел помешать ей, поцеловала ее.
— Я знаю, что вы не желаете мне зла и, откровенно говоря, была бы счастлива последовать вашему совету, — со слезами проговорила она, — но как можно приказать сердцу иначе мыслить и чувствовать, чем оно мыслит и чувствует? Не думайте, что то, что мучает меня — ревность… Чем я могу быть для него?.. Я не могу быть ни железным панцирем, оберегающим его грудь, ни верным псом защищающим его! Но мне приятно видеть его, бодрствовать над ним, доставлять ему радость и создавать уют в жизни… Я… да я сама отвела бы его в будуар герцогини, хотя бы он затем, улыбаясь, сказал мне: «Филли, тебе я благодарен за этот счастливый час». Но сегодня у меня дурное предчувствие, оно не обманывает меня. Предостерегите его, помешайте ему! Заклинаю вас, помогите и, если он рассердится на вас, взвалите вину на меня!…
Сэррей был растроган ее признанием.
— Хорошо, — решил он, — мы тайно последуем за Дэдлеем. Но пусть любовное безумие не заставит тебя сделать более того, что заслуживает Роберт. Ты знаешь адрес?
— Я знаю его, но дама назначила ему свидание не в том доме, где она живет.
— Филли, — послышался со двора голос Дэдлея, — Филли! Куда запропастился этот окаянный мальчишка? Опять каска не блестит.
Филли вздрогнула при этом крике и поспешно выбежала. И Сэррею стало ее искренне жаль.
Как похожа эта девушка на ту, которую он когда-то любил! В последнее время она избегала его, а он — ее. По настоянию Марии, Георга Сэйтона унесли на носилках из гостиницы еще в тот день, когда окончились свадебные торжества дофина, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Быть может, Мария скрыла от него имя его противника или гордый шотландец стыдился поблагодарить англичанина, которого обещал убить.
Насколько благодарнее, великодушнее была бедная Филли! Но кто она? Почему старуха Гуг поручила ребенка именно Вальтеру? А что если Вальтер догадается о ее поле? Или, быть может, Вальтер — отец Филли?
Над этим Сэррей раньше не задумывался, ему было все равно, благородного ли происхождения Филли или простое дитя природы. Сэррею хотелось, чтобы отец Филли был знатного происхождения и она нашла бы надежного покровителя в тот день, когда Вальтер узнает правду и оттолкнет ее. Он, Сэррей, не мог бы усыновить ее. А Дэдлей не замедлил бы сделать ее своей любовницей. Вальтер был единственный человек, который мог бы быть покровителем Филли.
К многочисленным средствам, которыми пользовалась Екатерина, чтобы приобрести влияние, принадлежал также ее цветник дам, научившихся у нее всем тайнам кокетства и представляющих собой истинный союз, целью которого было увлекать пылких придворных кавалеров и взамен дарованных им чувственных наслаждений получать от них содействие интересам королевы-матери или по крайней мере выманивать вверяемые им тайны. Утонченные оргии этого круга дам действительно привлекали в их союз множество властолюбцев-мужчин.
У Дэдлея еще до его ареста начались нежные отношения с одной из дам этого цветника, но он, конечно, и не подозревал, что красавица герцогиня Фаншон Анжели (так звали ее) обладает такой корыстью в радостях любви. Красивые глаза герцогини совершенно очаровали Дэдлея, но она отлично умела сдерживать в рамках дерзкую смелость своего страстного обожателя, так что сладостная цель ему казалась то совсем близкой, то снова далекой, в зависимости от того, каким хотелось ей видеть его: печальным или веселым. Дэдлей думал, что Фаншон борется с стыдливой добродетелью, а она в это время покоилась в объятиях какого-нибудь из многочисленных своих поклонников и смеялась над красавцем англичанином, занимающимся платоническим обожанием. Чем пламеннее становилась страсть Дэдлея, тем больше прелести находила герцогиня в том, чтобы заставлять его томиться.
Вот Екатерина и потребовала от Фаншон, чтобы Дэдлей разъяснил события той ночи, когда была убита Клара, но прелестной герцогине все никак не удавалось приподнять покров над этой тайной, так как Дэдлей, несмотря на ее просьбы и уловки, тотчас же обрывал разговор, как только он касался этой темы.
Арест Дэдлея также не помог Екатерине. Его еще не успели допросить, как был получен приказ об освобождении. Таким образом, оставалось лишь снова предоставить Фаншон добиться желаемых результатов.
Дэдлей, оставив Бастилию и едва успев пожать руки своим друзьям, немедленно отправился в особняк герцогини. Его не приняли, но он тут же получил записку, в которой герцогиня приглашала его в тот же вечер к десяти часам в один маленький домик Сен-Жерменского предместья, где обещала встретить его. В той же записке были точно описаны и приметы домика. Дэдлей подумал, что, может быть, его заключение и страх за его жизнь тронули сердце Фаншон, и, упиваясь надеждой, уже видел себя в роскошном будуаре наедине с герцогиней.
Сэррей и Брай видели, что он счастлив, но, так как он сам ничего не говорил, то они не утруждали его расспросами. Только Филли, казалось, сильно беспокоилась, и это так бросалось в глаза, что Сэррей заподозрил опасность, которая была известна Филли, но о которой умалчивал его друг Дэдлей.
С того дня, как Сэррей угадал пол Филли, он избегал оставаться наедине с ней, и это было тем легче для него, что Филли стремилась к тому же. Поэтому Сэррей был крайне поражен, когда дверь его комнаты вдруг отворилась и на пороге показалась Филли, робкая и смущенная. Застенчивость придавала особую очаровательность Филли. Сэррей не видел фигуры, не видел цвета лица, он видел лишь глаза, и его охватывали неописуемое страстное чувство и жажда обнять это существо.
— Что тебе, Филли? — спросил Сэррей. — Ты сегодня весь день неспокойна и словно чего-то боишься. Разве нам грозит опасность?
— Да, грозит, но не нам всем, а только сэру Дэдлею, милорд! — ответил паж. — Ради Бога, не давайте ему сегодня выходить одному. Ему назначили свиданье.
— Что же, ты в союзе с дьяволом или шпионишь за нами? — недовольно спросил Сэррей. — Разве ты не знаешь, что Дэдлей никогда не простит тебе, если увидит, что ты стараешься проникнуть в его тайны?
— Пусть он возненавидит меня, милорд, пусть побьет, если ему будет угодно. Я охотно вытерплю, лишь бы предостеречь его. Ведь дама, которую он любит, обманывает его.
— Откуда ты знаешь, что она обманывает его? Да и что опасного в этом?
— Милорд, сэр будет больно уязвлен, когда узнает, что дама, которую он любит, насмехается над ним в объятиях других. Неужели ваш друг так мало значит для вас, что вы не хотите помешать ему выставить себя на посмешище?
— Филли, — возразил Сэррей, — если бы мой слуга рассуждал таким образом, я приказал бы ему молчать. Чего ты боишься? Забота о том, что Дэдлея обманут, не может заставить тебя так трепетать за него. Тебе известно нечто большее?
— Милорд, — прошептала Филли, — эта дама — наперсница королевы Екатерины.
— Что же, разве это портит ее красоту?
— Она замужем. Ее муж может убить сэра Дэдлея…
— Филли, — перебил пажа Сэррей, — и у Дэдлея есть шпага. Будь ты юношей, ты поняла бы, что слишком неловко под предлогом дружбы быть опекуном мужчины.
— Тогда я последую за ним! — сказала Филли.
— Если ревность заставляет тебя делать это, значит у тебя недостало силы воли скрыть в себе ревность…
— Довольно! — вскрикнула Филли и закрыла лицо руками. — О, не говорите о том, о чем я не смею и думать.
— Милая Филли, — улыбнулся Сэррей, — если бы он знал тебя, как знаю я… Сказать ему?..
— Ради Бога… милорд… я лучше брошусь в воду… И вы насмехаетесь над моей жалкой участью…
— Я вовсе не смеюсь, — перебил ее Сэррей и как бы случайно положил руку на шею девушки-пажа.
Он впервые дотронулся таким образом до нее, но Филли не обратила внимания на это. Боль и стыд одолели ее, она не заметила и того, что его рука тихо соскользнула с шеи и слегка надавила нагорб. И Сэррей с радостью почувствовал, что горб фальшивый. Он отдернул руку, словно прикоснулся к раскаленному железу, и едва смог побороть в себе жгучее желание. С трогательной любовью и участием он смотрел на Филли.
Она любила! Как должна была страдать она, когда Дэдлей говорил о красивых женщинах и в то же время не удостаивал ее и взглядом!… А может быть, она была прекраснее, чем те, и во всяком случае достойнее его любви. Теперь была вполне понятна ее самоотверженность: ревность снабдила ее глазами аргуса, когда Екатерина заманивала его, любовь спасла его и их всех, так как без вмешательства Филли они попали бы к Екатерине в подвалы Лувра.
Сэррей не долго колебался. Он решил избавить ее от любви к Дэдлею, даже если бы это разбило ее сердце.
— Филли, — сказал он, — ты любишь Дэдлея. Не отрекайся от этого и не смотри так на меня! Я очень далек от того, чтобы смеяться над тобой и предпочел бы утешить тебя. Но ты не знаешь Дэдлея, его обманчивая внешность ослепила тебя. Я вовсе не хочу унижать его в твоих глазах, но хочу показать его таким, каков он есть. Держу пари, что женщина, перед которой он сегодня преклонялся, завтра, после того, как его тщеславие восторжествует, будет для него уже безразлична. Дэдлей верен в дружбе, но ветренен в любви. Вырви его из сердца. Я сам попрошу Дэдлея взять тебя сегодня с собой.
Филли схватила руку Сэррея и, прежде чем он успел помешать ей, поцеловала ее.
— Я знаю, что вы не желаете мне зла и, откровенно говоря, была бы счастлива последовать вашему совету, — со слезами проговорила она, — но как можно приказать сердцу иначе мыслить и чувствовать, чем оно мыслит и чувствует? Не думайте, что то, что мучает меня — ревность… Чем я могу быть для него?.. Я не могу быть ни железным панцирем, оберегающим его грудь, ни верным псом защищающим его! Но мне приятно видеть его, бодрствовать над ним, доставлять ему радость и создавать уют в жизни… Я… да я сама отвела бы его в будуар герцогини, хотя бы он затем, улыбаясь, сказал мне: «Филли, тебе я благодарен за этот счастливый час». Но сегодня у меня дурное предчувствие, оно не обманывает меня. Предостерегите его, помешайте ему! Заклинаю вас, помогите и, если он рассердится на вас, взвалите вину на меня!…
Сэррей был растроган ее признанием.
— Хорошо, — решил он, — мы тайно последуем за Дэдлеем. Но пусть любовное безумие не заставит тебя сделать более того, что заслуживает Роберт. Ты знаешь адрес?
— Я знаю его, но дама назначила ему свидание не в том доме, где она живет.
— Филли, — послышался со двора голос Дэдлея, — Филли! Куда запропастился этот окаянный мальчишка? Опять каска не блестит.
Филли вздрогнула при этом крике и поспешно выбежала. И Сэррею стало ее искренне жаль.
Как похожа эта девушка на ту, которую он когда-то любил! В последнее время она избегала его, а он — ее. По настоянию Марии, Георга Сэйтона унесли на носилках из гостиницы еще в тот день, когда окончились свадебные торжества дофина, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Быть может, Мария скрыла от него имя его противника или гордый шотландец стыдился поблагодарить англичанина, которого обещал убить.
Насколько благодарнее, великодушнее была бедная Филли! Но кто она? Почему старуха Гуг поручила ребенка именно Вальтеру? А что если Вальтер догадается о ее поле? Или, быть может, Вальтер — отец Филли?
Над этим Сэррей раньше не задумывался, ему было все равно, благородного ли происхождения Филли или простое дитя природы. Сэррею хотелось, чтобы отец Филли был знатного происхождения и она нашла бы надежного покровителя в тот день, когда Вальтер узнает правду и оттолкнет ее. Он, Сэррей, не мог бы усыновить ее. А Дэдлей не замедлил бы сделать ее своей любовницей. Вальтер был единственный человек, который мог бы быть покровителем Филли.
II
Между тем Дэдлей отправился на свое свидание с Фаншон. Домик стоял в саду, скрытый деревьями. Днем ставни были закрыты. Лишь к вечеру помещение проветривалось и отапливалось. Прихожие были застланы коврами, комнаты освещены, портьеры плотно закрыты. Старая женщина суетилась, приводя в порядок маленький, укромный храм Венеры. В камине весело трещал огонь, благоухание распространялось в воздухе. На стенах, обитых великолепными обоями, висели соблазнительные картины, на которых были изображены купающиеся нимфы, влюбленные пастушки. В серебряных канделябрах горели благовонные свечи; на столе перед диваном в хрустальных графинах искрилось вино, всевозможные сладости манили полакомиться в этом уютном уголке. В соседней комнате с зеркальными стенами стояла кровать с шелковыми подушками и тяжелыми камчевыми занавесами, красный фонарь освещал комнату таинственным магическим светом. Третья комната представляла собой помещение для купания, устроенное с роскошью и комфортом, какие только может создать фантазия. Из этой комнаты был выход в сад, обнесенный высокой изгородью и представлявший собой сплошную беседку из цветов и благоухающих кустарников, в которую никто не мог заглянуть, кроме луны.
Вторая половина домика и верхний этаж были устроены так же пышно. Во втором этаже был танцевальный зал с мягкими креслами по стенам. На этот раз зал не был освещен.
Подъехала карета, послышались торопливые шаги у входа, а затем по лестнице. За ней подъехала вторая, третья. Вскоре комнаты верхнего этажа наполнились посетителями, но то были не влюбленные парочки, уединяющиеся по комнатам, то было общество, состоящее из двух дам и двенадцати мужчин.
Дамы шептались между собой.
— Я полагаюсь, Фаншон, на твою ловкость, — сказала Екатерина Медичи, — в случае нужды ты позвонишь, но я надеюсь, что тебе удастся выведать то, что нам нужно знать, и тогда я прощу ему и представлю этого дурака в твое полное распоряжение, пока ты не насытишься им и сама не попросишь, чтобы я взыскала с него старый долг.
— Этого никогда не будет, если я одержу победу, — улыбнулась Фаншон, — победить же я могу лишь в том случае, если он действительно любит меня.
Екатерина пожала плечами и отошла к кавалерам, которые были все вооружены и держали в руках маски, снятые при входе в комнату.
Фаншон спустилась в будуар нижнего этажа и приказала старухе проводить к ней господина, который придет позже, а его спутников не впускать в дом.
Дэдлей не заставил себя долго ждать. Он прибыл в предместье еще ранее условленного времени, и не успели пробить часы, как постучался в маленькие ворота. Старуха открыла ему и тотчас же заперла за ним двери.
— Тише, — сказала она, — там, наверху, все спят.
Дэдлей не обратил внимания на ее слова, сгорая от нетерпения, он с бьющимся сердцем отворил дверь, ведущую в будуар.
Фаншон, сбросив плащ, возлежала на диване. На ней было светло-голубое шелковое платье с четырехугольным вырезом, дававшим возможность видеть сквозь белый газ красоту ее груди. Белокурые локоны обвивали ее чудную голову, темные глаза выражали кокетливое желание. На руках были золотые браслеты, а на пальцах сверкали бриллианты. Она качала маленькой ножкой в розовом шелковом чулке и белой атласной туфле. Вся эта картина представляла собой сочетание соблазнительной красоты и пламенного вожделения.
Графиня улыбнулась Дэдлею, когда он бросился к ее ногам и заключил в свои пламенные объятия; ее глаза блеснули торжествующе, душа уже наслаждалась обещанной наградой: Екатерина обещала подарить ей любовь Дэдлея и дала слово отказаться от мести, в которой поклялась ему. Когда королева приказала арестовать его, Фаншон молила ее и плакала, но Екатерина глубоко уязвила ее сердце, иронически заметив:
— Мне кажется, Фаншон, ты воображаешь, что влюблена?
Действительно, разве может зародиться чувство чистой любви у женщины, которая участвовала в оргиях Екатерины? Ведь первым условием для членов этого союза было убить голос своего сердца для того, чтобы расточать свою благосклонность, как требовала того Екатерина. И сердце Фаншон вдруг воспылало чистой любовью, она боялась, чтобы чье-нибудь завистливое, насмешливое слово не разъяснило Дэдлею, как дешево стоит любовь, которой он домогается!
Но Фаншон понимала, что королева обещала ей Дэдлея при том условии, если она выманит у него тайну и выдаст ее. И она решила приступить к делу.
— Роберт, — прошептала Фаншон, — я так дрожала за тебя. Екатерина непримирима. Чем ты так раздразнил ее против себя?
— Как ты хороша! — улыбнулся Дэдлей и поцеловал ее нежную ручку.
— Ответь мне, Роберт, Я не могу быть спокойна, пока не узнаю, что ты вне опасности. Расскажи, что произошло между тобой и королевой, быть может, я найду средство помочь тебе.
— Не заботься о том, что далеко. Как могу я говорить о других, когда вижу тебя? Я забываю все только перед одной опасностью — сойти с ума от счастья и блаженства.
— Ты думаешь только о себе и не замечаешь моего беспокойства, — упрекнула его Фаншон. — Ты легкомысленно шутишь, в то время как для тебя, быть может, готовятся яд и кинжал. Ты не можешь или не хочешь успокоить меня? Я целую тебя, вся дрожа от страха, а это мучительная пытка!
— Фаншон, ты преувеличиваешь. Королева сердита на меня за то, что я воспрепятствовал одной ее интриге, вот и все.
— Этого достаточно, чтобы навлечь на себя смертный приговор. В чем дело?
— Это — тайна!
— Как? Тайна! — воскликнула красавица. — Разве от женщины, вверяющей тебе свою честь, могут быть тайны?
— Милая Фаншон, эта тайна касается не меня, а других, — нетерпеливо возразил Дэдлей. — Неужели ты назначила мне свидание для того, чтобы говорить о Екатерине или удовлетворить свое любопытство? Драгоценное время летит.
— Ты прав, — улыбнулась Фаншон и бросилась в его объятия, — время уходит. Целуй меня, Роберт, и будем веселы и беззаботны.
Она обвила его своими мягкими руками и привлекла к пылающей груди. Но, как только почувствовала, что его досада прошла и он горит страстью, она внезапно откинулась и воскликнула:
— Нет, нет, я не хочу осушать кубок счастья до дна. Желать приятнее, чем быть удовлетворенной! Оставь меня, Роберт, и приходи завтра!
— Оставить тебя? Если бы мне грозила даже смерть за промедленный час, так и то я наслаждался бы этим часом.
— Как ты хорош. Твое желание безумно, лихорадочно, и одно мое слово могло бы дать тебе верх блаженства.
— О, скажи это слово!
— Нет, Роберт, я экономна в расходовании счастья. Пока ты стремишься к обладанию мной, пламя страсти горит все сильнее и сильнее, но, когда я буду побеждена, пламя утихнет и я стану нищей. Мне придется бояться, как бы тебя не похитили у меня, я буду вымаливать твою улыбку. Нет, Роберт, я не поступлю как тот глупец, что зарезал курицу, несшую ему золотые яйца!
— Ты хочешь свести меня с ума? Ты — воплощенный дьявол!
— Я только осторожна, как и ты. Если бы ты вполне доверял мне, если бы я видела, что ты действительно любишь меня, я сказала бы: «Будь моим, а я буду твоей!» Но я хочу доверия за мое доверие.
— Ах, вот что! — усмехнулся Дэдлей и выпустил ее из своих объятий. — Разве ты хочешь свою любовь продать за мое бесчестие? Я тогда бы утратил доверие к тебе.
— Ну что же, — кокетливо засмеялась Фаншон, — попробуй. Садись напротив меня и будем ужинать. Попробуем возненавидеть друг друга. Соблазнительная игра — перейти от любви к ненависти. Посмотрим, чья возьмет.
— Фаншон, ты надеешься победить? Но, клянусь Богом, эта игра опасна. Если я увижу, что любовь дается мне в награду за бесчестие, то возможно, что кровь во мне остынет и любовь заменится презрением.
— Презрением? За то, что я за свою честь потребовала твою, за то, что я потребовала бы наибольшей жертвы за наивысшее проявление любви? Это — эгоизм, а не любовь. Если ты так думаешь, то я должна считать, что ты домогаешься моей благосклонности лишь для минутного наслаждения, чтобы потом забыть меня. Нет, кому я отдаюсь, тот должен принадлежать мне душой и телом.
— Ты — очаровательная глупышка, Фаншон! Моя тайна не может иметь для тебя никакого значения.
— Я полагаю, что это — довольно неинтересная тайна, но так как ты упорен, то я настаиваю.
— Фаншон, твой каприз портит наш чудный вечер.
— По твоей вине! А я все же торжествую, — усмехнулась она. — Посмотрим, выдержишь ли ты.
— Я уйду на часок, может, у тебя изменится настроение.
— Ты что, трусишь? Не надеешься отстоять свою тайну? Не многого, значит, она стоит. Хорошо! Иди! Но клянусь, что не пожелаю больше видеть тебя, если ты теперь обратишься в бегство.
— А если я останусь?
— Тогда будем бороться, пока не победит кто-либо из нас, — задорно сказала красавица.
— Согласен! Я одержу победу или отчаюсь в том, что ты когда-либо любила меня!
— Глупец! Разве ты не знаешь, что женщина находит наслаждение в том, чтобы раззадорить мужчину? — Фаншон бросилась на шею Дэдлея и покрыла его поцелуями, затем оттолкнула его от себя, наполнила золотой кубок пурпурно-красным вином, пригубила и передала Дэдлею. После этого она бросилась на оттоманку и, улыбаясь, следила за тем, как он пил огненную влагу и взором пожирал ее.
— Я пылаю, — шептала она, — я пылаю!
Дэдлей метнулся к этой сирене, но она ловко ускользнула из его рук и скрылась в спальню.
— Остынь, — сказала она, замыкая дверь на ключ, — освежись фруктами и вином, а я отдохну часок.
— Пощади! — молил он. — Я изнываю!
— В таком случае уступи и сознайся!
— Ты нарушила договор тем, что убежала от меня.
Она отодвинула задвижку и шепнула:
— Тут моя спальня, и в ней я хотела помечтать о счастье. Взгляни, какой магический свет! Посмотри, — потянула она его к себе за руку, — мой пылкий Адонис, на эту душистую купальню. Древние греки умели наслаждаться жизнью и научили нас этому. Из купальни они выходили на воздух в теплую ночь. Посмотри на эту беседку, — прошептала Фаншон, увлекая Дэдлея в сад, — здесь можно предаваться блаженству.
Дэдлей был ошеломлен, отуманен страстью. Его мозг пылал, пульс бился как в лихорадке. Он бросился к ее ногам и прошептал:
— Фаншон, ты победила. Возьми мою честь, мою жизнь… — Ты — дьявол-искуситель!
— Ты откроешься мне? — улыбнулась красавица и привлекла его к себе на софу. — Ложись у моих ног, голову положи ко мне на колени и рассказывай, а я за каждое твое слово отплачу тебе поцелуем.
— И кинжалом Екатерины! — прошептал чей-то едва слышный голос.
Влюбленные испуганно вздрогнули.
— Что это такое? — воскликнула Фаншон, вся побледнев, а Дэдлей схватил свой кинжал (шпагу он оставил в будуаре).
— Это говорит совесть Варвиков! — прошептал голос. — Фаншон Сен-Анжели, ты хочешь обмануть, но ты сама обманута. Кинжал убийцы поджидает изменника. Не доверяйся итальянке, Фаншон! Ты — не более как любовница, которая должна выдать Дэдлея. Если ты любишь его, ты должна воспрепятствовать измене.
Никого не было видно, а все же голос раздавался где-то поблизости. Однако возглас Фаншон донесся до второго этажа, и там тихо открылось окно.
Фаншон заметила это.
— Молчи! — прошептала она, хватая Дэдлея за руку, затем громко рассмеялась и сказала весело: — Вернемся в будуар, здесь слишком прохладно для пылкой любви.
Дэдлей чувствовал, как ее рука похолодела и сильно дрожала.
Когда они вошли в будуар, Фаншон упала на оттоманку. Она была бледна как мертвец, и ее глаза остановились, как у безумной.
— А что если Екатерина действительно обманула меня? — пробормотала она, вся дрожа и как бы отыскивая того, кто предупредил ее.
— Ах вот что? — заскрежетал зубами Дэдлей. — Ты — орудие в руках Екатерины? Я почти догадывался об этом. Но, черт возьми, ты слишком хороша, чтобы я оставил тебя. Пусть даже смерть грозит мне, но я хочу испить кубок наслаждения!
Он забаррикадировал дверь, обнажил шпагу и вместе с кинжалом положил ее на стол. Затем схватил и с силой привлек на диван Фаншон, находившуюся в полуобмороке, и прошептал:
— Целуй меня, раньше чем вздумаешь отправить к праотцам!
— Беги, Роберт! — произнесла красавица. — Клянусь Богом, что я хотела спасти тебя, потому что люблю тебя больше жизни!
— И даже больше золота Екатерины? Ты, белокурый дьявол с ангельской улыбкой, умрешь раньше, чем успеешь изменить. И пусть за дверью меня подстерегают все палачи Екатерины, ты все же должна любить меня!

Глава девятнадцатая
ЗАГОВОР В АМБУАЗЕ

I
 Как только Дэдлей вышел из своей квартиры и отправился на свидание с Фаншон, Сэррей последовал за ним, но Вальтер схватил его за руку и спросил:
— С каких пор я утратил ваше доверие, милорд?
— Уверяю вас, — ответил Сэррей — у меня нет никаких тайн.
— А что за тайна есть у вас с нашим пажом? Поведение мальчика очень странно. Он дичится и избегает меня. Вы с ним шушукаетесь. Если я стал лишним, то…
— Вальтер, что за подозрения? Просто Дэдлею назначено свидание, а у Филли — дурные предчувствия, своими опасениями он заразил и меня, вот я и решил последовать за Дэдлеем.
— Вы полагаете, что я настолько слеп, что не догадываюсь, что именно вы скрываете от меня? Хотите, чтобы я назвал вам истинную причину вашего беспокойства?
Сэррей покраснел и смутился.
— Какая же причина? — пробормотал он.
— Это — ревность. Филли любит Дэдлея.
— Вы знаете? — воскликнул Сэррей, пораженный. — Вы знаете, что Филли…
— Неужели вы полагаете, что мое зрение иначе устроено, чем ваше или что я равнодушен к судьбе вверенного мне ребенка?
— Во всяком случае вы ошибаетесь, думая, что я мучаюсь ревностью, — заметил Сэррей.
Вальтер, покачав головой, сказал:
— Сэррей, я думаю, что вы сами ошибаетесь. Любовь, которой не замечают, не считают возможной, обыкновенно пускает наиболее глубокие корни, и мне страшно за эту бедную девушку, если она узнает, что такой человек, как вы, можете любить ее, а Дэдлей, который не стоит вашей подметки, презирает ее. Однако надо спешить за ними. Я забочусь о Филли, а не об этом тщеславном фате. Возьмите меня с собой!
Пока Сэррей и Брай пререкались, Филли побежала вперед и достигла домика раньше Дэдлея. Она уже с утра осмотрела место и решила, что должно было существовать два входа — на параллельные улицы.
Филли помчалась через ближайший переулок и нашла то, что искала. Ворота были заперты, но можно было легко перебраться через стену, потому что место здесь было пустынное. Филли перемахнула через стену и очутилась у изгороди садика. Она пробралась в дом, а затем вверх по лестнице. В коридоре было слишком светло и негде было укрыться, но Филли еще раньше заметила, что над первым этажом был выступ в стене, по которому шли всевозможные орнаменты. Она открыла коридорное окно, вылезла из него и стала пробираться по чрезвычайно узкому выступу от окна к окну, пока наконец не услышала голоса. Спорили достаточно громко.
— Какая польза нам в том, если с помощью гугенотов мы совершим нападение на королевский дворец и свергнем Гиза? — послышался мужской голос. — Ведь вместо Гиза власть захватят Кондэ и старик-король Наваррский. Откуда возьмем мы силы, чтобы избавиться от этих союзников? Король прибегнет тогда к защите гугенотов и наше дело будет проиграно.
— Нужно сделать так, чтобы Кондэ не успел использовать свою победу, — возразила Екатерина Медичи.
— Ваше величество, тогда король окажется в их руках и станет их орудием.
— Но король будет нашим пленником.
— Все же он — король, и ему не трудно будет разгадать, кто истинный виновник замысла.
Пусть догадывается, только бы он был лишен возможности продолжать свои безумства. У меня есть еще сыновья, которые могут заменить его.
— Вы хотите принудить короля к отречению?
— Для меня он — не более как неудачный сын, который тяжело оскорбил меня и своими глупостями привел страну гибели. Он не захотел мстить за смерть своего отца, он игрушка в руках Гиза, пусть же теперь посмотрит, кто спасет его: убийцы его отца или Гиз.
— Говорят, что Монгомери находится в лагере Кондэ?
— Я говорила, что он — бунтовщик, но Франциск освободил его.
Было бы выгоднее, пожалуй, пока пощадить англичанина. Монгомери догадается, откуда идет опасность, и предостережет Кондэ. Я не доверяю этим союзникам. Кто знает, не перехитрят ли они нас.
— Слишком большая осторожность подобна трусости, — нетерпеливым тоном возразила Екатерина, — такая предусмотрительность не приведет ни к какому решению, а нам нужно действовать. Эти три англичанина для нас опаснее, чем целая армия, если нам не удастся выведать тайну, каким образом попали их шпионы в Лувр. Они сопровождают двор, Стюарт покровительствует, как будто они — ее любовники. И кто знает, какие у них тайные связи? Мы не защищены от измены, пока жив человек, которому удалось морочить Генриха Второго, меня и весь двор, человек, который сумел открыть тюрьму Лувра и инсценировать привидение. Я собственными глазами видела, как это привидение выпрыгнуло в Лувре из окна с высоты около сорока футов, исчезло над Сеной, а затем снова появилось в подвальном помещении. Однако Фаншон уже более часа наедине с этим Варвиком и не подала еще никакого знака.
— Ваше величество, вы решили обезвредить его лишь в том случае, если он выдаст тайну. По-видимому, вы изменили свой план?
— Если страсть не заставит его открыть тайну, если Фаншон не выйдет победительницей, то остается одно — пытка. Я не могу быть спокойна, я лишилась сна, я дрожу перед мыслью, что меня подслушивает шпион. Но будем надеяться на успех. Фаншон красива, умеет завлекать, она любит Дэдлея и знает, что он должен умереть, если ее постигнет неудача.
Филли с невероятной ловкостью стала спускаться почти по гладкой стене, руками держась за украшения, а ногами отыскивая нижнюю оконную раму. Спрыгнув на землю, она добежала до садовой калитки, надеясь, что Сэррей последовал за ней. Она осторожно отодвинула задвижку, открыла дверцу и выглянула на улицу.
На противоположной стороне улицы стояли Сэррей и Вальтер. Филли подбежала к ним и зашептала:
— Измена! Наверху — Екатерина, а с ней — десять или пятнадцать человек, которые поджидают Дэдлея, когда он выйдет от своей дамы. Эта дама — шпионка Екатерины. Своим кокетством она должна вырвать у Дэдлея признание того, каким образом он отыскал Клару Монгомери. После того они хотят его убить. Войдите в сад и спрячьтесь, пока я не позову вас.
— Не лучше было бы поднять тревогу и предостеречь Дэдлея? — возразил Сэррей.
— Чтобы его убили раньше, чем подоспеет помощь? — мрачно спросила Филли. — Нет, у меня есть кинжал, и я проложу дорогу к нему. Эта дама должна спасти его, она одна может это сделать.
Филли исчезла, не дожидаясь ответа.
Предположив, что Дэдлей заперся в комнате с Фаншон, она взобралась на дерево, возвышавшееся над изгородью садика, и оттуда подслушивала разговор влюбленных.
В решительный момент она предостерегла Дэдлея. Но от ее внимательного взгляда не ускользнуло и то, что наверху отворилось окно.
Если Екатерина узнала голос, который глумился над ней в сводах Лувра, то все погибло. Момент был критический. Но Филли не потеряла присутствия духа. Она помчалась через сад и купальную комнату, но следующая дверь была заперта.
— Дэдлей, — позвала она, — тебя предают!
Но тщетно стучала она и дергала засов. Роберт не открывал.
Зато наверху послышались торопливые шаги. Это спускались по лестнице телохранители Екатерины. Если они проникнут в будуар — Дэдлей погибнет.
В отчаянии Филли схватила занавеску, подожгла ее свечой, раздвинула жалюзи и закричала:
— Пожар! Пожар!
Пламя вырвалось в окно и стало распространяться с быстротой ветра. Филли выпрыгнула в окно и стала звать на помощь, она слышала, как кавалеры суетились в коридоре.
— Спасите его! — крикнула она Вальтеру и Сэррею, подоспевшим с обнаженными шпагами. — Разбейте окно! Он там, он там!
Вальтер и Сэррей избрали кратчайший путь. Они ворвались в коридор, ще кавалеры старались выломать дверь будуара.
— Это — два его товарища, убейте их! — послышало голос Екатерины с лестницы.
Шпаги зазвенели, и посыпались искры. В первый момент Вальтер и Сэррей уложили двух противников и, воспользовавшись смятением, оттеснили остальных до самой лестницы. Но их стали одолевать, Сэррей был уже весь в крови, а дверь будуара все еще не открывалась.
— Отступаем! — предложил Вальтер. — Дэдлей, наверное, уже мертв; в противном случае он был бы уже здесь.
— Убейте этих подлых трусов! Ведь их всего двое, — шипела Екатерина.
В это время пламя прорвалось сквозь переборку будуара, коридор наполнился удушливым дымом. Из сада слышались крики: «Пожар!», и в дом ворвалась охрана.
— Сложите оружие, приказываю именем короля! — прогремел зычный голос муниципального чиновника.
Все опустили оружие.
— Арестуйте поджигателей! — повелительно крикнула Екатерина, торопясь покинуть дом.
В садике стоял Дэдлей, держа на руках Фаншон, находившуюся в глубоком обмороке. Он спас ее, выскочив из окна будуара. Филли исчезла.
Муниципальный чиновник узнал королеву-мать и низко поклонился ей.
— Эти люди ворвались в мой дом, — сказала Екатерина. — Этот, — указала она на Дэдлея, — пробрался в комнату моей статс-дамы, и, когда я намеревалась арестовать обоих, подоспели его друзья, чтобы спасти его. Они ранили многих из моих придворных и подожгли дом. Остальное выяснят допрос и суд. Заковать их в цепи.
— И эту даму? — спросил чиновник, указывая на неподвижную Фаншон.
— Она принадлежит к нашему придворному штату, и мы будем судить ее собственной властью! — ответила королева, знаком приказав своим кавалерам отнести Фаншон в карету.
— Я понимаю! — горько усмехнулся Дэдлей в лицо Екатерины. — Если я раньше сомневался, то теперь убежден, что эта женщина являлась орудием вашей мести. Эй, вы, — обратился он к чиновнику муниципалитета, — вы ответите за то, что единственного свидетеля отдали во власть ложного обвинителя.
— Молчи, негодяй! — крикнула Екатерина. — Вы, кажется, забыли, что говорите с матерью короля Франции?
— А вы, государыня, позволяете себе оскорблять английского лорда, — парировал Дэдлей.
— Презренного бунтовщика! — крикнула Екатерина.
Она заметила, что чиновник муниципалитета замешкался, так как мир с Англией был заключен и было рискованно обходиться с лордом как с преступником.
— Я подчиняюсь насилию, — презрительно усмехнулся Дэдлей, — но английский посол граф Геншингтон потребует удовлетворения за всякую несправедливость, причиненную мне или моим друзьям.
— Арестуйте их! — требовала Екатерина. — На мою ответственность. У нас еще есть достаточно власти, чтобы усмирить преступников, пусть они даже английские лорды.
Муниципальный чиновник повиновался, но произвел арест по всем правилам вежливости и регламента, показав тем, что делает только то, что ему велит суровый долг.
Пожар потушили.
— Вот видите, к чему ведет правление безвольного короля, — сказала Екатерина своим кавалерам после того, как увели арестованных. — Поспешите, господа, передать Кондэ пароль и скажите ему, что я жду его с конницей в Лувре.
Королева села в карету. Часть кавалеров осталась сопровождать ее, а остальные оседлали своих коней и помчались кратчайшим путем, через поля, по направлению к Лувру.
Как только Дэдлей вышел из своей квартиры и отправился на свидание с Фаншон, Сэррей последовал за ним, но Вальтер схватил его за руку и спросил:
— С каких пор я утратил ваше доверие, милорд?
— Уверяю вас, — ответил Сэррей — у меня нет никаких тайн.
— А что за тайна есть у вас с нашим пажом? Поведение мальчика очень странно. Он дичится и избегает меня. Вы с ним шушукаетесь. Если я стал лишним, то…
— Вальтер, что за подозрения? Просто Дэдлею назначено свидание, а у Филли — дурные предчувствия, своими опасениями он заразил и меня, вот я и решил последовать за Дэдлеем.
— Вы полагаете, что я настолько слеп, что не догадываюсь, что именно вы скрываете от меня? Хотите, чтобы я назвал вам истинную причину вашего беспокойства?
Сэррей покраснел и смутился.
— Какая же причина? — пробормотал он.
— Это — ревность. Филли любит Дэдлея.
— Вы знаете? — воскликнул Сэррей, пораженный. — Вы знаете, что Филли…
— Неужели вы полагаете, что мое зрение иначе устроено, чем ваше или что я равнодушен к судьбе вверенного мне ребенка?
— Во всяком случае вы ошибаетесь, думая, что я мучаюсь ревностью, — заметил Сэррей.
Вальтер, покачав головой, сказал:
— Сэррей, я думаю, что вы сами ошибаетесь. Любовь, которой не замечают, не считают возможной, обыкновенно пускает наиболее глубокие корни, и мне страшно за эту бедную девушку, если она узнает, что такой человек, как вы, можете любить ее, а Дэдлей, который не стоит вашей подметки, презирает ее. Однако надо спешить за ними. Я забочусь о Филли, а не об этом тщеславном фате. Возьмите меня с собой!
Пока Сэррей и Брай пререкались, Филли побежала вперед и достигла домика раньше Дэдлея. Она уже с утра осмотрела место и решила, что должно было существовать два входа — на параллельные улицы.
Филли помчалась через ближайший переулок и нашла то, что искала. Ворота были заперты, но можно было легко перебраться через стену, потому что место здесь было пустынное. Филли перемахнула через стену и очутилась у изгороди садика. Она пробралась в дом, а затем вверх по лестнице. В коридоре было слишком светло и негде было укрыться, но Филли еще раньше заметила, что над первым этажом был выступ в стене, по которому шли всевозможные орнаменты. Она открыла коридорное окно, вылезла из него и стала пробираться по чрезвычайно узкому выступу от окна к окну, пока наконец не услышала голоса. Спорили достаточно громко.
— Какая польза нам в том, если с помощью гугенотов мы совершим нападение на королевский дворец и свергнем Гиза? — послышался мужской голос. — Ведь вместо Гиза власть захватят Кондэ и старик-король Наваррский. Откуда возьмем мы силы, чтобы избавиться от этих союзников? Король прибегнет тогда к защите гугенотов и наше дело будет проиграно.
— Нужно сделать так, чтобы Кондэ не успел использовать свою победу, — возразила Екатерина Медичи.
— Ваше величество, тогда король окажется в их руках и станет их орудием.
— Но король будет нашим пленником.
— Все же он — король, и ему не трудно будет разгадать, кто истинный виновник замысла.
Пусть догадывается, только бы он был лишен возможности продолжать свои безумства. У меня есть еще сыновья, которые могут заменить его.
— Вы хотите принудить короля к отречению?
— Для меня он — не более как неудачный сын, который тяжело оскорбил меня и своими глупостями привел страну гибели. Он не захотел мстить за смерть своего отца, он игрушка в руках Гиза, пусть же теперь посмотрит, кто спасет его: убийцы его отца или Гиз.
— Говорят, что Монгомери находится в лагере Кондэ?
— Я говорила, что он — бунтовщик, но Франциск освободил его.
Было бы выгоднее, пожалуй, пока пощадить англичанина. Монгомери догадается, откуда идет опасность, и предостережет Кондэ. Я не доверяю этим союзникам. Кто знает, не перехитрят ли они нас.
— Слишком большая осторожность подобна трусости, — нетерпеливым тоном возразила Екатерина, — такая предусмотрительность не приведет ни к какому решению, а нам нужно действовать. Эти три англичанина для нас опаснее, чем целая армия, если нам не удастся выведать тайну, каким образом попали их шпионы в Лувр. Они сопровождают двор, Стюарт покровительствует, как будто они — ее любовники. И кто знает, какие у них тайные связи? Мы не защищены от измены, пока жив человек, которому удалось морочить Генриха Второго, меня и весь двор, человек, который сумел открыть тюрьму Лувра и инсценировать привидение. Я собственными глазами видела, как это привидение выпрыгнуло в Лувре из окна с высоты около сорока футов, исчезло над Сеной, а затем снова появилось в подвальном помещении. Однако Фаншон уже более часа наедине с этим Варвиком и не подала еще никакого знака.
— Ваше величество, вы решили обезвредить его лишь в том случае, если он выдаст тайну. По-видимому, вы изменили свой план?
— Если страсть не заставит его открыть тайну, если Фаншон не выйдет победительницей, то остается одно — пытка. Я не могу быть спокойна, я лишилась сна, я дрожу перед мыслью, что меня подслушивает шпион. Но будем надеяться на успех. Фаншон красива, умеет завлекать, она любит Дэдлея и знает, что он должен умереть, если ее постигнет неудача.
Филли с невероятной ловкостью стала спускаться почти по гладкой стене, руками держась за украшения, а ногами отыскивая нижнюю оконную раму. Спрыгнув на землю, она добежала до садовой калитки, надеясь, что Сэррей последовал за ней. Она осторожно отодвинула задвижку, открыла дверцу и выглянула на улицу.
На противоположной стороне улицы стояли Сэррей и Вальтер. Филли подбежала к ним и зашептала:
— Измена! Наверху — Екатерина, а с ней — десять или пятнадцать человек, которые поджидают Дэдлея, когда он выйдет от своей дамы. Эта дама — шпионка Екатерины. Своим кокетством она должна вырвать у Дэдлея признание того, каким образом он отыскал Клару Монгомери. После того они хотят его убить. Войдите в сад и спрячьтесь, пока я не позову вас.
— Не лучше было бы поднять тревогу и предостеречь Дэдлея? — возразил Сэррей.
— Чтобы его убили раньше, чем подоспеет помощь? — мрачно спросила Филли. — Нет, у меня есть кинжал, и я проложу дорогу к нему. Эта дама должна спасти его, она одна может это сделать.
Филли исчезла, не дожидаясь ответа.
Предположив, что Дэдлей заперся в комнате с Фаншон, она взобралась на дерево, возвышавшееся над изгородью садика, и оттуда подслушивала разговор влюбленных.
В решительный момент она предостерегла Дэдлея. Но от ее внимательного взгляда не ускользнуло и то, что наверху отворилось окно.
Если Екатерина узнала голос, который глумился над ней в сводах Лувра, то все погибло. Момент был критический. Но Филли не потеряла присутствия духа. Она помчалась через сад и купальную комнату, но следующая дверь была заперта.
— Дэдлей, — позвала она, — тебя предают!
Но тщетно стучала она и дергала засов. Роберт не открывал.
Зато наверху послышались торопливые шаги. Это спускались по лестнице телохранители Екатерины. Если они проникнут в будуар — Дэдлей погибнет.
В отчаянии Филли схватила занавеску, подожгла ее свечой, раздвинула жалюзи и закричала:
— Пожар! Пожар!
Пламя вырвалось в окно и стало распространяться с быстротой ветра. Филли выпрыгнула в окно и стала звать на помощь, она слышала, как кавалеры суетились в коридоре.
— Спасите его! — крикнула она Вальтеру и Сэррею, подоспевшим с обнаженными шпагами. — Разбейте окно! Он там, он там!
Вальтер и Сэррей избрали кратчайший путь. Они ворвались в коридор, ще кавалеры старались выломать дверь будуара.
— Это — два его товарища, убейте их! — послышало голос Екатерины с лестницы.
Шпаги зазвенели, и посыпались искры. В первый момент Вальтер и Сэррей уложили двух противников и, воспользовавшись смятением, оттеснили остальных до самой лестницы. Но их стали одолевать, Сэррей был уже весь в крови, а дверь будуара все еще не открывалась.
— Отступаем! — предложил Вальтер. — Дэдлей, наверное, уже мертв; в противном случае он был бы уже здесь.
— Убейте этих подлых трусов! Ведь их всего двое, — шипела Екатерина.
В это время пламя прорвалось сквозь переборку будуара, коридор наполнился удушливым дымом. Из сада слышались крики: «Пожар!», и в дом ворвалась охрана.
— Сложите оружие, приказываю именем короля! — прогремел зычный голос муниципального чиновника.
Все опустили оружие.
— Арестуйте поджигателей! — повелительно крикнула Екатерина, торопясь покинуть дом.
В садике стоял Дэдлей, держа на руках Фаншон, находившуюся в глубоком обмороке. Он спас ее, выскочив из окна будуара. Филли исчезла.
Муниципальный чиновник узнал королеву-мать и низко поклонился ей.
— Эти люди ворвались в мой дом, — сказала Екатерина. — Этот, — указала она на Дэдлея, — пробрался в комнату моей статс-дамы, и, когда я намеревалась арестовать обоих, подоспели его друзья, чтобы спасти его. Они ранили многих из моих придворных и подожгли дом. Остальное выяснят допрос и суд. Заковать их в цепи.
— И эту даму? — спросил чиновник, указывая на неподвижную Фаншон.
— Она принадлежит к нашему придворному штату, и мы будем судить ее собственной властью! — ответила королева, знаком приказав своим кавалерам отнести Фаншон в карету.
— Я понимаю! — горько усмехнулся Дэдлей в лицо Екатерины. — Если я раньше сомневался, то теперь убежден, что эта женщина являлась орудием вашей мести. Эй, вы, — обратился он к чиновнику муниципалитета, — вы ответите за то, что единственного свидетеля отдали во власть ложного обвинителя.
— Молчи, негодяй! — крикнула Екатерина. — Вы, кажется, забыли, что говорите с матерью короля Франции?
— А вы, государыня, позволяете себе оскорблять английского лорда, — парировал Дэдлей.
— Презренного бунтовщика! — крикнула Екатерина.
Она заметила, что чиновник муниципалитета замешкался, так как мир с Англией был заключен и было рискованно обходиться с лордом как с преступником.
— Я подчиняюсь насилию, — презрительно усмехнулся Дэдлей, — но английский посол граф Геншингтон потребует удовлетворения за всякую несправедливость, причиненную мне или моим друзьям.
— Арестуйте их! — требовала Екатерина. — На мою ответственность. У нас еще есть достаточно власти, чтобы усмирить преступников, пусть они даже английские лорды.
Муниципальный чиновник повиновался, но произвел арест по всем правилам вежливости и регламента, показав тем, что делает только то, что ему велит суровый долг.
Пожар потушили.
— Вот видите, к чему ведет правление безвольного короля, — сказала Екатерина своим кавалерам после того, как увели арестованных. — Поспешите, господа, передать Кондэ пароль и скажите ему, что я жду его с конницей в Лувре.
Королева села в карету. Часть кавалеров осталась сопровождать ее, а остальные оседлали своих коней и помчались кратчайшим путем, через поля, по направлению к Лувру.
II
Екатерина заранее торжествовала. Еще немного времени — и воины Кондэ нападут на дворец, захватят Гиза, и приговор над ним будет в ее власти. Затем последует краткая решительная борьба преданных королю парижан с гугенотами, и скипетр Франции будет в ее руках. Франциск должен будет отказаться от престола, или же придется силой устранить его. Его брат Карл — еще дитя, и никто не может воспрепятствовать ей, Екатерине, сделаться регентшей.
Как жаждала ее душа этой власти, как кипела кровь при мысли, что она получит возможность мстить всем, кто оскорблял ее, кто оказывал почести любовнице ее супруга, кто благоговел перед Марией Стюарт, — словом, всем, кто не повиновался ее воле беспрекословно! Власть! Какой это соблазн для честолюбивой души женщины, которая с самого раннего детства переносила лишь унижение и презрение! Власть! Какое это широкое поле деятельности для гордой, неутомимой души, с юных дней строившей планы о том, как бы все подчинить церкви и дать королевской власти тот блеск, который ей подобает! Какое наслаждение повелевать, своенравных вассалов превратить в трепетных рабов, быть первой в государстве, распоряжаться жизнью и смертью своих подданных, Ей, рожденной Медичи, удастся искоренить еретиков и вернуть папе прежнее влияние. Укрепить навсегда власть Франции, уничтожить гордое дворянство, этих Гизов, Монморанси, Кондэ, Бурбонов, короля Наваррского и всех гордых вассалов, перед которыми дрожали короли Франции, Отменить парламент и уничтожить все посягательства на права королевской власти!
Заговор, в котором Екатерина решила принять участие, послужил началом борьбы с гугенотами и фрондой и принес все беды и несчастья, разорившие Францию.
Екатерина была представительницей короны, герцог Гиз был представителем власти дворян, против него должен быть направлен первый удар.
Гонцы Екатерины помчались в лагерь мятежников, и, пока Франциск и Мария Стюарт забавлялись, гроза должна была собраться над их головами и разразиться раньше, чем они заметят беду.
Когда королева показалась у подъезда Лувра, стража стояла под ружьем и слуги суетились у дорожной кареты короля.
— Что это означает? — спросила Екатерина, побледнев.
Но никто не мог дать ей определенного ответа, все суетились и спешили, так как приказ последовал внезапно.
Она поднялась по лестнице и без доклада вошла в королевские покои, В передней ее встретил герцог Гиз в сопровождении пажа, при взгляде на которого Екатерина побледнела. Это был тот самый калека-мальчик, которого она видела на турнире в свите Дэдлея.
Герцог почтительно поклонился, но королева заметила, что насмешливая улыбка промелькнула на его лице.
— Ваше величество, — сказал герцог, — я счастлив, что встретил вас, так как опасался, не предприняли ли вы, ваше величество, поездки в окрестности Парижа.
— Вы опасались этого? Почему? — спросила Екатерина.
— Государыня, я имею известие, что приверженцы Бурбонов вооружаются и даже, быть может, объявят нам войну. Мы, несомненно, проиграли бы ее, если бы им удалось завладеть таким драгоценным заложником, как вы, ваше величество.
Екатерина почувствовала иронию его слов, словно Гиз предлагал ей переход в лагерь Бурбонов.
— Господин герцог, — горделиво возразила она, — я жалею правительство, которое так ничтожно, что должно опасаться за судьбу члена своего двора вне пределов Парижа. Вы опасаетесь мятежников? Я вижу, готовят дорожную карету. Внук короля Франциска Первого, который предписывал законы парламенту, обращается в постыдное бегство перед кучкой восставших вассалов? Или, может быть, король становится во главе армии, которая колдовством появилась невесть откуда для защиты короны?
— К сожалению, государыня, я не принял таких мер предосторожности: я не мог предполагать, что есть люди, которые способны восстать против такого благородного, такого великодушного монарха, как Франциск Второй, Увы, я ошибся! — произнес Гиз.
— Ну и что же вы решили предпринять?
— Государыня, король намеревается отправиться вместе со своим двором в Амбуаз. Этот город укреплен и представляет большую безопасность, чем Париж.
— Ну а дальше? Из Амбуаза вы будете вести переговоры с мятежниками?
— Ваше величество, пока дело идет лишь о том, чтобы перевести короля в безопасное место, дальнейшее я предоставлю Провидению и советам такой мудрой правительницы, как вы, ваше величество.
— Значит, и я должна последовать за вами?! Неужели вы полагаете, что Екатерина Медичи обратиться в бегство перед мятежниками?
— Его величество король так приказал и желал бы завтра видеть вас в Амбуазе.
Екатерина задумалась.
— А что, есть войска в Амбуазе? — вдруг спросила она.
— Мушкетеры будут сопровождать двор.
— Значит, двор отправляется в заключение. Хорошо, я подчиняюсь. Доводите свою политику до конца. Я буду рада, если она окажется удачной, и буду страдать вместе с королем, если она окажется ни на что не пригодной. Но ничто не заставит меня подавать советы в деле, которое началось из-за пренебрежения моими советами. Чей это паж?
— Со вчерашнего дня он в услужении у меня. Нравится он вам, ваше величество?
— Странный вкус у вас. Не был ли этот мальчик раньше у лорда Дэдлея?
— Он служил у тех англичан, которых вы, ваше величество, приказали арестовать, и покинул их потому, что эти господа намереваются вернуться к себе на родину.
— Он поступил благоразумно, потому что его прежние господа снова арестованы, — заметила Екатерина.
— Как? По чьему приказанию? — воскликнул Гиз, с таким искусным выражением изумления, что ввел королеву в сомнение — притворяется он или нет.
— По моему приказанию, — усмехнулась она. — И кажется, именно в тот момент, когда вы получили известие о заговоре мятежников.
— Как? Неужели они были в сношениях с мятежниками? — опять удивился герцог. — Правда, Монгомери бежал к Бурбонам, а они были с ним в дружбе… Но нет, это невозможно? Королева Мария ручается за их порядочность!
— Я приказала арестовать их потому, что они подожгли мой дом и предместье Сен-Жермен, — сказала Екатерина, зорким оком следя за пажом. — Лорд Дэдлей имел тайную любовную связь с одной из моих придворных дам. Будучи застигнут врасплох, он оказал вооруженное сопротивление, поджег дом и ранил нескольких моих кавалеров.
— Ах, какая удивительно благоприятная случайность, что при вас, ваше величество, были кавалеры! — с усмешкой сказал Гиз. — Парижская судебная палата произнесет свой приговор над преступниками. Однако куда вы приказали препроводить арестованных: в Бастилию или сюда, в Лувр?
— Арестованные препровождены в парижскую тюрьму, — ответила Екатерина.
— Они иностранцы, а потому необходимо соблюдать форму. Как только мы возвратимся в Париж, нужно начать следствие. Итак, прикажете отрядить мушкетеров, которые будут сопровождать вас, ваше величество, на пути в Амбуаз?
— Я сейчас начну собираться к отъезду. Вашего пажа, герцог, я надеюсь, вы возьмете с собой в Амбуаз? От него можно было бы получить кое-какие сведения об арестованных.
Гиз поклонился.
Не успела Екатерина проследовать в свою комнату, как моментально отправила тайного посла к герцогу Кондэ с извещением о внезапном отъезде двора в Амбуаз.
III
Несмотря на возмущение, высказанное Екатериной против Фаншон, она все же удостоила ее перед отъездом своим посещением.
Фаншон не заметила, как Екатерина влила что-то в чай, приготовленный для больной. Выпив этот чай в присутствии Екатерины, та почувствовала сильную сонливость, с которой не в состоянии была бороться, несмотря на уважение к присутствию королевы-матери.
Екатерина осталась довольна. Она вытерла своим платком чашку, из которой пила Фаншон, влила в нее немного чая, чтобы это выглядело остатком недопитого напитка, и вышла из комнаты.
Лишь только стихли удалявшиеся шаги Екатерины, потайная дверь отворилась и вошла Филли, за ней — герцог Гиз.
— Смотрите, — сказала Филли, тряся руку спящей, — это — не сон, это — отравление ядом, но я знаю, какой это яд.
— Мальчик, не колдун ли ты? Как ты можешь узнать, какой тут яд?
— Я узнаю по запаху изо рта и по красненьким прыщикам во рту, — сказала Филли, приоткрыв рот спящей, — у меня, кстати, имеется с собой и противоядие.
— Кстати?
— Ваша светлость, однажды я видел, какие яды хранит королева в своем шкафу. Их три у нее: один убивает на месте, но оставляет признаки; второй действует через какое-то время, в зависимости от величины дозы; третий убивает вот таким образом. Человек находится в оцепенении до тех пор, пока яд не перейдет в кровь, а затем пробуждается под влиянием сильных болей и начинает бредить. Этот яд действует на мозг.
— И ты можешь спасти Фаншон?
— Я запасся противоядиями с тех пор, как королева поклялась отомстить моему господину.
Филли влила несколько капель какого-то эликсира в рот больной и стала втирать под ее носом какой-то порошок. Больная собиралась чихнуть и в это время проглотила капли.
— Теперь она вне опасности! — обрадовалась Филли.
— Она должна узнать, кому обязана своим спасением. Клянусь Богородицей, жизнь возвращается к ней. Это какое-то чудо!
— Скоро начнутся боли. Уйдемте поскорее, ваша светлость! Ее крики привлекут сюда прислугу.
Значит боли все-таки будут?
— Да, но без последствий. Я не мог избавить ее от боли. Оно и к лучшему: может возвратиться королева и, увидев, что яд не подействовал, повторит свою попытку.
Гиз вздрогнул: больная широко раскрыла глаза. Не успели они скрыться за потайной дверью, как раздался болезненный стон.
IV
Час спустя двор покинул Лувр. Король со всей своей свитой отправился в Амбуаз. Верховые с факелами и лейб-гвардия в панцирях сопровождали весь поезд.
В карете короля тихо дремала Мария Стюарт, склонив очаровательную головку на плечо супруга.
С королевой-матерью ехали ее духовник и одна придворная дама.
Екатерина то и дело выглядывала из окна, словно ожидала погони, но кругом было все тихо в темной ночи, быть может, ее посол опоздал или Бурбоны не были приготовлены к внезапному выступлению.
На козлах коляски Гиза дремала Филли. Что снилось ей? Быть может, ее возлюбленный? На сердце у нее было очень неспокойно, она опасалась за участь Дэдлея и его друзей, хотя герцог поручился ей за их неприкосновенность. Если бы у Екатерины и зародилось подозрение, что ее планы разоблачены, то по приезде в Амбуаз она могла совершенно успокоиться, так как убедилась, что Гиз не принимает никаких мер для охраны короля. Будто он побоялся только населения Парижа, а Амбуаз считал неприступным.
Местность была сильно укреплена, но герцог, казалось, был того мнения, что крепких стен и глубоких рвов достаточно для защиты. Солдаты назначались больше для придворной службы, чем для охранения валов. Большинство мушкетеров — все вельможи из провинции — проводили время на охоте, попойках или игре в кости. Король наслаждался пением Марии Стюарт, они занимались сочинением мадригалов, шарад. Король передал герцогу Гизу все полномочия в деле подавления восстания, избавив себя от неприятного занятия. Герцог, в свою очередь, ждал, что к нему приведут закованных зачинщиков, по крайней мере не принимал никаких мер к их аресту. Впрочем, это было бы довольно трудно, так как Бурбоны силой завладели уже несколькими городами.
Екатерина смотрела на беспечность Гиза со злорадной насмешкой: в ее план входило дать ему окончательно увериться в ее покорности и тогда внезапно произвести на него нападение. С помощью нескольких тайных приверженцев гугенотов в Амбуазе, которых ей указал принц Кондэ, она установила довольно регулярные сношения с лагерем мятежников. Войска Бурбонов направились на юг, чтобы ввести в заблуждение и успокоить Гиза, но между тем в близлежащих местах тайком были распределены надежные люди, которые по данному сигналу должны были соединиться и противопоставить войскам Гиза более чем удвоенную силу. Кроме того часть стражи была подкуплена, так что в успехе задуманного плана у Екатерины не было ни малейшего сомнения.
День именин Марии Стюарт решено было отпраздновать балом, и Екатерина избрала именно этот день для неожиданного нападения на Амбуаз. Она договорилась в Кондэ, что герцог Гиз должен пасть в борьбе, король вынужден будет отказаться от короны, а она провозглашена регентшей, взамен чего она обязалась предоставить гугенотам свободу вероисповедания. В перевороте должны участвовать главным образом католики, которые в союзе с горожанами Амбуаза должны были неожиданно похитить у Бурбонов плоды победы.
Таким образом Екатерина держала в своих руках нити двойного заговора. На случай возможного поражения она решила вечером накануне нападения пригласить к себе герцога Гиза и для обеспечения собственной безопасности, в последний момент предостеречь его от нападения, зная, что это уже слишком поздно. В случае смерти Гиза она могла стать во главе отряда мушкетеров, наскоро собранных герцогом, и пойти против Бурбонов. Если же, вопреки ожиданиям, восстание оказалось бы неудачным, то своим предостережением Гиза она устраняла всякое подозрение об участии в заговоре.
Бал уже начался, музыка гремела, маски носились по залам, а герцог Гиз все не являлся на приглашение Екатерины. Она сгорала от нетерпения и в волнении теребила накрахмаленные рюши своего парадного платья. Смутный страх закрался в ее честолюбивую, пылкую душу: а что если непредвиденный ничтожный случай испортит столь важный и решительный момент? Герцог, всегда так строго придерживавшийся внешних форм вежливости, заставлял себя ждать, что выглядело крайне оскорбительным. Он, наверное, должен быть во дворце, если только какой-нибудь изменник не предупредил его об опасности.
— Уже слишком поздно! Не может же он достать войска из-под земли! — утешала себя Екатерина. — Сопротивление горсточки мушкетеров приведет только к пустому кровопролитию.
Она послала слугу вторично, чтобы узнать, получил ли герцог ее приказание. В это время ей доложили, что какой- то кавалер желает говорить с ней втайне.
Екатерина велела проводить его в одну из боковых комнат и поспешила к нему навстречу. Ее лицо пылало, и сердце билось от волнения, как у азартного игрока, который поставил на карту все свое состояние.
— В чем дело? — спросила она, спеша и волнуясь.
Кавалер в маске отвесил низкий поклон и едва слышно произнес пароль гугенотов.
Ваше величество, герцог Кондэ и король Антуан Наваррский благополучно прибыли в Амбуаз и скрываются в корчме «Золотой меч». Я прислан доложить, что ваш последний приказ, по счастью, застал нас раньше, чем мы успели подойти к Амбуазу.
— Какой приказ? — бледнея, воскликнула королева.
Приказ о том, чтобы приступить к штурму не раньше рассвета и одновременно выступить из корчмы «Золотой меч».
— Я не давала такого приказа. Был мой герб на бумаге?
— Нет, но приказ был дан от вашегоимени.
— Странно! Кто мог решиться на это?.. Кто передал этот приказ?
— Тот, кто передавал в последнее время почти все ваши приказы. Граф Орланд.
— Я не знаю его! Пресвятая Дева, неужели нас предали!
— Ваше величество, это невероятно.
— Клянусь, я не знаю этого графа и никогда не слыхала его имени!
— В таком случае ваш посол из предосторожности назвался другим именем или же избрал этого посредника Во всяком случае, если он и злоупотребил вашим именем, то заслуживает нашей благодарности, так как приказ очень целесообразен. Было бы опасно теперь приводить в исполнение наш план, так как стража усилена вдвое.
— Усилена? — переспросила Екатерина в волнении.
— Да, ваше величество, но она кутит на славу, через несколько часов она будет мертвецки пьяна и не окажет ни малейшего сопротивления, между тем как в настоящий момент было бы опасно вводить в город даже незначительную часть войска.
— Как? Они пьют? Кто дал им вина?
— Герцог Гиз. Здесь, во дворце, стража также удвоена и сидит у бочек с вином. Герцог решил, по-видимому, устроить праздник для всего гарнизона, и к утру не окажется и десяти человек, которые могли бы стоять на ногах.
— Помоги нам, Пресвятая Дева! — прошептала Екатерина.
Лакей отворил дверь и доложил тихим голосом:
— Герцог Гиз!
Екатерина знаком указала кавалеру на боковую дверь, а сама возвратилась в приемную, где герцог в парадном одеянии ждал ее.
Туалет герцога несколько упокоил Екатерину: Гиз был одет для танцев, а не для сражения. Ее беспокойство тотчас же сменилось высокомерием.
— Герцог, вы заставили ждать себя, — сказала она с легкой иронией, — но я польщена уже и тем, что настоящий регент Франции снизошел до того, что явился на мой зов.
— Государыня, власть имеющим предоставляется право глумиться. Вы отлично знаете, как много мне приходится бороться, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать доверие моего короля, в особенности с тех пор, как вы стали относиться ко мне враждебно.
— Враждебно? Ваша светлость, это означало бы, что я — мятежница. Вы неразборчивы в выражениях относительно человека, который напрасно предлагал королю свой совет и свои услуги. Я принуждена к бездеятельности, вот и все.
— Это много значит. Это почти означает гибель целой армии.
— Тем не менее вы еще недавно полагали, что без меня можно обойтись. Очевидно, обстоятельства сложились иначе, чем вы того ожидали?
— Ни в коем случае, ваше величество! Если я и сожалею, что лишен вашей помощи, то лишь потому, что не обладаю такой ловкостью, с какой вы ведете войско, той молчаливой энергией и искусством предвосхитить все планы противника. Но я не сомневаюсь в нашей победе.
— В таком случае я завидую вашему спокойствию! — ответила Екатерина с ехидной улыбкой. — Если мои сведения достоверны, то в скором времени гугеноты готовятся напасть на Амбуаз.
— Мы сумеем встретить их.
— Вы, кажется, очень самоуверенны, следовательно, мое предостережение бесполезно.
— Ваше величество, я ценю это предостережение как доказательство вашего примирительного настроения. Я дорого дал бы за то, чтобы удостоиться такой союзницы, как вы, ваше величество. Наши интересы совершенно одинаковы. Король слаб и нуждается в руководителе. Оба мы — ярые католики и желаем только одного — истребления гугенотов. Если бы мы действовали единодушно, не нужно было бы никакого восстания. Но вы относитесь ко мне враждебно по совершенно ничтожным причинам: вы сердитесь на меня за то, что я защищаю незначительных людей, и за то, что я не вполне подчиняюсь вашей воле. Вместо того, чтобы идти рука об руку, мы — почти враги. Но еще не поздно нам примириться.
— Нет, поздно, ваша светлость! Вы потерпели фиаско и теперь ищете моего содействия, которое раньше отвергали. Если я когда-нибудь вмешаюсь в политические дела, то исключительно для того, чтобы спасти Францию, а не исправлять ваши ошибки.
— Ваше величество, я повторяю, что в настоящий момент не нуждаюсь ни в какой помощи.
— А я знаю, что вы настолько ослеплены и самонадеянны, что не предвидите грозящей вам гибели!
— В таком случае вы считаете меня за плохого игрока! Но допустим, что вы заблуждаетесь относительно грозящей мне опасности, и я окажусь более ловким, чем вы полагали, что тогда?
— Тогда герцог Гиз торжествовал бы, но отнюдь не искал бы единения со мной, — иронически усмехнулась Екатерина.
— Значит, вы не хотите допустить такую возможность. Вы сказали, что слишком поздно для меня спасаться, а если я скажу, в свою очередь, что через несколько часов вам будет слишком поздно протянуть мне руку?
Екатерина растерялась.
— Через несколько часов вы будете на банкете и за бокалом вина забудете все политические заботы. Поговорим лучше завтра, — попыталась она закончить перепалку шуткой.
— Ваше величество, если бы мы сейчас договорились, я мог бы выпить также и за ваше здоровье, за наш союз.
— Хорошо, герцог. Если вы убеждены, что вам не грозит никакой опасности, я готова быть вашей союзницей, так как преклоняюсь перед политикой, которая одерживает победы при помощи незримого оружия.
— Каковы ваши условия, ваше величество? Вы одобрите, если я велю казнить короля Наваррского и герцога Бурбона Кондэ?
Екатерина смутилась под проницательным взглядом Гиза.
— Они — гугеноты и вожди восстания, — сказала она. — Но если они падут, то вы не будете нуждаться в моем союзничестве. Ведь тогда будут устранены все, кто противодействовал вам. Нет, — улыбнулась она, — хотя я — и враг этих мятежников, но для меня они все же являются известным щитом против всемогущества Гизов.
— Обещайте мне, по крайней мере, не отстаивать мятежников, когда я потребую у короля их головы!
— Требуйте, мой голос мало имеет значения. Но в состоянии ли будет Франциск выдать вам их головы?
— Почему бы и нет, государыня?
Екатерина испугалась.
— Я не понимаю вас, герцог! Не вызвали ли вы с помощью колдовства армию из-под земли? Или вы надеетесь, что по одному повелению мальчика Франциска рассеются войска и появятся пленные?
— Мои надежды имеют прочное основание. У меня нет армии, но мушкетеры преданы королю, и некоторая смышленость окажет нам неоценимую помощь. Молодой человек, которого я назову, допустим, графом Орландом, только что сообщил мне об аресте лиц, находившихся в корчме «Золотой меч».
Если бы молния пронзила землю, Екатерина не могла бы более растеряться, чем в тот момент. Она была совершенно ошеломлена. Но для такой женщины как Екатерина, не составляло большого труда быстро взять себя в руки. Она поняла, что ее заговор не удался, что все погибло, что Гиз явился к ней, чтобы на известных условиях предложить ей скрыть это соучастие.
Ей предстояло только по возможности смягчить эти условия.
— Ваша светлость, — сказала она, — от души поздравляю вас, если ваши сведения верны. Но кто этот граф Орланд, который доставил вам такие невероятные известия?
— Он носит имя графа Орланда только тогда, когда мне это нужно. На самом деле это — простой паж, уродливый, безобразный мальчик, но очень ловкий и находчивый.
— Паж тех англичан, которые за поджог заключены в тюрьму?
— Совершенно верно! Впрочем, обвинение оказалось неосновательным.
— Герцог, я поручилась за справедливость обвинения!
— В таком случае вас обманули. Паж был свидетелем, что зачинщиками явились ваши кавалеры.
— Он, значит, подслушивал? Но под пыткой его можно заставить сказать истинную правду.
— Имеется еще второй свидетель. Это — герцогиня Сен-Анжели.
— Фаншон? — воскликнула королева. — Но я слышала, что она умерла.
— Паж нашел средство спасти ее. Он — настоящий волшебник.
— Не знаю, во всяком случае его следует обвинить в колдовстве, — проскрежетала Екатерина, бледнея и задыхаясь от бешенства. — Герцог, вы победили, я слагаю оружие. Не будем распространяться, во всяком случае вы великолепно осведомлены обо всем, что я делала для того, чтобы низвергнуть вас. Назовите условия, на которых вы желаете примириться со мной.
— Истребление гугенотов огнем и мечом.
— Согласна. А Кондэ! А король Наварры?
— Должны умереть на эшафоте.
— Что даете вы мне взамен?
— Требуйте, ваше величество.
— Регентство!
— Я не могу лишить трона короля, который доверил мне свою власть.
— В таком случае поделимся этой властью.
— При условии, что вы не будете вести против меня интриг и что мои приверженцы не станут вашими друзьями.
— Согласна! Но покарайте моих личных врагов, и прежде всего графа Монгомери.
— Он должен умереть как мятежник, если мы его захватим завтра.
— Затем тех трех англичан.
— Я обещал моей племяннице, королеве Марии Стюарт, взять их под свою защиту.
— Так уступите мне по крайне мере пажа.
— Ему я обязан моей победой.
— Но ему известно, что я боролась против вас. Он посвящен в тайны, которые опасны. У него имеются сношения с Лувром, которые прямо пугают меня. Это условие неизбежно.
— Он очень полезен. Жаль было бы лишиться его.
— Если мы вступим с вами в союз, то он сделается также и вашим врагом.
— Постарайтесь завладеть им, но поручитесь мне за его жизнь.
— Его жизнь должна принадлежать мне, если я не склоню его на свою сторону.
— Хорошо! Но в тот самый день, когда падут головы Кондэ и короля Наваррского.
— Согласна! — сказала Екатерина тоном, как будто ей было трудно решиться на это, но в ее глазах искрилось злорадство.
Герцог Гиз, молча поклонившись, удалился.
— Глупец! — усмехнулась Екатерина, глядя ему вслед.
Головы Кондэ и короля Наваррского падут, но не раньше, как я завладею твоей головой.
На рассвете мятежники под предводительством Ренодина, появились под стенами Амбуаза. Они беспрепятственно проникли в город, но, лишь только вошли, решетки опустились — и они очутились лицом к лицу с мушкетерами, принудившими их сложить оружие. Гиз усилил укрепление с помощью войск, привлеченных в Амбуаз под видом мирных крестьян. Мятежники попались в ловушку, которую готовили королевскому двору. Ренодин пал с мечом в руке. Его войска сдались после краткой, но отчаянной борьбы, Та же участь постигла подоспевшие резервные войска. Вожаки были преданы колесованию или повешены, а герцога Людовика Бурбона Кондэ и короля Антуана Наваррского ради формы предали суду после того, как Гиз взял с короля Франциска слово, что помилования никому не будет.
Двор снова возвратился в Париж. Вместе с ним и Екатерина Медичи вернулась снова в Лувр. В тот день, когда состоялся судебный приговор над Бурбонами, герцог Гиз сдержал свое обещание.
Екатерине доложили, что ее желает видеть паж герцога. Ее глаза засверкали от кровожадного удовольствия. В ее власти был мальчик, который расстроил убийство Клары Монгомери, разоблачил заговор в Амбуазе и которому она была обязана тем, что Гиз торжествовал над ней.

Глава двадцатая
МЕСТЬ ЕКАТЕРИНЫ

I
 Бедная Филли не подозревала, какая участь ждет ее. Она была свидетельницей того, как Гиз отдал приказ об освобождении Сэррея, Дэдлея и Брая. Ее душа ликовала. Ничего не подозревая, она взяла записку, которую герцог поручил ей передать королеве-матери. И хотя ей было мучительно исполнить поручение, но противоречить она не посмела.
Екатерина сидела на диване и, когда Филли вошла, посмотрела на нее так ехидно, как, вероятно, смотрит боа на жертву, которую готовится проглотить.
Филли почувствовала невыразимый страх. Ее сердце билось и колени дрожали, когда она подошла ближе, чтобы передать письмо.
Екатерина нетерпеливо вскрыла его, и при первых же строках ее лоб нахмурился. Гиз извещал, что Монгомери скрылся, но последние строки умиротворили ее.
«Взамен возьмите пажа, — написал он, — мальчишка — колдун, вы найдете при нем некоторые яды.»
— Скажи мне, мальчик, — начала Екатерина, пытливо глядя на Филли, — ты веришь в колдовство?
— Ваше величество, говорят, что опасно отрицать то, что установлено святой церковью.
— А, ты осторожен! Я тоже не верю в колдовство и убеждена, что хорошей железной цепью можно приковать самого дьявола, а тем более маленького дьявола, который в женском платье выпрыгнул из окна второго этажа в Лувре.
Филли побледнела и вздрогнула, когда Екатерина позвонила.
Дверь отворилась, и на пороге появились два здоровенных парня, телохранители Екатерины. По данному знаку они связали Филли раньше, чем она успела опомниться от страха.
— Отведите его в застенок Лувра и привяжите к брускам, — крикнула королева. — Я приду после первой степени пытки.
Стражники потащили несчастную вниз по винтовой лестнице.
В застенке с нее сорвали одежду.
— Это — девушка! — поразились они, между тем как Филли от страха и стада проливала горькие слезы, — Горб у нее поддельный!… Об этом нужно доложить королеве.
Парни колебались чинить над девушкой расправу и уставились на нее похотливым взором.
— Это что такое? — возмутилась их промедлением Екатерина, войдя со своим духовником. — Женщина! — удивилась она, и ее лицо приняло демоническое выражение.
— Бичуйте же ее! Если она умела скрывать свой пол, пусть поплатится за это.
Слуги привязали несчастную. В несколько минут все прекрасное тело Филли было исполосовано до крови.
Девушка не издала ни единого звука, и, когда ее перестали истязать, чтобы провести дознание, ее зубы были судорожно сжаты.
— Ты признаешься теперь, кто ввел тебя в Лувр в день смерти Клары Монгомери? — спросила Екатерина с нескрываемым торжеством и злорадством.
— Я сама вошла! — крикнула Филли с ненавистью в лицо королеве. — Вы хотите умертвить меня на пытке, потому что я подслушала, как вы призывали дьявола к себе на помощь! Вы хотите убить меня за то, что я не хотела помочь вам изготовить яд для короля, вашего сына!
— Привинтите ее к тискам! — зашипела Екатерина, бледная от бешенства, так как заметила, что слуги насторожились.
— Подчиняйтесь ей! — крикнула Филли. — А завтра она будет вас пытать за то, что вы слышали мои слова.
— Вырвите ей язык! — бесновалась Екатерина и в пылу ярости схватила щипцы.
Но духовник остановил ее.
— Оставьте, — шепнул он, — ваше негодование может показаться слугам признанием вашей вины, и хотя вы каждому можете дать отпор, но все же лучше уберечься от злой клеветы. Эта девушка упорна и не поддается пытке. Не попробовать ли соблазнить ее обещаниями? Она должна отречься от своих слов, а там вы можете…
Не успел он договорить, как постучали в дверь и посланец передал Екатерине пергамент.
Это было письмо от герцога Гиза.
«Пощадите пажа! — писал он. — Король хочет видеть его не далее как сегодня!»
Королева подала знак палачам, привинтившим тиски, отойти в сторону и показала несчастной Филли послание Гиза.
— Вот кого должна ты ненавидеть, — прошептала Екатерина, — он предал тебя. Откажись от своих слов, и я буду милостивее, чем герцог, которому ты служила с такой преданностью!
Филли прочла письмо, и трепет ужаса пробежал по ее телу. Человек, который был обязан ей победой и даже жизнью, презренно предал ее мстительной Екатерине.
— Первую степень! — велела Екатерина палачам и, когда они протянули тиски, которые должны были смять кости рук несчастной девушки, повторила свой вопрос, с которым раньше обратилась к Филли.
— Меня провел в Лувр герцог Гиз, — простонала Филли. — Он предал меня вам.
По данному знаку тиски нажали, кости хрустнули.
Бедная Филли не подозревала, какая участь ждет ее. Она была свидетельницей того, как Гиз отдал приказ об освобождении Сэррея, Дэдлея и Брая. Ее душа ликовала. Ничего не подозревая, она взяла записку, которую герцог поручил ей передать королеве-матери. И хотя ей было мучительно исполнить поручение, но противоречить она не посмела.
Екатерина сидела на диване и, когда Филли вошла, посмотрела на нее так ехидно, как, вероятно, смотрит боа на жертву, которую готовится проглотить.
Филли почувствовала невыразимый страх. Ее сердце билось и колени дрожали, когда она подошла ближе, чтобы передать письмо.
Екатерина нетерпеливо вскрыла его, и при первых же строках ее лоб нахмурился. Гиз извещал, что Монгомери скрылся, но последние строки умиротворили ее.
«Взамен возьмите пажа, — написал он, — мальчишка — колдун, вы найдете при нем некоторые яды.»
— Скажи мне, мальчик, — начала Екатерина, пытливо глядя на Филли, — ты веришь в колдовство?
— Ваше величество, говорят, что опасно отрицать то, что установлено святой церковью.
— А, ты осторожен! Я тоже не верю в колдовство и убеждена, что хорошей железной цепью можно приковать самого дьявола, а тем более маленького дьявола, который в женском платье выпрыгнул из окна второго этажа в Лувре.
Филли побледнела и вздрогнула, когда Екатерина позвонила.
Дверь отворилась, и на пороге появились два здоровенных парня, телохранители Екатерины. По данному знаку они связали Филли раньше, чем она успела опомниться от страха.
— Отведите его в застенок Лувра и привяжите к брускам, — крикнула королева. — Я приду после первой степени пытки.
Стражники потащили несчастную вниз по винтовой лестнице.
В застенке с нее сорвали одежду.
— Это — девушка! — поразились они, между тем как Филли от страха и стада проливала горькие слезы, — Горб у нее поддельный!… Об этом нужно доложить королеве.
Парни колебались чинить над девушкой расправу и уставились на нее похотливым взором.
— Это что такое? — возмутилась их промедлением Екатерина, войдя со своим духовником. — Женщина! — удивилась она, и ее лицо приняло демоническое выражение.
— Бичуйте же ее! Если она умела скрывать свой пол, пусть поплатится за это.
Слуги привязали несчастную. В несколько минут все прекрасное тело Филли было исполосовано до крови.
Девушка не издала ни единого звука, и, когда ее перестали истязать, чтобы провести дознание, ее зубы были судорожно сжаты.
— Ты признаешься теперь, кто ввел тебя в Лувр в день смерти Клары Монгомери? — спросила Екатерина с нескрываемым торжеством и злорадством.
— Я сама вошла! — крикнула Филли с ненавистью в лицо королеве. — Вы хотите умертвить меня на пытке, потому что я подслушала, как вы призывали дьявола к себе на помощь! Вы хотите убить меня за то, что я не хотела помочь вам изготовить яд для короля, вашего сына!
— Привинтите ее к тискам! — зашипела Екатерина, бледная от бешенства, так как заметила, что слуги насторожились.
— Подчиняйтесь ей! — крикнула Филли. — А завтра она будет вас пытать за то, что вы слышали мои слова.
— Вырвите ей язык! — бесновалась Екатерина и в пылу ярости схватила щипцы.
Но духовник остановил ее.
— Оставьте, — шепнул он, — ваше негодование может показаться слугам признанием вашей вины, и хотя вы каждому можете дать отпор, но все же лучше уберечься от злой клеветы. Эта девушка упорна и не поддается пытке. Не попробовать ли соблазнить ее обещаниями? Она должна отречься от своих слов, а там вы можете…
Не успел он договорить, как постучали в дверь и посланец передал Екатерине пергамент.
Это было письмо от герцога Гиза.
«Пощадите пажа! — писал он. — Король хочет видеть его не далее как сегодня!»
Королева подала знак палачам, привинтившим тиски, отойти в сторону и показала несчастной Филли послание Гиза.
— Вот кого должна ты ненавидеть, — прошептала Екатерина, — он предал тебя. Откажись от своих слов, и я буду милостивее, чем герцог, которому ты служила с такой преданностью!
Филли прочла письмо, и трепет ужаса пробежал по ее телу. Человек, который был обязан ей победой и даже жизнью, презренно предал ее мстительной Екатерине.
— Первую степень! — велела Екатерина палачам и, когда они протянули тиски, которые должны были смять кости рук несчастной девушки, повторила свой вопрос, с которым раньше обратилась к Филли.
— Меня провел в Лувр герцог Гиз, — простонала Филли. — Он предал меня вам.
По данному знаку тиски нажали, кости хрустнули.
II
Сэррей и Вальтер Брай, как только были выпущены на свободу, тотчас же поспешили к герцогу, чтобы узнать о судьбе пажа.
— Я должен был пожертвовать им ради вашей свободы! — сказал Гиз легкомысленно, не подумав, что Брай и Сэррей могли привлечь его за это к ответственности. Но они узнали уже от камердинера, что сделал паж для их спасения и что герцог послал его к королеве Екатерине.
— Возьмите мою жизнь, но спасите ребенка! — воскликнул Вальтер.
Однако все его мольбы и угрозы не помогли. Тогда оба англичанина бросились к Марии Стюарт, чтобы у ног ее молить о помощи для спасения Филли. Они повстречали у королевы Дэдлея, который молил о спасении Фаншон.
С ужасом слушала Мария, как Екатерина хотела умертвить Фаншон, какие ужасы творятся в подземельях Лувра, и поняла, почему ее друзья так боялись за судьбу своего пажа. Не медля ни минуты, она побежала к королю и со слезами на глазах стала молить его о королевском приказании вырвать несчастную жертву из рук убийцы.
Франциск, отрицательно покачав головой, сказал:
— Это — моя мать! Я не могу употребить против нее насилие.
— Она — враг твоей короны. Покажи свою власть, дорогой Франциск!… Я возненавижу тебя, если ты допустишь такое позорное деяние. Я не требую, чтобы ты заковал в цепи эту женщину, которая руководила заговором против тебя и посягала на твою корону, но я прошу тебя только воспрепятствовать ей в преследовании верных тебе и мне людей.
— Мария, она отомстит тебе и мне за то, что мы лишили ее жертвы, которую даже сам Гиз не смог не уступить ей. Что нам проку от этих несчастных, которые еще обвиняются, как я слышал, в ереси?
— В таком случае пусть верховный суд произнесет приговор над ними, но не допускай тайного убийства. Я не могу вынести это. Заклинаю тебя моей любовью, не позволяй творить такие ужасы, иначе я никогда больше уже не буду весела вблизи тебя!
Франциск подошел к своему письменному столу, написал несколько строк, затем позвонил и передал письмо слуге.
— Герцогу Гизу, немедленно! — сказал он.
Мария Стюарт обняла мужа и стала целовать его, но он был мрачен и задумчив.
— Чаша переполнилась, — прошептал он про себя, — теперь мать вонзит кинжал мне в сердце, тот самый кинжал, который был направлен против моей короны.
Мария Стюарт не слыхала его слов. Она была счастлива, что любовью добилась жертвы, нелегкой для него. Но когда прошло два часа, а ей все еще не доложили об освобождении арестованных, она стала беспокоится. Она приказала привести Филли и Фаншон в ее комнаты и радовалась возможности возвратить спасенных своим английским друзьям, как вдруг Мария Сэйтон доложила, что явилась королева Екатерина.
Франциск побледнел.
— Будь тверд! — прошептала Мария. — Она может только просить, если же она станет противиться, надеюсь, ты покажешь ей, что ты — король, она же — убийца и мятежница.
Она не успела договорить эти слова, как вошла Екатерина. Глаза итальянки горели мрачным, зловещим огнем.
— Я пришла, — гордо сказала она, — чтобы пожаловаться на герцога Гиза. Он требует от меня выдачи двух моих служанок, провинившихся передо мной, хотя ему следовало бы знать, что мне принадлежит судебная власть над лицами моего домашнего штата.
— Это я приказал, матушка! — произнес Франциск.
— Тогда я сожалею, что не могу исполнить приказание. Я стану защищать свои права, и мне интересно посмотреть, как далеко зайдет сын, решившийся употребить силу против своей матери! — сказала Екатерина.
— Настолько далеко, ваше величество, насколько повелевает мне долг государя. Вас обвиняют в покушении на убийство Фаншон Сент-Анжели, а паж англичан — не ваш слуга.
— Вы плохо осведомлены, ваше величество, — насмешливо ответила Екатерина. — Этот паж был уступлен мне герцогом Гизом, на службе которого он состоял в последнее время и, следовательно, поступил ко мне на службу. Он один осмелился на то обвинение, но, конечно, откажется от него на пытке. Вдобавок вас, ваше величество, обманули и насчет личности так называемого пажа. Он — переодетая девушка, негодяйка, последовавшая за молодыми людьми из Англии, и без сомнения она не заслуживает того, чтобы ею так живо интересовались короли и герцоги.
— Девушка? — воскликнул пораженный Франциск. — Не может быть!
— Не верь ей! — предостерегла его шепотом Мария Стюарт. — Вникни в дело сам, выслушав, что скажут тебе о том англичане.
— Матушка, — продолжал король, в которого эти слова вдохнули новое мужество, — данный мной приказ должен быть исполнен. Под страхом королевского гнева я прошу вас о повиновении.
— Я готова подвергнуться королевскому гневу, — с презрительной насмешкой отрезала Екатерина. — Я уступлю только силе!
— Тогда мы употребим силу! — воскликнула Мария Стюарт, горя негодованием, потому что ее возмущало такое издевательство над ее слабохарактерным супругом, который по малодушию соблюдал деликатность с этой женщиной. И решившись принудить его к твердости, она дернула звонок.
— Что ты делаешь? — шепнул ей Франциск, трепеща под ледяным взором Екатерины.
— Разве ты не прикажешь караулу стать под ружье и не пошлешь капитана гвардейцев за арестованными?
— Мне не остается ничего иного! — запинаясь, произнес король, посматривая на мать, как бы в надежде, что она уступит.
Екатерина дрожала от гнева, но вместе с тем чувствовала, что потеряет последнее влияние, если Франциск прибегнет к силе. Все до сих пор боялись ее, так как было известно, что король пока не осмеливается оказывать ей серьезное сопротивление.
— Я вижу, — воскликнула Екатерина, кидая на Марию Стюарт уничтожающий взор, — что с моей стороны будет лучше уступить. Я делаю это, не желая подавать двору повод злорадствовать при виде распрей в королевской семье. Я согласна скорее допустить, чтобы меня тиранили, чем дать пищу насмешкам над матерью короля. Я отпущу на свободу заключенных, но с этого часа буду считать порванными узы родства и велю моим слугам избавить меня от королевских почестей, которые оказывают мне только для смеху!
— Матушка! — воскликнул Франциск, бледнея, но Мария Стюарт не дала ему снова испортить все неуместным малодушием.
— Она не сделает этого — шепнула она, — будь стойким, Франциск! Взгляни только на ее злобные глаза — она и не думает подчиняться. Вспомни Амбуаз!
— Ты права, — вполголоса пробормотал он, не осмеливаясь однако поднять взор. — Мушкетерам пришлось охранять меня от друзей моей матери. Матушка, — продолжал он вслух, — лишь благодаря сыновней почтительности, я забывал до сих пор свой долг…
Екатерина расслышала слова, сказанные им вполголоса, и убедилась в том, что Гиз проболтался. Что бушевало в этот час в ее груди! И за то принуждение, которое ей понадобилось совершить над собой, чтобы покориться чужой воле, Марии Стюарт предстояло заплатить кровавыми слезами, а Гизу — собственной жизнью.
— Я облегчу вам, ваше величество, исполнение вашего долга и оставлю вас вполне влиянию двуличной жены! — промолвила она и покинула комнату.
В передних залах она встретила англичан, нетерпеливо ожидавших исхода аудиенции, а также только что вошедшего герцога Гиза.
— А, герцог Гиз! — воскликнула она. — Я рада, что вы еще вовремя предупредили меня, чтобы я пощадила пажа, потому что этим я спасу жизнь Бурбонов!
— Ваше величество, — произнес уличенный в предательстве Гиз, — ведь мы здесь не одни…
Я вижу, — улыбаясь, перебила его королева, — но, может быть, мне как раз нужны свидетели. Ваша честь порукой мне в том, что Бурбоны будут спасены, когда я освобожу тех, чью жизнь вы обещали мне в награду на перемирие. Проводите меня, ваша светлость, вы должны быть свидетелем того, как я держу свое слово!
— Ваше величество, вы жестоки, — прошептал герцог.
— Клянусь своей честью…
— Шш, герцог! — снова прервала его королева, на этот раз понизив голос. — Екатерина Медичи не позволит шутить с собой. Я хочу иметь преданных друзей или явных врагов. Сейчас вам представится случай снова принять чью-нибудь сторону — стать за меня или против меня, но клянусь Пресвятой Девой — обдумайте предварительно свои действия!… А то вы рискуете своей головой.
Екатерина произнесла эти слова шепотом, но с таким угрожающим и победоносным видом, что Гиз, не имевший понятия о том, что произошло сию минуту в королевском кабинете, был уверен, что она нашла средство ниспровергнуть его.
— Ваше величество, — поспешно произнес он, — я остаюсь верен своим обещаниям. Бурбоны свободны!
— Тогда пойдемте! — воскликнула Екатерина с торжествующим видом. — Пусть за нами следуют те господа, которые добились, чтобы я освободила моих заключенных. Я хочу передать их этим людям из рук в руки.
Гиз подал англичанам знак следовать за ним.
— И что же они показали? — спросил он потихоньку.
— Что герцог Гиз — их соучастник в интригах против двора. Мой духовник засвидетельствовал эти показания. Итак, вы видите, что англичанам не мешало бы покинуть Францию. Ведь их обвинение падает на нас обоих.
— Ваше величество! Вторая степень пытки, пожалуй, избавила бы меня от обвинения…
— Вы — друг или враг? — тихо спросила она.
Во всяком случае покорный слуга вашего величества!
III
Достигнув своих покоев, Екатерина приказала доставить герцогиню Сент-Анжели и Филли из их заточения, чтобы передать англичанам.
Невероятный ужас охватил Брая, Сэррея и Дэдлея, когда жертвы королевы были принесены в длинных корзинах.
— Я избавлю их от наказания, — заявила Екатерина, — и передаю этих виновных на ваше попечение, милорды. Климат Англии будет им полезнее парижского. — И повернулась к англичанам спиной.
Ее мстительность была удовлетворена.
Цветущая женщина, упоительное очарование которой заставляло Дэдлея некогда трепетать от наслаждения, превратилась в обтянутый кожей скелет, в изможденное тело, навсегда разрушенное пыткой. А Филли? Вальтер вскрикнул от горя и ярости, когда увидал это жалкое существо: изо рта девушки, несмотря на перевязку лилась кровь. Филли вырвали язык, чтобы обезопаситься от ее показаний.
Герцог Гиз покинул поспешно комнату. На смену ему явился капитан телохранителей и передал британцам приказ покинута Лувр с корзинами, которые носильщики снова подняли с полу.
— Het, — возразил Вальтер, выхватив меч, — мы уедем не раньше того, как король увидит это поношение и отомстит за нас.
— Берегите свою голову! — шепнул ему капитан. — Герцог Гиз приказал в случае надобности удалить вас силой. Вложите в ножны свой меч. Или вы хотите доставить Екатерине удовольствие увидеть и вас на пытке?
— Хорошо! — сказал Вальтер. — Я не стану угрожать, я буду просить. Ведите меня к королю. Я готов поплатиться жизнью за правосудие!
— Молчите!… Неужели король потребует к суду родную мать? Самое лучшее для вас — бегство. Предоставьте Небу отмщение, а сами позаботьтесь о несчастных, которым придется еще хуже, если вас арестуют.
Лицо Вальтера побелело как мел.
— Вы судите верно. Когда Филли умрет или выздоровеет, я вернусь сюда. — Потрясенные Сэррей и Дэдлей согласились с ним.
На следующий день по всему Парижу распространилось тревожное известие, что король опасно заболел. Сэррею вручили письмо Марии Стюарт.
«Бегите, — писала она, — я не могу защитить вас. Много слез пролито мной, но самыми горькими были те, которыми я оплакиваю ваше несчастье. Бегите, потому что этого хочет Гиз! Я не могу отомстить за вас: мой дорогой супруг болен, и я трепещу за каждого, кого люблю, с той поры, как узнала, что люди, верные и преданные мне, навлекают этим на себя несчастья. Да сопутствует вам Господь, и если моя молитва дойдет до Неба, то — верьте — я готова на всякое искупление, лишь бы утешить вас этой ценой. Покиньте Францию, милорды! Рука Екатерины хватает далеко…»
При больном Франциске не было никого, кроме плачущей жены. Екатерина уже совещалась с Гизом насчет регентства. Врачи объявили, что король безнадежен, так как по необъяснимой причине у него в ухе образовался нарыв. При умирающем короле не было никого из близких, кроме Марии. Ее слезы орошали его бледное, страдальческое лицо. Вдруг она громко вскрикнула и упала без чувств. Франциск отошел в вечность.
«Король умер!» — послышался троекратный возглас с балкона Луврского дворца, после чего раздался ликующий крик: «Да здравствует король!»
Герольд возвестил собравшейся несметной толпе народа о смерти Франциска II и восшествии на престол Карла IX под регентством Екатерины.
У трупа стояла на коленях Мария Стюарт и молилась в безграничной скорби. Она целовала бледные, холодные губы мертвого супруга и гладила его волосы.
— Ты был так добр, — вздыхала она, — а никто не горюет по тебе, кроме твоей жены. Ты умер, и с тобой будет погребена вся моя радость. Прощай Франциск, прощай!
— Прощай! — прошептал вместе с ней жалобный голос.
Мария подняла глаза и увидела бледное лицо Кастеляра.
Он также плакал и молился о Франциске. Может быть, он просил у него прощенья за свою греховную ревность.
На погребении короля Мария Стюарт появилась в белом платье и венке из белых роз. Именно в таком одеянии увидел ее впервые Франциск в Сен-Жермене.
Краткое лето ее жизни быстро отцвело; радостная улыбка детской веселости должна была навсегда сойти с ее лица.

Глава двадцать первая
ПРОЩАНЬЕ

I
 Протестантство быстро распространилось в Шотландии при регентстве графа Аррана. Георг Вишарт и Нокс были фанатичными проповедниками нового учения и успели приобрести значительное число последователей, когда граф Арран начал искать примирения с католической церковью и предоставил кардиналу Битону полную свободу преследовать еретиков. Вишарта пытались убить из-за угла, после чего протестантские священники стали появляться на улице не иначе, как под охраной вооруженных людей. Тем не менее графу Патнику и Босвелю удалось напасть на Вишарта и выдать его кардиналу Битону. Кардинал немедленно распорядился сжечь живым своего врага. В отместку за то шестнадцать решительных протестантов напали на Битона, умертвили его и повесили на зубце его замка.
С этого началась в Шотландии кровопролитная борьба между враждебными вероисповеданиями, и Мария Лотарингская воспользовалась протестантской партией, чтобы лишить власти графа Аррана. Она освободила Нокса, который долгие годы томился в цепях на галерах, и этот смелый, необыкновенный человек готовился со священным рвением сделаться духовным устроителем и нравственным властелином Шотландии.
Лорд Джэмс Стюарт, побочный брат королевы, граф Эджиль, лорд Эрскин и другие представители знатнейших родов примкнули к реформатству. Десять дней проповедовал Нокс в Эдинбурге (причем никто не осмеливался оспаривать его тезисы), народ разгонял религиозные процессии, сбросил статую святого Эгидия, покровителя города, в море и потребовал наконец признания нового учения.
Мария Лотарингская, которая воспользовалась протестантами лишь для того, чтобы ниспровергнуть партию регента, не могла дольше медлить. Получив регентство, она как ярая католичка поспешила воздвигнуть преграду революции. По ее приказу Нокс опять подвергся преследованию, бежал, и регентша, велев сжечь его изображение в Эдинбурге, пригласила всех проповедников новой веры в этот город для доказательства истинности их учения. Они явились, но в сопровождении такой многочисленной свиты баронов, что Мария Лотарингская не рискнула напасть на них. Она остерегалась прибегать к силе, пока ее дочь не вышла замуж за дофина Франции, а тесная связь между Испанией и Англией не порвалась со смертью Марии Католической и с восшествием на престол протестантки Елизаветы. Лишь после этого Мария Лотарингская стала считать себя достаточно могущественной для того, чтобы уничтожить всех еретиков и с помощью церкви и дворов Франции и Испании прибрать к рукам и английский трон.
Новое учение подверглось опале. Но тут вернулся Нокс. Его воодушевленные речи возбуждали народ разорять монастыри и опустошать памятники католической веры. Регентша грозила разрушить город Перт, но, пока снаряжала свои войска, собрались лорды конгрегации — и объявили ей войну. Эдинбург был завоеван протестантами, и здесь также ниспровергались алтари. Регентша обратилась за помощью к французскому королю, а протестанты — к Елизавете. Франциск II послал в Шотландию вспомогательный корпус под предводительством маркиза д’Эльбефа. Елизавета, со своей стороны, снаряжала войска. Однако она не решалась еще приступать к военным действиям, вероятно потому, что Нокс оскорбил ее лично в одном сочинении, направленном против женского правления Тюдоров. Только после принятия Франциском II и Марией Стюарт английского герба решилась Елизавета начать войну.
Шотландские дворяне-протестанты совершили тогда первый насильственный шаг, направленный против Марии Стюарт: они объявили низложение регентши. Заговор в Амбуазе помешал Гизу отправить вспомогательные войска своей сестре, Марии Лотарингской. Напрасно Франциск II посылал в Эдинбург епископа де Монлюка с целью примирить регентшу с мятежниками. Мария Лотарингская заболела и умерла, сломленная горем, униженная в своей гордости, потерпевшая поражение от мятежников. В своем настойчивом честолюбии она хотела проложить дорогу своей дочери к обладанию тремя коронами и тем нажила ей врагов, которые подняли голову именно теперь, когда Мария Стюарт стала вдовой, нуждающейся в утешении и помощи. Она восстановила протестантских лордов против юной королевы и довела их до того, что феодальная аристократия в Шотландии привлекла к себе всю силу страны. Королевская же власть была представлена в новом парламенте только немыми и бессильными изображениями короны, скипетра и меча над незанятым троном. Горячая петиция, поданная протестантами, требовала даже, чтобы католическая церковь была объявлена вне закона, чтобы была введена строгая церковная дисциплина и страшные наказания тем, кто вздумал бы служить обедню по католическому обряду.
Мария Стюарт, шотландская королева, была католичкой! Когда от нее потребовали подписать акт, предоставлявший народу религиозную свободу, она велела передать от нее лордам следующее:
— Мои подданные в Шотландии совсем не исполняют своего долга. Я — их королева. Они дают мне этот титул, но сами ведут себя не как подданные. Я покажу им, в чем состоит их долг.
Однако положение дел во Франции не позволяло послать войско в Шотландию. Король Франциск II умер, и Мария Стюарт осталась одинокой, ненавидимая всеми своими подданными за ее покровительство французскому влиянию, ненавидимая Екатериной Медичи за противодействие ей, ненавидимая Елизаветой за присвоение английского герба. Вдова Франциска II теперь была снова просто шотландской королевой и не чем более и нашла свое дворянство привыкшим к мятежу и располагающим верховной властью, свое королевство в союзе против нее с враждебным до сих пор соседним государством — Англией, а свой народ исповедовавшим не ту религию, которой держалась она сама.
Вдова в восемнадцатилетнем возрасте и француженка с одиннадцати лет, Мария Стюарт почувствовала всю тяжесть утраты, причиненной ей смертью мужа, впала в глубокое отчаяние, заперлась на несколько дней у себя в комнатах и не принимала никого, кроме своих ближайших родственников. Разумеется, Мария охотно осталась бы во Франции и жила бы там в качестве вдовствующей королевы, но, с одной стороны, ей угрожала ненависть Екатерины, а с другой — молодой король Карл IX, брат ее покойного мужа. Он надоедал ей своей назойливой любовью, проводил целые часы перед ее портретом и повторял, что он согласился бы лечь в могилу, как его брат, если бы ему, как покойному королю, удалось обладать перед смертью целый год прекрасной Марией Стюарт.
Протестантство быстро распространилось в Шотландии при регентстве графа Аррана. Георг Вишарт и Нокс были фанатичными проповедниками нового учения и успели приобрести значительное число последователей, когда граф Арран начал искать примирения с католической церковью и предоставил кардиналу Битону полную свободу преследовать еретиков. Вишарта пытались убить из-за угла, после чего протестантские священники стали появляться на улице не иначе, как под охраной вооруженных людей. Тем не менее графу Патнику и Босвелю удалось напасть на Вишарта и выдать его кардиналу Битону. Кардинал немедленно распорядился сжечь живым своего врага. В отместку за то шестнадцать решительных протестантов напали на Битона, умертвили его и повесили на зубце его замка.
С этого началась в Шотландии кровопролитная борьба между враждебными вероисповеданиями, и Мария Лотарингская воспользовалась протестантской партией, чтобы лишить власти графа Аррана. Она освободила Нокса, который долгие годы томился в цепях на галерах, и этот смелый, необыкновенный человек готовился со священным рвением сделаться духовным устроителем и нравственным властелином Шотландии.
Лорд Джэмс Стюарт, побочный брат королевы, граф Эджиль, лорд Эрскин и другие представители знатнейших родов примкнули к реформатству. Десять дней проповедовал Нокс в Эдинбурге (причем никто не осмеливался оспаривать его тезисы), народ разгонял религиозные процессии, сбросил статую святого Эгидия, покровителя города, в море и потребовал наконец признания нового учения.
Мария Лотарингская, которая воспользовалась протестантами лишь для того, чтобы ниспровергнуть партию регента, не могла дольше медлить. Получив регентство, она как ярая католичка поспешила воздвигнуть преграду революции. По ее приказу Нокс опять подвергся преследованию, бежал, и регентша, велев сжечь его изображение в Эдинбурге, пригласила всех проповедников новой веры в этот город для доказательства истинности их учения. Они явились, но в сопровождении такой многочисленной свиты баронов, что Мария Лотарингская не рискнула напасть на них. Она остерегалась прибегать к силе, пока ее дочь не вышла замуж за дофина Франции, а тесная связь между Испанией и Англией не порвалась со смертью Марии Католической и с восшествием на престол протестантки Елизаветы. Лишь после этого Мария Лотарингская стала считать себя достаточно могущественной для того, чтобы уничтожить всех еретиков и с помощью церкви и дворов Франции и Испании прибрать к рукам и английский трон.
Новое учение подверглось опале. Но тут вернулся Нокс. Его воодушевленные речи возбуждали народ разорять монастыри и опустошать памятники католической веры. Регентша грозила разрушить город Перт, но, пока снаряжала свои войска, собрались лорды конгрегации — и объявили ей войну. Эдинбург был завоеван протестантами, и здесь также ниспровергались алтари. Регентша обратилась за помощью к французскому королю, а протестанты — к Елизавете. Франциск II послал в Шотландию вспомогательный корпус под предводительством маркиза д’Эльбефа. Елизавета, со своей стороны, снаряжала войска. Однако она не решалась еще приступать к военным действиям, вероятно потому, что Нокс оскорбил ее лично в одном сочинении, направленном против женского правления Тюдоров. Только после принятия Франциском II и Марией Стюарт английского герба решилась Елизавета начать войну.
Шотландские дворяне-протестанты совершили тогда первый насильственный шаг, направленный против Марии Стюарт: они объявили низложение регентши. Заговор в Амбуазе помешал Гизу отправить вспомогательные войска своей сестре, Марии Лотарингской. Напрасно Франциск II посылал в Эдинбург епископа де Монлюка с целью примирить регентшу с мятежниками. Мария Лотарингская заболела и умерла, сломленная горем, униженная в своей гордости, потерпевшая поражение от мятежников. В своем настойчивом честолюбии она хотела проложить дорогу своей дочери к обладанию тремя коронами и тем нажила ей врагов, которые подняли голову именно теперь, когда Мария Стюарт стала вдовой, нуждающейся в утешении и помощи. Она восстановила протестантских лордов против юной королевы и довела их до того, что феодальная аристократия в Шотландии привлекла к себе всю силу страны. Королевская же власть была представлена в новом парламенте только немыми и бессильными изображениями короны, скипетра и меча над незанятым троном. Горячая петиция, поданная протестантами, требовала даже, чтобы католическая церковь была объявлена вне закона, чтобы была введена строгая церковная дисциплина и страшные наказания тем, кто вздумал бы служить обедню по католическому обряду.
Мария Стюарт, шотландская королева, была католичкой! Когда от нее потребовали подписать акт, предоставлявший народу религиозную свободу, она велела передать от нее лордам следующее:
— Мои подданные в Шотландии совсем не исполняют своего долга. Я — их королева. Они дают мне этот титул, но сами ведут себя не как подданные. Я покажу им, в чем состоит их долг.
Однако положение дел во Франции не позволяло послать войско в Шотландию. Король Франциск II умер, и Мария Стюарт осталась одинокой, ненавидимая всеми своими подданными за ее покровительство французскому влиянию, ненавидимая Екатериной Медичи за противодействие ей, ненавидимая Елизаветой за присвоение английского герба. Вдова Франциска II теперь была снова просто шотландской королевой и не чем более и нашла свое дворянство привыкшим к мятежу и располагающим верховной властью, свое королевство в союзе против нее с враждебным до сих пор соседним государством — Англией, а свой народ исповедовавшим не ту религию, которой держалась она сама.
Вдова в восемнадцатилетнем возрасте и француженка с одиннадцати лет, Мария Стюарт почувствовала всю тяжесть утраты, причиненной ей смертью мужа, впала в глубокое отчаяние, заперлась на несколько дней у себя в комнатах и не принимала никого, кроме своих ближайших родственников. Разумеется, Мария охотно осталась бы во Франции и жила бы там в качестве вдовствующей королевы, но, с одной стороны, ей угрожала ненависть Екатерины, а с другой — молодой король Карл IX, брат ее покойного мужа. Он надоедал ей своей назойливой любовью, проводил целые часы перед ее портретом и повторял, что он согласился бы лечь в могилу, как его брат, если бы ему, как покойному королю, удалось обладать перед смертью целый год прекрасной Марией Стюарт.
II
Весна стояла в том году холодная и пасмурная.
В тихом уединении Сен-Жермена, под зеленеющими буками, где протекли веселые дня счастливой юности Марии Стюарт, где она срывала цветы своей сладостной любви, сейчас бродила убитая горем молодая вдова. Граф Мортон шел рядом с ней. Могущественный шотландский лорд принес ей письмо. В нем было сказано, что она должна вернуться домой, если не хочет потерять унаследованную корону. Кроме того, он сообщил, что весть о смерти Франциска II лишь потому заставила шотландских мятежных лордов на время присмиреть и пойти на уступки, что каждый из них надеется овладеть рукой вдовствующей королевы, а следовательно, и короной.
Ее рукой! Как будто она могла отдать свою руку без сердца, а ее сердце могло когда-нибудь позабыть, что единственный любимый ее человек покоится в земле Франции! Марии казалось насмешкой, что люди надеялись на ее любовь там, откуда исходили все оскорбления, испытанные ею. Однако час назад духовник серьезно увещевал ее, говоря, что Небо требует от нее жертвы, что Господь, даровавший ей королевский венец, налагает на нее долг послужить вечной вере посредством власти этого венца. Мало того, он говорил, что Провидение отняло у нее супруга, может быть, именно ради того, чтобы она вернулась обратно в Шотландию и снова ввела в своем государстве католичество и судила еретиков.
Королева Англии также прислала Марии письмо. Политика Елизаветы напоминала приемы льстивой кошки, она пыталась отвлечь Марию Стюарт от Франции. Граф Бедфорд прибыл в Париж под предлогом изъявить юной вдове соболезнование и посоветовать ей заключить мир с шотландскими мятежниками. В разговоре с ним Мария заявила, что на самом деле никогда не думала оспаривать у Елизаветы ее трон и выразила желание жить с Елизаветой в наилучших соседских и родственных отношениях. Однако Мария остерегалась последовать ее совету — признать новый парламент. Она оказалась бы отступницей от своей веры, если бы подписала соглашение, обрекавшее католическую религию на изгнание.
Тогда Бедфорд предупредил королеву, что Елизавета не выдаст ей охранной грамоты для свободного пропуска через свои владения, пока она не подпишет эдинбургского договора, составленного мятежными лордами.
Мария покраснела и, глубоко оскорбленная, ответила с королевской гордостью:
— Ни о чем не сожалею я так глубоко, как о том, что унизила себя просьбой о милости перед Елизаветой Я не хотела вносить беспокойство в ее государство, я искала только ее дружбы. Она же сначала возбудила против меня моих подданных, а теперь, когда я осталась вдовой, ваша королева полагает, что может угрожать мне! Я уеду отсюда, хотя мне было бы приятнее остаться во Франции, чем воевать в Шотландии с бунтовщиками. Я исполню свой долг. Если буря выбросит меня на английский берег и я попаду во власть Елизаветы, пусть она убьет меня тогда. Может быть, это лучше, чем такая жизнь. Да будет воля Божья!
Глубоко растроганный, слушал граф Мортон прекрасную, удрученную горем женщину. Он невольно положил руку на меч и воскликнул с одушевлением:
— Есть еще мужчины, которые сумеют заслужить ваше уважение и отдадут последнюю каплю крови за свою королеву.
Тут к ним подошел Кастеляр. Мария вздрогнула. Сходство Боскозеля с ее покойным мужем было так велико, что ей показалось, будто она видит Франциска.
— Я еду, — шепнула она в ответ на его вопросительный взгляд, — это решено.
Были ли то слова прощания или же ее сердце давало ему понять, что он может следовать за ней? Кастеляр знал, что не только Филипп Испанский просил ее руки для своего сына, но что все шотландские дворяне прочили молодую королеву в жены кому-нибудь из их семьи: Неужели с сердцем, обливающимся кровью, он должен увидеть, как другой завладеет ею и осквернит эти уста, украсит это дивное чело нежеланной миртой, как голову жертвенного агнца?
— Вы молчите? — прошептала опять Мария. — О, Боже мой, если я нуждалась когда-нибудь в совете моих друзей, то именно теперь…
Граф Мортон удалился. Никто не был ему так ненавистен, как французские кавалеры. Франция была виновницей волнений в Шотландии. Это она раздула междоусобную вражду, а теперь отказывала в помощи против Англии.
— Вы хотели услышать мой голос? — прошептал Кастеляр, и жар долго сдерживаемой страсти вспыхнул в нем с новой силой. — Должен ли я говорить как друг или как слуга, посвятивший вам свою жизнь? Все, что чувствует влюбленный, видя свою невесту во власти грубых сыщиков, что чувствует брат, беспомощно следя за гибелью сестры, — все это, и еще несравненно более того, испытываю я, потому что в вас для меня заключается все, что дорого моему сердцу. Я должен подать вам совет? Хорошо! Вы хотите ехать — нет, вы не хотите, — но вас принуждают, действуя на ваши благородные чувства, порвать все узы, которыми вы дорожили. Вас увезут, но ваша душа никогда не покинет Францию. О, — с горькой улыбкой продолжал он, увидев, как Мария залилась слезами, — сегодня говорят, что долг призывает вас в Шотландию, что Небо повелевает вам взять в руки скипетр, а завтра потребуют от вас, чтобы вы избрали себе в супруги одного из шотландских неотесанных, грубых лордов, и вы терпеливо подчинитесь.
— Никогда не бывать этому! — воскликнула Мария, положив руку на плечо Боскозеля. — Лучше умереть! Вы будете служить мне защитой и опорой.
Кастеляр бросился на колени.
— Поклянитесь мне, Мария, — воскликнул он, — что политика никогда не будет распоряжаться вашим сердцем и рукой! Тогда вы отдадите Шотландии лишь то, чего не хочет Франция. Тогда хоть вы останетесь для меня единственной, недосягаемой, вечно любимой…
Он запнулся, испугавшись слов, невольно вылившихся у него из сердца.
— Зачем огорчаете вы меня? — с мягким упреком промолвила она. — Ведь вам известно, что мое сердце принадлежит моему покойному мужу.
— Простите меня!… Ведь я ничего не требую… Вы останетесь моей, где бы вы ни находились и какая бы корона ни угнетала вашего чела!
— Да, она гнетет меня, и я изнемогаю под ее бременем. Но я охотно даю вам клятву в том, что этим диким мятежникам никогда не завладеть моим сердцем. После тягости дня, после исполнения моих трудных обязанностей, мы станем беседовать по вечерам о нашей прекрасной Франции. Мария Флеминг споет нам что-нибудь, вы сыграете на лютне, а Мария Сэйтон нарядит меня как бывало для пышных празднеств в Версале. Мы перенесемся мечтой обратно, в милое отечество моей души, и позабудем на несколько счастливых часов, что злая судьба удалила нас отсюда.
III
На другой день Мария Стюарт покинула Сен-Жермен. Герцог Гиз и много придворных сановников провожали ее доКале, где отъезжавшую ожидала галера до Мовильона. Однако пришлось прождать шесть дней, прежде чем ветер позволил судну выйти из гавани.
День отплытия был пасмурен, как перспектива будущности Марии Стюарт. Королева стояла на палубе в кругу своих приятельниц, которые разделяли с ней заточение в Инч-Магоме, радовались с ней, когда она после ночного побега наконец увидела море, а потом сопровождали ее во Францию. Устремив полные слез глаза на отдаляющийся берег, Мария Стюарт, махала платком и посылала последний прощальный привет близким и знакомым. Она отказалась сойти в каюту и опустилась на ковер, разостланный для нее.
— Прощай, Франция! — твердила юная королева сквозь слезы. — Прощай, моя возлюбленная Франция, ты навсегда потеряна для меня!
Наконец корабль вышел в открытое море, и там Мария провожала взглядом каждое судно, плывшее во Францию. Одна галера, с которой только что дали салют высокой путешественнице, наткнулась на подводный риф и пошла ко дну на ее глазах. Напрасно высылали спасательный бот, никого не удалось спасти.
— О, Боже мой, — воскликнула королева, — какое предзнаменование для начала путешествия!
Корабль благополучно ускользнул от английских крейсеров и после пятидневного плавания достиг Фортского залива. Густой туман помешал заметить маленькую флотилию с суши, и Мария вступила в свое отечество, не встретив здесь торжественного приема.
Как только стало известно, что она высадилась в гавани, население хлынуло ей навстречу со всех сторон, а дворянство проводило во дворец ее предков в Эдинбурге. Это искреннее усердие тронуло королеву, однако не могло развеселить се. Она невольно сравнивала убожество дикой страны с великолепием парижского двора. Для королевы приготовили хорошую верховую лошадь, но дамам и кавалерам ее свиты пришлось удовольствоваться маленькими горными лошадками.
Мария Стюарт была одета во все белое, а ее волосы украшал венок из роз. Это был ее любимый наряд с той поры, как она пленила в нем Франциска, но при первом шаге, сделанном ей, королева ступила на репейник. Колючки впились ей в ногу.
— Это — шотландский репейник! — прошептал Боскозель, вынул меч и срубил им несколько головок растения.
Шотландские лорды мрачно насупились. Этот поступок француза как будто означал, что Мария Стюарт будет носить свою колючую корону с мечом в руке. И взгляд, брошенный ею на графа Аррана, когда она приветствовала прочих дворян, мог подтвердить подобное предчувствие.
— Милорды, — сказала Мария Стюарт, — здесь произошло много несправедливого. Парламент забрал большую волю в ущерб королевской власти, но все это должно быть прощено и забыто. Мы желаем мира и уважения к закону, а также религиозной свободы для каждого. Но хотя мы ожидаем от вас, милорды, согласия и усердия, однако мы не можем скрывать, что никогда не окажем уважения и доверия тем лицам, которые отравили жизнь нашей несчастной матери и всегда содействовали смуте.
Граф Арран мрачно отвернулся, тогда как остальные лорды, ослепленные прелестями прекрасной королевы и воодушевленные ее привлекательностью, принесли ей присягу в верности.
Мария Стюарт во главе дворянства отправилась в Голируд. Утомленная путешествием, она тотчас по приезде в замок удалилась в свои покои. Однако вечером народ устроил ей серенаду на скрипках и волынках, присоединив к ней пение псалмов. Эта нестройная музыка и хоралы мрачного культа еще более усилили меланхолическое впечатление юной королевы в стране, которая стала ей чуждой и должна была заново стать для нее отечеством.
Мария Стюарт опустилась на колени перед распятием и начала молиться. Горячие слезы струились по ее щекам.
IV
Внизу, в банкетном зале дворца, угощались вином лорды Джэмс Стюарт, Мейтленд и Эрджиль. Мейтленд воткнул нож в паштет и, смеясь, воскликнул:
— Сделаем с ней то же самое, что сделал француз с репейником!
— Черт побери! — подхватил Эрджиль. — Неужели мы привезли ее сюда затем, чтобы ее французские лизоблюды задавались перед нами? Если бы не торжественный сегодняшний прием, то я хлопнул бы по его надушенной макушке!
— Умерь свой задор, Эрджиль, оставь излишнюю поспешность! Сначала нужно выяснить, как она покажет себя, — проворчал Джэмс, — с тем дураком всегда успеем разделаться. Но разве вы не видели, какой взгляд она бросила на Аррана? Ей-Богу, из этой женщины может что-нибудь выйти, и — честное слово! — за мной дело не станет, если она через год не предложит условия мира стране.
Мейтленд, покачав головой, воскликнул:
— Вы бредите! Именно тот взгляд на Аррана — колкий, как обоюдоострый кинжал — убедил меня, что она — не кукла, готовая подчиниться вашему руководству. Она доверяет вам, потому что вы до сих пор еще не противоречили ей и не требовали ничего такого, на что ей трудно согласиться. Ведь вы так и не заставили ее подписать эдинбургский договор!
— Ха-ха! — рассмеялся Джэмс. — Тогда она была во Франции, а теперь находится в Голируде. Я схвачу ее железной перчаткой, а что я раз схватил, того уже не выпущу.
— Смотрите, чтобы она от вас не ускользнула, когда будете ее хватать! Этот Боскозель…
— … ее игрушка. Когда она найдет супруга, то он вышвырнет эту куклу за дверь.
— Если только вы не ошибаетесь. Говорят, будто он имеет большое сходство с Франциском Вторым.
Джэмс стукнул мечом об пол так, что тот зазвенел.
— Черт возьми, Мейтленд! Честь Марии Стюарт защищаю я, и если негодяй вообразил, что был похож на ее живого супруга, то я могу помочь ему стать похожим на мертвого… Однако что это за чертовщина?.. Неужели нас тут подслушивают?.. Там вверху, на галерее, что-то шевельнулось.
Эрджиль стал уверять, что распорядился запереть двери. Однако Джэмс не ошибся: у колонны стояла на коленях хрупкая женщина и прислушивалась к разговору. Это была Филли.
Поддельный горб ее исчез, а вместе с ним и драгоценный пестрый наряд. Несчастная Филли прислонилась к колонне искалеченным, больным плечом. Девушку нечаянно заперли на галерее, не заметив ее присутствия.
Когда Екатерина с жестокой насмешкой передала своим врагам окровавленные жертвы, каждый из них только и думал о том, чтобы ходатайствовать перед королем о возмездии за такое постыдное деяние. Слуги из Лувра доставили обеих искалеченных пыткой женщин в больницу. Фаншон не вынесла мучений и умерла. Филли долго болела, а когда поправилась, то явилась к Марии Стюарт с надеждой на ее защиту.
Вальтер Брай и Сэррей безуспешно разыскивали Филли. Лувр был для них закрыт, да и слуги Екатерины не согласились бы сообщить им никаких сведений. Смерть короля, принесшая Екатерине регентство, делала пребывание их в Париже все опаснее с каждым днем. Но так как Боскозель навещал англичан и заботился о них, то Дэдлей и Сэррей покинули город как раз вовремя, ускользнув от сыщиков Екатерины.
Но Вальтера Брая им не удалось уговорить. Он остался в Париже и все же разыскал место, где лечилась Филли. Однако там ему сообщили, что больная уже вышла оттуда и не сказала, куда она отправилась.
«Очевидно, — решил Вальтер, — молодая девушка пустилась в обратный путь, сначала в Англию, а оттуда в Шотландию, к миссис Гиль.» Случай устроил так, что он отплыл в Англию именно в тот день, когда Филли в свите Марии Стюарт достигла Кале, чтобы плыть в Шотландию.
Маленькая немая сделалась любимицей Марии, а Боскозель защищал ее от грубых шуток прислуги. По глазам, полным безграничной преданности, было видно, что Мария Стюарт не имела при себе более верной служанки, чем Филли.
Кастеляр только что собирался лечь в постель, чтобы отдохнуть в первую ночь, которую он проводил в негостеприимном замке, как раздался легкий стук в его дверь. Он знал этот условный сигнал Филли и поспешил отворить.
Такое позднее посещение должно было означать что-нибудь важное, касавшееся королевы.
Немая вошла, запыхавшись от подъема на лестницу. Больными руками, собрав всю свою силу, она отодвинула железный засов, замыкавший дверь галереи, и благополучно ускользнула от лордов.
— Что такое, Филли? — спросил пораженный Кастеляр, когда она дала понять ему знаками, что он должен поспешно следовать за ней. — Разве королеве грозит опасность?
Она утвердительно кивнула головой. Боскозель схватился за меч. Немая приложила палец к губам и показала ему, чтобы он ступал как можно тише.
Замок Голируд образует треугольник с круглыми выступающими башнями. На широкой его стороне находилось аббатство. Небольшой двор, куда меланхолически глядели старинные сводчатые окна, был посыпан мелким гравием. Узкая каменная лестница вела в башню, обращенную к Кольтонскому холму. Там помещалась спальня королевы. Ее охраняли лучники. От главного входа можно было попасть в небольшой банкетный зал, где Стюарт угощался со своими товарищами. Зал был окружен галереей, откуда вел ход по длинному коридору к другой боковой лестнице, которая выходила во двор и охранялась стражей.
Боскозель разместился в боковом флигеле замка и ему пришлось перейти через двор, чтобы достичь одной из упомянутых лестниц.
В окнах королевы и ее придворных дам свет уже погас. Стража на лестнице, которая вела на галерею, дремала, прислонившись к стене, и Боскозелю с Филли удалось пробраться не замеченными по той дороге, по которой только что шла девушка, чтобы позвать его.
Трое лордов продолжали угощаться, но если Филли имела намерение доказать самому искреннему и преданному другу королевы, что побочный брат Марии Стюарт замышляет предательство, то она достигла противоположного результата. Лорды уже обсудили свой план, заключавшийся в том, чтобы Джэмс Стюарт овладел властью, выставив себя единственным надежным оплотом против мятежа, и теперь с грубым воодушевлением разговаривали о прелестях прекрасной государыни.
— Будь я проклят, — сказал Эрджиль, — если видел когда-нибудь более совершенную женщину! Жаль одно, что она — папистка!
— Она сведет с ума от ревности нашу пылкую молодежь, — заметил Мейтленд. — Кровь так и закипает в жилах у всякого при виде ее улыбки. Этому она выучилась во Франции. Рыцарь репейника крепко сидит у нее на удочке. Интересно знать, как далеко зашло дело между ними! Толкуют, будто бы при французском дворе ход в опочивальни королев не всегда бывает замурован.
— Здесь он наткнулся бы на шотландские кинжалы на этом пути, — проворчал Стюарт. — Оставь пустые речи, Мейтленд! То, что она делала во Франции, не должно смущать нас. Позаботимся, чтобы тут прекратились французские порядки. Народ не доверяет ей уже из-за того, что она — папистка и привезла с собой целый обоз католических попов. Горе ей, если она обнаружит еще распущенные нравы!
— Неужели ты хочешь, Стюарт, помешать пороху воспламеняться, когда его зажигают такие глаза? Говорю тебе, мы не будем знать покоя, пока она не выберет себе супруга, да и того мы должны искать вне пределов Шотландии, потому что она не может выбрать незначительного лорда, а могущественному мы не захотим подчиниться сами.
— Лучше всего было бы, если бы Елизавета Английская выбрала для нее подходящую партию! — произнес Стюарт.
Боскозель в досаде покинул галерею.
— Добрая Филли, — прошептал он, — так это было причиной твоего страха? Ты знаешь, что я люблю Марию до безумия, и боишься за меня! О, я давно предвидел, что ей станут навязывать нового супруга. Но она поклялась мне никогда не отдавать своей руки против сердца. Да и кого могла бы она полюбить среди грубых воинов?
Филли печально покачала головой.
— Значит, не то?.. Пожалуй, что-нибудь другое?
Девушка кивнула в знак согласия.
— Разве ей грозит еще какая-то опасность? Они говорили о том? Ты приводишь меня в беспокойство. Что означают твои жесты? Неужели ты думаешь, что лорды, преданные королеве, не смогут защитить ее? Не пойти ли мне к ним? Хотя они и ненавидят меня, но все-таки не пренебрегут моей помощью, когда дело касается благополучия королевы!
Филли пришла в ужас.
— Значит, мне надо избегать их? Я подвергаюсь опасности?
Филли утвердительно кивнула головой.
— Только я один? — улыбнулся француз. — Ну, я не боюсь этих гуляк! Но, кажется, это — не все?
Немая в отчаянии ломала руки. Каким образом объяснить, что надо предостеречь королеву против Стюарта? Вдруг у нее блеснула мысль. Она подвела Боскозеля к воротам и указала на королевскую корону над гербом, потом дотронулась до своей головы и протянула руку по направлению к банкетному залу.
— Корона?.. Ах, понимаю: один из лордов домогается короны Марии?
Филли кивнула головой в знак согласия.
— Эрджиль?.. Мейтленд?.. Нет, не он? — воскликнул француз, когда девушка дважды отрицательно покачала головой. — Так значит Стюарт.
Она кивнула утвердительно.
Он приходится ей братом и не может требовать ее руки. Филли дотронулась до головы Боскозеля и пригнула ее книзу.
— Он собирается убить ее?
Она отрицательно покачала головой.
— А, — воскликнул Боскозель, — если я понял правильно, то он хочет господствовать над ней?
Филли утвердительно закивала головой.
— Ты услышала что-нибудь, что заставляет тебя бояться за королеву? У них составлен заговор вырвать у нее власть? Должен ли я предостеречь ее от этих людей?
Филли опять кивнула.
— Боже милостивый, какая жалость, что ты не можешь говорить и не умеешь писать! Твоя верность испытана. Я стану, как лисица, следить за этим Стюартом и буду заклинать Марию не доверять ему.
Схватив руку Боскозеля, немая прижалась к. ней губами.
V
На другое утро Боскозель велел доложить о себе королеве. Мария приказала отслужить обедню в капелле замка и собиралась присутствовать на богослужении.
Слух о том, что в замке будет совершаться обедня по католическому обряду, облетел город с быстротой молнии, и, когда Боскозель проходил через двор, от него не укрылось грозное волнение в толпе, желавшей видеть королеву. В банкетном зале собрались лорды, и в отворенные окна можно было заметить по их возбужденным жестам, что между ними происходит что-то тревожное.
Мария Стюарт окончила свой туалет. Она еще была бледна после утомительного путешествия. Ее изящное, тонкое лицо было подернуто как бы тихой грустью, легкий румянец выступал на щеках, а веселые от природы глаза словно старались рассеять мрачную тень печали.
Мария Сэйтон доложила своей повелительнице, что Боскозель желает с ней говорить.
— Что ему понадобилось? — с неудовольствием спросила Мария. — Посещение перед обедней непристойно, мы избаловали его. Скажи, что я недовольна им. Он приводит в раздражение лордов. Если мы найдем нужным обезглавить репейник, то это произойдет при помощи нашего преданного брата, а не иноземца.
— Ваше величество, — упрашивала Мария, — он радеет о вашей пользе. Непокорные лорды приняли вас как равную себе. Тонкий намек на то, что вы носите меч для отпора мятежников, пришелся очень кстати. Я видела, как побледнел Арран. Неужели вы оттолкнете от себя старинного друга в угоду тем, которые не дальше, как вчера, были вашими врагами?
— Мои друзья не должны мешать мне примириться с лордами. Ах, Мария, я чувствую, что мы должны действовать осторожно и просить вместо того, чтобы приказывать. Слышишь ли ты шум этого грубого народа? Это — не ликование, это — рев морского прилива. Мы должны усмирить волны, прежде чем взять в руки руль. Боскозель слишком пылок… И какая навязчивость — приходить ко мне, когда я еще не успела принять лордов! Он хочет показать, что стоит ко мне ближе их, а это им не нравится. Передай ему, что мы пошлем за ним, когда он нам понадобится. Я так хочу! — прибавила королева при виде нерешительности Сэйтон. — Если я склоняюсь под тяжкое ярмо этой короны, то желаю, чтобы и мои друзья подчинялись обстоятельствам и терпели вместе со мной.
Мария Сэйтон вышла.
«Он меня любит, — размышляла королева. — Бедный Боскозель! Лучше сегодня же указать ему на ступени к трону, чем вечно опасаться бури этой страсти и продолжать жестокую игру до тех пор, пока разочарование сделается для него смертельным. Он любит… и не догадывается, что именно то, что подает ему надежду, заставляет меня содрогаться. Его сходство с человеком, которого я любила, заставляет меня удерживать его при себе, я посылаю за ним, когда хочу плакать.»
Мария Сэйтон вернулась обратно.
— Ваше величество, — воскликнула она в смертельном страхе, — Боскозель заклинает вас выслушать его и не ходить к обедне. Вам грозит опасность.
— Опасность? — с горькой улыбкой спросила королева. — Не с ума ли он сошел? Ненавидят французов, а не меня… Но что это за дикий шум? Неужели такой прием оказывает мне мой верный народ?
Она подошла к окну.
Яростный крик и лязг оружия донеслись снизу. Толпа теснилась к дверям аббатства и как будто угрожала перебить стражу, когда ей заградили путь.
Встретив препятствие в лице стражи, толпа на минуту отпрянула от церковных дверей и, казалось, готова была покинуть двор. Но вот раздались громкие крики ее вожаков. Два-три сжатых кулака угрожающе поднялись над головами. И толпа с глухими проклятиями по адресу католиков устремилась к аббатству.
Пораженная, Мария Стюарт при виде такой картины побледнела, но не от страха, а скорее в припадке сильного гнева. Как?! В своем собственном королевстве ей мешают склониться перед алтарем Всевышнего и вознести те молитвы, к которым она привыкла с детства? И кто же?! Ее подданные!
— Что это значит? — воскликнула возмущенная Мария. Впустите Боскозеля и пошлите за моим братом, лордом Стюартом!
Едва она успела дать это распоряжение, как Боскозель стоял уже перед ней.
— Ваше величество, — воскликнул он, — заклинаю вас, не ходите к обедне! Лорд Стюарт замыслил предательство.
— Вы бредите, маркиз. Я вижу там внизу подобие бунта, но надеюсь, что лорды проучат мятежную чернь.
— Государыня, примите предостережение верного слуги и преданного человека! Эта смута вызвана искусственно. Вас хотят запугать, чтобы выманить какое-нибудь обещание, которое свяжет вам руки и предаст вас во власть честолюбца Стюарта.
— Маркиз, вы клевещете на моего ближайшего родственника!
— Ваше величество, даю голову на отсечение, что тут замешаны предательство и обман. Филли подслушала беседу лордов сегодня ночью…
— И что же услыхала она?
— Они не может ни говорить, ни писать, но просила меня предостеречь вас!
— А что посоветуете вы мне? — сказала королева, устремив на Боскозеля испытующий взор.
— Не ходите к обедне! Потребуйте, чтобы лорды очистили дворец от черни. Или пошлите меня вниз, чтобы я спросил от вашего имени собравшийся народ, что побудило его к такому непочтительному поведению. Ручаюсь своей головой, что этот мнимый мятеж лопнет как мыльный пузырь, едва вы станете доискиваться до его причин вместо того, чтобы как ожидают лорды, искать у них помощи.
— Маркиз, — улыбнулась Мария Стюарт, — я последую отчасти вашему совету. Но мне неудобно избирать вас посредником, так как вы показали вчера, что любите прибегать к крайним мерам помимо моей воли. Но я не стану просить, а прикажу. И надеюсь, вы убедитесь, что заблуждались, и тогда постараетесь заслужить дружбу лорда Стюарта. Он ближе всех ко мне в здешнем королевстве. Кстати, он идет сюда. Послушайте.
Боскозель покраснел. Строгость королевы поразила его, как горькая насмешка, но он в душе надеялся, что речи Стюарта разочаруют Марию.
Лорд явился с мрачным видом, точно хотел возвестить беду, но едва заметил Боскозеля, как его мина внезапно переменилась и на лице появилась торжествующая улыбка.
— Лорд Джэмс, — начала королева, — что значит этот дикий шум в нашем дворце? Разве нет стражи, чтобы водворить порядок среди черни?
— Государыня и дорогая сестра, — ответил Стюарт с низким поклоном, — я вижу, что вы уже уведомлены о происшедшем. Я принес бы это уведомление сам, если бы считал пристойным приближаться к спальным покоям шотландской королевы.
— Лорд Джэмс, — краснея, возразила Мария, — необычайность происшествия могла бы послужить извинением усердию, которое пренебрегло правилами этикета. Где принимает королева, там уже аудиенц-зал. Перейдем, однако, к делу. Чего хочет чернь?
— Ваше величество, это — не чернь, а граждане Эдинбурга, которые не могут допустить, чтобы в королевском замке смеялись над законом. Католическое богослужение запрещено в стране, и Джон Нокс взывал вчера с кафедры, что он скорее согласится увидеть десятитысячную неприятельскую армию в пределах Шотландии, чем потерпит совершение одной католической обедни. Народ ропщет, на улицах требуют не дозволять восстановления идолопоклонства. Народ, ваше величество, разгорячился до такой степени именно из-за боязни, что правительница-католичка пустит в ход все средства, чтобы ввести опять изгнанную веру. Он успокоился бы если бы получил гарантии…
— Ну что, вот и договорились! — подал голос Боскозель, который не смог дольше сдерживать свое негодование.
Мария бросила на него строгий взгляд и с гневом обратилась к своему побочному брату.
— А что посоветуете вы мне, лорд Джэмс? — спросила она слегка дрожащим голосом. — Полагаете ли вы, первый лорд Шотландии, что королева домогается слишком многого, когда требует, чтобы ей не мешали служить Господу в своем собственном доме согласно предписаниям ее религии?
— Ваше величество, — ответил Стюарт, — я только доложил вам о положении вещей.
— Что еще?
— Ваше величество, я должен прибавить, что мои драбанты охраняют аббатство и что мне интересно было бы посмотреть, на что осмелится ропщущий народ.
— Итак вы советуете мне идти к обедне наперекор грозящей толпе?
— Я пожалел бы о будущности вашего величества, если бы вы с первого же дня пребывания здесь обнаружили слабохарактерность.
Мария посмотрела на Боскозеля, точно желая сказать ему:
«Видишь, как ты заблуждался?»
— Лорд Джэмс, — обратилась она к брату, — прошу вас подать мне вашу сильную руку, она — самая лучшая зашита для шотландской королевы!
С этими словами государыня прошла мимо Боскозеля.
Когда королева, под руку с братом, вступила во двор, бушевавшая толпа затихла. Королевское шествие двинулось к аббатству, и в капелле раздалось торжественное пение хора. Но едва ненавистные звуки были услышаны собравшимся народом, как шум возобновился и толпа стала напирать на церковные двери. Джэмс Стюарт вышел оттуда как раз в ту минуту, когда ярый фанатик, сын лорда Ландзея, в полном вооружении проникнул в дворцовый двор и устремился на церковь с возгласом: «Смерть жрецам Ваала!» Дерзкий отскочил прочь, когда Джэмс Стюарт спокойно выступил ему навстречу и воскликнул:
— Мир в жилище королевы! Правая рука, поднявшая оружие в пределах Голируда, подлежит отсечению топором палача!
Возбужденная толпа опомнилась, ее отрезвила скорее гордая, полная достоинства осанка могущественного лорда, чем его угроза, и ропот недовольства перешел в громкое ликование, когда лорд Стюарт обратился к Боскозелю, сгоряча вынувшему меч из ножен.
— Маркиз, ведь вы не во Франции. Королеву Шотландии защитит рука шотландца и шотландская верность, меч гостя слишком слаб.
Боскозель потерпел поражение. И, сжав зубы, вложил меч в ножны.
— Милорд, — сказал он тихо, — если королеве послужит на пользу, что вы поднимаете меня на смех, то я снесу это, но если вам не нравится во мне еще что-нибудь, тогда я готов встретиться с вами без свидетелей.
— Маркиз, — с надменной улыбкой возразил Стюарт, — я не выражал вам ни одобрения, ни порицания, иначе сделал бы это в понятной форме, не допускающей никаких «или». Но, кажется, вы ищете ссоры со мной и другими. Пожалуй, вы недовольны тем, что мы — не французы?
— Милорд, эта насмешка…
— Только ответ на ваш вызов. Неужели вы собираетесь вызывать на дуэль каждого, кто служит королеве? Если вы приближенный Марии, а, кажется, так оно и есть, то вы можете принести королеве истинную пользу, если посоветуете ей или отвечать доверием на доверие, или сесть на галеру и покинуть Шотландию. Потому что не собираетесь же вы один завоевать всю страну?
Боскозель чувствовал себя пристыженным, но также и обиженным. Тон его противника был оскорбителен, хотя упрек более чем справедлив. Безрассудство подвергло бы опасности королеву, а его тщеславие скомпрометировало бы ее, если бы тот самый человек, против которого он предостерегал Марию, с помощью своего влияния не послужил ей щитом, о который разбились волны мятежа.
Чего бы не дал Боскозель за то, чтобы сделаться другом Стюарта! В эту минуту он почувствовал, что не кто иной как Джэмс Стюарт в состоянии дать королеве ее государство или отнять его. Вдобавок он был единственным лордом, который, как брат, не мог добиваться руки Марии, и вместе с тем желал, чтобы она подарила свое сердце кому-нибудь, кто бы стал его соперником в Шотландии или чье высокое происхождение сделало бы его тогда второстепенным лицом в стране. Скорее он помышлял о таком супруге для своей сестры, честолюбие которого не шло бы дальше того, чтобы не делить ни с кем ее любовь. Мог ли Стюарт найти для королевы более подходящего жениха, чем он, Боскозель? Если бы он не был таким сумасбродом, то мог ли найти себе более могущественного ходатая, чем лорд Джэмс?
Однако искать дружбы этого человека было слишком поздно. Боскозель видел, что ему брошен вызов не на жизнь, а на смерть, и принял его.
— Милорд, — сказал он с ненавистью, — пожалуй, Марии Стюарт нужна победа только над одним человеком, чтобы завоевать Шотландию, и тогда моя задача была бы не слишком трудна.
— А кто же этот человек, маркиз?
— Тот самый, чья прихоть может вызывать и укрощать ярость мятежа.
Джэмс Стюарт был задет за живое. Он считал Боскозеля трусом и не ожидал от него столько меткого замечания, разоблачавшего его интригу.
— Значит, вы объявляете мне открытую войну? — спросил Джэмс.
— Да, милорд, с того момента, когда вы обратите свою волю против королевы.
Стюарт мрачно насупился, уставившись пронзительным взглядом своих серых глаз на смельчака, обвинявшего его в посягательстве на государственную измену.
— Считайте этот момент с настоящего часа! — сказал он. — Для блага королевы я употреблю свое влияние и там, где женская слабость слишком снисходительна к надменному чужеземцу.
— За это слово вы ответите мне, милорд…
— Перед троном, маркиз! — сказал Джэмс Стюарт, поклонился и пошел через двор к замку распорядиться, чтобы богослужение не встретило больше никакой помехи.
VI
Мария преклонила колени перед Господом и со слезами изливала у подножия алтаря тревогу своего сердца. Никогда еще не чувствовала она так сильно бремени королевского ненца, как в ту минуту, когда грубая сила пыталась противиться ей, когда ее подданные поднялись на священнослужителей церкви и даже само появление ее особы не принудило бушевавшую толпу к почтительности. Она очутилась среди еретиков и должна была искать любви народа, который противился ее вере. Насколько иначе принимали ее во Франции!
— Чем должно кончится все это? — спрашивала Мария. — Как я справлюсь с этой грубой толпой?
— Утешайся верой, — увещевал ее священник. — Кто вытерпит здесь, тот будет увенчан на небе. Не унывай, дочь моя, потому что с тобой Господь и Пресвятая Дева. В Писании сказано: «Кто ради Меня несет крест, того Я возвеличу». Имей терпение. Божественный совет озарит этот мрак. Обещай сильным и могущественным свободу веры, если они не станут препятствовать тебе служить Богу по-твоему. Будь ангелом мира, успокой ум и предоставь Господу заботу о благе Его церкви. Ты полна прелести, пускай это милое очарование завоевывает сердца твоих врагов. Терпи, пока не сделаешься сильней, чтобы господствовать, подчиняйся, пока не приобретешь власти повелевать!
Однако слова утешения не могли осушить слезы королевы. Глубоко оскобленная, напуганная и встревоженная за свое будущее, покинула Мария капеллу и направилась к парадному крыльцу замка.
Знатнейшие дворяне ожидали ее в большом зале. Она протянула руку Джэмсу Стюарту.
— Я здесь не королева, — сказала она, — а гонимая, обязанная благодарить за великодушную защиту.
Никогда еще Мария не была прекраснее, чем в эту минуту, ее лицо выражало трогательную беспомощность, а в ее кротких чертах отражался горький упрек вместе с безмолвной жалобой. Взволнованные, растроганные ее словами, пристыженные оскорблением, которому подверглась королева, воодушевленные желанием показать этой женщине, что ее мольба не осталась напрасной, лорды обступили ее и принесли ей клятву верности.
— Клянусь моей жизнью, — воскликнул Стюарт, — я готов прибить к зубцам этого замка голову изменника, который вздумал бы проникнуть в пределы Голируда! Вы должны беспрепятственно совершать ваши богослужения, как и где вам угодно. Только прикажите — и строгий уголовный суд воздаст тем, кто осмелился сегодня нарушить мир в королевском замке!
Мария улыбнулась сквозь слезы. Она читала по всем лицам, что покорила сердца, и этот триумф ее красоты поднял в ней упавшее мужество.
— Милорды и господа, — воскликнула она, — избави меня Бог приветствовать мой народ актом мщения! Я прощаю тем, кто оскорбил меня, и готова верить, что все это проистекло из боязни, что я потребую, чтобы моя вера была господствующей в государстве. Объявите всенародно, что я желаю только мира и согласия, что я предоставляю каждому его веру и далека от намерения возбуждать религиозные распри, но при этом прошу и проповедников учения Кальвина осторожно судить о тех, кто принадлежит к иной церкви.
— Да благословит вас Бог за эти слова! — с жаром подхватили лорды, потому что теперь у них рассеялось последнее опасение. — Если вы уважаете веру шотландцев, то весь народ будет стоять за свою королеву. Да здравствует Мария Стюарт, жемчужина Шотландии!
Дружный клик воодушевления сопровождал Марию, покидавшую зал, и она могла утешить себя, что в этот час завоевала не только преданность своих вассалов, но и сердца своих лордов, то были уже не просто подданные, но поклонники, которые смотрели на нее восторженными глазами и почтительно целовали край ее одежды.
— Наши прелести еще не поблекли в горе и печали! — с улыбкой сказала она Марии Сэйтон, придя к себе в парадную комнату.
— Государыня, — прошептал Джэмс Стюарт, последовавший за ней, — предоставьте сиять вашему очарованию, и вся Шотландия падет к вашим ногам.
— Милорд Джэмс, довольно плохо, что мне приходится сызнова завоевывать ее!
— Ваше величество, вы порвали связи с отечеством и теперь, когда вы снова налаживаете их, вам мешает то, что ваше сердце осталось за морем, а в вашей свите есть лица, желающие стоять к вам ближе ваших верных подданных.
— Вы намекаете на маркиза Боскозеля? Я сделала ему выговор за его вчерашнюю выходку. Слишком большое участие к моей особе мешает ему осознать, что мы уже не во Франции.
— Это напоминание о Франции бросает тень на вашу будущность, Франция принесла нам междоусобную войну, она выказывала нам плохую дружбу в тяжелые времена. Можете ли вы сердиться на нас за то, что мы хотим иметь вас целиком, а не вполовину, что нас оскорбляет, когда эти кавалеры хвастаются, что стоят к вам ближе, чем мы, — да, когда они намекают, что намерены защищать вас против вас же самих?
Мария покраснела.
— Лорд Джэмс, — сказала она, — вы — мой ближайший родственник, и я назначила вас первым слугой моей короны. Кого обвиняете вы в том, что он оскорбил вас?
— Я ни на кого не жалуюсь, — ответил Стюарт, — я только предостерегаю. Если бы мне понадобилось жаловаться, то я бы сам потребовал удовлетворения. Но я не желаю огорчать по пустякам сердце моей королевы.
— Сердце? Милорд Джэмс, моему сердцу ближе те, которые указывают мне средство приобрести любовь Шотландии.
— Неужели это — правда? Государыня, сердце королевы — не то, что сердце женщины…
Мария покраснела сильнее под испытующим взором Стюарта. Она догадалась, куда он метит, и ее гордость была уязвлена. Неужели Боскозель осмелился похвастаться ее благосклонностью?
— Милорд, — возразила она, подняв голову, — сердце женщины я оставила во Франции, на могиле моего супруга. Вам следовало бы знать это и щадить меня. Но я догадываюсь, куда направлено ваше подозрение. Мой секретарь, маркиз Боскозель злоупотребляет моим доверием? Неужели он оскорбил вас?
— Он принял за личную обиду мой выговор. Прикажите, как мне ответить ему. Друга королевы я пощажу, а дерзкого француза проучу охотно.
— Пусть войдет маркиз Боскозель! — приказала Мария, вызвав слугу.
Слуга позвал маркиза.
Боскозель вошел с высоко поднятой головой, но, когда встретил взгляд Марии, кровь застыла в его жилах.
— Маркиз, — сказала королева, — лорд Джэмс — мой первый министр, самый ближайший мой поверенный. Кто хочет служить мне, тот должен повиноваться ему. Я надеюсь, вы избавите меня от печального долга пожертвовать испытанным другом воле моего первого министра.
— Ваше величество… — запинаясь, вымолвил Боскозель. Но королева резко перебила его.
— Маркиз, мне не надо ни объяснений, ни оправданий. Пока я прошу. Подайте лорду руку, а милорд Джэмс пускай сочтет это испрошенным у меня удовлетворением.
— Государыня, я — оскорбленная сторона. Вы требуете слишком многого!
— Маркиз прав, — вмешался Стюарт. — Я употребил выражение, оскорбившее его, по поводу этого выражения, а не по сути дела, я готов просит прощения.
— Ах, — улыбнулась Мария, бросив на Боскозеля почти презрительный взгляд, — лорд Стюарт благороднее вас и действительно предан мне.
Не успела она договорить, как Боскозель бросился к ее ногам и воскликнул:
— Требуйте моей жизни, она принадлежит вам! Что мне сделать, чтобы примириться с лордом Джэмсом, раз вы хотите, чтобы я уступил ему? Лорд Джэмс, если я вас оскорбил, простите меня. Если вы оскорбили меня, простите, что я не принял покорно стыда. Когда Мария Стюарт требует, я превращаюсь в совершенно безвольного слугу.
Стюарт понял, что имеет дело с сумасбродом и что королева не разделяет этой страсти, и теперь успокоился.
— Вы видите, — улыбнулась Мария, многозначительно переглянувшись с братом, — что он — фантазер и чересчур поддается бурным вспышкам в своем усердии. Поднимитесь, Боскозель, я хотела примирения с лордом, но никак не вашего унижения.
Тут она слегка поклонилась и жестом руки отпустила их обоих.
— Маркиз, — сказал Стюарт, когда они вышли из комнаты, — я сознаюсь, что был к вам несправедлив, и стыжусь победы, которая, собственно, была поражением для меня. Вы любите королеву, а я — только слуга. Значит, вы стоите к ней ближе меня. Согласны вы пожать мне руку?
— Я подал вам ее, потому что так приказала Мария, а теперь подаю добровольно, как человеку, знающему мою злополучную тайну. Да, я люблю королеву, люблю до безумия!
— Это — в самом деле безумие, потому что она никогда не может принадлежать вам.
— А разве принадлежит мне солнце, луна, звезды? Неужели безумие — поклоняться вечно недосягаемой красоте?
— Нет, если она недосягаема для всех. Уезжайте домой, маркиз, если я смею вам советовать. Отправляйтесь восвояси, прежде чем Мария Стюарт выберет себе супруга.
— Она никогда не сделает этого.
— Она — женщина и королева, она молода, прекрасна и обворожительна. Ей найдут жениха, и если ее сердце не сделает выбора, то необходимость принудит ее остановиться на той или иной партии. Будьте мужчиной, маркиз, покоритесь неизбежному! Бегите отсюда, пока страсть не довела вас до безумия! Не позволяйте догадываться посторонним, что ваше усердие было не чем иным, как ревностью! Будьте осторожны ради королевы, малейшее пятно на чести государыни погубило бы ее навсегда в нашей стране.
Лорд Джэмс еще раз пожал руку маркиза и удалился.
— Мне бежать от нее? — простонал Боскозель, провожая лорда Стюарта влажными от слез глазами.
В банкетном зале Джэмс застал Эрджиля.
— Теперь оседланная лошадь меньше в моей власти, чем моя прекрасная сестрица, — шепнул он своему другу, — и под ударом копыта этого царственного скакуна должны склониться с зубовным скрежетом Гамильтоны и Гордоны, Гентли и вся их клика.

Книга вторая
ДВОРЦОВЫЕ СТРАСТИ

Глава первая
ГРАФ ЛЕЙСТЕР

I
 Самой блестящей эпохой Англии по справедливости считают правление Елизаветы, когда влияния реформации и языческого ренессанса вызвали к жизни новые могучие, неведомые дотоле силы, когда Англия одержала победу над предрассудками католической религии и уничтожила великую армаду Филиппа II, когда страна, вступив на новый путь, подарила миру такого поэта, как Шекспир, и такого философа, как Бэкон.
Дочь трагически погибшей Анны Болейн вписала свое имя в страницы истории кровавыми и золотыми буквами. Елизавете было двадцать пять лет, когда корона украсила ее золотисто-белокурые волосы; ее высокая фигура отличалась грацией и величественностью; на красивом, хотя и не отличавшемся правильными чертами, лице несколько южного типа сверкали большие темно-синие глаза, в которых светились ласковость и проницательная острота ума — когда она с гордостью смотрела с высоты трона, и пламенела дикая страсть — когда задевали ее женское тщеславие. Это тщеславие было большой слабостью Елизаветы, она не прощала ни малейшей обиды, нанесенной ей как женщине, а каждая лесть, касавшаяся ее внешнего вида, встречала благосклонный прием.
Елизавета была целомудренна до кончиков ногтей. Ее высшей гордостью было слыть и быть девственной королевой. Она отказывала всем женихам, но никогда не оставалась без поклонников, с которыми ее чувственность вела кокетливую игру, возбуждающую в них всяческие вожделения и никогда не удовлетворяющую их. Было ли это следствием физического недостатка или болезни — неизвестно, но Елизавета в часы интимных бесед со своими фаворитами или льстецами выглядела самой разнузданной и чувственной женщиной, хотя ее нельзя было обвинить в фактическом падении.
Наряду с чувственностью она унаследовала от отца также высокомерие и вспыльчивость. Но именно эти черты характера, вместе с ее образованностью и возвышенностью ума, послужили для создания фундамента мирового могущества Англии. Елизавета выбрала министрами самых умных и проницательных людей того времени — Уильяма Сесиля и Николаса Бэкона, прекратила судебные преследования еретиков, освободила всех заключенных, посаженных в тюрьмы за религиозные убеждения, и снова восстановила англиканскую церковь, не возобновив преследований католиков. Во всех мероприятиях она руководствовалась желанием сделать Англию великой и счастливой, и только одна всеобъемлющая ненависть переполняла ее душу — это ревнивая ненависть к женщине, более красивой, чем она сама, ее законной наследнице, бывшей и королевой, и ее соперницей на том же острове, — к Марии Стюарт.
Самой блестящей эпохой Англии по справедливости считают правление Елизаветы, когда влияния реформации и языческого ренессанса вызвали к жизни новые могучие, неведомые дотоле силы, когда Англия одержала победу над предрассудками католической религии и уничтожила великую армаду Филиппа II, когда страна, вступив на новый путь, подарила миру такого поэта, как Шекспир, и такого философа, как Бэкон.
Дочь трагически погибшей Анны Болейн вписала свое имя в страницы истории кровавыми и золотыми буквами. Елизавете было двадцать пять лет, когда корона украсила ее золотисто-белокурые волосы; ее высокая фигура отличалась грацией и величественностью; на красивом, хотя и не отличавшемся правильными чертами, лице несколько южного типа сверкали большие темно-синие глаза, в которых светились ласковость и проницательная острота ума — когда она с гордостью смотрела с высоты трона, и пламенела дикая страсть — когда задевали ее женское тщеславие. Это тщеславие было большой слабостью Елизаветы, она не прощала ни малейшей обиды, нанесенной ей как женщине, а каждая лесть, касавшаяся ее внешнего вида, встречала благосклонный прием.
Елизавета была целомудренна до кончиков ногтей. Ее высшей гордостью было слыть и быть девственной королевой. Она отказывала всем женихам, но никогда не оставалась без поклонников, с которыми ее чувственность вела кокетливую игру, возбуждающую в них всяческие вожделения и никогда не удовлетворяющую их. Было ли это следствием физического недостатка или болезни — неизвестно, но Елизавета в часы интимных бесед со своими фаворитами или льстецами выглядела самой разнузданной и чувственной женщиной, хотя ее нельзя было обвинить в фактическом падении.
Наряду с чувственностью она унаследовала от отца также высокомерие и вспыльчивость. Но именно эти черты характера, вместе с ее образованностью и возвышенностью ума, послужили для создания фундамента мирового могущества Англии. Елизавета выбрала министрами самых умных и проницательных людей того времени — Уильяма Сесиля и Николаса Бэкона, прекратила судебные преследования еретиков, освободила всех заключенных, посаженных в тюрьмы за религиозные убеждения, и снова восстановила англиканскую церковь, не возобновив преследований католиков. Во всех мероприятиях она руководствовалась желанием сделать Англию великой и счастливой, и только одна всеобъемлющая ненависть переполняла ее душу — это ревнивая ненависть к женщине, более красивой, чем она сама, ее законной наследнице, бывшей и королевой, и ее соперницей на том же острове, — к Марии Стюарт.
II
Королева Елизавета сидела в своем кабинете. Уильям Сесил, барон Бэрлей, только что кончил свой доклад, когда Елизавета, случайно глянув в окно, засмотрелась на сцену, которая там происходила. Молодой, в высшей степени элегантно одетый кавалер пытался смирить пылкого коня, напугавшегося драбантов, охранявших ворота у въезда в парк. Казалось, что молодой человек неминуемо должен вылететь из седла и разбить себе голову о мозаичный пол, но всадник словно сросся с лошадью и, как будто играя, управлял поводьями.
— Этот молодой человек, — улыбнулась Елизавета, — кажется, хочет сделать карьеру. И ему посчастливилось, так как мы заметили его в удачный момент. Сесиль, знаете ли вы этого молодого человека?
— Ваше величество, — ответил Бэрлей, — от проницательности вашего взора никогда ничто не скроется! Этот молодой человек добивается чести быть представленным вам и теперь дрессирует лошадь перед дворцом в очевидной надежде быть замеченным прекраснейшими в мире глазами. Это Роберт Дэдлей, сын несчастного Гилфорда Варвика…
— Знаю, — перебила его Елизавета, и тень набежала на ее лицо при воспоминании о кровавом дне, когда в Тауэре упал топор палача на голову Гилфорда Варвика и его жены Джэн Грей, а она, Елизавета, была узницей своей сестры. — Сэр Роберт Дэдлей… Я хорошо помню его; это смелый мальчик, участвовавший в винчестерском турнире. Как это могло случиться, что он так долго не появлялся при дворе?
— Он всего несколько дней назад вернулся из Франции, куда уехал в те дни…
Елизавета погрузилась в воспоминания и почти не слышала ответа: гремели винчестерские трубы, мальчик Дэдлей облачился в ее цвета и безумной храбростью отомстил за издевательства сестер.
— Ваше величество, — шепнул Бэрлей, которому этот момент показался благоприятным, чтобы замолвить словечко за своего фаворита. — Родовые имения Варвиков попали в другие руки, но графство Лейстер свободно, может, отдать его сэру Дэдлею в вознаграждение за прошлые испытания?..
— Конечно, Сесил, конечно! Я не могу сделать ничего более достойного, как вознаградить тех, кто пострадал за меня. Посмотрите-ка, вот что мне принесли вчера. Эту записку написала моя няня коменданту замка, когда мне было четыре года. Отец в то время ненавидел меня, так как я напоминала ему о смерти матери. Этот листочек для меня реликвия; он постоянно будет напоминать мне, чтобы я не забывала восхвалять Господа за то, что он вывел меня из самой жестокой нищеты к пышнейшему трону земли. Прочтите это, лорд Сесил.
Бэрлей прочел и тоже почувствовал себя взволнованным.
«Почтительнейше прошу Вас, — прочел Бэрлей в записке, — всемилостивейше снизойти к нуждам моей крошки, так как у нее нет ни платья, ни кофты, ни шубы, ни белья, ни рубашек, ни платков, ни одеяла, ни матраса, ни муфты, ни шапочки».
— Вот как была я бедна и тоща! И как я теперь богата! Сесил, пошлите мне этого молодого человека!
Бэрлей глубоко поклонился и вышел из комнаты.
Елизавета подошла к окну, разглядывая смелого всадника.
«Как он красив!… — думала она. — Знает ли он, что я смотрю на него? В то время, когда он носил мои цвета, он был еще ребенком, но и тогда он умел ухаживать за дамой, как взрослый. Варвикигорды, отважны и верны в любви. Теперь мальчик возмужал в ссылке… Однако ведь это он, кажется, освободил Стюарт и был потом сослан? Он действовал с большой отвагой для своего возраста! Значит, он знаком со Стюарт? От него я узнаю, не потускнели ли черты ее лица от горя после смерти супруга».
Бэрлей вернулся доложить о Дэдлее и вышел по знаку королевы. В ту же минуту в дверях появился Дэдлей.
— А, сэр Дэдлей! — воскликнула Елизавета. — Вы упражняетесь под моими окнами в верховой езде, чтобы напомнить мне, что я все еще в долгу перед своим рыцарем винчестерского турнира? С годами вы не стали застенчивее! Но мне нравится откровенное почитание, если за ним чувствуется смелое сердце. Хотите поступить ко мне на службу?
Дэдлей был словно опьянен столь милостивым приемом, превзошедшим самые смелые ожидания. Тщеславие сердца говорило ему, что в данном случае дело не в благодарности королевы, а в благоволении женщины. Он посмотрел на Елизавету взглядом, которым неоднократно вызывал краску стыда на прекрасных щеках. Никогда еще в жизни он не ставил так много на карту, как в этот момент, когда взглядом словно старался раздеть королеву. И увидел, как под огненными локонами запламенели щеки Елизаветы, как в блеске ее глаз засветилась страсть — этот первый привет любви.
— Ваше величество, — ответил Дэдлей, опустив глаза, — я не могу поступить к вам на службу!
Елизавета ожидала чего угодно, только не такого ответа, звучавшего почти оскорблением. Ведь он сам изо всех сил старался обратить на себя ее внимание, и она милостиво пошла навстречу его домогательствам. И вдруг этот молодой человек отказывается от милостей королевы? Она почувствовала легкое раздражение против Дэдлея, и вместе с тем в ее душе зародилось женское подозрение.
«Ведь Дэдлей освободил Марию Стюарт, состоял на ее службе… быть может, он был одним из поклонников шотландской розы… Да, да, — кричал в ней внутренний голос, — очень возможно, что Мария просто прислала его интриговать здесь против Джемса Стюарта. Нет, я не потерплю при своем дворе шпионов шотландской королевы!…»
Елизавета встала, заходила взад и вперед по комнате, от внутреннего волнения ее щеки пылали все сильней. Мария Стюарт была не только законной наследницей ее трона, но даже больше: если бы зашел вопрос о правах, то Мария уже теперь могла бы справедливо предъявить притязания на английскую корону. Дэдлей принадлежал к роду Варвиков, которых испокон веку называли «делателями королей». Может ли она потерпеть, чтобы Стюарты уже теперь начали образовывать в Англии партию, которая призовет их на трон, как только ей надоест королева Елизавета?
— Милорд! — сказала Елизавета гордым, строгим тоном, — я предложила вам вступить ко мне на службу потому, что когда-то видела в вас преданность дочери Генриха Восьмого, но не потому, что ожидала чего-нибудь особенного от человека, изучавшего честолюбивую политику Медичи при дворе королевы, бывшей игрушкой в руках всех партий. Поэтому с удовольствием беру назад свое предложение и можете не надеяться, что имения, отобранные у вашего рода декретом об изгнании, я верну обратно тому, кто собирается искать себе в Англии иного господина, кроме Елизаветы Тюдор.
Дэдлей понял, что достиг цели, а потому может дерзнуть еще больше.
— Ваше величество! — ответил он, преклонив колена. — Даже ваша немилость не может заставить меня изменить своему решению. Но прошу сказать мне, какой клеветник осмелился внушить моей всемилостивейшей монархине сомнение в моей верности и преданности? Если на земле существует такая держава, которая покушается на права вашего величества, тогда прошу поставить меня во главе вашего войска и послать туда, где прольется первая кровь.
— Как? Так вы хотите служить в войске и только отвергаете пост при дворе? Встаньте, сэр Дэдлей!… Уж не надеялись ли вы, что я назначу вас лордом-канцлером? Встаньте, сэр, — нетерпеливо продолжала она, — и объяснитесь пояснее.
Дэдлей не вставал.
— Ваше величество, — сказал он, — если вы хотите знать причину моего отказа, то позвольте мне оставаться на коленях. Это — та поза, которая приличествует моей вине. Я должен сознаться в государственном преступлении.
— Так вот оно что! Я так и знала!… — встревожилась королева, и в ее душе зародилось новое подозрение.
— Вы знали? — переспросил Дэдлей и посмотрел на Елизавету таким сияющим, таким полным смелой надежды взглядом, что королева смутилась. — О, что я говорю?.. Вы не можете, вы не должны даже догадываться, что заносчивый юноша, бывший когда-то на службе у дочери своего короля и видевший только идеал всего прекрасного, унес ее образ с собой в изгнание и ныне с дрожью в сердце увидел на троне женщину, которую когда-то боготворил. Ваше величество! Теперь вы знаете, что Дэдлей Варвик — государственный преступник, я не могу поступить к вам на службу, потому что безумие любви довело бы меня до сумасшествия от пытки находиться всегда с вами в такой непосредственной и такой далекой близости к вам… Я боюсь постоянно видеть в вас идеал своих грез, а не королеву, боюсь ваших милостей, а не боюсь гнева. Пошлите меня в Тауэр, прикажите обезглавить меня, дерзкого, — и все равно я буду благословлять вас.
Елизавета покраснела; как ни мало была она приготовлена выслушивать подобные признания, смутившие ее на первых порах, но она сумела овладеть собой настолько, чтобы угадать в этом глубоком самоуничижении Дэдлея тонкий расчет.
— Браво, сэр Дэдлей! — усмехнулась она, тем не менее польщенная его лестью. — Вы прошли во Франции хорошую школу и хотите поймать королеву любовным признанием. Быть может, вы остаетесь на коленях потому, что хотели бы сидеть рядом со мной на троне!… Итак, вы боитесь, что солнце нашего образа светит слишком ярко для вашего взора? Ну что же, я приговариваю вас смотреть на него до тех пор, пока вы не привыкнете к нему и не научитесь видеть в нем только королевский блеск.
Дэдлей, поцеловав край ее платья, встал.
— Ваше величество слишком справедливы, чтобы требовать невозможного. Вместе с тем, если вы не отослали меня сейчас же в Тауэр, значит, чувствуете ко мне сожаление…
— Дэдлей, вы заходите слишком далеко! — прервала его королева, взволнованная ласкающим, вкрадчивым тоном, который проникал ей в самое сердце. — Елизавета Тюдор не забыла, что прежде вы носили ее цвета, причем в то время, когда на это решались очень немногие. Но все-таки попридержите свой язык!… Королева не всегда расположена погружаться в воспоминания прошлого. Служите мне преданно и верно, и тогда вы приобретете возможность стать к Елизавете Тюдор настолько близко, насколько это доступно высшим чинам королевства. Теперь ступайте!
Елизавета повелительно кивнула, и Дэдлей почувствовал, что теперь он серьезно рискует навлечь на себя гнев государыни, если немедленно не повинуется ее приказанию. Он глубоко склонился перед королевой и вышел из комнаты.
Елизавета мечтательно посмотрела ему вслед; это послушание удовлетворило ее гордость, и ее сердце всецело отдалось сладким ощущениям, в которые женщина погружается так охотно, когда нападает на достойный ее любви объект.
Наконец она позвонила и приказала позвать лорда Бэрлея.
— Милорд, — начала она, когда тот вошел, — вы говорили о том, что лорд Джэмс Стюарт просит избрать для Марии Стюарт супруга, который мог бы быть защитником протестантской церкви и направлять эту молодую, экспансивную особу. Ее супруг должен быть предан нам и ни в коем случае не должен стать, благодаря поддержке иностранных держав, опасным соперником нашего могущества. Он должен быть католиком, так как иначе Мария Стюарт не примет его предложения. Что бы вы сказали, если бы мы избрали для этого того самого смелого наездника, за которого вы только что ходатайствовали?
— Сэра Дэдлея? Ваше величество, у него очень симпатичная наружность, но если бы он показался шотландской королеве хоть сколько-нибудь достойным внимания и если бы он сам рассчитывал быть замеченным ею, то он либо сам последовал бы за ней из Франции, либо ему было бы предложено поступить к ней на службу.
— Милорд, если я сделаю сэра Дэдлея графом Лейстером — вы ведь говорили, что это графство свободно, — тогда он станет достаточно богатым и могущественным, чтобы иметь преимущество над любым шотландским лордом. Что же касается самой шотландской королевы, то она должна будет подчиниться нашему желанию, если шотландские лорды настоятельно потребуют от нее этого; да она и сама будет нам благодарна, что мы выбрали ей такого изящного кавалера. Что же касается его самого, то я рассчитываю на его преданность мне. Он согласится исполнить мое желание и стать супругом королевы Марии.
Бэрлей поклонился, у него не было никаких особенных поводов возражать против подобного решения.
— Прикажите изготовить указ, — продолжала королева, — я возведу сэра Дэдлея в звание графа Лейстера. Пока сохраните мой план в тайне, но поразузнайте, как настроев этот молодой человек: не завел ли он себе какой-нибудь интрижки и нравится ли ему шотландская королева. Сегодня вечером приготовьте мне доклад по этому поводу. И позаботьтесь, чтобы сэр Дэдлей получил приглашение пожаловать вечером ко двору.
Бэрлей удалился, а Елизавета с нетерпеливым волнением, которое, впрочем, легко было понять, ожидала результатов этого доклада. Если, признаваясь ей в любви, Дэдлей руководствовался только честолюбием, тогда он ухватится за возможность разделить с шотландской королевой корону. Если же он воспротивится этому, тогда он искренне любит ее, Елизавету, и тогда он откажется от короны. Но, даже став супругом Марии Стюарт, он не перестанет быть рабом ее воли.
III
Обширные залы пышного королевского дворца были почти переполнены гостями, а королева все еще не показывалась, заставляя ждать себя непривычно долго. Впрочем, двору было чем занять себя во время этого ожидания.
Девственная королева была уже в том возрасте, когда первый цвет женской красоты достигает полной зрелости, и ей пора было уже избрать себе супруга и озаботиться законным наследником короны Тюдоров. Вот сегодня и болтали о смелом всаднике, который укрощал лошадь перед окнами королевы и потом получил долгую аудиенцию с глазу на глаз. И когда теперь он ходил по зале, то при виде его никто — в особенности же прекрасная половина собравшихся — не сомневался, что вскоре можно ждать пышных свадебных торжеств.
Дэдлей, граф Лейстер был одет во французском вкусе. Короткий, открытый спереди камзол, из которого выглядывали великолепные кружевные брыжи, был из белого атласа, затканного серебром, точно так же, как и жилет и плотно обтянутые панталоны, а серебряные пряжки, белые шелковые чулки и башмаки с красными отворотами и бриллиантовыми пуговицами довершали вместе с богатой шпагой этот простой, но изящный туалет.
— Граф, — сказал Бэрлей, обращаясь к Дэдлею в соответствии с новопожалованным титулом, — вашим туалетом вы доказываете, что отдаете предпочтение вкусу парижского двора. Надо полагать, что это — самый изысканный вкус, раз его избрала первая красавица мира, шотландская королева.
Дэдлей тут же вспомнил, что, передавая ему лично патент на звание графа Лейстера, Бэрлей поздравил его и прибавил, что теперь он, наверное, скоро представит ко двору графиню Лейстер. Когда же Дэдлей очень уклончиво ответил на эту фразу, Бэрлей заметил, что нисколько не удивился бы, если бы Дэдлей оставил свое сердце в плену во Франции. Дэдлей был достаточно умен, чтобы относиться к каждому своему слову с большой осторожностью, особенно после того смелого шага, которым он подошел к королеве.
— Милорд, — ответил он, — я ношу французские платья потому, что у меня не было времени найти английского портного.
— Вы уклоняетесь от прямого ответа, милорд. Я так много слышал о блеске французского двора и красоте Марии Стюарт, что с удовольствием выслушал бы мнение англичанина на этот счет. Но, быть может, я кажусь вам стишком навязчивым?
— О, вовсе нет, милорд. Я могу только подтвердить, что слухи не преувеличивают великолепие французского двора.
— А шотландскую королеву там действительно так чествовали, как говорят? Она и на самом деле так хороша, что вдохновляет всех поэтов?
— Ее там очень чествовали, а поэтов везде достаточно много. Шотландская королева была образцом женской прелести, пока не потеряла супруга; с того времени я более не видел ее. Впрочем, у нее нет такой королевской осанки, как у нашей монархини.
— Тем хуже. Необходимо, чтобы Мария Стюарт снова вышла замуж, так как ей понадобится мужская рука для защиты против мятежных лордов. И нашей королеве было бы во всяком случае желательно, чтобы шотландский цветок сорвал английский лорд.
— Тогда ей остается только послать на сватовство лордов. Однако я боюсь, что им всем откажут.
— Даже если это будут такие мужчины, как вы, которым достаточно только появиться, чтобы приковать к себе внимание всех женщин? Граф Лейстер, неужели вы упустили во Франции возможность проложить себе дорогу к трону и теперь вам придется удовольствоваться графством?
— Милорд, мое честолюбие не покушалось даже на графство, — ответил Дэдлей.
— Смелому принадлежит весь мир, — улыбнулся Бэрлей. — Однако вот и королева.
Елизавета появилась в истинно королевском великолепии, но никогда еще, как теперь, женщина в ней так старательно не заботилась подчеркнуть все свои прелести. Красный бархат ее длинного платья был усеян белыми розами, в которых сверкали бриллиантовые росинки, белокурые волосы ниспадали на кружевной воротник и были переплетены усыпанными бриллиантами шнурками, а на высоком челе сверкала королевская диадема.
Когда государыня обвела взором присутствующих, то ее взгляд невольно остановился на Дэдлее. Она села на стул и приказала музыкантам играть, а лорду Бэрлею — остаться подле нее.
— Исполнили ли вы данное мною вам поручение, лорд Сесил? — спросила она, понижая голос до шепота. — Дело не терпит отсрочки, но я не могу предложить его на обсуждение совета, пока мы не будем совершенно уверены, что Дэдлей не встретит отказа.
— Ваше величество, граф Лейстер хитрее, чем можно ожидать по его открытому лицу. Я навел справки и узнал, что в Париже он держался исключительно в обществе двух людей, от него же самого ровно ничего не узнаешь.
— Кто они?
— Один — граф Сэррей, брат поэта, казненного в Тауэре; другой — шотландский дворянин, находящийся на службе графа Сэррея, некий Вальтер Брай.
— Значит, шотландец и, конечно, почитатель Марии Стюарт, помогавший Дэдлею при похищении королевы из Инч-Магома. Я хочу поговорить с этим господином; надеюсь, что мне легко будет вызвать его на откровенность.
— Ваше величество, не сделает ли единственный вопрос королевы излишним всякое расследование? Граф Лейстер еще не принес вам благодарности за оказанную ему вами милость.
— Лорд Бэрлей, позаботьтесь, чтобы завтра, до заседания тайного совета, я могла поговорить с шотландцем. Пусть придет также и граф Лейстер, но только он не должен знать, что я вызвала к себе шотландца.
Лорд Бэрлей поклонился, королева же снова окинула взглядом зал. Вдруг на ее лице вспыхнул румянец.
Дэдлей стоял, прислонившись к одной из колонн зала, и, казалось, весь ушел в созерцание танцующих; но от королевы не укрылось, что он тайком смотрел на нее. Вдруг он словно случайно приподнял берет. Елизавете бросилось в глаза, что он обвит голубым шелковым дамским рукавом. На винчестерском турнире в юности он прикрепил этот оторвавшийся у нее рукав к своему шлему!..

Глава вторая
ГОЛОС СОВЕСТИ

I
 В элегантном доме, находящемся на западной окраине Лондона, на белых подушках кушетки откинулась пышная женщина, словно погрузилась в сладкие грезы. Внизу расхаживали лакеи, ливреи которых были разукрашены богатыми галунами; лестницы дома были уложены смирнскими коврами, великолепные комнаты тонули в роскоши. Будуар был уютный: разукрашенная богатой резьбой мебель обита бархатом, тяжелые махровые занавеси закрывали окна, драгоценные ковры застилали пол, стены будуара увешаны дорогими гобеленами. Всевозможные безделушки и предметы роскоши придавали бы будуару вид кабинета редкостей, если бы вся остальная обстановка не была до крайности уютна и удобна. В камине пылало яркое пламя, красноватый отблеск которого играл на щеках мечтающей красавицы. Ни малейший звук не проникал с улицы в этот будуар, и уютной тишины не нарушало ничто, кроме трещания дров в камине и бурчания кипящей воды в серебряном чайнике. Чай был известен в Англии уже лет сто, но еще принадлежал к числу предметов роскоши.
Легкое, душистое платье окутывало пышные формы женщины, но на лице ее были видны исключительно искусственные краски, китайские румяна и французская пудра изгладили следы, наложенные временем, а может быть, заботами и пороком.
На столе стояла маленькая коробочка с целой грудой записок. Лорд М. прислал великолепное колье с пожеланиями счастья, капитан Р. — фрукты из Африки, адмирал Р. — редкости из Индии. Далее находились льстивые восхваления бедного поэта, благодарящего за щедрую поддержку, а еще далее — раздушенная записочка старого полковника.
Графиня Гертфорд мечтала. Все мрачные воспоминания своей юности она прогнала последующей наполненной роскошью жизнью и теперь наслаждалась богатством, доставшимся ей по капризу кровавой Марии.
Да, бывшая Кэт Блоуэр утопала в роскоши… Но кто мог сказать, что она была действительно счастлива? Женщина, когда-то стоявшая у папистского столба и потом коротавшая дни в пещере у ведьмы, сейчас вытягивала свое тело на мягких подушках, вдыхала индийские благовония и украшала себя шелком и драгоценностями…
Правда, Екатерину пугала бледная тень Тауэра. Призрак Бэклея долго отнимал у нее ночной покой; долгое время она боялась, что человек, которого прямо от алтаря потащили в застенок, когда-нибудь разорвет свои цепи, появится около ее изголовья и закричит: «Отдай назад украденное, ты, эдинбургская ведьма!» Из страха перед этим призраком она продавала свою любовь в обмен на защиту могущественных лордов. Поэтому, когда Мария Тюдор умерла и открыли двери темниц, то Бэклея не выпустили на свободу, а переправили через шотландскую границу с указом, что возвращение на английскую землю будет для него смертным приговором.
А Вальтер Брай?
Правда если в тихие часы одиночества Екатерина иногда думала о возлюбленном своей молодости, то ужас сковывал ее при воспоминании о мрачных страницах пережитого несчастья, и сердце сжималось холодным ужасом, когда она думала о человеке, кричавшем ей: «Опозоренная женщина должна умереть».
Она трепетала перед этой суровой добродетелью, перед этой словно из бронзы высеченной фигурой, которая требовала для нее смерти из-за какого-то негодяя, который покрыл ее позором; она чувствовала, что недостойна любви Брая и что именно эта любовь послужила причиной всех ее несчастий, так как только из любви к Вальтеру она отвергла Бэклея. А что мог предложить ей Брай? Скучное существование среди мирных хозяйственных забот: никогда не пришлось бы ей испытать восторги сладострастия, праздновать триумфы кокетства, вызывать зависть толпы.
А ее ребенок?
Этот уродливый чертенок, призрак болот, временами танцевал перед ее глазами и смеялся ироническим хохотом, и дрожь охватывала Екатерину. Но вспомнив его неожиданно мягкий голосок с мольбой о сострадании, Екатерина с болью думала о нем.
Неужели это ее дитя? Не насмешка ли сатаны? Но у того существа, которое молило ее о хлебе, волосы были мягки, тело нежно.
— Слишком поздно! — пробормотала Екатерина, вспомнив его опять, и, как тогда, вновь почувствовала, ка пол уплывает из-под ее ног, что вся окружавшая ее роскошь должна вот-вот рассеяться, как сонная греза, и ей снова придется ступать дрожащими ногами по болотам и взывать из всех сил:
— Бабушка Гуг, где мой ребенок?
Ее ребенок!… Материнская любовь никогда не пропадает совсем и в любой момент может вспыхнуть и разгореться ярким пожаром. Чего бы только не дала теперь Екатерина Гертфорд, чтобы иметь возможность посмотреть и обнять своего ребенка! Ей казалось, что она словно совершила преступление против самой себя в тот день, когда отказалась от него — преступление против собственной плоти.
Где же мальчик? Быть может, он умер от голода, пока она утопала в роскоши, или, может быть, замерз, пока она нежилась на мягком шелку; быть может, его пытали и сожгли, как ведьмино отродье, в то время как она отдавалась тому самому лорду, который дал это кровавое приказание?
Через преданных ей лиц Кэт навела справки, населено ли еще развалившееся аббатство близ Эдинбурга, не слышно ли чего-нибудь о колдунье и ее ребенке. Ей рассказали о том, как многих ведьм выставляли к папистскому столбу, а потом воздвигли большой костер, на котором и сожгли их всех во славу божию. Среди многих незнакомых ей имен упоминалась и Гуг, которая была в особенности одержима и мучима дьяволом. Ее пришлось три раза сечь розгами, пока она призналась.
Кэт стало страшно, ей казалось, что она слышит вопли несчастных, видит, как пылает пламя костров, смыкаясь над обугленными телами, слышит иронические насмешки и восторги толпы, прерываемые жалобными стонами детей казненных ведьм.
В элегантном доме, находящемся на западной окраине Лондона, на белых подушках кушетки откинулась пышная женщина, словно погрузилась в сладкие грезы. Внизу расхаживали лакеи, ливреи которых были разукрашены богатыми галунами; лестницы дома были уложены смирнскими коврами, великолепные комнаты тонули в роскоши. Будуар был уютный: разукрашенная богатой резьбой мебель обита бархатом, тяжелые махровые занавеси закрывали окна, драгоценные ковры застилали пол, стены будуара увешаны дорогими гобеленами. Всевозможные безделушки и предметы роскоши придавали бы будуару вид кабинета редкостей, если бы вся остальная обстановка не была до крайности уютна и удобна. В камине пылало яркое пламя, красноватый отблеск которого играл на щеках мечтающей красавицы. Ни малейший звук не проникал с улицы в этот будуар, и уютной тишины не нарушало ничто, кроме трещания дров в камине и бурчания кипящей воды в серебряном чайнике. Чай был известен в Англии уже лет сто, но еще принадлежал к числу предметов роскоши.
Легкое, душистое платье окутывало пышные формы женщины, но на лице ее были видны исключительно искусственные краски, китайские румяна и французская пудра изгладили следы, наложенные временем, а может быть, заботами и пороком.
На столе стояла маленькая коробочка с целой грудой записок. Лорд М. прислал великолепное колье с пожеланиями счастья, капитан Р. — фрукты из Африки, адмирал Р. — редкости из Индии. Далее находились льстивые восхваления бедного поэта, благодарящего за щедрую поддержку, а еще далее — раздушенная записочка старого полковника.
Графиня Гертфорд мечтала. Все мрачные воспоминания своей юности она прогнала последующей наполненной роскошью жизнью и теперь наслаждалась богатством, доставшимся ей по капризу кровавой Марии.
Да, бывшая Кэт Блоуэр утопала в роскоши… Но кто мог сказать, что она была действительно счастлива? Женщина, когда-то стоявшая у папистского столба и потом коротавшая дни в пещере у ведьмы, сейчас вытягивала свое тело на мягких подушках, вдыхала индийские благовония и украшала себя шелком и драгоценностями…
Правда, Екатерину пугала бледная тень Тауэра. Призрак Бэклея долго отнимал у нее ночной покой; долгое время она боялась, что человек, которого прямо от алтаря потащили в застенок, когда-нибудь разорвет свои цепи, появится около ее изголовья и закричит: «Отдай назад украденное, ты, эдинбургская ведьма!» Из страха перед этим призраком она продавала свою любовь в обмен на защиту могущественных лордов. Поэтому, когда Мария Тюдор умерла и открыли двери темниц, то Бэклея не выпустили на свободу, а переправили через шотландскую границу с указом, что возвращение на английскую землю будет для него смертным приговором.
А Вальтер Брай?
Правда если в тихие часы одиночества Екатерина иногда думала о возлюбленном своей молодости, то ужас сковывал ее при воспоминании о мрачных страницах пережитого несчастья, и сердце сжималось холодным ужасом, когда она думала о человеке, кричавшем ей: «Опозоренная женщина должна умереть».
Она трепетала перед этой суровой добродетелью, перед этой словно из бронзы высеченной фигурой, которая требовала для нее смерти из-за какого-то негодяя, который покрыл ее позором; она чувствовала, что недостойна любви Брая и что именно эта любовь послужила причиной всех ее несчастий, так как только из любви к Вальтеру она отвергла Бэклея. А что мог предложить ей Брай? Скучное существование среди мирных хозяйственных забот: никогда не пришлось бы ей испытать восторги сладострастия, праздновать триумфы кокетства, вызывать зависть толпы.
А ее ребенок?
Этот уродливый чертенок, призрак болот, временами танцевал перед ее глазами и смеялся ироническим хохотом, и дрожь охватывала Екатерину. Но вспомнив его неожиданно мягкий голосок с мольбой о сострадании, Екатерина с болью думала о нем.
Неужели это ее дитя? Не насмешка ли сатаны? Но у того существа, которое молило ее о хлебе, волосы были мягки, тело нежно.
— Слишком поздно! — пробормотала Екатерина, вспомнив его опять, и, как тогда, вновь почувствовала, ка пол уплывает из-под ее ног, что вся окружавшая ее роскошь должна вот-вот рассеяться, как сонная греза, и ей снова придется ступать дрожащими ногами по болотам и взывать из всех сил:
— Бабушка Гуг, где мой ребенок?
Ее ребенок!… Материнская любовь никогда не пропадает совсем и в любой момент может вспыхнуть и разгореться ярким пожаром. Чего бы только не дала теперь Екатерина Гертфорд, чтобы иметь возможность посмотреть и обнять своего ребенка! Ей казалось, что она словно совершила преступление против самой себя в тот день, когда отказалась от него — преступление против собственной плоти.
Где же мальчик? Быть может, он умер от голода, пока она утопала в роскоши, или, может быть, замерз, пока она нежилась на мягком шелку; быть может, его пытали и сожгли, как ведьмино отродье, в то время как она отдавалась тому самому лорду, который дал это кровавое приказание?
Через преданных ей лиц Кэт навела справки, населено ли еще развалившееся аббатство близ Эдинбурга, не слышно ли чего-нибудь о колдунье и ее ребенке. Ей рассказали о том, как многих ведьм выставляли к папистскому столбу, а потом воздвигли большой костер, на котором и сожгли их всех во славу божию. Среди многих незнакомых ей имен упоминалась и Гуг, которая была в особенности одержима и мучима дьяволом. Ее пришлось три раза сечь розгами, пока она призналась.
Кэт стало страшно, ей казалось, что она слышит вопли несчастных, видит, как пылает пламя костров, смыкаясь над обугленными телами, слышит иронические насмешки и восторги толпы, прерываемые жалобными стонами детей казненных ведьм.
II
Екатерина позвонила горничной и сказала ей:
— Прикажите заложить экипаж, я должна выехать. Принесите свечи, пусть будет светло! Пошлите за лордом Джорджем!… Я хочу смеха и шуток. К вечеру пригласите Шекспира с его труппой.
— Миледи, — испуганно прошептала камеристка, — там пришел какой-то человек, который хочет во что бы то ни стало переговорить с вами. Мы сказали ему, что вы сегодня не принимаете, но он просит, чтобы вы увиделись с ним, и тогда, по его словам, вы уже найдете время принять его.
Кэт внимательно посмотрела на камеристку, словно желая прочесть на ее лице, друг или враг этот незнакомец. Был ли то любовник, который долгое время пренебрегал ею, а теперь хочет приготовить ей приятный сюрприз, человек, с которым она может смеяться и шутить и прогнать мрачных призраков с души, или это враг, быть может, сам Бэклей или посланный от него человек?
— Сказал ли он, как его зовут? Я никого не принимаю, если мне не назовут сначала имени! — сказала Кэт.
— Миледи, он не захотел назвать свое имя, но уверяет, что знает вас лучше, чем все английские лорды. Это — кавалер, он одет во французское платье, но говорит по- английски с шотландским акцентом и с виду так мрачен и серьезен, словно Черный Дуглас шотландских болот.
При слове «шотландец» лицо у Кэт побледнело как мел, и колени подогнулись.
Как это камеристка могла увидеть в мрачном посетителе Дугласа? Ведь один из них был отцом ее ребенка. Что же сказать ему если Дуглас спросит: «Кэт, где мой ребенок?» Но что если он явился не за тем, чтобы грозить, а принес ей весточку о ее ребенке?
Но с доброй, или с плохой вестью пришел он, а ему была известна ее тайна; одно только слово — и графиня Гертфорд лишится всего своего очарования, титула, ранга и богатства. Что если он уже разболтал о цели своего посещения? Неужели ей снова придется спасаться бегством, быть исключенной из кругов знати, подвергнуться презрению поклонников и насмешкам своей челяди? Неужели она должна решиться на вечный позор ради неверного утешения? Почему бы этому человеку не написать ей?
— Я не выйду сегодня! — сказала графиня Гертфорд. — Я не хочу никого видеть. Дайте этому шотландцу денег, и пусть он уйдет.
— Миледи, он не похож на нищего. Он не принимает никаких отговорок.
— Что? Не хочет уходить? Да что, в самом деле, разве я не госпожа в своем доме? Пусть дворецкий удалит его.
Графиня повелительно махнула рукой, и камеристка ушла. Она часто видела свою госпожу расстроенной, но никогда не замечала такого беспокойства с явными признаками ужаса.
Но не успела камеристка уйти, как Кэт готова была вернуть ее обратно. Она чувствовала, что таким поведением вызывала подозрения прислуги, и никак не могла сообразить, к какому же решению ей прийти. Задержав дыхание, она прислушивалась, что творится за дверью. А что если вдруг незнакомец силой ворвется к ней. До ее слуха донеслись звуки спора.
Она подбежала к письменному столу. Лорд Т., который часто признавался ей в любви, мог бы помочь ей. Только одно его слово — и назойливый незнакомец исчезнет в тюрьме или его прогонят за границу.
«Милорд, — написала она дрожащей рукой, — какой-то незнакомец силой добивается у меня приема. Защитите меня! Я предполагаю, что это — месть изгнанного Бэклея, который преследует меня. Торопитесь, наградой вам будет моя любовь!»
Она сложила записку и позвонила.
В этот момент в комнату вбежала камеристка.
— Миледи, — закричала она, — это какой-то ужасный человек; мне даже кажется, что он покушается на вашу жизнь. Он обнажил меч и запер дверь, во что бы то ни стало хочет видеть вас!
Кэт улыбнулась — и в этой улыбке можно было прочесть смертный приговор незнакомцу. С того момента, как она приняла твердое решение уничтожить назойливого посетителя только за то, что он был шотландцем, она твердо решила смотреть на него как на врага.
— Скажи этому шотландскому болвану, — воскликнула Екатерина, — что мне очень интересно посмотреть на человека, который хочет пробить путь к даме мечом. Только ему придется немножко подождать, пока я покончу со своим туалетом. Прикажи подать в гостиную вина и стаканы; а с этим письмом пусть сейчас же кто-либо отправится к лорду Т.!
— Миледи, лучше было бы, если бы письмо отнесли через черный ход, а вы подождали, пока прибудет помощь. У незнакомца — пистолеты, а лакеи — большие трусы.
— Делай, что тебе приказывают, и не бойся ничего! — приказала Кэт, и ее глаза сверкнули злобным огнем. — Там, в шкафу, у меня имеется порошок, которым я сдобрю ему вино. Этот порошок усыпит его, и тогда нам легко будет справиться с ним.
— А если он не захочет выпить? Миледи, этот человек словно безумный; он говорит, что стоит ему произнести одно только слово — и никто не осмелится и пальцем дотронуться до него.
— Ступай, он выпьет вино! — воскликнула Кэт, а когда камеристка вышла из комнаты, она мрачно прошептала: — Да, да, его язык должен онеметь, прежде чем моя месть обрушится на его голову. Это — Дуглас, или Бэклей, или даже Вальтер Брай… А!… Одно-единственное слово может погубить меня и отпугнет трусливых лакеев, которые никогда не решатся рискнуть за меня своей подлой жизнью. Но это слово ему не удастся произнести!
Она торопливо подошла к шкафу, достала из коробки порошки, скользнула в гостиную и высыпала зелье в вино, затем засунула за корсаж маленький кинжал и вооруженная таким образом подошла к порогу.
— Пусть незнакомец войдет, — приказала она таким тоном, который ясно показал слугам, что им придется жестоко поплатиться за непослушание, после чего подошла к окну и встала, чтобы иметь возможность в зеркале разглядеть незнакомца, как только он переступит порог гостиной.
III
Открылась дверь, и на пороге появилась фигура, при виде которой вся кровь застыла у Кэт в жилах. Это был Вальтер Брай, которого она видела в ужасных кошмарах. Таким же грозным было его бледное лицо, как и в тот момент, когда его передали в Тауэре в руки палача. Это был тот самый человек, которого она любила в ранние годы своей юности, ради которого она отвергла Бэклея и навлекла на себя позор. Это был тот самый человек, который в час ее самого безграничного отчаяния предстал перед ней, словно ангел Божий, который освободил ее от папистского столба, избавил от коршунов и воронов, поджидавших свою жертву, сильная рука которого подняла ее на обрыв и низвергла дугласовских всадников со скал. Но это был также ангел смерти, бессердечный и полный ледяной холодности, тот самый, который стоял около ее смертного одра и кричал: «В могилу обесчещенную женщину! Я отомщу за тебя, но ты должна умереть!»
Что ему было нужно от нее? С какой целью вышел этот призрак из могилы? Какие права могли быть у него на нее?
Улыбка, с которой она думала приветствовать Дугласа или свести с ума посланного от Бэклея, замерла на устах Екатерины, но острый взгляд смертельной ненависти вспыхнул в ее глазах, когда она нашла наконец в себе силы побороть ужас при виде этого мрачного образа.
— Вальтер Брай, — молвила она, — неужели это — вы? Я боялась увидеть лорда Бэклея, которому я все еще не отомстила. Почему вы сразу не сказали своего имени?
— Миледи, — ответил Брай, — я пришел, чтобы потребовать ответа, а не служить удовлетворением праздному любопытству.
— Вы даете мне почувствовать, что презираете женщину, которая любила вас и пострадала только из-за этой любви.
— Миледи, вам, как видно, живется очень хорошо, так что должно быть в высшей степени безразлично, уважаю ли я вас, или презираю.
— Вальтер, вы ужасны! Но все-таки знайте, что я приняла все это богатство только для того, чтобы отомстить Бэклею, и ношу его имя только для того, чтобы досадить ему. Вальтер, не будем упрекать друг друга! Ведь я также могла бы поставить вам многое в вину, но к чему все это! Вы хотели говорить со мной. Неужели вы сомневаетесь, что я немедленно приказала бы впустить вас, если бы вы назвали свое имя? Все, что у меня есть, принадлежит вам. И если это имущество понадобится для мести, я готова пожертвовать им, но Бэклею должен быть конец. И тогда я сама готова умереть — жизнь не имеет для меня больше никакой цены.
— Да благословит вас Бог, миледи, если вы действительно думаете так! В таком случае я готов мягче судить о женщине, честь которой была когда-то мне так же свята, как и моя собственная. Не хочу спорить, не хочу спрашивать. Быть может, это тоже было своего рода местью с вашей стороны, когда вы сочетались с Дугласом. А, вы покраснели? Так вы еще не разучились краснеть? Миледи, вы — графиня, а в аристократическом мире несколько иначе смотрят на вещи. Там распутных девок не привязывают к позорному столбу, им закрывают позор щитом титула и накрывают их сверху гербом негодяя, достаточно подлого, чтобы торговать своим именем. Я не имею ни малейшего права делать вам выговоры, я не завидую лордам, которые ползают на коленях перед высеченной девкой. Приберегите краску стыда для тех господ. Я же пришел ради другого. Бабушка Гуг доверила мне ребенка. Эго был ваш ребенок, тот самый, которого вы прогнали из дома, чтобы он не выдал вас и не навлек на вас позора, так как этот ребенок был слишком уродлив. Этого ребенка я ищу. У него на пальце кольцо, которое он должен показать вам в тот момент, когда вас одолеет раскаяние. Этот ребенок здесь, но, по всей вероятности, вы, графиня Гертфорд, припрятали его в какой-нибудь приют. Я требую, чтобы вы отдали мне его назад, и тогда я обещаю вам, что никогда мои уста не произнесут слова, которое обвинит или выдаст вас; я забуду о вашем существовании.
Кэт закрыла лицо. Она и не подозревала, что Вальтеру известен также и этот позор ее жизни и что бабушка Гуг доверила ребенка ему, который хотел ее смерти, когда она была опозорена.
— Но где же этот ребенок?
— Вальтер, — простонала она, и слезы хлынули из ее глаз, — ты воспитал моего ребенка! О, какой ты благородный, великодушный человек! Вальтер! Мое дитя у тебя? Где же оно? Не скрывай!
— Филли нет здесь? Или это — лицемерие? О, Боже! Филли нет здесь…
— Вальтер, — продолжала умолять Екатерина, — расскажи мне, как ты потерял ребенка, я стану искать его, все мое золото…
— Да будь ты проклята со своим золотом! Подлая! Я лучше убил бы Филли, чем обрек позору иметь такую мать, как ты. Но горе, горе тебе!… Я буду терзать тебя, пока ты не заплачешь над собой и своим позором.
От его угроз и проклятий ужас все более и более овладевал Екатериной. Ненависть и страх заслоняли нежные чувства, пробужденные его словами, она видела в нем только человека, перед которым дрожала даже во сне, — и бешенство с удвоенной силой вспыхнуло в ее душе.
«Этот негодяй еще осмеливается грозить! — возмутилась она про себя. — Что, я его служанка, его рабыня, что ли? Этот нищий собирается погубить меня? Хочет выставить напоказ всему свету мой позор?.. Вот что, Вальтер Брай, если ты сам нарываешься на удар, так вини же самого себя!»
— Вальтер, — сказала она умоляющим голосом, со злорадством заметив, что он весь дрожит от возбуждения, — если ты хочешь криками и шумом сделать всех лакеев свидетелями скандала, то ты никогда не узнаешь, где Филли. Я если когда-нибудь и найду ребенка, то укажу ему на тебя пальцем и скажу: «Вот человек, который сделал несчастной твою мать. Ей пришлось оттолкнуть тебя, так как иначе он убил бы тебя, как постоянно грозился убить твою мать»… — Заметив, что на лице его отражаются самые разнородные чувства, она продолжала: — Ты всегда думал только о самом себе, Вальтер, о собственной чести. Своей дикой необузданностью ты вооружил против себя дугласовских всадников, так что уже не мог защитить меня от них. Когда меня обесчестили, ты хотел убить меня вместо того, чтобы преследовать их. Перед тобой мне приходилось вечно дрожать, и получалось, что ты был мне не защитником, а врагом. Конечно, гораздо легче издеваться над женщиной и убить обесчещенную, чем отыскать лорда Бэклея. Но недостойно с твоей стороны делать мне новые упреки за то, что я нашла себе другую защиту.
— Перестань, женщина ты или черт! — заскрежетал он зубами. — Ты приводишь меня в бешенство. Я готов разгромить все вокруг. Да, недостойно угрожать женщине, хотя бы эта женщина и была холодной змеей, готовой ужалить. Но и ты была недостойна, чтобы я любил тебя.
— Вальтер, мне хочется верить, что только страдание делает тебя таким суровым и бесчувственным. Ты устал, пот выступил на твоем лбу. Освежись глотком вина и потом спокойно выслушай меня. Я не буду защищаться, а просто попробую доказать тебе, что ты неправ, обвиняя меня в том, будто я не люблю своего ребенка.
— Ты? Ха-ха-ха!… — он горько рассмеялся, принимая из рук Кэт кубок вина. — Если здесь яд, так пусть у тебя на совести будет еще и убийство.
Он не заметил, с каким смертельным ужасом следила она за его рукой, подносившей кубок к губам.
Брай опорожнил кубок до дна, одним духом вылив его содержимое в пересохшее горло. Но вдруг насторожился, услышав шум тяжелых шагов и звон оружия.
— Это что такое? — спросил он, схватившись за пистолет, заткнутый за пояс. — Берегись, Кэт! Первая пуля достанется тебе, если ты поймала меня в засаду!
— Ты глуп, Вальтер!
— Я глуп, потому что позволил девке одурачить меня. Э… что это такое… а… вино… яд… ты отравила меня!…
Он попытался поднять руку, но внезапная усталость вдруг сковала его, а разлившаяся по лицу бледность показала, что наркотическое действие яда уже начинало действовать.
— Твои мысли путаются от излишней страстности, — улыбнулась Кэт.
— Подлая!… Проклинаю!…
Брай согнулся и рухнул на ковер. Кэт торопливо бросилась к порогу.
Вошли полицейские.
— Вот этот дебошир, — сказала Кэт. — Я дала ему сонное питье, пусть он теперь выспится в тюрьме; мои слуги подтвердят вам, что он силой ворвался ко мне.
Лорд Т. явился часом позднее.
— Вы — героиня, — воскликнул он. — Я слышал, что вы смелой хитростью и редким присутствием духа справились с человеком, которого испугалась орава ваших лакеев. Но кто это такой? Что ему от вас нужно?
— Милый лорд, это — несчастный сумасшедший, который вбил себе в голову, будто я — шотландская деревенская девка, его бывшая невеста, покинувшая его. Должно быть, по несчастной случайности, я очень похожа на нее. Он еще прежде неоднократно докучал мне, но теперь это сумасшествие принимает опасные формы, так как он начинает грозить оружием.
— Я позабочусь, чтобы его обезвредили. Но как вы неосторожны! Ведь он мог убить вас здесь!
— Милорд, вы не учитываете, что он видит во мне свою возлюбленную. Я чувствую к нему глубокое участие, история этого несчастного человека очень трогает меня. Ведь я — его соотечественница. Я надеялась, что мне удастся словами утешения успокоить его, но он окончательно взбесился.
— Ну, больше он вам не будет досаждать. О, если бы вы знали, каким очарованием облекает вас это сочетание красоты со способностью питать глубокое сочувствие к несчастью! Но обязанностью ваших друзей является оберегать вас от последствий вашей собственной доброты, когда дело идет о вашей жизни.
Кэт улыбнулась — она победила. Но чего стоила ей эта улыбка торжества! Яд, который она подмешала к сонному питью, наверняка парализует мозг. От Вальтера Брая она себя обезопасила, но от укоров совести?..
Она вступила на невозвратный путь преступлений.

Глава третья
ВОЗМЕЗДИЕ

I
 Королева Елизавета сидела, задумчиво глядя в окно. Там, у ворот своего дворца, она увидала Дэдлея в первый раз с тех пор, как он вернулся из Франции, и сердце, которое не забыло рыцарского пажа винчестерского турнира, горячо забилось навстречу мужчине, снова взглянувшему на нее смелыми глазами пажа, так же отважно, так же гордо, так же маняще.
«Если бы я была простой леди, то не было бы счастья выше того, как броситься в его объятья! — думала она. — Но я — английская королева!.. Любовь ожесточила моего отца и заставляла его переносить свое дикое неистовство с одного объекта на другой. Да и мое сердце уже вспыхнуло гневом при одной мысли, что он мог нарушить свою в прошлом верность мне; и я могла бы убить любимого человека, если бы он осмелился обмануть английскую королеву, словно самую обыкновенную женщину… Ха! Разве не сказала леди Бэтси Килдар, что когда-нибудь любовь скует цепями и мое сердце? Значит, женщина является рабыней, когда любит… Неужели же я когда-нибудь превращусь в жалкую рабыню своего возлюбленного, которую бросают, когда увядают ее прелести? Нет, мне надо быть твердой. Я должна подавить в себе единственную слабость, которой наделила меня природа, дать возлюбленному в супруги мою соперницу; мое сердце не смеет приобрести надо мной ту власть, которая обезличивает государей, делает сильного — рабом, гордого — ревнивым и доводит до порока, за который моя мать поплатилась жизнью! Что если Бэрлей уже догадался об истинной причине вызова Брая — ревности, охотно прислушивающейся к каждой сплетне? Ведь тогда мои советники используют мою слабость, чтобы направлять мою волю по своему желанию. Нет, он обманется в своих ожиданиях, если собирался поймать меня на обычной женской слабости. Пусть он увидит, что я навожу справки только в интересах английской короны и хочу лишь узнать, подходящий ли Дэдлей человек, чтобы сделать Шотландию вассалом Англии. О, как слепа страсть, как велика опасность подпасть под ее влияние!»
Доложили о приходе лорда Бэрлея.
— Как, вы один? — с удивлением спросила Елизавета. — Разве очень трудно найти этого Брая?
— Ваше величество, граф Лейстер ждет ваших приказаний, но сэр Вальтер Брай…
— Милорд, наши приказания были даны с достаточной ясностью и определенностью!
— Ваше величество, соблаговолите выслушать меня. Данный случай кажется мне достаточно важным, чтобы обратить на него ваше внимание, здесь затронуты интересы правосудия. Разрешите мне обратить ваше внимание на некоторые подробности.
— Говорите, милорд!
— Быть может, вы, ваше величество, припомните статс- даму королевы Марии Тюдор, которая довольно необыкновенным образом составила свое счастье в ту самую ночь, когда Гилфорд Варвик поплатился жизнью.
— Милорд, я знаю все это.
— Ваше величество, королева Мария заставила графа Гертфорда жениться на этой статс-даме и перевести на ее имя все свое состояние, после чего его заперли в Тауэре, где подвергли пыткам и заковали в цепи, пока милостью вашего величества он не был выпущен на свободу под условием никогда больше не появляться в Англии.
— Подлый негодяй не стоил веревки, чтобы его повесили. Но, милорд, я не знала тогда, что здесь оставалась его супруга. Разве она играет какую-нибудь роль по отношению к сэру Браю?
— Главную роль, ваше величество! Вчера сэр Вальтер Брай силой проник в дом графини Гертфорд, и она приказала арестовать его, после того как добрых полчаса проговорила с ним с глазу на глаз и потом подмешала ему в вино сонное питье. Человек, казавшийся по внешнему виду совершенно здоровым и только бывший сильно возбужденным и взволнованным при появлении в доме графини Гертфорд, теперь лежит в горячечном бреду. Графиня уверяет, что он всегда был сумасшедшим, помешанным на том, что она будто бы является его невестой, когда-то изменившей ему. Лорд Т. приказал заключить сэра Брая в тюрьму, о чем и узнали мои люди. Среди его бумаг нашли письмо леди Бэтси Килдар и многие другие письма, доказывающие, что он уже давно следит за лордом Бэрлеем и за графиней Гертфорд. Показанию графини Гертфорд, будто Брай давно был сумасшедшим, противоречит то, что он был в дружбе с графом Лейстером. Мне кажется, что он стал сумасшедшим только со вчерашнего дня, так как графиня Гертфорд могла дать ему с сонным питьем также и яд.
— Господи Боже! Милорд, вы правы, но я надеюсь, что сэр Дэдлей не замешан в эту историю? Пусть граф немедленно появится здесь!
Бэрлей вышел за дверь, и через несколько секунд перед королевой появился граф Лейстер.
Королева Елизавета сидела, задумчиво глядя в окно. Там, у ворот своего дворца, она увидала Дэдлея в первый раз с тех пор, как он вернулся из Франции, и сердце, которое не забыло рыцарского пажа винчестерского турнира, горячо забилось навстречу мужчине, снова взглянувшему на нее смелыми глазами пажа, так же отважно, так же гордо, так же маняще.
«Если бы я была простой леди, то не было бы счастья выше того, как броситься в его объятья! — думала она. — Но я — английская королева!.. Любовь ожесточила моего отца и заставляла его переносить свое дикое неистовство с одного объекта на другой. Да и мое сердце уже вспыхнуло гневом при одной мысли, что он мог нарушить свою в прошлом верность мне; и я могла бы убить любимого человека, если бы он осмелился обмануть английскую королеву, словно самую обыкновенную женщину… Ха! Разве не сказала леди Бэтси Килдар, что когда-нибудь любовь скует цепями и мое сердце? Значит, женщина является рабыней, когда любит… Неужели же я когда-нибудь превращусь в жалкую рабыню своего возлюбленного, которую бросают, когда увядают ее прелести? Нет, мне надо быть твердой. Я должна подавить в себе единственную слабость, которой наделила меня природа, дать возлюбленному в супруги мою соперницу; мое сердце не смеет приобрести надо мной ту власть, которая обезличивает государей, делает сильного — рабом, гордого — ревнивым и доводит до порока, за который моя мать поплатилась жизнью! Что если Бэрлей уже догадался об истинной причине вызова Брая — ревности, охотно прислушивающейся к каждой сплетне? Ведь тогда мои советники используют мою слабость, чтобы направлять мою волю по своему желанию. Нет, он обманется в своих ожиданиях, если собирался поймать меня на обычной женской слабости. Пусть он увидит, что я навожу справки только в интересах английской короны и хочу лишь узнать, подходящий ли Дэдлей человек, чтобы сделать Шотландию вассалом Англии. О, как слепа страсть, как велика опасность подпасть под ее влияние!»
Доложили о приходе лорда Бэрлея.
— Как, вы один? — с удивлением спросила Елизавета. — Разве очень трудно найти этого Брая?
— Ваше величество, граф Лейстер ждет ваших приказаний, но сэр Вальтер Брай…
— Милорд, наши приказания были даны с достаточной ясностью и определенностью!
— Ваше величество, соблаговолите выслушать меня. Данный случай кажется мне достаточно важным, чтобы обратить на него ваше внимание, здесь затронуты интересы правосудия. Разрешите мне обратить ваше внимание на некоторые подробности.
— Говорите, милорд!
— Быть может, вы, ваше величество, припомните статс- даму королевы Марии Тюдор, которая довольно необыкновенным образом составила свое счастье в ту самую ночь, когда Гилфорд Варвик поплатился жизнью.
— Милорд, я знаю все это.
— Ваше величество, королева Мария заставила графа Гертфорда жениться на этой статс-даме и перевести на ее имя все свое состояние, после чего его заперли в Тауэре, где подвергли пыткам и заковали в цепи, пока милостью вашего величества он не был выпущен на свободу под условием никогда больше не появляться в Англии.
— Подлый негодяй не стоил веревки, чтобы его повесили. Но, милорд, я не знала тогда, что здесь оставалась его супруга. Разве она играет какую-нибудь роль по отношению к сэру Браю?
— Главную роль, ваше величество! Вчера сэр Вальтер Брай силой проник в дом графини Гертфорд, и она приказала арестовать его, после того как добрых полчаса проговорила с ним с глазу на глаз и потом подмешала ему в вино сонное питье. Человек, казавшийся по внешнему виду совершенно здоровым и только бывший сильно возбужденным и взволнованным при появлении в доме графини Гертфорд, теперь лежит в горячечном бреду. Графиня уверяет, что он всегда был сумасшедшим, помешанным на том, что она будто бы является его невестой, когда-то изменившей ему. Лорд Т. приказал заключить сэра Брая в тюрьму, о чем и узнали мои люди. Среди его бумаг нашли письмо леди Бэтси Килдар и многие другие письма, доказывающие, что он уже давно следит за лордом Бэрлеем и за графиней Гертфорд. Показанию графини Гертфорд, будто Брай давно был сумасшедшим, противоречит то, что он был в дружбе с графом Лейстером. Мне кажется, что он стал сумасшедшим только со вчерашнего дня, так как графиня Гертфорд могла дать ему с сонным питьем также и яд.
— Господи Боже! Милорд, вы правы, но я надеюсь, что сэр Дэдлей не замешан в эту историю? Пусть граф немедленно появится здесь!
Бэрлей вышел за дверь, и через несколько секунд перед королевой появился граф Лейстер.
II
Дэдлей был одет в очень скромный костюм, в высшей степени гармонировавший с тем покорным выражением лица, которое он принял перед королевой. Властолюбие было не только самой выпуклой чертой характера Елизаветы, но и ее слабостью. И когда королева увидела перед собой того самого человека, который вчера преследовал ее смелыми влюбленными взглядами, а ныне стоял таким приниженным, то она почувствовала себя удовлетворенной.
— Милорд Лейстер, — сказала Елизавета, — мы вызвали вас сюда для того, чтобы расспросить вас о разных важных вещах, и требуем от вас, как верноподданного и вассала, чтобы вы откровенно и непреложно сообщили нам чистую правду. Представьте себе, что вы стоите перед законом, и клянусь Богом, что, если вы утаите хоть что-нибудь, я отдам вас под суд.
— Ваше величество, — ответил Дэдлей, — я не знаю, скаких пор моя королева стала сомневаться, что Варвик не доверит ее мудрости даже такой тайны, которую от него не могла бы вырвать никакая другая земная сила.
— Милорд, я предпочитаю доказательства преданности уверениям в ней. Скажите мне, что вы знаете о графине Гертфорд.
— Ваше величество, я не имею чести знать эту даму.
— Вы не знаете ее? Но ваш друг, Вальтер Брай из Дэнфорда, хорошо знаком с ней, и если вы подумаете, то наверное вспомните, что он говорил об этой женщине и своих намерениях касательно ее.
— Вальтер Брай? Ваше величество, это — очень замкнутый человек; мне известна одна тайна его жизни, но с его уст никогда не срывалось ни одного звука относительно ее; то же, что мне известно, я знаю благодаря своему другу Роберту Сэррею.
— Значит, этот сэр Брай избегает людей и любит уходить в мрачные грезы? Быть может, это — полоумный, одержимый навязчивыми представлениями?
— Ваше величество, это — один из самых достойных людей, вернейший друг, а если он и таит мрачные планы, то потому, что сам пережил много горя.
— Расскажите мне, что именно пришлось ему пережить.
— Ваше величество, сэр Брай любил одну девушку, которая отвечала ему взаимностью. Один из его врагов старался обесчестить девушку, а когда ему это не удалось, то он обвинил ее в распутстве. Эдинбургская толпа, подлая чернь и негодяи всадники потащили несчастную за город и привязали к позорному столбу. Появился Вальтер Брай, он отвязал мученицу, чтобы узнать от нее правду и услышать имена тех, кому он мог бы отомстить за нее, он даже готов был умертвить опозоренную девушку, но одной старухе удалось спасти ее.
— Готов был умертвить? — переспросила Елизавета с большим интересом. — Почему? Потому, что она была виновата, или же он считал, что женщина, которую он любил, после всего происшедшего не достойна жить на свете?
— Он уверился в ее невиновности, но посчитал, что для лишенной чести смерть должна казаться избавлением от позора.
— Это доказывает большую широту мыслей. Но как это ужасно! Этот субъект очень своевластен, но он мне нравится! Продолжайте!
— Он тщетно искал своего врага, но тому удалось скрыться в Англию. Когда Брай узнал, что его невеста еще жива, он, не обращая внимания на то, что находился в то время под преследованием, бросился к тому месту, где она, по слухам, жила. Я сопровождал его в этой поездке и могу подтвердить, что Брай глубоко возненавидел обесчещенную за то, что она предпочла смерти позорную жизнь. Она исчезла. Через некоторое время и мы тоже прибыли в Лондон. В ту самую ночь, когда моему отцу пришлось поплатиться сначала свободой, а потом и жизнью, Брай встретил своего врага в Виндзорском парке. Его враг успел вкрасться в доверие к моему деду, чтобы потом предать его королеве Марии. Но за нападение на этого врага Брай попал в Тауэр. Как ему удалось спастись из Тауэра — об этом он не обмолвился ни словом ни мне, ни Сэррею. Но, наверное, эго произошло с помощью старой шотландской колдуньи, потому что она привела его к себе в подземелье, где прятались Сэррей и я, и доверила ему мальчика, которого он полюбил как сына. Очень возможно, что этот мальчик был сыном его невесты, которая позднее открыто вступила на путь позора. Этот мальчик был нашим пажем во Франции. Он был очень предан и самоотвержен. Однажды он спас мне жизнь, когда нас преследовала Екатерина Медичи. Та приказала пытать его, но, благодаря заступничеству Марии Стюарт, удалось добиться его освобождения. Однако с тех пор наш паж исчез, и Вальтер Брай тщетно искал его повсюду.
— Как звали врага сэра Брая?
— Лорд Бэклей.
— А! — воскликнула Елизавета, слушавшая рассказ Дэдлея с напряженным вниманием. — Тогда все ясно. Теперь понятно, кто такая графиня Гертфорд и почему Брай вдруг выдан за сумасшедшего. Благодарю вас, граф Лейстер! Позовите лорда Сесила!
Дэдлей поклонился и выполнил приказание.
— Лорд Бэрлей, — сказала королева, когда тот снова появился перед ней, — милорд Лейстер дал нам вполне удовлетворительные объяснения. Прикажите сейчас же арестовать графиню Гертфорд и поставить ей условием ее освобождения, чтобы она назвала яд, который она дала сэру Браю, потому что, если он умрет, ее голова скатится с плеч; и, пока он не выздоровеет, она должна оставаться в цепях. Кроме того, она должна выдать все, что ей известно о ее сыне, а мы проведем розыск со своей стороны. Что касается ее дальнейшей участи, то, быть может, мы предоставим решающее слово самому сэру Браю. Его немедленно освободите и приставьте к нему моего лейб-медика, который должен давать мне постоянные рапорты о ходе его болезни, пока больной не будет в состоянии лично рассказать мне обо всем происшедшем. Лорда Т. привлеките к ответственности за превышение власти. В государственном совете мы с вами увидимся.
Бэрлей, поклонившись, вышел.
Тогда Елизавета милостиво обратилась к Лейстеру:
— Милорд, благодарю вас за первую службу, которую вы сослужили мне. Вы помогли мне проявить правосудие, и теперь я хочу подвергнуть еще более тяжкому испытанию вашу преданность. Ведь вы, кажется, говорили, что готовы пожертвовать для меня своей кровью и всем достоянием?
— Ваше величество, я как милости жду этого испытания!
— Хорошо же, милорд, вы должны устранить для меня опасного соперника и помочь увенчать победой первый важный шаг внешней политики. Дело идет о жертве, за которую вы будете щедро вознаграждены.
— Ваше величество, какая награда может быть для меня выше вашей милости и благоволения?
— Сначала выслушайте, чего я потребую от вас. Вы произвели впечатление на наших дам, вы умеете смело говорить с женщиной и прямо идти к цели, что обеспечивает вам победу. Наша родственница, Мария Шотландская, стала жертвой мятежных лордов и нуждается в опоре. Задача английской политики — найти эту поддержку здесь, на острове. Человек, которого я рекомендую в качестве супруга Марии Стюарт, должен видеть будущность Шотландии в единении с Англией, а не в союзе с жалкой Францией. Он должен быть верным слугой Англии, и я выбрала для этого вас, граф Лейстер.
Елизавета произнесла последние слова дрожащим голосом, так как Дэдлей был поражен или мастерски притворялся пораженным, и Елизавета не была бы женщиной, если бы не подумала, что разбила ему сердце.
— Сэр Дэдлей, — мягче продолжала она, видя, что он стоит точно раздавленный неожиданным несчастней, — ведь я назвала жертвой ту службу, которую требую от вас.
— Ваше величество, — ответил он, не поднимая взора, — я предлагал вам свою голову, но вы требуете большего…
— Милорд, мне говорили, что ваше сердце еще свободно. Мария Шотландская красива, а вместе с ее рукой вам достанется корона. — Взор Елизаветы впился в него, желая понять, что говорило его сердце. — Или, быть может, ваше сердце не свободно? — тихо спросила она.
Он взглянул на нее — и чувство глубокого торжества, которого она так жаждала, пронизало ее всю.
— Ваше величество, — с горькой усмешкой сказал Дэдлей, — разве это важно? Полюбишь, потом над тобой надругаются, и уже не сможешь любить, так как ничто так не разбивает сердца, как подобное издевательство. Если оно заслужено, тогда дело обстоит еще веселее — дурака выставляют на всеобщее посмеяние; если же оно не заслужено, то это, конечно, неприятно высмеянному, и ему спешат заплатить за страдание и за жестоко растоптанное чувство и предлагают чужую корону. Ваше величество, на ком прикажете мне жениться, если шотландская королева откажет мне?
— Лорд Лейстер!
— Ваше величество, вы сердитесь, так как я забыл, что стою перед королевой. Но, впрочем, какое вам дело до Дэдлея Варвика? Вы можете потребовать моей головы, но вам не разбить моего сердца. Это может сделать только прекрасная Елизавета Тюдор.
— Граф Лейстер, вы сошли с ума. Ведь вы говорите с вашей королевой!
— Вы могли послать меня в Тауэр, если вас как королеву оскорбило, что я осмелился поднять на вас свой взор. Но вы не сделали этого, потому что не хотели поступить как королева, а как кокетливая женщина пожелали сначала поиграть с моим сердцем, чтобы потом растоптать его и надругаться над священнейшими чувствами.
Елизавета вскочила: ее грудь бурно колыхалась, глаза метали молнии. Ее рука совсем было коснулась сонетки, но она не решилась позвонить, так как Дэдлей не только не испугался ее угрозы, а, наоборот, дерзко усмехнулся.
— Милорд, если бы я не думала, что вы вне себя, то это оскорбление стоило бы вам головы! — воскликнула она.
— Я ничего другого и не желаю! Я смеюсь над вашим гневом, потому что знаю, что вы понимаете меня, хотя и притворяетесь, будто мои слова непонятны для вас.
— Дэдлей, вы только доказываете мне, насколько жестоко должна королева поплатиться своей гордостью, если она хоть немного поддастся женской слабости. С вашей стороны было бы благороднее пощадить меня и избавить от этого признания. Вы должны почувствовать, что и мне самой стоило трудной борьбы сказать вам: «Дэдлей, полюбите другую». Я-то вас хорошо понимаю, но вы не понимаете меня!…
Он бросился к ее ногам; как ни мягко звучали последние слова, но в них слышалась такая решимость, что он не мог сомневаться в крушении всех своих честолюбивых надежд.
— Елизавета, — шепнул он, прижимая к своим губам край ее платья, — вы правы, называя меня безумным, только безумец мог надеяться на то, на что надеялся я. Простите несчастному, который забылся на мгновение и в глубоком страдании произнес слова, за которые не может отвечать.
— Встаньте, Дэдлей! Довольно! И так было слишком много всяких объяснений. Я как королева не хочу краснеть перед вами. Я назвала свое требование жертвой и просила вас принести ее мне. Издевательство заключалось бы в том, если бы вам приказывали, а я просила вас! Я буду вдвойне уважать вас, если мне никогда больше не придется раскаиваться в том, что я позволила вам забыться в моем присутствии. Отправляйтесь в Шотландию, милорд, прошу вас об этом!
Дэдлей прижался губами к протянутой ею руке и произнес:
— Ваше величество, когда прикажете отправляться в путь?
— Государственный канцлер передаст вам мой указ. Прощайте, Дэдлей!
Он еще раз страстно прижался к ее руке и бросился вон из комнаты.
Елизавета, с глубоким волнением проводив его взглядом, подумала:
«Я все-таки победила. Леди Килдар неудачно пророчествовала, что когда-нибудь любовь сломит и мою гордость. У меня гордость сломила любовь».
Когда Елизавета появилась в зале заседания совета министров, ее лицо сияло торжеством. Она заявила членам совета, что выбрала графа Лейстера в супруги шотландской королеве.
Один из членов совета осведомился, не позаботилась ли она о том, чтобы дать Англии короля, который мог бы обеспечить наследника престола.
— Милорды, — ответила Елизавета с гордой усмешкой, — посланник испанского короля испытывает мое терпение, хотя я уже несколько лет тому назад сообщила ему о своем решении и не собираюсь менять его. Вообще, милорды, я предпочла бы любому иностранному принцу английского лорда, но в настоящий момент я еще не знаю, выйду ли замуж или нет. Но твердо решила не уступать будущему супругу ничего из своих прав, власти, имений и средств, предоставив своему избраннику единственную заботу дать Англии наследника престола. Хотя вы часто предостерегаете меня от избрания в мужья одного из подданных, но я не послушаюсь ваших советов. Брак вообще противен моей природе, и только благо моих верноподданных может вынудить меня на подобный шаг.
Елизавете льстило, что она одерживала победу над своей единственной соперницей, давала ей в мужья человека, бывшего всецело во власти ее, Елизаветы, чар. Ведь она не любила его пламенной страстью, просто ее самолюбию льстило, что понравившийся ей человек упал к ее ногам. Она не потерпела бы, чтобы ее рыцарь винчестерского турнира, единственный человек, заставивший быстрее биться ее сердце, с обожанием отнесся к ее сопернице, теперь же она могла гордо распоряжаться судьбой этого человека — он был ее рабом.
III
В то время как в государственном совете обсуждался текст ответа Джэмсу Стюарту, который обратился к Англии с просьбой выбрать супруга для Марии Стюарт, так как он находил целесообразным, чтобы между Шотландией и Англией существовали дружественные отношения, — Кэт Гертфорд была арестована.
Она покоилась на мягких подушках дивана, прихлебывала сваренный с пряностями шоколад и поджидала лорда Т., который должен был принести ей известие, что Вальтер Брай стал навсегда неопасен для нее. Как жаждало ее сердце этого известия, как кипела в ее жилах пламенная ненависть, когда она думала об угрозах, которые кинул ей в лицо этот призрак из ее прошлого!
В коридоре послышался шум. Кэт пошла на этот шум торжествующая. Но что это? Звон шпор, бряцание оружия, грубые слова команды…
Кэт стала напряженно прислушиваться, ею стал овладевать страх. Дрожащей рукой она искала засов, которым можно было бы запереть дверь.
Именем королевы!… — раздался в коридоре грубый голос полицейского. — Назад!
«Неужели явились арестовать меня? — подумала Кэт. — Да нет, это невозможно, сумасшедший не мог дать какие-либо показания. Яды Гуг действуют наверняка. Просто пришли, чтобы допросить слуг…»
Но вот шаги раздались уже с другой стороны, дверь в спальню открылась, и в нее вбежала испуганная горничная.
«Нет, это уже за мной, я пропала! Яд не подействовал! Брай донес на меня. Мне грозит тюрьма, эшафот!… Тюрьма?!»
Холод ужаса пробежал по телу Кэт, ее всю затрясло.
«Но нет, я еще пока свободна! — Мрачная улыбка насмешки исказила черты Екатерины. — Там, в шкафу, стоят маленькие флаконы с ядами! Живой им не взять меня, им не придется снова меня сечь и бросать в воду и долгое время держать в страданиях перед ужасом смерти!…»
Она торопливо подбежала к шкафу. Шум шагов слышался все ближе и ближе… Екатерина уже схватила пузырек с ядом.
«А вдруг еще есть спасение? Яд действует скоро, с ним играть не приходится, а смерть так ужасна, тем более, что после нее будут Страшный Суд и вечное проклятие. Умереть без исповеди и отпущения грехов?»
Она вздрогнула, и рука в нерешительности отдернулась назад… Но половица уже затрещала под ногами полицейского. Все завертелось перед глазами Кэт, чьи-то грубые руки схватили ее за плечи.
— Пощадите!… — пробормотала она и упала в глубокий обморок.
Ей брызнули водой в лицо. Когда она пришла в себя, то увидела, как один полицейский старательно укладывал в ящичек все ее флаконы, а другой стоял перед ней, и в его глазах горела злорадная насмешка.
— Мы успели вовремя!… — засмеялся он. — Прекрасная леди, вероятно, это и есть те самые яды, которые вы подмешали сэру Браю в вино? Поскорее сообщите нам, какой именно яд вы дали ему и какое противоядие может еще спасти его, потому что королева приказала держать вас до тех пор в цепях, пока Вальтер Брай не выздоровеет, если же не удастся спасти его, то вам придется потерять свою голову на плахе.
— Сжальтесь, я ничего не знаю! Клянусь, что королева введена в заблуждение. Этот человек уже давно был сумасшедшим, он угрожал мне…
— Прекрасная леди, вот наручники для ваших ручек. Посмотрите на них и пораздумайте, не выгоднее ли вам будет признаться во всем. Королева знает все. Вы — трактирная служанка из Эдинбурга.
— Все это — ложь, — простонала Кэт, — это — подлая ложь! Сумасшедший говорит это для того, чтобы погубить меня.
— Сумасшедший ровно ничего не говорит, имеются еще и другие, видевшие вас у папистского столба. Где ваш ребенок? Признайтесь, иначе нам придется сковать вас и отправить в тюрьму. — Полицейский положил наручники и веревки на стол.
— Клянусь Богом, я ничего не знаю о ребенке, — воскликнула она. — У меня украли его. Один Вальтер Брай виноват.
— Так, вероятно, за это-то вы и дали ему яд? Прекрасная леди, дайте противоядие! Это может спасти вашу жизнь.
— А вы обещаете, что меня оставят в живых? Поклянитесь мне в этом, тоща я исполню ваше приказание иначе Брай умрет, как и я, без покаяния и отпущения грехов.
Полицейский схватил ее за руки. Она вскрикнула:
— Сжальтесь! Сжальтесь! Вот возьмите те капли в голубом флаконе. Лихорадка сразу пройдет. Брай не станет ложно присягать. Он знает, что у меня украли ребенка. Я не убивала его. Если ваше средство поможет, — сказал с ухмылкой полицейский, — вам отведут лучшую камеру и не станут пытать. Королева справедлива, если вы невиновны, она вознаградит вас.
Во дворе стояла закрытая карета. Графиню отвели вниз и заставили сесть в экипаж. Вооруженные всадники эскортировали ее в Ньюгейтскую тюрьму.

Глава четвертая
МАРИЯ СТЮАРТ И РЕФОРМАТОР

I
 Первый взрыв недовольства по поводу возобновления католического богослужения в Голируде был сдержан энергичным вмешательством лорда Джэмса Стюарта, но слова реформатора Нокса: «Я скорее соглашусь видеть в Шотландии десять тысяч врагов, чем служение одной-единственной мессы» — звучали по-прежнему угрозой для государыни, которая была чужда своему народу, находила поддержку только в честолюбивых баронах и должна была опасаться того, чтобы их честолюбие не сделало из нее игрушку партийных раздоров.
Она не обладала ни одним из качеств, которые хотели видеть в ней ее подданные. Даже все ее очарование ставилось ей же в вину. Красота Марии вызывала слух, будто она приобрела во Франции привычку к легкомысленным любовным приключениям, а это претило суровым, добродетельным шотландцам. Эта любительница поиграть на лютне и продекламировать французские стихи, носившая корону в чудных локонах с большим кокетством, но без всякого королевского величия, любившая ухаживания поклонников, должна была править раздираемой партийными счетами страной, внушить уважение к закону мятежным лордам. Да еще она привезла с собой католических патеров, весь этот столь ненавистный Шотландии религиозный аппарат, дружбу Гизов, коварство иезуитов.
«Прибытие королевы нарушило мирное течение нашей жизни, — писал Кальвину Нокс. — Не успело пройти трех дней, как уже появились идолы в церкви. Некоторые влиятельные и почтенные люди пытались протестовать. Их совесть восстает против того, что земля, очищенная словом Божьим от чужеземного идолопоклонства, снова оскверняется. Но так как большинство приверженцев нашей веры были к этому снисходительны, то беззаконие восторжествовало и принимает все большее распространение. Уступившие оправдываются тем, что мы не имеем права препятствовать королеве держаться своего вероисповедания, говоря при этом, что и ты такого же мнения. Хотя я и оспариваю этот слух, но он настолько проник в сердца, что я не имею возможности настаивать, пока не получу от тебя известия, был ли этот вопрос предложен на рассмотрение вашей церкви».
Неудовольствие Нокса проявилось с полной нетерпимостью при торжественном въезде королевы в Эдинбург. В назначенный день Мария Стюарт направилась в город в торжественном шествии, под балдахином из фиолетового бархата, в сопровождении дворянства и наиболее знатных граждан. Шестилетнее дитя как бы из облаков спустилось перед ней на землю и, приветствовав ее стихами, передало ключи города, библию и псалтырь. Чтобы напомнить ей о тех ужасных карах, которые Бог посылал на идолопоклонников, на ее пути были выставлены изображения того, как земля поглощала нечестивых в то время, когда они приносили свои жертвы. Лишь с трудом партии умеренных удалось воспрепятствовать кощунственному изображению алтаря и священника, загоревшегося во время поднятия Святых Тайн.
После радостного приема народа, приветствовавшего ее как королеву, и проявления религиозного фанатизма, угрожавшего ей как католичке, Мария возвратилась в Голируд, где ей поднесли от имени города большой серебряный вызолоченный ларец. Она приняла подарок со слезами на глазах, и по ее волнению можно было судить, как глубоко она страдала.
— Мое сердце разрывается, — рыдая, обратилась она к Марии Сэйтон, — они издеваются над моей верой и играют с куклой, носящей их корону.
— Мужайтесь! — прошептала фрейлина. — Не унывайте! Час возмездия настанет, когда возле вас будет супруг, который твердой рукой смирит мятежников. Вы терпите во имя церкви, поэтому ищите утешения в молитве!
— Бедная Мария! — сказала королева, горько улыбнувшись, — разве ты нашла утешение?
Мария Сэйтон вспыхнула, но твердым голосом возразила:
— Я имею то утешение, которое мне необходимо. А если моя душа и страдает, то лишь потому, что я вижу, как вы несчастны.
— Чудная, родная Франция! — вздохнула Мария Стюарт. Но вдруг она встрепенулась, и ее глаза метнули искры.
— Я сделаю, как они хотят, но это будет им же во вред. Они не увидят больше моего грустного лица. Я забуду то, что предано забвению. Но муж, которого я себе изберу, должен сокрушить мятежников. Моей церкви объявляют войну, глумятся под моей верой; пусть так, но эта церковь поможет мне одержать победу. Нас хотят видеть веселыми. Так будем же веселы, будем смеяться, вообразим себе, что мы на карнавале, в маскараде, раз надо потешить этих неуклюжих мужиков и строптивых лордов! Разве во Франции мы не научились покорять сердца: неужели наши глаза не прожгут эти ржавые панцири? Заставим же улыбаться эти мрачные лица! Начну с Джона Нокса, этого сурового, непреклонного реформатора. Неужели улыбка королевы не приручит такого медведя? Я буду льстить, буду ласкова! Ко мне, графы и рыцари! Спешите на турнир, и в награду вам — рука королевы! Пусть гремит музыка, пусть все закружатся в веселом танце.
Первый взрыв недовольства по поводу возобновления католического богослужения в Голируде был сдержан энергичным вмешательством лорда Джэмса Стюарта, но слова реформатора Нокса: «Я скорее соглашусь видеть в Шотландии десять тысяч врагов, чем служение одной-единственной мессы» — звучали по-прежнему угрозой для государыни, которая была чужда своему народу, находила поддержку только в честолюбивых баронах и должна была опасаться того, чтобы их честолюбие не сделало из нее игрушку партийных раздоров.
Она не обладала ни одним из качеств, которые хотели видеть в ней ее подданные. Даже все ее очарование ставилось ей же в вину. Красота Марии вызывала слух, будто она приобрела во Франции привычку к легкомысленным любовным приключениям, а это претило суровым, добродетельным шотландцам. Эта любительница поиграть на лютне и продекламировать французские стихи, носившая корону в чудных локонах с большим кокетством, но без всякого королевского величия, любившая ухаживания поклонников, должна была править раздираемой партийными счетами страной, внушить уважение к закону мятежным лордам. Да еще она привезла с собой католических патеров, весь этот столь ненавистный Шотландии религиозный аппарат, дружбу Гизов, коварство иезуитов.
«Прибытие королевы нарушило мирное течение нашей жизни, — писал Кальвину Нокс. — Не успело пройти трех дней, как уже появились идолы в церкви. Некоторые влиятельные и почтенные люди пытались протестовать. Их совесть восстает против того, что земля, очищенная словом Божьим от чужеземного идолопоклонства, снова оскверняется. Но так как большинство приверженцев нашей веры были к этому снисходительны, то беззаконие восторжествовало и принимает все большее распространение. Уступившие оправдываются тем, что мы не имеем права препятствовать королеве держаться своего вероисповедания, говоря при этом, что и ты такого же мнения. Хотя я и оспариваю этот слух, но он настолько проник в сердца, что я не имею возможности настаивать, пока не получу от тебя известия, был ли этот вопрос предложен на рассмотрение вашей церкви».
Неудовольствие Нокса проявилось с полной нетерпимостью при торжественном въезде королевы в Эдинбург. В назначенный день Мария Стюарт направилась в город в торжественном шествии, под балдахином из фиолетового бархата, в сопровождении дворянства и наиболее знатных граждан. Шестилетнее дитя как бы из облаков спустилось перед ней на землю и, приветствовав ее стихами, передало ключи города, библию и псалтырь. Чтобы напомнить ей о тех ужасных карах, которые Бог посылал на идолопоклонников, на ее пути были выставлены изображения того, как земля поглощала нечестивых в то время, когда они приносили свои жертвы. Лишь с трудом партии умеренных удалось воспрепятствовать кощунственному изображению алтаря и священника, загоревшегося во время поднятия Святых Тайн.
После радостного приема народа, приветствовавшего ее как королеву, и проявления религиозного фанатизма, угрожавшего ей как католичке, Мария возвратилась в Голируд, где ей поднесли от имени города большой серебряный вызолоченный ларец. Она приняла подарок со слезами на глазах, и по ее волнению можно было судить, как глубоко она страдала.
— Мое сердце разрывается, — рыдая, обратилась она к Марии Сэйтон, — они издеваются над моей верой и играют с куклой, носящей их корону.
— Мужайтесь! — прошептала фрейлина. — Не унывайте! Час возмездия настанет, когда возле вас будет супруг, который твердой рукой смирит мятежников. Вы терпите во имя церкви, поэтому ищите утешения в молитве!
— Бедная Мария! — сказала королева, горько улыбнувшись, — разве ты нашла утешение?
Мария Сэйтон вспыхнула, но твердым голосом возразила:
— Я имею то утешение, которое мне необходимо. А если моя душа и страдает, то лишь потому, что я вижу, как вы несчастны.
— Чудная, родная Франция! — вздохнула Мария Стюарт. Но вдруг она встрепенулась, и ее глаза метнули искры.
— Я сделаю, как они хотят, но это будет им же во вред. Они не увидят больше моего грустного лица. Я забуду то, что предано забвению. Но муж, которого я себе изберу, должен сокрушить мятежников. Моей церкви объявляют войну, глумятся под моей верой; пусть так, но эта церковь поможет мне одержать победу. Нас хотят видеть веселыми. Так будем же веселы, будем смеяться, вообразим себе, что мы на карнавале, в маскараде, раз надо потешить этих неуклюжих мужиков и строптивых лордов! Разве во Франции мы не научились покорять сердца: неужели наши глаза не прожгут эти ржавые панцири? Заставим же улыбаться эти мрачные лица! Начну с Джона Нокса, этого сурового, непреклонного реформатора. Неужели улыбка королевы не приручит такого медведя? Я буду льстить, буду ласкова! Ко мне, графы и рыцари! Спешите на турнир, и в награду вам — рука королевы! Пусть гремит музыка, пусть все закружатся в веселом танце.
II
На другой день Мария Стюарт объявила в Тайном совете, что готова издать прокламацию и объявить народу, что относительно существующей в стране религии никаких изменений не будет предпринято и каждый общественный или частный акт, нарушающий это постановление, будет преследоваться смертной казнью.
Лорды приветствовали это одобрением.
День спустя Мария вызвала к себе Джона Нокса. Он считался вожаком недовольных, и она надеялась покорить его личным влиянием. Она говорила с ним об обязанностях подданного и христианина вообще, доказывала ему, что он в своем произведении «Бабье правительство» восстанавливает народ против венценосцев, и убеждала его относиться более человеколюбиво к тем, которые расходятся с ним во взглядах на религию.
— Ваше величество, — возразил Нокс, — если отрицание идолопоклонства и наставление народу чтить Бога по Его слову вы считаете восстановлением народа против его венценосцев, то для меня нет оправдания, в этом я виновен. Если же действительное познание Бога и истинное почитание Его ведет подданных к повиновению добрым правителям, кто станет тогда порицать меня? Ваше величество, я обещаю быть довольным и спокойно жить под вашим скипетром, если вы не будете проливать кровь святых людей и не будете требовать от своих подданных большего повиновения, чем требует того Бог.
— Значит, вы того мнения, что подданным дозволено восставать против своих властей и только слабость заставляет их повиноваться?
— Несомненно! — смело ответил фанатик.
Мария смотрела на своего собеседника с изумлением. Такое учение, позволяющее подданным быть судьями своих властителей, побуждающее народ к восстанию, привело ее в ужас. Но она сделала вид, что одобряет мятежные слова Нокса.
— Так, я поняла вас! Мои подданные должны повиноваться вам, а не мне. Вместо того, чтобы быть их королевой, я должна научиться быть их подчиненной?
— Клянусь Богом! — возразил Нокс. — Я далек от того, чтобы освобождать подданных от их долга повиновения. Я желаю только одного, чтобы властители, как и их подданные, повиновались Богу и покровительствовали церкви.
Мария не выдержала и дала волю своим чувствам, которые скрывала до сих пор. Она с гневом возразила:
— Не вашей церкви буду я покровительствовать, но церкви римской, которую считаю единой истинной церковью Божией.
Нокс также вышел из себя и стал подвергать римскую церковь жестокому осмеянию, доказывать ее заблуждения, ее пороки и пытался доказать, что ее вероучение более выродилось, чем иудейское. Королева указала Ноксу на дверь.
Надежды на примирение с протестантами разбились об упорство реформатора. Королеве старались доказать, как мало у нее власти проявлять негодование против такого человека как Нокс. Городской голова Эдинбурга, Арчибальд Дуглас, издал приказ, по которому все монахи, священники и паписты под угрозой смертной казни должны были покинуть город; вместе с тем был возбужден вопрос, следует ли в общественных и гражданских делах повиноваться королеве, считающейся идолопоклонницей.
III
Боскозель Кастеляр ликовал, узнав, что план Стюартов разрушен, и строил планы о новом триумфе над Стюартом.
Старый граф Арран не явился приветствовать королеву, но прибыл его сын, пылкий мечтатель и любитель приключений. Увидав красавицу королеву, он воспылал желанием завладеть этой женщиной, а вместе с ней и короной. Он обращался ко всем друзьям, склоняя их низвергнуть всемогущего Стюарта, возведенного королевой в звание графа Mappa, и принудить королеву избрать себе супруга.
Однажды во время кутежа в корчме, Боскозель встретился с молодым графом Арраном, услышал, с каким воодушевлением тот произнес тост: «Да здравствует Мария Стюарт, и долой каждого, кто хочет быть ее опекуном в этой стране!» — и сразу почувствовал симпатию к нему. Молодые люди быстро пришли к соглашению и предприняли решение собрать в древнем священном месте коронования шотландцев всех представителей горной страны, лордов, сохранивших верность католической церкви, и предложить врагам Стюартов — Гентли, Гордонам и Черному Дугласу направиться в Эдинбург, обезглавить вожаков восстания, водворить порядок в парламенте и утвердить права на бразды правления. Боскозель должен был склонить Марию к одобрению этого плана.
Он явился в благоприятный момент, именно тогда, когда Мария чувствовала себя глубоко оскорбленной Ноксом.
В первый момент она со страстным пылом ухватилась за этот план и уже мечтала о том, как во главе верных подданных вассалов явится победительницей в завоеванный город. Но не успел Боскозель удалиться, сияя от счастья, как ею овладело раздумье. Боскозель был пылок, он любил и видел все в розовом цвете, а что если он ошибся, если лорды обманули его, чтобы отнять у нее последнюю поддержку в лице Джэмса Стюарта?
Она намеревалась посоветоваться со своим духовником, как вдруг к ней вошел Джэмс Стюарт. По его лицу она поняла, что он с дурными вестями.
— Хорошо было бы, — сказал он, — если бы вы предприняли объезд всех графских владений. Вы достигнете этим двоякой цели: познакомитесь со своими врагами и таким выступлением против мятежных лордов приобретете уважение и власть.
Королева смотрела на него с изумлением. Не догадывался ли он о предложении Боскозеля, что требовал от нее того же самого.
— Кто же — эти мятежные лорды? — спросила она, избегая пытливого взгляда брата. — И во власти ли я смирить их, если реформатский священник безнаказанно дерзает оскорблять меня в моем дворце?
— Мария, — возразил Стюарт, — неужели вы больше доверяете французу, который хвастливо сбивает репейные шишки, чем тому, кто единственно может возложить на вашу голову венец? Граф Босвел напал на лорда Ормистона и ограбил его, как разбойник, а теперь они помирились и кутят вместе с Гордонами и Гамильтонами. Я знаю их планы и знаю, что примиряет их всех. Это — зависть к тому благоволению, которым я пользуюсь у вас, и за власть, которую вы предоставили мне. Вы хотите принять помощь тех, которые в Инч-Магоме лишили свободы вашу мать и вас, вы хотите протянуть руку сыну графа Аррана, чтобы не иметь тогда никого, кто защитил бы вас от этих друзей?
Мария побледнела.
— Простите! — сказала она. — Я была в отчаянии и поддалась уговорам первого человека, который предложил мне помощь. Будьте уверены, что я доверила бы вам свой план раньше, чем покинула Эдинбург!
— Ах, вы знали? — усмехнулся Стюарт. — Кастеляр так наивен, что попался в эту ловушку, он поверил, что шотландские лорды будут для него таскать каштаны из огня. Я боюсь за вас, Мария. Этот человек обезумел от любви. Страсть ведет его уже к государственной измене. Берегитесь, как бы он не забыл когда- нибудь, что вы — коронованная королева! Простите меня, Мария, но, по-моему, верный и преданный слуга жертвует своей жизнью или, рискуя навлечь на себя даже немилость своей властительницы, решается открыть ей правду, но никогда не позволит унизить себя ради каприза. Мария, вы не знаете этого человека, изнывающего от пожирающей его страсти. Он имеет основание ненавидеть меня, так как знает, что я употреблю все старание, чтобы устранить его влияние; он имеет основание быть недоверчивым ко мне, так как не знает моего плана и подозревает, что Джэмс Стюарт преследует свои собственные выгоды, а не интересы королевы. Берегитесь, Мария, смотрите беспристрастно, не обольщайтесь его дружбой! Если он примкнул к Босвел, то, значит, надеется завладеть вашей особой. Будь вы тысячу раз невинны, но подозрительный народ, требующий безупречной чистоты своих дочерей, осудит королеву, дающую хоть малейший повод к молве о ее легком поведении. Могут сказать, что Боскозель никогда не осмелился бы взглянуть на вас с вожделением, если бы вы не допустили этого.
— Довольно! — прервала его Мария. — Благодарю вас за дружеский совет, хотя и не могу признать справедливость вашего упрека. Правда, Боскозель питает ко мне более теплые чувства, но никогда не забывает почтения, подобающего королеве. Вы правы только в том отношении, что мне нужно французский этикет поставить в строгие рамки шотландских нравов. Во Франции никто не осуждает, когда королева забавляется веселой беседой, там никто не усмотрит ничего дурного в учтивых забавах. Я заведу прялку или уединюсь со своими дамами и буду читать псалмы.
— Вы смеетесь, хотя таким именно поведением в короткое время завоевали бы сердце своего народа, но это противоречит вашему темпераменту и всем вашим жизненным привычкам. Я был бы доволен, если бы мои предостережения достигли того, чтобы вы на некоторое время устранили из своего интимного кружка человека, которого молва людская уже считает вашим любовником.
Мария вспыхнула от негодования.
— Джэмс, — схватила она брата за руку, — вы могли бы начать прямо с этого, и вся предыдущая речь была бы излишней. Если молва зашла так далеко, так пора открыть правду! Боскозель похож на моего покойного супруга, и, когда я смотрю на него, мое сердце предается дорогим, приятным воспоминаниям. Любить его — противоречило бы природе и священному чувству. Это была бы насмешка над покойным и над счастливыми днями моей жизни. Если мне суждено когда-нибудь полюбить кого-либо, то он должен прежде всего заставить меня позабыть моего покойного мужа. Боскозель должен уехать обратно во Францию, и пусть порвется последняя связь, приковывающая меня к чудным воспоминаниям моих юных дней!
— Мария, это была бы чрезмерная поспешность. Этот внезапный отъезд послужил бы признанием вашей вины, страха перед обнаружением тайны или даже тяжелой, насильственной разлукой с тем, кого вы любите. Докажите Шотландии, что Боскозель для вас — не более как верный слуга, но отнюдь не близок вашему сердцу, как женщине. Посоветуйтесь с английским послом относительно выбора супруга. Станьте во главе войска, которое я поведу против мятежных лордов, и оставьте здесь Боскозеля и весь свой придворный штат; этим сразу будут опровергнуты все ложные слухи.
— Мне стать во главе войска, покинуть этот старый замок, увидеть горы Шотландии, вдыхать горный воздух и аромат лесов? Джэмс, вы это серьезно думаете?
— Разве столь невероятно, что королева в сопровождении своих верноподданных отправится по владениям своих графов?
— О, это было бы восхитительно! — засмеялась Мария сквозь слезы. — На коней, на коней, Джэмс! Там, в горах, мое сердце вздохнет свободнее, и я снова найду радости жизни. Мы будем мчаться по болотам и лугам; мое сердце возликует в зеленых лесах. О, Джэмс, какое счастье сулите вы мне!
«Действительно, я был несправедлив, она любит этого француза лишь от скуки, — усмехнулся про себя Джэмс Стюарт, выйдя от королевы. — Но теперь у меня есть средство властвовать над королевой Шотландии, и она будет счастлива в этой стране, ведь для женского сердца требуется очень немногое, чтобы считать себя счастливой».
IV
Стюарт прямо отправился к Боскозелю и застал его в тот момент, когда тот собирался принести заговорщикам известие о том, что королева одобряет их план.
— Маркиз, у меня есть просьба к вам, — начал Стюарт, между тем как Боскозель смотрел на него с изумлением, не ожидая ничего доброго от такого внезапного появления своего врага. — Вы увидите сегодня графа Аррана, Босвела и Гордона?
Боскозель побледнел. Не был ли лорд Джэмс в союзе с дьяволом, что узнал об их заговоре раньше, чем он принял форму окончательного решения.
— Моя просьба состоит в том, — продолжал Джэмс с иронической улыбкой, — чтобы вы посоветовали им покинуть Эдинбург раньше наступления ночи, так как королева собиралась вскоре посетить их владения и во главе моего войска будет принимать поздравления лордов.
Боскозель стоял как пораженный громом. Он чувствовал, что Стюарт не только перехитрил его, но даже пристыдил, так как имел теперь полное основание обвинить его в государственной измене.
— Милорд!
— Маркиз, — продолжал Джэмс, — весьма возможно, что несколько часов тому назад у королевы были другие намерения, но я убежден, что ваша преданность не позволит вам компрометировать Марию Стюарт, а это случилось бы, если бы люди узнали, что она, по совету доброжелательного, но ослепленного чувствами человека, на минуту склонилась в сторону людей, видящих в королеве Шотландии не более как красивую искательницу приключений.
— Милорд!
— Маркиз, всякое дальнейшее объяснение будет лишним. Королева отправляется со мной по графствам своей страны, и где встретятся государственные изменники, их обезглавят. Так как вы состоите в дружбе с графом Арраном, то вам неудобно сопровождать королеву. Она знает, что вас обманули, что сами вы не могли иметь намерения предать Марию Стюарт в руки Гамильтонов, которые некогда держали в плену в Инч-Магоме ее с матерью, королевой. Этих лордов нужно хорошо узнать, прежде чем протянуть им руку. Итак, с Богом! Маркиз, кто едет с арранцами, тот — враг королевы. Надеюсь, вы останетесь в Эдинбурге… Впрочем, как хотите…
При этих словах он поклонился и вышел из комнаты.
Боскозель задыхался от злобы и стыда. Он не ожидал, что Гамильтоны могут обмануть его, что они — давние враги королевы, он содрогнулся при мысли, что по его вине Мария могла попасть во власть Арранов; но вместе с тем его приводило в отчаяние, что именно Джэмс Стюарт явился ее спасителем, что этот человек снова торжествовал над ним. Боскозель увидел свое бессилие и свой позор. Он хотел ненавидеть этого человека и не мог, так как сознавал, что только тот один мог защитить Марию. Он видел, что враг щадит его, как будто он недостоин даже ненависти.
Но королева должна узнать, что его обманули, у ее ног он хотел вымолить прощение за безрассудное усердие. Пусть отныне ее единственным защитником будет Джэмс Стюарт, но как женщине, ей никто не должен быть близок, кроме него.
Боскозель кинулся в королевские покои, прошел мимо стражи и проник в приемную, где его встретила Мария Сэйтон.
Пораженная его расстроенным видом и предчувствуя беду, она воскликнула:
— Что случилось?
— Я желаю видеть королеву! Где она?
— Вы с ума сошли, маркиз? Королева собирается в дорогу и никого не принимает.
— Я должен видеть ее.
Дверь отворилась, и на пороге показалась Мария Стюарт.
— Что здесь такое? — спросила она, краснея от негодования. — Как, маркиз? Вы здесь? Кто позволил вам появляться без доклада?
— Мария! Неужели вы хотите быть в Шотландии строже, чем были во Франции?
— Маркиз, не забывайте, вы говорите с королевой! Я прощаю вам, что в своем усердии вы чуть не привели меня к гибели, но требую, чтобы вы держались в границах, как требую этого от всех. Надеюсь, что по возвращении найду вас более почтительным. До свидания, маркиз!
Боскозель смотрел на нее, не веря своим глазам; ему казалось, что он бредит, но, когда Мария повернулась к нему спиной, он не выдержал и воскликнул:
— Так не может говорить Мария Стюарт, это — слова Джэмса Стюарта, вложенные в ваши уста.
— Молчите! — сказала королева. — Я начну презирать того человека, который заставляет краснеть женщину за ее сердечную снисходительность. Вы недостойны называться мужчиной, маркиз, раз не имеете власти над собой. Уходите!
Мария возвратилась в свою комнату и заперла за собой дверь.
«Я — не мужчина?! — горько усмехнулся про себя Боскозель и словно очнулся. — Я — не мужчина? Я докажу тебе это, ты будешь моей. Я не стану больше вздыхать, молить, пресмыкаться у твоих ног, я не хочу ни сострадания, ни снисхождения, я хочу тебя, тебя или смерти».

Глава пятая
МАРКИЗ КАСТЕЛЯР

I
 Вскоре заговорщики вскоре получили известие, что королева намеревается посетить все графские владения в сопровождении графа Mappa, лорда Джэмса Стюарта. Босвел и граф Арран сговорились поднять своих вассалов, взять королеву в плен и препроводить ее в замок Дэмбертон. Молодой граф, узнав, что дело идет об открытой войне против королевы, поскакал в Эдинбург, чтобы предупредить Марию. В пылу своего увлечения он мечтал, что она оценит его любовь, ради которой он, не задумываясь, готов был обвинить в государственной измене родного отца.
Он предстал перед королевой в тот момент, когда она готовилась стать во главе войска, и, увидав ее, сразу бросился перед ней на колени и, как безумный, стал признаваться ей в своей любви. Мария гордо отвернулась от него, считая его слова бредом сумасшедшего или пьяного, но он ухватился за край ее платья, прижал его к своим губам и умолял:
— Мария, услышь меня, и я возведу на эшафот родного отца и своих родственников. Ты одна будешь господствовать, царица сердец, и пусть погибнут все, кто не желает покориться твоей власти!
— Граф, удалитесь и проспитесь! — сказала Мария и, вырвав из его рук край своего платья, обратилась к Боскозелю: — Маркиз, успокойте этого безумца!
Граф прочел в ее лице глубокое презрение — и это ранило его, как отравленная стрела, он вскочил на ноги и воскликнул:
— А, вы презираете меня, потому что любите Боскозеля! Мария Стюарт не подаст руки шотландскому лорду, потому что желает изображать вторую Мессалину, потому что Кастеляр — ее любовник!
Мария остолбенела, бледная и дрожащая, но, увидев, что Боскозель обнажил меч и хочет броситься на графа, приказала ему отступить. Джэмс Стюарт, скрестив руки на груди, молча присутствовал при этой сцене.
— Милорд, — заговорила королева дрожащим голосом, — ваш отец — изменник, и если я до сих пор щажу его, то только потому, что в его жилах течет кровь Стюартов. Вы же идете далее него: вы посягаете на мою честь и, как трусливый негодяй, позорите женщину! Молчите! Ваш голос противен мне, вы недостойны даже наказания, вы просто вызываете жалость, как человек, лишенный здравого ума.
— Ваше величество, — ответил граф, — разве позорно, что я люблю вас и что эта любовь довела меня до безумия и я готов служить вам против собственного отца? Скажите, что я достоин сожаления за то, что люблю любовницу француза.
Боскозель больше не мог сдерживаться, он бросился на графа Аррана и готов был задушить его собственными руками. Но в этот момент тот выхватил кинжал и ударил его. Королева громко вскрикнула и лишилась чувств.
Безумца связали и увели. Когда же королева очнулась от своего обморока и увидала окровавленного Боскозеля, она невольно воскликнула:
— Боскозель, вы ранены?
— Рана незначительна, — ответил француз, сияя от торжества.
— Уйдем отсюда! Мария, подумайте о своей чести! — строго произнес лорд Джэмс.
Королева вздрогнула, по выражению лиц присутствующих и ликующему взгляду Боскозеля она поняла, до какой степени забылась. Краснея и бледнея, Мария растерянно протянула руку Джэмсу Стюарту и дрожащим голосом сказала:
— Пойдемте отсюда! Лорд Джэмс, спасите меня от самой себя!
На другой день королева покинула Голируд во главе отряда, но молва о сумасшествии Аррана и о словах королевы: «Боскозель, вы ранены?» — распространилась с быстротою молнии. Шотландцы пожимали плечами и говорили, что она оставила его, чтобы люди поверили в лживость слов графа Аррана, а это лишь укрепило уверенность шотландцев, что француз наверное любовник их королевы.
Вскоре заговорщики вскоре получили известие, что королева намеревается посетить все графские владения в сопровождении графа Mappa, лорда Джэмса Стюарта. Босвел и граф Арран сговорились поднять своих вассалов, взять королеву в плен и препроводить ее в замок Дэмбертон. Молодой граф, узнав, что дело идет об открытой войне против королевы, поскакал в Эдинбург, чтобы предупредить Марию. В пылу своего увлечения он мечтал, что она оценит его любовь, ради которой он, не задумываясь, готов был обвинить в государственной измене родного отца.
Он предстал перед королевой в тот момент, когда она готовилась стать во главе войска, и, увидав ее, сразу бросился перед ней на колени и, как безумный, стал признаваться ей в своей любви. Мария гордо отвернулась от него, считая его слова бредом сумасшедшего или пьяного, но он ухватился за край ее платья, прижал его к своим губам и умолял:
— Мария, услышь меня, и я возведу на эшафот родного отца и своих родственников. Ты одна будешь господствовать, царица сердец, и пусть погибнут все, кто не желает покориться твоей власти!
— Граф, удалитесь и проспитесь! — сказала Мария и, вырвав из его рук край своего платья, обратилась к Боскозелю: — Маркиз, успокойте этого безумца!
Граф прочел в ее лице глубокое презрение — и это ранило его, как отравленная стрела, он вскочил на ноги и воскликнул:
— А, вы презираете меня, потому что любите Боскозеля! Мария Стюарт не подаст руки шотландскому лорду, потому что желает изображать вторую Мессалину, потому что Кастеляр — ее любовник!
Мария остолбенела, бледная и дрожащая, но, увидев, что Боскозель обнажил меч и хочет броситься на графа, приказала ему отступить. Джэмс Стюарт, скрестив руки на груди, молча присутствовал при этой сцене.
— Милорд, — заговорила королева дрожащим голосом, — ваш отец — изменник, и если я до сих пор щажу его, то только потому, что в его жилах течет кровь Стюартов. Вы же идете далее него: вы посягаете на мою честь и, как трусливый негодяй, позорите женщину! Молчите! Ваш голос противен мне, вы недостойны даже наказания, вы просто вызываете жалость, как человек, лишенный здравого ума.
— Ваше величество, — ответил граф, — разве позорно, что я люблю вас и что эта любовь довела меня до безумия и я готов служить вам против собственного отца? Скажите, что я достоин сожаления за то, что люблю любовницу француза.
Боскозель больше не мог сдерживаться, он бросился на графа Аррана и готов был задушить его собственными руками. Но в этот момент тот выхватил кинжал и ударил его. Королева громко вскрикнула и лишилась чувств.
Безумца связали и увели. Когда же королева очнулась от своего обморока и увидала окровавленного Боскозеля, она невольно воскликнула:
— Боскозель, вы ранены?
— Рана незначительна, — ответил француз, сияя от торжества.
— Уйдем отсюда! Мария, подумайте о своей чести! — строго произнес лорд Джэмс.
Королева вздрогнула, по выражению лиц присутствующих и ликующему взгляду Боскозеля она поняла, до какой степени забылась. Краснея и бледнея, Мария растерянно протянула руку Джэмсу Стюарту и дрожащим голосом сказала:
— Пойдемте отсюда! Лорд Джэмс, спасите меня от самой себя!
На другой день королева покинула Голируд во главе отряда, но молва о сумасшествии Аррана и о словах королевы: «Боскозель, вы ранены?» — распространилась с быстротою молнии. Шотландцы пожимали плечами и говорили, что она оставила его, чтобы люди поверили в лживость слов графа Аррана, а это лишь укрепило уверенность шотландцев, что француз наверное любовник их королевы.
II
Мария Стюарт ехала во главе великолепной конницы в ярко-блестящих панцирях; знамена весело развевались по ветру. В своем простодушии она уже забыла про случай в Голируде, радостно вдыхая свежий утренний воздух и весело шутя со своими дамами, красавица-королева мчалась по полям Шотландии, как будто все это принадлежало ей.
Кавалерия Стюарта настигла графа Аррана, и, прежде чем он успел оказать сопротивление, его препроводили в тюрьму св. Андрея. Босвел успел скрыться и бежал в Англию.
Джэмс Стюарт направился против Гордонов, которые также лелеяли мысль низвергнуть его.
Граф Гентли (Гордон) имел намерение женить на королеве своего сына. Когда же он во время какой-то ссоры с лордом Огилви ранил его на улице в Эдинбурге, королева отправила его в крепость Стерлинг. Он воспротивился и, собрав около тысячи всадников, решил дать отпор королеве. Граф Гентли укрепил свои замки и выжидал наступления Марии Стюарт. Она действительно направилась туда во главе небольшой армии, предводительствуемой графом Марром. Комендант замка Инвернес, принадлежащего Гордонам, не впустил ее. Тогда она велела осадить замок, принудила его к сдаче и приказала арестовать коменданта.
Во время этого королевского объезда, бывшего вместе с тем военной экспедицией, Мария выказала редкое присутствие духа и переносила все трудности сбольшой бодростью. Она скакала верхом по диким местностям, переправлялась через реки, располагалась лагерем в степях и лесах, жалея, что она — не мужчина и не может проводить ночи в поле.
Комендант крепости Инвернес, сопротивлявшийся королеве, был повешен на замковой башне, после чего Мария и ее брат спешным маршем отправились далее в путь. Джона Гордона заключили в темницу, а затем пустились преследовать старика Гентли. На равнине Конвики отряды встретились; завязалась горячая борьба, из которой королева вышла победительницей. Гентли пал и был измят под лошадиными копытами, его старший сын обезглавлен, а младший по приказанию королевы заключен в темницу впредь до достижения пятнадцатилетнего возраста, после чего его обезглавили на том же эшафоте, где еще оставались следы крови его старшего брата.
Могущество Гамильтонов и Гордонов было сломлено; их имения были конфискованы и переданы Джэмсу Стюарту, графу Марру, который получил звание графа Мюррея и пост канцлера Шотландии, став первым и самым могущественным лордом в стране.
III
В разлуке с Марией Кастеляр воспылал еще большей страстью к ней. Он считал себя любимым и думал, что она так же страстно любит его, но скрывает свое чувство, чтобы отвлечь подозрение шотландцев. Наконец Мария возвратилась, и достаточно было одного ее благосклонного взгляда, чтобы маркиз истолковал его как проявление любви и призыв к счастью. Вскоре разнесся слух: ведутся переговоры, лорд Джэмс — граф Мюррей — подготавливает свидание двух королев, и Елизавета уже наметила человека, которого хочет предложить Марии в супруги.
Однажды на маленьком празднике, устроенном королевой, Кастеляр вручил ей стихотворение на французском языке, в котором в поэтической форме изложил весь пыл своей любви. Мария была счастлива, что ей удалось в Голируде устроить маскарад, напомнивший о том, как проводили время во Франции. Королева и Боскозель, замаскированные до неузнаваемости, двигались в пестрой толпе танцующих, сами принимали участие в танцах, а в антрактах слушали пение четырех трубадуров. Трех из этих трубадуров Мария вывезла из Парижа, а четвертый был итальянцем с чудными глазами и красивым, звучным голосом. Его звали Давид Риччио. Бывший камердинер савойского посланника Моретта, он пользовался благосклонностью Кастеляра за свою скромность и поэтическое дарование. После пения снова начались танцы, королева танцевала много и была весела и шаловлива, как в счастливые дни своей юности.
После танцев она вышла в сад, чтобы освежиться, Кастеляр последовал за ней. Они незаметно спустились во двор, а оттуда — в парк, заканчивающийся холмом, так называемой беседкой Артура. Королева села на одну из скамеек и, сняв маску, задумалась. О чем? Быть может, о прекрасной Франции, где прошла ее юность в счастье и любви? А может, она мечтала о прошлом и боялась за свое будущее?
Боскозель опустился к ее ногам, взял ее руки и стал покрывать их горячими поцелуями.
Мария заплакала.
— Ах, как бедно мое сердце! — вздохнула она.
Боскозель воскликнул в восторге:
— Мария, разве ты — не королева? Кто может помешать тебе быть счастливой так, как желает твое сердце и как только может смертный осчастливить женщину? Будь моей, и я готов каждую твою слезинку осушить поцелуями.
Мария вздрогнула, вырвалась и убежала, как испуганная лань. Маркиз бросился вслед за ней, но она скрылась во тьме.
«Ты дрожишь, ты колеблешься? — шептал он. — Беги, но ты не уйдешь от меня! Я заставлю тебя произнести робкое признание. Ты любишь и не в состоянии оттолкнуть меня! Вперед! Смелым принадлежит мир!»
IV
Два часа спустя в парадных залах Голируда погасли огни, гости разошлись, и настала тишина.
Королева оперлась на руку Марии Сэйтон. Холодная дрожь пробегала по ее членам, она думала о безумном Арране, который преследовал ее своею страстью и назвал ее любовницей Боскозеля.
— Что с вами? — озабоченно прошептала Мария Сэйтон. — Вы дрожите, быть может, вы больны?
— Да, я болею так же, как и ты, Мария! — пробормотала королева и залилась слезами. — Там, где я ищу дружбу, я нахожу пылкую страсть, а где ищу доверия, встречаю грубый обман. Ты тоже любила, но твой избранник не понял твоего сердца; мой любимый супруг умер, и меня не понимают мои друзья!
— Королева, вы несправедливы к себе, ко мне и всем, кто искренне предан вам, — возразила Мария Сэйтон.
И в эту минуту в комнату вошла Филли. Все уже знали, что Филли — девушка, и Мария Сэйтон взяла несчастную к себе в услужение. Лицо Филли было расстроено, и она жестами стала объяснять, что королеве грозит опасность.
— Откуда опасность? — спросила изумленная Мария Сэйтон. — Неужели протестанты грозят снова воспрепятствовать нашему богослужению?
Филли покачала головой и указала на сердце.
— Кастеляр? — воскликнула Мария Стюарт. — Чего хочет этот несчастный?
Филли поползла вдоль стены, показывая, как украдкой можно пробраться в дом.
— Он хочет похитить меня? — спросила королева.
Филли покачала головой, и в этот момент залаяла собачка, любимица королевы, и стала царапаться в двери спальни.
Мария Сэйтон отворила дверь, собачка бросилась к постели королевы; когда полог подняли, оказалось, что там, спрятавшись, лежал Кастеляр.
— Боскозель! — воскликнула королева, бледнея от негодования. — Безумец, вы ищете моей гибели?
— Я не хочу твоей гибели, но ты должна стать моей перед Богом и людьми. Скажи, что ты не любишь меня, — и твое сердце возмутится против этой лжи; прикажи убить меня — и ты будешь оплакивать меня!
— Назад! — крикнула Мария Стюарт, когда он протянул к ней руки. — О, Боже, чем заслужила я такой позор, такой стыд?
— Ты плачешь, Мария? Неужели ты стыдишься своей любви?
— Молчите! Если я когда-нибудь дала вам повод на такую безумную мысль, то я жестоко наказана за это. Любить вас? Вам известно, что мое сердце всецело принадлежит моему бывшему мужу, который покоится в могиле. Ваша любовь — позор, ваша дружба — предательство. Вон отсюда! Я презираю, я ненавижу вас!…
Боскозель побледнел, прочитав на лице королевы свой приговор.
— И меня ты гонишь так же, как Аррана! — мрачно пробормотал он. — Ты — кокетка, ты торжествуешь и глумишься, погубив человека, доверившегося твоей лживой улыбке! Ты лжешь! Ты не любишь покойного, как не любишь никого. У тебя нет сердца, ты — змея, которая соблазняет, а потом жалит! Но я не позволю издеваться над собой, ты будешь моей, чего бы это ни стоило мне, даже если бы мне пришлось продать душу дьяволу!
Мария Сэйтон оттолкнула его и пригрозила позвать слуг. Королева упала в обморок, ее сердце заныло от брошенного ей в лицо безобразного оскорбления.
Кастеляр стремительно выбежал.
— Злосчастный! — пробормотала королева, очнувшись в руках Филли и видя, как Мария Сэйтон закрывала двери на задвижку. — И это — мои друзья!… Они отдают мою честь на поругание кальвинистам! О, Джон Нокс имеет право кричать: «Она — Иезавель; побейте ее камнями!» Но Боскозель заплатит мне за это своею жизнью, он должен умереть или перед лордами и парламентом доказать, что я хотя бы единым словом дала ему повод к такой дерзости.
— Успокойтесь! — прошептала Мария Сэйтон, вся дрожа. — Он — безумец и теперь уже сожалеет о том, что сделал в пылу возбуждения. Говорите тише, чтобы придворные дамы не услышали вас.
— А, значит, моя честь должна зависеть от деликатного молчания моих слуг? — сказала королева, горько улыбаясь. — Я принуждена бояться каждого звука, который мог бы выдать мой неслыханный позор?!
— Ваше величество, в передней нет никого, кроме леди Мортон, она же будет молчать так же, как и я, ведь ваша честь нам дороже жизни. Филли нема и предана нам. Пошлите маркиза в изгнание, покарайте его своим презрением, но не требуйте скандального процесса.
— И это советуешь мне ты, Мария Сэйтон?! Я должна примириться с тем, чего не снесет ни одна женщина; тайну моего позора я должна разделить с этим презренным человеком как его соучастница? Мария, он молился вместе со мной у гроба моего супруга, он был свидетелем моего горя, и он же считает меня развратной женщиной!…
— Ваше величество! Ради вашей прежней дружбы к нему вы не должны возбуждать процесс. Вы были слишком снисходительны к нему, чтобы теперь судить его как совершенно постороннего вам человека. Будь это не Кастеляр, а кто-нибудь другой, я позвонила бы и позвала бы ваших телохранителей. Но я знаю, что вы не в состоянии предать его смертной казни. Поэтому лучше, чтобы он бежал, наказанный вашим презрением.
— Мария, ты говоришь, что я не могла бы казнить его? О, я почувствую в этом деле наслаждение! Его кровь смоет последние воспоминания моей юности… Впрочем, нет, нет, пусть он бежит, я отомщу ему другим способом. Пусть он увидит, как я изберу себе супруга, как я смеюсь над ним, как презираю его. Завтра я поговорю с английским послом. Мне дали понять, что необходимо иметь покровителя. Боскозель — единственный человек, способствовавший тому, что я свято хранила память об умершем, — доказал мне, как уважают неутешную вдову. Я изберу себе человека, который разделит со мною королевскую власть, но им не будет ни один из тех, кто был некогда дорог моему сердцу и кто пренебрег моими душевными страданиями.
Королева ходила взад и вперед по комнате в крайне возбужденном состоянии.
Внизу, в одной из гостиных комнат, сидел граф Мюррей. В то время как Мария Сэйтон старалась успокоить королеву, к нему вошел стрелок.
— Опять ты здесь? Черт возьми, отчего ты не на своем посту? — спросил Мюррей недовольным тоном.
— Милорд, маркиз возвратился в свою комнату! Я притворился спящим, как вы приказали. Маркиз явился, тихо отворил решетчатую дверцу и поспешил по лестнице к потайному ходу, ведущему в спальные покои королевы. Я последовал за ним и держал стрелков наготове, чтобы по первому зову на помощь броситься туда и вонзить французу кинжал в грудь. Но собачка королевы выдала француза.
— Что сделала королева? Она не позвала на помощь?
— Нет, милорд. Ее величество прогнала маркиза; я слышал громкий, резкий разговор, после которого распахнулась боковая дверь на галерее, и маркиз стремительно вышел; леди Сэйтон заперла за ним двери.
— Хорошо! Можешь идти! — сказал Мюррей. — Что она предпримет? — пробормотал он, беспокойно шагая по комнате. — Неужели этот человек все еще опасен. Вот благоприятный момент избавиться от него, и ты не воспользуешься им, Мария? Твой зов о помощи спас бы твою честь. Что же ты думаешь делать? Предать его суду или, быть может, с позором изгнать его? Но, быть может, завтра ты уже раскаешься в своем решении, как сегодня побоялась пролить его кровь. Или, быть может, ты хочешь наказать его презрением! Это была бы чисто женская месть, а только кто поручится тогда за твое сердце? Нужно покончить с этим. Если ты не можешь справиться с ним, то я помогу тебе. Арестовать его? Нет, бесполезно, властным словом Марии он был бы освобожден, и тогда окончательно погибло бы ее доброе имя. Умертвить его? Но тогда она будет оплакивать его. Нет, он сам должен погубить себя.
V
На другое утро, когда королева появилась среди своих придворных, Мюррей был более чем когда-либо вежлив и предупредителен с Кастеляром и внимательно следил за выражением лица королевы, когда она вошла в зал и взглянула на Боскозеля.
Мария была бледна. В тот момент, когда она увидала Боскозеля рядом с Стюартом, на ее устах появилась злобная улыбка. Она подошла к графу Мюррею и на его глубокий поклон ответила горделивой усмешкой, а Боскозеля не удостоила ни единым взглядом.
— Любезный лорд Джэмс, — сказала она, — я склонна выслушать предложения английского посла и стремлюсь примириться с моей сестрой Елизаветой. Я чувствую необходимость жить в дружбе с королевой Англии, и если она не требует ничего более, кроме того, чтобы я только пожертвовала своей связью с Францией, то я охотно уступлю ей. Франция слишком часто обманывала Шотландию, чтобы я считалась с ней ради моих чувств к одному человеку, который покоится во французской земле. Пришлите ко мне в кабинет лорда Рандольфа!
Затем она милостиво отпустила Джэмса Стюарта, прошла мимо Боскозеля, как мимо безжизненного изваяния, на которое он действительно походил в своей смертельной бледности, а затем милостиво поклонилась каждому из присутствовавших. Всеми было замечено, что Кастеляра, которому королева всегда оказывала предпочтение, на этот раз она не удостоила ни единым взглядом и что, по окончании аудиенции, маркиз поплелся, как человек, потерявший рассудок.
Кастеляр готов был выдержать гневный взгляд королевы и даже рассчитывал вызвать его своим появлением. «Пусть она убьет меня, если не хочет внять моим мольбам!» — эта мысль засела у него в мозгу, когда он ночью вернулся в свою комнату, уничтоженный стыдом и бешеным отчаянием. Но такое ледяное презрение королевы, которое он увидел теперь, готово было свести его с ума.
«Она гонит меня, как лакея? Неужели я даже недостоин ее ненависти? — с отчаянием подумал он. — В таком случае она только шутила со мной, а я, глупец, не понял этого и не воспользовался вовремя, вместо того, чтобы вздыхать у ее ног! Она не присуждает меня к изгнанию! Не желает ли она, чтобы я танцевал на ее свадьбе! Быть может, она рассчитывает показать своему супругу дурака, который годами изнывал, ловя ее улыбку, а она кокетничала и играла с ним как с куклой!»
Все кипело в нем, он готов был размозжить свою голову о холодный мрамор.
Вошел слуга и подал ему завтрак.
— Господин маркиз! — шепнул хитрый француз, принимая таинственное выражение лица.
— Что тебе?
— Господин маркиз, пока я доставал вино из погреба, на табурет, под чан, было положено письмо.
— Кем?
— В комнате никого не было, когда я вернулся. Но письмо адресовано вам.
Боскозель быстро схватил записку. Это был тонкий сверток, запечатанный воском, оттиск печати был сделан слабо, с очевидною целью, чтобы герб не был узнан. Почерк, по-видимому, был подделан.
«Смелость, — так гласили строки на французском языке, — оскорбляет, когда она не соединяется с осторожностью. Нескромная любовь отвергается вдвойне, если тайная не умеет найти пути к достижению цели. Неудавшаяся попытка отнимает мужество надеяться на более счастливый результат и заставляет пострадавшего прийти к решениям, быть может, не соответствующим его сердечному влечению. Настоящий кавалер не должен бы предпринимать ничего без уверенности победить или пасть. Сожгите эту записку! Она написана лицом, которое видело, как плакали прекрасные глаза».
При чтении этой записки кровь кипела в жилах Боскозеля, лоб горел, а сердце бешено билось в груди.
«Она любит меня! Это пишет доверенное лицо, которое видело, как она плакала! — думал он. — О, как я глуп в своем отчаянии!… Разве она не должна была притворяться перед Сэйтон, Филли и всеми? Она не осмеливается протянуть мне руку, но ее сердце принадлежит мне; она страдает, а я, несчастный, не решаюсь рискнуть своей жизнью, чтобы прижать ее к своей груди, и мой ум не находит причину, чтобы я мог встретиться с ней наедине?!»
Час спустя Кастеляр, которого еще недавно на аудиенции видели замкнутым, мрачным и убитым, прошел мимо придворных с гордо поднятой головой, приказал оседлать себе лошадь и вскачь понесся из ворот дворца.
VI
Ha следующую неделю предполагалась соколиная охота, которая должна была состояться в графстве Файф. Весь двор занялся приготовлениями, желая показаться во всем своем блеске, лорды выписали своих сокольничих, пажи щеголяли новыми костюмами, из соседних замков были приведены самые породистые кони, каждый хотел выказать свое великолепие, своей роскошью затмить другого. Кастеляр единственный, казалось, не думал готовиться к охоте; каждый день во время аудиенции, при каждой встрече с Марией Стюарт его видели мрачным, молчаливым, словно страшное несчастье тяготело над ним, а Мария не удостаивала его ни словом, ни взглядом. Каждый догадывался о какой-то вине с его стороны, которую он должен был искупить смиренным раскаянием.
День охоты наступил, это было 14 февраля 1563 года. В замке Голируд весело зазвучали охотничьи рога, площадь перед дворцом наполнилась придворными лакеями и пажами в великолепных костюмах; породистые, разукрашенные золотом и бархатом кони нетерпеливо били землю копытами. Наконец появилась королева, окруженная своими дамами и придворной знатью, среди которой находились: граф Мюррей, Черный Дуглас, епископ росский, английский посол лорд Рандольф и много других благородных и родовитых рыцарей; недоставало только Кастеляра. Он стоял у окна, за шелковой драпировкой, и, весь бледный, следил за королевой.
Блестящий поезд покинул дворец. Охота должна была продолжаться три дня, поэтому вслед за двором последовала королевская кухня, весь обоз с винами, буфетчиками, поварами, егерями, пажами и сворами собак. Резкие звуки рогов затихли, в замке Голируд водворилась тишина.
Тогда Кастеляр выбрался на двор, оседлал свою лошадь и пустился вскачь.
Охотничий замок в Бурнтисленде был расположен среди леса. Высокая башня оканчивала с восточной стороны старинное здание, зубчатые стены которого мрачно высились над темной листвой вековых деревьев. В большой столовой все было заготовлено к пиршеству; там стояли золотые блюда, охотничьи кубки и бокалы; проворные руки работали на кухне, громадные туши висели на вертелах над раскаленными очагами; ждали знака, возвещающего приближение охотничьего поезда, и никто не обращал внимания на вход в башню, который охранялся стрелком из королевской гвардии, прибывшей заранее для несения службы в замке.
Стрелок был тот самый, который принес графу Мюррею известие о первом дерзком поступке Кастеляра.
Какой-то человек, робко озираясь, выступил из леса и вдруг застыл, ошеломленный, увидев стрелка. Наконец, решившись, быстро подошел к нему и тихо спросил:
— Вы узнаете меня?
— Конечно, господин маркиз, но я думал, что вы на охоте.
— Нет. Я готовлю сюрприз. Можете ли вы молчать?
— Если мне хорошо заплатят, почему бы и нет?
— Вот вам двадцать золотых, не говорите никому, что видели меня, а теперь пропустите меня на башню.
— Господин маркиз, это будет стоить мне моей службы. Вы, конечно, не сделаете ничего дурного?
— Без сомнения, и, если это будет стоить вам службы у графа Мюррея, вы с двойным содержанием поступите ко мне.
Стрелок соображал недолго.
— Даете слово, господин маркиз? — спросил он.
— Даю, вы не пожалеете об оказанной мне услуге.
Стрелок пропустил маркиза.
Когда охотничий поезд прибыл, граф Мюррей проехал совсем близко мимо стрелка. Последний кивнул головой, Джэмс Стюарт все понял — в Голируде он тщетно ожидал этого знака в течение целой недели.
Королева Мария Стюарт была утомлена. Она не казалась веселой во время охоты. Раскаяние Кастеляра трогало ее, и все же ее мучило необъяснимое беспокойство, словно ей грозила какая-то опасность. Она упрекала себя, что не отправила Кастеляра во Францию, мрачная замкнутость маркиза с каждым днем тяготила ее все больше, она чувствовала свою вину перед ним, так как давала пищу его чувству. Она оставила его при себе, несмотря на то, что угадала его любовь. Она требовала от него унижений, которые может вынести только влюбленный. Теперь Мария понимала, что заставила Боскозеля страдать, и ее образ действий показался ей вдвойне недостойным. Он мог бы отомстить королеве, но молчал.
Мария решила, что не успокоится, пока Кастеляр не уедет из Шотландии.
Она рано покинула трапезу и направилась в спальню, примыкавшую к башне. Мюррей сделал знак Черному Дугласу следовать за ним.
Граф Мюррей выбрал для себя комнаты, примыкавшие к покоям королевы. Коридор, в который выходили покои Марии, охранялся стрелками.
— Вы чрезвычайно предусмотрительны! — улыбнулся Арчибальд Дуглас, увидев часовых, но Мюррей ничего не ответил, а прямо повел графа в свою комнату и приказал подать вина.
— Лорд Дуглас, — начал он, — королева Англии посылает нам своего фаворита Дэдлея Лейстера. Что вы скажете на это? Мы должны прийти к соглашению насчет его приема, прежде чем он прибудет сюда.
— Вы знакомы с ним и, конечно, знаете, пригоден ли он к тому, чтобы спихнуть с нашей шеи французов. А чтобы он не вырвал власти из ваших рук, вы позаботьтесь сами.
— Неужели вы все еще боитесь влияния французов? Быть может, Боскозеля? Его дело я считаю поконченным! — произнес Мюррей.
— Я не боюсь его, но боюсь за королеву. Французы заодно с папистами, а весь этот сброд ненавистен стране. Но что случилось с Кастеляром? Его нет на охоте. Вероятно, вы знаете, что произошло, иначе вы не были бы так спокойны?
— Он был дерзок по отношению к королеве.
— Мне жаль этого человека. Она была неосторожна, и дьявол, как всегда, впутался в эту игру.
— Неосторожна, вы совершенно правы! — согласился Мюррей. — Но тем осторожнее должен быть мужчина, знающий, что он не может иметь право на подобную благосклонность. Но слушайте! Не обратили ли вы внимания на какой-то шорох за стеной? Неужели здесь есть тайная галерея и нас подслушивают?
Дуглас хотел посмеяться над его тревогой, как вдруг в покоях королевы раздался резкий крик.
— Слышите? — прогремел Мюррей. — Берите скорее свой меч, Дуглас, вперед, за мной!
Прежде чем приступить к ночному туалету, Мария Стюарт некоторое время болтала со своими дамами. Ей как-то страшно было переступить порог спальни. Она сделала знак дамам следовать за ней. Старая мамка Анна Кеннеди подала ей ночное одеяние, но королева медлила надеть его. Еще ей надо было пошептаться кое о чем со своими любимицами. Наконец она решилась отпустить дам, но вдруг вздрогнула.
— Разве вы не слышите? — прошептала она, бледнея от страха. — Там, за обоями, какой-то шорох.
— Дамы засмеялись.
— Ну, идите, идите! — кротко упрекнула их Мария. — Вы не верите в привидения.
Она поцеловала Марию Сэйтон и других. Анна Кеннеди осталась одна при ней, чтобы раздеть ее.
Мария склонила колена перед аналоем, но вдруг по всему ее телу пробежал трепет ужаса, и она промолвила:
— Там кто-то есть… я слышу шорох за обоями… там…
Анна Кеннеди прислушалась, до нее тоже донесся шорох, тогда она открыла дверь, желая вернуть уходивших дам.
В этот момент в стене открылась потайная дверь, и Мария резко крикнула — перед ней стоял Кастеляр.
— Помогите! — крикнула королева, почти теряя сознание от ужаса.
— Мария! — воскликнул Боскозель, бросаясь к ней и обнимая ее колена. — Я не отступлю!… Выслушай меня или позови палача! Я хочу быть счастливым или умереть!
— Помогите! — закричала Анна.
Дамы поспешно вернулись.
— Позовите лордов! Помогите! — вопила Мария, отталкивая от себя обезумевшего маркиза.
В это время послышался звон шпор, и на пороге появились Мюррей и Дуглас.
— Предательство! — бледнея, прошептал Боскозель. — Я предан тобой, Мария!…
— Свяжите этого преступника, — приказал Мюррей вооруженным людям, прибежавшим на крики о помощи. — Суд должен произнести свой приговор, этого требует честь королевы.
Кастеляр был связан. Он не пытался сопротивляться, только его глаза пристально смотрели на ту, которая, как он думал, предала его.
Три дня спустя голова Боскозеля де Кастеляра пала на помосте эшафота, воздвигнутого публично на площади св. Анд рея. Королева предпринимала слабые попытки помиловать несчастного, но лорд Мюррей объявил ей, что исполнение приговора будет единственным средством избавиться от злейших нападок на ее честь.
Кастеляр умер со словами: «О ты, наипрекраснейшая и жестокая женщина!» Он отказался исповедаться своему духовнику, но личного секретаря королевы, Давида Риччио, который посетил его в тюрьме в день казни, он попросил сказать Марии, как билось для нее его сердце до самой последней минуты. Перед судьями Кастеляр не сказал ничего, что могло бы скомпрометировать королеву.
Обаятельность Марии Стюарт еще многих должна была ослепить и сделать несчастными.

Глава шестая
СВАТОВСТВО

I
 Роберт Сэррей, вернувшись в Англию, расстался с Дэдлеем и отправился в свои родовые поместья, возвращенные ему милостью Елизаветы после отмены закона об изгнанниках. Перед отъездом в Лондон он не преминул сделать визит леди Бэтси Килдар, и хотя ему тяжело было вызывать печальные воспоминания, однако вид этой почтенной особы, все еще сокрушавшейся о казни его брата Генри, укрепил его в намерении держаться подальше от двора дочери Генриха VIII. Но уже в первые недели пребывания на лоне природы он почувствовал, что одиночество делается ему невыносимым. Полная приключений жизнь в юности и пестрая смена картин, хотя иногда и весьма печальных, все-таки имели свою прелесть. Соседям по имению Сэррей стал чужд, а спокойная жизнь богатого землевладельца имела мало привлекательного для человека, жившего при парижском дворе. Но еще более, чем к блеску и разнообразию, Роберт стремился к встрече со своими друзьями, Дэдлеем и Вальтером Браем. Конечно, бывали минуты, когда он думал о Марии Сэйтон, но эта первая и единственная любовь его юности была так часто омрачена, что воспоминания о ней были скорей тягостными, чем приятными. Характер Марии Сэйтон никогда не был ясен Роберту, а подозрения слишком часто бросали тень на прекрасный образ, чтобы в его сердце могла сохраниться святость чувств. Однако мысль о Марии все еще, помимо его воли, наполняла его душу страстным томлением, печалью и скорбью. Первая любовь никогда не умирает окончательно в сердце человека.
Однажды, когда Сэррей собирался ехать на охоту, сторож на башне протрубил в рог, возвещая о посетителе. Роберт подошел к окну и увидел блестящий поезд из пажей и оруженосцев, скакавших в гору, по направлению к замку. Впереди всех ехал Дэдлей Варвик. Сэррей стремительно бросился к лестнице, чтобы встретить друга.
— Вели седлать лошадь, — сказал Лейстер, поздоровавшись с Робертом, — ты должен ехать со мной и быть свидетелем замечательно интересной истории!
— Расскажи!
— Прежде всего позволь представиться в новом звании: я — граф Лейстер.
— Поздравляю. Ты, значит, нашел свое счастье при дворе.
— Счастье ли то, что я нашел, это еще вопрос; я пошел по льду, и мне интересно знать, далеко ли я доберусь. Я принес в дар Елизавете свои верноподданнические чувства, но сам дьявол не разберет этой женщины.
— Что же она подарила тебе? Графство Лейстер?
— Это сделала она как королева, а как прекрасная женщина предложила нечто большее, а может быть, и меньшее — это зависит от того, как ты объяснишь это. Я дал понять Елизавете, что люблю ее.
Роберт засмеялся.
— Ты, видно, особенно интересуешься королевами и не так прост, как кажешься!
— Не шути! Елизавета достаточно прекрасна, чтобы увлечь мужчину, и не заслуживает быть взятой в замужество только ради политики.
— О, да, да! Конечно, титул графини Лейстер более подошел бы ей, если бы случайно она уже не была королевой! — пошутил Сэррей.
— Ты смеешься, потому что совсем не знаешь ее и не понимаешь, какую прелесть честолюбие придает любви. Легко победить обыкновенную женщину, но высший триумф — заставить королеву покраснеть и стыдливо потупить глаза.
— И это тебе удалось сделать с Елизаветой?
— Она не рассердилась, а это, при ее гордости, равносильно победе. Теперь, прошу тебя, обсудим мое положение. Королева Елизавета, в доказательство моей привязанности к ней, потребовала принести ей жертву, предложив мою руку другой. Как ты думаешь? Хочет она только испытать меня или, боясь все-таки оказаться слабой, находит нужным поставить преграду своему чувству?
— Быть может, верны оба предположения. Пощади и не заставляй меня разгадывать загадки женского сердца, а лучше расскажи о себе, меня это более всего интересует. Если ты действительно любишь Елизавету, было бы предательством с твоей стороны не сказать об этом той, которая будет носить твое имя. Впрочем, заставить влюбленного в себя жениться на другой — весьма оригинальный прием.
— Менее, чем ты думаешь. Если Елизавета действительно верит в мой успех, то она рассчитывает с моей помощью победить соперницу. Но ты прав, я сам должен уяснить себе, люблю ли я Елизавету или нет, а на это можешь ответить мне именно ты.
— Я? Да ты с ума сошел?
— Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты знаешь, что прекрасные глаза способны зажечь во мне пламя, но знаешь также, что я честолюбив. Как ты думаешь? Может честолюбие заменить мне счастье любви? Сильнее ли оно, чем страсть, которая довольствуется мелкими победами?
— Милый Дэдлей, уже этот вопрос доказывает мне, что в Елизавете ты любишь лишь королеву, а то, что я слышал о ней, не позволяет питать надежду, чтобы когда-либо какой-нибудь мужчина победил в ней женщину и стал для нее более, чем мимолетной прихотью.
— Кто знает! — пробормотал Дэдлей. — Она еще не любила. Я стою на перепутье, которое должно решить участь всей моей жизни. Я — потомок Варвиков, мои предки добыли корону английским королям, служили опорой их престола. Если бы я подозревал, что Елизавета хочет испытать меня и дала мне это поручение в надежде на неудачу, тогда я мог бы требовать удовлетворения у ее сердца.
— Ты еще не назвал мне имени твоей будущей невесты.
— Я должен просить руки Марии Стюарт.
Сэррей уставился на него с удивлением, но вдруг язвительно засмеялся и воскликнул:
— Ах, я понимаю! Елизавета хочет сделать последний шахматный ход, завершить интригу Генриха Восьмого. Супруг несчастной королевы Марии должен обратиться в вассала Англии, в человека, которым Елизавета могла бы всецело управлять.
— Роберт, эта мысль и мне приходила в голову.
— И ты хотел пойти на это дело, обмануть несчастную шотландскую королеву, быть тайным агентом Елизаветы, помогая ей захватить наследство Стюартов?
— Роберт Сэррей, этого подозрения я не заслуживаю. Я сказал тебе, что я стою на распутье. Я не кукла, с которой можно играть. Если я стану супругом Марии Стюарт, я перестану быть вассалом Елизаветы, и она сильно ошибется, думая найти во мне покорного слугу. Но мне кажется, я сам должен посмеяться над этим проектом. Неужели Елизавета могла серьезно думать, что ее давнишний враг — шотландская королева возьмет себе в мужья английского лорда, ее фаворита, и что Шотландия потерпит это? Я думаю, скорей меня посылают, чтобы я был отвергнут, и Елизавета получит повод рассердиться, что не приняли ее совета. Но я не хочу повредить себе в глазах Елизаветы и не хочу выставить себя в смешном виде. Поэтому прошу тебя, поедем со мной! Ты легко разузнаешь, что будут скрывать от меня; ты можешь дать понять Марии Стюарт, что я не способен предать ее, если она на мне остановит свой выбор; ты также вовремя можешь подать мне знак прекратить переговоры, если не будет никакой надежды на успех.
— Я поеду с тобой, — ответил Сэррей после короткой паузы, — уже потому, что должен оказать эту услугу Марии Стюарт. Ради тебя, — продолжал он со смехом, — я не сделал бы этого, так как опасно быть советчиком человека, еще колеблющегося, которую из королев он может осчастливить своей рукой и сердцем… Но где же Вальтер Брай? Неужели он знал о твоей поездке и все-таки не поехал с тобой? Неужели Филли все еще не разыскана?
Лейстер рассказал о случившемся несчастье с Вальтером, что он еще лежит больной, но обещал приехать в Эдинбург, чтобы там навести справки о Филли, если в Лондоне ничего нельзя будет узнать.
Роберт Сэррей, вернувшись в Англию, расстался с Дэдлеем и отправился в свои родовые поместья, возвращенные ему милостью Елизаветы после отмены закона об изгнанниках. Перед отъездом в Лондон он не преминул сделать визит леди Бэтси Килдар, и хотя ему тяжело было вызывать печальные воспоминания, однако вид этой почтенной особы, все еще сокрушавшейся о казни его брата Генри, укрепил его в намерении держаться подальше от двора дочери Генриха VIII. Но уже в первые недели пребывания на лоне природы он почувствовал, что одиночество делается ему невыносимым. Полная приключений жизнь в юности и пестрая смена картин, хотя иногда и весьма печальных, все-таки имели свою прелесть. Соседям по имению Сэррей стал чужд, а спокойная жизнь богатого землевладельца имела мало привлекательного для человека, жившего при парижском дворе. Но еще более, чем к блеску и разнообразию, Роберт стремился к встрече со своими друзьями, Дэдлеем и Вальтером Браем. Конечно, бывали минуты, когда он думал о Марии Сэйтон, но эта первая и единственная любовь его юности была так часто омрачена, что воспоминания о ней были скорей тягостными, чем приятными. Характер Марии Сэйтон никогда не был ясен Роберту, а подозрения слишком часто бросали тень на прекрасный образ, чтобы в его сердце могла сохраниться святость чувств. Однако мысль о Марии все еще, помимо его воли, наполняла его душу страстным томлением, печалью и скорбью. Первая любовь никогда не умирает окончательно в сердце человека.
Однажды, когда Сэррей собирался ехать на охоту, сторож на башне протрубил в рог, возвещая о посетителе. Роберт подошел к окну и увидел блестящий поезд из пажей и оруженосцев, скакавших в гору, по направлению к замку. Впереди всех ехал Дэдлей Варвик. Сэррей стремительно бросился к лестнице, чтобы встретить друга.
— Вели седлать лошадь, — сказал Лейстер, поздоровавшись с Робертом, — ты должен ехать со мной и быть свидетелем замечательно интересной истории!
— Расскажи!
— Прежде всего позволь представиться в новом звании: я — граф Лейстер.
— Поздравляю. Ты, значит, нашел свое счастье при дворе.
— Счастье ли то, что я нашел, это еще вопрос; я пошел по льду, и мне интересно знать, далеко ли я доберусь. Я принес в дар Елизавете свои верноподданнические чувства, но сам дьявол не разберет этой женщины.
— Что же она подарила тебе? Графство Лейстер?
— Это сделала она как королева, а как прекрасная женщина предложила нечто большее, а может быть, и меньшее — это зависит от того, как ты объяснишь это. Я дал понять Елизавете, что люблю ее.
Роберт засмеялся.
— Ты, видно, особенно интересуешься королевами и не так прост, как кажешься!
— Не шути! Елизавета достаточно прекрасна, чтобы увлечь мужчину, и не заслуживает быть взятой в замужество только ради политики.
— О, да, да! Конечно, титул графини Лейстер более подошел бы ей, если бы случайно она уже не была королевой! — пошутил Сэррей.
— Ты смеешься, потому что совсем не знаешь ее и не понимаешь, какую прелесть честолюбие придает любви. Легко победить обыкновенную женщину, но высший триумф — заставить королеву покраснеть и стыдливо потупить глаза.
— И это тебе удалось сделать с Елизаветой?
— Она не рассердилась, а это, при ее гордости, равносильно победе. Теперь, прошу тебя, обсудим мое положение. Королева Елизавета, в доказательство моей привязанности к ней, потребовала принести ей жертву, предложив мою руку другой. Как ты думаешь? Хочет она только испытать меня или, боясь все-таки оказаться слабой, находит нужным поставить преграду своему чувству?
— Быть может, верны оба предположения. Пощади и не заставляй меня разгадывать загадки женского сердца, а лучше расскажи о себе, меня это более всего интересует. Если ты действительно любишь Елизавету, было бы предательством с твоей стороны не сказать об этом той, которая будет носить твое имя. Впрочем, заставить влюбленного в себя жениться на другой — весьма оригинальный прием.
— Менее, чем ты думаешь. Если Елизавета действительно верит в мой успех, то она рассчитывает с моей помощью победить соперницу. Но ты прав, я сам должен уяснить себе, люблю ли я Елизавету или нет, а на это можешь ответить мне именно ты.
— Я? Да ты с ума сошел?
— Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты знаешь, что прекрасные глаза способны зажечь во мне пламя, но знаешь также, что я честолюбив. Как ты думаешь? Может честолюбие заменить мне счастье любви? Сильнее ли оно, чем страсть, которая довольствуется мелкими победами?
— Милый Дэдлей, уже этот вопрос доказывает мне, что в Елизавете ты любишь лишь королеву, а то, что я слышал о ней, не позволяет питать надежду, чтобы когда-либо какой-нибудь мужчина победил в ней женщину и стал для нее более, чем мимолетной прихотью.
— Кто знает! — пробормотал Дэдлей. — Она еще не любила. Я стою на перепутье, которое должно решить участь всей моей жизни. Я — потомок Варвиков, мои предки добыли корону английским королям, служили опорой их престола. Если бы я подозревал, что Елизавета хочет испытать меня и дала мне это поручение в надежде на неудачу, тогда я мог бы требовать удовлетворения у ее сердца.
— Ты еще не назвал мне имени твоей будущей невесты.
— Я должен просить руки Марии Стюарт.
Сэррей уставился на него с удивлением, но вдруг язвительно засмеялся и воскликнул:
— Ах, я понимаю! Елизавета хочет сделать последний шахматный ход, завершить интригу Генриха Восьмого. Супруг несчастной королевы Марии должен обратиться в вассала Англии, в человека, которым Елизавета могла бы всецело управлять.
— Роберт, эта мысль и мне приходила в голову.
— И ты хотел пойти на это дело, обмануть несчастную шотландскую королеву, быть тайным агентом Елизаветы, помогая ей захватить наследство Стюартов?
— Роберт Сэррей, этого подозрения я не заслуживаю. Я сказал тебе, что я стою на распутье. Я не кукла, с которой можно играть. Если я стану супругом Марии Стюарт, я перестану быть вассалом Елизаветы, и она сильно ошибется, думая найти во мне покорного слугу. Но мне кажется, я сам должен посмеяться над этим проектом. Неужели Елизавета могла серьезно думать, что ее давнишний враг — шотландская королева возьмет себе в мужья английского лорда, ее фаворита, и что Шотландия потерпит это? Я думаю, скорей меня посылают, чтобы я был отвергнут, и Елизавета получит повод рассердиться, что не приняли ее совета. Но я не хочу повредить себе в глазах Елизаветы и не хочу выставить себя в смешном виде. Поэтому прошу тебя, поедем со мной! Ты легко разузнаешь, что будут скрывать от меня; ты можешь дать понять Марии Стюарт, что я не способен предать ее, если она на мне остановит свой выбор; ты также вовремя можешь подать мне знак прекратить переговоры, если не будет никакой надежды на успех.
— Я поеду с тобой, — ответил Сэррей после короткой паузы, — уже потому, что должен оказать эту услугу Марии Стюарт. Ради тебя, — продолжал он со смехом, — я не сделал бы этого, так как опасно быть советчиком человека, еще колеблющегося, которую из королев он может осчастливить своей рукой и сердцем… Но где же Вальтер Брай? Неужели он знал о твоей поездке и все-таки не поехал с тобой? Неужели Филли все еще не разыскана?
Лейстер рассказал о случившемся несчастье с Вальтером, что он еще лежит больной, но обещал приехать в Эдинбург, чтобы там навести справки о Филли, если в Лондоне ничего нельзя будет узнать.
II
Смертный приговор над Кастеляром стоил много слез Марии Стюарт, и прошло несколько недель, прежде чем она оправилась от катастрофы, которую навлекла сама. Она никогда не задумывалась над тем, какие серьезные и печальные последствия могла иметь интрига, которой она предавалась легкомысленно, из склонности к кокетству и тщеславию, и теперь пробовала развлечь себя разнообразными празднествами, балами, маскарадами и охотой. Но понятно, что подобный образ жизни еще более восстанавливал против нее шотландских пуритан. Требования о том, чтобы она вышла замуж, делались все настоятельнее. Одни хотели, чтобы супруг королевы противодействовал возрастающему могуществу Мюррея, другие желали ей мужа для избежания подобных историй, как было с Кастеляром. Сам Мюррей убеждал остановиться на выборе Елизаветы, так как боялся, чтобы Мария Стюарт в конце концов не вышла за какого-нибудь иностранного принца или шотландского лорда, который мог бы лишить его власти.
Датский и шведский короли, сватавшиеся за Марию Стюарт, были отвергнуты. Кардинал Гиз горячо принялся за проект обручения Марии с доном Карлосом, сыном испанского короля, но Екатерина Медичи и Елизавета Английская воспротивились этому плану, боясь, что наследник Испании, Милана, Сицилии и Нидерландов, став шотландским королем, заявит претензии на английский престол. Эрцгерцог австрийский, герцоги Намюр и Феррара тоже предлагали свои кандидатуры, но получили отказ. А Мария тайно возобновила переговоры с Испанией, в то время как Лейстер был уже на пути, причем разрешила Мюррею написать Елизавете, что примет жениха из ее рук.
Нерешительность королевы увеличилась еще от проповедей Джона Нокса.
— Я слышу разговоры о замужестве королевы, — обращался он к дворянам-реформаторам. — Герцоги, братья государи, короли — все желают принять участие в этом деле. Запомните, милорды, день, в который я вам сказал это, и впоследствии засвидетельствуйте об этом. Если шотландское дворянство, служащее Господу Нашему Иисусу Христу, даст когда-нибудь свое согласие, чтобы неверующий — а все паписты неверующие — стал супругом и повелителем нашей королевы, то Христос изгонит нас из этого королевства и призовет на всю страну Божью месть.
Мария упрекнула Нокса:
— Зачем вы вмешиваетесь в дело моего сватовства? Какую роль вы играете в государстве?
— Ваше величество, — смело ответил он, — я прирожденный подданный королевства, и если я — не барон, не лорд, то все же Бог, как бы я ни казался недостойным, создал меня полезным членом государства. И в этом качестве обязан, как и дворянин, предостеречь народ от опасности; с этой целью я сказал открыто и повторяю это теперь перед вами: если дворянство страны допустит дать согласие на ваш брак с неверующим, то этим отречется от Христа, откажется от веры и подвергнет опасности свободу государства.
В тот день, когда английский посол получил известие о выезде в Эдинбург графа Лейстера в качестве претендента на руку королевы, Мария Стюарт узнала, что король испанский отказывается от сватовства своего сына, не считая его подходящим человеком, который мог бы содействовать присоединению Шотландии к католической церкви.
А Рандольф написал лорду Бэрлею:
«Королева дала мне аудиенцию, будучи в постели. Она провела в таком положении целый день, более из-за удобства, чем из-за нездоровья. Быть может, она нуждалась в отдыхе после одного из ночных празднеств, которые всегда отличаются большой пышностью и оживлением. Когда я попросил ее поговорить о делах, она ответила: «Я вижу, что вам наскучило быть здесь. Я послала за вами, желая повеселить вас и показать, как я, подобно простой смертной, умею проводить время среди моего маленького общества. А вы хотите испортить мне все удовольствие, заставляя говорить о важных делах. Оставьте все это при себе. Если королева Елизавета хочет считать меня своей сестрой или дочерью, я охотно буду слушаться и почитать ее. Если же она хочет смотреть на меня только как на свою соседку и королеву Шотландскую, я согласна жить с ней в мире. Но она не должна вмешиваться в мои дела и беспокоить меня». Вот какова Мария Стюарт. Я доложил ей о желании королевы Елизаветы, чтобы Мария отдала свою руку графу Лейстеру. Она, по-видимому, обиделась и гордо ответила: «Неужели вы считаете, что я могу так унизить свое достоинство? Разве ваша повелительница поступает согласно своему обещанию считать меня за сестру или дочь, предлагая мне сочетаться с графом Лейстером, связать себя узами с ее подданным?» Я возразил, что лорд достоин выбора, так как королева Елизавета отличила его большими почестями. Мария заметила, что именно в силу этого обстоятельства неправдоподобно, чтобы Елизавета без каких-либо задних мыслей отдавала ей своего фаворита, а если род последнего действительно достоин трона, то королева Англии сама могла бы предложить ему свою руку. В конце концов она обещала обсудить это предложение с графом Мюрреем».
Таково было положение дел, когда Дэдлей и Роберт Сэррей со своими свитами вступили в Эдинбург.
III
В гостинице, куда направлялись оба лорда, пировали оруженосцы и егеря могущественного дома Леннокс.
— Посмотрите, — воскликнул старый сокольничий графа. — Вот едут новые гости, и накажи меня Бог, если на щитах не гербы Варвиков и Сэрреев. Бьюсь об заклад, что это — женихи из Англии; но они получат такой же отказ, как испанцы и датчане. Вот будет потеха и, даст Бог, веселая игра! Мы должны быть вежливы и помочь английским парням выколотить их новые камзолы, прежде чем они поскачут назад, как облитые водой пуделя. Приготовьте мечи! По улице едет Сэйтон. Если эти англичане не дадут ему дороги, он для приветствия порадует их окровавленными головами.
Группа всадников, имевших в виде отличия зеленые дубовые листья на головных уборах, проезжала мимо гостиницы, а так как каждый шотландец искал, где только возможно, ссоры, то можно было с уверенностью предсказать столкновение между двумя отрядами, потому что каждый из них предъявил бы свое право на середину дороги. Когда случай приводил к тому, что встречались два могущественных лорда, редко обходилось без кровопролития при разрешении спора о первенстве, а здесь вдруг надменные Сэйтоны съехались на той же дороге с англичанами.
Оруженосцы из гостиницы схватились за мечи и были наготове броситься по первому знаку на защиту Сэйтонов против враждебных англичан, и они, конечно, постарались бы сделать свалку по возможности всеобщей. Группа английских всадников занимала середину улицы. Дэдлей был в боевом вооружении, так же, как и Сэррей, их свита не ждала ничего другого, как маленькой битвы, и разрешение этого вопроса должно было последовать тотчас же, так как предводитель Сэйтонов не делал никакой попытки съехать с пути.
— Место для Сэйтонов! — прогремел он еще издали, обращаясь к англичанам.
Но напрасно ждали шотландцы вызывающего ответа, оба английских лорда остановили своих всадников и коротким галопом поскакали навстречу Сэйтону.
— Приветствую вас, милорд Сэйтон, — воскликнул Дэдлей, — я рад видеть вас здоровым и надеюсь, что встреча с примирившимся со мной противником послужит мне хорошим предзнаменованием. Я прибыл в качестве гостя королевы и, надеюсь, также гостя Шотландии.
— Если вы — только гость и желаете остаться им, то и я приветствую вас с приездом, — ответил Сэйтон, весьма удивленный вежливостью своих парижских противников. — Конечно, я предпочел бы встретиться с англичанами, как с врагами, на границе и там увидеть вас, но я обязан оказать вам гостеприимство, так как ни один Сэйтон никогда не потерпит, чтобы его упрекнули в неисполнении своего долга. Если вам это удобно, я провожу вас в свой дом, предоставив его в ваше распоряжение, пока вы не окончите здесь своих дел.
— Милорд Сэйтон, — засмеялся Лейстер, — я надеюсь не так скоро покончить дела, как вы это думаете. Впрочем, это должна решить королева Шотландская. Я принимаю ваше предложение.
— И я также, — сказал Сэррей, подавая руку Сэйтону.
— Милорд, я чту в вас верного слугу государыни, которой я также когда-то верно послужил, и если мы когда-либо встретимся с вами как политические противники, я хотел бы, чтобы это произошло без малейшей личной вражды.
Георг Сэйтон пробормотал себе в бороду несколько непонятных слов и ответил на рукопожатие Сэррея с таким выражением лица, которое ясно давало понять, что он охотно поднял бы брошенную ему перчатку, но все же настолько понимает приличия, чтобы ответить на вежливость вежливостью.
— Стройтесь! — скомандовал он своим всадникам. — Лорды Сэррей и Лейстер — мои гости, и кто только будет искать ссоры с их людьми, будет также иметь дело и с Сэйтонами. Покажите этим господам, что мы умеем жить и даже принять англичан, когда они являются к нам мирными гостями. Поворачивайте своих лошадей, поезжайте вперед и трубите в трубы, чтобы в доме Сэйтона приготовили все самое лучшее для приема гостей.
— На нас здесь смотрят не особенно дружелюбно, — сказал Сэррей Дэдлею, когда они заняли свои комнаты в доме Сэйтона. — Повсюду в городе мы видели мрачные лица, словно все эти люди охотнее приветствовали бы нас алебардами. Проект Елизаветы кажется мне немного смелым, и граф Мюррей мог бы встретить нас. Может, ветер подул в другую сторону, и он посылает нас ко всем чертям? Но что заставило тебя просить Сэйтона о гостеприимстве?
— Этот надменный дурень вел себя так, точно мы обязаны ему жизнью за то, что он провел нас невредимыми через город.
— Ведь в Париже мы тяжко оскорбили его, а ты еще требуешь, чтобы он улыбался нам, — засмеялся Дэдлей. — Неужели было бы лучше, если бы мы вступили в драку с грубыми парнями и поставили королеву Марию Стюарт в затруднение, какое удовлетворение дать оскорбленным гостям? Мне доставляет громадное удовольствие принуждать к вежливости этого высокомерного молодца, да к тому же я сделал открытие, что у нас здесь не будет недостатка в развлечениях. Я видел у окна головку восхитительной леди, которая быстро исчезла при виде гневного взора Сэйтона.
— Ты думаешь о приключениях в то время, как хочешь сделать предложение королеве? — спросил Сэррей и покраснел, подумав о возможности встречи с Марией Сэйтон.
— Почему же нет? Когда человек уже приготовился к отказу, который он должен получить, может же он искать себе другие развлечения!
— Ты неисправим. Но тише… сюда идет Сэйтон.
Георг Сэйтон вошел в комнату в сопровождении хранителя винным погребом и лакеев, несших золотую чашу с вином и бокалы.
— Позвольте, милорды, поздравить вас с приездом, — сказал Сэйтон. — С вами ли еще паж, который ходил за мной, когда я лежал больной в вашей гостинице в Париже? Я наполню его карманы золотом.
— Милорд, — ответил Сэррей, — этот паж исчез, и желание отыскать его явилось одной из причин моей поездки сюда с графом Лейстером. Он — здешний уроженец…
— Значит, он — шотландец? Милорды, все мои служащие к вашим услугам. Если вам это удобно, я велю через час подать вам сюда ваш обед.
— Милорд Сэйтон, — ответил Дэдлей, у которого официальный тон хозяина вызывал насмешку, — если мы для вас — приятные гости, докажите нам это и не стесняйтесь. Мы устроимся, сообразуясь с вашими удобствами и привычками, как вы это сделали в нашем скромном убежище в Париже. Мы будем являться к столу, когда ваша леди велит звонить в колокол.
— Я не женат, милорд, — ответил Георг, бросив на говорившего подозрительный взгляд, — и сожалею, что в моем доме вы должны отказаться от удовольствия блеснуть своей галантностью перед дамами.
— Как? — воскликнул Лейстер, не обращая внимания на предостерегающие знаки Сэррея и замкнуто-серьезное лицо Георга, — неужели мои глаза обманули меня, когда я видел прелестную кудрявую головку в угловом окне вашего дворца? Значит, красавица была служанка и…
— Милорд, — резко прервал его Сэйтон, — у вас очень зоркие глаза. Дама, которую вы заметили, — моя сестра.
— В таком случае простите! Да и правда, было бы даже невозможно, чтобы такие благородные черты принадлежали служанке. Я был бы рад познакомиться с леди Сэйтон.
— Милорд, моя сестра, к сожалению, должна отказаться от этой чести, она не принимает незнакомых лиц, приехавших с юга.
— Лорд Сэйтон, это звучит оскорблением.
— Граф Лейстер, не в шотландских обычаях оскорблять гостя-друга. Но я один приветствовал вас с приездом, простите, если моя сестра не нашла достаточных причин поступить так же, и будьте добры отнестись с уважением к ее желанию.
— Я повинуюсь, милорд, но с сожалением.
На этом Сэйтон покинул своих гостей.
— Я надеюсь, — сказал Дэдлей, — что еще когда-нибудь встречу этого молодца на ратном поле и сломаю ему шею. Этот высокомерный дурень боится, чтобы не заглянули слишком глубоко в светлые глаза его сестры и не поставили его в затруднение породниться с почтенным домом.
Молодые люди еще болтали, когда им доложили о приезде лорда Рандольфа. Привезенные им известия не предвещали Дэдлею особенно благоприятного приема у Марии Стюарт.
— Королева, — сказал посол, — противится браку, который ей будут навязывать, все зависит от того, как вы при своем личном общении с ней рассеете ее подозрение, будто вы — фаворит Елизаветы; затем вы должны привлечь на свою сторону лорда Мюррея — он здесь всемогуш.
— А как я могу расположить его в мою пользу?
— Вы должны показаться ему как можно незначительнее. Он честолюбив и не хочет быть третьим в государстве.
— Странно! В таком случае он должен был отсоветовать Марии избрать себе супруга.
— Он боится, что она предпочтет вам соперника, вы еще самый подходящий для него претендент на руку королевы, так как не имеете никакого влияния в стране, и он надеется этим браком склонить Елизавету признать Марию Стюарт своей наследницей.
— А-а! Надежды становятся все более блестящими! Но вы говорили о сопернике, кто это?
— Генри Дарнлей. Он прибыл вчера, вероятно, с целью опередить вас. Он — сын графа Леннокса, из дома Стюартов; его отец сражался за Генриха Восьмого и вследствие этого получил в супруги племянницу короля, леди Маргариту Дуглас, дочь Маргариты Тюдор, вдовы Иакова Четвертого. Следовательно, Дарнлей — двоюродный брат королевы и имеет права на ее престол. Назло Гамильтонам — его смертельным врагам — Мария вернула ему его конфискованные поместья, и теперь он является соперником, с которым надо считаться. Говорят, Джэмс Мелвил, его поверенный, через личного секретаря королевы, Давида Риччио, уже вел переговоры о сватовстве как с Марией, так и с королевой Елизаветой.
— Вот что! — вскрикнул Дэдлей, краснея. — Значит, королева Елизавета знала, что я найду здесь соперника?
— Она знала это, только она придает очень мало значения Дарнлею; она называет его хмелевой тычинкой и высказала мнение, что умная женщина никогда не возьмет в мужья человека хотя и красивого, но слабого и безбородого, скорей похожего на девушку, чем на мужчину.
— А Мария Стюарт? Она такого же невысокого мнения о нем? — спросил Дэдлей.
— Она никогда не видела его, — ответил Рандольф. — Мария Стюарт примет его только для того, чтобы иметь возможность сказать, что до окончательного решения делала выбор между вами обоими. Таким образом, она хочет вынудить королеву Елизавету на новые уступки.
Когда Рандольф удалился, Дэдлей воскликнул:
— Ах, что я слышу!… Прелестная Мария, игравшая во Франции роль очаровательной невинности, пускается в интриги. Я еще, пожалуй, влюблюсь в нее. Необходимо все хорошенько выведать от этого Рандольфа. Если он заодно с Елизаветой и оба думают поймать меня в ловушку, то они очень ошибаются. А когда Мария Стюарт отдаст мне свою руку, тогда они убедятся, что я сумею быть королем.
Дэдлей изменился. Неопределенность положения заставляла его смотреть на окружающее недоверчиво. Теперь это настроение совершенно исчезло. Достаточно было сказать Дэдлею, что он должен завоевать сердце женщины и победить соперника, чтобы у него явилось желание борьбы; препятствие в деле любви скорее всего могло только возбудить его страсть, а так как от этой победы зависело и удовлетворение его тщеславия, то Дэдлей сразу почувствовал себя почти влюбленным в королеву.
За блестящим ужином, поданным в большой столовой, Мария Сэйтон отсутствовала, но Дэдлей даже не заметил этого. Все его мысли были заняты прекрасной королевой, и, едва успев вернуться в свою комнату, он сейчас же написал ей страстное послание. Он просил у Марии аудиенции и уверял ее, что с того самого дня, как он увидел ее в первый раз в Инч-Магоме, ее образ не покидал его. Его сердце готово было разорваться от ревности, когда она выходила замуж за французского дофина, но он утешался тем, что женщина, которую он боготворил, счастлива… Теперь же он надеялся, что она увидит в нем человека, который более всех других претендентов на ее руку понимает, насколько выше его стоит Мария Шотландская, и сильнее всех чувствует потребность посвятить ей всю свою жизнь, быть ее преданнейшим слугой, жить исключительно ее интересами.
Дэдлей отослал письмо и со своим же посланным получил ответ. Королева написала, что будет очень рада видеть человека, уже доказавшего ей на деле преданность и пользующегося доверием ее сестры Елизаветы. Но теперь она чувствует себя не совсем хорошо, а потому нуждается в тишине и покое. Ввиду этого она отправляется завтра же на несколько дней в Сент-Эндрю, где в полном одиночестве обдумает вопрос о своем будущем. По возвращении она сейчас же примет его, лорда Дэдлея, а пока просит его пользоваться ее королевским дворцом.
Дэдлей долго раздумывал над ответом королевы и в конце концов пришел к заключению, что этот внезапный отъезд Марии Стюарт для него более благоприятен, чем если бы она приняла его сейчас же.
IV
Сэррей вышел из столовой вместе с Дэдлеем и прошел в свои комнаты, находившиеся в нижнем этаже правого флигеля. Он попросил Сэйтона не провожать его и отослал слуг, которым было приказано посветить ему, да это было и лишним, так как на лестнице и по всей галерее горели многочисленные лампы.
Георг Сэйтон и его друзья остались в столовой и продолжали бражничать.
Стоя у окна лестницы, которая вела к его комнатам, Сэррей мог прекрасно следить за тем, что делалось за столом. Оживленные жесты пировавших доказывали, что веселье началось лишь по уходу неприятных гостей. У Роберта появилось тяжелое чувство, которое еще более усилилось, когда он увидел, что в столовую вошли и дамы, приглашенные, по-видимому, только после ухода Дэдлея и его друга. Одна из дам заняла место хозяйки за столом.
Ее сходство с Георгом и то почтение, которое ей оказывали гости, не оставляли сомнения, что дама принадлежит к семье Сэйтонов. Она была копией своей сестры Марии, такой же юной и свежей, какой была та в Инч-Магоме. У молодой девушки было кроткое, нежное выражение лица, но без своенравной, вызывающей улыбки, которая несколько портила Марию Сэйтон. Вся ее гибкая фигура поражала своей целомудренной прелестью.
Бесконечная тоска охватила сердце Сэррея — вот та, истинная, которую он всегда любил и не мог забыть, это была даже не Мария Сэйтон в юности, а идеализированная Мария, приукрашенная пылкой фантазией влюбленного пажа. Легкий шорох у окна заставил Роберта отскочить и спрятаться в комнату. Ему было досадно, что Георг Сэйтон скрыл от него это сокровище, как бы считая его недостойным знакомства со своей сестрой. Тысячу раз Роберт говорил себе, что заслуживает полного презрения за то, что пользуется гостеприимством человека, который ненавидит его, и в то же время чувствовал, что никогда не решится уехать из этого дома и готов перенести какие угодно унижения, только бы прекрасная сестра Марии удостоила его хотя бы мимолетной улыбкой.
Он сидел неподвижно и смотрел в одну точку, невеселые думы носились в его голове; сердце скорбно сжималось. Зачем ему суждено было полюбить именно шотландку, сестру Марии и гордого шотландского дворянина, ненавидевшего его всей душой? О, как хотелось Роберту услышать только одно слово с ее уст, увидеть лишь один ее взгляд.
В комнатах становилось все темнее, но Сэррей не зажигал огня. Он чувствовал себя разбитым; его голова горела. Роберт давно похоронил свою первую любовь, от нее осталась лишь одна печальная тень, наполнявшая его душу легкой грустью. Теперь вдруг старая любовь воскресла, воплотилась в нежный образ — и его сердце усиленно и горячо забилось.
Внезапно послышались нежные звуки лютни. Роберт бросился к окну и тихонько открыл его. Мелодия, напеваемая женским голосом, еле долетала до него, и ему казалось, что он слышал ласковый разговор благородной девственной души с ночными эльфами. Сэррей вслушивался в эти звуки, и ему чудилась в них жалоба невысказанного чувства, тоска высших желаний, он как бы видел душу певицы! Нет, Мария Сэйтон никогда не могла бы петь так, никогда не могла бы вложить столько задушевной искренности в свой голос! Если бы Мария обладала такой глубиной чувства, как ее сестра, она не могла бы так играть любовью Роберта, не могла бы так зло издеваться над ним!
Сэррей сознавал, что было бы безумием с его стороны поддаваться этой страсти, невольно закравшейся в его душу. Молодая девушка могла остаться для него лишь недосягаемой мечтой.
«Нет, нет, надо поскорее уехать отсюда! — подумал Роберт. — Мне нечего надеяться на благосклонность этой очаровательной девушки, в особенности если она узнает, что я добивался любви Марии и был отвергнут ею. Еще если бы Мария была замужем, тогда можно было бы мечтать о лучшем исходе!»
В первый раз Сэррей подумал о том, что в отношениях Марии к нему могло быть не только одно кокетство, может быть, в глубине ее души теплилось более нежное чувство. Иначе чем объяснить, что она до сих пор не замужем? Почему она не замужем? Почему она отвергла предложения всех поклонников при французском дворе? Как был бы счастлив Роберт раньше, если бы эта мысль пришла ему в голову! Теперь же она только испугала его.
Сэррей чувствовал, что задыхается в комнате, его тянуло на воздух. Приказав оседлать лошадь, он выехал из дома.
Близился рассвет. Легкий туман расстилался по долинам и лугам. Влажный холодноватый ветерок овевал лицо. Вдали блестело море, и на темных зеленых волнах качался корабль. Точно призраки, выползали из-за тумана далекие воспоминания. Вот там, у столба стояла Кэт, и Вальтер Брай спустился с обрыва, чтобы ее освободить. На сером фоне зарождавшегося дня виднелись развалины старого аббатства. В той стороне стояла избушка старушки Гиль, которая своим предсказанием смутила Роберта, когда он пришел к ней с разбитым сердцем, простившись с Марией. Сэйтон, уехавшей на испанском галионе во Францию. Сэррей вспомнил об Инч-Магоме, о своей первой любви, о своем верном друге, о вооруженном шествии по улицам Лондона. Какие богатые, пестрые картины в прошлом, и как серо, бесцветно настоящее! В прошлом — стремления и надежды молодости, гордые мечты, горячая вера в Бога, людей и любовь. Теперь же Роберт был богат и занимал почетное место в обществе, все, что было прекрасного в прошлом, он променял, сам того не желая, на это внешнее благополучие и на внутреннюю пустоту.
Роберт быстро мчался через поля и луга все дальше и дальше, как бы стараясь сбросить с себя настоящее и вернуть потерянную молодость. Перед ним сверкало далекое, безграничное море с вечно сменяющимися волнами. Так же как волны, надвигались на его душу воспоминания. Волны не знали, о чем они хлопочут, куда стремятся, не знал и Роберт, куда он мчится, где бесконечная цель, манящая его.
Проскакав несколько часов на своей лошади, Сэррей только тогда опомнился, когда солнце взошло высоко и он почувствовал голод. Повернув лошадь обратно, он убедился, что отъехал далеко от Эдинбурга. Горячие лучи солнца начали припекать. Лошадь устала не менее своего всадника. Роберт остановился на опушке леса и, предоставив лошади свободу пастись, лег в тень под дерево. Прежние мечты охватили его. В тихом шепоте листьев леса ему слышались звуки нежной лютни и грустная мелодия чарующего голоса.
Вдруг вдали раздался звук копыт, звонкий смех и веселый разговор. Преобладали женские, давно ему знакомые голоса. Роберт вскочил, хотел скрыться, но было уже поздно, его заметили. Впереди всех ехала шотландская королева в синем бархатном платье, окруженная придворными дамами и кавалерами.
— Здесь есть кто-то посторонний! — воскликнула Мария Стюарт. — Ах, это вы? — прибавила она, узнав Роберта и слегка краснея. — Наш паж из Инч-Магома? Каким образом вы попали сюда, милорд? С вами случилось несчастье, или вы просто заблудились?
Дамы и мужчины с любопытством смотрели на незнакомца, только одна из фрейлин оставалась в стороне, как бы не желая, чтобы Сэррей видел, как вспыхнуло ее лицо.
— Я хотел покататься верхом, ваше величество, — смущенно ответил Роберт, — но прекрасная погода и красивые окрестности увлекли меня, и я отъехал дальше, чем предполагал.
— Вы знали, что мы должны проехать в этом направлении и хотели сделать нам сюрприз? — спросила королева.
— Я никогда не решился бы на это, ваше величество, — возразил Сэррей. — Притом откуда бы я мог знать, что вы поедете так далеко от Эдинбурга?
Королева тонко улыбнулась.
— Я знаю вас, милорд, еще из Инч-Магома и прекрасно помню, что вы умели перехитрить всякого, — проговорила она. — Сознайтесь же, что вы нарочно встретились на моем пути, чтобы замолвить словечко в пользу своего друга.
— Ваше величество, мое почтение к вам никогда не позволило бы мне вмешиваться в дела моего друга, — ответил Роберт. — Уверяю вас честью, что я совершенно случайно встретился с вами. Скажу даже больше: если бы я подозревал, что могу встретить вас, ваше величество, я постарался бы вовремя скрыться.
— Вы не хотели бы встретиться со мной, милорд? — удивилась королева. — Почему?
— Чтобы не показаться вам навязчивым, ваше величество. Вам было известно о прибытии английских послов, и только от вашего желания зависело, когда и где нас принять.
— Ваши слова звучат несколько холодно для старого знакомого, — проговорила Мария Стюарт. — Вы знаете, что короли забывчивы, и хотите обвинить меня в этом пороке. В наказание за это извольте отправляться с нами в Сент-Эндрю, где я заставлю вас разделить с нами нашу уединенную жизнь.
— Ваше величество, меня будут ждать в Эдинбурге, — пробормотал Роберт.
— Вас, кажется, очень обидело мое подозрение, — засмеялась королева. — Или вы считаете наказание настолько строгим, что смущенно краснеете? Ну, что ж, меня называют тиранкой, и надо доказать, что я такая на самом деле. Милорды, возьмите в плен этого господина; прекрасные дамы, окружите его и обезоружьте своей красотой!… В таком виде мы доставим его в Сент-Эндрю. Пошлите кого-нибудь в Эдинбург сообщить, что граф Сэррей с нами, я не хочу, чтобы лорд Лейстер побледнел от тревоги за него и потерял часть своей красоты. Моя сестра Елизавета никогда не простила бы мне подобного преступления. Садитесь на свою лошадь, граф Сэррей, не заставляйте нас ждать.
Роберту не оставалось ничего другого, как подчиниться этому приказанию.
— Милорд, — проговорила королева, когда Роберт, сев в седло, по ее желанию подъехал к ней — я угадываю теперь, что привлекло вас сюда. Я хорошо помню, — шепотом прибавила она, — что мой паж в Инч-Магоне проявлял заметную склонность к романтическим мечтам. Ваше смущение убеждает меня, зачем вы хотели скрыть, что привело вас в эту местность. Не оглядывайтесь, мои дамы будут иметь достаточно времени, чтобы оценить вашу любезность. Прежде всего займитесь мной, — прибавила она, и ее голос вдруг стал необычайно мягок и ласков. — Я верила вам, будучи еще ребенком, и доказала вам свое доверие. Я уважаю вас. Вы были строгим тюремщиком, но поступали благородно по отношению к каждому. Я знаю, что вы сохранили свою привязанность, даже находясь при французском дворе. Вы не похожи на своего друга Дэдлея, который теряет голову при всяком пламенном взоре, обращенном на него. Я знаю, что вы нелегко меняете свои взгляды и обещания, и потому напоминаю вам, что вы когда-то поклялись быть верным другом Марии Стюарт.
— Я сдержу эту клятву до самой смерти, ваше величество, — горячо воскликнул Роберт, — и буду счастлив доказать вам свою верность.
— Тогда докажите мне ее сейчас, — сказала королева, — хотя для этого вам придется чем-то поступиться. Дайте мне совет! Я убеждена, что вы скорее промолчите, чем будете говорить против своего убеждения. Как вам известно, Шотландия разбилась на партии, дворяне заставляют меня выбрать себе мужа, пуритане требуют того же. Одни предлагают мне в мужья одного, другие — другого. Мое же сердце не лежит ни к кому. Тяжелый долг королевы принуждает меня принести величайшую жертву для блага моей страны — заморозить свое сердце и отдать руку тому, кто более подойдет к роли мужа шотландской королевы. Мне хотелось бы узнать от вас кое-что о характере вашего друга, которого я знаю лучше, чем вы думаете. Скажите мне правду, любит сэр Дэдлей королеву Елизавету так, как она любит его? Я не спрашиваю вас ни о чем другом, так как вам, может быть, пришлось бы совершить предательство, чтобы ответить мне искренне. Что касается чувств вашего друга, то я думаю, что вы можете говорить откровенно, не нарушая долга чести.
— Вы назвали меня, ваше величество, своим другом, — ответил Сэррей, — и я хочу оправдать это и отвечу вам не как королеве, а просто как Марии Стюарт. Я не знаю, любит ли королева Елизавета Дэдлея; я никогда не был при ее дворе и никаких сведений не имею; относительно чувств Дэдлея к королеве Елизавете я тоже ничего не могу сказать. Я убежден лишь в том, что Дэдлей может любить только тогда, когда эта любовь удовлетворяет его честолюбие. Если для его тщеславия нет пищи, то его ничем другим нельзя удержать. Я думаю, что ни в чем не изменю долгу дружбы, если признаюсь вам, что Дэдлей боготворил бы королеву Елизавету, если бы у него была надежда получить ее руку вместе с сердцем. Такую же пламенную любовь он может почувствовать и к вам, если вы возведете его на шотландский трон. А став вашим мужем, он никогда не изменит королеве шотландской ради другой женщины.
— Этого совершенно достаточно; благодарю вас, Сэррей. Теперь я более спокойна, — прибавила Мария Стюарт, — вы избавили меня от неприятного чувства подозревать графа Лейстера в двойной измене. Я очень рада, что это не так. Я могу принять его благосклонно, если даже и отклоню предложение. Еще раз благодарю вас. Мне хотелось бы оказать и вам подобную услугу, успокоить вас в чем-нибудь, что тревожит вас.
Королева испытующе посмотрела в лицо Роберта, и он вспыхнул от этого взгляда, так как догадался, на что намекает Мария Стюарт.
— Вы назвали меня, ваше величество, мечтателем, — произнес он, — и вы правы. Поддаваясь своей склонности к мечтам, я выехал из Эдинбурга, чтобы взглянуть на места, где я был в юности. Но в своих воспоминаниях я нашел лишь погибшие мечты и потерянные надежды. Я не нуждаюсь в утешениях и нахожу успокоение в сознании, что поступал правильно и что теперь тоже не мог бы поступать иначе. Я желаю лишь дожить до того дня, когда в состоянии буду оправдать доверие благороднейшей королевы и своей кровью доказать ей мою преданность.
Мария печально покачала хорошенькой головкой и разочарованно посмотрела на Роберта, как бы ожидая, что он выскажет еще одно заветное желание.
«Погибшие мечты, потерянные надежды», — сказала она, видя, что Сэррей молчит, — какие это грустные слова! Они доказывают, что ваше сердце разбито. В Инч-Магоме вы были веселее. Я завидовала вашему настроению, вы так смело и светло смотрели в лицо будущему. Доверьте мне печаль своего сердца! Скажите, что заставило вас разочароваться? Я слышала, что вы остановились в доме лорда Сэйтона?
— Да, ваше величество, случай привел к этому! — ответил Роберт.
— Случай? Странно! — заметила королева. — Скажите, вы познакомились с Георгом Сэйтоном в Париже?
— Кажется! — небрежно произнес Сэррей.
— Кажется! — смеясь, повторила королева. — Разве у вас такая плохая память? Мне рассказывали, что он недостойным образом вызвал вас на поединок. Вы ранили его, а потом ухаживали за ним.
— Мне очень приятно слышать, ваше величество, что лорд Сэйтон, болтая о дуэли, отдает себе должное, — проговорил Роберт. — Я не ждал от него такой откровенности.
— Я знаю это не от него и не от его сестры! — возразила королева. — Однако вы еще не поздоровались с Марией Сэйтон, а я злоупотребляю терпением лорда Дарнлея, который, кажется, уже начинает выходить из себя от досады.
Мария Стюарт приветливо улыбнулась и движением руки отпустила Сэррея. Роберт придержал лошадь и уступил свое место Генри Дарнлею, графу Ленноксу.

Глава седьмая
СЕНТ-ЭНДРЮ

I
 Во время разговора между Сэрреем и королевой у Марии Сэйтон было достаточно времени для того, чтобы оправиться от растерянности, вызванной неожиданным появлением Роберта.
Какие чувства пылали в ее груди, когда она увидела в полном расцвете красоты того человека, которого она так горячо любила, когда он был еще юношей!
По-видимому, Роберт Сэррей не был счастлив. Мария Сэйтон видела это по его серьезному лицу и грустным глазам. Она догадывалась, что именно заставило Роберта покинуть Эдинбург и в одиночестве скакать по полям и лесам.
«Неужели в его сердце еще сохранился мой образ? Неужели память о прошлом заставила его вернуться в эти места?» — думала Мария Сэйтон, и сладкая надежда зашевелилась в ее сердце.
Она видела, что королева о чем-то шепталась с Сэрреем, заметила его смущение. Мария Стюарт знала тайну сердца своей фрейлины, не говорила ли она теперь о ней? Неужели увядшему цветку ее любви суждено раскрыться вновь? Если бы в часы одиночества она сама задалась вопросом, продолжает ли она любить Сэррея, то с полной искренностью ответила бы «нет». Но довольно было увидеть его, услышать его голос — и давнее чувство воскресло вновь.
Сердце Марии Сэйтон сильно билось, глаза сияли, а лицо горело ярким румянцем, когда Роберт медленно подъезжал к ней. Его взгляд скользил по всей кавалькаде. Он мельком глянул на Марию Сэйтон и обратил внимание на графа Мюррея, который, не отрываясь, смотрел на человека, удостоившегося длинной беседы с королевой. Лорд Мюррей старался по выражению лица Роберта угадать результат разговора.
— Добро пожаловать, милорд Сэррей! — обратился лорд Джэмс к Роберту, когда тот подъехал к нему поближе. — Поздравляю вас с прекрасной мыслью захватить королеву врасплох и не дать ей таким образом возможности отвергнуть вашу просьбу. Надеюсь, что вы довольны результатом своего разговора и пошлете графу Лейстеру приятную весть, что его ожидают в Сент-Эндрю?
Сэррей почувствовал насмешку в словах Мюррея.
— Я по многим причинам не могу принять ваше поздравление, милорд, — ответил он. — Во-первых, я не искал встречи с королевой, во-вторых, никогда не вмешиваюсь в политические дела, и, в-третьих, граф Лейстер слишком горд для того, чтобы прибегать к помощи третьего лица, тем более, что его надежды связаны с желанием английской королевы.
— Вы говорите, что не вмешиваетесь в политику, — иронически заметил лорд Мюррей, — а между тем сопровождаете английских послов?
— Милорд, вы, кажется, сомневаетесь в том, что сказано совершенно ясно! — резко ответил Роберт.
— Прошу извинения! — проговорил Мюррей, точно снисходя к капризу своенравного мальчика.
— Я принимаю ваше извинение, — гордо сказал Сэррей, — и очень рад, что мне не приходится сомневаться в вежливости первого лорда Шотландии.
Затем Роберт обернулся к Марии Сэйтон.
Он словно не заметил, что Мюррей в порыве злости пробормотал какое-то проклятие в его адрес.
— Леди Сэйтон, — обратился Сэррей к вспыхнувшей девушке, — королева разрешила мне выразить вам свое почтение. Она знает, что старые воспоминания, связывающие меня с королевой Шотландии, так дороги для меня, что я имею право приблизиться к ее двору без всякого политического предлога. Может быть, с моей стороны не будет слишком большой смелостью надеяться, что и вы признаете во мне преданного слугу королевы.
— Я очень рада, милорд, что вы даете мне возможность в первую же минуту нашей встречи загладить свою ошибку, — в глубоком смущении ответила Мария Сэйтон. — Во всех случаях, когда я выражала сомнение в вашей привязанности к королеве, мне приходилось краснеть за это. Вы своей преданностью неоднократно доказали, как я была неправа по отношению к вам. Я недавно лишь узнала, что мой брат своим поведением довел вас до дуэли, и прошу извинения, что осмеливалась упрекать вас с его же слов. Поэтому мне доставило особенное удовольствие, что вы согласились воспользоваться его гостеприимством.
В прежнее время несколько приветливых слов Марии Сэйтон наполнили бы душу Роберта блаженством, теперь же извинение гордой девушки и в особенности напоминание о гостеприимстве произвели на него неприятное впечатление.
— Вы ошибаетесь, леди Сэйтон, — холодно возразил Сэррей, — это не я, а граф Лейстер, случайно встретившись с лордом Сэйтоном, принял его приглашение для себя лично и своих спутников. Я никогда не ожидал и не рассчитывал быть дружески принятым кем-нибудь из членов вашей семьи, тем более, когда я узнал, до какой степени мне не доверяют в ней. Ваш брат, приняв нас, исполнил долг вежливости, и это делает ему честь, но он поставил очень определенные границы своему гостеприимству, настолько определенные, что ваша сестра совершенно игнорировала его гостей.
— Ах, теперь я понимаю, в чем дело! — сказала Мария, слегка краснея, — так вот почему у вас был такой холодно-сдержанный вид, делавший вас вовсе не похожим на прежнего пажа из Инч-Магома! Вас обидело, что Георг так встретил вас. Но вы не правы, если обвиняете в этом меня. Георг совершенно не знает иностранцев и особенно не любит англичан, вот и вся разгадка его поведения. Ну, а теперь постараемся понять друг друга, милорд, ведь мы не желаем серьезно ссориться и уже довольно много времени потратили на взаимные обвинения. Я первая протягиваю вам руку примирения. Королева нуждается в преданных друзьях более, чем когда бы то ни было, а я охотнее всего доверяю тем, кто уже успел доказать Марии Стюарт свою преданность. Вместо постоянных пикировок сделаемся честными союзниками для защиты королевы от козней недругов, будь они в лице лорда Мюррея или королевы английской.
Мария Сэйтон проговорила последние слова шепотом, но так горячо, что напомнила Роберту те дни, когда она была его идеалом.
— Чем же я могу теперь быть полезным королеве? Раньше ей грозила серьезная опасность, и тогда я мог каким-нибудь смелым поступком доказать ей свою преданность. Теперь единственная неприятность, ожидающая королеву, — это заключение брака без любви. Такого рода жертвы неизбежны для высочайших особ, и против этого мы бессильны.
— Шотландская королева не принесет в жертву политическим целям личную свободу. Она никогда не заключит брак лишь в интересах политики. Она колеблется в выборе только для того, чтобы выиграть время. Мария Стюарт также отвергнет претендента английской королевы, как это сделала с другими. Само собой разумеется, что королева Елизавета никогда не простит ей этого. Лорд Мюррей тоже станет заклятым врагом Марии Стюарт, если она выйдет замуж за какого-нибудь шотландского лорда.
— Этого не может быть! Ведь лорд Мюррей — брат Марии Стюарт! — заметил Роберт.
— Это не помешает ему сделаться еще более опасным врагом для шотландской королевы, чем граф Арран был для Марии Лотарингской, — возразила Мария Сэйтон.
— Народ сумеет защитить свою королеву от мятежников!
— Народ? — переспросила Мария Сэйтон с горькой улыбкой. — Народ ненавидит королеву за то, что она не разделяет его веры и не подчиняется обычаям страны. Поверьте мне, бедная королева беззаботно танцует на вулкане, забывая, что он каждую минуту может проснуться. Если у нее имеются друзья, то только те, которых она приобрела раньше.
— Или которых покорила теперь своей красотой, — смеясь, прибавил Роберт, глядя на оживленное лицо Дарнлея, говорившего с королевой.
Кавалькада подъехала к воротам замка Сент-Эндрю, и разговор графа Сэррея с леди Сэйтон прервался.
Во время разговора между Сэрреем и королевой у Марии Сэйтон было достаточно времени для того, чтобы оправиться от растерянности, вызванной неожиданным появлением Роберта.
Какие чувства пылали в ее груди, когда она увидела в полном расцвете красоты того человека, которого она так горячо любила, когда он был еще юношей!
По-видимому, Роберт Сэррей не был счастлив. Мария Сэйтон видела это по его серьезному лицу и грустным глазам. Она догадывалась, что именно заставило Роберта покинуть Эдинбург и в одиночестве скакать по полям и лесам.
«Неужели в его сердце еще сохранился мой образ? Неужели память о прошлом заставила его вернуться в эти места?» — думала Мария Сэйтон, и сладкая надежда зашевелилась в ее сердце.
Она видела, что королева о чем-то шепталась с Сэрреем, заметила его смущение. Мария Стюарт знала тайну сердца своей фрейлины, не говорила ли она теперь о ней? Неужели увядшему цветку ее любви суждено раскрыться вновь? Если бы в часы одиночества она сама задалась вопросом, продолжает ли она любить Сэррея, то с полной искренностью ответила бы «нет». Но довольно было увидеть его, услышать его голос — и давнее чувство воскресло вновь.
Сердце Марии Сэйтон сильно билось, глаза сияли, а лицо горело ярким румянцем, когда Роберт медленно подъезжал к ней. Его взгляд скользил по всей кавалькаде. Он мельком глянул на Марию Сэйтон и обратил внимание на графа Мюррея, который, не отрываясь, смотрел на человека, удостоившегося длинной беседы с королевой. Лорд Мюррей старался по выражению лица Роберта угадать результат разговора.
— Добро пожаловать, милорд Сэррей! — обратился лорд Джэмс к Роберту, когда тот подъехал к нему поближе. — Поздравляю вас с прекрасной мыслью захватить королеву врасплох и не дать ей таким образом возможности отвергнуть вашу просьбу. Надеюсь, что вы довольны результатом своего разговора и пошлете графу Лейстеру приятную весть, что его ожидают в Сент-Эндрю?
Сэррей почувствовал насмешку в словах Мюррея.
— Я по многим причинам не могу принять ваше поздравление, милорд, — ответил он. — Во-первых, я не искал встречи с королевой, во-вторых, никогда не вмешиваюсь в политические дела, и, в-третьих, граф Лейстер слишком горд для того, чтобы прибегать к помощи третьего лица, тем более, что его надежды связаны с желанием английской королевы.
— Вы говорите, что не вмешиваетесь в политику, — иронически заметил лорд Мюррей, — а между тем сопровождаете английских послов?
— Милорд, вы, кажется, сомневаетесь в том, что сказано совершенно ясно! — резко ответил Роберт.
— Прошу извинения! — проговорил Мюррей, точно снисходя к капризу своенравного мальчика.
— Я принимаю ваше извинение, — гордо сказал Сэррей, — и очень рад, что мне не приходится сомневаться в вежливости первого лорда Шотландии.
Затем Роберт обернулся к Марии Сэйтон.
Он словно не заметил, что Мюррей в порыве злости пробормотал какое-то проклятие в его адрес.
— Леди Сэйтон, — обратился Сэррей к вспыхнувшей девушке, — королева разрешила мне выразить вам свое почтение. Она знает, что старые воспоминания, связывающие меня с королевой Шотландии, так дороги для меня, что я имею право приблизиться к ее двору без всякого политического предлога. Может быть, с моей стороны не будет слишком большой смелостью надеяться, что и вы признаете во мне преданного слугу королевы.
— Я очень рада, милорд, что вы даете мне возможность в первую же минуту нашей встречи загладить свою ошибку, — в глубоком смущении ответила Мария Сэйтон. — Во всех случаях, когда я выражала сомнение в вашей привязанности к королеве, мне приходилось краснеть за это. Вы своей преданностью неоднократно доказали, как я была неправа по отношению к вам. Я недавно лишь узнала, что мой брат своим поведением довел вас до дуэли, и прошу извинения, что осмеливалась упрекать вас с его же слов. Поэтому мне доставило особенное удовольствие, что вы согласились воспользоваться его гостеприимством.
В прежнее время несколько приветливых слов Марии Сэйтон наполнили бы душу Роберта блаженством, теперь же извинение гордой девушки и в особенности напоминание о гостеприимстве произвели на него неприятное впечатление.
— Вы ошибаетесь, леди Сэйтон, — холодно возразил Сэррей, — это не я, а граф Лейстер, случайно встретившись с лордом Сэйтоном, принял его приглашение для себя лично и своих спутников. Я никогда не ожидал и не рассчитывал быть дружески принятым кем-нибудь из членов вашей семьи, тем более, когда я узнал, до какой степени мне не доверяют в ней. Ваш брат, приняв нас, исполнил долг вежливости, и это делает ему честь, но он поставил очень определенные границы своему гостеприимству, настолько определенные, что ваша сестра совершенно игнорировала его гостей.
— Ах, теперь я понимаю, в чем дело! — сказала Мария, слегка краснея, — так вот почему у вас был такой холодно-сдержанный вид, делавший вас вовсе не похожим на прежнего пажа из Инч-Магома! Вас обидело, что Георг так встретил вас. Но вы не правы, если обвиняете в этом меня. Георг совершенно не знает иностранцев и особенно не любит англичан, вот и вся разгадка его поведения. Ну, а теперь постараемся понять друг друга, милорд, ведь мы не желаем серьезно ссориться и уже довольно много времени потратили на взаимные обвинения. Я первая протягиваю вам руку примирения. Королева нуждается в преданных друзьях более, чем когда бы то ни было, а я охотнее всего доверяю тем, кто уже успел доказать Марии Стюарт свою преданность. Вместо постоянных пикировок сделаемся честными союзниками для защиты королевы от козней недругов, будь они в лице лорда Мюррея или королевы английской.
Мария Сэйтон проговорила последние слова шепотом, но так горячо, что напомнила Роберту те дни, когда она была его идеалом.
— Чем же я могу теперь быть полезным королеве? Раньше ей грозила серьезная опасность, и тогда я мог каким-нибудь смелым поступком доказать ей свою преданность. Теперь единственная неприятность, ожидающая королеву, — это заключение брака без любви. Такого рода жертвы неизбежны для высочайших особ, и против этого мы бессильны.
— Шотландская королева не принесет в жертву политическим целям личную свободу. Она никогда не заключит брак лишь в интересах политики. Она колеблется в выборе только для того, чтобы выиграть время. Мария Стюарт также отвергнет претендента английской королевы, как это сделала с другими. Само собой разумеется, что королева Елизавета никогда не простит ей этого. Лорд Мюррей тоже станет заклятым врагом Марии Стюарт, если она выйдет замуж за какого-нибудь шотландского лорда.
— Этого не может быть! Ведь лорд Мюррей — брат Марии Стюарт! — заметил Роберт.
— Это не помешает ему сделаться еще более опасным врагом для шотландской королевы, чем граф Арран был для Марии Лотарингской, — возразила Мария Сэйтон.
— Народ сумеет защитить свою королеву от мятежников!
— Народ? — переспросила Мария Сэйтон с горькой улыбкой. — Народ ненавидит королеву за то, что она не разделяет его веры и не подчиняется обычаям страны. Поверьте мне, бедная королева беззаботно танцует на вулкане, забывая, что он каждую минуту может проснуться. Если у нее имеются друзья, то только те, которых она приобрела раньше.
— Или которых покорила теперь своей красотой, — смеясь, прибавил Роберт, глядя на оживленное лицо Дарнлея, говорившего с королевой.
Кавалькада подъехала к воротам замка Сент-Эндрю, и разговор графа Сэррея с леди Сэйтон прервался.
II
Маленький старый дворец был окружен стрелками конвоя ее величества. Здесь было так мало места, что с трудом верилось, что можно разместить весь двор. Однако Мария Стюарт хотела именно здесь прожить несколько недель в тишине и покое.
Роберту отвели комнату во дворце, и он очень скоро почувствовал, что каприз королевы видеть его в Сент Эндрю был для него в достаточной мере тягостным. Очевидно, она хотела сблизить его с Марией Сэйтон, пригласив его разделить их уединение. Однако ни Сэррей, ни фрейлина королевы не искали дальнейших встреч. Любовь Роберта погасла, и Мария Сэйтон ясно почувствовала это. Шотландские лорды вежливо относились к гостю королевы, но не выказывали ни малейшего поползновения сойтись с ним поближе. Таким образом, Роберт жил во дворце как пленник.
Однажды Сэррей стоял у окна и наблюдал, как распаковывали вещи, привезенные для королевы из Эдинбурга. Вдруг он услышал чей-то радостный возглас, поспешил выйти во двор и заметил молодую девушку, очень похожую на Филли, но она тотчас же скрылась в комнатах дворца.
— Вы кого-нибудь ищете? — спросил Сэррея чей-то мелодичный голос с иностранным акцентом.
— Да, одну молодую девушку, которая только что была здесь! — ответил Роберт. — Я даже думаю, не приснилось ли мне это, так…
— Нет, не приснилось, милорд Сэррей, — прервал его иностранец. — Я подозреваю, что эта молодая девушка напомнила вам вашего пажа.
Роберт с удивлением взглянул на итальянца, Давида Риччио, который был трубадуром и секретарем королевы.
— Откуда вы знаете это? — смущенно спросил он.
— Я знаю достаточно, милорд, для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Филли сделалась самым доверенным лицом леди Сэйтон с того самого времени, как королева приняла под свое покровительство любимицу Кастеляра.
— Да благословит ее Бог!… Филли — самое честное, благородное существо! — сказал Роберт. — Много тяжелого пришлось пережить ей в своей жизни, и, к сожалению, ни мне, ни моим друзьям не удалось улучшить ее судьбу. Я знаю одного человека, которого страшно беспокоит участь Филли, когда я сообщу, ему что королева взяла ее под свое покровительство, Мария Стюарт приобретет нового верного друга.
— Вы, вероятно, говорите о Вальтере Брае? — заметил Риччио. — Как видите, я достаточно посвящен в ваши дела. Значит, вы знали, что Филли — девушка?
— Да, синьор, я догадался об этом, — ответил Сэррей, — но уверяю вас честью, что для меня не было существа чище и священнее, чем эта девушка.
— Я верю вам, милорд!… Королева поражалась вашим благородством и осуждала леди Сэйтон, когда та выражала сомнение по этому поводу.
— Леди Сэйтон слишком часто выражает сомнения!
Показался лакей и пригласил Роберта к королеве.
— Синьор, — обратился Сэррей к итальянцу, прежде чем последовал за лакеем, — у меня к вам просьба. Вы — доверенное лицо королевы, намекните ей, пожалуйста, при случае, что у меня есть в Англии дела, требующие моего возвращения.
— Мы еще поговорим об этом, — быстро произнес Риччио, — услуга за услугу.
— Тогда я вечером приду к вам! — пообещал Роберт и поднялся по лестнице в апартаменты королевы.
Мария Стюарт была одна.
— Мне кажется, вы скучаете здесь, милорд, — обратилась она к Сэррею, — чтобы развлечь вас, я приготовила вам сюрприз. Мой придворный колдун превратил вашего пажа, которого вы оставили в Париже, в прелестную, но немую девушку. Желаете вы видеть Филли?
— С радостью, ваше величество. Мои друзья и я обязаны ей жизнью! — сказал Роберт.
— Ах, какое это было грустное время, милорд! Самый ужасный день в моей жизни был тот, когда я вырвала Филли из рук ее страшного врага. Но, прежде чем вы увидитесь со своим бывшим пажем, я хотела бы знать, что вы думаете о будущем Филли.
— В этом деле решающий голос может иметь лишь тот, кому Филли была отдана ребенком! — ответил Роберт. — Во всяком случае, ваше величество, Вальтер Брай будет счастлив, когда узнает, что Филли находится под вашим покровительством.
— А вы любите Филли? — спросила королева. — Глаза ее сияют, как звезды, когда она слышит ваше имя.
— Филли дорога мне, как дочь, ваше величество, как дитя моего лучшего друга! — воскликнул Роберт.
— Вы, верно, никогда не любили, милорд?
— Нет, ваше величество, я любил, когда был молод.
В эту минуту в комнату вошла Мария Сэйтон с Филли. Услышав последние слова Сэррея, она зарделась ярким румянцем, но Роберт не заметил этого, так как его внимание было обращено только на Филли. Он широко открыл свои объятия, и девушка, рыдая, бросилась ему на шею.
В тот же день вечером Сэррей вошел в комнату Риччио.
— Вот вам и не понадобилось мое ходатайство; королева предупреждает ваше желание и просит вас передать это приглашение графу Лейстеру, — сказал итальянец.
— Его приглашают сюда? — удивился Сэррей.
— Да, — спокойно ответил итальянец.
— Королева отдает ему свою руку?
— Боже сохрани! Мария Шотландская никогда не подчинится Елизавете Английской.
— Этого и не случилось бы, если бы она сделалась женой Лейстера, — возразил Сэррей. — Но если королева отвергает его предложение, зачем же она приглашает его сюда?
— Милорд, королева питает к вам безграничное доверие, а все то, что я слышал о вас, так глубоко трогает меня, что я решаюсь просить вашей дружбы, несмотря на то, что я — простой человек, а вы — высокорожденный лорд.
— Синьор, я ценю в человеке не его происхождение, а благородство характера!
— Я знаю это и потому позволю себе высказать вам свои самые затаенные мысли. Вы — друг графа Лейстера и значит, можете оказать нашей несчастной королеве — самой прекраснейшей женщине во всем мире — большую услугу. Королева любит своего двоюродного брата, милорд; сообщаю это вам, как величайшую тайну, — предупредил Риччио.
— Графа Дарнлея? — спросил Сэррей.
— Да, и он из всех претендентов самый подходящий для королевы. Он один в состоянии защитить ее от грозящей ей опасности.
— Это кажется мне странным, — выразил сомнение Роберт. — Он не похож на воинственного героя.
— Этого и не требуется! Важно то, что королева выйдет замуж за человека, не возбуждающего ничьей ненависти. Королева — католичка. Если она отдаст свою руку Дарнлею, все католики — все эти графы Этоли, Сэйтоны и сотни других — будут на ее стороне. Римский папа и все католические государства протянут ей руку помощи и будут оберегать ее трон. Мюррей и Лэтинггон хотели бы, чтобы она вышла за англичанина. Мюррей прекрасно знает, что возведение шотландского лорда в титул мужа королевы грозит ему полным падением, и поэтому он поддерживает графа Лейстера. Между тем, если граф Лейстер окажется в роли представителя шотландского народа, он не вызовет никакого доверия ни у кого, и королева погибнет вместе с ним, лишившись поддержки католиков.
— Я понимаю вас, — заметил Роберт, — но совершенно не догадываюсь, чего вы хотите от меня!
— Королева боится Мюррея, — продолжал итальянец, — она знает, что ее брат убьет Дарнлея, раньше чем она выйдет за него замуж, если только Мюррей пронюхает правду. Для того, чтобы обмануть его, она прибегает к вашей помощи и приглашает сюда графа Лейстера под видом жениха. Не судите ее строго за этот обман! Подумайте, какими сетями опутывают эту несчастную, но дивную женщину! У нее отнимают счастье жизни; для удовлетворения личных честолюбивых замыслов приносят в жертву ее свободу! Разберите поступок своего друга — лорда Дэдлея, Что им руководит — любовь или честолюбие? Истинное чувство к королеве или желание угодить Елизавете? Отказ Марии Стюарт заденет только его тщеславие, а вовсе не сердце. Если королева обманет Лейстера, то этот обман будет больше относиться к Елизавете, так как граф является лишь игрушкой в ее руках. Разве можно назвать преступлением желание обмануть коварство Елизаветы для того, чтобы спасти Марию Стюарт? О, вы не знаете, сколько перестрадала эта чудная женщина, как страшно унижали и мучили ее! Я знаю, что значит честь, и тем не менее ни минуты не остановился бы перед преступлением, если бы знал, что могу этим облегчить жизнь Марии Стюарт. Вы смотрите на меня с удивлением? Вы, вероятно, думаете, что я настолько безумен, что позволил себе влюбиться в королеву? Ну, что же, может быть, это и так! Но тогда это безумие — мое счастье, моя гордость, мое блаженство! Да, я молюсь на Марию Стюарт, люблю ее, как несчастный смертный любит недосягаемое солнце. Я люблю ее со всей страстью, какую только может вместить в себя человеческое сердце, и в то же время интригую против графа Лейстера; я хочу, чтобы она была женой человека, которого любит. Понимаете ли вы такое чувство? Нет, вы этого не понимаете, вы холодны как лед, вас не трогают ни слезы леди Сэйтон, ни нежные улыбки Филли…
— С чего вы это взяли? — прервал итальянца Роберт, и яркая краска залила его щеки. — Впрочем, я понимаю: вам хочется, чтобы я проникся чувством любви и помог вам, пожертвовав дружбой, обмануть Дэдлея.
— Да, я хотел бы, чтобы вы поняли, что значит настоящая любовь, настоящая страсть.
— Я понимаю! — тихо прошептал Сэррей. — Вот вам моя рука, синьор. Я передам Лейстеру письмо королевы и скажу ему, что от его поведения зависит покорение ее сердца. Иначе я не могу поступить, не нарушив долга дружбы.
— Этого достаточно! Не следует только совершенно отнимать у него надежду! — воскликнул Риччио. — Вы говорите, что тоже любите? А между тем даже королева заметила, что холод вашего сердца заморозил стены замка. Кто же она такая? Доверьте мне свою тайну! Я полюбил вас с этой минуты, как родного брата. Впрочем, что же я спрашиваю! Если вы не любите Марию Сэйтон, не замечаете Филли, то ваше сердце может принадлежать лишь одной женщине — той, которую обожают все. Вы любите Марию Шотландскую?
— Я преклоняюсь перед Марией Стюарт, боготворю и люблю ее, как своего милостивого друга, — ответил Сэррей. — Я не отталкиваю Марию Сэйтон, потому что любил ее всеми силами первой любви, но она сама убила мое чувство, я люблю Филли как дорогое несчастное дитя; но мое сердце томится страстной любовью к одной девушке, которую я видел лишь мельком, с которой я никогда не говорил и, вероятно, больше не встречусь. Ее образ разбудил в моем сердце юношеские мечты, я люблю этот образ всеми фибрами души, но не могу даже мечтать о взаимности. Не спрашивайте меня, Риччио, могу ли я понять любовь!…
— Да, я больше не стану ни о чем спрашивать. Вы тоже носите святыню в своем сердце. Желаю вам, милорд, быть более счастливым, чем я. Впрочем, я и не желаю другого счастья, так как мое страдание — вместе с тем и моя отрада. Мы, певцы, всегда стремимся к недосягаемому.
Никогда еще Сэррей не пожимал настолько сердечно руки мужчины, как сделал это при прощании с Давидом Риччио, и, когда он скакал по болотам, в его сердце продолжали звучать слова: «В моей душе вечно стонет жалоба».

Глава восьмая
СТАРАЯ НЕНАВИСТЬ

I
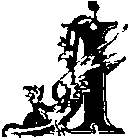 Дэдлей Лейстер был немало поражен, когда узнал от гонца королевы, что его друг Сэррей приглашен в Сент-Эндрю, тогда как его посланника, королевы Елизаветы и претендента на руку Марии Стюарт, оставили в Эдинбурге, словно он являлся лишним, имеющим второстепенное значение человеком. Оскорбленное самолюбие невольно переносило дурные чувства на того, кому было оказано предпочтение, и в душе поднималось подозрение, уж не стремится ли Сэррей сам к той цели, которую Елизавета наметила ему, Дэдлею?
Ему припомнилось предсказание, сделанное когда-то старухой Гут в подземелье, и, под влиянием вдруг родившегося подозрения, первой мыслью Дэдлея было то, что Сэррей только потому и отговаривал его, что являлся его соперником, а значит, подло изменил обязанностям дружбы. И так поступал человек, которого он всегда считал образцом рыцарства, благородству мыслей которого он постоянно дивился! Тайком, предательски крадучись, он старался за спиной друга украсть его добычу, а теперь, быть может, сидел в Сент-Эндрю и рассказывал Марии, как граф Лейстер похвалялся милостями Елизаветы!…
Первым, кому Дэдлей излил свое недовольство, оказался Сэйтон. Он сообщил ему, что его гость вытребован в Сент-Эндрю к королеве, причем даже не счел нужным известить об этом их, на которых он, вероятно, уже смотрит, как на своих подданных.
— Посмотрим, — горько рассмеялся Сэйтон, — придется ли шотландская корона на английский череп, но до тех пор, пока на свете существуют Сэйтоны, голове, рискнувшей на подобную примерку, недолго удастся покрасоваться на плечах.
— У вас,конечно, имеется двойная причина ненавидеть Сэррея, — с горькой усмешкой сказал Лейстер. — Он хвастался расположением вашей сестры, а теперь собирается прыгнуть выше герба Сэйтонов.
При этих словах лицо Георга исказилось бешенством.
— Клянусь святым Андреевским крестом, — мрачно пробормотал он, — если вы лжете, я вырву у вас язык и прибью его к воротам, хотя мы и пили с вами из одного кубка. Если же вы говорите правду, то пусть я издохну, как собака, если не запорю Сэррея плеткой до смерти.
Лейстер закусил губу, он понял, что зашел слишком далеко, и, пристыженный, но вместе с тем и рассерженный этими словами, схватился за шпагу.
— Милорд Сэйтон, — сказал он, — если бы я не видел, что ваши слова вызваны просто слепой яростью, то доказал бы вам, что англичанин отвечает оружием на угрозы. Но вы совершенно неправильно поняли меня. Роберт Сэррей никогда не произнес чего-либо оскорбительного для чести вашей сестры, ведь расположением благородной дамы всегда позволительно хвастаться, особенно когда являешься не кем-либо, а Сэрреем. И оскорбление имело бы место только с того момента, когда Сэррей изменил бы предмету своего обожания.
Сэйтон был вдвойне недоволен этим ответом.
— Милорд, — сказал он, — не годится играть с порохом, у меня в жилах течет слишком горячая кровь, чтобы я мог вступить в переговоры о том, задевает или не задевает что-либо чести Сэйтонов. Будьте добры уважать мое гостеприимство и не говорить о таких вещах, рассуждать о которых я могу, только имея в руке меч или секиру. Для моей сестры, может быть, совершенно безразлично, состоит или нет в числе ее поклонников какой-нибудь лорд Сэррей, но я считаю оскорблением, если мне говорят, будто кто- нибудь из англичан может похвастаться, что леди Сэйтон забыла видеть в нем врага своей родины.
С этими словами Сэйтон поклонился и вышел. Дэдлей с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед, но сквозь это презрение явно проглядывали стыд и ненависть бессильной злобы. Он готов был побить себя самого за то, что вызвал эту сцену и окончил ее, не вызвав Сэйтона на поединок, но чувствовал, что для этого у него не хватило бы мужества.
В таком настроении, которое с каждым днем становилось все невыносимее, его застал Сэррей. Неожиданно увидев друга, Дэдлей еще более смутился и забеспокоился, он смущенно пошел к нему навстречу.
— А! — улыбался Сэррей. — Ты уже чувствуешь, что я пришел с добрыми вестями! Ты, конечно, рассчитывал на то, что я как твой друг подготовлю почву для исполнения твоих честолюбивых замыслов!
Дэдлей все более и более приходил в замешательство. Он даже и не догадывался, что испытующий взгляд друга с беспокойством старался прочитать на его лице, заденет ли тот маленький обман, который он приготовил для него, только его честолюбие, или также и сердце?
— Помнишь, Дэдлей, — продолжал Сэррей, — как еще в моем доме я спрашивал тебя, одобряет ли твое сердце те планы, которые замыслило твое честолюбие? Настал час решения. Загляни еще раз в свое сердце. Женщина, подобная Марии Стюарт, хочет быть завоеванной, а ее любовь должна быть заслуженной. Если в твоей душе горят одни только честолюбивые замыслы, то ты спокойнее можешь отнестись к решению, но если в дело замешано твое сердце, то когда-нибудь потом ты, может быть, станешь с большей горечью оплакивать победу, чем теперь — отказ!
— К чему такое торжественное предисловие? — спросил Лейстер. — Ты знаешь, что у меня любовь и честолюбие горят общим пламенем. Может быть, ты собираешься сделать мне какое-нибудь особенное признание? Быть может, прекрасные очи Марии растопили ледяную кору вокруг твоего сердца и ты собираешься принести великую жертву дружбе, отказавшись от своей страсти, если я признаюсь тебе в своей любви к ней?
— Что ты говоришь! Ты воображаешь, что я стал твоим соперником? Нет, будь уверен, что если бы даже Мария Шотландская была той женщиной, которую я мог бы любить, то корона на ее голове заставила бы для меня потускнеть блеск ее очей. Я спрашиваю тебя совсем по другим причинам. Мария относится к тебе подозрительно потому, что тебя рекомендует Елизавета. От того, кого Мария выберет себе в супруги, она требует прежде всего любви, о тебе же ей известно, что ты — фаворит Елизаветы, что в Париже ты одерживал немало побед; она знает даже то, что я до сих пор скрывал от тебя, хотя теперь мне и придется открыть тебе это… Помнишь нашего пажа?
— Конечно! Разве ты опять нашел Филли?
— Да, я нашел ее. Филли — девушка.
— Девушка?!
— Да. Она сейчас находится на службе у королевы. Филли из-за тебя стала несчастной: она навлекла на себя ненависть Екатерины и подверглась пытке. Это она спасла тебя, когда ты лежал в объятиях Фаншон.
— Это я знаю, и если я могу сделать что-нибудь, чтобы отплатить ей за услугу, то сделаю это с радостью.
— Дэдлей! Эта бедная девушка уже тогда любила тебя! Быть может, ты презрительно улыбаешься про себя, как это уродливое ведьмино отродье осмелилось поднять на тебя влюбленные глаза. Но это ведьмино отродье рисковало жизнью. Филли чиста и добродетельна, это — благородная, верная душа. Но вот чего ты не знаешь: ее внешность была искусственно искажена, и теперь на ее нежное чело ниспадают шелковистые белокурые волосы, а глаз чарует волшебная стройность ее стана, и она по-прежнему любит тебя. Говорю это тебе в предупреждение. Прибавлю еще, что все в замке думают, что из нас троих для Филли всего милее был я, так как ее преданные уста ни разу не обмолвились ни единым словечком о тебе. Так смотри же, признаваясь королеве в любви, берегись показать ей, что понимаешь истинное значение взглядов Филли! У женщин острое зрение, и если Мария поймет, что среди ее служанок у нее есть соперница, то тебе придется с большим позором покинуть Сент-Эндрю.
— Значит, королева приглашает меня туда?
— Я принес тебе письмо от нее. Но сначала скажу тебе, что Филли священна для меня как дочь лучшего друга.
— Ты просто невыносим со своими опасениями, ты словно завидуешь мне, что я завоевал симпатии этого маленького чертенка.
— Я опасаюсь лишь того, что ты не послушаешься моих предупреждений и повредишь этим только самому себе. Не пытайся опять, как и прежде, пользоваться услугами Филли и с ее помощью узнавать намерения Марии.
— Ах, Боже, как ты надоел мне с этой Филли! — нетерпеливо пробормотал Лейстер. — Где письмо королевы?
Сэррей передал приятелю письмо, и тот с нетерпением вскрыл его; но едва успел пробежать глазами послание, как его лицо осветилось торжеством.
— Она хочет видеть меня, хочет лично переговорить со мной, а потом уже решить. Теперь жребий брошен, и моя участь решена! — возликовал Дэдлей. — Да стоит мне протянуть женщине хотя бы кончики своих пальцев, и она погибнет. Но я не хочу обмануть доверие Марии; она будет королевой моего сердца, а во главе ее войск я укажу Англии шотландскую границу. Сэррей, я буду королем и назову своим лучший цветок всего мира.
— Не торжествуй так преждевременно! — остановил его Сэррей с печальной улыбкой, потому что знал, как горько придется Лейстеру разочароваться в своих надеждах. — Одновременно с тобой руки Марии добивается также лорд Дарнлей. Она только сообщила, что хочет повидаться с тобой.
— Приз, который получаешь после трудной борьбы, особенно ценен! Роберт, неужели ты не веришь, что мне удастся взять верх над каким-то шотландским пьяницей? Клянусь Богом, я был бы способен приписать все это твоей зависти, если бы не видел примеров твоей непоколебимой добродетели. Нечто подобное уже приходило мне в голову, когда ты так неожиданно исчез и я узнал, что ты отправился в Сент-Эндрю. Я говорил относительно этого с Сэйтоном. Прости! Это было неосторожно, но лучше, если ты узнаешь об этом от меня, а не от него! Мне стало не по себе, когда ты ускакал, не простившись, но теперь я уже раскаиваюсь в своей неосторожности. Лорд ответил мне, словно мужик, и мы чуть не обнажили мечи друг против друга…
— Из-за того, что он не хочет, чтобы рука Марии Стюарт досталась англичанину?
— Ну да! Кроме того, он знает, что ты был поклонником его сестры.
Взор Сэррея так и впился в Дэдлея.
— Неужели Сэйтон сказал тебе, что я любил его сестру? Неужели он решился хоть чем-нибудь опорочить имя Роберта Сэррея, и ты в ответ на это промолчал?
— Роберт, — в полном замешательстве ответил Лейстер, — лишь я один виноват, если он взбеленился. Мне очень захотелось намекнуть этому неотесанному парню, что тебе есть что порассказать о его сестре, а он вел себя так, как будто Сэйтон слишком высока для Сэррея.
— Дэдлей! Всю жизнь я считал самой большой подлостью, если мужчина хвастается победами, которые должны быть для него священными. Ты знал, как я боролся со своим чувством, как наконец я справился с ним… И ты открыл мою тайну для издевательства этому высокомерному болвану! Я порываю с тобой! Отныне наши дороги лежат врозь, потому что я уже никогда более не буду доверять тебе, ведь тебе не дорога моя честь.
— Роберт…
— Не будем напрасно оскорблять друг друга. Тайна, которой я тебе не доверял, которую ты мог только отгадать, оказалась для тебя удобным поводом вызвать на ссору человека, надменность которого тебе отлично известна. И ты предал этим не только друга, но и Марию Сэйтон, да и меня самого выставил перед ней в некрасивом виде. Я не упрекаю тебя, так как могу обвинять лишь себя, ведь я уже давно должен был заметить, что натуры, настолько различные, как мы, должны сторониться интимного сближения друг с другом. Скажу тебе откровенно, это мне пришло в голову еще тогда, когда ты легкомысленно говорил о том, кому бы — Елизавете или Марии — подарить свое сердце.
— Это не очень-то приятно! — засмеялся Лейстер, раздраженный тем, что Сэррей не оценил его откровенного признания, и оскорбленный тем, что тот порывал с ним дружбу.
— Милорд Лейстер, — холодно сказал Сэррей, — тот, кто так легко может расставаться с другом, подобно тому, как он легко меняет любовниц, никогда не возвысится до понимания истинной дружбы… Ну, да что говорить!… Шотландская или английская корона скоро заставит милорда Лейстера забыть о тех страницах прошлого, которые связывали его с Робертом Сэрреем.
С этими словами он вышел из комнаты.
Лейстер чувствовал себя так, словно от него отлетал его добрый гений, но оскорбленное самолюбие не позволяло броситься вслед за другом и просить его о прощении.
— Ступай! — пробормотал он. — Ты презираешь меня только потому, что еще не веришь в меня. Но когда мою голову украсит шотландская корона, когда смеющийся взор Марии скажет тебе, что она счастлива, когда в злобном бессилии разразится гнев Елизаветы, тогда я протяну тебе руку и крикну, что не забыл того времени, когда мы с тобой были друзьями. Тогда я покажу своим вассалам человека, которого уважаю больше всех на свете!
Дэдлей Лейстер был немало поражен, когда узнал от гонца королевы, что его друг Сэррей приглашен в Сент-Эндрю, тогда как его посланника, королевы Елизаветы и претендента на руку Марии Стюарт, оставили в Эдинбурге, словно он являлся лишним, имеющим второстепенное значение человеком. Оскорбленное самолюбие невольно переносило дурные чувства на того, кому было оказано предпочтение, и в душе поднималось подозрение, уж не стремится ли Сэррей сам к той цели, которую Елизавета наметила ему, Дэдлею?
Ему припомнилось предсказание, сделанное когда-то старухой Гут в подземелье, и, под влиянием вдруг родившегося подозрения, первой мыслью Дэдлея было то, что Сэррей только потому и отговаривал его, что являлся его соперником, а значит, подло изменил обязанностям дружбы. И так поступал человек, которого он всегда считал образцом рыцарства, благородству мыслей которого он постоянно дивился! Тайком, предательски крадучись, он старался за спиной друга украсть его добычу, а теперь, быть может, сидел в Сент-Эндрю и рассказывал Марии, как граф Лейстер похвалялся милостями Елизаветы!…
Первым, кому Дэдлей излил свое недовольство, оказался Сэйтон. Он сообщил ему, что его гость вытребован в Сент-Эндрю к королеве, причем даже не счел нужным известить об этом их, на которых он, вероятно, уже смотрит, как на своих подданных.
— Посмотрим, — горько рассмеялся Сэйтон, — придется ли шотландская корона на английский череп, но до тех пор, пока на свете существуют Сэйтоны, голове, рискнувшей на подобную примерку, недолго удастся покрасоваться на плечах.
— У вас,конечно, имеется двойная причина ненавидеть Сэррея, — с горькой усмешкой сказал Лейстер. — Он хвастался расположением вашей сестры, а теперь собирается прыгнуть выше герба Сэйтонов.
При этих словах лицо Георга исказилось бешенством.
— Клянусь святым Андреевским крестом, — мрачно пробормотал он, — если вы лжете, я вырву у вас язык и прибью его к воротам, хотя мы и пили с вами из одного кубка. Если же вы говорите правду, то пусть я издохну, как собака, если не запорю Сэррея плеткой до смерти.
Лейстер закусил губу, он понял, что зашел слишком далеко, и, пристыженный, но вместе с тем и рассерженный этими словами, схватился за шпагу.
— Милорд Сэйтон, — сказал он, — если бы я не видел, что ваши слова вызваны просто слепой яростью, то доказал бы вам, что англичанин отвечает оружием на угрозы. Но вы совершенно неправильно поняли меня. Роберт Сэррей никогда не произнес чего-либо оскорбительного для чести вашей сестры, ведь расположением благородной дамы всегда позволительно хвастаться, особенно когда являешься не кем-либо, а Сэрреем. И оскорбление имело бы место только с того момента, когда Сэррей изменил бы предмету своего обожания.
Сэйтон был вдвойне недоволен этим ответом.
— Милорд, — сказал он, — не годится играть с порохом, у меня в жилах течет слишком горячая кровь, чтобы я мог вступить в переговоры о том, задевает или не задевает что-либо чести Сэйтонов. Будьте добры уважать мое гостеприимство и не говорить о таких вещах, рассуждать о которых я могу, только имея в руке меч или секиру. Для моей сестры, может быть, совершенно безразлично, состоит или нет в числе ее поклонников какой-нибудь лорд Сэррей, но я считаю оскорблением, если мне говорят, будто кто- нибудь из англичан может похвастаться, что леди Сэйтон забыла видеть в нем врага своей родины.
С этими словами Сэйтон поклонился и вышел. Дэдлей с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед, но сквозь это презрение явно проглядывали стыд и ненависть бессильной злобы. Он готов был побить себя самого за то, что вызвал эту сцену и окончил ее, не вызвав Сэйтона на поединок, но чувствовал, что для этого у него не хватило бы мужества.
В таком настроении, которое с каждым днем становилось все невыносимее, его застал Сэррей. Неожиданно увидев друга, Дэдлей еще более смутился и забеспокоился, он смущенно пошел к нему навстречу.
— А! — улыбался Сэррей. — Ты уже чувствуешь, что я пришел с добрыми вестями! Ты, конечно, рассчитывал на то, что я как твой друг подготовлю почву для исполнения твоих честолюбивых замыслов!
Дэдлей все более и более приходил в замешательство. Он даже и не догадывался, что испытующий взгляд друга с беспокойством старался прочитать на его лице, заденет ли тот маленький обман, который он приготовил для него, только его честолюбие, или также и сердце?
— Помнишь, Дэдлей, — продолжал Сэррей, — как еще в моем доме я спрашивал тебя, одобряет ли твое сердце те планы, которые замыслило твое честолюбие? Настал час решения. Загляни еще раз в свое сердце. Женщина, подобная Марии Стюарт, хочет быть завоеванной, а ее любовь должна быть заслуженной. Если в твоей душе горят одни только честолюбивые замыслы, то ты спокойнее можешь отнестись к решению, но если в дело замешано твое сердце, то когда-нибудь потом ты, может быть, станешь с большей горечью оплакивать победу, чем теперь — отказ!
— К чему такое торжественное предисловие? — спросил Лейстер. — Ты знаешь, что у меня любовь и честолюбие горят общим пламенем. Может быть, ты собираешься сделать мне какое-нибудь особенное признание? Быть может, прекрасные очи Марии растопили ледяную кору вокруг твоего сердца и ты собираешься принести великую жертву дружбе, отказавшись от своей страсти, если я признаюсь тебе в своей любви к ней?
— Что ты говоришь! Ты воображаешь, что я стал твоим соперником? Нет, будь уверен, что если бы даже Мария Шотландская была той женщиной, которую я мог бы любить, то корона на ее голове заставила бы для меня потускнеть блеск ее очей. Я спрашиваю тебя совсем по другим причинам. Мария относится к тебе подозрительно потому, что тебя рекомендует Елизавета. От того, кого Мария выберет себе в супруги, она требует прежде всего любви, о тебе же ей известно, что ты — фаворит Елизаветы, что в Париже ты одерживал немало побед; она знает даже то, что я до сих пор скрывал от тебя, хотя теперь мне и придется открыть тебе это… Помнишь нашего пажа?
— Конечно! Разве ты опять нашел Филли?
— Да, я нашел ее. Филли — девушка.
— Девушка?!
— Да. Она сейчас находится на службе у королевы. Филли из-за тебя стала несчастной: она навлекла на себя ненависть Екатерины и подверглась пытке. Это она спасла тебя, когда ты лежал в объятиях Фаншон.
— Это я знаю, и если я могу сделать что-нибудь, чтобы отплатить ей за услугу, то сделаю это с радостью.
— Дэдлей! Эта бедная девушка уже тогда любила тебя! Быть может, ты презрительно улыбаешься про себя, как это уродливое ведьмино отродье осмелилось поднять на тебя влюбленные глаза. Но это ведьмино отродье рисковало жизнью. Филли чиста и добродетельна, это — благородная, верная душа. Но вот чего ты не знаешь: ее внешность была искусственно искажена, и теперь на ее нежное чело ниспадают шелковистые белокурые волосы, а глаз чарует волшебная стройность ее стана, и она по-прежнему любит тебя. Говорю это тебе в предупреждение. Прибавлю еще, что все в замке думают, что из нас троих для Филли всего милее был я, так как ее преданные уста ни разу не обмолвились ни единым словечком о тебе. Так смотри же, признаваясь королеве в любви, берегись показать ей, что понимаешь истинное значение взглядов Филли! У женщин острое зрение, и если Мария поймет, что среди ее служанок у нее есть соперница, то тебе придется с большим позором покинуть Сент-Эндрю.
— Значит, королева приглашает меня туда?
— Я принес тебе письмо от нее. Но сначала скажу тебе, что Филли священна для меня как дочь лучшего друга.
— Ты просто невыносим со своими опасениями, ты словно завидуешь мне, что я завоевал симпатии этого маленького чертенка.
— Я опасаюсь лишь того, что ты не послушаешься моих предупреждений и повредишь этим только самому себе. Не пытайся опять, как и прежде, пользоваться услугами Филли и с ее помощью узнавать намерения Марии.
— Ах, Боже, как ты надоел мне с этой Филли! — нетерпеливо пробормотал Лейстер. — Где письмо королевы?
Сэррей передал приятелю письмо, и тот с нетерпением вскрыл его; но едва успел пробежать глазами послание, как его лицо осветилось торжеством.
— Она хочет видеть меня, хочет лично переговорить со мной, а потом уже решить. Теперь жребий брошен, и моя участь решена! — возликовал Дэдлей. — Да стоит мне протянуть женщине хотя бы кончики своих пальцев, и она погибнет. Но я не хочу обмануть доверие Марии; она будет королевой моего сердца, а во главе ее войск я укажу Англии шотландскую границу. Сэррей, я буду королем и назову своим лучший цветок всего мира.
— Не торжествуй так преждевременно! — остановил его Сэррей с печальной улыбкой, потому что знал, как горько придется Лейстеру разочароваться в своих надеждах. — Одновременно с тобой руки Марии добивается также лорд Дарнлей. Она только сообщила, что хочет повидаться с тобой.
— Приз, который получаешь после трудной борьбы, особенно ценен! Роберт, неужели ты не веришь, что мне удастся взять верх над каким-то шотландским пьяницей? Клянусь Богом, я был бы способен приписать все это твоей зависти, если бы не видел примеров твоей непоколебимой добродетели. Нечто подобное уже приходило мне в голову, когда ты так неожиданно исчез и я узнал, что ты отправился в Сент-Эндрю. Я говорил относительно этого с Сэйтоном. Прости! Это было неосторожно, но лучше, если ты узнаешь об этом от меня, а не от него! Мне стало не по себе, когда ты ускакал, не простившись, но теперь я уже раскаиваюсь в своей неосторожности. Лорд ответил мне, словно мужик, и мы чуть не обнажили мечи друг против друга…
— Из-за того, что он не хочет, чтобы рука Марии Стюарт досталась англичанину?
— Ну да! Кроме того, он знает, что ты был поклонником его сестры.
Взор Сэррея так и впился в Дэдлея.
— Неужели Сэйтон сказал тебе, что я любил его сестру? Неужели он решился хоть чем-нибудь опорочить имя Роберта Сэррея, и ты в ответ на это промолчал?
— Роберт, — в полном замешательстве ответил Лейстер, — лишь я один виноват, если он взбеленился. Мне очень захотелось намекнуть этому неотесанному парню, что тебе есть что порассказать о его сестре, а он вел себя так, как будто Сэйтон слишком высока для Сэррея.
— Дэдлей! Всю жизнь я считал самой большой подлостью, если мужчина хвастается победами, которые должны быть для него священными. Ты знал, как я боролся со своим чувством, как наконец я справился с ним… И ты открыл мою тайну для издевательства этому высокомерному болвану! Я порываю с тобой! Отныне наши дороги лежат врозь, потому что я уже никогда более не буду доверять тебе, ведь тебе не дорога моя честь.
— Роберт…
— Не будем напрасно оскорблять друг друга. Тайна, которой я тебе не доверял, которую ты мог только отгадать, оказалась для тебя удобным поводом вызвать на ссору человека, надменность которого тебе отлично известна. И ты предал этим не только друга, но и Марию Сэйтон, да и меня самого выставил перед ней в некрасивом виде. Я не упрекаю тебя, так как могу обвинять лишь себя, ведь я уже давно должен был заметить, что натуры, настолько различные, как мы, должны сторониться интимного сближения друг с другом. Скажу тебе откровенно, это мне пришло в голову еще тогда, когда ты легкомысленно говорил о том, кому бы — Елизавете или Марии — подарить свое сердце.
— Это не очень-то приятно! — засмеялся Лейстер, раздраженный тем, что Сэррей не оценил его откровенного признания, и оскорбленный тем, что тот порывал с ним дружбу.
— Милорд Лейстер, — холодно сказал Сэррей, — тот, кто так легко может расставаться с другом, подобно тому, как он легко меняет любовниц, никогда не возвысится до понимания истинной дружбы… Ну, да что говорить!… Шотландская или английская корона скоро заставит милорда Лейстера забыть о тех страницах прошлого, которые связывали его с Робертом Сэрреем.
С этими словами он вышел из комнаты.
Лейстер чувствовал себя так, словно от него отлетал его добрый гений, но оскорбленное самолюбие не позволяло броситься вслед за другом и просить его о прощении.
— Ступай! — пробормотал он. — Ты презираешь меня только потому, что еще не веришь в меня. Но когда мою голову украсит шотландская корона, когда смеющийся взор Марии скажет тебе, что она счастлива, когда в злобном бессилии разразится гнев Елизаветы, тогда я протяну тебе руку и крикну, что не забыл того времени, когда мы с тобой были друзьями. Тогда я покажу своим вассалам человека, которого уважаю больше всех на свете!
II
Роберт Сэррей приказал слуге приготовить все к отъезду, а затем спустился вниз в большой зал и, найдя лакея, сказал ему, что желает переговорить с лордом Сэйтоном. Лакей ответил, что лорд куда-то уехал верхом, но может вернуться каждую минуту, так что Сэррей решил обождать его в большом зале и не возвращаться к себе в комнату. Он был готов вызвать Сэйтона на открытое объяснение, и как ни деликатна была тема, которую он собирался затронуть, он считал гораздо достойнее самому объяснить Сэйтону все, что было между ним и Марией, не дожидаясь, пока тот начнет упрекать его.
Большой зал сэйтоновского замка был построен в готическом стиле. Мощные колонны вздымались кверху, а изящные арки и арабески придавали сводам красивый, величественный вид. Между колоннами висели нарисованные в натуральную величину портреты предков лорда, и эта галерея вела к какому-то ходу, который, вероятно, соединялся с жилыми помещениями замка. Портреты предков были декорированы доспехами, щитами и оружием, а над темным, закоптелым портретом Арчибальда Сэйтона висело грубое оружие древних шотландцев — лук из дубового дерева, праща и сплетенный из волчьей травы щит.
Сэррей с напряженным вниманием всматривался в эти портреты и нашел портрет Марии Сэйтон, какой он знал ее в Инч-Магоме. Рядом с этим портретом висел другой, и кровь быстрее забилась в его жилах, когда нежным, мечтательным и задумчивым взглядом он уставился на изящную фигуру, опиравшуюся на лютню, словно она собиралась запеть своим дивным голосом ту самую нежную песню, которая наполнила его сердце тоской в ту ночь. «Джэн Сэйтон» — гласила подпись, сделанная под портретом большими золотыми буквами. Сэррей тихим шепотом повторил это имя. Он забыл, где находится, зачем пришел в этот зал, он стоял, погруженный в созерцание, и его душа тихо шепталась с этими прекрасными глазами. Этот образ, черты которого глубоко врезались в его сердце, он должен был унести в одиночество своей жизни, и в его груди снова должно было проснуться старое страдание любви, с которым он так долго боролся.
Вдруг тихое шуршание шелкового платья заставило Роберта очнуться, он испуганно поднял голову и увидал ту, о которой мечтал, словно портрет по волшебству ожил.
И Джэн Сэйтон была поражена, встретив в галерее чужого человека, ее нежные щеки окрасились ярким румянцем, и казалось, что на ее лице, обрамленном белокурыми локонами, занялась утренняя заря.
— Леди Сэйтон, — дрожа произнес Сэррей, боясь что эта греза вдруг растает, и смущенно подошел к ней. — Леди Сэйтон, простите! Я ждал здесь вашего брата!
Джэн улыбнулась, смущение незнакомца придало ей храбрости, значит, он не подстерегал ее, очевидно, это был гость, которому надо было сказать: «Добро пожаловать».
— Милорд, — ответила девушка, — я видела, как брат только что проскакал вдоль улицы. Значит, он сейчас будет здесь и примет вас.
Она кивнула Роберту и хотела удалиться, но мысль, что, быть может, он уже никогда более не увидит ее, придала Роберту храбрости использовать удобный случай.
— Миледи! — воскликнул он. — Ваш брат не удостоит меня приветствием, так как считает обязанным ненавидеть за то, что меня зовут Робертом Сэрреем и что я — англичанин!
Джэн изумленно и с любопытством посмотрела на него, и ему показалось, что при его имени она испуганно вздрогнула.
— Вы — граф Сэррей? — переспросила она.
— Да, леди, я — гость вашего брата, хотя, к сожалению, не друг его. Миледи, возможно даже, что через несколько минут он будет смотреть на меня, как на смертельного врага, но, что бы вы ни услышали, что бы вам ни сказали, верьте моему слову — слову человека, высшим блаженством которого было бы, чтобы вы правильно судили о нем, будьте уверены, что я неизменно хранил самое полное уважение к вашему семейству и никогда не поступал недостойно.
— Милорд, — забормотала девушка, смущенная и пораженная этим бурным, страстным взрывом чувств, — я боюсь даже отгадывать, на что вы намекаете. Я верю, что вас оклеветали, что мой брат ошибается, но прошу вас: лучше уйдите с его дороги, не вызывайте его на объяснения, которые при его вспыльчивости могут повести к самым печальным последствиям!
— Миледи, не просите меня! Достаточно мельком высказанного вами желания, чтобы я счел священным долгом исполнить его. Но разрешите мне исполнить его так, как этого требует от меня моя честь. Вы боитесь, что мне еще раз придется скрестить с вашим братом оружие, но разве он не ваш брат и разве мог бы я когда-нибудь забыть, что ваши глаза станут оплакивать его, что ваше сердце возненавидит меня, если я подниму против него оружие? Нет, миледи, как когда-то я пролил свою кровь только ради того, чтобы услышать слово благодарности из уст вашей сестры, так и теперь я хотел бы заслужить ласковую улыбку, привет ваших прекрасных глаз, и соглашусь лучше сломать свой меч, чем поднять его против того, кого вы любите.
Раздался громкий звон шпор и несколько вооруженных людей с громким топотом ввалилось в комнату.
— Бегите, — испуганно прошептала Джэн, — брат возвратился с Дугласом, они вместе кутили, он не должен застать вас здесь.
Она еще говорила это, когда раздался голос Сэйтона:
— Где он? Клянусь святым Голирудским крестом, неужели он осмелился… А?! — перебил он сам себя, входя в галерею. — Леди Джэн Сэйтон принимает против моего желания графа Сэррея?
Лицо Сэйтона было очень красно, жилы на висках надулись, мрачный взгляд предсказывал мало хорошего. Но Роберт со спокойной решимостью пошел к нему навстречу и произнес:
— Милорд, в этом виноват только я, я вошел в галерею, даже не подозревая встретить здесь леди Сэйтон. Но, раз это случилось, поверьте, не льщу себя надеждой, что вы сочтете меня достойным быть принятым леди Сэйтон.
— Милорд, — возразил Сэйтон, приказав сестре удалиться, чему она, дрожа, повиновалась, — я слышал, будто вы приказали уложить свои вещи. Если вы собираетесь поблагодарить меня за гостеприимство, которым вы мне обязаны, то избавьте себя от лишнего труда. Как только вы оставите мой дом, я последую за вами в надежде настичь вас где-нибудь за воротами, мне надо поговорить с вами.
— Милорд, для этого и я искал вас здесь.
— Разговор, который я желаю иметь с вами, не может состояться в зале, где священны законы гостеприимства. Здесь я не имею ни малейшего желания слушать вас. Милорд, не испытывайте моего терпения! Я выполнил свой долг, как ни трудно мне было это. На вашем месте я не стал бы искать меня дома, я предпочел бы ждать меня с двумя секундантами на лугу, вооруженным и верхом. Я с большим бы удовольствием приветствовал вас секирой, чем кубком, но я покорился вашему желанию и теперь немало радуюсь, что комедии пришел конец. Законы гостеприимства защищают вас от моего меча, пока вы не будете находиться на расстоянии часа езды от Эдинбурга. До того времени мы — друзья, но потом — враги. Правильно ли это? — спросил он, обращаясь к гостям, вошедшим в галерею.
— Таков обычай! А на дороге вы можете встретиться с Сэрреем, если у него хватит храбрости подождать вас! — ответил граф Дуглас при одобрении всех остальных.
— Милорд Сэйтон, — произнес Сэррей, — я не выйду из вашего дома, пока не дам вам оправдывающих меня объяснений, и раз вы сослались на свидетелей, чтобы они одобрили ваш образ действий, то я требую, чтобы они поддержали и меня в моей правоте.
— Выслушайте его, — улыбаясь, сказал Дуглас, — ведь это вас ни к чему не обязывает.
— Милорд, — ответил Сэйтон после короткого колебания, — никто не смеет сказать, будто Сэйтон нарушил законы гостеприимства. Говорите, сколько хотите, я и мои друзья, мы выслушаем вас.
— Больше мне ничего не нужно, — заявил Роберт. — Граф Лейстер сообщил мне, что он необдуманно высказался о моем отношении к вашей сестре, леди Марии.
— Клянусь святым крестом, милорд, — заскрипел зубами Сэйтон, — вы осмеливаетесь…
— Я осмеливаюсь думать, что дворянин не имеет права считать другого дворянина подлецом, не выслушав его, а я был бы таковым, если бы когда-нибудь позволил себе говорить о вашей сестре иначе, как с глубоким уважением. Я говорю это не для того, чтобы стараться побороть ваше недоброжелательство ко мне, а лишь для того, чтобы сложить с себя всякую ответственность за слова графа Лейстера. Я никогда не стану драться с тем, кто защищает честь леди Сэйтон, и сам сделал бы то же самое, если бы кто-нибудь решился задеть ее. В силу этого я заявил графу Лейстеру, что порываю свою дружбу с ним, так как не могу быть другом человека, говорящего про леди Сэйтон без достаточного уважения. Вы видите, что только я один являюсь оскорбленным, меня выставили хвастуном, и в этом отношении я могу считаться только с графом Лейстером и менее всего с вами. Я не стану драться на поединке с братом той, которую когда-то объявил дамой своего сердца. Если же, — с этими словами он обратился к гостям Сэйтона, — здесь имеется кто-либо, кто имеет охоту обменяться со мною ударами меча, то я готов ждать его где бы то ни было.
— Я готов! — воскликнул граф Дуглас. Это же повторил Линдсей.
Сэйтон с раздражением поклонился им. Он должен был отказаться от желанного поединка, так как получил требуемое удовлетворение.
— Милорд, — сказал он, тогда как Сэррей кланялся графу Дугласу, — я с удовлетворением принимаю ваши объяснения, хотя мне и было бы приятнее разрешить недоразумение рыцарским поединком. Но только оскорбление давало мне право назначать гостю свидание за воротами, теперь мы поквитались с вами, и я надеюсь не попадать больше в такое положение, которое удержит меня от напоминания вам о нашей ссоре у собора Нотр-Дам.
— Я тоже надеюсь на это, хотя и понимаю это в другом смысле, чем вы, — с этими словами Сэррей поклонился и, приняв от хозяина прощальный кубок, как того требовал обычай, вышел из замка, чтобы сесть на своего коня.
Графы Дуглас и Линдсей последовали за ним со своими оруженосцами, у них не было желания выжидать, пока Сэррей отъедет на расстояние часа пути от замка.
III
Всадники вскочили в седла и собирались проехать под воротами замка веселой кавалькадой, словно дело шло о прогулке, а не о дуэли, как вдруг встретились с двумя другими всадниками, приближавшимися к сэйтоновскому дворцу. Те, судя по внешнему виду, совершили длинный переезд, так как их платье было совершенно запылено, а лошади — в пене. По первому взгляду Сэррей узнал друга, приехавшего в сопровождении оруженосца, чтобы отыскать его.
— А, Вальтер Брай! — крикнул Роберт, не замечая, как при этом имени насторожился граф Дуглас, с любопытством посмотревший на новоприбывшего.
Сэррей поспешно пожал руку другу и шепнул ему, что нашел Филли.
Лицо Брая просветлело при этом, хотя его взор мрачно и подозрительно скользил по всадникам, носившим столь ненавистные ему цвета Дугласов. Когда Сэррей окончил свой рассказ замечанием, что Брай не мог бы приехать в более подходящий момент, чтобы удалить Филли от близости Лейстера, Вальтер с удовлетворением улыбнулся и произнес:
— Я не разделяю ваших опасений относительно Филли, так как женщина, не способная оградить свою честь, заслуживает позора. Но я рад слышать, что вы не доверяете графу Лейстеру. Это — фаворит Елизаветы, который прислан сюда погубить шотландскую королеву; еще есть время предупредить ее!
— Она предупреждена! — ответил Сэррей.
В этот момент к ним подъехал граф Дуглас, прозванный «Черный Дуглас». Он испытующе впился взором в Вальтера Брая и спросил:
— Сэр, вы родом из Дэнсдорфа?
— Да, граф Дуглас. Меня зовут Вальтер Брай из Дэнсдорфа, и я еще ребенком мерился оружием с дугласовскими всадниками.
— И, вероятно, испытали на себе тяжесть их кулаков. Один из моих друзей, лорд Бэклей, граф Гертфорд, просил меня повесить вас на первом же дереве, если вы покажетесь в Шотландии.
— Милорд, если лорд Бэклей — ваш друг, то вы угодили рукой в помойную яму. Но обоим вам место на виселице, если храбрый граф Дуглас научил своих всадников нападать целой дюжиной на одного человека.
— Сэр, вы, очевидно, солгали, когда сказали, что мерялись оружием с дугласовскими всадниками, иначе вы знали бы, что дугласец сам лучше выступит против десятерых, чем набросится с несколькими товарищами на одного. Это вы хитростью заманили всадников моего отца к обрыву в Эдинбурге?
— Да, я, и милорд Сэррей подтвердит вам, что дюжина ваших всадников преследовала единственного человека, который хотел защитить женщину от подлости вашего друга.
— Но позвольте! Ведь это была распутница, выпоротая перед тем у позорного столба.
— Это была мать вашего ребенка, милорд Дуглас, а ваш друг виноват в том, что ее признали распутницей.
— Мать моего ребенка? Вы с ума сошли, или ваша шея хочет познакомиться с моей секирой?
— Милорд, у меня кулак чешется дать вам такой ответ, какого вы заслуживаете! — произнес Брай. — Лорд Бэклей, ваш друг, преследовал ухаживаниями мою невесту, бедную девушку, подстерег ее на сеновале, и когда она стала отбиваться от него, он кликнул ваших всадников и обругал ее при них распутницей. Ее потащили к озеру, окунули в воду и привязали к папистскому столбу. Я вернулся из лагеря графа Аррана, услыхал о происшедшем и хотел прежде выслушать эту девушку, а потом уже отомстить. Ваши всадники бросились за мной вдогонку, и я заманил их к обрыву, потому что не хотел им дать убить себя. Лорд удрал, боясь моей мести. Кэт, так звали девушку, нашла приют у одной ведьмы, и ей удалось, несмотря на преследования Бэклея, который выжег подземелье, добраться до вашего замка. Тогда вы окончательно опозорили ее там. Случаю было угодно, чтобы я воспитал и полюбил вашего ребенка. Но я говорю это совсем не для того, чтобы причинять вам лишние хлопоты, мне кажется, что уже ради вашей дочери я обязан убить единственного человека, который имеет право назвать ее незаконнорожденной.
— Не знаю, чему и верить! — пробормотал Дуглас. — Бэклей — негодяй, а вы были покровителем, а не погубителем его возлюбленной? Вы воспитали моего ребенка и вместо благодарности ищете ссоры со мной?
— Я ручаюсь за слова Брая, — вступил теперь в разговор и Сэррей, — и могу подтвердить все сказанное им, только мне было неизвестно, что дочь Кэт — ваша дочь. Однако, раз Брай говорит это, значит так оно и есть. Милорд, хотя вы и настроены против меня очень враждебно, но я считаю вас за очень честного человека, чтобы не верить, будто вы просто обмануты негодяем Бэклеем; этот субъект обманул уже многих, а за последнее предательство своих благодетелей ему пришлось жестоко поплатиться.
— А мне он говорил, что его предала женщина! — произнес Дуглас. — Я не могу требовать от него, чтобы он дал мне доказательства, так как это — калека, у которого пыткой сломали члены. Но я откладываю свой поединок с вами, милорд Сэррей, пока не расследую все это. Если этот человек, — он указал на Брая, — говорит правду, то я обязан ему благодарностью, пусть он узнает, что Дуглас никогда не стыдится исправить совершенную несправедливость! Ребенок, в жилах которого течет моя кровь, не должен краснеть ни перед кем.
— Милорд Дуглас, — сказал Брай, — если вы хотите признать вашу дочь, тогда я беру обратно свои слова и никогда больше не скажу про Дугласа, что он позорит свой герб.
Тем временем кавалькада достигла рощицы у ворот Эдинбурга, и лорд Линдсей нетерпеливо подскакал к ехавшим впереди и спросил, уж не до Лондона ли собираются они скакать, чтобы он мог сломать милорду Сэррею шею на английской земле?
Вместо ответа Сэррей соскочил с лошади и обнажил меч. Линдсей последовал его примеру, тогда как по знаку, данному Дугласом, оруженосцы подхватили лошадей под уздцы.
Поединок продолжался недолго. Линдсей повел ожесточенную атаку, но ему пришлось убедиться, что Сэррей значительно сильнее его. У Линдсея уже сочилась кровью легкая рана, когда он сделал резкий выпад, который оставлял его самого без прикрытия, но вместе с тем неминуемо должен был свалить с ног Сэррея. Но, судя по всему, Сэррей знал этот прием, поэтому Линдсей отскочил назад, чтобы избегнуть удара противника, причем зацепился шпорами за корни дерева и упал на землю. В тот самый момент Сэррей сделал выпад и, не ожидая отступления врага, не удержался на ногах. Случаю было угодно, чтобы, падая, Сэррей наткнулся рукой на острие меча Линдсея. Роберт выронил меч, из разрезанной жилы кровь забила фонтаном.
Раненный, но не побежденный, Сэррей упал в обморок от потери крови, и Вальтеру с большим трудом удалось наложить ему повязки и остановить кровотечение. Дуглас кликнул своих людей, приказал взвалить раненого на лошадь, и так как вблизи находился один из его замков, то все, за исключением Линдсея, вернувшегося с оруженосцами в Эдинбург, поскакали туда.

Глава девятая
МАРИЯ И ЛЕЙСТЕР

I
 Граф Лейстер стал готовиться к отъезду, как только Сэррей оставил его. Он упивался блаженством при мысли о том, что теперь зависит только от него одного добиться цели своих честолюбивых надежд, и с того момента, когда увидел, что Мария Стюарт может отдать ему руку, не призывая в советники никого другого, кроме своего сердца, он уже чувствовал себя победителем. Ему казалось теперь, что его сердце всегда стремилось к ней, что она — та женщина, на которую намекало пророчество предсказательницы.
Когда он спустился по лестнице, то случайно заглянул в окошко. Зал был полон гостей, в галерее напротив Сэррея стоял Сэйтон, а Джэн с краской стыда на лице поспешно убежала.
«Ага! — улыбнулся Дэдлей. — Так вот какова добродетель нашего героя! Младшая вытеснила у него из сердца старшую, а я еще думал, что это просто гордость борется в нем со старой любовью! И ведь он все-таки сумел добраться до нее, несмотря на все запоры, которыми думал оградить ее Сэйтон! Великолепно! Вот и истинная причина его гнева, когда он узнал, что я восстановил против него лорда».
Для Лейстера было большим торжеством иметь возможность обвинить Сэррея; теперь ему уже нечего было стыдиться своего предательства. Так, по крайней мере, он думал, и когда, полчаса спустя, вскоре после отъезда Сэррея из замка, он вошел в зал, чтобы проститься с Сэйтоном, то, смеясь, сказал ему:
— Милорд, я ошибся: граф Сэррей совсем ее домогается чести надеть на себя шотландскую корону.
— Знаю! — с ледяной холодностью возразил ему Сэйтон.
— Он не был так глуп. Кроме того, он вообще предупредил меня, что его друзья болтают больше, чем могут отвечать за это. Я вижу, что вы приготовились уезжать, желаю вам счастливого пути.
Иронический тон его слов и тихие смешки присутствующих доказывали Лейстеру, что малейшее его слово в ответ будет принято за вызов. Но он далек был от мысли ставить на карту свою жизнь в тот момент, когда ему улыбалось будущее. Если он добьется руки Марии, то успеет заставить Сэйтона поплатиться за надменность. Поэтому он сделал вид, будто не заметил насмешки в тоне Сэйтона, и простился с ним в самой любезной форме.
В тот же вечер он добрался со своими слугами до Сент — Эндрю.
Его принял граф Мюррей и повел в отведенные для него покои.
— Милорд, — сказал он, — я счастлив, что королева решила повидаться с вами. Теперь от вас будет зависеть добыть себе корону и красивую женщину. Надеюсь, ваше сватовство увенчается успехом, и это будет порукой мира с Англией и ее великой монархиней.
— Милорд, — ответил Лейстер, уже видевший в Мюррее человека, которого ему необходимо будет столкнуть первым после вступления с его помощью на трон, — я прибыл сюда как жених и никаких желаний, кроме желания стать счастливейшим из смертных, у меня нет. Я — не государственный деятель и никогда не занимался политикой. Поэтому, если бы предстояло стать не только супругом, но и первым советником королевы, то я отклонил бы от себя такую ответственную обязанность. Но королева Елизавета сказала мне, что в вас я найду покровителя, друга и советника, словом, — человека, который один только способен избавить эту несчастную страну от смут и раздоров.
— Я — первый слуга королевы, — ответил Мюррей, — и охотно окажу вам помощь, если, — он подчеркнул последующие слова, — вы дадите мне гарантии, что и далее будете пользоваться моими услугами.
— Я готов, не читая, подписаться под вашим предложением! — засмеялся Дэдлей. — Влюбленный ненавидит дела.
Мюррей с удовлетворением улыбнулся, теперь ему казалось бесспорным, что он будет вертеть, как угодно, этим человеком.
Граф Лейстер стал готовиться к отъезду, как только Сэррей оставил его. Он упивался блаженством при мысли о том, что теперь зависит только от него одного добиться цели своих честолюбивых надежд, и с того момента, когда увидел, что Мария Стюарт может отдать ему руку, не призывая в советники никого другого, кроме своего сердца, он уже чувствовал себя победителем. Ему казалось теперь, что его сердце всегда стремилось к ней, что она — та женщина, на которую намекало пророчество предсказательницы.
Когда он спустился по лестнице, то случайно заглянул в окошко. Зал был полон гостей, в галерее напротив Сэррея стоял Сэйтон, а Джэн с краской стыда на лице поспешно убежала.
«Ага! — улыбнулся Дэдлей. — Так вот какова добродетель нашего героя! Младшая вытеснила у него из сердца старшую, а я еще думал, что это просто гордость борется в нем со старой любовью! И ведь он все-таки сумел добраться до нее, несмотря на все запоры, которыми думал оградить ее Сэйтон! Великолепно! Вот и истинная причина его гнева, когда он узнал, что я восстановил против него лорда».
Для Лейстера было большим торжеством иметь возможность обвинить Сэррея; теперь ему уже нечего было стыдиться своего предательства. Так, по крайней мере, он думал, и когда, полчаса спустя, вскоре после отъезда Сэррея из замка, он вошел в зал, чтобы проститься с Сэйтоном, то, смеясь, сказал ему:
— Милорд, я ошибся: граф Сэррей совсем ее домогается чести надеть на себя шотландскую корону.
— Знаю! — с ледяной холодностью возразил ему Сэйтон.
— Он не был так глуп. Кроме того, он вообще предупредил меня, что его друзья болтают больше, чем могут отвечать за это. Я вижу, что вы приготовились уезжать, желаю вам счастливого пути.
Иронический тон его слов и тихие смешки присутствующих доказывали Лейстеру, что малейшее его слово в ответ будет принято за вызов. Но он далек был от мысли ставить на карту свою жизнь в тот момент, когда ему улыбалось будущее. Если он добьется руки Марии, то успеет заставить Сэйтона поплатиться за надменность. Поэтому он сделал вид, будто не заметил насмешки в тоне Сэйтона, и простился с ним в самой любезной форме.
В тот же вечер он добрался со своими слугами до Сент — Эндрю.
Его принял граф Мюррей и повел в отведенные для него покои.
— Милорд, — сказал он, — я счастлив, что королева решила повидаться с вами. Теперь от вас будет зависеть добыть себе корону и красивую женщину. Надеюсь, ваше сватовство увенчается успехом, и это будет порукой мира с Англией и ее великой монархиней.
— Милорд, — ответил Лейстер, уже видевший в Мюррее человека, которого ему необходимо будет столкнуть первым после вступления с его помощью на трон, — я прибыл сюда как жених и никаких желаний, кроме желания стать счастливейшим из смертных, у меня нет. Я — не государственный деятель и никогда не занимался политикой. Поэтому, если бы предстояло стать не только супругом, но и первым советником королевы, то я отклонил бы от себя такую ответственную обязанность. Но королева Елизавета сказала мне, что в вас я найду покровителя, друга и советника, словом, — человека, который один только способен избавить эту несчастную страну от смут и раздоров.
— Я — первый слуга королевы, — ответил Мюррей, — и охотно окажу вам помощь, если, — он подчеркнул последующие слова, — вы дадите мне гарантии, что и далее будете пользоваться моими услугами.
— Я готов, не читая, подписаться под вашим предложением! — засмеялся Дэдлей. — Влюбленный ненавидит дела.
Мюррей с удовлетворением улыбнулся, теперь ему казалось бесспорным, что он будет вертеть, как угодно, этим человеком.
II
В то же самое время Мария Стюарт и Генри Дарнлей сидели за веселым ужином, причем королева вышучивала пошлого фата, любезности которого ей придется выслушивать, чтобы обмануть Мюррея. Благодаря изысканному воспитанию Дарнлея и его веселому нраву, ему удалось согнать морщины озабоченности со лба королевы, и она думала только о том, как бы обмануть Мюррея и не выдать себя до тех пор, пока Дарнлей не приобретет достаточного количества приверженцев, чтобы открыто просить ее руки. Хотя она и чувствовала себя во многом обязанной Джэмсу Стюарту, но ее уже тяготила необходимость зависеть от него во всех отношениях и смотреть на все его глазами. Что касалось управления Шотландией, то она с удовольствием вполне предоставила бы власть его твердой руке, которая была способна подавить междоусобицы лордов. Но Мюррей требовал и ограничения придворной роскоши, совал нос во всякое развлечение, задуманное королевой, и укорял тем, что шотландцы видят в этом распущенность нравов и французское легкомыслие. При каждом удобном случае он пугал Марию призраком революции, не умея, однако, избавить ее от оскорблений, наносимых религиозными фанатиками приверженцам ее религии и ей самой. Мария не видела иного исхода, как выйти замуж, так как тогда ее муж станет тем человеком, который защитит ее от личных оскорблений. Но она не была бы женщиной, если бы думала только о том, чтобы выйти замуж исключительно за того, кого ей рекомендовал ее брат-моралист вместе с ее соперницей, королевой Елизаветой. И главным делом считала усиление партии, желавшей свергнуть Мюррея, чтобы он уже не имел возможности помешать ее браку с Дарнлеем.
А кузен был как раз таким человеком, который, по мнению Марии, был способен обеспечить ей радостную будущность. Он был очень симпатичен, имел благородную внешность и обладал всеми чарами юности. Следуя советам своей честолюбивой родни, он выказал незаурядную ловкость и вкрался в доверие к Мюррею, который не видел в нем опасного человека. По утрам Дарнлей слушал проповеди реформатора Нокса, по вечерам — танцевал с королевой и умело приобретал доверие как духовных лиц, так и двора.
И вот, в то время как Мюррей заботился о том, чтобы Елизавета, в случае если она умрет бездетной, объявила Марию Стюарт наследницей престола, королева шотландская все искуснее уклонялась от определенного ответа. Она вернула из ссылки изгнанного графа Босвела, чтобы в случае необходимости опереться на него. Через Дарнлея она завязала отношения с Гентли, состояние которых было конфисковано Мюрреем. Сам Дарнлей вербовал в свои ряды всех тех лордов, которые втайне оставались верными католической религии и считали подлой мысль о возможности брака королевы Марии с англичанином.
III
Мария слушала стихи, которые ей читал Дарнлей, и милостиво принимала его ухаживания, тогда как Лейстер предавался честолюбивым мечтам, надеясь уже на следующий день после приезда получить торжественную аудиенцию.
Настало утро, а вместе с ним и приглашение пожаловать к королеве в двенадцать часов. Дэдлей оделся со всем блеском и вкусом разорительных обычаев, бывших в моде при французском дворе; этим он хотел вызвать в памяти королевы веселые времена ее юности. Лейстер был одним из красивейших мужчин своего времени, и, увидав теперь свое изображение в зеркале, сам себя нашел неотразимым. Он отправился в покои королевы в сопровождении двух пажей.
Мария Стюарт тоже принарядилась. Белые розы благоухали в ее волосах, грудь волновалась в облаках газа, а бархатное платье красиво обрисовывало грациозные формы ее тела, но прелестное ее лицо ярче всякого туалета сияло красотой юности. Надо было показать этому человеку, который стоял на коленях перед соперницей, а теперь был прислан ею в качестве жениха, чего именно он добивался. А так как Мария заранее твердо решила отказать ему, то женское самолюбие требовало полного триумфа, чтобы он не мог равнодушно примириться с мыслью об отказе.
Дарнлей неоднократно поддразнивал Марию, что Лейстер неотразим и что, побеждая сердца дам, он сам остается холодным и спокойным, так как ни одна не сумела задеть его сердце. Сэррей тоже сказал, что Дэдлей не умеет любить иначе, как питая честолюбивые планы. И женское достоинство Марии требовало от нее добиться, чтобы жениху не пришлось лицемерить, признаваясь ей в любви.
Вошел Лейстер. Он думал застать королеву во всей царственной пышности. Но вместо государыни встретил только сиявшую красотой даму, у которой изящество заменяло пышность, грация — внешние формы этикета; казалось, что он явился свататься к самой обыкновенной женщине, которая даст тот или иной ответ, только подчиняясь велениям своего сердца. Лейстер приготовил вступительную речь, но к этой интимной обстановке она не подходила. Вместо блестящей свиты он видел вокруг Марии ее статс-дам, веселые лица которых говорили о том, что они расположены гораздо больше к забавной шутке, чем к соблюдению строгих приличий. И он стоял пораженный, ослепленный, очарованный красотой открывшейся ему картины.
— Добро пожаловать, милорд Лейстер! — сказала Мария с ласковой улыбкой, которой словно хотела ободрить его. — Мы очень хорошо помним вас, хотя с последнего нашего свидания и до сего дня прошло много горестных, печальных минут. В то время мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь вы явитесь ко мне в качестве посла моей строгой сестрицы Елизаветы, с мечом в одной руке и обручальным кольцом — в другой. Но я не расположена говорить о политике и, чтобы не слишком обижать посла, принимаю вас как старого друга.
Дэдлей преклонил колено и сказал:
— Ваше величество, ничто не может так ласкать мой слух, как ваше имя. С трепетом принял я поручение королевы Елизаветы, оно казалось мне каким-то издевательством, и все-таки я не мог отклонить его, так как оно вело меня сюда. Я рисковал показаться пошлым дураком, но решился на все, лишь бы снова увидать ту, которая очаровывала своей красой всю Францию!
— И которая с того времени сильно постарела и испытала много горя! — подхватила королева. — Признайтесь, граф Лейстер, что вы сильно колеблетесь говорить печальной вдове такие вещи, которые вы, избалованный успехом, привыкли расточать только самым свежим цветам юности. Правда, на моей голове венец, но это — терновый венец. И я не могу сердиться, если в тайниках своей души вы уже желаете, чтобы я отослала вас назад и сказала своей сестре Елизавете, что для самого красивого мужчины Англии Мария Стюарт слишком стара и представляет собою слишком незначительную цель его честолюбивых стремлений.
— Ваше величество! — ответил Лейстер, очарованный улыбкой, которая ясно показала, насколько мало сама Мария верит своим словам. — Если бы я встретил вас пастушкой на шотландских лугах и вы приказали бы мне оставить вас, то и тогда бы я покорился! Правда, мое сердце было бы разбито, и я вернулся на родину с чарующим образом в душе, образом, который навеки стал бы источником страданий моего сердца. Было время, когда вы недосягаемо высоко стояли надо мною, тогда я мечтал лишь о вашем благоволении. Но мне показали дорогу, ведущую к солнцу, и я уже не в силах думать ни о чем ином, кроме того, чтобы приблизиться к нему и сгореть в пламени его лучей!
Мария Стюарт с торжеством улыбнулась, но в этой улыбке была не насмешка, а скорее участие, словно она раскаивалась, что вздумала играть с этим сердцем, если поклонение, о котором говорил Лейстер, было на самом деле искренним.
— Милорд Лейстер, — сказала она, дав своим статс-дамам знак, чтобы они отступили назад, — будьте откровенны! Ведь вас привлекает сюда одно только честолюбие, и я, право, не стала бы порицать вас за это! Корона заключает в себе так много заманчивого!… Поэтому говорите со мной без лести, и тогда мы можем договориться с вами до чего-нибудь. Я знаю, что вы заставили поколебаться мою сестру Елизавету в ее решимости не делить английский трон с мужем. Ей принадлежит ваше сердце, она красивее, могущественнее и счастливее, чем я.
— Ваше величество, — ответил Дэдлей, и голос его звучал искренне и правдиво, — мое сердце принадлежит только вам одной, и никогда еще я не обоготворял женщину так, как вас. Клянусь своей честью, если когда-нибудь я буду иметь счастье назвать своей эту прекрасную руку, то не буду знать иной политики, кроме той, которая сделает вас великой, могущественной и счастливой! Я — не игрушка в руках вашей соперницы.
— Значит, мои сведения неверны? Значит, неправда, что вы надеялись и пытались подойти поближе к сердцу Елизаветы?
Лейстер думал, что Мария высказывает подозрение, не собирается ли он и в качестве ее супруга оставаться вассалом Елизаветы.
— Ваше величество, — ответил он, — кто же может признать королеву Елизавету красивой, если видел вас? У королевы Елизаветы нет сердца, это — ледяная царица, вы же — цветущий май!
— Я думаю о том, сколько женских сердец уже завоевали вы и как Елизавета сумела разглядеть вас…
— Еще ни одна женщина не захватывала одним взглядом всего моего сердца, чтобы я, как теперь, был способен забыть все на свете…
— Значит, я срываю первый цвет вашей любви, граф Лейстер? Ну, а если я дам ему завянуть?
— Тогда ему не расцвести вновь…
— Вы опасны, граф! Я оградилась твердым решением уступить свою свободу только тому, кто завоюет мою любовь. Но вы ведете себя не как посол, а как пламенный поклонник. Горе мне, если вы обманете меня. Народ притесняет меня, заставляет во что бы то ни стало выбрать супруга, а я могу принести супругу в приданое только заботы, тяжелые обязанности и сердце, которое противится браку. Проверьте себя еще раз. Если на ваше решение влияет хоть отчасти честолюбие, то лучше бегите прочь, так как лорд Мюррей не потерпит, чтобы мой супруг вырвал у него из рук бразды правления. Тогда вы избавите и меня от неприятной задачи отказать фавориту Елизаветы.
— Ваше величество, лорд Мюррей только что получил мои уверения, что я во всем буду следовать его советам.
Лейстер не мог бы более ясно, чем этой фразой, доказать Марии, что в его словах — самое наглое лицемерие. И ей пришлось сделать усилие, чтобы подавить в себе недовольство и не указать ему с насмешкой и презрением на дверь.
— Я подумаю о вашем предложении, граф, — промолвила она. — До свидания.
Дэдлей глубоко поклонился ей, и как ни неожиданно оборвался вдруг их разговор, но он вышел из комнаты с радостным убеждением, что решение Марии может быть только благоприятным для него. Ведь она выслушала его признания в любви и дала волю ревности!
Но если бы только он мог слышать слова королевы, сказанные ею после его ухода, и видеть тот взор, которым она проводила его!
— Лицемерный мальчишка! — с горькой усмешкой презрения подумала королева ему вслед. — Теперь я насквозь вижу Елизавету, и это ты помог мне понять ее! Как мало уважает она меня, если думает красивой куклой завоевать мое сердце! Елизавета посылает мне какого-то фата, у которого не хватает ума догадаться, к чему стремится мое сердце, у которого нет даже хитрости, чтобы обманутьнадеждой мое бедное сердце! Она посылает человека, у которого на языке одни только пустые слова, чтобы завлечь девчонку обещаниями! А мне еще жаль его. Лицемер! Раб Елизаветы и холоп Мюррея должен стать моим господином? Елизавета жертвует своим любовником, чтобы утолить вожделения шотландской королевы, и с этим согласен Мюррей. Это — высшее издевательство, это оскорбление переполнило чашу моего терпения! Но это и к лучшему — по крайней мере теперь я хоть знаю своих врагов.
Статс-дамы, давно уже не видевшие свою повелительницу в таком волнении, подошли к ней и стали сокрушенно спрашивать, не сказал ли ей Лейстер чего-нибудь неприятного?
Лицо Марии судорожно исказилось принужденной улыбкой, и она ответила с той грозной веселостью, которая заканчивается бичующим гневом и иронией:
— Мы на очень плохом счету! Всем известно, что мы охотно танцуем и поем, что при французском дворе мы научились ценить сладкий язык придворной лести и что нам угоднее легкие нравы, чем формы строгого этикета. Отчаявшись как-нибудь иначе образумить меня, сестра Елизавета вошла в соглашение с моим строгим опекуном и братом Джэмсом, и плодом их мудрого совещания явилась мысль пойти навстречу моим вожделениям. Елизавета заходит в своем участии так далеко, что посылает ко мне самого красивого мужчину Лондона, своего фаворита. Милорд Лейстер готов снизойти до того, чтобы любить меня, тогда как лорд Мюррей будет приводить в исполнение приказы Елизаветы, касающиеся блага нашей родной страны. Таким образом, меня избавляют от всех забот, и на мою долю остаются только те радости, которые способен доставить своей милочке прекрасный граф Лейстер!… Но, к сожалению, у меня другой вкус, чем у сестры. Я не хочу, чтобы моим супругом стал отставной фаворит Елизаветы. Позовите лорда Дарнлея! Прикажите зажечь свечи и позвать музыкантов! Пусть меня проклинают за то, что мое сердце жаждет радостей жизни, но я по крайней мере хоть отведаю этих радостей. Отныне ворчливый Мюррей уже не будет больше пугать меня и никакие угрозы пуритан не омрачат нашу веселость, а если они осмелятся восстать — пусть застанут меня танцующей с розами радости в волосах и румянцем удовольствия на лице.
IV
Через несколько часов все залы были залиты потоками света и раздавалась бальная музыка. Лейстер был тоже приглашен принять участие в королевском празднике.
— Теперь вы должны во что бы то ни стало завоевать сердца всех и каждого ловкой фразой, — шепнул ему Мюррей, — Вы искусны во французской обходительности, а грацию вашего танца прославляют решительно все. Королева, кажется, в хорошем расположении духа, а у женщины это обыкновенно означает то, что она уже наполовину побеждена.
Лейстер не заставил два раза напоминать себе об этом.
Он увидел, как королева говорила с лордом Дарнлеем и, казалось, шутливо поддразнивала его:
— Сегодня я не буду танцевать, я хочу только смотреть на танцующих и вручить победителю приз. А, — улыбнулась она, сделав вид, что только сейчас заметила Лейстера, — вот и милорд Дэдлей. Граф Леннокс, у вас опасный соперник! Милорд Лейстер, представляем вам милорда Дарнлея, графа Леннокса, нашего преданного кузена; вы увидите, что в Шотландии тоже имеются грациозные танцоры. Милорд, изберите себе даму среди присутствующих и встаньте в пару против нашего кузена, пусть это будет турниром грации, как это было в Версале.
— Я не решусь выйти на турнир с милордом Лейстером, — возразил Дарнлей, — хорошо, если мне удастся не очень отстать от него.
— Милорд Дарнлей, — ответил Дэдлей, — победителем может быть только тот, кого озаряет милость нашей государыни.
— Тем хуже для меня!… Известное дело, что кузены становятся лишними, когда являются женихи!
Взор Дэдлея засиял радостью, он истолковал слова Дарнлея так, что в присутствии Лейстера каждый другой жених должен отказаться от всякой надежды.
Дарнлей куда-то исчез, когда Лейстер повел Марию Сэйтон в бальный зал, и так как музыка еще не зазвучала, то у него было несколько минут, чтобы поболтать со своей дамой. Ему было очень важно приобрести как можно больше друзей среди приближенных королевы, и он не мог найти ничего умнее, чем начать разговор с Марией Сэйтон о своей дружбе с Сэрреем.
— Прекрасная леди, — сказал он, — надеюсь, что я не совсем незнаком вам, мы встречались с вами в Париже и еще раньше — в Инч-Магоме.
— Я хорошо помню об этом.
— Милорд Сэррей, провожавший меня в Эдинбург, много рассказывал мне о вашей преданности королеве в те печальные дни. Я очень завидовал, что ему удалось в то время дать королеве доказательства своей верности, ведь тогда я был просто орудием в его руках, его помощником.
— Королева не забыла никого из тех, кто ей был предан, — заметила Мария Сэйтон, — а я, в свою очередь, была очень рада, узнав, что вы воспользовались гостеприимством моего брата.
— Лорд Сэйтон был так любезен, что пригласил к себе моих друзей и меня, — сказал Лейстер, — я только очень жалею, что он лишил нас удовольствия познакомиться с вашей сестрой. Впрочем, мой друг Сэррей оказался в этом отношении счастливее меня.
— Неужели моя сестра приняла его, а вас нет?
— Нет, она не приняла никого из нас, — ответил Лейстер, — очевидно, ваш брат не хотел ни с кем разделить славу гостеприимного хозяина. Мы видели вашу сестру лишь из окна. Мое сердце несвободно, поэтому оно глухо ко всем очарованиям, как бы они ни были велики, а Сэррей, конечно, не мог остаться равнодушным, он начал искать случая, чтобы представиться вашей сестре и выразить ей свое почтение, и, по-видимому, нашел этот случай. В момент отъезда я видел их вместе, и для меня стало ясно, почему мой друг предпочел остаться в Эдинбурге.
Расчеты Лейстера оказались верными. Он думал, что лучше всего добьется Марии Сэйтон, если возбудит ее любопытство и ревность, причем делал вид, будто не имеет ни малейшего представления о том, что Сэррей интересовался ею.
— Держу пари, — продолжал он, — что мой друг не без задней мысли решил сопровождать меня в Шотландию. Если я буду иметь счастье получить руку королевы, то у меня не будет более горячего желания, как привязать и Сэррея узами любви к вашей родине. Надеюсь, что я не показался вам слишком нескромным, — вдруг прервал он себя, как будто только что заметив смущение своей дамы, — ведь я высказываю только предположение, выражаю лишь свое желание…
— И оно, надеюсь, не сбудется, — возразила Мария Сэйтон, с трудом сдерживая свои чувства. — Если даже предположить, что Джэн ответит взаимностью вашему другу, то мой брат ни за что не согласится, чтобы она вышла замуж за англичанина. Кроме того, лорду Сэррею прекрасно известно, что Георг питает к нему антипатию и очень стоек в своих мнениях о людях. Думаю, что увлечение лорда Сэррея не из серьезных, и вы хорошо сделали бы, если бы посоветовали ему направить свои ухаживания в какую- нибудь другую сторону.
— Вы пугаете меня, миледи! — воскликнул Дэдлей. — Теперь я могу вам сознаться, что меня поразило волнение Сэррея при упоминании вашей фамилии, кроме того, он как-то необыкновенно рассеян в этот приезд. Я не решился бы коснуться этого вопроса, если бы не был убежден, что мой друг серьезно влюблен в вашу сестру. Впрочем, он настолько скрытен, что ни за что не доверил бы тайны своего сердца даже лучшему другу.
— Ваш друг слишком чувствителен, слишком быстро поддается обаянию женской красоты! — усмехнулась Мария.
— До сих пор я не замечал этого за ним! — возразил Лейстер. — Он даже смеялся надо мной, когда я уверял его, что мое обожание королевы началось с того самого момента, когда я увидел ее в первый раз. Он старался убедить меня, что мужчина может лишь тогда любить женщину, когда надеется на ее взаимность, всякая же другая любовь, по его мнению, — лишь фантазия, самообман.
Мария Сэйтон смотрела на Дэдлея с удивлением. Его слова походили на правду. Неужели Сэррей, завидуя счастью Лейстера, обманул королеву?
— Мы еще поговорим об этом! — быстро прошептала она Дэдлею, услышав первые звуки музыки, приглашавшей присутствующих становиться в пары для менуэта.
Дарнлей стоял рядом с дамой, одетой в какой-то причудливый наряд, с маской на лице. Пестрая ткань обвивала гибкую фигуру незнакомки, не скрывая ее грациозных форм. Густая сетка покрывала ее волосы, так что нельзя было разобрать их цвет. На этой сетке, а также на груди и руках замаскированной фигуры блестели дорогие бриллианты.
Дэдлей осмотрелся по сторонам и, не увидев нигде королевы, решил, что под маской скрывается Мария Стюарт, пожелавшая танцевать с ним визави.
Темные глаза женщины горели, как звезды, через разрезы маски. Каждое ее движение было полно неги, грации и страсти. Она то кокетливо манила к себе Дэдлея, то весело, насмешливо убегала от него, то, словно подчиняясь магической силе любви, бросалась в его объятия.
Зрители, окружавшие танцующих, не могли скрыть своё восхищение. Похвалы по адресу маски раздавались все чаще и громче. Лейстер слышал, как некоторые говорили:
— Так могут танцевать только влюбленные, это — воплощенная страсть!
Дэдлей не сомневался, что с ним танцует королева, и его лицо сияло от счастья, а сердце усиленно билось. В конце танца, вместо того, чтобы даму, танцевавшую с ним визави, поблагодарить глубоким поклоном, он бросился на колена и прижал ее руку к своей груди. Он не заметил в своем увлечении, что круг расступился и вперед вышла Мария Стюарт со злой усмешкой на устах.
— Ты — моя королева! — громко прошептал Лейстер, все еще не видя Марии Стюарт и крепко прижимая к своей груди руку своей дамы в маске.
Все гибкое тело замаскированной фигуры задрожало; она слегка вскрикнула и, закрыв лицо руками, как бы боясь, что румянец смущения пробьется сквозь черную ткань, быстро выбежала из комнаты.
Дэдлей удивленно оглянулся. Он заметил насмешливую улыбку Дарнлея. И даже сдержанный, мрачный Мюррей не выдержал и улыбнулся. В довершение всего позади Дэдлея раздался веселый смех королевы:
— Браво, милорд Лейстер! Вы придумываете новые фигуры!… Вы так увлеклись танцами, что в нашем присутствии признали вторую королеву, которую вы так благоговейно приветствовали, точно само небо послало ее вам!
— Ваше величество, — пробормотал Дэдлей, не веря своим глазам, — я никак не ожидал, я думал…
— Милорд Лейстер не мог предположить, что кто-нибудь другой скрывается под маской, а не королева Шотландии, — пришел на помощь Дэдлею Мюррей. — Только одна королева могла позволить себе этот маскарад.
— Именно я и придумала его, — смеясь, сказала Мария Стюарт. — Но я не понимаю, почему Филли не сняла вовремя маски, как я ей приказала. Куда же она скрылась? Сходите же за своей дамой лорд Дарнлей. Я хотела устроить вам сюрприз, милорд Лейстер, и нашла, что самым подходящим и приятным визави будет для вас ваш прежний паж, превратившийся в прекрасную девушку.
— Так это была Филли? — удивился Дэдлей, все еще не поборовший своего смущения.
Вдруг он вспомнил слова Сэррея, предостерегавшие его от любви Филли, и кровь горячей волной прилила к его сердцу.
— Филли упала в обморок! — тихо проговорил вернувшийся обратно Дарнлей.
— Хотя эти слова были сказаны почти шепотом, но Лейстер услышал их.
— Пожалуйста, Мария, позаботься об этом несчастном ребенке, — обратилась королева к Марии Сэйтон, — прикажи позвать моего лейб-медика. Я заставила бедную малютку сыграть эту комедию, поэтому не сердитесь на нее, милорд Лейстер. Во всем виновата я одна. Мне хотелось пошутить, и я никак не предполагала, что ваш вид так подействует на Филли.
Затем Мария Стюарт взяла под руку лорда Дарнлея и удалилась с ним.
— Вас дурачат, милорд Лейстер, — прошептал недовольным тоном Мюррей, — но не выказывайте неудовольствия — иначе все погибнет. Королева любит подобные сюрпризы и находит остроумными тех людей, которые весело смеются над этими пошлостями.
— Я и не обижаюсь на шутку ее величества, милорд, — ответил Дэдлей, — тем более, что она дала мне возможность встретиться с особой, которая после королевы наиболее интересна для меня.
— Может быть, вас умышленно свели с ней, чтобы заставить вас увлечься?
— Тогда я по крайней мере буду знать, как мне держаться, — заметил Дэдлей, — и не стану играть смешную роль.
— Никто и не посмеет над вами смеяться, — решительно сказал Мюррей, — по крайней мере до тех пор, пока мои слова будут иметь здесь некоторое значение.
Дэдлей промолчал. Он чувствовал, что его подвергли испытанию и он потерпел полнейшее фиаско. Несомненно молодая девушка любила его, и теперь он был опьянен ее свежим чувством! Он видел даже сквозь ткань маски обворожительную улыбку Филли, он ощущал теплоту ее стройного тела, он весь был охвачен пламенем страсти. Вместо того, чтобы возненавидеть Филли за то, что она оттолкнула от него королеву, Дэдлей жаждал всеми силами души нового свидания с молодой девушкой. Что это было? Колдовство, дьявольское наваждение?
V
За ужином Дэдлей был рассеян и мочалив, зато королева казалась веселее, чем когда бы то ни было. Она как будто задалась целью обворожить Лейстера своим остроумием, избрав мишенью для своих острот лорда Дарнлея. Таким образом она как бы давала удовлетворение Дэдлею, а он был восхищен королевой, но тем не менее не переставал думать о Филли.
Мария Сэйтон сидела по правую руку Лейстера; воспользовавшись моментом, когда королева беседовала с Мюрреем, она постаралась возобновить со своим соседом прежний разговор.
— Я думаю, — начала она, — что маленький чертенок, танцевавший сегодня с вами визави, был бы так же опасен и для вашего друга, лорда Сэррея.
— Нет, миледи, Сэррей не поставил бы себя в такое смешное положение, в каком очутился я, — возразил Лейстер. — У него имеется передо мной то преимущество, что он никогда не увлекается. Он всегда поступает разумно, потому что не поддается исключительно влечению сердца.
Когда ужин окончился и гости разошлись, королева, не стесняясь, подняла на смех обманутого претендента на ее руку.
— Шутка Дарнлея была великолепна, — воскликнула она, — Генри выиграл пари. Он уверял меня, что серьезный Сэррей мог действительно принять своего пажа за уродливого мальчика, но что касается Лейстера, то он, конечно, сразу увидел, с кем имеет дело. Господи, что за темперамент у этого человека!… Только что он клялся, что умирает от любви ко мне, и тут же бросается на колени перед нашей горничной, как будто перед ним королева Елизавета, его давнишняя страсть! Этот несчастный прямо с ума сходит в своей любви к женщинам! Он обожает весь женский пол и готов расточать свои клятвы перед каждой юбкой.
— Не судите его строго, ваше величество! — серьезно вступилась за Дэдлея Мария Сэйтон. — Он мог легко принять Филли за вас, так как вы с ней одинакового роста. Судя по всему тому, что я слышала, я нахожу, что его оклеветали. Лорд Лейстер умеет глубоко чувствовать.
— Вы заступаетесь за него? — удивленно спросила королева. — Неужели его защитницей является Мария Сэйтон, та самая Мария, которая опровергала все хорошее, что говорил Роберт Сэррей о своем друге?
— Не говорите мне о Сэррее, ваше величество! — попросила Мария Сэйтон. — Ни в ком не пришлось мне так разочароваться, как в этом господине.
— Я уже слышала это от вас неоднократно, — заметила королева, — но потом вы каждый раз брали свои слова обратно.
— Потому что я раньше не замечала в нем полнейшего отсутствия какого бы то ни было чувства! Не требуйте от меня, ваше величество, дальнейших объяснений и последуйте совету вашего самого преданнейшего друга: не играйте сердцем лорда Лейстера!… Лучше ушлите его отсюда… Вспомните о несчастном Кастеляре!
При упоминании этого имени Мария Стюарт смертельно побледнела. Она молча протянула руку своей фрейлине и направилась в спальню.

Глава десятая
НЕМАЯ

I
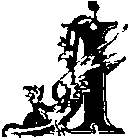 Дэдлей вышел из апартаментов королевы и прошел через длинный коридор в отведенные для него комнаты; он не заметил, что одна из боковых дверей, примыкавших к коридору, тихонько открылась и чья-то фигура, робко озираясь вокруг, последовала за ним, чуть слышно ступая на кончиках пальцев. Придя в свои покои, Дэдлей отпустил ожидавшего его лакея и, сев в кресло, начал вспоминать события прожитого дня.
Покорить сердце Марии Стюарт оказалось не так легко, как он прежде предполагал, но тем заманчивее была для него эта победа. Ужасная шутка, которую позволила себе Мария Стюарт, произвела на него очень неприятное впечатление, но за ужином это впечатление рассеялось под влиянием любезности и остроумия королевы. Лейстер был принужден сознаться, что никогда не встречал более обворожительной женщины, чем шотландская королева. Но, несмотря на все ее чары, образ Филли не покидал Дэдлея, ему все время казалось, что прекрасная маска спрашивает: «Разве я не лучше королевы? Разве мои объятия недостаточно горячи? Ведь мне от тебя ничего не нужно, кроме любви!» «Да, она любит меня, — подумал Лейстер, — болезненная ревность заставила ее согласиться на ужасную шутку! Но насмешка надо мной Марии Стюарт так подействовала на бедного ребенка, что она лишилась чувств».
— Филли! — со вздохом произнес он, и в его глазах загорелась страсть.
Вдруг дверь тихонько отворилась, стройная девушка проскользнула в комнату и упала к ногам Дэдлея.
Не видя еще ее лица, граф Лейстер догадался, что перед ним Филли. Он быстро поднял ее и заметил, что слезы блестели на ее прекрасных глазах, а гибкое, стройное тело трепетало от волнения.
— Филли, это ты? — воскликнул Дэдлей. — Зачем же ты обманула меня? Но как ты прекрасна! Отчего ты дрожишь? Ты плачешь, Филли? Я не сержусь на тебя! Я знаю, что тебя принудили к этой грубой шутке. Скажи хоть одно ласковое слово, Филли!… Скажи, что ты сожалеешь о своем обмане, и я стану перед тобой на колени, как во время танцев в зале. Поверь, что я не по ошибке преклонился перед тобой, принимая тебя за королеву, я поклонялся твоей красоте!
Филли заплакала еще сильнее прежнего. Ее горячие слезы падали на руки Дэдлея, а волнение ее молодой груди и пламенный румянец без слов говорили о ее чувстве к Лейстеру.
У него кружилась голова от счастья и восторга, и он шепотом спросил девушку:
— Отчего ты ничего не говоришь, Филли? Клянусь тебе, что нисколько не сержусь на тебя!… Если бы ты даже вонзила кинжал в мое сердце, я не мог бы сердиться на тебя, а поцеловал бы твою руку. Скажи мне одно слово, Филли, одно-единственное слово! Скажи мне, что ты не ненавидишь меня, и я буду торжествовать над ошибкой королевы, которая, желая осмеять меня, доставила мне величайшее счастье.
Филли указала пальцем на свой рот, и Лейстер вдруг вспомнил о тех страданиях, которые претерпела несчастная девушка по его милости.
— О, Боже, — воскликнул он, содрогаясь от ужаса. — Как я мог позабыть об этом? Но тем дороже ты для меня, — прибавил он, привлекая к себе молодую девушку. — Твои глаза говорят, твоя улыбка обворожительна. Филли, хочешь быть моей? Я предпочту твое сердце всем королевам в мире. Что может быть выше любви прекрасной, чистой женщины? До сих пор я не знал настоящей любви, так как принимал холодный отблеск за настоящее солнце. Ты для меня будешь храмом, я буду молиться на тебя, ты вернешь мне веру в добродетель! Когда мою душу будет соблазнять тщеславие, ты спасешь меня от соблазна, как уже спасла раз мою жизнь. Как добрый гений, ты появилась сегодня передо мной и не допустила, чтобы я принес в жертву ненасытному честолюбию собственное сердце. Несмотря на весь свой блеск, Мария Стюарт — ничто в сравнении с тобой! Своим обманом — заменив себя тобой — она отдала тебе целиком мою любовь, и никогда я не выпущу тебя из своих рук.
Филли отрицательно покачала головой, горькая улыбка скользнула по ее губам, и по этой улыбке и грустному выражению глаз можно было судить, как глубоко страдает молодая девушка от того, что не может ничего ответить Лейстеру.
— Ты не хочешь любить меня? — продолжал он. — Ты, может быть, боишься, что я изменю тебе, изменю той, которая по моей милости даже лишена возможности упрекнуть меня в чем-нибудь? Или ты думаешь, что моими устами говорят благодарность, участие, сострадание, но не любовь? Филли, я сам перестал бы верить в себя, если бы мог назвать то чувство, которое питаю к тебе, каким-нибудь другим именем, а не настоящей глубокой любовью! Я знаю, ты могла бы возразить мне, что я пылал страстью к Фаншон, что мое сердце усиленно билось в присутствии Елизаветы, что я опускался перед тобой на колени с нежной мольбой, думая, что танцую с Марией Стюарт. Все это, может быть, и правда, но уверяю тебя, что ни к кому из них я не ощущал такого блаженного благоговейного чувства, какое испытываю, обнимая тебя, мою бедную Филли. Все эти герцогини и королевы возбуждали желание нравиться, — на первом плане у меня всегда было честолюбие. Но теперь этого нет и в помине. Для меня не будет большего счастья, как сознание, что я любим тобой! Как я буду гордиться твоей любовью! Никогда еще я не видел так ясно, что гнался за каким-то призраком, не находя настоящего пути к счастью; теперь же я нашел его. Я в своем тщеславии тешил себя несбыточными мечтами, строил воздушные замки и пропускал настоящую жизнь. Теперь мое неспокойное сердце найдет наконец приют, и его даст мне любовь женщины, не желающей ничего, кроме моего счастья, рисковавшей своей жизнью для моего спасения. Перед целым светом я признаю тебя королевой своей души и никогда не расстанусь с тобой.
Филли освободилась из объятий Дэдлея и со страхом смотрела на него.
— Ты, может быть, боишься, что на меня обрушится гнев Елизаветы, когда она узнает, что я увез тебя вместо того, чтобы домогаться руки Марии Стюарт? — спросил он. — Или, может быть, ты думаешь, что королева шотландская обидится, что ею пренебрегли? Что касается Елизаветы, то я очень радуюсь, представляя себе, как она огорчится, когда Мария Стюарт пошлет ей ироническое послание с уведомлением, что мой выбор пал на тебя. Это будет для нее достойной наградой за ее интригу. С королевой шотландской мне очень легко разойтись, нисколько не обидев ее, я даже могу уехать отсюда под тем предлогом, что оскорблен видимым предпочтением, которое Мария Стюарт оказывает лорду Дарнлею, не стесняясь моим присутствием.
Филли утвердительно кивнула головой.
— Ты тоже заметила, что королева отдает предпочтение Дарнлею? — спросил Лейстер. — Ты думаешь, что это — не кокетство красивой женщины, а заранее обдуманный план?
Филли снова утвердительно кивнула головой. По ее лицу было видно, что она могла бы сказать еще очень многое и с нетерпением ждет дальнейших вопросов.
— Королева любит Дарнлея?
Филли кивнула головой и сделала Дэдлею знак говорить тише.
— А меня пригласили для того, чтобы посмеяться и позабавиться на мой счет?
На этот раз Филли сделала отрицательный жест головой.
Лейстер сначала удивленно взглянул на нее, а затем вдруг сообразил, в чем дело.
— Ах, понимаю, — воскликнул он, — ты хочешь сказать, что королева обратилась ко мне для того, чтобы обмануть кого-то. Не лорда ли Мюррея?
Филли, улыбаясь, утвердительно кивнула головою.
— Теперь для меня все ясно! — продолжал Дэдлей. — Королева очень хитра и желает обратить посланника Елизаветы в марионетку. Благодарю тебя, Филли, за то, что ты избавила меня от глупейшей роли.
Филли приложила руку к губам и умоляюще смотрела на Лейстера. Он сейчас же угадал ее мысли и спросил:
— Ты хочешь, чтобы я молчал и продолжал делать вид, что ничего не замечаю, чтобы таким образом не выдать Мюррею тайного замысла его сестры?
Филли ласково обняла его, как бы желая вознаградить за ту жертву, которую у него просила.
— Разве я могу отказать тебе в чем-нибудь? — нежно прошептал Дэдлей. — Я все сделаю так, как ты прикажешь, я согласен даже показаться смешным, если ты обещаешь мне уехать отсюда вместе со мной. Если ты согласишься быть моей, то мне не страшны ничьи насмешки.
Филли снова задрожала и попыталась освободиться из объятий Дэдлея.
— Ты отказываешь мне, Филли, ты боишься меня? — с упреком проговорил он. — Неужели я — такой скверный человек, что ты, пожертвовавшая для меня всем, не можешь верить моей чести и искренней любви к тебе?
Филли со слезами взглянула на Дэдлея и, схватив его за руку, крепко прижала к своим губам.
— Ты веришь мне? — радостно воскликнул он. — Чего же ты боишься? Тебя пугает королева? Если она не пустит тебя по доброй воле, то я все равно увезу тебя. Кто же страшит тебя еще? Вальтер Брай или Роберт Сэррей? Но какое они имеют право распоряжаться твоим сердцем? Или, может быть, тебя смущают толки и пересуд, которые подымутся в обществе, когда узнают, что я отдал тебе предпочтение перед королевой? Можно избежать этих толков, я не желаю оскорблять королеву и буду в этом отношении очень осторожен. Мой преданный слуга проводит тебя в Англию. Я найду в пределах моего графства почтенную семью, которой поручу хранить тебя, мое сокровище, до тех пор, пока я освобожусь от придворной службы. Там, на свободе, мы будем наслаждаться тихой семейной жизнью среди прекрасной природы. Еще до моего возвращения в Лондон мы повенчаемся, и никто не осмелится косо взглянуть на графиню Лейстер. Ты согласна на это, Филли? Хочешь сделать меня счастливым? Если ты прогонишь меня от себя, я опять пущусь в тщеславный свет, буду пить чтобы заглушить сердечную тоску, и с нетерпением ждать того момента, когда удар шпаги более удачно попадет в меня, чем тогда, когда ты спасла меня от преследований Медичи.
Филли начала колебаться, а последнее напоминание отняло у нее силу сопротивления. Она позволила Дэдлею обнять ее и осушить ее слезы поцелуями.
Было уже около полуночи, когда Филли ушла от любимого человека и осторожно пробралась по коридору в свою комнату. Она вышла от него такой же чистой и непорочной, какой вошла к нему, но пламя страсти зажглось в ее крови и сердце забилось сладкой надеждой.
Лейстер тоже чувствовал себя счастливым, но как будто сам еще не верил тому, что произошло. Мысль, что Мария Стюарт хотела посмеяться над ним, глубоко оскорбила его. Елизавета послала его в Эдинбург, а шотландская королева предпочла ему лорда Дарнлея и заставила играть глупейшую роль. Теперь ему предстояло вернуться к Елизавете, сообщить ей о своем поражении и тешить себя вновь несбыточными честолюбивыми мечтами.
Лейстер получил почти отвращение к своему прежнему плану достичь высокого положения, пользуясь расположением женщин. Ему заманчиво рисовалась теперь простая, скромная жизнь в своем графстве вместе с очаровательной Филли.
Дэдлей вышел из апартаментов королевы и прошел через длинный коридор в отведенные для него комнаты; он не заметил, что одна из боковых дверей, примыкавших к коридору, тихонько открылась и чья-то фигура, робко озираясь вокруг, последовала за ним, чуть слышно ступая на кончиках пальцев. Придя в свои покои, Дэдлей отпустил ожидавшего его лакея и, сев в кресло, начал вспоминать события прожитого дня.
Покорить сердце Марии Стюарт оказалось не так легко, как он прежде предполагал, но тем заманчивее была для него эта победа. Ужасная шутка, которую позволила себе Мария Стюарт, произвела на него очень неприятное впечатление, но за ужином это впечатление рассеялось под влиянием любезности и остроумия королевы. Лейстер был принужден сознаться, что никогда не встречал более обворожительной женщины, чем шотландская королева. Но, несмотря на все ее чары, образ Филли не покидал Дэдлея, ему все время казалось, что прекрасная маска спрашивает: «Разве я не лучше королевы? Разве мои объятия недостаточно горячи? Ведь мне от тебя ничего не нужно, кроме любви!» «Да, она любит меня, — подумал Лейстер, — болезненная ревность заставила ее согласиться на ужасную шутку! Но насмешка надо мной Марии Стюарт так подействовала на бедного ребенка, что она лишилась чувств».
— Филли! — со вздохом произнес он, и в его глазах загорелась страсть.
Вдруг дверь тихонько отворилась, стройная девушка проскользнула в комнату и упала к ногам Дэдлея.
Не видя еще ее лица, граф Лейстер догадался, что перед ним Филли. Он быстро поднял ее и заметил, что слезы блестели на ее прекрасных глазах, а гибкое, стройное тело трепетало от волнения.
— Филли, это ты? — воскликнул Дэдлей. — Зачем же ты обманула меня? Но как ты прекрасна! Отчего ты дрожишь? Ты плачешь, Филли? Я не сержусь на тебя! Я знаю, что тебя принудили к этой грубой шутке. Скажи хоть одно ласковое слово, Филли!… Скажи, что ты сожалеешь о своем обмане, и я стану перед тобой на колени, как во время танцев в зале. Поверь, что я не по ошибке преклонился перед тобой, принимая тебя за королеву, я поклонялся твоей красоте!
Филли заплакала еще сильнее прежнего. Ее горячие слезы падали на руки Дэдлея, а волнение ее молодой груди и пламенный румянец без слов говорили о ее чувстве к Лейстеру.
У него кружилась голова от счастья и восторга, и он шепотом спросил девушку:
— Отчего ты ничего не говоришь, Филли? Клянусь тебе, что нисколько не сержусь на тебя!… Если бы ты даже вонзила кинжал в мое сердце, я не мог бы сердиться на тебя, а поцеловал бы твою руку. Скажи мне одно слово, Филли, одно-единственное слово! Скажи мне, что ты не ненавидишь меня, и я буду торжествовать над ошибкой королевы, которая, желая осмеять меня, доставила мне величайшее счастье.
Филли указала пальцем на свой рот, и Лейстер вдруг вспомнил о тех страданиях, которые претерпела несчастная девушка по его милости.
— О, Боже, — воскликнул он, содрогаясь от ужаса. — Как я мог позабыть об этом? Но тем дороже ты для меня, — прибавил он, привлекая к себе молодую девушку. — Твои глаза говорят, твоя улыбка обворожительна. Филли, хочешь быть моей? Я предпочту твое сердце всем королевам в мире. Что может быть выше любви прекрасной, чистой женщины? До сих пор я не знал настоящей любви, так как принимал холодный отблеск за настоящее солнце. Ты для меня будешь храмом, я буду молиться на тебя, ты вернешь мне веру в добродетель! Когда мою душу будет соблазнять тщеславие, ты спасешь меня от соблазна, как уже спасла раз мою жизнь. Как добрый гений, ты появилась сегодня передо мной и не допустила, чтобы я принес в жертву ненасытному честолюбию собственное сердце. Несмотря на весь свой блеск, Мария Стюарт — ничто в сравнении с тобой! Своим обманом — заменив себя тобой — она отдала тебе целиком мою любовь, и никогда я не выпущу тебя из своих рук.
Филли отрицательно покачала головой, горькая улыбка скользнула по ее губам, и по этой улыбке и грустному выражению глаз можно было судить, как глубоко страдает молодая девушка от того, что не может ничего ответить Лейстеру.
— Ты не хочешь любить меня? — продолжал он. — Ты, может быть, боишься, что я изменю тебе, изменю той, которая по моей милости даже лишена возможности упрекнуть меня в чем-нибудь? Или ты думаешь, что моими устами говорят благодарность, участие, сострадание, но не любовь? Филли, я сам перестал бы верить в себя, если бы мог назвать то чувство, которое питаю к тебе, каким-нибудь другим именем, а не настоящей глубокой любовью! Я знаю, ты могла бы возразить мне, что я пылал страстью к Фаншон, что мое сердце усиленно билось в присутствии Елизаветы, что я опускался перед тобой на колени с нежной мольбой, думая, что танцую с Марией Стюарт. Все это, может быть, и правда, но уверяю тебя, что ни к кому из них я не ощущал такого блаженного благоговейного чувства, какое испытываю, обнимая тебя, мою бедную Филли. Все эти герцогини и королевы возбуждали желание нравиться, — на первом плане у меня всегда было честолюбие. Но теперь этого нет и в помине. Для меня не будет большего счастья, как сознание, что я любим тобой! Как я буду гордиться твоей любовью! Никогда еще я не видел так ясно, что гнался за каким-то призраком, не находя настоящего пути к счастью; теперь же я нашел его. Я в своем тщеславии тешил себя несбыточными мечтами, строил воздушные замки и пропускал настоящую жизнь. Теперь мое неспокойное сердце найдет наконец приют, и его даст мне любовь женщины, не желающей ничего, кроме моего счастья, рисковавшей своей жизнью для моего спасения. Перед целым светом я признаю тебя королевой своей души и никогда не расстанусь с тобой.
Филли освободилась из объятий Дэдлея и со страхом смотрела на него.
— Ты, может быть, боишься, что на меня обрушится гнев Елизаветы, когда она узнает, что я увез тебя вместо того, чтобы домогаться руки Марии Стюарт? — спросил он. — Или, может быть, ты думаешь, что королева шотландская обидится, что ею пренебрегли? Что касается Елизаветы, то я очень радуюсь, представляя себе, как она огорчится, когда Мария Стюарт пошлет ей ироническое послание с уведомлением, что мой выбор пал на тебя. Это будет для нее достойной наградой за ее интригу. С королевой шотландской мне очень легко разойтись, нисколько не обидев ее, я даже могу уехать отсюда под тем предлогом, что оскорблен видимым предпочтением, которое Мария Стюарт оказывает лорду Дарнлею, не стесняясь моим присутствием.
Филли утвердительно кивнула головой.
— Ты тоже заметила, что королева отдает предпочтение Дарнлею? — спросил Лейстер. — Ты думаешь, что это — не кокетство красивой женщины, а заранее обдуманный план?
Филли снова утвердительно кивнула головой. По ее лицу было видно, что она могла бы сказать еще очень многое и с нетерпением ждет дальнейших вопросов.
— Королева любит Дарнлея?
Филли кивнула головой и сделала Дэдлею знак говорить тише.
— А меня пригласили для того, чтобы посмеяться и позабавиться на мой счет?
На этот раз Филли сделала отрицательный жест головой.
Лейстер сначала удивленно взглянул на нее, а затем вдруг сообразил, в чем дело.
— Ах, понимаю, — воскликнул он, — ты хочешь сказать, что королева обратилась ко мне для того, чтобы обмануть кого-то. Не лорда ли Мюррея?
Филли, улыбаясь, утвердительно кивнула головою.
— Теперь для меня все ясно! — продолжал Дэдлей. — Королева очень хитра и желает обратить посланника Елизаветы в марионетку. Благодарю тебя, Филли, за то, что ты избавила меня от глупейшей роли.
Филли приложила руку к губам и умоляюще смотрела на Лейстера. Он сейчас же угадал ее мысли и спросил:
— Ты хочешь, чтобы я молчал и продолжал делать вид, что ничего не замечаю, чтобы таким образом не выдать Мюррею тайного замысла его сестры?
Филли ласково обняла его, как бы желая вознаградить за ту жертву, которую у него просила.
— Разве я могу отказать тебе в чем-нибудь? — нежно прошептал Дэдлей. — Я все сделаю так, как ты прикажешь, я согласен даже показаться смешным, если ты обещаешь мне уехать отсюда вместе со мной. Если ты согласишься быть моей, то мне не страшны ничьи насмешки.
Филли снова задрожала и попыталась освободиться из объятий Дэдлея.
— Ты отказываешь мне, Филли, ты боишься меня? — с упреком проговорил он. — Неужели я — такой скверный человек, что ты, пожертвовавшая для меня всем, не можешь верить моей чести и искренней любви к тебе?
Филли со слезами взглянула на Дэдлея и, схватив его за руку, крепко прижала к своим губам.
— Ты веришь мне? — радостно воскликнул он. — Чего же ты боишься? Тебя пугает королева? Если она не пустит тебя по доброй воле, то я все равно увезу тебя. Кто же страшит тебя еще? Вальтер Брай или Роберт Сэррей? Но какое они имеют право распоряжаться твоим сердцем? Или, может быть, тебя смущают толки и пересуд, которые подымутся в обществе, когда узнают, что я отдал тебе предпочтение перед королевой? Можно избежать этих толков, я не желаю оскорблять королеву и буду в этом отношении очень осторожен. Мой преданный слуга проводит тебя в Англию. Я найду в пределах моего графства почтенную семью, которой поручу хранить тебя, мое сокровище, до тех пор, пока я освобожусь от придворной службы. Там, на свободе, мы будем наслаждаться тихой семейной жизнью среди прекрасной природы. Еще до моего возвращения в Лондон мы повенчаемся, и никто не осмелится косо взглянуть на графиню Лейстер. Ты согласна на это, Филли? Хочешь сделать меня счастливым? Если ты прогонишь меня от себя, я опять пущусь в тщеславный свет, буду пить чтобы заглушить сердечную тоску, и с нетерпением ждать того момента, когда удар шпаги более удачно попадет в меня, чем тогда, когда ты спасла меня от преследований Медичи.
Филли начала колебаться, а последнее напоминание отняло у нее силу сопротивления. Она позволила Дэдлею обнять ее и осушить ее слезы поцелуями.
Было уже около полуночи, когда Филли ушла от любимого человека и осторожно пробралась по коридору в свою комнату. Она вышла от него такой же чистой и непорочной, какой вошла к нему, но пламя страсти зажглось в ее крови и сердце забилось сладкой надеждой.
Лейстер тоже чувствовал себя счастливым, но как будто сам еще не верил тому, что произошло. Мысль, что Мария Стюарт хотела посмеяться над ним, глубоко оскорбила его. Елизавета послала его в Эдинбург, а шотландская королева предпочла ему лорда Дарнлея и заставила играть глупейшую роль. Теперь ему предстояло вернуться к Елизавете, сообщить ей о своем поражении и тешить себя вновь несбыточными честолюбивыми мечтами.
Лейстер получил почти отвращение к своему прежнему плану достичь высокого положения, пользуясь расположением женщин. Ему заманчиво рисовалась теперь простая, скромная жизнь в своем графстве вместе с очаровательной Филли.
II
На другое утро Лейстер призвал к себе своего доверенного слугу Томаса Кингтона.
Последний принадлежал к числу тех слуг, которые стремятся поступить в богатый дом, где изучают обычаи и привычки своих господ, и затем, нажив состояние, сами становятся барами. Кингтон прекрасно знал все слабые стороны своего господина, был посвящен в некоторые семейные тайны и потому пользовался большим доверием Дэдлея.
— Кинггон, — обратился к своему слуге Лейстер, когда тот вошел в его комнату, — я ищу человека, который был бы ловок, храбр, молчалив и настолько предан мне, что в случае нужды рискнул бы своей жизнью для меня.
— Милорд, если вы пожелаете осчастливить меня своим доверием… — начал Кингтон.
— Да, я подумал о тебе, — прервал его Дэдлей, — потому и позвал тебя. Я знаю, что ты достаточно ловок и умен для того дела, которое я хочу поручить тебе, но сомневаюсь, хватит ли у тебя храбрости…
— Испытайте меня, ваше сиятельство, — предложил Кинггон.
— Мне нужен человек, который не растерялся бы перед опасностью, старался бы умно обойти ее и ни в коем случае не скомпрометировал бы меня.
— Я понимаю, ваше сиятельство, вам нужен такой человек, который решился бы сделать за вас то, что в данную минуту вы сами не можете выполнить, причем никто не должен знать, что дело исполняется по вашему приказанию.
— Мне нравится твой образ мыслей, — улыбаясь, заметил Дэдлей, — скажи мне, что прочел бы настоящий слуга в моих глазах в этот момент? Какое у меня желание?
— Вы желали бы, милорд, чтобы я нашел двух или трех ловких наездников, которые не побоялись бы самого черта и смяли бы копытами своих лошадей всякого шотландского лорда, встретившегося на их пути. Я должен вместе с этими наездниками препроводить за границу молодую женщину и позволить себя повесить, если ее украдут по дороге.
— Ты, верно, находишься в сношении с дьяволом! — смущенно воскликнул Лейстер. — С чего ты взял, что я хочу увезти какую-то женщину?
— Весь двор говорит о том, что вчера над вами пошутили, слуги Мюррея хохочут, и я знаю человека, у которого чешутся руки от желания разбить головы этим зубоскалам. Камер-юнгфера королевы очень красива, она любит вас, ваше сиятельство, и вы, желая отомстить за глупую шутку, хотели бы увезти в Англию молодую девушку.
— Это ты все сам угадал? — недоверчиво спросил Дэдлей.
— Я слышал, милорд, как вчера вечером открылась дверь вашей комнаты, а через час я видел, как по коридору быстро промелькнула женская фигура и скрылась в апартаментах ее величества.
— Ты просто шпионил! — резко заметил Лейстер.
— Конечно, милорд, — спокойно согласился Кинггон. — Граф Мюррей и лорд Дарнлей следят за вами, и я должен был позаботиться о том, чтобы никто не узнал о посещении молодой девушки, иначе сегодня же донесли бы обо всем королеве.
— Вот как? Эти лорды следят за мной? — удивился Лейстер. — А ты уверен, что никто не заметил Филли?
— Я схватил бы всякого, кто осмелился бы показаться в коридоре, ваше сиятельство! — ответил Кинггон.
— Ты поступил бы правильно! — похвалил его Дэдлей.
— А ты слышал, о чем мы говорили?
— Нет, я не стараюсь проникнуть в те тайны, в которые меня не желают посвящать!
— И ты об этом не пожалеешь! — произнес Дэдлей. — Ты знаешь, королева предполагает не принять моего предложения, так как любит графа Дарнлея.
— Нет, милорд, она просто боится графа Мюррея и, чтобы освободиться от него, остановила свой выбор на лорде Дарнлее! — возразил Кингтон.
— Возможно! Во всяком случае меня она не хочет избрать своим мужем, а я не имею ни малейшего желания играть глупую роль. Я найду случай сказать королеве, что понимаю ее тактику, и постараюсь уехать раньше, чем ей вздумается отослать меня. Но прежде всего мне необходимо увезти отсюда Филли. Я люблю эту девушку и ничего не пожалею для тебя, если ты сумеешь выполнить тот план, который я задумал. Никто не должен знать, что я принимаю участие в побеге Филли, иначе меня с насмешкой и позором выпроводят из Шотландии. Филли знает, что ее увезут, ты должен сопровождать ее и благополучно доставить в Лейстер. Там ты найдешь для нее приличное жилье и будешь обращаться с ней, как с невестой твоего господина. Она ни в чем не должна терпеть недостатка, и каждое ее желание должно быть исполнено немедленно. Но самое главнее — это то, чтобы никто не нашел ее. Ни королевы, ни ее лордов нечего опасаться в этом отношении — их не особенно будет беспокоить отсутствие девушки; но есть двое господ, которые употребят все усилия для того, чтобы разыскать Филли. Я скажу им, что послал тебя по делу в Лейстер, и попрошу обратиться к тебе за справками, если у них явится подозрение, что Филли скрывается в Лейстере. Ты, конечно, так поведешь дело, что ни в коем случае не найдут Филли. Я дам тебе с собой письмо, в котором приказываю всем своим служащим беспрекословно повиноваться тебе.
— Все устроится по вашему желанию, — воскликнул Кингтон, — ручаюсь вам за успех своей головой. Однако я должен знать имена тех господ, от которых вы предостерегаете.
— Одного из них ты знаешь, это — лорд Сэррей, а другой — сэр Брай из Дэнсфорда, по происхождению шотландец…
— Я его тоже знаю, это — тот самый господин, который должен был вместе с вами представиться королеве английской и не мог сделать это, потому что графиня Гертфорд подлила ему яд в вино.
— Какой черт сообщает тебе все? — с удивлением вскрикнул Дэдлей.
— Я состою, ваше сиятельство, в дружбе с камердинером лорда Бэрлея! — спокойно ответил Кинггон.
— Я вижу, что ты для меня настоящее сокровище! Сто гиней будут в твоем распоряжении, если я найду Филли в Лейстере.
— Я заслужу эту награду, милорд. Не соблаговолите ли вы написать мне сейчас же обещанное полномочие, и я тогда возьмусь за дело, не медля ни минуты. Хорошо было бы, если бы вы отпустили меня поскорее. Не следует, чтобы мой отъезд отсюда совпал с моментом исчезновения девушки.
Дэдлей написал нужные бумаги; Кингтон простился с ним и через час выехал из Сент-Эндрю, а еще через два часа вернулся, но уже в другие ворота и в совершенно неузнаваемом виде. Он сбрил бороду и так загримировался, что никто не узнал бы в нем камердинера графа Лейстера. Он вошел в один из кабачков самого низшего разбора, где сидели разного рода темные личности, среди которых Кингтон рассчитывал найти для себя подходящих помощников, и выдал себя за арендатора, желающего приобрести лошадей. Со всех сторон послышались советы, куда следует обратиться. Кингтон так щедро угостил своих советчиков пивом и вином, что через несколько часов многие из них свалились под стол. Только один из всей компании, несмотря на то, что выпил много, не поддавался действию алкоголя.
— Почему вы не выпьете еще пива? — предложил Кингтон, с интересом рассматривая этого человека.
— Потому что не хочу напиться допьяна и желаю знать, что заставляет вас быть щедрым! — ответил незнакомец.
— Я уже сказал вам, что я — арендатор; мне нужны лошади, и я угощаю в благодарность за совет, где найти хороших лошадей! — промолвил Кингтон.
— Рассказывайте это кому-нибудь другому! — возразил незнакомец. — Вы — не арендатор нашего округа, так как наши арендаторы знают, что за лошадьми ни к чему приезжать в Сент-Эндрю.
— В таком случае вы, может быть, считаете меня заговорщиком, желающим похитить королеву?
— Из-за королевы ссорятся лорды, — смеясь, ответил шотландец, — но скоро все заржавленные кинжалы будут пущены в ход из-за ее милости. Что касается вас, то вы, вероятно, преследуете какую-нибудь девушку. Если это — не Бэтси Шмид, то я готов помочь вам, за приличную монету я даже не прочь продать свою голову.
— Тогда вам не придется сражаться с лордами! — шутливо сказал Кингтон. — Вы на чьей стороне? На стороне лорда Мюррея или католиков?
— Я всегда на стороне тех, кто мне лучше платит! — заявил шотландец.
— Это нечестно!
— Оскорбление было настолько неожиданным, что в первый момент шотландец не поверил своим ушам.
— Что вы, ссоры ищете, что ли? — воскликнул он, хватаясь за меч.
Кингтон, пожав плечами, презрительно сказал:
— Оставьте в покое этот вертел, или я почешу вам затылок своим клинком.
Шотландец встал, обнажил меч и смерил Кингтона вызывающим взглядом.
— Вы первый, — сказал он, — кому Ричард Пельдрам не обрезал на память уши за первое же оскорбление. Но я сделаю это сейчас.
Кингтон так же быстро обнажил свой меч, едва он успел выступить против Пельдрама, как тот бурно перешел в нападение, и его бешенство росло по мере того, как он все более и более убеждался, что противник в значительной степени искуснее его. Он слепо наносил удары, и Кингтон смеясь парировал их. Наконец, словно ему надоела эта забава, он ловким финтом вышиб у Пельдрама оружие из рук.
— Довольно! — улыбнулся Кингтон. — Я только хотел убедиться, можете ли вы и в пьяном виде как следует держать меч в руках. Я привык испытывать храбрость тех людей, которых приглашаю на службу. Хотите поступить ко мне?
Пельдрам был сильно сконфужен своим поражением, но неожиданное предложение так поразило его, что он забыл о ссоре.
— Сэр, — ответил он, — у вас довольно-таки странная манера нанимать людей, и если ваш кошелек так же щедр, как и меч, то об этом стоит поговорить. Но я, Ричард Пельдрам из Обистипэля, не пойду на службу к первому встречному. Прежде чем я последую за вами, вам придется доказать мне, что вы принадлежите действительно к знати.
— Дурень, если вы последуете за мной, то будете носить цвета первого лорда Англии. Но какое вам дело до этого, раз вам будет щедро заплачено за труды?
— Ну, мне очень много дела до этого! Раз я буду носить чьи-либо цвета, то хочу иметь возможность гордиться своим господином, иначе я предпочитаю драться за свой счет. Вы не лорд, так скажите же мне, кто ваш господин?
— Почему вы думаете, что я — не лорд? — спросил Кингтон.
— Это видно по всем ухваткам. Как бы вы ни швыряли деньги на ветер, а я головой ручаюсь, что вы никогда не носили пэрской короны.
Кингтон почувствовал себя уязвленным в своем самолюбии и решил понизить сумму жалованья, которую наметил дать Пельдраму.
— Вы правы, — сказал он, — я не лорд, но из ваших переговоров ничего не выйдет, если вы захотите узнать имя моего господина ранее того, как мы перемахнем за границу. Так вот, хотите поступить ко мне на службу или нет?
— Кто начинает с малого, доходит до большего. Если в качестве вашего слуги я окажусь слугой лорда, то я буду доволен.
В оплате Пельдрам оказался менее требовательным, чем ожидал Кингтон. Столковавшись с ним и приказав нанять надежного оруженосца и ждать за два часа до полуночи у Эдинбургских ворот перед Сент-Эндрю, он вышел из шинка, чтобы дать знать графу, что для побега все приготовлено и он будет ждать даму в десятом часу вечера у выхода из дворца.
III
Филли покинула графа в состоянии такого блаженного опьянения, которое, рассеиваясь, оставляет в сердце тоску и переполняет его пламенным желанием. Для бедной немой любовь была растеньицем, которое тихо и нежно взращивалось тоской. Когда из пустынных болот, где она гонялась за дичью, Филли вывели на шум жизни, когда ее послали в дом той самой женщины, которая когда-то валялась в подземелье, а теперь умывалась в тазах из червонного золота, когда родная мать брезгливо отшатнулась от уродца и при виде своего ребенка почувствовала только стыд и боязнь, как бы ребенок не обокрал и не скомпрометировал ее, — тогда в сердце Филли словно лопнула струна, жалобный звук которой истерзал ей душу. Старуха Гут приготовила ее к такому приему. Филли увидела, что ее презирают, подозревают, отталкивают. Бесконечное страдание переполнило ей душу, и когда бабушка Гут передала ее незнакомым мужчинам, Филли показалось, будто ее выталкивают в холодный, бездушный мир. Она должна принадлежать чужим, все узы, которые прежде связывали ее, теперь были порваны. Дрожа от страха, она подошла к этим мужчинам пугливо, недоверчиво и ждала самой злой судьбы, жестоких слов и холодного издевательства, а вместо всего этого встретила то, что никогда еще не доставалось ей в удел, а именно внимательность и любовь!
Серьезный Вальтер Брай обходился с ней как отец, во всей его суровости, во всем его замкнутом, наружно холодном существе было что-то, что переполняло сердце Филли благоговением. И когда она разглядела всю его доброту и увидела, с какой искренней сердечностью он относится к ней, то поняла, что может верить в него, как в Бога. В Сэррее она полюбила благородство духа, глубину искреннего чувства, он стал для нее другом, братом, и в нем она видела идеал гордой мужественности и силы характера. К Браю и Сэррею она приближалась с неизменным почтительным страхом, но Дэдлей… тот был ей ближе всех.
В нем она видела юность, честолюбие, улыбку жизни. Брай и Сэррей следили за Дэдлеем, как за сыном, которого надо оберегать и приключения которого способны вызвать у серьезных людей только улыбку. И Филли чувствовала себя с этой неразлучной троицей так, как если бы выросла около них, она делила с ними их опасности, была их вестником, оружием, недремлющим оком. Как боялась она за Дэдлея, с какой радостью поставила она на карту свою жизнь, только чтобы спасти его! Благодарность переполняла душу Филли, а преданность делала счастливой, она сознавала, какую пользу приносит друзьям, и это было ее гордостью.
Она и не заметила, как в ее сердце прокралась любовь, Дэдлей почти не обращал на нее внимания, он был единственным, не догадывавшимся о том, что она девушка.
Филли пожертвовала собою для Дэдлея, и на одре страданий для нее было громадным утешением сознавать, что она страдает и терпит ради возлюбленного.
Теперь она снова увидела его. Каким пламенем загорелась ее кровь, какой бурей заволновалась грудь, когда ее взгляд покорил его!… Но как она боялась, что, когда она снимет маску, он презрительно отвернется от служанки. Она не находила себе места, пока не бросилась к его ногам и не открыла ему обмана. А он?.. Он не оттолкнул ее, он узнал ее, обнял, поцеловал и позвал с собой: «Беги со мной, стань моей женой!»
И эти слова опьянением страсти вознесли Филли на седьмое небо, и когда, сидя в своей комнате, она погрузилась в сладкие воспоминания, то одна мысль: «Он любит меня!» — отгоняла прочь всякие сомнения. Какое дело было ей до того, лорд ли он или пастух? Для нее он был человеком, которого она любила, за которого была готова тысячу раз пожертвовать жизнью. За себя Филли нисколько не боялась. Что значила для нее ее жизнь, которую могла бы она потерять, если бы он отвернулся от нее? Вся ее жизнь была в его улыбке, теперь она была его собственностью. Кем бы ни собирался он сделать ее — женой или служанкой, она должна была повиноваться с радостью или слезами, блаженством или смертью в сердце!
Графский слуга подал ей записку:
«Будь в десятом часу у выхода парка и последуй за тем, кто назовет тебе мое имя!»
«Я должна бежать отсюда? — взволновалась Филли. — Но ведь королева была моей благодетельницей. Мария Сэйтон, Риччио — все обращались со мной с самой сердечной ласковостью, и всем им я несомненно покажусь неблагодарной и презренной, если я тайно покину замок».
Но этого хотел он, Дэдлей, а ведь только ему принадлежала ее душа. И эта душа с полным, слепым доверием отнеслась к приказанию Дэдлея.
Когда настал назначенный час, Филли выскользнула в парк и вышла за ворота. Кинггон уже ждал ее там, и едва только подал он ей знак, как она последовала за ним; через несколько минут они увидели за воротами Пельдрама с приготовленными лошадьми.
Кингтон помог Филли сесть в седло, и кавалькадатронулась в путь. Он напрасно пытался заглянуть в лицо своей спутнице — Филли подняла воротник и наглухо закрылась им.
Когда всадники проскакали бешеным карьером около двух часов и могли считать себя в безопасности от всякого преследования, Кингтон, сдерживая бег лошади, начал говорить комплименты Филли по поводу ее выносливости. Он во что бы то ни стало хотел завязать с нею разговор и, представившись новой возлюбленной своего господина преданнейшим слугой, приобрести влияние, которое очень легко дается в подобных случаях, но был немало разочарован, когда не получил ни малейшего ответа, и Филли только сделала знак, словно желая, чтобы лошади опять поскакали прежним быстрым карьером.
— Вам нечего бояться, леди, — сказал Кингтон. — Сэр Пельдрам, мой шталмейстер, ведет нас по такой дороге, мысль о которой не придет в голову нашим преследователям. А когда мы оставим позади замок Дугласа, тогда будем уже в совершеннейшей безопасности. Видите на горизонте башню? Эго — сторожевая башня Черного Дугласа. Авось мы доберемся до нее еще до восхода Солнца. Тогда мы спрячемся в недрах леса, который доведет нас до границы. Поэтому разрешите теперь дать отдохнуть лошадям; может случиться, что им понадобятся все их силы, чтобы быстро миновать сторожевую башню. У дугласовских дозорных острое зрение, а его всадники любят затевать ссору.
— Нам нечего бояться! — вмешался в разговор Пельдрам. — Мне будет очень жалко, если не подвернется случая обменяться в честь прекрасной леди парой ударов меча.
— Сэр Пельдрам, — возразил Кингтон, — мы постараемся избежать всякого столкновения, потому что дело заключается вовсе не в том, чтобы показывать свою отвагу, а в том, чтобы благополучно доставить эту леди в Лейстер. Леди, скажите ему сами, — обратился он к Филли, — что его задиристость нигде не могла бы повести к худшим последствиям, чем в этой скачке!
Филли сделала жест согласия.
— Чертовски гордая барыня! — буркнул в бороду Пельдрам, но Филли, которая поняла, что ее молчаливость может быть объяснена в дурную сторону, показала на свой рот и печально покачала головой.
— Граф, вероятно, приказал вам не отвечать на наши вопросы? — шепнул Кингтон.
— Но когда Филли еще раз покачала головой, он вдруг вспомнил, что и в тот вечер, когда подслушивал разговор графа с возлюбленной, он не слышал ее голоса.
— Как? — воскликнул он. — Неужели вы немы?
Филли утвердительно кивнула, причем немного отвернула воротник и еще раз показала на свои губы.
— Ужасно! — вздрогнул Кингтон.
Он подумал, что граф Лейстер не мог сделать немую своей женой, а если в порыве страсти и обещал ей это, то несчастие Филли все равно отвратит его от исполнения своего обещания. Значит, Филли неизменно будет обманута и будет рада, если кто-нибудь другой протянет потом ей руку помощи. Тот же, кто сделает это, окажет большую услугу графу и обяжет его благодарностью на всю жизнь, потому что обман несчастной калеки мог бы навлечь в случае его оглашения большие неприятности.
Кингтон уже видел широко распахивающиеся перед ним ворота блестящей будущности; надо только старательно беречь это сокровище, которое может вложить в его руки тайну и честь его господина, этим можно было бы заложить очень прочный фундамент для жизни.
IV
Всадники приближались к замку Дугласа. Этот замок был расположен на скалистом утесе, отвесно и мрачно выдвигавшемся из темного леса, на стенах стояли пушки, перед воротами развевался флаг Дугласа.
Как только всадники подъехали на сотню шагов к замку, привратник затрубил в рог.
— Теперь дайте шпоры лошадям, — воскликнул Кингтон. — Мы должны быть в лесу раньше того, чем эти любопытные парни насторожатся и спустятся с замковой горы, если им придет в голову спросить нас, куда мы едем. Но что это? — крикнул он в тот самый момент, когда лошади понеслись полным карьером, — из замка выехали два всадника, словно поджидали нас? Это — не Дуглас и не его оруженосец; перевязь-то — зеленого цвета…
— Это — гость Дугласа, — ответил Пельдрам. — Он едет медленно, нам нечего бояться, бешеная езда может только вызвать его подозрения.
— Дайте шпоры! Никто не должен встретиться с нами. Вот видите! Он поскакал быстрее…
Кингтон стегнул нагайкой лошадь девушки, однако в тот же момент Филли так сильно натянула поводья, что та даже вскинулась на дыбы. В одном из всадников Филли узнала Брая и, забыв все и вся, спустила капюшон, чтобы покровитель мог ее узнать.
Но Кингтон бешено схватил ее лошадь за поводья и воскликнул:
— Леди, вы с ума сошли, что ли? Никто не должен видеть вас, хоть бы это был ваш родной брат. Вы этим выдадите графа Лейстера, испортите его план и погубите все! Знайте: каждый, кто встретит нас во время этого бегства, является нашим врагом. Неужели вы хотите, чтобы пролилась кровь?
Он снова надвинул на голову Филли капюшон, обнажил меч и перерезал поводья ее лошади, так ее ударив, что та в бешенстве рванулась вперед и в несколько прыжков достигла лошади Пельдрама.
— Стой! — загремел Вальтер Брай всадникам, мчавшимся мимо него в бешеной скачке.
Кингтон успел ударить булавой по голове его лошади, так что та рухнула на всем скаку, увлекая за собой всадника, не ожидавшего подобного ответа.
— Филли! — простонал Брай, стараясь выбраться из-под придавившего его коня. — Филли, — пробормотал он, видя, что всадников и след простыл, — неужели ты стала такой же распутницей, как и Кэт Блоуэр?
Оруженосец помог ему выбраться из-под лошади и под руку повел обратно в замок, так как Брай был не способен сесть верхом на другую лошадь.
В комнате для гостей, в сторожевой башне, лежал Сэррей. Друг только что простился с ним, так как ему не давало покоя нетерпение поскорее разыскать Филли. У окна сидел человек преждевременно состарившийся. Его руки и ноги повисли, словно омертвевшие, лицо было бледно и покрыто глубокими морщинами, волосы — совершенно седые, а взор тускл. Рядом с ним стоял человек в полном расцвете жизни и здоровья. Оба они смотрели в окно, видели всадников, заметили, как рухнул вниз Вальтер Брай. Лицо здорового омрачилось, дикая страсть вспыхнула во взоре, он распахнул окно и крикнул на двор: «На коней, все на коней!» — а затем бросился из комнаты.
Сидевший в кресле больной тоже выпрямился, но на его лице заиграло злорадство и хитрая злобность.
— Брай сброшен с седла, — крикнул он Сэррею, — молитесь за вашего друга!
Насмешка и радость звучали в этих словах тем ужаснее, что этот мрачный человек олицетворял собою одно сплошное отчаяние и все-таки радовался несчастию другого. Это был лорд Бэклей.
Сэррей не успел выехать из замка, так как Брай уже приближался к сторожевой башне.
— Дуглас погнался за ними, — мрачно пробормотал Вальтер, и его кулак судорожно сжался. — Ты был прав, Сэррей, в своих предчувствиях, когда торопил меня скорее ехать в Сент-Эндрю. Теперь уже поздно спасти Филли, но, клянусь Богом, я отомщу за нее!
— Ты говоришь о Филли! Бога ради, что случилось?
— Она проскакала мимо меня. Она меня узнала, хотела поздороваться со мной, но стыд заставил ее проехать поскорее мимо, а ее подлый обольститель ударил мою лошадь железной палицей. Подлец скрыл свое лицо, но я найду этого негодяя и посчитаюсь с ним.
— Брай, ты фантазируешь! Дэдлей не решится на это!
Ага, значит, ты тоже угадываешь, кто этот обольститель! Ты вслух называешь имя, которое я проклинаю про себя!
— Я делаю это, зная твою подозрительность. Но Дэдлей не решится употребить насилие!
— Он не решится вступить в открытый бой, поэтому-то предательски и убил моего коня. Это он, никто другой не отгадал бы во мне врага; но клянусь всем тем горем, которое доставила мне Кэт Блоуэр, клянусь этой искалеченной собакой Бэклеем, который жрет из милости хлеб своего палача, что я кровавой местью отомщу за дочь Кэт, что мой кинжал пронзит подлое сердце обольстителя и что никакой Дуглас, никакая королева не встанут между мной и намеченной жертвой.
Лорд Бэклей насмешливо повел плечами. Мысль о том, что дочь Кэт и Дугласа стала такой же распутницей, как и ее мать, примирила его с разбитыми надеждами и с тем презрительным великодушием, с которым Брай подарил ему жизнь, и оживило его жаждущее мести сердце.
Брай увидел эту насмешливую улыбку и мрачно буркнул:
— Змея таит в себе яд, а все-таки жаль было бы растоптать ее. Мы — дураки, Сэррей, если верим в добродетель! Найди себе жену, а я убью ее ради твоего же блага, чтобы она не успела обмануть тебя и подарить ребенка от своего любовника!…
Глаза Вальтера дико сверкали, словно в припадке сумасшествия. А из леса слышались звуки рожка Черного Дугласа, призывавшего своих людей к погоне за беглецами.

Глава одиннадцатая
ОТКАЗ

I
 Бегство Филли было скоро обнаружено в замке Сент-Эндрю, но вызвало гораздо меньше разговоров и привлекло меньше внимания, чем этого опасался Дэдлей. Никто не заподозрил его в таком поступке, который был бы слишком большим оскорблением для королевы, и мысль, что Филли увезена Сэрреем с ее согласия, показалась особенно вероятной, когда узнали, что Роберт внезапно выехал из Эдинбурга. Вскоре общее внимание было отвлечено другими, более важными делами. Дарнлей заболел страшной горячкой, и Мария Стюарт не отходила от больного, ухаживая за ним. Этот экстравагантный шаг, наносивший неизгладимый удар всем пуританским взглядам шотландцев, не оставлял сомнения, что Мария изберет в супруги именно Дарнлея, отказав послу Елизаветы. Лейстер был уже приготовлен к этому, как вдруг его пригласили пожаловать к королеве.
Он застал ее в будуаре и был прият так сердечно, что в тайниках души даже пожалел, почему до сих пор не предпринимал никаких мер, чтобы завоевать ее сердце, пока оно не было отдано другому.
— Граф Лейстер, — сказала Мария Стюарт, — я глубоко раскаиваюсь, что оскорбила вас. Я видела в вас посла Елизаветы, которая обольщается надеждой, что ей достаточно послать ко мне блестящего кавалера, чтобы мое сердце было покорено. И мысль, что вы разделяете ее точку зрения, заставила меня сыграть веселую шутку над вашим честолюбием. Простите мне эту шутку. А для того, чтобы доказать вам, насколько я не хочу долее обманывать вас, я признаюсь вам в том, что до сих пор должна была скрывать от всех и каждого и что уж никак не должно было дойти до ушей посла Елизаветы: я решила избрать себе в супруги лорда Дарнлея. Теперь вы знаете мою тайну, выдав ее моим врагам, вы можете погубить и меня, и Дарнлея, так как у меня еще нет власти защитить его против Мюррея. Тем не менее я предпочитаю лучше действовать неразумно, чем обманывать того, кто недавно признался мне в своей любви. Я не желаю мужа, которого мне навязывает Елизавета, и именно потому, что я верю вам и очень уважаю вас, милорд, я и говорю вам это прямо.
Никогда еще Мария Стюарт не была так прекрасна, как в этот момент, никогда еще очарование ее прелести не было так увлекательно, как теперь, когда она говорила от чистого сердца, в глубоком волнении задевая самые чистые чувства Лейстера.
Он бросился перед ней на колени, схватил ее руку и, покрыв ее бесчисленными поцелуями, сказал:
— Ваше величество, вы наносите смертельную рану моему сердцу, но в то же время проливаете на него целительный бальзам. Вы дарите меня своим доверием, и я всецело отдаюсь вам. Пусть поднимают на смех посла Елизаветы, достаточно и того, если вы поймете меня. Несмотря на то, что мои самые радужные надежды потерпели крушение, я буду думать только о вашем счастье; я постараюсь обмануть Мюррея и примирить всех в Лондоне с мыслью о том, что шотландский трон достанется Генриху Дарнлею. Никогда еще в жизни я не любил ни одной женщины так, как вас, и чувствую это я особенно остро именно теперь, так как готов отказаться от вас ради вашего благополучия. Если же вы будете счастливы, то вспомните меня и скажите: «Дэдлею я обязана тем, что он проложил дорогу к моему счастью!»
— Так и будет, лорд Лейстер, — взволнованно сказала Мария Стюарт, — я буду знать, что около Елизаветы находится один из моих вернейших друзей.
Рука королевы ласково скользнула по волосам коленопреклоненного Дэдлея, а затем она вдруг схватила коробочку, вынула оттуда маленький портрет-миниатюру и, подав ее Дэдлею, с очаровательной улыбкой шепнула ему:
— Вот мой портрет, его постоянно носил мой муж Франциск. Возьмите его с собой вместо меня!
Лейстер прижал портрет к губам, простился с королевой взглядом отвергнутого поклонника и поспешил уйти из комнаты.
«Филли утешит меня, — думал он, — теперь это решено. Так, очевидно, пожелало Провидение. Что такое любовь женщины и честолюбие! Никогда, никогда Елизавета не могла бы предложить мне то, что сказала Мария и что сделала Филли. В ее объятиях я буду счастлив, счастливее тебя, Мария Стюарт, так как меня не придавливает своею тяжестью никакая корона, никто не будет оспаривать у меня красавицу Филли!»
Но судьба захотела немедленно ответить Дэдлею на эти слова.
Перед воротами замка послышались звуки фанфар, и перед резиденцией королевы показался Черный Дуглас в сопровождении Брая, Сэррея и вооруженных солдат.
Лейстер сразу догадался, что привело их сюда, и непреодолимый ужас пронизал его от головы до пят: эти люди могли узнать о бегстве Филли только в том случае, если беглецы пойманы; но ведь тогда он будет заклеймен позором, подвергнется презрению Марии Стюарт и гневу Елизаветы как изменник!
Только наглая ложь и могла спасти его. Что значили в сущности показания слуги (если Кингтон предал его) против слов его, лорда? Филли нема. Если она любит его, то кто мог бы заставить ее знаком указать, что виновник ее бегства он; если же она любит его далеко не так горячо, чтобы потерпеть из-за него стыд, — ну, тогда ему совершенно не стоит страдать из-за нее, тогда она погибнет ради его спасения.
Бегство Филли было скоро обнаружено в замке Сент-Эндрю, но вызвало гораздо меньше разговоров и привлекло меньше внимания, чем этого опасался Дэдлей. Никто не заподозрил его в таком поступке, который был бы слишком большим оскорблением для королевы, и мысль, что Филли увезена Сэрреем с ее согласия, показалась особенно вероятной, когда узнали, что Роберт внезапно выехал из Эдинбурга. Вскоре общее внимание было отвлечено другими, более важными делами. Дарнлей заболел страшной горячкой, и Мария Стюарт не отходила от больного, ухаживая за ним. Этот экстравагантный шаг, наносивший неизгладимый удар всем пуританским взглядам шотландцев, не оставлял сомнения, что Мария изберет в супруги именно Дарнлея, отказав послу Елизаветы. Лейстер был уже приготовлен к этому, как вдруг его пригласили пожаловать к королеве.
Он застал ее в будуаре и был прият так сердечно, что в тайниках души даже пожалел, почему до сих пор не предпринимал никаких мер, чтобы завоевать ее сердце, пока оно не было отдано другому.
— Граф Лейстер, — сказала Мария Стюарт, — я глубоко раскаиваюсь, что оскорбила вас. Я видела в вас посла Елизаветы, которая обольщается надеждой, что ей достаточно послать ко мне блестящего кавалера, чтобы мое сердце было покорено. И мысль, что вы разделяете ее точку зрения, заставила меня сыграть веселую шутку над вашим честолюбием. Простите мне эту шутку. А для того, чтобы доказать вам, насколько я не хочу долее обманывать вас, я признаюсь вам в том, что до сих пор должна была скрывать от всех и каждого и что уж никак не должно было дойти до ушей посла Елизаветы: я решила избрать себе в супруги лорда Дарнлея. Теперь вы знаете мою тайну, выдав ее моим врагам, вы можете погубить и меня, и Дарнлея, так как у меня еще нет власти защитить его против Мюррея. Тем не менее я предпочитаю лучше действовать неразумно, чем обманывать того, кто недавно признался мне в своей любви. Я не желаю мужа, которого мне навязывает Елизавета, и именно потому, что я верю вам и очень уважаю вас, милорд, я и говорю вам это прямо.
Никогда еще Мария Стюарт не была так прекрасна, как в этот момент, никогда еще очарование ее прелести не было так увлекательно, как теперь, когда она говорила от чистого сердца, в глубоком волнении задевая самые чистые чувства Лейстера.
Он бросился перед ней на колени, схватил ее руку и, покрыв ее бесчисленными поцелуями, сказал:
— Ваше величество, вы наносите смертельную рану моему сердцу, но в то же время проливаете на него целительный бальзам. Вы дарите меня своим доверием, и я всецело отдаюсь вам. Пусть поднимают на смех посла Елизаветы, достаточно и того, если вы поймете меня. Несмотря на то, что мои самые радужные надежды потерпели крушение, я буду думать только о вашем счастье; я постараюсь обмануть Мюррея и примирить всех в Лондоне с мыслью о том, что шотландский трон достанется Генриху Дарнлею. Никогда еще в жизни я не любил ни одной женщины так, как вас, и чувствую это я особенно остро именно теперь, так как готов отказаться от вас ради вашего благополучия. Если же вы будете счастливы, то вспомните меня и скажите: «Дэдлею я обязана тем, что он проложил дорогу к моему счастью!»
— Так и будет, лорд Лейстер, — взволнованно сказала Мария Стюарт, — я буду знать, что около Елизаветы находится один из моих вернейших друзей.
Рука королевы ласково скользнула по волосам коленопреклоненного Дэдлея, а затем она вдруг схватила коробочку, вынула оттуда маленький портрет-миниатюру и, подав ее Дэдлею, с очаровательной улыбкой шепнула ему:
— Вот мой портрет, его постоянно носил мой муж Франциск. Возьмите его с собой вместо меня!
Лейстер прижал портрет к губам, простился с королевой взглядом отвергнутого поклонника и поспешил уйти из комнаты.
«Филли утешит меня, — думал он, — теперь это решено. Так, очевидно, пожелало Провидение. Что такое любовь женщины и честолюбие! Никогда, никогда Елизавета не могла бы предложить мне то, что сказала Мария и что сделала Филли. В ее объятиях я буду счастлив, счастливее тебя, Мария Стюарт, так как меня не придавливает своею тяжестью никакая корона, никто не будет оспаривать у меня красавицу Филли!»
Но судьба захотела немедленно ответить Дэдлею на эти слова.
Перед воротами замка послышались звуки фанфар, и перед резиденцией королевы показался Черный Дуглас в сопровождении Брая, Сэррея и вооруженных солдат.
Лейстер сразу догадался, что привело их сюда, и непреодолимый ужас пронизал его от головы до пят: эти люди могли узнать о бегстве Филли только в том случае, если беглецы пойманы; но ведь тогда он будет заклеймен позором, подвергнется презрению Марии Стюарт и гневу Елизаветы как изменник!
Только наглая ложь и могла спасти его. Что значили в сущности показания слуги (если Кингтон предал его) против слов его, лорда? Филли нема. Если она любит его, то кто мог бы заставить ее знаком указать, что виновник ее бегства он; если же она любит его далеко не так горячо, чтобы потерпеть из-за него стыд, — ну, тогда ему совершенно не стоит страдать из-за нее, тогда она погибнет ради его спасения.
II
В тихом Сент-Эндрю вызвало немало толков и пересудов то необыкновенное обстоятельство, что на улицах показался отряд вооруженных всадников. Сама королева была страшно поражена, когда ей доложили, что лорды Дуглас и Сэррей настоятельно просят принять их.
Королева колебалась, открыть ли отряду ворота, или отказать в приеме. В этот момент в комнату вошел Мюррей и, как ни был он ненавистен ей, все-таки в его присутствии она почувствовала себя спокойной.
— Что нужно этим лордам? — спросила она. — Я не желаю давать здесь аудиенцию!
— Если вы, — поклонился ей Мюррей, — разрешите мне, то я прикажу поднять мосты и распоряжусь, чтобы стрелки не подпускали на расстояние выстрела ни одного вооруженного. Я не думаю, разумеется, чтобы лорды замыслили что-нибудь злое, но пусть это послужит уроком другим не приближаться к королевской резиденции с вооруженной силой, если они имеют какую-либо просьбу к королеве!
— Вы думаете, что они явились не с дурными целями? Так к чему же тогда эта вызывающая строгость? Вы не любите Дугласа? Но я все-таки хочу выслушать лордов, если они отправят назад вооруженных людей.
— А если они откажутся? Я не верю Дугласу!
— Я же верю ему, раз около него находится Роберт Сэррей! — возразила королева.
— Я узнал, что лорды Сэррей и Лейстер поссорились. Законы гостеприимства ограждают посланника Елизаветы от всяких нападок.
— А вы боитесь? — улыбнулась Мария, успокаиваясь все более по мере того, как Мюррей нахмуривался. — Надеюсь, что буду избавлена отвечать на их нападки, так как лорд Лейстер, наверное, сам сумеет защитить себя от них, не прибегая к моей защите. Прикажите впустить лордов! — обратилась она к дворецкому.
— А что, если лорд Лейстер, возмущенный непристойной шуткой, сыгранной с ним, отомстил такой же шуткой, причем с особой, при помощи которой вы насмеялись над ним? Что если лорд Сэррей явился требовать справедливости и удовлетворения? Неужели вы отдадите под суд посланника Елизаветы, чтобы весь мир узнал, как вы с ним обошлись?
Лицо Марии побагровело.
— Если правда то, на что вы намекаете, — промолвила она, — тогда и могущество Елизаветы не спасет и не защитит ее посла. В своем рвении укрепить союз Шотландии с Англией вы забываете о своих обязанностях первого лорда нашего королевства, в которые входит мстить за наносимые мне оскорбления!
Маршал открыл двери и доложил о появлении лордов Дугласа и Сэррея и сэра Брая. Дуглас преклонил колено перед королевой, и взгляд его темных глаз уставился на красивую женщину с любопытным и наглым удивлением.
— Что привело вас сюда, милорды? — спросила Мария, умышленно отворачиваясь к Сэррею. — Очевидно, случилось что-то из ряда вон выходящее, если вы не учитываете нашего желания пребывать здесь вдали от всяких дел и забот!
— Ваше величество, — ответил Сэррей, — нас привела сюда необходимость обратиться к вашему правосудию!
— А я, ваше величество, — произнес Дуглас, — явился сюда с жалобой, и, как вы немедленно увидите, обстоятельства требуют, чтобы сначала изложили сущность обвинения у вашего трона, а уж потом сами стали искать виновного. Одна из девушек, служившая при вашем дворе, похищена…
— Это я знаю, милорд, — прервала его Мария. — Вам известны какие-либо подробности?
— Она похищена. Сэр Брай узнал ее, но предательский удар похитителя, поразивший лошадь сэра Брая и сваливший ее, лишил его возможности догнать негодяя. Я проследил путь беглецов и выяснил, что они удрали через английскую границу.
— Это еще не изобличает похитителя. Говорите яснее, милорд! Кого вы обвиняете?
— Ваше величество, я обвиняю лорда Дэдлея Лейстера! — заявил Дуглас.
— Остановитесь, милорд, — перебила его королева, — граф здесь, и ваше обвинение должно быть высказано ему в лицо.
— Он здесь? — удивленно воскликнул Дуглас, бросив взгляд на Брая.
— За это я ручаюсь, — ответил Мюррей, а королева приказала позвать Лейстера. — Кроме того, напоминаю вам, что здесь, во дворце, английский посол не должен подвергаться злобным обвинениям, так как он находится под защитой законов гостеприимства Шотландии!
Дуглас остановился в нерешительности.
Тогда вперед выступил Брай:
— А я настаиваю на обвинении, пока граф Лейстер не докажет своей невиновности.
— А отчего вы молчите? — обратилась королева к Сэррею. — Или вы думаете, что лорд Лейстер способен забыть то уважение, которым он обязан по отношению ко мне?
— Ваше величество, обстоятельства складываются так, что лорд Лейстер должен оправдаться ради своей собственной чести, и я очень надеюсь, что он будет в состоянии сделать это!
В это время вошел Дэдлей.
— Милорд Лейстер, — обратилась к нему Мария, и в ее взгляде было что-то, пронизавшее Роберта насквозь, — вас обвиняют здесь в похищении недавно исчезнувшей девушки нашего двора!
— Ваше величество, — ответил Лейстер, — старая история, что друзья, превращаясь во врагов, особенно озлобленно преследуют нас. Не знаю, о какой именно девушке идет речь в данном случае, но глубоко чувствую все оскорбление, наносимое мне подобным подозрением. Это — просто недостойный поступок, цель которого — лишить меня вашего благоволения.
— Милорд, — раздраженно ответила королева, — меня очень удивляет, что вы хотите представить, будто не слышали о том, что девушка, скрывшаяся из нашего замка, — именно та самая, которой вы на недавнем балу были восхищены настолько, что даже перенесли на нее предназначенное нашей особе поклонение!
— Ваше величество, вы говорите о Филли? Но это невозможно! Я ни минуты не сомневался, что лорд Сэррей отвез Филли к тому, кому она была передана еще ребенком, то есть к сэру Вальтеру Браю, которого вы, ваше величество, видите здесь перед собой.
Лейстер сказал все это без малейшего смущения, и королева вполне уверилась в его невиновности. Но именно то, что успокаивало королеву, увеличивало подозрения Сэррея и Брая. Почему Дэдлей с таким равнодушием говорит о Филли? Ведь у него все основания предполагать, что ее похитил кто-то другой, если они оба явились с обвинением против него.
— Я спрашиваю лорда Лейстера, — вступил в разговор Брай, не обращая внимания на присутствие королевы и Мюррея, — не уезжал ли он сам из Сент-Эндрю или не посылал ли в Англию кого-нибудь из своих преданных слуг в течение последней недели?
— Ваше величество, — обратился Лейстер к королеве, снова недоверчиво взглянувшей на него, — если вы питаете хоть малейшее сомнение в моей невиновности, то я готов, не обращая внимания на свое звание английского посланника, признать своим судьей каждого встречного, так как мне лучше потерять мою жизнь, чем ваше уважение. Но мне кажется, что не будет соответствовать как вашему, так и моему достоинству, если я, претендент на руку вашего величества, стану отвечать человеку, который является каким-то конюшим или вообще наемником лорда Сэррея.
— И который более заслуживает имя дворянина, чем вы, милорд! — воскликнул Брай, хватаясь за меч. — Если я назову пастуха своим другом, то буду отвечать ему, как надлежит порядочному человеку!
— Молчите, сэр! — остановила его королева, причем ее голос выдавал скорее благоволение, чем гнев. — Лорд Лейстер прав — в присутствии шотландской королевы он никому не обязан ответом, кроме ее самой. Милорд, — обратилась она затем к Лейстеру, — речь идет о том, чтобы вы оправдались в оскорбительном для вашей чести подозрении. Не посылали ли вы в Англию кого-нибудь из ваших слуг и не думаете ли вы, что ваш посланный мог увезти Филли?
— Ваше величество, — ответил Дэдлей, — я посылал многих слуг, но после исчезновения Филли — ни одного. Мне очень горько, что вы разделяете подозрение моих завистников и врагов. Человека, надеявшегося близко стать к вашему сердцу, позорят из-за какой-то сбежавшей девчонки, которая несколько лет следовала за мной в качестве пажа, самоотверженно жертвовала собой ради меня и моих тогдашних друзей. Так неужели возможно, чтобы я похитил ее — да еще при помощи насилия? Клянусь Богом, это обвинение так оскорбительно, а повод так ничтожен, что мне просто хочется отказаться от всякого ответа, особенно ввиду того, что никто из этих господ не имеет на девушку прав, как и я сам. Правда, она — дочь невесты сэра Брая, но едва ли его дочь, а графиня Гертфорд, как теперь зовут мать Филли, никого так не ненавидит больше, как сэра Брая. Поэтому я нахожу, что он присваивает себе права, которых у него фактически нет!
— Ничего он себе не присваивает, — перебил Лейстера Дуглас, — это я требую отчета, а сэр Брай только помогает мне отыскать виновного. Я же подозреваю вас, милорд Лейстер, и это подозрение становится сильнее еще оттого, что вы отвечаете уклончиво, и я готов подтвердить свое требование с мечом или копьем в руках!
— Это — вызов, — улыбнулся Дэдлей, — но его цель, кажется, заключается только в том, чтобы удалить меня от непосредственной близости к вам, ваше величество. Поэтому я не отвечу на этот вызов до тех пор, пока не узнаю, какие права имеет лорд Дуглас на исчезнувшую!
— Права отца! Филли — моя дочь, и я признаю ее, если найду ее невинной и чистой, но жестоко проучу обольстителя, если она обесчещена.
— Милорд! — воскликнул Лейстер. — В таком случае я не только не подниму брошенной вами перчатки, а протяну вам руку. Я отказывался давать вам какой бы то ни было ответ, так как до сих пор видел только злобное недоверие и враждебный умысел, но вы все получили бы от меня удовлетворительный ответ, если бы спрашивали приличным образом. Раз у вас имеется право на Филли, большее, чем мог бы иметь кто-либо другой, я пойду вам навстречу, лорд Дуглас. В день исчезновения Филли мной был послан мой камердинер Кингтон с распоряжениями, касавшимися графства Лейстерского. Но после Кингтона я уже никого не посылал. Я готов присоединиться сейчас же к вашим розыскам, но меня приковывают к месту более высокие интересы. Если же у вас все-таки имеется хоть малейшее подозрение, то я уполномочиваю вас осмотреть и обследовать все мои имения и замки.
— Мне было бы приятнее, — возразил Дуглас, — если бы вы поклялись своей честью в том, что не имеете ни малейшего понятия о месте пребывания Филли и не только не знаете ее похитителя, но даже не догадываетесь, кто это.
Слова Лейстера рассеяли было следы недоверия у королевы, но теперь она с напряженным вниманием смотрела на него, давая кивком головы понять, что одобряет предложение Дугласа.
Дэдлей был не в состоянии скрыть свое замешательство, и Дуглас, заметив это, прибавил с торжествующей улыбкой:
— Мне кажется, что для вас, граф, несравненно достойнее рассеять всякое подозрение своей клятвой, чем вынуждать нас рыскать по вашим имениям, так как, если даже наши поиски и останутся безрезультатными, то это докажет не вашу невиновность, а только ловкость ваших слуг.
— Милорд Дуглас, — возразил Лейстер, — вы говорите здесь о виновности или невиновности, как будто вы или кто-нибудь другой здесь являетесь моим судьей. В этой стране я не признаю над собой никого, кроме ее величества королевы. Но так как это дело задевает мою честь и может навлечь на меня подозрение в том, что я злоупотребил гостеприимством всемилостивейшей королевы, то я готов поручиться своей честью, что с моего ведома или желания чести Филли ничего не угрожает и не будет угрожать, что с моего ведома ни один из моих слуг не употребил против нее насилия и что я кровно отомщу, если нечто подобное случится. Уверяю, наконец, что честь и благо Филли очень близки моему сердцу, но если она добровольно сбежала с кем-либо из моих слуг или если я услышу, что она добровольно избрала себе супруга, то каждое преследование ее избранника или ее самой я буду считать личным оскорблением и, смотря по тому, где будет находиться Филли, буду призывать на ее защиту покровительство английской или шотландской королевы. Вместе с этим я объявляю, что считаю разговор оконченным. Я предоставляю вам право произвести расследование, но прошу ее величество королеву шотландскую приказать своим вассалам и гостям уважать во мне английского посла и претендента на руку ее величества.
— А я, — сказал Мюррей, — в качестве первого лорда королевства объявляю, что каждого, кто осмелится напасть на графа Лейстера, будь то в самом замке или где-либо на шотландской территории, я прикажу арестовать и отдам под суд. Верительные грамоты королевы Елизаветы и честь Шотландии налагают на меня обязанность сделать это.
Марии Стюарт было очень на руку найти в данном положении опору против обвинителей, так как Лейстер ясно намекнул, что в этом обвинении он видит клевету и способен принять все это за оскорбление со стороны шотландской королевы. Однако ее самолюбие было задето словами Мюррея, который совершенно игнорировал ее присутствие, и она, покраснев от негодования, воскликнула:
— Лорд Джэмс! Ваше рвение опережает наше решение: первый лорд моего королевства должен дожидаться моих приказаний! Милорды, — обратилась она затем к Дугласу и Сэррею, — объяснения графа Лейстера кажутся мне вполне удовлетворительными, и я прошу вас избавить меня от неприятного положения, в которое я была бы неминуемо поставлена, если бы мне пришлось объявлять определенное решение или брать под свою защиту английского посла.
Дуглас преклонил колено и ответил очаровательнейшей королеве:
— Я повинуюсь, ваше величество, принимаю поручительство графа Лейстера и жду от него, что он не оставит без наказания преступление, если таковое совершено кем-нибудь из его слуг.
— Я же, — сказал Сэррей, — воспользуюсь разрешением графа Лейстера поискать Филли в его имениях и, если, как я надеюсь, подозрение окажется необоснованным, буду просить графа о прощении.
— Благодарю вас, милорды, — ответила королева. — Но сэр Брай все еще молчит?
Ваше величество! — ответил Брай, выражение лица которого стало совсем мрачным. — Я явился сюда для того, чтобы выслушать ответ графа Лейстера на обвинения лорда Дугласа, и этот ответ не только не уменьшил моих подозрений, но, наоборот, увеличил их. Поэтому я не отвергаю и не принимаю никаких поручительств в том, виноват ли граф, или нет, и никакие угрозы лорда Мюррея и никакое ваше заступничество не удержат меня от того, чтобы наказать виновного!
— Так вас арестуют, сэр Брай! — воскликнул Мюррей, топнув ногой.
Попробуйте! — произнес Вальтер, презрительно пожимая плечами. — Тогда скажут, что лорд Мюррей продался не только английской королеве, но и лорду Лейстеру!
— Ах, ты, мужик! — возмутился Мюррей и схватился за меч.
Но Дуглас тоже схватился за оружие и воскликнул:
— Сэр Брай находится под моей защитой! Вы — еще не повелитель Шотландии, да и не будете им никогда, пока я буду жить на свете.
— Милорд Джэмс, — остановила спорящих Мария, обрадовавшаяся, что у Мюррея появился еще один враг. — Вы во второй раз забываетесь, надеюсь, вы не думаете, что являетесь хозяином в замке, который принял под свой кров вашу королеву?
— Ну а если бы он и дошел до этого, — сказал королеве Дуглас, — то моя конница живо избавила бы вас от такого хозяина!
Лейстер решил подыграть Дугласу. Известие, что тот признает Филли своей дочерью, уже пробудило в нем счастливую идею довериться ему во всем и тем снискать его расположение; он мог бы стать тогда независимым и от Елизаветы.
— Милорды! — воскликнул он. — Я не могу примириться с тем, чтобы моя особа послужила предметом ссоры между вернейшими вассалами ее величества королевы. Я сам готов был бы защитить сэра Брая, если бы его вздумали арестовать, потому что он был моим другом, и в моих интересах всецело доказать ему, что он не прав, имея против меня подозрения. Простите, — обратился он затем к Мюррею, — нужно знать сэра Брая, чтобы понимать, что даже в его дерзости неизменно проглядывает порядочность!
На этом было кончено, и Мария отпустила их всех.
— Или это — подлая змея, или мы были по отношению к нему жестоко несправедливы! — пробормотал Брай.
— Поедем вместе в Лейстер! — просто ответил Сэррей.
III
Королева осталась в глубокой задумчивости, когда лорды вышли из комнаты. Она заметила, с каким выражением мрачного упорства и зловещей угрозы удалился Мюррей, и инстинктивно чувствовала, что наступает момент кризиса, из которого она должна выйти победительницей, если не хочет погибнуть навсегда. Она поняла, что Мюррей стал ее смертельным врагом. Мария могла надеяться на поддержку лишь графа Босвела, смертельного врага Мюррея. Через Риччио она втихомолку завязала сношения с графом Этолем, Ленноксами, Рутвенами, Линдсеями и другими могущественными лордами, тайно продолжавшими исповедовать католическую религию. Теперь же еще стяжала расположение Дугласа.
Через несколько дней после случая с похищением Филли королева, еще раз выслушав уверения своих союзников в помощи, вызвала к себе графа Мюррея. Он появился перед ней вооруженным с ног до головы. Его лицо было очень серьезно, он отлично сознавал всю важность момента, так же как и королева, его сестра. Интриги Марии были известны Мюррею. Ее брак с Дарнлеем означал бы для Джэмса его падение. Но этот брак навлек бы и на Марию вражду Елизаветы. Мюррей был шотландской опорой королевы, он заставил мятежных лордов уважать ее волю — так неужели же он так старался для какого-то Дарнлея? Неужели он должен был отказаться от своих планов довести дом Стюартов до английского трона?
Мария видела в Мюррее только докучного опекуна, человека, обязавшего ее благодарностью за услуги, цель которых казалась ей подозрительной. Кому, собственно, служил он — ей или самому себе? Он заставил смириться враждебных и мятежных лордов; но не сделал ли он этого только потому, что они были его врагами, что хотел лично играть роль хозяина в Шотландии? Нельзя было отрицать, что он значительно поднял в стране престиж короны, но что было ей до этого, раз она по-прежнему должна была оставаться пленницей? Правил он, она же только подчинялась ему во всем. Но Мюррей пошел дальше — он хотел распоряжаться не только судьбами государства, но и ее рукой. Эта претензия ясно показывала ей, что Мюррей видит в ней пустую куклу, с которой можно играть по своему желанию.
Оба подступили друг к другу с твердой решимостью довести дело до полного поражения противника. Королева опиралась на свое право монархини, Мюррей — на сознание своей избранности, и готов был в любой момент раздавить королеву. Однако не думал о том, что женщина, подобная Марии Стюарт, скорее даст себя убить, чем уступит врагу, которого она стала ненавидеть за то, что он вмешался в вопрос ее сердца.
— Джэмс Стюарт, — начала Мария, — я отлично умею ценить то, чем вы были до сих пор для меня, и положение, которое я создала вам в королевстве, доказывает, что я всегда видела в вас опору своего трона.
— Я очень рад, если это убеждение вы почерпнули из сознания, что ваш трон все еще нуждается в такой опоре, ведь все, что мне удалось сделать, пойдет прахом и навлечет на вас опасности вместо спокойствия, если вы лишите меня этого доверия. В нашей стране, раздираемой партийными ссорами, вы должны образовать собственную партию, во главе которой вы будете в силах объявить войну всем остальным, между тем как колебание между отдельными существующими партиями сделает вас игрушкой всех их. Вы поручили мне создать для вас такую партию и видели успешность моих стараний. Теперь уже никто не решается помешать служениям католических обеден, надменные лорды укрощены, корона приобретает прежний престиж, и он может возрасти до небывалой высоты, если удастся осуществить союз с Англией, над созданием которого я работаю.
— Вот об этом-то союзе я и хотела поговорить с вами. Елизавета — вовсе не искренний друг нам, а кроме того проявляет такой интерес к проектируемому вами союзу, что невольно возникает подозрение в ее истинных намерениях. Получили ли вы гарантии в том, что я унаследую английский трон, если Елизавета умрет бездетной?
— Королева Елизавета пока еще не решила окончательно, выйдет она замуж или нет, и мы не смеем настаивать на скорейшем решении этого вопроса. Но вы без всякого сомнения унаследуете ее трон, если она не оставит прямых наследников.
— Елизавета слишком настойчиво желает моего брака, так что у меня невольно возникают сомнения. Что, если я выйду замуж за указанного ею человека, а она передумает, и я лишусь единственной награды, ради которой еще была бы согласна пожертвовать сердцем ради политики.
— Ни одна королева не должна следовать движениям сердца, если у нее возникают хоть малейшие сомнения, что это может противоречить политической мудрости. Королева не смеет поддаться женской слабости, страна требует от нее, чтобы путем брака она извлекала политические преимущества, и справедливо назовет преступлением, если, выбирая себе супруга, королева забудет, что на ее голове — корона!
— Это в том случае, если я изберу в мужья английского вассала, — раздраженно возразила ему Мария.
— Лорд Лейстер перестанет быть английским вассалом в тот самый момент, как только сделается вашим супругом, и принесет вам с собой союз с Англией. Наоборот, лорд Дарнлей — только красивый мужчина, и если ваш выбор падет на него, то это вызовет пересуды о том, что шотландская королева влюбилась в авантюриста.
— В авантюриста, который гораздо могущественнее, чем были вы, перед тем как я сделала вас первым лордом королевства!
— Если бы вы дали этот титул графу Ленноксу, то это осталось бы простым звуком. Вы можете давать чины и звания, но не то уважение, которое добыл к этому званию мой меч. Но я вижу, куда вы клоните. Едва-едва только успели вы почувствовать себя твердо на троне, как уже решили, что можете сбросить маску. Берегитесь! Ваш трон еще не так прочен! Только мой кулак и сдерживает мятежных лордов, а мне повинуются, лишь веря в то, что я забочусь о том, чтобы вы не забыли своих обязанностей перед короной. Вас терпят, но не любят! Во мне одном страна видит поруку тому, что католическая религия не будет навязана стране, что распущенные французские нравы не будут объявлены достойными подражания. Меня боятся, так как в минуту необходимости я в состоянии призвать на помощь могущественную Англию. Но все это рухнет, если вы оскорбите Елизавету, не послушаетесь моих предупреждений и злоупотребите едва окрепшей властью, чтобы изменить прежним обещаниям, и открыто станете покровительствовать католицизму. Вам не поможет даже то, если вы вздумаете устранить меня и, соединившись с католическими лордами, дать первое место в королевстве тому, кто не имеет никаких заслуг, кроме смазливого личика да талантов уличного певца!
— Милорд Мюррей, — резко перебила его королева, — приказываю вам говорить с уважением о том, кто почтен моим вниманием и отличием! Я рада сегодняшней беседе, так как поняла истинное значение ваших заслуг. Так вы, значит, приобрели власть и уважение не мне, а себе, и я — ничто, если пойду против вас? Все, чего вы добились, — лишь терпимость по отношению ко мне, да и то лишь к собственной пользе. Значит, я — королева милостью лорда Мюррея? Клянусь Богом, за такое жалкое существование не стоит продавать свою свободу человеку, которого я не люблю. Нет, лорд Джэмс, тогда я уж лучше попробую, не окажет ли другая партия мне более существенную поддержку, чем ваша! Словом, я люблю лорда Дарнлея, отдам ему свою руку, как свободная королева, и посмотрю, кто решится помешать королеве сделать то, на что имеет право каждая нищенка, а именно: следовать сердечной склонности в выборе супруга!
— Ваше величество, — возразил Мюррей, гордо выпрямляясь, — я предупредил вас, а вы действуйте, как хотите! Я не могу примириться с таким поступком, который сводит на нет все то, над чем я так неустанно и долго работал. Необдуманное желание женщины, не видящей пропасти под своими ногами, вызывает во мне только сожаление о невозможности силой помешать этому. Но ни просьбы, ни угрозы не заставят меня помогать вашей собственной гибели. Все иностранные государи, которым вы по политическим основаниям отказали в своей руке, почтут себя оскорбленными вашим выбором, английская королева тоже будет глубоко обижена. Дарнлей известен как враг реформатского учения, и ваш народ получит новое доказательство справедливости своих подозрений, что вы не собираетесь соблюдать данные вами обязательства. Я не стану повиноваться вам и сделаю все, что могу, чтобы заставить вас отказаться от вашего намерения, которое способно только погубить вас!
— Значит, вы хотите перейти на сторону моих врагов! Но я не потерплю бунтовщиков, кто бы это ни был!
— Испытайте свою власть, и, когда вы победите, я признаюсь, что ошибся!
— Марии хотелось плакать от бешенства и бессилия… Она понимала, что Мюррей не посмел бы быть таким наглым и вызывающим, если бы не сознавал, что без него ей не обойтись. Она умоляла его, заклинала кровью их общего отца, но он оставался твердым и непоколебимым!
IV
Мария чувствовала себя разбитой, когда Мюррей ушел от нее, не согласившись ни на малейшие уступки. Кризис наступил.
Она не ожидала такого открытого ледяного упорства, правда, она рассчитывала на сопротивление Мюррея и боялась получить двусмысленные обещания, но это ледяное «нет» брата, человека, бывшего до сих пор ее единственной солидной опорой, показывало ей всю опасность того, что она замыслила, и без всяких прикрас показало истинное ее положение в Шотландии. Победить или умереть — таков должен быть отныне ее пароль!
«Теперь я четко вижу, — думала она, — что он сам собирается завладеть короной. И он не рискнул бы моей немилостью, если бы не рассчитывал добиться этого!»
Если бы она могла предположить, что дело примет такой оборот, то никогда не решилась бы раздразнить так Мюррея. Но теперь она уже не могла отступать. Она должна была сломить человека, который до сих пор один только поддерживал ее, должна бороться за свое существование.
Мария всецело поддалась влиянию Риччио, который ратовал за Дарнлея и пробовал снискать расположение лорда Рандольфа, посла Елизаветы. В то же время она была настолько неосторожна, что открыто выставила напоказ свое освобождение из-под опеки Мюррея.
Тем временем Мюррей не оставался бездеятельным. Он появился в Эдинбурге во главе отряда в шесть тысяч всадников, чтобы захватить возвращенного Марией из ссылки графа Босвела, которого обвинял в покушении на его жизнь. Затем вступил в союз с графом Эрджилом и герцогом Шаттелеро, обещал протестантскому духовенству защиту и, наконец, попросил у Елизаветы помощи против Марии.
Королева между тем спросила Тайный совет Шотландии: согласен ли будет ее брак с Дарнлеем с интересами страны, и совет ответил утвердительно; в то же время она направила к английской королеве надежного посла, который должен был сказать Елизавете, что Дарнлей является тоже англичанином и ее родственником. Графов Эрджила и Мюррея она приказала вызвать на суд, но те не явились.
— Марию, — доказывал Рандольф, — народ настолько презирает, она так далека от него, что, без сомнения, надо бояться самых несчастных последствий, если не подоспеет помощь. Никогда мне не приходилось видеть столько горделивости, столько надменности и тщеславия, столь высокомерных взглядов и столь пустого кошелька! Если бы Мария не была так объята любовной дурью, то она сама поняла бы то, что не скрыто ни для кого. Дарнлей — болван, он не сдерживает своих страстей, и уже теперь видно, чем он станет далее. Я нахожу, что Мария крайне переменилась благодаря своей любви к Дарнлею, она поставила свою честь под сомнение, свое положение — в опасность, а страну привела на край гибели. Высокомерие Дарнлея оскорбляет и отталкивает всех и каждого.
Королева Елизавета была вне себя, когда узнала, что Мария отвергла графа Лейстера. Французскому посланнику, графу Полю де Фуа, она сказала:
— Никогда я не могла бы подумать, что у шотландской королевы такое низменное сердце, чтобы выбрать в мужья сына своего вассала!
Посол Елизаветы передал Марии то же самое мнение, на что она ответила:
— Недовольство моей доброй сестрицы поистине странно, так как выбор, который она так порицает, сделан сообразно с ее желаниями, переданными мне через лорда Рандольфа. Я отказала всем иностранным претендентам и приняла предложение англичанина, происходящего из королевского рода обоих королевств, первого принца крови Англии. Поэтому я страшноудивлена запоздалым неодобрением выбора, одинаково соответствующего интересам обоих королевств.
В ответ на это Елизавета приказала посадить в Тауэр мать Дарнлея, графиню Леннокс, а самому Дарнлею велела вернуться в Англию.
— Я признаю своей королевой только ту, — ответил Дарнлей, — которую уважаю и люблю. Ваша повелительница просто завидует моему счастью. Я здесь нужен и потому не вернусь обратно.
В тот же день Лейстер получил прощальную аудиенцию. Мария Стюарт предполагала сейчас же вслед за этим посетить замок Ливингстон. Она была в амазонке, когда Лейстер вошел к ней, и нетерпение совершить вместе с возлюбленным прогулку и поскорее окончить тягостную аудиенцию ясно было видно на ее лице.
— Милорд Лейстер, — промолвила она, — надеюсь, мы расстаемся друзьями. Постарайтесь примирить со мной мою сестру Елизавету, которая так бурно возмущается, что я полюбила одного из моих и ее вассалов.
— Ваше величество, — произнес Дэдлей, — я сегодня же могу доставить вам доказательство моей дружбы. Вы хотите ехать в замок Ливингстон и рассчитываете попасть туда к трем часам. Значит, в два часа вы будете у Кинросского ущелья?
— Совершенно верно! Но к чему вы клоните?
— Я лишь хотел убедиться, что не ошибся. Мне удалось разузнать, что лорд Мюррей, герцог Эрджил и де Шаттелеро уговорились между собою ждать вас в два часа в Кинросском ущелье.
— Они не осмелятся на это! Милорд, вы обвиняете моего брата в государственной измене?
— Точно так, ваше величество. Между заговорщиками условлено увезти вас в Лохлевин, а лорда Дарнлея убить. Ваш брат будет тогда править за вас государством. Вы видите, что я действую в ущерб собственным интересам и защищаю моего счастливого соперника от гибели.
— Милорд, неужели вы говорите правду?.. Но нет!… Каким путем узнали вы о заговоре?
— Мне самому предложили участвовать в нем.
— И вы сказали: «Нет»? Милорд, я никогда не забуду этого. Жаль, что удалось оценить вас только в тот момент, когда мы расстаемся навеки! Назовите мне человека, поручившегося в справедливости этого известия.
— Ваше величество, вы удостоверитесь в том сами, если отправите гонца в Кинрос. Я не смею выдавать ничего более, и вы не потребуете этого от меня, если учтете в какое положение поставил бы я себя, если бы мне пришлось выступить свидетелем на судебном следствии. Тот, кто передал мне эти сведения, — человек надежный.
— Тогда храните свою тайну и примите благодарность за предостережение. Помните, что я сердечно уважаю вас. Предчувствую, что Дарнлею придется дорого поплатиться за мою благосклонность, здесь умерщвляют людей, которые мне дороги, и ненавидят тех, кого я люблю. Прощайте, милорд, и припомните эти слова, когда со временем в Англию донесется весть, что печальная судьба постигла меня!… Для меня не цветут цветы в этой суровой стране.

Глава двенадцатая
НЕВЕСТА ЛОРДА

I
 В графстве Лейстер расположено местечко Кэнмор, где в старину любили останавливаться графы Лейстер, но уже около пятидесяти лет не посещавшееся хозяевами. Старинный замок, некогда укрепленный, стоял среди парка исполинских дубов, но так как этот парк долгое время был лишен всякого ухода, то он заглох. Аллеи, пролегавшие в нем, частью заросли, густой подлесок делал парк непроходимым, а высокая каменная ограда защищала его от любопытных прохожих. От ворот тянулась единственная дорога, которая вела сквозь чащу к замку, ее обрамляла высокая живая изгородь из остролистника. Однако и эта длинная аллея заросла травой, и, кто вступал на нее, тому невольно казалось, что он приближается к заколдованному замку, который в своем мрачном уединении служил обиталищем призраков, так как ничто не выдавало здесь присутствия живого человека. Между тем большой фруктовый сад и огород, к которым вела дорога и где на тщательно обработанной земле возделывались плоды и овощи, равно как и приветливый дымок, поднимавшийся порою над заброшенным замком, указывали на то, что там жили люди.
Графский замок производил мрачное, зловещее впечатление. Его стены были источены временем, дубовые ставни заперты, ржавые железные засовы заложены на дверях, а колючие сорные травы густо разрослись перед крыльцом. Посреди фруктового сада, за замком, стоял массивный дом, где жил управляющий именьем, и довольно было одного взгляда на запущенный сад, на обветшалый замок, чтобы предположить, что в лице этого управляющего посетитель встретит нелюдимого, угрюмого старика, который, одряхлев вместе с развалинами, готов разрушиться с ними заодно.
Однако подобное предположение оказалось бы ошибочным. Человек, охране которого доверили замок Кэнмор, был мужчина в расцвете сил, за сорок лет, высокий, коренастый, он имел красавицу-дочь, нежно любимую им, и мог бы устроить для себя более веселый приют, так как от него зависело превратить кэнморский парк в настоящий рай. Однако мрачная тень лежала на широком лбу этого человека, и его лицо прояснялось лишь при виде любимой дочери, а в остальное время его взор горел мрачным огнем, устремясь в пространство с сосредоточенной и горькой печалью.
Управляющий вел таинственный образ жизни, загадочный для всех обитателей Кэнмора. Его никогда не видели за пределами парка, он никогда не общался с соседями, не посещал шинков, не видали его также и за работой. Этот нелюдим никого не пускал в замок, а если какой-нибудь любопытный отваживался постучаться в ворота парка, то его спроваживали резкими словами. О красоте его дочери рассказывали чудеса, эта девушка, казалось, была обречена отцом на вечное заточение, а так как окрестные жители отыскивали причину его нелюдимости и не находили ее, то в околотке носились всевозможные слухи. Одни говорили, будто бы на Тони Ламберт наведена «порча» с детских лет, и от этого она тупоумна; другие утверждали, что отец боится показывать ее, так как у нее лошадиная нога. По мнению третьих, сам Ламберт совершил убийство и дочь принуждена стеречь его, потому что, когда на него находит злой час, лишь она одна в состоянии отогнать беса-искусителя от этого безумца. Одним словом, стоустая молва изощрялась в придумывании всяких ужасов.
Был вечер, Тони сидела за прялкой и тихо пела песню; Ламберт, стоя у окна, задумчиво смотрел в ночную темноту, так мрачно, точно завидовал буре, яростно налетавшей на обветшалые стены; ему как будто хотелось, чтобы старинный замок внезапно рухнул в потемках под завывание ветра. Вдруг раздался громкий, нетерпеливый звонок у ворот парка.
Джон Ламберт вздрогнул, словно очнувшись от угрюмого забытья.
— Не отворите ли вы, отец? — спросила Тони. — Должно быть, это проезжие; они, наверно, заблудились дорогой и, промокнув под дождем, ищут приюта. Укажите им по крайней мере дорогу к гостинице, если не хотите принять их.
— Принять? — горько рассмеялся Ламберт и подозрительным взором пытливо уставился на дочь. — Тебе, видно, хочется этого, ведь для тебя сущее мученье вечно сидеть одной с твоим отцом!
— Я хотела бы, чтобы вы поменьше предавались печальным думам, которые точат вам сердце! — ответила Тони, вздыхая. — Попробуйте-ка развлечься немного и сойтись опять с людьми, своими ближними.
— Чтобы они обобрали меня и обманули, похитив у меня последнее достояние? — с горечью возразил Ламберт. — Чтобы они отняли тебя, как ту, другую, и чтобы я сгнил тут один, как заброшенное дерево в болоте? Ступай к воротам сама, отвори, заведи шутки да прибаутки с пришлыми людьми; пусть они полюбуются тобою и соблазнят тебя! Посмейся над моими сединами, как сделала та, другая.
— Отец, — воскликнула Тони, — замолчи! Ты ужасен! Никогда не покину я тебя, никогда не причиню тебе горя… Прости, что я необдуманно разбудила страшное воспоминание! Нет, я не хочу видеть людей, потому что они сделали тебе зло и разбили твое сердце.
Колокольчик дернули вновь так сильно, что Ламберт с проклятием вырвался из объятий дочери и крикнул:
— Постой, я натравлю на них собак, если это опять какие-нибудь любопытные, которые стараются проникнуть сюда под предлогом ненастья. Нечистая сила помогает им найти ворота, хотя я обсадил их живою изгородью. Но я покажу им!…
Ламберт сорвал ружье со стены и вышел вон из дома.
— Эй, Ламберт, старый волк! — раздалось за воротами. — Отворишь ли ты наконец, или нам выломать ворота, чтобы поискать тебя в твоей берлоге?
— Имейте терпение! — отозвался управляющий, когда услыхал, что его кличут по имени, и убедился, что кто- нибудь из деревенских жителей привел к нему гостей. — Дайте мне только отодвинуть засов, чтобы раскроить вам череп.
Ворота заскрипели на ржавых петлях. Ламберт лишь приотворил их и уже готовился снять с плеча ружье, чтобы преградить им вход незнакомцам, как вдруг различил перевязь с цветами Лейстеров.
— Кто вы? — спросил он человека, стоявшего у ворот.
Отворяйте! В замок пожаловали гости. Разве вы не узнаете Томаса Кингтона?
— Я достаточно знаю его, чтобы спросить, почему он еще не вздернут на виселицу. Что вам тут понадобилось? Замок Кэнмор — не убежище для людей вашего пошиба.
— Молчите и посторонитесь. Неужели мне придется проложить себе дорогу мечом, когда я приехал с поручением от вашего господина? Должно быть, вам надоело быть управляющим Кэнмора? Поторопитесь! Приготовьте постели для ночлега, лучшую комнату в замке для приезжей леди, а для нас — в вашем доме.
— Лучшую комнату? — горько рассмеялся Джон. — Поищите-ка ее сами, авось найдете такую, где не свили гнезд летучие мыши. Скажите мне, однако, — прошептал он, видя, как Пельдрам вводил в парк лошадь Филли и свою собственную, — не рехнулся ли лорд? Почему ему вздумалось послать в Кэнмор леди? Разве он не знает, что вот уже двадцать лет, как в замок не заглядывала ни единая человеческая душа?
— Вот именно потому-то он и посылает сюда леди. Она должна скрыться от всех, а тут самое подходящее место для этого. Это я порекомендовал вас.
— Черт бы побрал вас за это! — проворчал Ламберт, снова запирая ворота парка и посматривая недоверчиво на леди, которая дрожала от холода, закутанная в плащ для верховой езды.
Тони была немало удивлена, когда ее отец вернулся с незнакомыми ей людьми, и поспешила предложить свои услуги полузамерзшей Филли, тогда как ее отец повел непрошеных гостей в соседнюю комнату и с ворчаньем принялся угощать их пивом.
— Вы сами видите, — произнес Кингтон, предварительно посвятив Ламберта в суть дела, — что невозможно найти лучшее убежище для похищенной девушки. Вы будете еще благодарны мне за свое счастье, потому что лорд до безумия влюблен в немую леди и в награду за вашу услугу охотно исполнит самое ваше сумасбродное желание.
— Покойный лорд дал мне торжественную клятву никогда больше не переступать порога Кэнмор-Кастла, — мрачно возразил Ламберт.
— Но ведь его нет больше на свете, а с ним вымер и весь графский род; наследство Лейстеров перешло во владение к лорду Дэдлею Варвику. Уж не потребуете ли вы от него, чтобы он исполнял нелепое обещание, данное прежним владельцем какому-то человеку, которого сэр Дэдлей и в глаза не видел? Неужели вам недостаточно того, что он не спрашивал целые годы, куда девались доходы с именья, что он предоставил в ваше пользование замок, точно вы здесь — хозяин?
— Кинггон, — возразил на это Ламберт, когда Пельдрам вышел из комнаты, чтобы расседлать и поставить на конюшню лошадей, — вы отлично знаете, что обещание, данное мне покойным лордом, вовсе не было нелепостью, что этим граф Лейстер уплатил мне священный долг. Вам известно, что здесь произошло; вы были единственным свидетелем того, что я не стал удерживать Бэтси, когда она вздумала похоронить в здешнем пруду себя и свой позор. И только Бог знает, помогали ли вы негодяю, соблазнившему ее, или нет.
— Вы — дурак, Ламберт, в то время я был еще мальчишкой и не пользовался доверием молодого лорда. Это я удержал вас, когда вы хотели вонзить ему в сердце кинжал, так как мне было известно, что младший брат лорда отомстил бы вам. Забудьте старое! У вас есть дочь, и, как я успел заметить, она — ангел красоты. С богатством, накопленным вами, она достойна какого-нибудь лорда.
— Да будет проклят тот час, когда вы увидали ее! Кингтон, вы знаете меня. Берегитесь приближаться к Тони, я не хочу, чтобы и она была похищена у меня!…
— Стерегите ее, как вам угодно! Я еще не собираюсь жениться, но даже и от такой невесты оттолкнул бы меня мрачный тестюшка. Никто не должен найти здесь привезенную мною леди, вот все, чего я требую. Слышите? Никто.
— Понимаю! Леди похищена у ее близких, и я, которому знакомо горе отца, потерявшего родное детище, должен спрятать беглянку?
— Вы сумеете скрыть ее, потому что, если эту леди разыщут, то лорд выгонит вас вон из Кэнмор-Кастла, и вы лишитесь возможности держать свою дочь взаперти. Тогда он потребует у вас отчета в доходах с Кэнмора, а пока вы будете сидеть в тюрьме за их утайку, вашей дочери придется просить милостыню у чужих людей.
— Вашу леди не найдет никто, можете положиться на меня! — угрюмо произнес Ламберт. — Пускай другие страдают, как страдал я, мне-то что за дело! Это касается лорда, а не меня.
Разговор был прерван возвращением Пельдрама. Однако Кингтон мог быть спокоен теперь насчет того, что Ламберт постарается укрыть Филли, так как заметил, какое страшное действие произвели на управляющего его угрозы. Но Кингтон упустил из виду, что у нелюдимов, порвавших с внешним миром и предавшихся тупому раздумью, всякая угроза вызывает непримиримую ненависть к тем, которые покажут им, что они держат в своих руках их судьбу, и что эта ненависть сосредоточивает все свое пожирающее пламя в одном стремлении уничтожить того, кто им угрожает.
В графстве Лейстер расположено местечко Кэнмор, где в старину любили останавливаться графы Лейстер, но уже около пятидесяти лет не посещавшееся хозяевами. Старинный замок, некогда укрепленный, стоял среди парка исполинских дубов, но так как этот парк долгое время был лишен всякого ухода, то он заглох. Аллеи, пролегавшие в нем, частью заросли, густой подлесок делал парк непроходимым, а высокая каменная ограда защищала его от любопытных прохожих. От ворот тянулась единственная дорога, которая вела сквозь чащу к замку, ее обрамляла высокая живая изгородь из остролистника. Однако и эта длинная аллея заросла травой, и, кто вступал на нее, тому невольно казалось, что он приближается к заколдованному замку, который в своем мрачном уединении служил обиталищем призраков, так как ничто не выдавало здесь присутствия живого человека. Между тем большой фруктовый сад и огород, к которым вела дорога и где на тщательно обработанной земле возделывались плоды и овощи, равно как и приветливый дымок, поднимавшийся порою над заброшенным замком, указывали на то, что там жили люди.
Графский замок производил мрачное, зловещее впечатление. Его стены были источены временем, дубовые ставни заперты, ржавые железные засовы заложены на дверях, а колючие сорные травы густо разрослись перед крыльцом. Посреди фруктового сада, за замком, стоял массивный дом, где жил управляющий именьем, и довольно было одного взгляда на запущенный сад, на обветшалый замок, чтобы предположить, что в лице этого управляющего посетитель встретит нелюдимого, угрюмого старика, который, одряхлев вместе с развалинами, готов разрушиться с ними заодно.
Однако подобное предположение оказалось бы ошибочным. Человек, охране которого доверили замок Кэнмор, был мужчина в расцвете сил, за сорок лет, высокий, коренастый, он имел красавицу-дочь, нежно любимую им, и мог бы устроить для себя более веселый приют, так как от него зависело превратить кэнморский парк в настоящий рай. Однако мрачная тень лежала на широком лбу этого человека, и его лицо прояснялось лишь при виде любимой дочери, а в остальное время его взор горел мрачным огнем, устремясь в пространство с сосредоточенной и горькой печалью.
Управляющий вел таинственный образ жизни, загадочный для всех обитателей Кэнмора. Его никогда не видели за пределами парка, он никогда не общался с соседями, не посещал шинков, не видали его также и за работой. Этот нелюдим никого не пускал в замок, а если какой-нибудь любопытный отваживался постучаться в ворота парка, то его спроваживали резкими словами. О красоте его дочери рассказывали чудеса, эта девушка, казалось, была обречена отцом на вечное заточение, а так как окрестные жители отыскивали причину его нелюдимости и не находили ее, то в околотке носились всевозможные слухи. Одни говорили, будто бы на Тони Ламберт наведена «порча» с детских лет, и от этого она тупоумна; другие утверждали, что отец боится показывать ее, так как у нее лошадиная нога. По мнению третьих, сам Ламберт совершил убийство и дочь принуждена стеречь его, потому что, когда на него находит злой час, лишь она одна в состоянии отогнать беса-искусителя от этого безумца. Одним словом, стоустая молва изощрялась в придумывании всяких ужасов.
Был вечер, Тони сидела за прялкой и тихо пела песню; Ламберт, стоя у окна, задумчиво смотрел в ночную темноту, так мрачно, точно завидовал буре, яростно налетавшей на обветшалые стены; ему как будто хотелось, чтобы старинный замок внезапно рухнул в потемках под завывание ветра. Вдруг раздался громкий, нетерпеливый звонок у ворот парка.
Джон Ламберт вздрогнул, словно очнувшись от угрюмого забытья.
— Не отворите ли вы, отец? — спросила Тони. — Должно быть, это проезжие; они, наверно, заблудились дорогой и, промокнув под дождем, ищут приюта. Укажите им по крайней мере дорогу к гостинице, если не хотите принять их.
— Принять? — горько рассмеялся Ламберт и подозрительным взором пытливо уставился на дочь. — Тебе, видно, хочется этого, ведь для тебя сущее мученье вечно сидеть одной с твоим отцом!
— Я хотела бы, чтобы вы поменьше предавались печальным думам, которые точат вам сердце! — ответила Тони, вздыхая. — Попробуйте-ка развлечься немного и сойтись опять с людьми, своими ближними.
— Чтобы они обобрали меня и обманули, похитив у меня последнее достояние? — с горечью возразил Ламберт. — Чтобы они отняли тебя, как ту, другую, и чтобы я сгнил тут один, как заброшенное дерево в болоте? Ступай к воротам сама, отвори, заведи шутки да прибаутки с пришлыми людьми; пусть они полюбуются тобою и соблазнят тебя! Посмейся над моими сединами, как сделала та, другая.
— Отец, — воскликнула Тони, — замолчи! Ты ужасен! Никогда не покину я тебя, никогда не причиню тебе горя… Прости, что я необдуманно разбудила страшное воспоминание! Нет, я не хочу видеть людей, потому что они сделали тебе зло и разбили твое сердце.
Колокольчик дернули вновь так сильно, что Ламберт с проклятием вырвался из объятий дочери и крикнул:
— Постой, я натравлю на них собак, если это опять какие-нибудь любопытные, которые стараются проникнуть сюда под предлогом ненастья. Нечистая сила помогает им найти ворота, хотя я обсадил их живою изгородью. Но я покажу им!…
Ламберт сорвал ружье со стены и вышел вон из дома.
— Эй, Ламберт, старый волк! — раздалось за воротами. — Отворишь ли ты наконец, или нам выломать ворота, чтобы поискать тебя в твоей берлоге?
— Имейте терпение! — отозвался управляющий, когда услыхал, что его кличут по имени, и убедился, что кто- нибудь из деревенских жителей привел к нему гостей. — Дайте мне только отодвинуть засов, чтобы раскроить вам череп.
Ворота заскрипели на ржавых петлях. Ламберт лишь приотворил их и уже готовился снять с плеча ружье, чтобы преградить им вход незнакомцам, как вдруг различил перевязь с цветами Лейстеров.
— Кто вы? — спросил он человека, стоявшего у ворот.
Отворяйте! В замок пожаловали гости. Разве вы не узнаете Томаса Кингтона?
— Я достаточно знаю его, чтобы спросить, почему он еще не вздернут на виселицу. Что вам тут понадобилось? Замок Кэнмор — не убежище для людей вашего пошиба.
— Молчите и посторонитесь. Неужели мне придется проложить себе дорогу мечом, когда я приехал с поручением от вашего господина? Должно быть, вам надоело быть управляющим Кэнмора? Поторопитесь! Приготовьте постели для ночлега, лучшую комнату в замке для приезжей леди, а для нас — в вашем доме.
— Лучшую комнату? — горько рассмеялся Джон. — Поищите-ка ее сами, авось найдете такую, где не свили гнезд летучие мыши. Скажите мне, однако, — прошептал он, видя, как Пельдрам вводил в парк лошадь Филли и свою собственную, — не рехнулся ли лорд? Почему ему вздумалось послать в Кэнмор леди? Разве он не знает, что вот уже двадцать лет, как в замок не заглядывала ни единая человеческая душа?
— Вот именно потому-то он и посылает сюда леди. Она должна скрыться от всех, а тут самое подходящее место для этого. Это я порекомендовал вас.
— Черт бы побрал вас за это! — проворчал Ламберт, снова запирая ворота парка и посматривая недоверчиво на леди, которая дрожала от холода, закутанная в плащ для верховой езды.
Тони была немало удивлена, когда ее отец вернулся с незнакомыми ей людьми, и поспешила предложить свои услуги полузамерзшей Филли, тогда как ее отец повел непрошеных гостей в соседнюю комнату и с ворчаньем принялся угощать их пивом.
— Вы сами видите, — произнес Кингтон, предварительно посвятив Ламберта в суть дела, — что невозможно найти лучшее убежище для похищенной девушки. Вы будете еще благодарны мне за свое счастье, потому что лорд до безумия влюблен в немую леди и в награду за вашу услугу охотно исполнит самое ваше сумасбродное желание.
— Покойный лорд дал мне торжественную клятву никогда больше не переступать порога Кэнмор-Кастла, — мрачно возразил Ламберт.
— Но ведь его нет больше на свете, а с ним вымер и весь графский род; наследство Лейстеров перешло во владение к лорду Дэдлею Варвику. Уж не потребуете ли вы от него, чтобы он исполнял нелепое обещание, данное прежним владельцем какому-то человеку, которого сэр Дэдлей и в глаза не видел? Неужели вам недостаточно того, что он не спрашивал целые годы, куда девались доходы с именья, что он предоставил в ваше пользование замок, точно вы здесь — хозяин?
— Кинггон, — возразил на это Ламберт, когда Пельдрам вышел из комнаты, чтобы расседлать и поставить на конюшню лошадей, — вы отлично знаете, что обещание, данное мне покойным лордом, вовсе не было нелепостью, что этим граф Лейстер уплатил мне священный долг. Вам известно, что здесь произошло; вы были единственным свидетелем того, что я не стал удерживать Бэтси, когда она вздумала похоронить в здешнем пруду себя и свой позор. И только Бог знает, помогали ли вы негодяю, соблазнившему ее, или нет.
— Вы — дурак, Ламберт, в то время я был еще мальчишкой и не пользовался доверием молодого лорда. Это я удержал вас, когда вы хотели вонзить ему в сердце кинжал, так как мне было известно, что младший брат лорда отомстил бы вам. Забудьте старое! У вас есть дочь, и, как я успел заметить, она — ангел красоты. С богатством, накопленным вами, она достойна какого-нибудь лорда.
— Да будет проклят тот час, когда вы увидали ее! Кингтон, вы знаете меня. Берегитесь приближаться к Тони, я не хочу, чтобы и она была похищена у меня!…
— Стерегите ее, как вам угодно! Я еще не собираюсь жениться, но даже и от такой невесты оттолкнул бы меня мрачный тестюшка. Никто не должен найти здесь привезенную мною леди, вот все, чего я требую. Слышите? Никто.
— Понимаю! Леди похищена у ее близких, и я, которому знакомо горе отца, потерявшего родное детище, должен спрятать беглянку?
— Вы сумеете скрыть ее, потому что, если эту леди разыщут, то лорд выгонит вас вон из Кэнмор-Кастла, и вы лишитесь возможности держать свою дочь взаперти. Тогда он потребует у вас отчета в доходах с Кэнмора, а пока вы будете сидеть в тюрьме за их утайку, вашей дочери придется просить милостыню у чужих людей.
— Вашу леди не найдет никто, можете положиться на меня! — угрюмо произнес Ламберт. — Пускай другие страдают, как страдал я, мне-то что за дело! Это касается лорда, а не меня.
Разговор был прерван возвращением Пельдрама. Однако Кингтон мог быть спокоен теперь насчет того, что Ламберт постарается укрыть Филли, так как заметил, какое страшное действие произвели на управляющего его угрозы. Но Кингтон упустил из виду, что у нелюдимов, порвавших с внешним миром и предавшихся тупому раздумью, всякая угроза вызывает непримиримую ненависть к тем, которые покажут им, что они держат в своих руках их судьбу, и что эта ненависть сосредоточивает все свое пожирающее пламя в одном стремлении уничтожить того, кто им угрожает.
II
Когда на следующее утро Кингтон с Пельдрамом покинули дом, пообещав прислать для леди нескольких надежных служанок, Ламберт вошел в комнату дочери, чтобы познакомиться с девушкой, вверенной его охране, и присмотреться хорошенько к той, ради которой было нарушено и подвергалось опасности его уединение.
В сердце Джона кипела ненависть. Прихоть лорда превращала его в орудие чужих пороков, вводила жертву сладострастия под одну кровлю с его невинной дочерью, превращала Тони в служанку падшего создания. Его дочери приходилось прислуживать той, которая порвала семейные узы и, обремененная родительским проклятием, подкупленная золотом и сладкими речами, отдала свою честь на поругание соблазнителю. Более тяжелый удар не мог постичь его отцовское сердце; ему приходилось теперь ежеминутно опасаться, что нечистые желания проснутся и у Тони, и его неопытная дочь тоже погибнет.
Когда Ламберт вошел, картина, представшая ему, как будто подтверждала все его опасения. Молодые девушки, по-видимому, успели подружиться. Они сидели рядом, обнявшись, как будто погруженные в задушевную беседу. Но едва Филли заметила вошедшего, как вскочила с места, бросилась к нему, схватила его руку и поднесла к губам с такой нежностью, точно умоляла его стать для нее отцом и покровителем.
Джону хотелось оттолкнуть ее прочь, но он не посмел. Он намеревался приветствовать леди с холодной учтивостью, сделаться невыносимым для нее своей строгой бдительностью, а ее пребывание в Кэнморе отвратительным; теперь же он почувствовал, что, пожалуй, существует более верное средство избавиться от этой гостьи.
— Леди, — сказал он, вырвав у нее свою руку. — вы забываете, что видите перед собою слугу лорда, который обязан исполнять все ваши приказания и не имеет права допустить только одно: чтобы вы завязали сношения с внешним миром, откуда вырвал вас лорд. По словам сэра Кингтона, лорд Лейстер приказал не отступать ни перед какими расходами, чтобы жизнью в полном довольстве заменить вам то, что, вероятно, утрачено вами. Я сам устрою для вас комнаты в замке, скоро прибудут необходимые вам прислуги, с вами будут обходиться так, как если бы вы были невестой лорда.
Филли покачала головой.
— Отец, — воскликнула Тони, — леди немая, но мы отлично объяснились с нею. У нее нет ни родителей, ни родственников, граф был ее благодетелем, а теперь хочет возвысить ее до звания своей супруги. Однако она отказывается от всякой роскоши, ей не нужна никакая служанка, кроме меня, и наша гостья предпочитает поселиться у нас, вместо мрачного замка.
Строгий взгляд Ламберта заставил Тони замолчать.
— Леди, — обратился он к Филли, — если действительно ваши желания таковы, то я весьма сожалею, что не могу исполнить их. Я должен сообразовываться с приказаниями графа.
Немая посмотрела на него с боязливой мольбой, она давала понять жестами, что граф одобрит все ее поступки.
Управляющий подал дочери знак выйти из комнаты.
— Леди, — начал он после ее ухода, и его взор пытливо остановился на красивой девушке. — Вы действуете неблагоразумно, не извлекая выгоды из графской благосклонности. Может быть, вы рассчитываете доказать ему своею нетребовательностью, что любите его не за титул. Нашему лорду может показаться обидным, если вы отвергаете приношения, сделанные вам в доказательство его любви.
Филли отрицательно покачала головой и приложила руку к сердцу.
— Неужели вы действительно еще так неопытны, так невинны, чисты, что ваша любовь полна простодушного доверия? — воскликнул Ламберт, озадаченный выражением ее лица. — В самом ли деле граф обещал на вас жениться и вы думаете, что он может сдержать свое слово?
Филли гордо выпрямилась, точно угадывала подозрения Ламберта и обижалась за его недоверие к графу.
— Может, он хочет сделать вас служанкой? — смущенно спросил Ламберт.
Филли с грустью кивнула.
— Или все же супругой?
Филли кивнула как-то неопределенно, и выражение ее лица убедило его в том, что он видит перед собой решительную, но безобидную натуру, а детски-прелестные черты несчастного создания, лишенного дара слова, и ее кроткий, молящий взор захватили его сердце и глубоко растрогали.
— Леди, — продолжал он, причем его глаза смотрели теперь на девушку с горькой печалью и почти нежным участием, — мне, как наемному слуге лорда, надлежало бы молчать и не расшатывать вашего невинного доверия к нему. Но я не могу быть слугою его пороков; я — отец и испытал на собственном детище, как доверие становится проклятием для невинного сердца. Выслушайте меня! У меня была дочь, по имени Бэтси, в то время единственная. Я служил управляющим этого поместья, тогдашний владелец, граф Лейстер, не посещал Кэнморского замка из-за проклятия, тяготевшего над этим графским жилищем. Эту историю я знал по рассказам моего отца. — И Ламберт рассказал Филли эту свою страшную историю.
Отец графа Лейстера, по имени Рудольф, имел красивую молодую жену. Он любил ее и гордился, видя, что она являлась предметом восхищения, внимания и зависти. Графиня же была кокеткой, ей нравилось кружить головы и запрягать мужчин в свою победную колесницу. Однако брат графа Рудольфа, Вильям, не поддавался ей, на каждом турнире он бился с ее рыцарями и вышибал их из седла. Это подстрекало графиню победить гордеца, и она пустила в ход все искусство обольщения, чтобы очаровать его. Вскоре оказалось, что сэр Вильям недаром избегал ее взоров, что он выказывал ей лишь притворное презрение из боязни обнаружить, какая страшная зависть к брату глодала его сердце. Говорят, будто он признался невестке, что его страсть обуздывается только страхом перед кровосмешением, но она поклялась, что на следующем турнире Вильям наденет ее цвета. Что обещала за это графиня деверю, осталось навсегда неразгаданной тайной.
Турнир состоялся. Граф Вильям, обыкновенно сражавшийся против рыцарей графини, выбивал теперь из седла каждого, кто не носил ее цвета. Все были удивлены, когда он объявил ее царицей красоты, хотя тут же присутствовала дама, за которою он ухаживал раньше. Графиня одержала победу над соперницей и появилась на банкете в короне, которую прежде носила та; граф Вильям, как победитель на турнире, сидел за столом справа от нее. Когда провозгласили тост, она внезапно сняла корону со своей головы и насмешливо сказала, что хотела лишь показать, как легка победа над храбрым мужчиной, что она охотно уступает сэра Вильяма обратно прежней даме его сердца, вследствие чего он может снова возложить на себя те цвета, которые прославлял до настоящего дня.
При этой насмешке сэр Вильям побледнел от ярости, и когда увидал, что его брат, принявший все происшедшее за шутку, улыбнулся, то кинулся на него и всадил ему в сердце кинжал с восклицанием:
— Я не дам тебе торжествовать!
Едва совершилось ужасное дело, как преступник раскаялся в нем, оцепенев от ужаса.
— Вот кто убийца! — вдруг указал он на графиню. — Она обманула меня! — и сотрясся в диком хохоте, так как безумие поколебало его рассудок.
С того дня графы Лейстеры не вступали больше в замок; графиня содержалась там в заточении до самой смерти, и толкуют, будто ее призрак бродит в полночь по заброшенному замку.
— Лет восемнадцать назад, — продолжал свой рассказ Ламберт, — сын графа Отто, третьего брата и наследника графства, прибыл сюда. Он заблудился на охоте и решил остановится у меня, чтобы не входить в замок. Он увидал мою Бэтси, привлек к себе ее сердце, уговорил ее встречаться с ним тайком от меня и, дав девушке священный обет жениться на ней после смерти своего отца, отнял у нее девичью честь в том проклятом замке. Бэтси верила ему, пока не узнала, что лорд сделал несчастными и других девушек, пока не убедилась, что он изменил ей. Тогда она с отчаяния нашла смерть в здешнем пруду. Однако граф Отто не избег проклятия, тяготевшего над его домом и заслуженного им самим низостью: он также пал от руки родного брата, когда отнял у него любовь одной женщины. Весь графский род вымер, будь он проклят! Новый граф, который теперь носит имя Лейстеров, домогался руки шотландской королевы и в то же время прислал вас сюда, в Кэнмор-Кастл, где было посеяно проклятие и где оно взошло, а мне, отцу несчастной Бэтси, вверяет свою жертву. Доверяете ли вы любви лорда? Думаете ли вы в самом деле стать леди Лейстер, или хотите, чтобы новое преступление в Кэнмор-Кастле породило проклятие для нового поколения?
Филли с трепетом слушала этот рассказ, зловещий страх проник ей в душу, но чистосердечное доверие одержало верх над сомнением; она схватила руку Ламберта, пожала ее, точно желая уверить его в искреннем сочувствии, и знаками стала показывать, что Лейстер ее не погубит.
— Господь да благословит вашу веру, но да укрепит также и вашу силу, леди! — печально пробормотал Ламберт, поняв, что Филли ему хотела сказать. — Я не знаю еще графа, но предостерег вас на всякий случай!
В замке были приготовлены комнаты для Филли. Кингтон прислал двух горничных, однако немая гостья не нуждалась в них. Тони предупреждала все ее желания. Молодые девушки подружились, и Ламберт как будто ожил, видя, как горячо привязалась Тони к новой подруге, которая с каждым днем становилась все милее и ему самому.
III
Протекло несколько недель без всякого известия от графа Лейстера, тревоги Кингтона, что Филли будут разыскивать, также казались совершенно неосновательными, потому что никто еще не покушался нарушить замкнутость Кэнмор-Кастла непрошеным посещением.
Но вот в один холодный зимний день зазвенел колокольчик у ворот парка, и когда Ламберт отворил, то увидал перед собою Пельдрама. Он сообщил, что на днях, вероятно, явятся двое мужчин, которые, с разрешения графа, приступят к поискам Филли, однако сэр Кингтон надеется, что ее не отыщут, и просит Ламберта вспомнить о последствиях, угрожающих ему в противном случае. От самого графа, по словам Пельдрама, не было никаких известий.
— Не беспокойтесь, — заверил Ламберт, — в потайных ходах старого замка не найдут никого, кто вздумает там спрятаться. Однако довольно странно, что граф дает разрешение производить обыск и желает, чтобы никого не нашли.
Пельдрам, пожав плечами, сказал с хитрой усмешкой:
— Не знаю, но причину, кажется, не трудно отгадать. Леди, пожалуй, должна исчезнуть навсегда после того, как надоест графу, а в таком случае придется очень кстати, что замок предварительно обыщут и не найдут в нем никого.
Ламберт вздрогнул и невольно сжал кулаки.
— Ну, тогда, может быть, найдется и неожиданный мститель! — проворчал он про себя, запирая за Пельдрамом ворота.
Несколько часов спустя раздался новый звонок, у ворот остановился одинокий всадник. Он был закутан в черный плащ, и только по золотым шпорам можно было признать в нем рыцаря.
— Отворите! — нетерпеливо крикнул он, хотя управляющий уже отодвигал железные засовы. — Это вы Джон Ламберт?
— Я, господин, а что вам угодно?
— Я — граф Лейстер. Ведите меня к леди, которая спряталась здесь.
— Вы ошибаетесь, господин, здесь нет никакой спрятанной леди. Кроме того, чем вы можете доказать, что вы действительно граф Лейстер?
— Знаком ли вам герб Лейстеров? — спросил Дэдлей, показывая Ламберту свой перстень. — Это — моя печать. Еще раз, где леди?
— Милорд, она в замке.
— Ведите меня к ней, я тороплюсь.
Управляющий повиновался строгому приказанию. Он не смел сомневаться, что видит перед собою лорда, — кольцо было настоящим; кроме того, все сомнения рассеялись у него, когда Филли при входе графа кинулась в его объятия.
— Ступайте! — сказал Лейстер Ламберту, заметив его у дверей. — Зачем это вы обнажили кинжал?
— Чтобы поразить вас, если бы вы оказались мнимым владельцем Кенмор-Кастла!
— Вы — надежный страж и будете награждены мною за вашу верность.
— Вознаградите за это вашу невесту, милорд, она завоевывает сердца успешнее вашего золота.
Угрюмый Ламберт придал слову «невеста» особое ударение, и Лейстеру показалось, будто угроза промелькнула в его суровом взгляде. Он подал ему знак удалиться, после чего сказал Филли, все еще прижимавшейся к его груди и не выпускавшей его из объятий:
— Я вижу, что ты, несмотря на свою немоту, сумела расположить к себе этого нелюдима. Да и как могло быть иначе? — любовался он ею. — Ты так прекрасна, как все королевы на свете, взятые вместе.
Дэдлей сбросил плащ и сел на диван, он хотел привлечь к себе Филли, но она тихонько отстранила его и села на ковер у его ног.
— Зачем не хочешь ты прильнуть к моему сердцу? Филли, теперь я твой. Теперь я могу вполне упиваться твоею любовью. Еще одна кратковременная отлучка — мне надо побывать при лондонском дворе для того, чтобы сложить с себя придворное звание и откланяться Елизавете, — и тогда я буду твоим нераздельно, тогда ничто не разлучит нас больше. Я велю распахнуть настежь ворота этого замка и покажу всем возлюбленную моего сердца. Но ты сегодня холодна и неласкова? Почему уклоняешься ты от моих объятий? Ах, ты пылаешь и заставляешь меня томиться? Неужели я должен изнемогать от жажды?
Дэдлей хотел насильно привлечь к себе разгоревшуюся девушку, но она отбежала прочь. Робкая, трепещущая, с пылающим лицом, готовая бежать, как лань, вспугнутая охотником, стояла она перед ним, и тревога ее сердца как будто взывала: «Пощади меня!» Граф с досады топнул ногой.
— Что это значит, Филли? Уж не сделалась ли ты кокеткой? Разве ты не хочешь принадлежать мне и нарочно прикидываешься недотрогой теперь, когда меня привело сюда страстное желание обнять тебя перед отъездом в Лондон? Филли, неужели тебе вздумалось рассердить меня? Должен ли я подумать, что ты разлюбила меня и потеряла ко мне доверие?
Дэдлей простер объятия и опять хотел силой привлечь к себе девушку, но она упала на колени и смотрела на него с такой мольбой, что граф, с удивлением уставившись на нее, не смел к ней прикоснуться. Вся пылая, Филли как будто молила с трепетом о пощаде; томление, любовь, тоска, преданность, но вместе с тем смертельный страх и испуг отражались в ее взоре.
— Ты боишься меня? — спросил Дэдлей. — Разве не по твоей воле похитил я тебя? Неужели ты раскаиваешься, что подарила мне свое сердце?
Она вскочила и, кинувшись к столу с письменными принадлежностями, стала выводить старательно буквы пером на бумаге.
— Ты научилась писать? — удивился Дэдлей.
Зардевшись от стыда, Филли протянула ему листок бумаги и убежала.
«Я готова пожертвовать ради тебя своей жизнью; позволь мне быть твоей служанкой, но пощади мою честь!» — было написано на листке.
— Проклятие! — проворчал Дэдлей, комкая бумагу, и в его чертах отразилось разочарование. — Ее, очевидно, научили расчету. Ах, она держится за полученное обещание и напоминает мне о нем! Это уже расчетливая любовь, а не беззаветная преданность невинного сердца — единственное, что могло пленить меня в этой девушке, что заставляло забывать ее происхождение и убожество и обольщало меня мечтами об идиллическом счастье. Невинному простодушию я принес бы любую жертву, пренебрег бы ради него и своим честолюбием, и будущностью, и знатностью. Хорошо, что ты еще вовремя сбросила маску, Филли, и это образумит меня!
Раздосадованный, граф мерил шагами комнату, и у него уже мелькала мысль велеть оседлать лошадь и двинуться в дальнейший путь, как вошла Филли, чтобы накрыть на стол и принести угощенье. Она двигалась робко и боязливо, и Дэдлей заметил, что она смотрит на него издали и украдкой. Сочтя это новым ухищрением кокетства, он отвернулся от нее в сторону.
Филли принесла кушанья, но так как граф не думал больше заговаривать с ней, то она тихонько приблизилась к нему, схватила его руку, прижала ее к своим губам и пригласила его знаком к накрытому столу.
— У меня нет охоты к еде! — угрюмо сказал он. — Я сегодня же ночью поеду дальше.
У Филли вырвалось тихое рыдание.
— Ты плачешь? — спросил Дэдлей. — Кто же из нас огорчил другого: ты или я? В Сент-Эндрю ты явилась ко мне, и твой взгляд говорил только о любви. Тогда ты доверяла мне; тогда твоя душа не ведала подозрений, а теперь ты принимаешь меня с недоверием, и я раскаиваюсь, что увез тебя. Ты хочешь быть моей служанкой? Неужели, по-твоему, это пристойно и твоя честь не пострадает от этого? Тебе не мешало бы подумать об этом, прежде чем ты последовала за моим слугой. Что должен я теперь сделать? Брай и Сэррей ищут тебя и поклялись отомстить мне. Если бы ты любила меня, я посмеялся бы над ними и возразил бы им, что твоя любовь — мое право. Теперь же ты сомневаешься, держишь себя недотрогой, избегаешь моих объятий, хотя тебе хорошо известно, что я пылаю страстью, что ради тебя я рисковал головой.
Филли бросилась на ковер и обняла его колени. Дэдлей видел, как разгорелись ее щеки и взволновалась грудь; это прикосновение заставило его вздрогнуть, как от внезапного удара, а ее тихий плач и безутешная скорбь дали ему почувствовать собственную жестокость. Чего только не вынесла и не выстрадала она из-за него, а он еще сомневается в ее любви! Как простодушно доверилась она ему, и чем отблагодарил он ее? В пылу страсти он подал ей надежду, а теперь сердился, что Филли поймала его на слове. Конечно, казалось почти безумием, что он, имевший виды на королеву, хотел жениться на несчастной немой и возвысить ее до звания графини Лейстер; но теперь, когда прихоть прошла, когда он помышлял уже вновь о приеме в Лондоне, он готов был безжалостно разбить мимоходом бедное сердечко, доверившееся ему, и сделать Филли еще несчастнее, чем она была когда-либо раньше!
Граф ужаснулся от этого и почувствовал теперь, как легкомысленно он поступил. Действительно, дорогой он рисовал себе дорогой счастье насладиться в объятиях Филли, а после того поехать в Лондон и, смотря по собственной прихоти, жить там или наслаждаться в Кэнмор-Кастле. Правда, у него мимолетно мелькнула мысль жениться на Филли, если Дуглас признает ее своею дочерью, но эта мысль была внушена ему страхом перед мщением Брая и появлялась лишь тогда, когда Дэдлей говорил себе, что Елизавета поставит ему в вину его неудавшийся план женитьбы на королеве Марии и что ему лучше всего удалиться в свои поместья. Но теперь, когда Филли напомнила ему о своей чести и покушалась на самое высшее — его свободу, несмотря на то, что она была низкого происхождения и немая калека, ему показалось слишком большой та жертва, принести которую он раньше считал за счастье.
— Филли, — сказал он, — я поступил безрассудно. Увлечение ослепило меня, но еще не поздно исправить случившееся. Я нашел человека, который согласен заменить тебе отца, я отправлю тебя к нему. Или — еще лучше — пускай найдут тебя здесь Брай и Сэррей. Я охотнее сознаюсь во лжи и не побоюсь их мщения, лишь бы ты не думала, что я способен злоупотребить твоим доверием.
Филли смотрела на него, бледная и дрожащая, точно эти слова были для нее смертным приговором. На одну минуту ее глаза устремились в пространство, и вдруг, с быстротою молнии, она выхватила из-под платка на груди маленький пузырек и поднесла его к губам.
— Филли, остановись! — воскликнул Дэдлей, дрожа от страха. — Разве ты последовала за мною для того, чтобы убить себя? Или ты только угрожаешь и хочешь сказать мне, что согласна скорее умереть, чем покинуть меня? Напиши мне, чего ты хочешь, и я исполню твое требование.
Молодая девушка печально покачала головой и, подойдя к столу, написала:
«Я согласна скорее умереть, чем причинить тебе заботы. Я отравлюсь раньше, чем допущу, чтобы Вальтер Брай нашел меня. Я люблю тебя так горячо, что расстаюсь с жизнью ради твоей пользы. Я позволила привезти себя сюда, так как верила, что ты можешь любить меня, как клялись мне в том твои уста. Но я ошиблась. Я убегу, и никогда ни единый человек не узнает от меня, что ты сделал меня несчастной».
Написав это, Филли стремглав выбежала из комнаты.
IV
Дэдлей обежал весь замок, но не нашел Филли. Служанка сказала, что Филли кинулась бежать по коридору, тогда он помчался в парк, звал ее по имени, но никто не подал ему голоса. Напрасно кликнул он Ламберта и велел обыскать парк, напрасно он сам рыскал вокруг — Филли нигде нельзя было найти.
— Филли, — звал он, — моя невеста! Филли, я никогда не покину тебя, клянусь тебе в том! Филли, вернись назад, я люблю тебя, как никогда не любил другой женщины!
Холодный пот выступил на его лбу. Где она найдет себе пристанище? Да и вообще могла ли она искать приюта, не выдавая виновника своего несчастья? Что если ее найдет Брай, блуждая по окрестностям? Дэдлей вспомнил ее прежнюю ловкость и оставил надежду догнать эту девушку, раз она не хотела откликнуться на его зов.
О, каким жалким представлялся себе граф! Как гнусно обманул он доверие девушки, как жестоко играл ее сердцем! Теперь он почувствовал, чем была для него Филли, поверил чистоте ее любви, и ему приходилось трепетать, что его грубость, пожалуй, довела девушку до самоубийства!
Ламберт насмешливо улыбался. Лейстер читал по его глазам, что этот человек торжествует и презирает его.
Вдруг граф вспомнил и спросил Ламберта:
— Где потайные ходы, которые вы указали леди на случай, если бы сюда явились посторонние? Она, пожалуй, спряталась там.
— Они заперты, ваше сиятельство, и леди еще не знакома с ними. В случае нужды и в последнюю минуту я успел бы показать их.
— Ты лжешь, это ты виновен в ее побеге! Ты советовал ей требовать от меня супружеского союза?
— Милорд, мне сказали, что леди — ваша невеста. Как осмелился бы я выразить сомнение в этом?
— Клянусь Богом, ты дорого поплатился бы за такую дерзость! Леди заручилась моим словом, и только бес попутал меня подвергнуть ее испытанию. Я с ней пошутил, а яд подозрения, влитый в ее сердце тобой или Кингтоном, принудил ее к бегству, прежде чем я успел сказать, что пошутил. Теперь достань мне леди откуда хочешь, и все будет забыто.
— Милорд, я не думаю, чтобы она бежала, чтобы причинить вам неприятности. Дай Бог, чтобы я ошибался, но меня томит ужасное предчувствие. На Кэнмор-Кастле нет благословения Божьего.
Лейстер смертельно побледнел, испуганно уставившись на Ламберта.
— Милорд, здесь один из графов Лейстеров некогда убил родного брата из-за женщины, и призрак этой несчастной является в старом замке, вследствие чего никто из графского рода не осмеливался больше переступить порог наследственного жилища. Только один из них приехал сюда и обесчестил мою дочь, его убил опять-таки родной брат, а моя дочь… унесла свой позор на дно вон того пруда…
— Факелов скорее! Где находится пруд?.. Ах, и ты еще говорил ей о позоре?
Граф кинулся бежать со всех ног, точно сумасшедший. Ламберт принес фонарь и обошел с ним берег пруда. Лейстеру ежеминутно мерещилось платье Филли, всплывшее из темной глубины, однако они не нашли ни малейшего следа беглянки.
Граф вернулся обратно в замок, велел показать себе постель Филли, бросился перед ней на колени, молился и плакал. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Ужасаясь собственного поступка, уничтоженный и мучимый невыразимым страхом, лежал он словно в лихорадке, малейший шорох заставлял его вздрагивать, ему казалось, что перед ним должен появиться призрак самоубийцы.
Каким прелестным казался теперь образ Филли Дэдлею! Как детски доверчиво смотрели на него ее глаза, как счастливо могла устроиться их жизнь вдвоем и как презрительно оттолкнул он от себя несчастную девушку, ставшую из-за него калекой!
— Я — ее убийца! — мрачно бормотал он про себя. — Я порвал узы дружбы, а теперь уложил в могилу ту, которая меня любила!
Вдруг ему померещилось, что кто-то промелькнул по комнате. Дэдлей поднял голову, пламя свеч мерцало, точно от сквозного ветра, а на столе белел листок бумаги.
Граф кинулся туда и схватил дрожащей рукою бумагу. Она была исписана угловатым почерком Филли. Он вскрикнул от радости, и слезы ручьем хлынули у него из глаз.
«Не беспокойся за меня! — гласили эти строки. — Я убежала лишь для того, чтобы избавить тебя от горя. Я хотела жить для твоего счастья, но не для того, чтобы сделаться для тебя обузой и причиной забот. Когда ты покинешь Кэнмор-Кастл, я попрошу у Ламберта пристанища для себя. Я останусь здесь на житье и буду молиться о твоем благополучии. Поезжай ко двору, будь счастлив и не беспокойся!… Я благодарю Бога за то, что он развеял мою мечту, прежде чем мое сердце успело поверить ей!»
— Филли, — воскликнул Дэдлей, — ты слышишь меня, хотя я и не вижу тебя! Даю тебе священную клятву, что не двинусь отсюда, пока ты не простишь меня, не придешь в мои объятия и не поклянешься быть моей женой. Если же ты не согласна поверить моей любви, если ты презираешь меня, то я буду искать смерти. Тогда Вальтер Брай найдет меня безоружным, и я скажу ему, что увез и обманул тебя. Я стану насмехаться над ним до тех пор, пока он не пронзит мне кинжалом сердце, потому что я не хочу жить без тебя!…
Дэдлей взывал напрасно, его мольба оставалась без ответа. Он безуспешно упрашивал и грозил. Замок был погружен в глубокое безмолвие; загадочный листок бумаги был занесен в комнату как бы случайно, словно порывом ветра или призраком.
В конце концов Лейстер отказался от дальнейших усилий.
Теперь он все-таки мог вздохнуть свободнее: Филли была жива, она не замышляла самоубийства. Это служило утешением Дэдлею, но вместо недавнего страха его томила тоска по Филли. Ну что если она сдержит слово и не покажется ему больше? Он чувствовал, что у Филли хватит твердости характера на это; все картины прошлого всплыли в его воспоминании: если эта девушка сумела молчать на пытке, то неужели его мольбы способны поколебать ее решение? Несомненно, она сумела заглянуть в глубь его сердца, и разочарование убило ее любовь. Но насколько горячее пылала теперь в нем страсть. Чем не пожертвовал бы он, чтобы загладить происшедшее сегодня между ними!
Забрезжило утро. Изнуренный бессонницей, граф забылся сном, как вдруг торопливые шаги заставили его очнуться.
— Звонят у ворот парка! — воскликнул вошедший Ламберт. — Прикажете отворить, милорд?
— Отворяй!
— А если найдут мертвое тело, милорд?
— Филли жива. Ты солгал мне: ей были знакомы потайные ходы. Торопись и, кто бы ни были прибывшие сюда, веди их ко мне, если они потребуют этого.
Лейстер нарочно говорил громко. Он надеялся, что Филли услышит его слова, и, чтобы предоставить ей возможность написать ему что-нибудь, удалился на несколько минут из комнаты.
Он не обманулся в своем ожидании, когда возвратился назад, нашел листок, на котором было написано:
«Отрицай мое присутствие здесь! Я лишу себя жизни, если буду причиной того, что Брай поднимет на тебя меч».
Теперь Лейстер не колебался более, как ему поступить и благополучно выпутаться из беды, если посторонние лица, звонившие у ворот парка, окажутся его бывшими друзьями.
Подойдя к окну, он увидал Вальтера Брая и лорда Сэррея, ехавших со своими оруженосцами через парк; но вдруг его щеки зарделись — он увидал мирового судью графства Лейстер, сопровождавшего их.
Но овладев собой, Дэдлей спустился вниз и достиг двора раньше, чем всадники спрыгнули с коней.
— Милорд Сэррей, — сказал он, — я приветствовал бы вас как желанного гостя Кэнмор-Кастла, если бы вы явились не в сопровождении мирового судьи. Что значит, что вы разъезжаете по моему графству с чиновником, носящим шарф королевы?
— Милорд, — возразил Сэррей, — если бы я знал о вашем пребывании в Кэнмор-Кастле, то не пригласил бы чиновника, но мне сказали, что управляющий поместьем не открывает ворот никому из посторонних.
— Милорд, вы имели мое полномочие и могли обратиться к сэру Кингтону, но, по-видимому, вы предпочли ехать в качестве обвинителя через мои владения вместо того, чтобы вежливо воспользоваться моим разрешением. В таком случае Кэнмор-Кастл для вас закрыт, а данное мною полномочие я отнимаю у вас. Если вы пожалуете в качестве гостя, то я от души буду приветствовать вас, но при данных обстоятельствах я напомню мировому судье моего графства о его долге.
— Он именно исполняет свой долг! — запальчиво возразил Брай, когда Сэррей собрался уже повернуть назад свою лошадь. — Во имя королевы и законов Англии я требую обыскать этот замок!
Дэдлей, презрительно усмехнувшись, сказал:
— У английских лордов иные законы, чем у шотландских крестьян. Сэр, — обратился он к мировому судье, — по чьему приказу явились вы сюда?
— Я сопровождал благородного лорда Сэррея и сэра Брая по их требованию, так как лорд Сэррей предъявил мне полномочие вашего сиятельства, которое разрешало этим господам произвести здесьрозыски.
— Значит, у вас нет указа королевы Англии, в силу которого вы могли бы обвинить меня как лорда здешнего графства? Нет? Ну тогда позаботьтесь привезти сюда указ королевы, и Кэнмор-Кастл распахнет перед вами свои двери; теперь же я требую, сэр, чтобы вы напомнили лорду Сэррею и сэру Браю, что будет нарушением закона, если они со своими слугами вздумают пойти здесь наперекор моей воле. В противном случае я позову жителей Кэнмора, чтобы те посадили нарушителей в башню в случае их отказа последовать вашему предложению. Сэр Ламберт, набатный колокол у вас в исправности?
— Мой слуга ожидает вашего знака, чтобы ударить в него.
— Звоните! — крикнул Брай, который после отказа лорда показать свой замок был почти уверен, что Филли скрывается тут. — Звоните на здоровье! Мой меч найдет дорогу к сердцу изменника!
Он спрыгнул с коня и хотел обнажить оружие, но в этот момент мировой судья коснулся его своим жезлом в знак того, что он подлежит суду, если не выкажет повиновения. Но еще грознее этого прикосновения для взбешенного шотландца было вмешательство Ламберта, тот направил на него пистолет с взведенным курком и крикнул:
— Один шаг, сэр, и вы будете убиты!
Тут как раз на башне замка зазвонил колокол, звон которого призывал к оружию всадников Кэнмора, а двое слуг с ружьями показались в дверях дома управляющего, третий привел шестерых громадных догов, которых стоило только спустить, чтобы они кинулись на чужих.
— Вальтер Брай, — сказал Сэррей, увидав эти приготовления, — я приказываю вам следовать за мной. Мы явились сюда, чтобы воспользоваться разрешением лорда Лейстера, а не для того, чтобы нарушать спокойствие в стране. Милорд Лейстер, ваше поведение доказывает мне ваше предательство. Перед троном королевы принесу я жалобу на вас. На коня, сэр Брай! Милорд Лейстер ссылается на закон, и закон должен судить его.
— С этими словами он швырнул свою перчатку под ноги Дэдлею в знак того, что объявляет ему борьбу не на жизнь, а на смерть.
— Милорд Сэррей, — возразил Дэдлей, не поднимая перчатки, что означало, что он не принимает объявления войны, — вы заблуждаетесь. Только вот этому бешеному человеку, — тут он указал на Брая, — хотел я показать, что противопоставлю силу силе. Слезайте с коня, прикажите сэру Браю и оруженосцам откупорить за мой счет лучшую бочку эля в Кэнморском шинке, а сами пожалуйте в замок. Я хочу доказать вам, что вы неверно судите обо мне, и если неприязненная подозрительность все еще лишает меня вашего доверия, то пусть мировой судья сопутствует нам. Я обещаю даже последовать за вами в Лондон и там ответить на предъявленное мне обвинение, если мое объяснение не удовлетворит вас.
На такое предложение можно было ответить лишь согласием. Даже Брай заколебался, что вдруг Лейстер может оказаться невиновным!
— Милорд, — воскликнул Брай, когда Сэррей спрыгнул с коня и подобрал с земли свою перчатку, — хорошо, я покину Кэнмор-Кастл с оруженосцами, и даю вам слово, что буду считать себя вашим должником, если милорд Сэррей, после объяснения с вами, скажет мне, что мое подозрение против вас было неосновательным.
Он повернул назад свою лошадь, кивнул оруженосцам и покинул Кэнмор-Кастл в ту минуту, когда всадники лорда уже приближались к парку с боевыми секирами. Ламберт приказал им угостить за счет лорда чужих оруженосцев, а Дэдлей повел Сэррея с судьей в замок.
— Милорд, — начал он, введя их в парадный зал, — я удалил сэра Брая, потому что не желаю держать ответ перед человеком, который в своей горячности забывает все границы приличия. Но вам я готов объяснить все с полной искренностью. Допустим, что вы не нашли бы той, которую ищите, в Кэнмор-Кастле, тогда ваше подозрение не рассеялось бы вполне, вы могли бы подумать, что я нашел для нее более надежное убежище. Допустим теперь, что я мог бы назвать вам место, где приютилась Филли, дали ли бы вы мне слово прекратить всякие поиски и уговорить сэра Брая последовать вашему примеру, в особенности, если я дам вам доказательство, что Филли не подверглась никакому насилию и довольна своей участью?
— Значит, вам известно, где она находится?.. — спросил Сэррей. — Вы сказали неправду королеве Шотландии и мне!
— Я ручался своей честью лишь за то, что она не подверглась никакому насилию.
— На основании такого двусмысленного обещания я не могу успокоиться, а еще того менее поручиться за сэра Брая. Если Филли добровольно доверилась вам или одному из ваших слуг, то почему вы не позвали ее в свидетельницы? Почему не отрицали истину перед шотландской королевой? И к чему все эти тайны?
— Очень просто! — произнес Лейстер. — Допустим, что мне было известно о похищении Филли, что я сам устроил его или только допустил. Ведь это послужило бы шотландской королеве предлогом отвергнуть меня и мое искательство, свалить всю вину на мои плечи; Елизавета же получила бы право привлечь меня к ответственности, чего мне следует опасаться и теперь, если кто-нибудь заронит в ее душу подозрение на этот счет.
— И это, конечно, — главная причина вашей уступчивости? — презрительно усмехнулся Сэррей.
— В причинах, руководящих моими поступками, я обязан давать отчет только самому себе. Если вы предпочитаете подать на меня жалобу вместо того, чтобы воспользоваться моим доверием, то в добрый час! Тогда мы посмотрим, защитит меня Елизавета Тюдор или нет. Представляйте свои доказательства, потому что я потребую у королевы справедливого возмездия тому, кто клевещет на меня голословно.
Сэррей ясно понял, что Лейстер в случае надобности не остановится перед убийством, лишь бы сделать невозможным доказательство его вины, прежде чем жалоба достигнет Елизаветы.
— Милорд, — ответил он, — я принимаю ваши условия и готов поручиться за Вальтера Брая, если вы убедите меня, что Филли не подверглась никакой несправедливости и никакому насилию. Обязываюсь к тому своею честью, опасаясь, чтобы вы не заставили поплатиться Филли за каждый шаг, сделанный нами для ее защиты или мести за нее.
— Я не спрашиваю, что дает вам право на подобное подозрение, но желал бы знать, почему вы думаете, что Филли менее дорога мне, чем вам? Вы сами предостерегали меня от свидания с Филли и говорили мне, что она любит меня, я свиделся с нею и, когда я увидал ее, то мне сразу расхотелось, чтобы королева Шотландии приняла мое брачное предложение.
— Значит, вы сами похитили Филли?
— Да, я сам, и вы дали мне слово, что умолчите о том даже перед сэром Браем, если я потребую этого.
— Да, если вы докажете мне свою невиновность.
— Это будет, когда вы убедитесь, что я не прибегал к насилию. Знаком ли вам почерк Филли? Вот, читайте!
Дэдлей вынул из кармана листок, на котором Филли написала, что желает быть его служанкой.
— И вы не стыдитесь показывать мне это? — вспыхнул Сэррей. — Вы хвастаетесь тем, что обольстили ее?
— Милорд Сэррей, я не подражаю вам, не бегаю от одной сестры к другой с одной и той же клятвою в любви. Пусть мировой судья засвидетельствует вам, бесчестно ли с моей стороны, ввиду собственной безопасности, при неблагоприятных теперешних обстоятельствах, не объявлять пока публично, что я намерен сделать увезенную мною девушку графиней Лейстер?
При первых словах графа лоб Сэррея омрачился, но удивление, вызванное последним признанием, заставило его молча уставиться на Лейстера.
— Графиней?.. — запинаясь, пробормотал он. — Вы хотите…
…ввести хозяйкой в свой дом ту женщину, которую я люблю. Вам и Вальтеру Браю Филли внушила только участие, но в моих глазах она стоит выше всякой другой женщины; ради меня она страдала, за меня рисковала своей жизнью, и потому я обязан ей большей благодарностью, чем вы оба. Я имею на нее большее право, чем вы, и только ваше подозрение, ваши преследования виною тому, что я пока не мог рискнуть вступить с ней в брачный союз, что я принужден скрывать Филли и в Англии, чтобы гнев Елизаветы не уничтожил нас обоих.
— Милорд Лейстер, ваше признание снимает всякое подозрение, не доверять вам долее, значило бы сомневаться в вашей чести. Дай Бог, чтобы вам не пришлось раскаяться в необдуманном шаге!
— Это могло бы случиться лишь в том случае, если бы я не мог положиться на ваше слово хранить молчание. Вы знаете сами, какие причины заставляют меня скрывать это от королевы Елизаветы, пока я не сложу с себя придворного звания и не удалюсь от двора.
— Я понимаю и признаю основательность ваших опасений, — произнес Сэррей. — Вы можете положиться на мое слово.
Тут он поклонился и покинул замок. Мировой судья последовал за ним после того, как Лейстер взял и с него клятву хранить глубокое молчание о всем слышанном.
Заглянув в комнаты Филли, Дэдлей нашел ее на коленях перед Распятием. Ее лицо было залито слезами, и, когда она подняла на Дэдлея свой влажный взор, ему показалось, что перед ним разверзлось небо.
— Жена моя! — восторженно воскликнул он и привлек ее к своей груди. — О, Филли, как напугала ты меня! Клянусь Богом, если я когда-нибудь стану колебаться между честолюбием и любовью, то тебе стоит лишь взглянуть на меня вот такими глазами, как теперь, чтобы я упал к твоим ногам и снова стал молить о твоей любви! Но никогда, никогда не ошибешься ты во мне, я чувствую это, ты — опора моей жизни, ты одна можешь заменить мне то, что я потерял.
Граф прижал Филли к себе, он верил в свою клятву, так как в этот момент радостного умиления им руководила лучшая часть его существа.
V
Вальтер Брай последовал за Сэрреем, когда тот дал ему слово, что объяснение Лейстера вполне удовлетворило его и что, по его разумению, дальнейшие розыски могут только навредить Филли.
— Через несколько месяцев, — заключил Сэррей, — мы удостоверимся, сдержал ли граф свое слово и сделал ли Филли такой счастливой, как обещал.
Вальтер не ответил ничего: он дал обещание повиноваться. Но когда они оба достигли Сэррей-Хауза, он стал просить лорда об отпуске на несколько месяцев.
— Разве ты не хочешь примкнуть вместе со мной к Дугласу? Ведь Мария Шотландская рассчитывает на помощь своих друзей! — спросил озадаченный Сэррей.
— Мне нужно предварительно исполнить еще одну клятву! — ответил Брай. — Я поклялся отомстить за Филли той, которая велела пытать ее и сделала несчастной. Мой путь лежит во Францию; гугенот Монгомери нуждается в клинке, который слишком долго оставался праздным. Но я вернусь обратно, если в Шотландии запылает факел войны. Единственная девушка, о которой я беспокоился, предалась другому. Дай Бог, чтобы она никогда не раскаялась в том.
Сэррей не стал останавливать Брая, он знал его упорство, когда дело шло о принятом решении. Но когда он прощался крепким рукопожатием с этим верным человеком, то ему казалось, будто что-то ушло из его собственной жизни. Теперь и он остался совершенно одиноким.

Эрнст Питаваль
Голова королевы. Том 2

Дворцовые страсти

Глава тринадцатая
ДАВИД РИЧЧИО

I
 Несколько месяцев спустя Мария Стюарт отдала свою руку лорду Дарнлею. Накануне свадебного торжества перед эдинбургским замком трое коронных герольдов провозгласили лорда Дарнлея принцем-супругом; брачную церемонию совершил епископ Дэмбленский. Королева оделась для нее в черное бархатное платье и белую траурную вуаль, которую возложила на себя при смерти Франциска II. В капелле Голируда новобрачные обменялись кольцами, после чего Мария сняла свои вдовьи одежды и появилась в роскошном туалете на свадебном пиру, где первые лорды королевства подавали царственной чете золотые блюда и пенящиеся кубки. В народ бросали деньги, и вскоре веселая бальная музыка огласила залы Голируда.
Мария приказала начать следствие для раскрытия преступного заговора, затеянного лордами Мюрреем и Эрджилом с целью умертвить Дарнлея. Однако вместо того, чтобы предстать на суд, Мюррей снарядил войско и, возбуждая против королевы страну, обратился к народу с манифестом. В нем население призывалось к восстанию из-за того, что королева якобы нарушает законы государства, попирает свободу Шотландии, навязав ей короля без совета и созыва государственных чинов. Далее Мюррей обратился с воззванием к гражданам о помощи для защиты последователей евангелистского вероисповедания, против которых «сатана ополчил все силы мира сего».
По поручению королевы Елизаветы лорд Рандольф интриговал в Шотландии в пользу восставших. Королева Англии натравливала войско мятежных лордов и фанатизм ревнителей веры на Марию Стюарт в отместку за то, что она отвергла жениха, выбранного ею.
Печальнее всего для Марии было то, что она не только не находила опоры в Дарнлее, но даже научилась презирать его за то, что, достигнув своей цели, он сбросил с себя маску и предавался всевозможным удовольствиям и пьянству более, чем это нравилось его супруге. Между ним и королевой возникла ссора на пиру у одного купца в Эдинбурге. Королева увещевала мужа, чтобы он не пил больше сам и не подзадоривал к тому других. Однако Дарнлей не только продолжал поступать наперекор ей, но даже позволил себе оскорбить ее такими словами, что она в слезах покинула пир. Впрочем, это случалось теперь с нею нередко. Несогласия между супругами возникали и по иным поводам, главным из которых был тот, что Дарнлей как супруг королевы требовал и себе корону, на что Мария Стюарт не соглашалась. Вообще Дарнлей стал в тягость королеве, которой он надоел, и ее отвращение к нему все возрастало.
Мятежники овладели Эдинбургом; они думали, что этот город, бывший средоточием протестантства, тотчас восстанет, чтобы оказать им поддержку, однако горожане их приняли холодно. Ни один не примкнул к мятежникам, а из Голируда непрошеных гостей «приветствовали» выстрелами из осадных орудий. Изумленные общественным неприятием и оробевшие ввиду собственной слабости, мятежные лорды обратились за неотложной помощью к Англии, они ходатайствовали о присылке трехтысячного корпуса и нескольких военных судов, которые должны были появиться в Фортском заливе. Однако Мария, энергичной деятельности которой благоприятствовала вдобавок обычная медлительность Елизаветы, не дала им дождаться подкрепления. Во главе армии из своих вассалов, представлявшей грозную силу в десять тысяч человек, Мария решительно выступила против Мюррея и его сообщников, предварительно объявив их мятежниками. Враги бежали. Мария очистила от них графство Файф, наказала лорда Грэнджа и баронов, которые отнеслись благосклонно к мятежникам, взяла контрибуцию с городов Дэнди и Сент-Эндрю и овладела замком Кэмпбелл. Все эти походы она предпринимала верхом на коне, с пистолетами в седельных кобурах. Разбитый Мюррей снова, собрав остатки своего разбежавшегося войска, пошел в наступление от английской границы. Но разгоряченная королева говорила, что скорее рискнет своей короной, чем откажется от мщения.
Лорд Дуглас находился неотлучно при ней, равно как и Сэррей, приехавший с этой целью из Англии, как только Мюррей кликнул клич, призывая граждан к оружию. Сэйтоны и католические лорды с охотой примкнули к ополчению королевы, и, когда она издала манифест, в котором объявляла народу, что знатное дворянство воспользовалось религией только под предлогом свергнуть ее с престола, победа этой смелой женщины казалась несомненной.
Мятежники еще раз обратились к королеве Елизавете, однако эта осторожная государыня опасалась выступить в качестве явной противницы Марии Стюарт именно теперь, когда шотландская королева могла назвать себя победительницей. Победа придала мужества воинственной королеве, и, в пылком нетерпении уничтожить своих противников и отомстить Мюррею, она назначила заклятого его врага, графа Босвела, генерал-адмиралом Шотландии, католического графа Этола поставила во главе Тайного совета и поручила Риччио начать переговоры с папой и с Испанией, чтобы снова обратить Шотландию в католичество. Соглашение о перемирии, предложенное ей Мюрреем, Мария Стюарт отвергла с гордостью.
В третий раз выступила королева в поход, рассеяла отряды Мюррея и прогнала его за английскую границу.
Эта жизнь, полная подвижности, предприимчивости и борьбы, опьяняла ее. Победа для Марии Стюарт была началом мщения. Она только и думала о том, чтобы раздавить мятежных лордов, и с этой целью приказала судить их, как изменников, отняла у них имущество и государственные должности; ее планы в то время были гораздо обширнее и смелее. Все королевство преклонялось перед ней. В состав шотландского дворянства входили двадцать один граф и двадцать восемь лордов; из этого числа только пять графов и три лорда шли ей наперекор, да и те находились в бегах. Мария Стюарт надеялась довести Елизавету до раскаяния в том, что та не признала ее наследницей. Когда Марии Стюарт доказывали, что она утомляется через меру своей походной жизнью, сопровождая армию даже в суровое зимнее время, она отвечала, что готова переносить всякие тяготы, пока не приведет своих верных воинов в Лондон.
Королева Елизавета скрежетала зубами от ярости, когда до нее доносились угрозы противницы, но ей приходилось очень туго, потому что Франция и Испания приняли сторону Марии, а в самой Англии грозною силою являлась для Елизаветы католическая партия. Поэтому она была принуждена лицемерить, и у нее хватило наглости попрекнуть бежавшего Мюррея за мятеж, уговаривать его подчиниться Марии и просить у нее пощады.
Мария Стюарт никогда еще не занимала столь важного положения, как в то время. Внутри королевства ей повиновались, а вне его пределов ее уважали. От ее ловкости зависело утвердить могущество, завоеванное ее мужеством. Если бы она выказала себя милостивой правительницей и простила Мюррея и прочих изгнанников, то заслужила бы тем их признательность и верность. После унижений, только что вынесенных ими в Англии, они сочли бы за счастье возможность вернуться назад в Шотландию, и так как им нечего было рассчитывать более на лукавую Елизавету, то эти люди снова примкнули бы к великодушной Марии. Таким способом королева расстроила бы английскую партию у себя в государстве, укрепив заодно шотландскую — в Англии. Но Мария Стюарт не сделала этого.
Несколько месяцев спустя Мария Стюарт отдала свою руку лорду Дарнлею. Накануне свадебного торжества перед эдинбургским замком трое коронных герольдов провозгласили лорда Дарнлея принцем-супругом; брачную церемонию совершил епископ Дэмбленский. Королева оделась для нее в черное бархатное платье и белую траурную вуаль, которую возложила на себя при смерти Франциска II. В капелле Голируда новобрачные обменялись кольцами, после чего Мария сняла свои вдовьи одежды и появилась в роскошном туалете на свадебном пиру, где первые лорды королевства подавали царственной чете золотые блюда и пенящиеся кубки. В народ бросали деньги, и вскоре веселая бальная музыка огласила залы Голируда.
Мария приказала начать следствие для раскрытия преступного заговора, затеянного лордами Мюрреем и Эрджилом с целью умертвить Дарнлея. Однако вместо того, чтобы предстать на суд, Мюррей снарядил войско и, возбуждая против королевы страну, обратился к народу с манифестом. В нем население призывалось к восстанию из-за того, что королева якобы нарушает законы государства, попирает свободу Шотландии, навязав ей короля без совета и созыва государственных чинов. Далее Мюррей обратился с воззванием к гражданам о помощи для защиты последователей евангелистского вероисповедания, против которых «сатана ополчил все силы мира сего».
По поручению королевы Елизаветы лорд Рандольф интриговал в Шотландии в пользу восставших. Королева Англии натравливала войско мятежных лордов и фанатизм ревнителей веры на Марию Стюарт в отместку за то, что она отвергла жениха, выбранного ею.
Печальнее всего для Марии было то, что она не только не находила опоры в Дарнлее, но даже научилась презирать его за то, что, достигнув своей цели, он сбросил с себя маску и предавался всевозможным удовольствиям и пьянству более, чем это нравилось его супруге. Между ним и королевой возникла ссора на пиру у одного купца в Эдинбурге. Королева увещевала мужа, чтобы он не пил больше сам и не подзадоривал к тому других. Однако Дарнлей не только продолжал поступать наперекор ей, но даже позволил себе оскорбить ее такими словами, что она в слезах покинула пир. Впрочем, это случалось теперь с нею нередко. Несогласия между супругами возникали и по иным поводам, главным из которых был тот, что Дарнлей как супруг королевы требовал и себе корону, на что Мария Стюарт не соглашалась. Вообще Дарнлей стал в тягость королеве, которой он надоел, и ее отвращение к нему все возрастало.
Мятежники овладели Эдинбургом; они думали, что этот город, бывший средоточием протестантства, тотчас восстанет, чтобы оказать им поддержку, однако горожане их приняли холодно. Ни один не примкнул к мятежникам, а из Голируда непрошеных гостей «приветствовали» выстрелами из осадных орудий. Изумленные общественным неприятием и оробевшие ввиду собственной слабости, мятежные лорды обратились за неотложной помощью к Англии, они ходатайствовали о присылке трехтысячного корпуса и нескольких военных судов, которые должны были появиться в Фортском заливе. Однако Мария, энергичной деятельности которой благоприятствовала вдобавок обычная медлительность Елизаветы, не дала им дождаться подкрепления. Во главе армии из своих вассалов, представлявшей грозную силу в десять тысяч человек, Мария решительно выступила против Мюррея и его сообщников, предварительно объявив их мятежниками. Враги бежали. Мария очистила от них графство Файф, наказала лорда Грэнджа и баронов, которые отнеслись благосклонно к мятежникам, взяла контрибуцию с городов Дэнди и Сент-Эндрю и овладела замком Кэмпбелл. Все эти походы она предпринимала верхом на коне, с пистолетами в седельных кобурах. Разбитый Мюррей снова, собрав остатки своего разбежавшегося войска, пошел в наступление от английской границы. Но разгоряченная королева говорила, что скорее рискнет своей короной, чем откажется от мщения.
Лорд Дуглас находился неотлучно при ней, равно как и Сэррей, приехавший с этой целью из Англии, как только Мюррей кликнул клич, призывая граждан к оружию. Сэйтоны и католические лорды с охотой примкнули к ополчению королевы, и, когда она издала манифест, в котором объявляла народу, что знатное дворянство воспользовалось религией только под предлогом свергнуть ее с престола, победа этой смелой женщины казалась несомненной.
Мятежники еще раз обратились к королеве Елизавете, однако эта осторожная государыня опасалась выступить в качестве явной противницы Марии Стюарт именно теперь, когда шотландская королева могла назвать себя победительницей. Победа придала мужества воинственной королеве, и, в пылком нетерпении уничтожить своих противников и отомстить Мюррею, она назначила заклятого его врага, графа Босвела, генерал-адмиралом Шотландии, католического графа Этола поставила во главе Тайного совета и поручила Риччио начать переговоры с папой и с Испанией, чтобы снова обратить Шотландию в католичество. Соглашение о перемирии, предложенное ей Мюрреем, Мария Стюарт отвергла с гордостью.
В третий раз выступила королева в поход, рассеяла отряды Мюррея и прогнала его за английскую границу.
Эта жизнь, полная подвижности, предприимчивости и борьбы, опьяняла ее. Победа для Марии Стюарт была началом мщения. Она только и думала о том, чтобы раздавить мятежных лордов, и с этой целью приказала судить их, как изменников, отняла у них имущество и государственные должности; ее планы в то время были гораздо обширнее и смелее. Все королевство преклонялось перед ней. В состав шотландского дворянства входили двадцать один граф и двадцать восемь лордов; из этого числа только пять графов и три лорда шли ей наперекор, да и те находились в бегах. Мария Стюарт надеялась довести Елизавету до раскаяния в том, что та не признала ее наследницей. Когда Марии Стюарт доказывали, что она утомляется через меру своей походной жизнью, сопровождая армию даже в суровое зимнее время, она отвечала, что готова переносить всякие тяготы, пока не приведет своих верных воинов в Лондон.
Королева Елизавета скрежетала зубами от ярости, когда до нее доносились угрозы противницы, но ей приходилось очень туго, потому что Франция и Испания приняли сторону Марии, а в самой Англии грозною силою являлась для Елизаветы католическая партия. Поэтому она была принуждена лицемерить, и у нее хватило наглости попрекнуть бежавшего Мюррея за мятеж, уговаривать его подчиниться Марии и просить у нее пощады.
Мария Стюарт никогда еще не занимала столь важного положения, как в то время. Внутри королевства ей повиновались, а вне его пределов ее уважали. От ее ловкости зависело утвердить могущество, завоеванное ее мужеством. Если бы она выказала себя милостивой правительницей и простила Мюррея и прочих изгнанников, то заслужила бы тем их признательность и верность. После унижений, только что вынесенных ими в Англии, они сочли бы за счастье возможность вернуться назад в Шотландию, и так как им нечего было рассчитывать более на лукавую Елизавету, то эти люди снова примкнули бы к великодушной Марии. Таким способом королева расстроила бы английскую партию у себя в государстве, укрепив заодно шотландскую — в Англии. Но Мария Стюарт не сделала этого.
II
Когда гремели военные трубы, Мария появлялась во главе войска, когда раздавалась бальная музыка — она становилась королевой праздника.
При дворе Марии Стюарт все переменилось. Вместо мрачного стража, нашептывавшего королеве свои подозрения, в ее аванзале толпились французские кавалеры, посланники кардинала Лотарингского, чтобы окружать своим поклонением победоносную государыню. Вместо выслушивания угроз Мюррея Мария диктовала теперь свои приказы секретарю Давиду Риччио, который смотрел на высокую повелительницу с безграничным обожанием и был готов отдать жизнь в угоду ее малейшей прихоти. При королеве неотлучно находился ее старинный друг и советник лорд Мелвил. Он внушал Марии, что государственная мудрость требует милосердия к мятежным лордам, но французские послы склоняли ее к строгости.
Мария прошла в своей кабинет, чтобы посоветоваться с Риччио.
— Вы преданы мне, — сказала она, — вы понимаете мое сердце, вы видели, что я выстрадала, какой подадите вы мне совет?
Секретарь бросился к ее ногам, его лицо горело, это доверие наполняло его блаженством. Вместо ответа он подал ей письмо, вынутое им из нагрудного кармана, и приложенное к нему золотое кольцо с бриллиантами.
Королева взяла письмо, но прежде, чем его распечатать, рассмотрела перстень.
— Это — вещь лорда Мюррея! — узнала она, и ее лоб мрачно нахмурился, а во взгляде, устремленном на итальянца, мелькнула подозрительность. — Что это значит?
— Соизвольте прочесть письмо, Ваше величество!
Королева поспешно прочла эти строки послания, и в ее чертах отразились триумф и злорадство. Письмо содержало в себе просьбу Мюррея к итальянцу расположить королеву к примирению. Джэмс Стюарт обещал ему за это свою дружбу и покровительство, когда снова войдет в силу при дворе, что должно было непременно случиться, так как Мария вскоре возненавидит Дарнлея больше, чем его, и тогда раскается, что пожертвовала братом ради этого болвана и не послушалась братского совета.
«Ей понадобится опора, — говорилось в конце послания, — а я могу послужить ей теперь поддержкой в чем угодно, потому что успехи, достигнутые ею, убедили меня, что я судил о ней до сих пор неправильно. Почему не обнаружила она раньше своей твердой решимости, смелой отваги, энергичной воли? Тогда я служил бы ей мечом и носил бы ее знамя!»
— Зачем вы долго скрывали от меня это письмо? — строго спросила королева. — Вы хотели заручиться дружбой Мюррея на тот случай, если бы я помиловала его?
— Ваше величество, — ответил Риччио, — у меня нет друзей, мне не нужны покровители, однако я ищу их, ищу доверия ваших приближенных, чтобы иметь возможность защитить вас от измены. О вас одной думаю я. Для меня нет ничего священного, кроме вашего благополучия.
— И тем не менее вы таили от меня это послание мятежника?
— Ваше величество, если бы вы не потребовали моего совета, то я никогда не показал бы вам это письмо, оно не имело бы значения, если бы вы осудили лорда Мюррея, но если бы он попал к вам в милость, то это послание сделало бы меня его поверенным, и я оставил бы его в том заблуждении, что он обязан именно мне своим помилованием! Я сделал бы это, чтобы приобрести его доверие и дознаться, искренне ли он раскаивается, или же замышляет новую измену.
— Ну а зачем тогда вы сейчас дали мне это письмо?
— Затем, что я не мог подать совет, не показав вам, какие пути избирает лорд Мюррей, чтобы добиться помилования.
— Я доверяю вам, Риччио, но не люблю, когда кто-нибудь подвергает опасному испытанию мое доверие. Будь это письмо найдено при вас другими, кто поверил бы вам, что вы не имели намерения принять сделанное вам предложение?
— Вы, вы! — пылко воскликнул Риччио. — Ведь вы должны чувствовать, что я, человек, поднятый вами из праха, осыпанный вашими милостями и щедротами, не могу изменить вам. А если бы вы усомнились, то я сказал бы вам одно слово, которое привело бы меня, пожалуй, на эшафот, не доказало бы вам мою невиновность.
— Вы возбуждаете мое любопытство. Хотелось бы мне знать, что это за слово!
— Не требуйте этого!… Или, впрочем, требуйте! Терзание, переживаемое мною, — та же пытка.
— Я приказываю вам говорить… Или нет, я прошу! — ласково улыбнулась Мария. — Я хотела бы, Риччио, видеть вас насквозь. Я питала бы к вам безусловное доверие, если бы заглянула в ваше сердце и узнала тот смертный грех, который, по вашим словам, способен довести вас до эшафота.
— Вы приказываете мне говорить — и я повинуюсь. Я был поверенным Кастеляра, знал о его пламенной любви и, пожалуй, был единственным человеком, не осуждавшим его… кроме вас!
— Кроме меня! — прошептала Мария с нескрываемой скорбью, но явно озадаченная. — Вот эта рука подписала его смертный приговор!
— Это сделала королева, но ее сердце было тут ни при чем. Вы как королева, должны были карать там, где ваше сердце женщины чувствовало сожаление и прощало, Боскозель любил со всем пылом мужчины, нашедшего в вас идеал женщины, но забыл, что вы — королева; мало того, он забыл, что мужчине, который любит государыню, не дозволено питать никаких надежд. Между тем Боскозель требовал вашей благосклонной улыбки и вообразил, что солнце принадлежит ему, потому что оно светило ему! Ваше величество! Идя на смерть, он сказал мне, что вы — женщина, которая может любить и требовать любви, и что тот будет счастлив, кто победит вас и у кого хватит мужества отважиться на все. Ваше величество, я обожал вас, как мое солнце. Принцы и короли домогались вашей руки, а я, я, жалкий Давид Риччио, расстраивал все их интриги. Прикажите обезглавить меня, как Кастеляра! Я также был изменником. Я решил, что вы не должны быть несчастной из-за того, что вы — королева, и не должны быть проданы каким-то там Мюрреем. Но когда я увидел, что лорд Дарнлей покорил ваше сердце, я протянул ему руку, сделался его поверенным и блаженствовал с растерзанным, окровавленным сердцем. Потому что вам предстояло сделаться счастливой, ваше величество, а ради этого я вытерпел бы все муки ада. Мне удалось провести Сэррея и лорда Лейстера, я обманул Мюррея, я бодрствовал над лордом Дарнлеем, я был секретарем вашего сердца и знал, что делал, когда вел вашу переписку с католическими лордами. Теперь вы знаете все, так же как и то, что часть вины лежит на мне, если вы сделались несчастной. Я догадываюсь, что Дарнлей не составил вашего счастья, и сужу об этом единственно по тому, что он не смеет больше смотреть мне прямо в глаза. Теперь же я узнаю это от вас самих: если вы призовете обратно Мюррея, значит, Дарнлей виновен, если же вы осудите вашего брата, тогда велите казнить и меня за то, что я осмелился обвинять человека, любимого вами!
Сначала Мария слушала Риччио с возрастающим любопытством, и ее душу обуревали различные чувства. С ужасом видела она безумную любовь в сердце Риччио, но потом была растрогана до слез его самоотверженной преданностью и, погрузившись в тихую мечтательность, долго сидела неподвижно, не замечая, что итальянец умолк.
— Риччио, — внезапно произнесла она и протянула руку стоявшему на коленях секретарю, — вы — истинный друг, настоящий поверенный моего сердца. Да, я надеялась, что снова могу сделаться счастливой, я нарушила верность умершему супругу и жестоко расплачиваюсь за это. Но я заслужила свою кару и хочу терпеливо нести ее. Мятежник не должен торжествовать, парламент будет судить его.
— А если Мюррей согласится подчиниться, если вам, путем милосердия и великодушия, удастся примирить все партии, чтобы и ваш супруг не нашел ни одной, на которую он мог бы опереться, если бы вздумал пойти против вас?
Оторопевшая Мария воскликнула:
— Ах, ваша подозрительность заходит так далеко… я не думала.
— Она идет еще дальше, потому что я беспокоюсь за вас. Дарнлей домогается короны.
— Но никогда не получит ее от меня! Однако я не хочу сомневаться в нем… Горе ему, если это когда-нибудь произойдет, если он оскорбит королеву, как осмеливается оскорблять женщину. Будьте бдительны, Риччио, наблюдайте за всеми и не бойтесь говорить мне все. Если Дарнлей коротко сблизился с вами еще до брака со мною, то пусть остерегается этого теперь, чтобы вы не сделались его обвинителем после того, как я узнала, что он лицемерил. Горе Дарнлею, если он забудется перед мной как королевой!
— Да направит все это Господь к вашему благополучию! — прошептал Риччио, прижимая к губам руку Марии.
И королева не противилась тому, она с улыбкой смотрела на стоявшего на коленях итальянца, и, пожалуй, на нее нахлынуло то чувство блаженства, которое заставляет женщину сознавать, что она любима ради нее самой, без надежды, без смелости страстного влечения.
III
Прошло несколько недель. Дарнлей пригласил лордов Рутвена, Линдсея и графа Дугласа на пир. Дуглас не особенно охотно принял это приглашение, так как высокомерие Дарнлея и упорные слухи о том, что он оскорбляет королеву по всякому поводу, заставляли графа ненавидеть его.
— Милорды, — воскликнул Дарнлей, — знаете ли вы, что ответила мне моя супруга, когда я снова напомнил ей о ее обещании передать мне половину верховной королевской власти, которую некогда разделял с нею Франциск Второй? Она полагает, что у меня нет способностей управлять государством. Можно ли придумать более горькую насмешку над шотландцами? Значит, только женщина может обладать умением господствовать над нами?
— Ваше высочество, королева доказала это умение, — возразил Дуглас, — и если она отказывает вам в том, что некогда обещала, то, по-моему, это означает, что теперь она любит вас меньше прежнего.
Лицо Дарнлея побагровело.
— А кому приписываете вы в том вину, лорд Дуглас? — спросил он. — Мне или ей?
— Вам, ваше высочество. Счастливый муж редко разыгрывает из себя любовника.
— Милорд, я спросил бы вас, не лучше ли сумели бы вы сами разыграть эту роль, если бы не знал, что Мария Стюарт имеет счастье внушать благоговейное почтение тем, которые стоят от нее далеко, и что это почтение улетучивается при ближайшем знакомстве с нею.
Дуглас встал и, схватившись за меч, воскликнул:
— Ваше высочество, неужели я должен защищать честь королевы против ее супруга?
— Хорошо было бы, если бы вы могли сделать это с помощью доказательств, а не меча. Будь она просто леди Дарнлей, я не стал бы делиться с вами ее бесчестьем, но она — королева, и я не желаю лечь под топор из-за того, что не могу перенести свой позор. Подлый итальянец разделяет со мною ложе шотландской королевы, и кто поможет мне в моем мщении, тот спасет честь Шотландии.
Дуглас побледнел, обвинение было чересчур смело и высказано слишком уверенным тоном, так что трудно было усомниться, тем более, что Дарнлей выставлял напоказ собственное бесчестье.
— Да, — продолжал Дарнлей, — я не хотел верить старым россказням про Кастеляра, не доверял предостережениям Мюррея и смеялся над ними, потому что твердо верил в чистоту Марии. Но Мюррей был прав, ее ненасытное тщеславие ищет все новых побед, она быстро пресыщается своими любовниками и отказывает мне в королевской власти по той причине, что я должен быть соломенным чучелом, которое играет роль супруга для прикрытия плодов беспутной любви. Не королева, а Давид Риччио отказывает мне в короне, и скоро вы доживете до того, что она наградит его званием лорда. Вы хотите доказательств? Вот взгляните, это — письмо английского посланника лорда Рандольфа к графу Лейстеру, скопированное для меня. Англичане могут торжествовать: шотландский лорд попал в ловушку, чтобы называться отцом ублюдков.
Лорд Дуглас стал читать вслух письмо.
«Мне известно из вполне достоверных источников, — говорилось в нем, — что королева раскаивается в своем замужестве, что она ненавидит лорда Дарнлея со всей его родней; я знаю, что и ему самому небезызвестна благосклонность королевы к другому лицу, знаю, что ведутся интриги под руководством отца и сына, направленные к тому, чтобы наперекор Марии Стюарт овладеть короной».
При этих словах Дуглас угрюмо посмотрел на Дарнлея и сказал:
— Ваше высочество, этому не бывать, пока я жив. Я отдаю в ваше распоряжение свою руку, чтобы убить виновного в случае, если он действительно найдется; но никто не смеет отнять у Марии Стюарт корону или умалить ее власть, пока я в состоянии вскочить на коня и владеть мечом.
— Лорд Дуглас еще сомневается, — с легкой насмешкой заметил Линдсей. — Ведь и Боскозеля де Кастеляра нашли в спальне королевы!
— Разве она виновата, что ее красота сводит мужчин с ума? — пытался защитить Марию лорд Дуглас. — Только ненависть способна обвинять ее, ведь королева сама позвала на помощь и приказала арестовать виновного.
— Пожалуй, из-за того, что Кастеляр ей наскучил, как теперь я! — пробормотал Дарнлей.
— Ваше высочество, — возразил Дуглас, — если вы так мало уважаете королеву как женщину, то я не понимаю, каким образом честолюбивое желание сделаться королем-супругом могло бы восторжествовать в вас над чувством чести дворянина. Право, я начинаю думать, что вы слишком усердно отстаиваете слух, пятнающий вашу честь, чтобы выставить приближенного королевы, мешающего вашим планам, любовником вашей супруги. Но я не позволю шутить с собою, я не сделаюсь слепым орудием вашего честолюбия, а потребую доказательств, прежде чем примусь помогать очистить корону от пятна, наведенного на нее, пожалуй, только вашим воображением и ненавистью к вашей супруге.
— Милорд, — возразил Дарнлей, — я представлю вам, доказательства, если вы поручитесь своею честью не выдавать нашего замысла и помочь нам в наказании виновного, когда его вина будет вполне обнаружена.
— Вот вам в том моя рука! — ответил Дуглас, — Но едва он удалился, как Дарнлей и прочие заговорщики разразились хохотом.
— Берегитесь! — воскликнул Линдсей. — Дуглас обещает свою помощь из-за того, что завидует итальянцу. Право, если бы не существовало на свете ревности, Мария могла бы выступить в поход с целым войском обожателей.
Однако Дарнлей был озадачен, потому что при словах Дугласа Рутвен сочувственно кивнул тому головой, и он понял, что эти двое поставят ему преграду на дороге, если он не заручится своевременно помощью еще и других лордов. Смерть Риччио избавляла его только от человека, который отсоветовал Марии предоставить ему королевскую власть, но эта кровавая расправа должна была ожесточить ее, и, пожалуй, он, ненавистный муж, более потерял бы, чем выиграл, от смерти итальянца.
Из такого замешательства вывел его граф Мортон. Протестант, близкий родственник Мюррея, он, естественно, боялся лишиться занимаемых им должностей и своих ленных владений, если бы господство католицизма в стране чересчур усилилось. По этой причине он уговорился с Дарнлеем завязать тайные сношения с наиболее гонимыми мятежниками и с Англией. Их целью было заручиться содействием самых влиятельных баронов для осуществления своего плана, состоявшего в том, чтобы убить приближенного королевы, распустить парламент, которому предстояло осудить бежавших лордов, предоставить Дарнлею верховную власть и поставить Мюррея во главе правительства.
Были составлены две так называемые «конвенции» для обоюдного торжественного обязательства между королем и его сторонниками. В первой из них, подписанной Дарнлеем вместе с Рутвеном, Дугласом, Линдсеем и Мортоном, король заявлял, что так как королева окружена безнравственными людьми, которые обманывают ее, то Дарнлей с помощью дворянства захватит этих людей и в случае сопротивления предаст их смерти. Он обязывался, со своей стороны, доставить доказательства того, что королева нарушила супружескую верность, и обещал оказать внутри замка помощь своим сообщникам в защите от королевы. Во второй конвенции Мюррей и его единомышленники обязывались содействовать Дарнлею защищать реформатскую религию, уничтожать ее врагов и предоставить Дарнлею верховную власть, за что тот должен был помиловать Мюррея с прочими мятежными лордами и восстановить их в правах владения поместьями и в почетных званиях.
Эти письменные договоры были представлены Рандольфу с тем, чтобы он ходатайствовал о помощи перед Елизаветой, и английский посланник написал по этому поводу лорду Бэрлею следующее:
«Вам известны несогласия и ссоры, возникшие между королевой и ее супругом, потому что, с одной стороны, она отказывает ему в матримониальной короне, а с другой стороны, до него дошли слухи, что его супруга ведет себя так, как невозможно допустить, и чему мы не поверили бы, если бы это не получило слишком широкой огласки. Ради устранения предмета этого скандала король решил присутствовать при аресте и наказании по закону того, кто виновен в преступлении и нанес ему величайшее бесчестье, какому только может подвергнуться человек, в особенности лицо его звания. Если шотландская королева воспротивится тому, чего от нее потребуют, и найдет средство заручиться какою-либо силой внутри страны, то ей будет оказано сопротивление и ей придется удовольствоваться помощью лишь той части дворянства, которая, к сожалению, осталась верна ей. Если же она станет искать поддержки за пределами Шотландии, то ее величество королеву Елизавету будут просить милостиво соизволить принять под свою защиту шотландского короля и лордов».
Такие мрачные тучи скопились над головой Марии в то время, когда она собиралась торжествовать победу.
IV
Риччио, после своей исповеди, стал человеком, чрезвычайно близким сердцу Марии. Она чувствовала благородную чистоту его мечтательной любви, и чем почтительнее относился он к ней, тем теплее обращалась она с ним, считая себя вправе поступать таким образом. Она считала, что Риччио — человек с благородным умом и верным сердцем, что защищать его и сохранить его для себя повелевают ей как долг, так и сердце. Южная пылкость горела в его темных глазах. Он слагал нежные и задушевные песни, но вместе с тем придумывал смелые планы и был хорошим работником. Короче говоря, после того как Мария взглянула на него однажды глазами женщины, этот человек сделался опасен для ее сердца, а его почтительная сдержанность еще сильнее располагала ее к интимности. Теперь они оба стали влюбленными, не выдавая еще сладостной тайны своего обоюдного счастья. Мария не подозревала, что у нее в груди зарождается глубокая страсть, а Риччио видел в ее благоволении лишь сердечную доброту монархини и женщины, которой он посвятил свою жизнь.
Один астролог, по имени Дамио, предостерегал Риччио опасаться незаконнорожденного и указал ему на Георга Дугласа, сына графа Ангуса, как на его врага. Со смехом сообщил о том итальянец королеве. Ведь Георг Дуглас был ей предан и не мог посягнуть на ее поверенного.
— Я знаю, — возразила Мария, — на какого незаконнорожденного указывают звезды как на вашего врага; Дамио только боялся поискать его под пурпуром трона. Это — граф Мюррей, побочный сын моего отца. Но я завтра же открою парламент, который должен судить его по закону и произнести приговор над преступными вассалами. Держите наготове представления, которые должны возвратить нашей церкви ее прежнее влияние, Этим шагом я покажу Шотландии волю ее королевы и достигну победы!
— О, вы победите, потому что с вами Бог, Но если бы вы согласились послушаться моего совета, то обождали бы еще несколько недель с теми представлениями. У реформаторов начинается Великая неделя поста, когда наиболее ревностные пуритане имеют обыкновение собираться в Эдинбург, и Нокс сумеет выбрать такой текст для своей проповеди, что найдется опять какой-нибудь предлог смешать политическое недовольство с религиозным вопросом.
Мария посмотрела на Риччио с нежностью и, ласково положив руку на его плечо, чуть слышно промолвила:
— Вы всегда думаете обо мне и желаете избавить меня от всякой неприятности. Было время, когда ненавистная клевета оскорбляла меня, теперь же я слишком презираю людей, чтобы какой-нибудь сочиненный вами романс не разогнал у меня всякого печального настроения, навеянного злобой моих врагов. Не нашли ли вы опять чего-нибудь новенького для нашего развлечения?
— Ваше величество, когда я проходил вчера по галереям замка, вдруг услышал игру на лютне. То были удивительно приятные звуки, какие я слышал только на моей родине. Нежный, мелодичный голос пел под эту музыку, но то была не страстная песня юга, а задумчивая, глубокая печаль севера, в ней чудился свежий воздух дремучих сосновых лесов горной страны, что-то светлое и прекрасное, возвышенное и вместе с тем теплое.
— Однако вы совсем воодушевились? Но кто же это пел?
— Ваша новая фрейлина, леди Джэн Сэйтон.
— Ах, красавица с печальными глазами, кроткая сестра нашего отчаянного Георга Сэйтона? Мне, кажется, рассказывали, что она затмила перед одним из наших друзей веселые глаза своей сестры?
— Это я доверил вам тайну, ваше величество, когда вы обвиняли в непостоянстве лорда Роберта Сэррея. Я заподозрил, что тут что-то кроется, когда узнал, что он жил в Сэйтон-Наузе, и мне было нетрудно угадать имя той, которую лорд Роберт описывал красками пламенного чувства, тем более что он сообщил мне о своей безнадежной, несчастной любви.
— Так оно и есть, ему никогда не поладить с Георгом Сэйтоном. Когда они оба выступили с нами в поход против мятежников, то один шел в арьергарде, тогда как другому был поручен авангард. Гордость Сэррея не уступит ни в чем высокомерию Сэйтона. Сэйтон отвез свою сестру в Голируд, зная, что Сэррей избегает ее близости. Но где же находится теперь он? Мне не помнится, чтобы он просил отпуск.
— Он с необъяснимой поспешностью отбыл в Англию, говорят, до него дошли недобрые вести, и толкуют, будто дело идет о похищении одной девушки, близкой ему.
— Филли!… Значит, он напал на ее след?
— Рассказывают всякую всячину; по-видимому, лорд Лейстер обманул вас, когда уверял, что ничего не знает о похищении Филли. Однажды — мы стояли тогда как раз против мятежников — пришло известие о том, что в Лондоне распространился слух, будто королева Елизавета согласна отдать свою руку лорду Лейстеру. Тут граф Сэррей вскочил как ужаленный, и это могло подать повод к всевозможным подозрениям.
— Уж не думаете ли вы, что и Сэррей обожает нашу рыжеволосую сестрицу?
— Нет, она — дочь того, кто казнил его брата.
— Риччио, — воскликнула королева, и ее лицо внезапно озарилось благородным пылом, — я еще не обязана благодарностью этому человеку и желала бы видеть его счастливым, Наверное, и вам известно, что он любит Джэн Сэйтон?
— Произнесешь его имя, и леди Джэн тотчас вспыхнет румянцем, а леди Мария побледнеет.
— Как несчастливо поставлена женщина в любви! Ей приходится ждать, пока ее найдет тот, по ком томится ее сердце, и как часто ее чувство бывает непонято, или даже отвергнуто! Как часто увядает оскорбленное сердце в затаенной скорби.
— Ваше величество, — чуть слышно молвил Риччио, — женщина читает во взгляде мужчины томление его сердца, но его не осчастливит ни одна сладостная улыбка, если требования высокого происхождения запрещают ей выказать благосклонность ничтожному смертному.
— Нет, Риччио, — с жаром возразила королева, — если женщина и не решается выдать это словами, то мужчина все-таки должен почувствовать, дорог он ей или нет, не ропщет ли она на судьбу, поставившую сословные разграничения между ним и ею, и не говорят ли ему ее глаза: «Не требуй более того, что я могу тебе предложить!»
Риччио опустился на колени и покрыл руку Марии Стюарт поцелуями.

Глава четырнадцатая
УБИЙСТВО РИЧЧИО

I
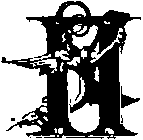 Парламент был открыт. Десятого марта 1566 года в него должны были поступить представления королевы, однако заговорщики решили опередить ее.
Накануне королева собрала в своей столовой круг приближенных. Она любила интимные вечеринки, щеи не вспоминали о королевском блеске и о стеснительном этикете. На них присутствовал обыкновенно только женщины, но в последнее время допускался и Риччио, размещавший приглашенных дам своими разнообразными талантами.
В покоях королевы раздавалось мелодичное пение Джэн Сэйтон под звуки лютни, когда Генрих Дарнлей под прикрытием темноты прокрался по усыпанному гравием двору к наружным воротам, приказал караульным отворить ворота, и отряд в полтораста человек солдат, приведенный Мюрреем и спрятанный им поблизости замка, проник в Голируд. Дарнлей сам провел этих людей в темный двор, куда выходили окна королевских покоев, и спрятал их в обширном сарае, после чего вернулся обратно в свои комнаты, где тем временем собрались заговорщики.
Для них не было тайной, что королева принимала Риччио в своем интимном кружке, что он был единственным мужчиной в обществе женщин, безусловно преданным ей, и теперь даже Дуглас не сомневался в том, что итальянец в своей роли был счастливее Кастеляра. Лорд Мортон потребовал, чтобы Риччио был арестован на глазах королевы и вздернут на виселицу после суда над ним. Но прочие единогласно решили умертвить его в присутствии государыни, хотя она готовилась в скором времени сделаться матерью.
В восемь часов вечера Дарнлей повел вооруженных с головы до ног заговорщиков по винтовой лестнице в спальню королевы, откуда было слышно каждое слово, сказанное в столовой. Дарнлей условился со своими друзьями, что сначала он один войдет в столовую, и лишь на его зов: «Ко мне, Дуглас!» — они должны прийти к нему на помощь.
В комнате королевы царило веселье. Глаза Риччио сияли, счастьем, он был безоружен, потому что ношение оружия составляло привилегию лишь дворянства. Но мог ли он стремиться к внешним почестям, когда все его сердце было переполнено блаженством от сознания, что он любим взаимно? Кажется, никогда еще между сердцами монархини и ее подданного не существовало такое чистое, но вместе с тем такое искреннее и близкое общение, как здесь.
Джэн Сэйтон пела песню о любви, ее сестра мечтательно уставилась взглядом в пространство. Мария Стюарт посмотрела в глаза Риччио и прошептала:
— Тоска о любимом существе приятнее самого упоительного счастья. Она не проходит, а остается вечно юной и таит в самой своей скорби величайшее наслаждение.
Вдруг двери королевской спальни отворились, и Дарнлей, вооруженный мечом, приблизился к креслу супруги.
Пораженная, Мария Стюарт вскочила с места и вдруг услыхала в спальне тяжелые шаги, приближавшиеся к портьере, она медленно отошла от нее — и на пороге показался лорд Рутвен, в латах и полном вооружении, бледный как призрак, с обнаженным мечом в руке.
— Что вам угодно, милорд? — дрожащим голосом воскликнула королева, трепеща от страха и тревоги. — Не с ума ли вы сошли, что осмеливаетесь входить ко мне в покои без доклада и в боевых доспехах?
— Вот кто мне нужен! — глухо ответил Рутвен и, подняв закованную в железо руку, протянул ее в сторону итальянца. — Я ищу этого Давида Риччио, который засиделся слишком долго в личных покоях шотландской королевы, соизвольте его удалить.
— А какое преступление совершил он? — бледнея, воскликнула Мария.
— Величайший и самый отвратительный грех против вашего величества, против принца, вашего супруга, против дворянства и всего народа.
— Ко мне, Дуглас! — сказал Дарнлей.
Риччио спрятался за королеву, которая выпрямилась, как разъяренная львица.
— Если Риччио совершил преступление, — гневно продолжала она, — то пусть его судит парламент, а вас, лорд Дарнлей, я спрашиваю, не вы ли устроили это дерзкое нападение?
— Нет, — мрачно ответил Дарнлей.
— Тогда убирайтесь вон под страхом смертной казни за государственную измену! — грозно крикнула Мария на лорда Рутвена.
Однако остальные заговорщики уже успели проникнуть в комнату, они опрокинули стол и схватили Риччио, который с отчаянными воплями: «Правосудия! Правосудия!» — старался увернуться от направленных на него обнаженных шпаг, Он судорожно вцепился в складки платья королевы, но Дарнлей оттащил его от Марии. На ее приближенных дам были направлены пистолеты, чтобы никто из них не посмел вступиться за несчастного. Андрей Кэрью приставил кинжал даже к груди королевы.
— Сжальтесь над ним! — умоляла она.
Но Дуглас выхватил у короля кинжал из ножен и всадил его в грудь Риччио. Тот издал хриплый вопль и рухнул на пол. Убийцы оттащили его за ноги от королевы, и заговорщики бесчеловечно доконали раненого, нанеся ему пятьдесят шесть ударов кинжалами и шпагами.
Бледная и дрожащая стояла Мария во время этой жестокой расправы. Железная рука Дарнлея крепко держала ее. Появился лорд Рутвен, обессиленный опустился на стул и, показав окровавленный кинжал, пробормотал Дарнлею упавшим голосом:
— Он лежит, весь разбитый, на мостовой двора, мы выкинули из окошка труп негодяя, чтобы псы лизали его кровь.
— Перед королевой не сидят! — воскликнула Мария, до того возмущенная дерзостью убийцы, что пылкое негодование заглушило в ней на один миг ужас, вызванный кровавым злодейством. — Вон отсюда!
— Ваше величество, я сижу только потому, что изнемог от болезни. Ради вашей чести и чести вашего супруга я встал с постели и притащился сюда, чтобы уничтожить негодяя.
С этими словами лорд Рутвен налил себе вина и осушил его.
— Так это вы нанесли мне такое бесчестье? — дрожа от гнева, обратилась Мария к своему супругу. — Вы, которого я возвысила из опальных до королевского трона? Ах вы, изменник! — воскликнула она с лихорадочной дрожью. — Возможно, что мне никогда не удастся отомстить вам, потому что я — лишь женщина, но тот ребенок, которого я ношу под сердцем, не должен называться моим сыном, если он не сумеет отплатить за мать!
— Вы не принимали меня, вашего супруга, когда при вас находился Риччио. Вы не хотели знать меня по целым месяцам, тогда как он был вашим поверенным. Ваша и моя честь требовали того, чтобы я допустил убийство этого мерзавца.
— Ваше величество, — вмешался Рутвен, — принц отомстил за свою поруганную честь, мы же освободили страну от предателя, на вашу пагубу вкравшегося в ваше доверие. Он склонял вас к тому, чтобы тиранить дворянство, обречь на изгнание бежавших лордов, угрожать господствующей религии и затеять позорную измену посредством союза с католическими государями. Он внушил вам избрать опальных графов Босвела и Гэнтли в свой Тайный совет, Давид Риччио был изменником по отношению к вам, ваше величество, и к Шотландии.
Мария поняла, что попала во власть своих врагов из-за своей легкомысленной беззаботности и этим промахом зачеркнула все одержанные победы.
— Эта кровь должна быть отмщена, клянусь моей жизнью! — промолвила она, плача от горя и ярости. — Я скорее соглашусь умереть, чем перенести такое поругание!
— Сохрани вас Бог от этого, ваше величество! — возразил Рутвен. — Чем более выкажете вы себя оскорбленной, тем строже осудит народ вашу вину.
Парламент был открыт. Десятого марта 1566 года в него должны были поступить представления королевы, однако заговорщики решили опередить ее.
Накануне королева собрала в своей столовой круг приближенных. Она любила интимные вечеринки, щеи не вспоминали о королевском блеске и о стеснительном этикете. На них присутствовал обыкновенно только женщины, но в последнее время допускался и Риччио, размещавший приглашенных дам своими разнообразными талантами.
В покоях королевы раздавалось мелодичное пение Джэн Сэйтон под звуки лютни, когда Генрих Дарнлей под прикрытием темноты прокрался по усыпанному гравием двору к наружным воротам, приказал караульным отворить ворота, и отряд в полтораста человек солдат, приведенный Мюрреем и спрятанный им поблизости замка, проник в Голируд. Дарнлей сам провел этих людей в темный двор, куда выходили окна королевских покоев, и спрятал их в обширном сарае, после чего вернулся обратно в свои комнаты, где тем временем собрались заговорщики.
Для них не было тайной, что королева принимала Риччио в своем интимном кружке, что он был единственным мужчиной в обществе женщин, безусловно преданным ей, и теперь даже Дуглас не сомневался в том, что итальянец в своей роли был счастливее Кастеляра. Лорд Мортон потребовал, чтобы Риччио был арестован на глазах королевы и вздернут на виселицу после суда над ним. Но прочие единогласно решили умертвить его в присутствии государыни, хотя она готовилась в скором времени сделаться матерью.
В восемь часов вечера Дарнлей повел вооруженных с головы до ног заговорщиков по винтовой лестнице в спальню королевы, откуда было слышно каждое слово, сказанное в столовой. Дарнлей условился со своими друзьями, что сначала он один войдет в столовую, и лишь на его зов: «Ко мне, Дуглас!» — они должны прийти к нему на помощь.
В комнате королевы царило веселье. Глаза Риччио сияли, счастьем, он был безоружен, потому что ношение оружия составляло привилегию лишь дворянства. Но мог ли он стремиться к внешним почестям, когда все его сердце было переполнено блаженством от сознания, что он любим взаимно? Кажется, никогда еще между сердцами монархини и ее подданного не существовало такое чистое, но вместе с тем такое искреннее и близкое общение, как здесь.
Джэн Сэйтон пела песню о любви, ее сестра мечтательно уставилась взглядом в пространство. Мария Стюарт посмотрела в глаза Риччио и прошептала:
— Тоска о любимом существе приятнее самого упоительного счастья. Она не проходит, а остается вечно юной и таит в самой своей скорби величайшее наслаждение.
Вдруг двери королевской спальни отворились, и Дарнлей, вооруженный мечом, приблизился к креслу супруги.
Пораженная, Мария Стюарт вскочила с места и вдруг услыхала в спальне тяжелые шаги, приближавшиеся к портьере, она медленно отошла от нее — и на пороге показался лорд Рутвен, в латах и полном вооружении, бледный как призрак, с обнаженным мечом в руке.
— Что вам угодно, милорд? — дрожащим голосом воскликнула королева, трепеща от страха и тревоги. — Не с ума ли вы сошли, что осмеливаетесь входить ко мне в покои без доклада и в боевых доспехах?
— Вот кто мне нужен! — глухо ответил Рутвен и, подняв закованную в железо руку, протянул ее в сторону итальянца. — Я ищу этого Давида Риччио, который засиделся слишком долго в личных покоях шотландской королевы, соизвольте его удалить.
— А какое преступление совершил он? — бледнея, воскликнула Мария.
— Величайший и самый отвратительный грех против вашего величества, против принца, вашего супруга, против дворянства и всего народа.
— Ко мне, Дуглас! — сказал Дарнлей.
Риччио спрятался за королеву, которая выпрямилась, как разъяренная львица.
— Если Риччио совершил преступление, — гневно продолжала она, — то пусть его судит парламент, а вас, лорд Дарнлей, я спрашиваю, не вы ли устроили это дерзкое нападение?
— Нет, — мрачно ответил Дарнлей.
— Тогда убирайтесь вон под страхом смертной казни за государственную измену! — грозно крикнула Мария на лорда Рутвена.
Однако остальные заговорщики уже успели проникнуть в комнату, они опрокинули стол и схватили Риччио, который с отчаянными воплями: «Правосудия! Правосудия!» — старался увернуться от направленных на него обнаженных шпаг, Он судорожно вцепился в складки платья королевы, но Дарнлей оттащил его от Марии. На ее приближенных дам были направлены пистолеты, чтобы никто из них не посмел вступиться за несчастного. Андрей Кэрью приставил кинжал даже к груди королевы.
— Сжальтесь над ним! — умоляла она.
Но Дуглас выхватил у короля кинжал из ножен и всадил его в грудь Риччио. Тот издал хриплый вопль и рухнул на пол. Убийцы оттащили его за ноги от королевы, и заговорщики бесчеловечно доконали раненого, нанеся ему пятьдесят шесть ударов кинжалами и шпагами.
Бледная и дрожащая стояла Мария во время этой жестокой расправы. Железная рука Дарнлея крепко держала ее. Появился лорд Рутвен, обессиленный опустился на стул и, показав окровавленный кинжал, пробормотал Дарнлею упавшим голосом:
— Он лежит, весь разбитый, на мостовой двора, мы выкинули из окошка труп негодяя, чтобы псы лизали его кровь.
— Перед королевой не сидят! — воскликнула Мария, до того возмущенная дерзостью убийцы, что пылкое негодование заглушило в ней на один миг ужас, вызванный кровавым злодейством. — Вон отсюда!
— Ваше величество, я сижу только потому, что изнемог от болезни. Ради вашей чести и чести вашего супруга я встал с постели и притащился сюда, чтобы уничтожить негодяя.
С этими словами лорд Рутвен налил себе вина и осушил его.
— Так это вы нанесли мне такое бесчестье? — дрожа от гнева, обратилась Мария к своему супругу. — Вы, которого я возвысила из опальных до королевского трона? Ах вы, изменник! — воскликнула она с лихорадочной дрожью. — Возможно, что мне никогда не удастся отомстить вам, потому что я — лишь женщина, но тот ребенок, которого я ношу под сердцем, не должен называться моим сыном, если он не сумеет отплатить за мать!
— Вы не принимали меня, вашего супруга, когда при вас находился Риччио. Вы не хотели знать меня по целым месяцам, тогда как он был вашим поверенным. Ваша и моя честь требовали того, чтобы я допустил убийство этого мерзавца.
— Ваше величество, — вмешался Рутвен, — принц отомстил за свою поруганную честь, мы же освободили страну от предателя, на вашу пагубу вкравшегося в ваше доверие. Он склонял вас к тому, чтобы тиранить дворянство, обречь на изгнание бежавших лордов, угрожать господствующей религии и затеять позорную измену посредством союза с католическими государями. Он внушил вам избрать опальных графов Босвела и Гэнтли в свой Тайный совет, Давид Риччио был изменником по отношению к вам, ваше величество, и к Шотландии.
Мария поняла, что попала во власть своих врагов из-за своей легкомысленной беззаботности и этим промахом зачеркнула все одержанные победы.
— Эта кровь должна быть отмщена, клянусь моей жизнью! — промолвила она, плача от горя и ярости. — Я скорее соглашусь умереть, чем перенести такое поругание!
— Сохрани вас Бог от этого, ваше величество! — возразил Рутвен. — Чем более выкажете вы себя оскорбленной, тем строже осудит народ вашу вину.
II
В Эдинбурге ударили в набат, придворные дамы королевы подняли тревогу в замке своими криками о помощи; весть о том, что в королевском дворце происходит резня, достигла города, и пока лорды, державшие сторону королевы, а именно: Этол, Босвел, Флемминг и прочие — спасались из окон Голируда с помощью длинных веревок, Мелвил приказал ударить в набат и под зловещее гудение колоколов подступил к воротам дворца с вооруженными гражданами.
— Вот явились мои верные защитники! — радостно воскликнула королева, заслышав глухие удары в ворота замка.
Однако Дарнлей, схватив ее за руку, воскликнул:
— Я приму их, я защищу вашу честь!
— И раньше, чем они увидят вас, ваше величество, — проворчал Рутвен, — мы скорее сбросим вас с зубцов башни, из-за убитого пса не должна вспыхнуть междоусобная война! Подчинитесь! Клянусь Богом, если вы равнодушны к чести и благополучию Шотландии, то во избежание худшего придется пожертвовать вашей жизнью.
Дарнлей подвел к креслу близкую к обмороку королеву, после чего запер ее на ключ и вышел с Рутвеном во двор, чтобы успокоить Мелвила с горожанами. Он не велел отворять ворота, но приказал возвестить со стен, что принц ручается своим словом в добром здравии и невредимости королевы, что умерщвлен только итальянский писец, который вступил в заговор с римским папою и испанским королем с целью призвать в страну чужеземные войска ради восстановления католичества. Этого было достаточно для того, чтобы успокоить сторонников королевы.
Мария Стюарт заперта в столовой, где всего несколько минут назад царили радость и веселье. Напрасно ломилась она в двери, напрасно звала на помощь и умоляла из окна допустить к ней по крайней мере ее приближенных дам, несчастная королева превратилась в узницу в своем дворце.
Что замышляли против нее, зачем заперли ее? Грозило ли ей также убийство или заточение? Если кто-то осмелился лишить королеву свободы, то разве не мог он посягнуть и на ее жизнь?
Холодный пот выступил на лбу Марии Стюарт, ее приводили в ужас эти убийцы, ей мерещилось, что она уже чувствует холодную сталь, вонзавшуюся в ее грудь.
Медленно тянулись минуты, часы, эта ужасная ночь казалась вечностью для истерзанного сердца. И сам Дарнлей был потрясен, когда вошел в столовую наутро и увидал бледную женщину с расстроенным лицом, которая уставилась на него глазами, полными ужаса и тревоги. Ведь эта женщина была недавно предметом его любви. Он пытался успокоить ее, утешить. И дьявольская мысль озарила ее голову: не прикинуться ли ей покорной, чтобы тем вернее осуществить свое мщение? Ненависть победила отвращение к злодею, королева принялась умолять его о пощаде и обещала сделать все, что ему угодно, лишь бы он избавил ее от этого ужаса.
Дарнлей чувствовал, как трепещет в его объятиях ее нежный стан, ему стало жаль ее, дрожавшую от страха и смертельного томления. Он приказал позвать придворных дам и клялся королеве, что невиновен в убийстве, которое было допущено им. Тогда она обняла его за шею и, заливаясь слезами, воскликнула:
— Так накажи убийц, оскорбивших меня, и я прощу тебе все! Верховную власть я уступлю тебе, но не кровожадным злодеям. Разделайся с ними, призови Мюррея; моему супругу и моему брату я согласна довериться и подчиниться, но ты опозорил бы себя, если бы вздумал остаться другом тех, кто покрыл меня стыдом.
Дарнлей уже распорядился распустить парламент, а готовность Марии примириться с Мюрреем убедила его в том, что ее гордость сломлена. Большего он не домогался: ему также казалось соблазнительнее сделаться королем Шотландии по воле своей царственной супруги, чем зависеть от сообщников своего преступления. Ни одной еще женщине не удавалось более ловко провести ненавистного мужа, как провела Мария Стюарт Дарнлея, он ушел из ее апартаментов с намерением избавиться от соучастников заговора и отправил гонца за лордом Мюрреем.
Можно представить себе те чувства, с какими униженная королева приняла своего брата, и ту жестокую душевную борьбу, которую пережила она, прежде чем броситься в объятия того, кого не далее, как вчера, собиралась представить на суд парламента в качестве мятежника.
— Ах, брат мой, если бы вы были при мне, то я не подверглась бы такому поруганию! — воскликнула Мария при этой встрече.
Однако Мюррей не поддался обману Он обсудил с заговорщиками меры, которые следовало принять для блага королевства, и они решили между собою временно заточить Марию в замок Стирлинг, пока будут приведены в порядок государственные дела.
Дарнлей выдал их план королеве. Он уже видел в ней опору против лордов, которые почти не обращали на него внимания. Она представила ему, в какое унизительное положение попал бы он, если бы уступил лордам присвоенную ими власть. Его было нетрудно расположить к себе, потому что он отличался тщеславием, бесхарактерностью и честолюбием и не мог похвастаться особой храбростью. Поэтому, несмотря на горькие и оскорбительные объяснения между супругами, они решили предать забвению случившееся и обсудили сообща план бегства из Голируда.
Королевская чета казалась примирившейся. Дарнлей сам обманул своих сообщников, уверив их, будто его супруга заболела от испуга и ей грозит опасность раньше времени разрешиться от бремени. Ввиду этого он советовал им изложить в особой грамоте все, что хотели потребовать от королевы, и ручался за то, что Мария подпишет этот документ, если удалят из дворца оскорбляющую ее достоинство стражу. Заговорщики согласились на это и покинули Голируд, чтобы подписание грамоты королевой не считалось вынужденным. В ту же ночь Мария бежала с Дарнлеем и с капитаном своих гвардейцев Артуром Эрскином из Голируда, появилась в Дэнбаре и вместо того, чтобы подписать грамоту, составленную лордами, стала призывать к оружию дворянство в графствах.
Пролитая кровь ее любимца Риччио и жестокое унижение, которому она подверглась в ту ужасную ночь, сделали ее лицемеркой. Теперь в ее жилах бродил яд и побуждал ее рисковать короной и жизнью, чтобы отомстить за гнусное убийство, а потом раздавить изменника, который обманул ее сердце, смертельно уязвил ее и все-таки еще тешил себя мыслью, будто глубоко оскорбленная женщина способна его простить.

Глава пятнадцатая
НЕПОСТОЯНСТВО

I
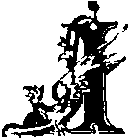 Лорд Лейстер покинул замок Кэнмор, чтобы отправиться в Лондон и представить королеве отчет о своем неудачном сватовстве в Шотландии. Он так наслаждался в объятиях Филли, что горел нетерпением опять вернуться домой. Дэдлей сдержал слово. Без всякой пышности, в глуши уединения, состоялась его свадьба. Кэнморский священник в присутствии Ламберта и его дочери вложил руку Филли в руку лорда, и счастье назвать нераздельно своим прелестное существо, которое, казалось, жило и дышало только им, опьянило его.
Филли не возражала, когда муж предложил ей держать пока в тайне их брак. Горячие поцелуи были ее единственным ответом: ведь Дэдлей был ее миром, ее гордостью; все сосредоточивалось для нее в нем одном.
Лейстер был бы самым бесчувственным негодяем, если бы у него явилась хотя бы отдаленная мысль обмануть Филли, чувство стояло у него на первом плане, оно вспыхивало в нем, как солома, и он не сомневался, что огонь страсти в нем вечен.
По дороге в Лондон он болтал с Кингтоном о своем счастье и рисовал яркими красками свои идиллические мечты, не замечая улыбки хитрого слуги, который совершенно не догадывался о том, что его господин успел уже дать свое имя похищенной им девушке.
Пельдрама послали вперед заказать помещение. Лейстер объявил, что намерен провести в Лондоне никак не больше трех дней, но Кингтон шепнул конюшему:
— Пусть кастелян Лейстер-Хауза приготовится, мы проведем в Лондоне всю зиму.
Чем ближе подъезжал Дэдлей к резиденции Елизаветы, тем сильнее ныло у него сердце. Он боялся, как бы королева не задержала его при своем дворе на более продолжительный срок.
Елизавета, узнав о прибытии Лейстера, назначила час приема. Для этого она выбрала не большой аудиенц-зал, а менее обширную, хотя не менее роскошную комнату.
Елизавете было тридцать лет. Не будучи безусловно красивой, она имела в себе что-то ослепительное и умела усилить это свойство своими туалетами. Однако, умная, страстная и полная величия, королева была подвержена слабости тщеславия и слишком уверена в своей обольстительности. Поэтому она часто соединяла самые непринужденные проявления своей прихоти с внушительным величием, гордое достоинство с бесцеремонностью, неприступность в своем высоком звании с женским кокетством.
В день приема Лейстера на Елизавете была великолепная, вышитая золотом бархатная юбка, а опушенный мехом корсаж облегал грациозный бюст; в золотисто-белокурые волосы были вплетены шнуры, унизанные блестящими драгоценными камнями, под высоким стоячим воротником сверкали бриллианты.
Для своего первого появления перед Елизаветой Лейстер выбрал дорогой, но неприхотливый костюм. Он явился не победителем, его отвергли, и, когда он с потупленным видом преклонил колено перед королевой, которой прежде так смело смотрел в лицо, Елизавета почувствовала, что должна дать ему удовлетворение как государыня и как женщина.
— Встаньте, милорд Лейстер! — сказала она, благосклонно глядя на него. — Мы уведомлены лордом Рандольфом о результате вашего посольства и не ставим вам в вину того, что наши надежды не осуществились. Мы не вправе порицать шотландскую королеву за то что она отвергла искательства иностранных государей, так как и нам самим политика и наша личная склонность предписывали отклонить сватовство тех же самых коронованных особ. Но мы надеялись, что наша сестра, нуждавшаяся как женщина и королева в опоре, придаст некоторую цену нашей рекомендации. Мы ошиблись в своих предположениях и должны, к сожалению, признать, что именно наши доброжелательные советы были единственной причиной того, что вас приняли подозрительно. Тем горячее благодарим мы вас за ваше усердие и готовность исполнять наши желания и в знак нашего королевского благоволения назначаем вас старшим шталмейстером нашего двора.
Дэдлей был так озадачен этим милостивым приемом, решительно не согласовывавшимся со всеми его ожиданиями, что позабыл поблагодарить королеву за дарованное ему отличие и не сразу нашелся, что ответить.
— Милорд, — спросила пораженная государыня, — наша милость пришлась вам не по душе?
Дэдлей, вторично преклонив колено, ответил:
— Ваше величество, я был готов к немилостивому приему, потому что заслужил его, а вы осыпаете меня своими щедротами. Я показал себя недостойным оказанного мне доверия и сделал уже необходимые распоряжения, чтобы в тихом уединении своих поместий сожалеть о том, что мне не посчастливилось исполнить ваши желания. Первая услуга, которой потребовала от меня благосклонность вашего величества, окончилась неудачей, а незаслуженная новая милость может только пристыдить меня вместо того, чтобы придать мне бодрости. Поэтому прошу вас, ваше величество, уволить меня, недостойного слугу, от занимаемых мною должностей.
Для Елизаветы существовало только два объяснения такой странной подавленности Лейстера: или отказ Марии разбил у него заветные надежды, и тогда, следовательно, он забыл ее ради шотландской королевы; или же этот самолюбивый человек рассердился на нее за то, что она навязывала ему супругу, и в таком случае гордость не дозволяла ему оставаться у нее на службе.
— Милорд, — возразила она, — вы смелы! Вы позволяете себе опровергать мое решение, вы называете себя недостойным, когда я намерена вас наградить. Не совершили ли вы какого-нибудь безрассудства, которое скрыл от меня лорд Рандольф? Или вы полагаете, что тот, кто домогался руки Марии Стюарт, не может быть слугою английской королевы? Говорю серьезно, обдумайте свой ответ. Нам интересно послушать, воздух Шотландии или вид нашей венценосной сестры произвел в вас такую перемену, что вы пренебрегаете тем, что в былое время сочли бы для себя за высокую честь.
— Ваше величество, — ответил. Дэдлей, — ни воздух Шотландии, ни вид королевы Марии Стюарт не изменили меня, а еще того менее осмеливаюсь я опровергать ваше решение. Я только прошу позволения не принимать вашей милости, потому что чувствую себя недостойным ее и полагаю, что не заслуживаю нового доверия. С той минуты, как я покинул Лондон, я смотрел на себя, как на изгнанника, на которого возложили известную задачу. Если бы она удалась, мною остались бы довольны, но не вернули бы меня из печального изгнания, а в случае неудачи милость королевы могла бы даровать мне прощение.
Елизавета угадала упрек, скрытый в этих словах, и он дал ей понять, что Лейстер отвергает благоволение королевы только из-за того, что ему пришлось отказаться от благосклонности, которую она дарила ему как женщина. Она самодовольно улыбнулась, ее тщеславие одержало победу и было польщено тем, что Дэдлей не забыл ее в Голируде. И все чувства, охватившие ее при первой встрече с этим красавцем, опять ожили в ней.
— Милорд, — заключила она, — я не увольняю вас от ваших должностей: мне нужно прежде убедиться, насколько основательна была ваша скромность. Но прежде всего я ожидаю от вас отчета в вашей миссии. Государственные дела в Шотландии мне непонятны; надеюсь, что вы достаточно наблюдательны, чтобы вывести верные заключения хотя бы о странном выборе, сделанном моей сестрой. Двор я отпускаю. Милорд Лейстер, следуйте за мной в мой кабинет.
Лорд Лейстер покинул замок Кэнмор, чтобы отправиться в Лондон и представить королеве отчет о своем неудачном сватовстве в Шотландии. Он так наслаждался в объятиях Филли, что горел нетерпением опять вернуться домой. Дэдлей сдержал слово. Без всякой пышности, в глуши уединения, состоялась его свадьба. Кэнморский священник в присутствии Ламберта и его дочери вложил руку Филли в руку лорда, и счастье назвать нераздельно своим прелестное существо, которое, казалось, жило и дышало только им, опьянило его.
Филли не возражала, когда муж предложил ей держать пока в тайне их брак. Горячие поцелуи были ее единственным ответом: ведь Дэдлей был ее миром, ее гордостью; все сосредоточивалось для нее в нем одном.
Лейстер был бы самым бесчувственным негодяем, если бы у него явилась хотя бы отдаленная мысль обмануть Филли, чувство стояло у него на первом плане, оно вспыхивало в нем, как солома, и он не сомневался, что огонь страсти в нем вечен.
По дороге в Лондон он болтал с Кингтоном о своем счастье и рисовал яркими красками свои идиллические мечты, не замечая улыбки хитрого слуги, который совершенно не догадывался о том, что его господин успел уже дать свое имя похищенной им девушке.
Пельдрама послали вперед заказать помещение. Лейстер объявил, что намерен провести в Лондоне никак не больше трех дней, но Кингтон шепнул конюшему:
— Пусть кастелян Лейстер-Хауза приготовится, мы проведем в Лондоне всю зиму.
Чем ближе подъезжал Дэдлей к резиденции Елизаветы, тем сильнее ныло у него сердце. Он боялся, как бы королева не задержала его при своем дворе на более продолжительный срок.
Елизавета, узнав о прибытии Лейстера, назначила час приема. Для этого она выбрала не большой аудиенц-зал, а менее обширную, хотя не менее роскошную комнату.
Елизавете было тридцать лет. Не будучи безусловно красивой, она имела в себе что-то ослепительное и умела усилить это свойство своими туалетами. Однако, умная, страстная и полная величия, королева была подвержена слабости тщеславия и слишком уверена в своей обольстительности. Поэтому она часто соединяла самые непринужденные проявления своей прихоти с внушительным величием, гордое достоинство с бесцеремонностью, неприступность в своем высоком звании с женским кокетством.
В день приема Лейстера на Елизавете была великолепная, вышитая золотом бархатная юбка, а опушенный мехом корсаж облегал грациозный бюст; в золотисто-белокурые волосы были вплетены шнуры, унизанные блестящими драгоценными камнями, под высоким стоячим воротником сверкали бриллианты.
Для своего первого появления перед Елизаветой Лейстер выбрал дорогой, но неприхотливый костюм. Он явился не победителем, его отвергли, и, когда он с потупленным видом преклонил колено перед королевой, которой прежде так смело смотрел в лицо, Елизавета почувствовала, что должна дать ему удовлетворение как государыня и как женщина.
— Встаньте, милорд Лейстер! — сказала она, благосклонно глядя на него. — Мы уведомлены лордом Рандольфом о результате вашего посольства и не ставим вам в вину того, что наши надежды не осуществились. Мы не вправе порицать шотландскую королеву за то что она отвергла искательства иностранных государей, так как и нам самим политика и наша личная склонность предписывали отклонить сватовство тех же самых коронованных особ. Но мы надеялись, что наша сестра, нуждавшаяся как женщина и королева в опоре, придаст некоторую цену нашей рекомендации. Мы ошиблись в своих предположениях и должны, к сожалению, признать, что именно наши доброжелательные советы были единственной причиной того, что вас приняли подозрительно. Тем горячее благодарим мы вас за ваше усердие и готовность исполнять наши желания и в знак нашего королевского благоволения назначаем вас старшим шталмейстером нашего двора.
Дэдлей был так озадачен этим милостивым приемом, решительно не согласовывавшимся со всеми его ожиданиями, что позабыл поблагодарить королеву за дарованное ему отличие и не сразу нашелся, что ответить.
— Милорд, — спросила пораженная государыня, — наша милость пришлась вам не по душе?
Дэдлей, вторично преклонив колено, ответил:
— Ваше величество, я был готов к немилостивому приему, потому что заслужил его, а вы осыпаете меня своими щедротами. Я показал себя недостойным оказанного мне доверия и сделал уже необходимые распоряжения, чтобы в тихом уединении своих поместий сожалеть о том, что мне не посчастливилось исполнить ваши желания. Первая услуга, которой потребовала от меня благосклонность вашего величества, окончилась неудачей, а незаслуженная новая милость может только пристыдить меня вместо того, чтобы придать мне бодрости. Поэтому прошу вас, ваше величество, уволить меня, недостойного слугу, от занимаемых мною должностей.
Для Елизаветы существовало только два объяснения такой странной подавленности Лейстера: или отказ Марии разбил у него заветные надежды, и тогда, следовательно, он забыл ее ради шотландской королевы; или же этот самолюбивый человек рассердился на нее за то, что она навязывала ему супругу, и в таком случае гордость не дозволяла ему оставаться у нее на службе.
— Милорд, — возразила она, — вы смелы! Вы позволяете себе опровергать мое решение, вы называете себя недостойным, когда я намерена вас наградить. Не совершили ли вы какого-нибудь безрассудства, которое скрыл от меня лорд Рандольф? Или вы полагаете, что тот, кто домогался руки Марии Стюарт, не может быть слугою английской королевы? Говорю серьезно, обдумайте свой ответ. Нам интересно послушать, воздух Шотландии или вид нашей венценосной сестры произвел в вас такую перемену, что вы пренебрегаете тем, что в былое время сочли бы для себя за высокую честь.
— Ваше величество, — ответил. Дэдлей, — ни воздух Шотландии, ни вид королевы Марии Стюарт не изменили меня, а еще того менее осмеливаюсь я опровергать ваше решение. Я только прошу позволения не принимать вашей милости, потому что чувствую себя недостойным ее и полагаю, что не заслуживаю нового доверия. С той минуты, как я покинул Лондон, я смотрел на себя, как на изгнанника, на которого возложили известную задачу. Если бы она удалась, мною остались бы довольны, но не вернули бы меня из печального изгнания, а в случае неудачи милость королевы могла бы даровать мне прощение.
Елизавета угадала упрек, скрытый в этих словах, и он дал ей понять, что Лейстер отвергает благоволение королевы только из-за того, что ему пришлось отказаться от благосклонности, которую она дарила ему как женщина. Она самодовольно улыбнулась, ее тщеславие одержало победу и было польщено тем, что Дэдлей не забыл ее в Голируде. И все чувства, охватившие ее при первой встрече с этим красавцем, опять ожили в ней.
— Милорд, — заключила она, — я не увольняю вас от ваших должностей: мне нужно прежде убедиться, насколько основательна была ваша скромность. Но прежде всего я ожидаю от вас отчета в вашей миссии. Государственные дела в Шотландии мне непонятны; надеюсь, что вы достаточно наблюдательны, чтобы вывести верные заключения хотя бы о странном выборе, сделанном моей сестрой. Двор я отпускаю. Милорд Лейстер, следуйте за мной в мой кабинет.
II
Лорды низко кланялись, когда Елизавета проходила мимо них, Лейстер же следовал за ней с невольной робостью в душе. Ее слова о том, что она может возвысить того, кто принижен, для его честолюбия были соблазнительной приманкой, уже начавшей оказывать на него опьяняющее действие. Уж не помышляла ли Елизавета выбрать его себе в супруги? Не ради ли одного испытания отправляла она его в Голируд? Ее милость, которою она щедро осыпала его, отказ дать ему увольнение — все говорило за то, что королева хотела вознаградить его за удар по его самолюбию и готова позволить ему высказать ей это в глаза. Но что он скажет ей? Мыслимо ли сознаться королеве, что его мужское тщеславие забавлялось ею? Мог ли он сказать гордой дочери Генриха VIII: мужчина, осмелившийся признаться ей в любви, утешился служанкой Марии Стюарт? Он чувствовал, что ответом на такое признание послужили бы, пожалуй, плаха и топор палача. Но как осмелиться скрыть от нее его женитьбу? В чем ином было спасение, как не во лжи? Дэдлей проклинал час, когда подал Филли руку, и в то же время был готов пожертвовать своим графством и очутиться с нею за морем вместо того, чтобы следовать за Елизаветой в ее кабинет.
Кабинетом Елизаветы служила прелестная, уютная комната, При входе стояли две статуи вооруженных негров, в левой руке у каждого был щит полированного серебра, а в правой эти фигуры держали канделябр со свечами таким образом, что огни отражались в щите. Синие бархатные занавеси были оторочены ярко-красной шелковой бахромой, пушистые ковры устилали пол, справа стоял рабочий стол старинного английского дуба с драгоценной художественной резьбой, слева — цветочный столик, мягкий диван был обит синим бархатом и отделан алой бахромой, возле него помещались маленькие столики, на которых лежали книги в роскошных переплетах с серебряными застежками, свитки пергамента и прочие вещи, указывавшие на то, что королева посвящала часы досуга серьезным занятиям.
Елизавета остановилась посреди комнаты и заговорила тихим, но твердым голосом:
— Теперь мы одни, милорд Лейстер, скажите же мне, почему хотели вы покинуть мой двор. Только избавьте меня от упрека, который я уже сделала себе сама. Мне не следовало посылать вас в Голируд после того, что было сказано между нами. Было бы лучше, если бы я избрала другую цель и дала вам поручение иного рода. Однако сделанного не воротишь, и я сожалею о том. Ну, оставим теперь это! Так объясните же мне, почему именно теперь, когда я еще больше нуждаюсь в вашем совете, потому что вы лучше осведомлены о государственных делах в Шотландии, чем Рандольф, вам вздумалось пренебречь моею дружбой? Неужели я столь глубоко оскорбила вас, что вы все еще сердитесь?
— Ваше величество, одно ваше слово, один благосклонный взгляд — и моя скорбь, причиненная вашим неудовольствием, будет вполне исцелена. И здесь, как и в Голируде, я чувствую, что не гожусь для государственной службы, а еще менее того — для придворной. Я узнал жизнь с ее веселой стороны, никогда не находился в зависимости, не имел над собою никакого начала и привык говорить все, что подсказывало мне сердце. Таким простодушным приехал я сюда, увидел в вас прекрасную Елизавету Тюдор и мне дела не было до короны, украшавшей вашу голову. Если бы я видел только королевский венец, то приближался бы к вам лишь с благоговейным почтением. Вы напомнили мне о том, что я стою не перед женщиной, а перед коронованной особой. И вот в своем жестоком огорчении я поклялся возненавидеть вас…
— И полюбить другую! — перебила его Елизавета с большой запальчивостью, ее лицо пылало, глаза сверкали зловещим блеском. — Вы вздумали отомстить за себя и предать меня Марии Стюарт, но она разгадала вас. Довольно, милорд Лейстер! — гневно воскликнула государыня, когда Дэдлей попытался возразить. — Я, королева Англии, уже слишком много терпела от вас! У вас хватило бесстыдства сознаться, что мы недостойны больше высокой чести пользоваться вашим расположением? Ваше желание исполнилось: вы уволены от занимаемых вами должностей. Берегитесь, однако, милорд, чтобы ваш язык не подвел вас, иначе ваша голова как изменника, может скатиться на плаху в том самом месте, где падали головы Варвиков. Вы свободны. Ступайте!
Королева гордо выпрямилась и стояла в пылу страсти перед Лейстером, дрожа от гнева и волнения. Она была прекрасна в своем раздражении повелительницы.
Дэдлей почувствовал, что только любовь могла так гневаться. И, увлеченный страстным желанием поймать благоприятную минуту, забыв все, что его связывало и чем он рисковал, он дерзнул не подчиниться ее приказу.
— Ваше величество, — сказал он, — теперь я не уйду, пока вы не выслушаете меня и пока не получу от вас прощения или не буду уведен вашими слугами в Тауэр. Вы желали узнать всю правду? Извольте! Вы, Елизавета Тюдор, могли презреть любовь своего вассала, могли раздавить безумца, но не в вашей власти принудить его сердце к измене. Это я говорил уже вам раньше, и вы позволили мне поцеловать вашу руку и произнесли слова, которые зажгли во мне надежду. Я повиновался вашей воле, как в чаду, а опомнился лишь тогда, когда увидел, какую задачу поставили вы мне. Я был бы презренным существом, если бы в тот час не почувствовал глубокого огорчения и не поклялся самому себе возненавидеть вас. Но почему вы думаете, что мне удалось сдержать клятву, что я подло предал вас Марии Стюарт?! Ваше величество, подобный ответ подсказало вам не сердце. Если вы мыслите благородно, то никогда не сможете простить самой себе это подозрение.
Елизавета протянула ему руку и сказала мягким тоном, который делал ее неотразимой:
— Вы правы, Дэдлей, подобное подозрение недостойно меня. Боже мой, неужели я похожа на всех женщин, что забылась вторично и опять-таки перед вами, Дэдлей?
Было что-то нежное в тоне, которым она произнесла эти слова, и это ободрило Дэдлея. Он бросился на колени перед Елизаветой и страстно стал признаваться ей в своих чувствах:
— Мог ли я обожать вас, как прекраснейшую и божественнейшую из женщин, если бы вы оставались всегда только королевой? Ваша женская слабость придает вам больше очарования, чем королевская диадема. Неужели вы хотите отречься от дарованной Богом природы, которая так прекрасно проявляется в вас, и быть только королевой, а не женщиной, которая благоухает любовью и находится в расцвете красоты? О, если у вас нет ничего для меня, кроме почетных мест, то я охотнее соглашусь горевать вдали, чем поклоняться этому холодному королевскому величию. Я не завидую вашим министрам, все, что может дать королева, не стоит одной улыбки Елизаветы. Неужели я должен терпеть муки Тантала и, томясь жаждой, смотреть на серебряный источник, который не может дать ни капли воды? Нет, если не все еще в вас превратилось в недосягаемое величие и гордое достоинство возвышенного существа не от мира сего, если вы еще способны представить себе жестокие пытки несчастного, тогда из сожаления ко мне вы навсегда прогоните меня прочь.
Елизавета села на диван, оперлась головой на руку и, слушая его, погрузилась в сладкие мечты.
— Дэдлей, — прошептала она, — а если бы я показала вам на деле, что может совершить воля женщины над собственным сердцем, и потребовала от вас одинаковой нравственной силы? Может быть, я увидела предопределение судьбы в неудачном исходе вашего сватовства и захотела поразмыслить теперь о том, не буду ли я счастливее, избрав себе супруга…
Озадаченный, Лейстер затаил дыхание. Голова пошла у него кругом от ее слов. Елизавета распахнула перед ним все храмы блаженства, а он уже сковал себя с другой женщиной.
Королева, не подозревая причин его смятения, наслаждалась его растерянностью.
— Я ничего не обещаю, Дэдлей, — еле слышно произнесла она. — Я только указываю на то, что поколебалась в своем решении и что виновником этого колебания являетесь вы. Если я высказываю вслух то, на что другая женщина намекнула бы только краскою стыда, то пусть это докажет вам, что я ощущаю свое женское сердце под королевским пурпуром. Но я никогда не пощажу своего сердца, если не сочту за лучшее потакать ему. Для того же, чтобы я могла испытать себя и взвесить свою слабость против всяких иных побуждений, вы должны остаться здесь. Я не боюсь борьбы, попытайте счастья и докажите, чего может добиться сила любви над женским сердцем.
Елизавета сказала это полувызывающим и полуободряющим тоном, и это ее заигрывание было настолько теплым и обворожительным, что Лейстер в пылу страсти открыл объятия, но достаточно было одного взгляда Елизаветы, чтобы его простертые руки быстро опустились, не успев еще коснуться ее.
— Вы слишком бурны, Дэдлей, — прошептала Елизавета, раскаиваясь, что охладила его порыв, — вы забываете, что я — королева. Оставьте меня, Дэдлей, я уже и так слишком долго занималась пустяками, как женщина, не думая о более серьезных обязанностях. Но воспоминание об этом часе я унесу с собою в зал совета, когда зайдет вопрос о выборе супруга для меня. И если я решусь сделать выбор, то вам должно быть отдано предпочтение перед прочими искателями моей руки.
С этими словами она протянула Лейстеру руку, он поднес ее к губам, и трепет пробежал по его телу, потому что эта царственная рука дрожала, — значит, он заставил ее волноваться.
III
Когда Лейстер, пылая от волнения и все еще упоенный своей победой, о которой он даже не мечтал, проходил гордый и радостный по аванзалам, то заметил, как все придворные низко кланялись ему. Его интимный разговор с глазу на глаз с королевой в ее кабинете продолжался слишком долго для того, чтобы в нем не увидели уже явного любимца, если не более того. Как раздувало это поклонение его гордость, как льстило оно его тщеславию, как высоко поднимались его самые смелые честолюбивые помыслы! Елизавета намекнула ему, что она не свободна от женских слабостей! И она почти созналась, что только долг перед короной мешает ей последовать влечению своего сердца. То была победа, которой Лейстер мог гордиться.
Но он был женат, и даже если бы этот союз можно было расторгнуть, то одна весть об этом браке превратит ее теплое чувство к нему в презрение и ненависть. Теперь ничто не могло спасти Дэдлея, кроме строжайшего молчания тех, кому была известна его тайна. Оставалась еще надежда на то, что Елизавета победит свою слабость. И если она отвергнет его теперь, тогда он останется близким другом ее сердца, будет первым лордом королевства, и в то же время сможет втайне наслаждаться в объятиях Филли, благо та не требовала никаких почестей, а только любви.
Кто мог обвинить его, кто мог доказать его вину? Старый священник, совершавший брачный обряд, был почти слеп, Ламберт зависел от него, Сэррея и Брая он, став любимцем Елизаветы, мог держать в отдалении по приговору королевы. Затеянная игра была смела, но отказаться от нее значило все потерять. Дэдлей рисковал своей головой, своим существованием, а также благополучием Филли, потому что мщение, которое постигло бы его, не пощадило бы также и ее. По этой причине всякая насильственная мера казалась ему справедливой, и, едва успев добраться до своего дома, он велел позвать к себе Кингтона.
Когда тот явился, Лейстер сказал:
— Кингтон, я знаю, что могу доверять тебе. Похищением той девушки я совершил большую глупость, которая может иметь непредвиденные последствия. Против ожидания, дела при здешнем дворе складываются для меня настолько благоприятно, что мне приходится бояться, как бы не узнали, насколько мало заслуживаю я оказанного мне доверия. Никто не должен знать, что в Кэнмор-Кастле скрывается дама.
— Милорд, о том известно только тем, кому вы доверили сами.
— Знаю и раскаиваюсь в своей опрометчивости. Королева помнит, что я поклонялся ей, и, кажется, не прочь принимать дальнейшее поклонение. Она сочтет смертельной обидой для себя, если узнает, что я поклялся в любви другой.
— Но кто же сможет доказать это, милорд, если вы будете отрицать?
— Кинггон, но ведь я женился на леди, старый священник из Кэнмора совершил церемонию, как полагается. Я не мог сдержать свою страсть и дал ей увлечь себя. Теперь это — совершившийся факт.
— Но при совершении брачной церемонии были упущены кое-какие формальности, необходимые для законности брака.
— Что за черт! Кинггон, это — дьявольская мысль! Молчи об этом! Я люблю жену, и мое слово священно, лучше пусть с меня снимут голову, чем мне стать негодяем.
Кинггон посмотрел на графа, словно ожидая объяснения, что же ему, собственно говоря, нужно. Но Дэдлей вместо того, чтобы дать это объяснение, беспомощно уставился в пространство, и слуга понял, что его позвали на помощь, что графу важнее заглушить свою совесть, чем думать о мерах, последствий которых он боялся.
— Милорд, — сказал Кинггон, — вам, стяжавшему милость и благоволение ее величества королевы, будет не так-то трудно охранить свой тайну. Но мне кажется, эта тайна с каждым днем будет становиться все опаснее и тягостнее для вас. Она превратится для вас в цепь, которая будет все теснее обвивать вас, если вы будете откладывать в долгий ящик окончательное решение.
— Ты прав, Кинггон. Но как быть? Я открою тебе свое сердце. Ты глубоко предан мне и, быть может, найдешь какой-нибудь выход. Побуждаемый честолюбием и очарованный милостивым приемом, я сделал королеве такие признания, которые женщина может выслушать только в том случае, если она отличает говорящего, как мужчину. Я был уверен, что неуспех моей миссии в Шотландии лишит меня милости королевы Елизаветы и решил предпочесть счастливую частную жизнь честолюбивой борьбе при дворе Елизаветы. Я встретил существо, которое любило меня, которое всей душой было предано мне, в моем воображении розовыми красками обрисовалось тихое счастье, мне показалось, что мое сердце навеки умерло для честолюбивых замыслов. Я намеревался заключить брачный союз с Филли только тогда, когда стану совершенно свободным, но ее настроили подозрительно против меня, и я увлекся до того, что дал ей свое имя, только чтобы доказать, насколько я не собираюсь нарушить ее доверие. Счастье, которое я вкусил, заставило меня беззаботно относиться ко всяким опасным последствиям. Да и никогда я не буду предателем той, которую люблю, никогда не обману ее доверия, она — моя жена и останется ею. Но сегодня я вдруг узнал, что королева Елизавета все еще помнит мои признания, и почувствовал, что не могу больше противостоять искушениям честолюбия. Я не вынесу замкнутой жизни, раз меня будет одолевать мысль, что стоило бы мне захотеть, и я бы стал первым лордом в Англии. Королева Елизавета нерешительна, я убежден, что ее гордость поможет ей преодолеть любую женскую слабость. А я мог бы добиться первенствующего положения, если бы поддерживал в королеве мысль о том, что я принадлежу ей безраздельно. И весьма возможно, что я сумею открыть путь для своих честолюбивых замыслов, не становясь изменником жене. Кому нужно знать, что граф Лейстер устроил себе тайное мирное счастье? Твоей задачей будет оберегать эту тайну, Кинггон. Найди средство избавить меня от мучений вечного беспокойства, и ты будешь осыпан золотом и станешь моим другом.
— Вы изволили сказать, что этой тайны не знает никто, кроме священника, Ламберта и его дочери?
— Да! Но я поручился Сэррею своей честью, что увез Филли только для того, чтобы сделать ее своей женой.
— В таком случае я вижу только один исход: брак не должен быть заключен!
— Да, но он уже заключен, Кингтон. Я не буду отказываться от этого!
— Вы не изволили меня понять. Правда то, что вы вступили в брак, чтобы оправдаться как в своих глазах, так и в глазах леди Лейстер. Но вы скрывали этот брак, следовательно, на самом деле он существует только для вас, но не для других. Не должно остаться доказательств этого. Я думаю, нужно удалить из книги метрик листок, на котором записан ваш брак, и принять меры, чтобы как священник, так и свидетели молчали.
— Ну а лорд Сэррей? — спросил Лейстер. — Если он потребует доказательств, что я сдержал свое слово? Это — такой человек, который способен довести свое преследование до трона королевы!
— Надо либо заставить его замолчать, либо помешать добраться до трона королевы.
— Да как же помешать этому? Быть может, он и будет молчать, если узнает правду, но этот меднолобый остолоп Брай не будет внимать голосу рассудка, он все поставит на карту, лишь бы добиться официального признания прав моей жены!
Кинггон, улыбнувшись, спросил:
— Неужели вы имеете основания щадить человека, который может быть вам до такой степени опасным?
— Я не хотел бы употреблять насилие против него, но если иначе нельзя…
— Быть может, окажется достаточно одной угрозы. Если я получу полномочие действовать в ваших интересах, то уверен, в самом скором времени буду иметь возможность всецело успокоить вас, ваше сиятельство!
— Кинггон, я не люблю крайних средств.
— Я пущу их в ход только в случае настоятельной необходимости. И во всяком случае будет гораздо лучше, если этим займетесь не вы лично, а я. Вы, ваше сиятельство, можете потом свалить всю вину на меня, и, конечно, простите мне, преданному слуге, если я проявлю излишнее рвение, а не недостаток усердия. Я уже знаю, что нужно делать в случае открытия вашей тайны.
— Что же?
— Пусть это будет моей тайной. Я буду ответственным перед вами во всех своих действиях, но если вы познакомитесь заранее с моим замыслом, вся ответственность падет на вас. Дайте мне только полномочия, достаточные для исполнения задуманного плана.
— Каких же полномочий хочешь ты?
Ваше письмо к леди Лейстер. В нем вы предложите следовать моим указаниям, если окажется необходимым внезапно изменить местожительство, затем вы уполномочите назначать и смещать служащих графства, призывать всадников и давать им приказания, в которых я обязан отчетом только вам, ваше сиятельство.
— Все это я охотно доверю тебе. Но когда же ты надеешься окончательно покончить со всем этим так, чтобы я мог не опасаться за свое будущее?
— В тот день, когда вы предложите королеве к подписи бумагу с декретом об изгнании всех, кто добровольно не согласится верить на слово вашей чести.
— Это было бы лучшим средством, но потребуются уважительные основания, иначе королева не подпишет указа. Наконец, кто знает, вдруг какой-либо удачный поворот дела избавит нас от всяких забот. Если, например, королева выйдет замуж…
— Или вдруг умрет ваша супруга…
— Кингтон! — вздрогнув вскрикнул Лейстер, и его лицо побледнело. — Горе тому, кто будет виноват в смерти моей жены! Даже если он станет искать защиты у самого трона Елизаветы, я убью его!
— Вот поэтому-то я и просил разрешения в случае необходимости отправить миледи из Кэнмор-Кастла.
Подозрение Лейстера улеглось, он подошел к письменному столу, чтобы написать письмо Филли и доверенность Кингтону.
Через два часа Кингтон был уже в седле и скакал, сопровождаемый одним только Томасом Пельдрамом по направлению к Кэнмор-Кастлу, а граф Лейстер выбрал самое изящное платье, чтобы предстать перед королевой Елизаветой.

Глава шестнадцатая
В БУДУАРЕ КОРОЛЕВЫ

I
 Вскоре при дворе все стали считать графа Лейстера действительным фаворитом Елизаветы, и для его честолюбия не могло быть лестнее роли того человека, ради которого королева отвергла одного за другим царственных претендентов на ее руку.
Екатерина Медичи счастливо покончила с первой гражданской войной и теперь искала союза с Елизаветой, чтобы лишить гугенотов их покровительницы. Французскому послу де Фуа было поручено передать королеве послание, в котором Екатерина просила руки Елизаветы для своего сына, французского короля Карла IX. Елизавета несколько раз менялась в лице во время чтения этого письма. Видно было, что она и польщена, и смущена, наконец она ответила, что предложение такой чести переполняет ее любовью и уважением к вдовствующей французской королеве, но, очевидно, последняя плохо осведомлена относительно ее, Елизаветы, возраста. Она слишком стара для такого юного короля, как Карл IX, и он может пренебречь ею, как король испанский пренебрег ее покойной сестрой Марией.
Де Фуа пытался переубедить королеву и склонял ее советников в пользу этого брака, но против этого выступил испанский посланник де Сильва.
— Ваше величество, — спросил он однажды, — говорят, будто вы собираетесь выйти замуж за французского короля?
Елизавета рассмеялась и, опустив голову, ответила:
— Теперь как раз пост, поэтому я готова исповедаться вам. Относительно моего брака ведутся переговоры с королями Франции, Швеции и Дании. Из числа неженатых государей остается один только испанский инфант, который еще не удостоил меня чести просить моей руки.
— Ваше величество, мой повелитель уверен, что вы не желаете выходить замуж вообще, раз вы отклонили предложение его, величайшего государя христианского мира, хотя, как вы сами изволили уверять, вы и были лично расположены к нему.
— О, это не совсем так, — уклончиво возразила Елизавета. — В то время я менее думала о замужестве, чем теперь. Мне надоедают с этим, и я по временам почтя готова решиться на подобный шаг, чтобы избавиться от тех сплетен, которым подвергается женщина, не желающая выходить замуж. Уверяют, будто мое намерение не выходить замуж является следствием физического недостатка, а некоторые идут еще далее и приписывают мне очень плохие побуждения. Так, например, уверяют, будто я потому не хочу выходить замуж, что люблю графа Лейстера, а за него не хочу выйти потому, что он — мой подданный. Другие же считают, что я просто не уверена в крепости своего чувства. Всех языков не свяжешь,но истина когда-нибудь выплывет на свет, и вы, равно как и другие, узнаете, что именно руководит мной.
И с тех пор стало известно всем, что она хоть и шутя, но все-таки открыто призналась в своем расположении к графу Лейстеру. А французский посол, получив отрицательный ответ, стал поддерживать Лейстера, чтобы не допустить сближения Елизаветы с Испанией.
Прошли месяцы с тех пор, как Елизавета побудила Лейстера начать борьбу за ее руку и сердце, но ни разу еще она не давала ему случая быть с нею наедине. А между тем он был признанным фаворитом и занимал высшие придворные должности. Никто и не подозревал, что в часы кратких отлучек, когда Лейстер покидал Лондон под предлогом охоты или частных дел он наслаждался в объятиях любимой жены. Все ожидали, что рано или поздно королева объявит о том, что ее выбор пал на Лейстера, поэтому высшие чины и знатнейшие дворяне королевства окружали его лестью и почетом, хотя втайне и завидовали росту его влияния. А Дэдлей действительно становился тем более влиятельным, чем более старался делать вид, будто политические вопросы совершенно не интересуют его. Он понял, что несмотря на всю остроту и величие своего ума, Елизавета подозрительно относилась к тому, кто не умел давать ей советы так, чтобы ей казалось, будто бы она сама додумалась до этого, и, конечно, отлично использовал это для укрепления своей власти.
С каждым днем Лейстер чувствовал себя все тверже и тверже. Казалось, что его тайна соблюдается великолепно. Сэррей боролся в Шотландии против партии Мюррея, поддерживаемой Елизаветой, так что считался чуть ли не врагом Англии. Вальтер Брай отправился во Францию, и о нем не было ни слуху, ни духу. Священник, венчавший Лейстера, был отправлен в дальнюю провинцию и посажен на отличный приход, за что поклялся хранить молчание. На Ламберта же можно было смело положиться. Словом, Лейстеру пока нечего было бояться.
Королева Елизавета дала ему однажды какое-то маловажное поручение, он явился, чтобы доложить ей о результатах, и был уверен встретить у нее лорда Бэрлея. Даже и тогда, когда маршал сообщил ему, что королева одна, он был далек от мысли, что приближается решительный момент, — ведь в последнее время Елизавета с большой ясностью и определенностью указала ему на границы его поклонения.
В своем голубом будуаре королева сидела на диване и казалась настолько погруженной в чтение, что даже не заметила появления Дэдлея, хотя ей только что было доложено о нем. На ней было легкое платье, плотно облегавшее ее тело и прекрасно обрисовывавшее ее благородные, роскошные формы. Лицо ее чуть-чуть порозовело, прелестная шея изящно белела в облаках легкого газа, под бархатом одежды вздымалась девственная грудь, а нежная белая ручка шаловливо играла золотистыми локонами, тогда как локоть слегка опирался на поверхность стола. Маленькие ноги покоились на мягкой скамеечке, и из-под юбки, словно любопытствуя, выглядывали кончики атласных туфель. Прошло несколько минут, пока она подняла голову и взглянула на почтительно ждавшего у дверей графа. Однако Лейстер либо действительно замечтался в созерцании ее образа, либо был достаточно искусным царедворцем, чтобы притворно изобразить это, во всяком случае он не заметил взгляда королевы, как будто бы весь ушел в созерцание.
— Это — вы, лорд Дэдлей? — улыбаясь, спросила она. — Я заставила вас ждать!…
Он вздрогнул, словно просыпаясь от сладких грез, и ответил:
— Ваше величество, на момент я был далеко от земли…
— Что же вознесло вас на небо?
— Я представил себе, будто я — душа скамейки, на которую опирается ваша ножка, она поддерживает вас, хотя вы даже и не замечаете ее, а все-таки ее бархат осмеливается прикасаться к вам. Она служит вам, и, если бы вдруг ее не оказалось здесь, вы почувствовали бы ее отсутствие, ваша ножка невольно стала бы искать ее, притянула бы к себе и прижала бы, чтобы удержать.
— Вы умеете льстить! Вы, кажется, завидуете этой ничтожной вещи за то, что она оказывает мне услугу.
— Ваше величество, именно из-за этого она и достойна зависти! Возможность оказать вам услугу, будь она хоть самой малой, но непременно такой, какую не мог бы оказать вам никто другой, — была бы величайшим счастьем для меня. Поддерживать вас, сметь смотреть на вас, на вызывая в вас протеста, быть около вас не замеченным вами, тайно принадлежать вам, быть вашим — разве это не было бы слаще и отраднее, чем теперь утопать в благоволении и дрожать от страха потерять вас на следующий день, вечно витать между небом и адом, быть игрушкой прихоти?..
— Нет, не прихоти, Дэдлей, — с упреком возразила Елизавета. — Я надеюсь, что в ваших глазах я не являюсь пустой кокеткой, а моя милость — мимолетной улыбкой. Я никогда не обманывала вас! Я откровенно и честно открыла вам свою душу и призналась вам, что вы — единственный мужчина, который мог бы заставить меня уступить желаниям сердца и женской слабости, если бы обязанности, наложенные на меня короной, позволили мне это!
— Но ведь эти королевские обязанности требуют, чтобы вы избрали себе супруга. Ваши подданные умоляют вас об этом, ваши советники желают этого, и единственное, что сопротивляется этому во всей стране, что еще отказывает всем — это ваше сердце!
— Нет, Дэдлей, сердце уже сказало свое слово. Но, несмотря на настояния подданных и представления членов совета, я чувствую, что не смею уступить желаниям сердца. Только я одна могу заглянуть в свою душу и нарисовать картину будущего. Вам я открою свои мысли, чтобы вы не сомневались в моем сердце. Подойдите поближе, загляните в мои глаза, присядьте ко мне! Я, как женщина, считаю себя обязанной смягчить для вас мое жестокое «нет» королевы!
— В таком случае позвольте мне выслушать вас на коленях! — промолвил Лейстер, опускаясь на ковер. — Ведь это — мой приговор, когда же осужденному читают приговор, то он должен преклонить колена. А мне приходится выслушать решение более жестокое, чем смертный приговор: вы приговариваете меня жить с убитым сердцем!
— Нет, вовсе нет, Дэдлей! — шепнула ему королева, и ее лицо покраснело, да и у него при этих словах кровь быстрее хлынула по жилам. — Разве вы так низко цените сознание того, что вы любимы?
— Да, я любим, но все же и отвергнут! Видеть вас и быть для вас меньше, чем эта скамейка, это кресло, птица, которую вы кормите, — о, что может быть ужаснее этого! Ведь вы, как королева, недоступны, прикоснуться к вам — преступление!
— Разве вы не касались моей руки губами?
— Как и сотни других, которые далеки, чужды, безразличны, а иногда и лично противны вам. О, вы не можете понять, что любовь горячее всего сказывается именно в прикосновении. Но вы неприступны. Вы — не женщина, вы только королева…
— Нет, я — женщина, Дэдлей, даже слишком женщина! — шепнула Елизавета, покраснев от смущения и дрожа от страсти, так как он высказал то, что, как она подозревала, ставилось ей в вину. — Прикоснитесь ко мне, посмотрите, как я пламенею, и вы увидите, что и у меня в жилах течет тоже горячая кровь, что и я — женщина… Но вы должны как следует понять меня, вы не должны думать, что мне легко отказываться от счастья.
Лейстер схватил ее руку и почувствовал, как она горит, он видел, что Елизавета дрожит, объятая пламенем страсти, и хотел прижать к губам ее руку, но она сейчас же выдернула ее из его рук, словно боясь, что этот поцелуй заставит ее сдаться.
— Выслушайте меня, — зашептала она и улыбнулась, когда Дэдлей сел к ее ногам, а его рука обласкала ее ногу, опиравшуюся на скамейку. — Мы должны понять друг друга в этот момент. Я хочу облегчить себе борьбу, которая грозит превысить мои силы, потому что мне слишком больно, что ваш взгляд укоряет меня в жестокости, когда я жестока только по отношению к самой себе. И у меня бывают часы, когда я мечтаю о сладком счастье и завидую самой бедной женщине, имеющей возможность найти утешение от всех забот и печалей на груди возлюбленного и право всецело отдаться во власть своих сладких грез. Видите, Дэдлей, я серьезно испытала себя и взвесила все, что соблазняет и что удерживает меня ответить на запросы сердца. Мой отец был великим государем, и только одно пятно позорит его имя, одна слабость привела его к тому, что его достославное царствование превратилось в жестокую тиранию: он не мог сдержать свои вожделения. Чувственная любовь, страсть испить чашу блаженства с той, которая нравилась ему в данный момент, вынуждала его совершать кровавые деяния и жестоко преследовать тех, кто противился ему. Все его слабости всецело овладели им, и величие утонуло в пороке. В моих жилах его кровь, и хотя я — женщина, я все же надеюсь совершить великие дела. Неужели я должна допустить, чтобы мои слабые стороны взяли верх надо мной? Неужели мое правление должно стать для моей страны проклятием вместо благословения? Я буду истинной королевой, если преодолею женскую слабость, но стану только чувственной, колеблющейся женщиной, если последую велениям сердца. Если бы я отдала свою руку иностранному государю, то все дело было бы только в том, чтобы противодействовать чужеземному влиянию. Если же я последую выбору сердца, то потеряю все: я буду не что иное, как только женщина, которую ласками успокаивают в минуты раздражения и поцелуями заставляют молчать. Я уподоблюсь тогда шотландской королеве, забывающей все свои обязанности ради любовных забав. Да и то сказать: я пошла бы в этом дальше ее, и страсть сожгла бы меня уничтожающим пожаром. Этого я не могу допустить. Я хочу управлять Англией, а для этого должна уметь управлять собой. Нога, которой я придавливаю темя бунтовщиков, должна раздавить и того, кто осмелится заставить меня изменить самой себе. Так думаю я, Дэдлей, и если у вас достаточно великая душа, чтобы уважать во мне больше королеву, чем женщину, способную раздразнить мужскую чувственность, тогда вы должны признать, что я не могу протянуть вам руку, не отказавшись от всего, что возвышает меня над остальными женщинами моего двора. Именно потому, что люблю вас, я и опасаюсь за себя, и борюсь с этой любовью. Никто не должен овладеть моей волей, никто не должен отнимать у меня мою свободу!
— Так раздавите навсегда последнюю тень надежды и навсегда оттолкните меня от себя! О, зачем вы — королева, а не нищая? О, зачем наделило вас небо непреодолимейшими чарами женщины, раз вы растаптываете в себе все женские чувства? Я не смею противоречить, я могу только бежать. Что же мне сказать, если женщина, к которой я приближаюсь с обожанием, улыбаясь, кричит мне: «Назад, смертный! Здесь божество!»?
— Нет, вы не смеете бежать от меня, Дэдлей, вы должны облегчить мне борьбу, а не отягощать ее. Быть может, настанет время, когда я почувствую себя достаточно сильной, чтобы быть женщиной, не переставая быть королевой. Останьтесь, потому что иначе меня замучает тоска. Когда вы передо мной, то сознание вашей близости облегчает мне борьбу. Если же вы покинете меня, то во мне проснется ревность, и возможно, что я не найду в себе силы справиться с этой страстью. Останьтесь, Дэдлей! О, какое блаженство видеть возлюбленного и знать, что он твой, что достаточно одного слова — и он будет принадлежать тебе! А разве вам самому мало гордой радости постоянно видеть свою королеву, обращающуюся ко всем с приказаниями, и только к вам одному с просьбой не принадлежать никому, кроме нее? Разве для вас мало утешения по временам иметь право приближаться ко мне, или в тихие часы отдыха, когда я утомлена государственной работой, иметь возможность освежать мое сердце? Неужели вы, мужчины, не можете быть счастливыми без обладания и властвования? Неужели тайный триумф над женским сердцем значит для вас так мало? Неужели вы не способны к той благороднейшей любви, которая становится тем более гордой, чем более покоряет чувства?
— Нет, я способен, ваше величество! Но раз вы способны опьянять чувства, то должны поплатиться за это! — пламенно вымолвил Лейстер. — Пусть это стоит мне головы, но что такое смерть, если, умирая, дерзаешь сорвать цветок любви? Вы любите меня, вы моя, и я ваш! Королева отвергает вассала, но женщина прижимает к своей груди возлюбленного. Убей меня, Елизавета, но сначала я поцелую тебя!
Он обнял королеву и несмотря на ее сопротивление прижался горящими устами к ее губам. Словно опьянев от блаженства, он лежал на груди Елизаветы, и его страсть пронизывала ее кровь. Вдруг, словно проснувшись ото сна, королева вырвалась, гордо выпрямилась, и ее глаза метнули на него поток уничтожающих молний.
Дэдлею стоило жизни, если бы он сказал хоть слово, которое напомнило бы Елизавете о ее унижении. Но он сознавал, что оскорбил монархиню, а потому он упал ниц и прошептал:
— Теперь раздавите меня! Пусть вассал поплатится своей головой.
— Милорд, — пробормотала она, все еще дрожа от возмущения, хотя и смягченная его покорностью, — вы достойны смерти, или в Англии окажется человек, имеющий право называть меня, Елизавету Тюдор, потаскушкой!
— Да, я достоин смерти, если вы как королева не можете помиловать того, кого любите как женщина. Вы говорили, чтобы я стал вашей собственностью и утешал вас в том, что королевский сан не позволяет вам быть такой же женщиной, как другие. Я сорвал с ваших уст брачный поцелуй, так прикажите же как королева судить меня, если не хотите оставить себе игрушку!… Ведь больше, чем игрушкой, я не могу быть для вас!
— Так будьте же моей игрушкой! — покраснев, улыбнулась королева. — Однако не забывайте, что игрушку ищут только тогда, когда чувствуют расположение играть, и что хотя и ласкают и целуют куклу, но она не смеет оживать. Берегитесь, Дэдлей! Я дочь Генриха Восьмого и не всегда расположена прощать дерзость, даже если эта дерзость вызвана мною же самой! Берегитесь львицы, которая ласкает вас!
— Я буду целовать ее, пока она не разорвет меня.
Елизавета сделала ему знак рукой, и Дэдлей вышел из будуара с таким смирением, словно не приближался к королеве иначе, как с почтением, и никогда не чувствовал близко от себя дыхания ее уст.
Елизавета задумчиво посмотрела ему вслед, недовольство исчезло с ее чела, лицо засияло улыбкой нежного блаженства, и с улыбкой торжествующего удовлетворения она взглянула в зеркало.
Вскоре при дворе все стали считать графа Лейстера действительным фаворитом Елизаветы, и для его честолюбия не могло быть лестнее роли того человека, ради которого королева отвергла одного за другим царственных претендентов на ее руку.
Екатерина Медичи счастливо покончила с первой гражданской войной и теперь искала союза с Елизаветой, чтобы лишить гугенотов их покровительницы. Французскому послу де Фуа было поручено передать королеве послание, в котором Екатерина просила руки Елизаветы для своего сына, французского короля Карла IX. Елизавета несколько раз менялась в лице во время чтения этого письма. Видно было, что она и польщена, и смущена, наконец она ответила, что предложение такой чести переполняет ее любовью и уважением к вдовствующей французской королеве, но, очевидно, последняя плохо осведомлена относительно ее, Елизаветы, возраста. Она слишком стара для такого юного короля, как Карл IX, и он может пренебречь ею, как король испанский пренебрег ее покойной сестрой Марией.
Де Фуа пытался переубедить королеву и склонял ее советников в пользу этого брака, но против этого выступил испанский посланник де Сильва.
— Ваше величество, — спросил он однажды, — говорят, будто вы собираетесь выйти замуж за французского короля?
Елизавета рассмеялась и, опустив голову, ответила:
— Теперь как раз пост, поэтому я готова исповедаться вам. Относительно моего брака ведутся переговоры с королями Франции, Швеции и Дании. Из числа неженатых государей остается один только испанский инфант, который еще не удостоил меня чести просить моей руки.
— Ваше величество, мой повелитель уверен, что вы не желаете выходить замуж вообще, раз вы отклонили предложение его, величайшего государя христианского мира, хотя, как вы сами изволили уверять, вы и были лично расположены к нему.
— О, это не совсем так, — уклончиво возразила Елизавета. — В то время я менее думала о замужестве, чем теперь. Мне надоедают с этим, и я по временам почтя готова решиться на подобный шаг, чтобы избавиться от тех сплетен, которым подвергается женщина, не желающая выходить замуж. Уверяют, будто мое намерение не выходить замуж является следствием физического недостатка, а некоторые идут еще далее и приписывают мне очень плохие побуждения. Так, например, уверяют, будто я потому не хочу выходить замуж, что люблю графа Лейстера, а за него не хочу выйти потому, что он — мой подданный. Другие же считают, что я просто не уверена в крепости своего чувства. Всех языков не свяжешь,но истина когда-нибудь выплывет на свет, и вы, равно как и другие, узнаете, что именно руководит мной.
И с тех пор стало известно всем, что она хоть и шутя, но все-таки открыто призналась в своем расположении к графу Лейстеру. А французский посол, получив отрицательный ответ, стал поддерживать Лейстера, чтобы не допустить сближения Елизаветы с Испанией.
Прошли месяцы с тех пор, как Елизавета побудила Лейстера начать борьбу за ее руку и сердце, но ни разу еще она не давала ему случая быть с нею наедине. А между тем он был признанным фаворитом и занимал высшие придворные должности. Никто и не подозревал, что в часы кратких отлучек, когда Лейстер покидал Лондон под предлогом охоты или частных дел он наслаждался в объятиях любимой жены. Все ожидали, что рано или поздно королева объявит о том, что ее выбор пал на Лейстера, поэтому высшие чины и знатнейшие дворяне королевства окружали его лестью и почетом, хотя втайне и завидовали росту его влияния. А Дэдлей действительно становился тем более влиятельным, чем более старался делать вид, будто политические вопросы совершенно не интересуют его. Он понял, что несмотря на всю остроту и величие своего ума, Елизавета подозрительно относилась к тому, кто не умел давать ей советы так, чтобы ей казалось, будто бы она сама додумалась до этого, и, конечно, отлично использовал это для укрепления своей власти.
С каждым днем Лейстер чувствовал себя все тверже и тверже. Казалось, что его тайна соблюдается великолепно. Сэррей боролся в Шотландии против партии Мюррея, поддерживаемой Елизаветой, так что считался чуть ли не врагом Англии. Вальтер Брай отправился во Францию, и о нем не было ни слуху, ни духу. Священник, венчавший Лейстера, был отправлен в дальнюю провинцию и посажен на отличный приход, за что поклялся хранить молчание. На Ламберта же можно было смело положиться. Словом, Лейстеру пока нечего было бояться.
Королева Елизавета дала ему однажды какое-то маловажное поручение, он явился, чтобы доложить ей о результатах, и был уверен встретить у нее лорда Бэрлея. Даже и тогда, когда маршал сообщил ему, что королева одна, он был далек от мысли, что приближается решительный момент, — ведь в последнее время Елизавета с большой ясностью и определенностью указала ему на границы его поклонения.
В своем голубом будуаре королева сидела на диване и казалась настолько погруженной в чтение, что даже не заметила появления Дэдлея, хотя ей только что было доложено о нем. На ней было легкое платье, плотно облегавшее ее тело и прекрасно обрисовывавшее ее благородные, роскошные формы. Лицо ее чуть-чуть порозовело, прелестная шея изящно белела в облаках легкого газа, под бархатом одежды вздымалась девственная грудь, а нежная белая ручка шаловливо играла золотистыми локонами, тогда как локоть слегка опирался на поверхность стола. Маленькие ноги покоились на мягкой скамеечке, и из-под юбки, словно любопытствуя, выглядывали кончики атласных туфель. Прошло несколько минут, пока она подняла голову и взглянула на почтительно ждавшего у дверей графа. Однако Лейстер либо действительно замечтался в созерцании ее образа, либо был достаточно искусным царедворцем, чтобы притворно изобразить это, во всяком случае он не заметил взгляда королевы, как будто бы весь ушел в созерцание.
— Это — вы, лорд Дэдлей? — улыбаясь, спросила она. — Я заставила вас ждать!…
Он вздрогнул, словно просыпаясь от сладких грез, и ответил:
— Ваше величество, на момент я был далеко от земли…
— Что же вознесло вас на небо?
— Я представил себе, будто я — душа скамейки, на которую опирается ваша ножка, она поддерживает вас, хотя вы даже и не замечаете ее, а все-таки ее бархат осмеливается прикасаться к вам. Она служит вам, и, если бы вдруг ее не оказалось здесь, вы почувствовали бы ее отсутствие, ваша ножка невольно стала бы искать ее, притянула бы к себе и прижала бы, чтобы удержать.
— Вы умеете льстить! Вы, кажется, завидуете этой ничтожной вещи за то, что она оказывает мне услугу.
— Ваше величество, именно из-за этого она и достойна зависти! Возможность оказать вам услугу, будь она хоть самой малой, но непременно такой, какую не мог бы оказать вам никто другой, — была бы величайшим счастьем для меня. Поддерживать вас, сметь смотреть на вас, на вызывая в вас протеста, быть около вас не замеченным вами, тайно принадлежать вам, быть вашим — разве это не было бы слаще и отраднее, чем теперь утопать в благоволении и дрожать от страха потерять вас на следующий день, вечно витать между небом и адом, быть игрушкой прихоти?..
— Нет, не прихоти, Дэдлей, — с упреком возразила Елизавета. — Я надеюсь, что в ваших глазах я не являюсь пустой кокеткой, а моя милость — мимолетной улыбкой. Я никогда не обманывала вас! Я откровенно и честно открыла вам свою душу и призналась вам, что вы — единственный мужчина, который мог бы заставить меня уступить желаниям сердца и женской слабости, если бы обязанности, наложенные на меня короной, позволили мне это!
— Но ведь эти королевские обязанности требуют, чтобы вы избрали себе супруга. Ваши подданные умоляют вас об этом, ваши советники желают этого, и единственное, что сопротивляется этому во всей стране, что еще отказывает всем — это ваше сердце!
— Нет, Дэдлей, сердце уже сказало свое слово. Но, несмотря на настояния подданных и представления членов совета, я чувствую, что не смею уступить желаниям сердца. Только я одна могу заглянуть в свою душу и нарисовать картину будущего. Вам я открою свои мысли, чтобы вы не сомневались в моем сердце. Подойдите поближе, загляните в мои глаза, присядьте ко мне! Я, как женщина, считаю себя обязанной смягчить для вас мое жестокое «нет» королевы!
— В таком случае позвольте мне выслушать вас на коленях! — промолвил Лейстер, опускаясь на ковер. — Ведь это — мой приговор, когда же осужденному читают приговор, то он должен преклонить колена. А мне приходится выслушать решение более жестокое, чем смертный приговор: вы приговариваете меня жить с убитым сердцем!
— Нет, вовсе нет, Дэдлей! — шепнула ему королева, и ее лицо покраснело, да и у него при этих словах кровь быстрее хлынула по жилам. — Разве вы так низко цените сознание того, что вы любимы?
— Да, я любим, но все же и отвергнут! Видеть вас и быть для вас меньше, чем эта скамейка, это кресло, птица, которую вы кормите, — о, что может быть ужаснее этого! Ведь вы, как королева, недоступны, прикоснуться к вам — преступление!
— Разве вы не касались моей руки губами?
— Как и сотни других, которые далеки, чужды, безразличны, а иногда и лично противны вам. О, вы не можете понять, что любовь горячее всего сказывается именно в прикосновении. Но вы неприступны. Вы — не женщина, вы только королева…
— Нет, я — женщина, Дэдлей, даже слишком женщина! — шепнула Елизавета, покраснев от смущения и дрожа от страсти, так как он высказал то, что, как она подозревала, ставилось ей в вину. — Прикоснитесь ко мне, посмотрите, как я пламенею, и вы увидите, что и у меня в жилах течет тоже горячая кровь, что и я — женщина… Но вы должны как следует понять меня, вы не должны думать, что мне легко отказываться от счастья.
Лейстер схватил ее руку и почувствовал, как она горит, он видел, что Елизавета дрожит, объятая пламенем страсти, и хотел прижать к губам ее руку, но она сейчас же выдернула ее из его рук, словно боясь, что этот поцелуй заставит ее сдаться.
— Выслушайте меня, — зашептала она и улыбнулась, когда Дэдлей сел к ее ногам, а его рука обласкала ее ногу, опиравшуюся на скамейку. — Мы должны понять друг друга в этот момент. Я хочу облегчить себе борьбу, которая грозит превысить мои силы, потому что мне слишком больно, что ваш взгляд укоряет меня в жестокости, когда я жестока только по отношению к самой себе. И у меня бывают часы, когда я мечтаю о сладком счастье и завидую самой бедной женщине, имеющей возможность найти утешение от всех забот и печалей на груди возлюбленного и право всецело отдаться во власть своих сладких грез. Видите, Дэдлей, я серьезно испытала себя и взвесила все, что соблазняет и что удерживает меня ответить на запросы сердца. Мой отец был великим государем, и только одно пятно позорит его имя, одна слабость привела его к тому, что его достославное царствование превратилось в жестокую тиранию: он не мог сдержать свои вожделения. Чувственная любовь, страсть испить чашу блаженства с той, которая нравилась ему в данный момент, вынуждала его совершать кровавые деяния и жестоко преследовать тех, кто противился ему. Все его слабости всецело овладели им, и величие утонуло в пороке. В моих жилах его кровь, и хотя я — женщина, я все же надеюсь совершить великие дела. Неужели я должна допустить, чтобы мои слабые стороны взяли верх надо мной? Неужели мое правление должно стать для моей страны проклятием вместо благословения? Я буду истинной королевой, если преодолею женскую слабость, но стану только чувственной, колеблющейся женщиной, если последую велениям сердца. Если бы я отдала свою руку иностранному государю, то все дело было бы только в том, чтобы противодействовать чужеземному влиянию. Если же я последую выбору сердца, то потеряю все: я буду не что иное, как только женщина, которую ласками успокаивают в минуты раздражения и поцелуями заставляют молчать. Я уподоблюсь тогда шотландской королеве, забывающей все свои обязанности ради любовных забав. Да и то сказать: я пошла бы в этом дальше ее, и страсть сожгла бы меня уничтожающим пожаром. Этого я не могу допустить. Я хочу управлять Англией, а для этого должна уметь управлять собой. Нога, которой я придавливаю темя бунтовщиков, должна раздавить и того, кто осмелится заставить меня изменить самой себе. Так думаю я, Дэдлей, и если у вас достаточно великая душа, чтобы уважать во мне больше королеву, чем женщину, способную раздразнить мужскую чувственность, тогда вы должны признать, что я не могу протянуть вам руку, не отказавшись от всего, что возвышает меня над остальными женщинами моего двора. Именно потому, что люблю вас, я и опасаюсь за себя, и борюсь с этой любовью. Никто не должен овладеть моей волей, никто не должен отнимать у меня мою свободу!
— Так раздавите навсегда последнюю тень надежды и навсегда оттолкните меня от себя! О, зачем вы — королева, а не нищая? О, зачем наделило вас небо непреодолимейшими чарами женщины, раз вы растаптываете в себе все женские чувства? Я не смею противоречить, я могу только бежать. Что же мне сказать, если женщина, к которой я приближаюсь с обожанием, улыбаясь, кричит мне: «Назад, смертный! Здесь божество!»?
— Нет, вы не смеете бежать от меня, Дэдлей, вы должны облегчить мне борьбу, а не отягощать ее. Быть может, настанет время, когда я почувствую себя достаточно сильной, чтобы быть женщиной, не переставая быть королевой. Останьтесь, потому что иначе меня замучает тоска. Когда вы передо мной, то сознание вашей близости облегчает мне борьбу. Если же вы покинете меня, то во мне проснется ревность, и возможно, что я не найду в себе силы справиться с этой страстью. Останьтесь, Дэдлей! О, какое блаженство видеть возлюбленного и знать, что он твой, что достаточно одного слова — и он будет принадлежать тебе! А разве вам самому мало гордой радости постоянно видеть свою королеву, обращающуюся ко всем с приказаниями, и только к вам одному с просьбой не принадлежать никому, кроме нее? Разве для вас мало утешения по временам иметь право приближаться ко мне, или в тихие часы отдыха, когда я утомлена государственной работой, иметь возможность освежать мое сердце? Неужели вы, мужчины, не можете быть счастливыми без обладания и властвования? Неужели тайный триумф над женским сердцем значит для вас так мало? Неужели вы не способны к той благороднейшей любви, которая становится тем более гордой, чем более покоряет чувства?
— Нет, я способен, ваше величество! Но раз вы способны опьянять чувства, то должны поплатиться за это! — пламенно вымолвил Лейстер. — Пусть это стоит мне головы, но что такое смерть, если, умирая, дерзаешь сорвать цветок любви? Вы любите меня, вы моя, и я ваш! Королева отвергает вассала, но женщина прижимает к своей груди возлюбленного. Убей меня, Елизавета, но сначала я поцелую тебя!
Он обнял королеву и несмотря на ее сопротивление прижался горящими устами к ее губам. Словно опьянев от блаженства, он лежал на груди Елизаветы, и его страсть пронизывала ее кровь. Вдруг, словно проснувшись ото сна, королева вырвалась, гордо выпрямилась, и ее глаза метнули на него поток уничтожающих молний.
Дэдлею стоило жизни, если бы он сказал хоть слово, которое напомнило бы Елизавете о ее унижении. Но он сознавал, что оскорбил монархиню, а потому он упал ниц и прошептал:
— Теперь раздавите меня! Пусть вассал поплатится своей головой.
— Милорд, — пробормотала она, все еще дрожа от возмущения, хотя и смягченная его покорностью, — вы достойны смерти, или в Англии окажется человек, имеющий право называть меня, Елизавету Тюдор, потаскушкой!
— Да, я достоин смерти, если вы как королева не можете помиловать того, кого любите как женщина. Вы говорили, чтобы я стал вашей собственностью и утешал вас в том, что королевский сан не позволяет вам быть такой же женщиной, как другие. Я сорвал с ваших уст брачный поцелуй, так прикажите же как королева судить меня, если не хотите оставить себе игрушку!… Ведь больше, чем игрушкой, я не могу быть для вас!
— Так будьте же моей игрушкой! — покраснев, улыбнулась королева. — Однако не забывайте, что игрушку ищут только тогда, когда чувствуют расположение играть, и что хотя и ласкают и целуют куклу, но она не смеет оживать. Берегитесь, Дэдлей! Я дочь Генриха Восьмого и не всегда расположена прощать дерзость, даже если эта дерзость вызвана мною же самой! Берегитесь львицы, которая ласкает вас!
— Я буду целовать ее, пока она не разорвет меня.
Елизавета сделала ему знак рукой, и Дэдлей вышел из будуара с таким смирением, словно не приближался к королеве иначе, как с почтением, и никогда не чувствовал близко от себя дыхания ее уст.
Елизавета задумчиво посмотрела ему вслед, недовольство исчезло с ее чела, лицо засияло улыбкой нежного блаженства, и с улыбкой торжествующего удовлетворения она взглянула в зеркало.
II
Лейстер мог быть совершенно спокоен, что в ближайшие дни не понадобится королеве. Казалось, словно природа Елизаветы требовала от нее время от времени, чтобы она давала волю своему сердцу и отдавалась женской слабости, словно женское тщеславие хотело периодически убедиться в своем торжестве, чтобы опять на некоторое время отступить на задний план. Лейстер удовлетворил этот тщеславный порыв. Он достаточно знал Елизавету, чтобы быть уверенным, что теперь она в течение нескольких дней не будет обращать на него никакого внимания, всецело уйдя в свои занятия и работу, а потом, словно считая себя обязанной вознаградить его, отличит его каким-нибудь образом. Поэтому, вернувшись к себе, Дэдлей тотчас приказал оседлать коня и в сопровождении преданного оруженосца оставил Лондон, чтобы наведаться к жене.
Со дня замужества в жизни Филли существенно ничего не изменилось. Лейстер сообщил ей, что Елизавета навязала ему придворную должность, намекнул, что королева чувствует к нему большое влечение, но тотчас же и успокоил ее, сказав, что Елизавете никогда не придет в голову желать выйти за него замуж, что все это — простой каприз, который заставляет требовать, чтобы ее фаворит был свободен от всяких уз.
— Рано или поздно меня заменит другой, — заключил Дэдлей, — я надоем ей, как и другие, которых прежде отличал ее каприз, и тогда я уже не покину тебя. Но до той поры ты должна довольствоваться теми тайными часами, которые я могу уделить тебе.
Филли вздохнула, но в ее сердце не закралось и тени подозрения, потому что как ни редко появлялся ее муж, она читала в его глазах и чувствовала по трепету объятий, что разлука нисколько не уменьшила его любви. Так в чем же ей было сомневаться? Он доказал ей свою любовь и открыл причину своих отлучек, которую нечистая совесть постаралась бы скрыть. Кинггон уверил ее, что жизнь ее мужа будет поставлена на карту, если станет известным, что он тайно женат, а она была готова тысячу раз пожертвовать за него своей жизнью, лишь бы избавить его от опасности. Она была счастлива в тихом одиночестве Кэнмор-Кастла со своей подругой и старым Ламбертом, а если что-либо и омрачало ее жизнь, так только печальные думы, что Лейстер наделал себе из-за нее хлопот и поссорился с прежними друзьями.
За несколько дней до сцены, происшедшей между Елизаветой и Лейстером, Филли было доложено о приезде Кингтона. Доверенный ее мужа вызывал в Филли непреодолимую антипатию, и она должна была делать над собой усилие, чтобы любезно принимать его. Было ли это следствием его приниженной любезности, его почтительной и все-таки напрашивавшейся на интимность улыбки или чисто инстинктивного чувства, но она каждый раз старалась как можно быстрее покончить свои невольные разговоры с ним. В этот день она тоже приняла его в присутствии Тони.
Когда на этот раз он вошел и не передал ей, как обыкновенно, письма от ее мужа, она жестом выразила свое нетерпение, так как он тихо говорил что-то Тони, и та хотела выйти из комнаты. Поняв это, Филли удержала подругу за руку, но Кингтон объявил, что должен сказать ей нечто такое, что может услышать только она одна.
— Миледи, — начал он, когда Филли неохотно отпустила Тони. — Как мне кажется, вы питаете большое доверие к сэру Ламберту, но, к моему сожалению, не удостаиваете им меня. Ламберт — замкнутый, недовольный человек, и только угрозами я заставил его повиноваться. Он очень предан вам, но не лорду. И я обязан известить вас, что, быть может, в самом скором времени буду вынужден попросить вас следовать за мной в другое место, где вы будете в большей безопасности, чем здесь.
Филли решительным жестом выразила отказ. Но Кингтон, очевидно, ждал от нее именно этого, так как, улыбаясь, заявил:
— Миледи, у меня доверенность лорда, я поручился за вас своей головой, и вот это письмо заставит вас, хотя и неохотно, но все-таки последовать за мной.
Филли вырвала у Кингтона из рук письмо, с трудом прочитала его, но потом снова жестом показала отказ повиноваться Кингтону. Чтобы не оставлять его в сомнении относительно своего желания, она схватила грифельную доску и написала:
«Вы виноваты в том, что граф не доверяет Ламберту, поэтому я не послушаюсь вас и сообщу моему мужу причины, побудившие меня действовать так».
Кингтон презрительно улыбнулся.
— Миледи, — сказал он, — ваше решение увеличивает мои подозрения. Очевидно, Ламберт сумел ввести вас в заблуждение, так как я не могу допустить, чтобы вы сами завязали сношения с внешним миром против воли лорда.
Филли с обидой глянула на Кингтона.
— Миледи, — продолжал он, — доверие лорда возложило на меня известную ответственность, и прежде чем кто-нибудь огласит его тайну, я воспользуюсь предоставленной мне доверенностью против каждого человека! И против вас тоже! — добавил он, когда Филли сделала ему рукою знак, что считает разговор оконченным и просит его удалиться. — В тот момент, когда лорд Лейстер дал мне право овладеть документами о брачном таинстве, он сделал меня ответственным за все, что произойдет здесь. Лорд Лейстер в опасности. Слухи о расположении к нему королевы заставили вернуться сэра Брая из Франции и лорда Сэррея из Шотландии. Я слышал, что Ламберт завел какие-то тайные переговоры в Кэнморе, чего прежде никогда не делал. У меня имеются большие подозрения, и если вы любите лорда, если его безопасность имеет для вас какую- нибудь цену, то вы охотно окажете ему то повиновение, которого я вправе требовать от вас!
«Лорду я повинуюсь, но не Вам, — гласил ответ, написанный Филли, — я сама буду отвечать перед лордом за свои поступки».
— Миледи, вы, очевидно, не доверяете мне или боитесь меня! Но ведь именно я привез вас сюда, и в то время вы доверяли мне! Неужели вы не доверяете мне, рисковавшему ради вас жизнью, когда я еще не знал, мимолетный ли каприз или серьезная привязанность лорда была причиной похищения вас из надежного убежища? Неужели вы сомневаетесь в моей преданности, когда в моих руках единственный документ, удостоверяющий ваши права по отношению к лорду на тот случай, если благоволение королевы или смертельная опасность заставит его поколебаться в верности, в которой он клялся? Неужели вы думаете, что я предан вам менее, чем этот наемник Ламберт?
Во взгляде Кингтона Филли почувствовала вожделение и письменно ответила:
«Я верю, что Вы хотите повиноваться своему господину и хотите добра, но не уеду из этого замка».
— Хорошо! — ответил Кинггон после короткого раздумья, и Филли ясно чувствовала, что он готов скрежетать зубами от ярости. — Найдутся и другие средства защитить вас, но только те сопряжены с кровопролитием. Ну что же, я сделал все, что мог, чтобы отвратить это!
Он низко поклонился и вышел из комнаты с устрашающей улыбкой, сам вывел из конюшни лошадь и выехал из Кэнмор-Кастла, не сделав Ламберту никаких предупреждений, как графине.
III
В тот же вечер через несколько часов после того, как Кингтон уехал из Кэнмор-Кастла, какой-то человек в крестьянской одежде показался в густых зарослях у стены парка. Тихо открылась калитка, и вышел Ламберт. Крестьянин тихо свистнул ему из кустов, и оба, молчаливо поздоровавшись, нырнули в чащу.
— Я навел справки, — начал Ламберт, — и вижу, что вы говорили правду. Метрики нет в церковной книге. Узнали вы, куда делся священник?
— Все мои розыски не дали никаких результатов. Люди в деревне говорили, будто он получил приход в Бершире. Я был там. Там ничего не известно о нем, а местный священник уже двадцать лет сидит в одном и том ж приходе. Все это доказывает, что готовится какое- то преступление, если вообще не было сплошным обманом.
— Нет, обмана не было, — возразил Ламберт, — я сам и моя дочь были свидетелями, а моей присяги никому не купить!
— Это — лишнее основание для вас быть начеку. Если для священника нашли такое место, где его никто не найдет, то и для вас подыщут могилу. Вы спасете себя и дочь, если примите мою руку помощи, пока не навлекли на себя подозрения.
— Подозрения уже имеются.
— Так спасайте же свою дочь! Скажите мне, где Филли! Помогите мне освободить ее, и под защитой лорда Сэррея, которого я жду со дня на день, мы дойдем до трона.
Ламберт, отрицательно покачав головой, возразил:
— Нет, сэр, я остаюсь при том, что я уже сказал. Докажите мне, что лорд собирается пойти на преступление, и я всецело буду ваш и проведу вас к леди. Я поклялся, что не допущу, чтобы она была предана, но я не хочу делать ее несчастной из пустого подозрения, которое может основываться просто на каком-нибудь недоразумении. Слухи, будто королева хочет выйти замуж за лорда Лейстера, быть может, просто выдуманы, пропавший документ ровно ничего не доказывает, да и священника перевели в надежное место, очевидно, тоже только для того, чтобы он не болтал лишнего. Вы сегодня говорите иное, чем неделю тому назад. Но ведь мое терпение может лопнуть! Если я увижу, что вы просто хотите провести меня, то употреблю насилие против вас!
— И натолкнетесь на насилие!
— Так скажите мне по крайней мере, где Филли. Увез ли ее Дэдлей в Лондон или оставил здесь, в графстве, быть может, даже скрыв за этими стенами? Я буду кроток, как овечка, если буду иметь хоть малейшую надежду на ее безопасность. Я готов поклясться вам, что не подумаю добираться до нее, пока вы сами не позволите мне этого. Только скажите мне, где она, или я взломаю ворота и буду искать, пока не найду ее или пока чья-то услужливая рука не размозжит мне череп!
Ламберт, на момент задумавшись, сказал:
— Я не могу открыть, где леди Филли, но даю слово, что скорее поражу кинжалом предателя, чем допущу, чтобы она попала в ловушку. Ищите священника, он должен быть где-то в этом графстве. Потребуйте от королевы, чтобы лорд назвал вам ее местопребывание. И будьте уверены, что я храню ее как зеницу ока. Что вам нужно еще?
— Поклянитесь мне, что вы лучше убьете ее, чем допустите, чтобы ее, обесчещенную, сплавили на чужбину!
— Клянусь вам в этом головой своей единственной дочери!
Оба пожали друг другу руки.
Ламберт вернулся обратно в парк, а Вальтер Брай, мрачно посмотрев ему вслед, пробормотал:
— Болван, ты выдал себя. Филли в этом замке, и Дэдлей должен направляться по этой дороге, когда навещает ее. Я пойду за ним следом, как охотничья собака, я застигну его и заставлю ответить за нее.
Поодаль раздался осторожный хруст ветвей, словно в чаще пробирался какой-то человек.
«Неужели это — Дэдлей? Неужели Бог внял моим мольбам?» — подумал Брай и, тихонько обнажив меч, подкрался к воротам парка.
Он увидел в чаще чей-то белый камзол, напряг все свое зрение, вглядываясь в темноту, и совсем было собрался крикнуть лорду громовое «Стой!», как вдруг почувствовал, что его схватили сзади, быстро засунули ему в рот кляп, после чего опрокинули на землю и связали по рукам и ногам веревками.
— В темницу Лейстершира! — приказал Кингтон слугам, выступив из-за кустов. — Приставьте кинжал к его горлу и убейте его, если он попытается сопротивляться.
Брай хрипел в бессильной ярости, теперь он уже не мог сомневаться, что Филли предана, а он сам — пленник Лейстера.

Глава семнадцатая
РАСЧЕТЫ С ДРУЗЬЯМИ

I
 В Англии, где в народной памяти было еще свежо правление кровавой Марии, в то время достаточно было одного слова «папист», чтобы заклейменного им человека сделать предметом презрения и негодования толпы.
На таком положении вещей Кингтон построил свой план. Он пустил в графстве слух, что помог одной юной девушке бежать от ее шотландских родственников-католиков и укрыл ее в одном из замков. Поэтому приказал следить за всеми новоприбывающими людьми в графстве, так как под предлогом поисков увезенной девушки они могли заниматься вербовкой приверженцев папистской партии в Шотландии. Ему донесли, что в окрестностях Кэнмор-Кастла появился какой-то подозрительный субъект, вступивший в переговоры с Ламбертом и уже пославший двух гонцов в Шотландию, и Кингтону удалось явиться вовремя и захватить Брая, пока тот еще не успел найти Филли. В то время войска Бэрлея стояли на шотландской границе, помогая войскам Мюррея и протестантских лордов. А многие английские католики тайно переправлялись через границу, чтобы примкнуть к войскам Марии Стюарт. Таким образом у Кингтона всегда имелся достаточно приличный повод арестовать любого, кто навлекал на себя подозрения в общении с шотландскими католиками, как называли партию Марии Стюарт.
Лейстерширская тюрьма представляла собой старую прочную башню. Железные полосы ограждали окна; цепи, укрепленные в стенах камер, делали невозможным бегство того, кто однажды попал сюда и был прикован к ним. И Брай понял, что ненависть к нему Лейстера и нечистая совесть заставят его подольше продержать его здесь. Когда он лежал на сырой соломе, закованный в цепи, на него нашло тупое отчаяние, заставившее его роптать на Бога, проклинать судьбу и призывать смерть как единственную избавительницу.
Однажды дверь тюрьмы открылась, и на пороге камеры показался какой-то незнакомец. Брай был готов увидеть Дэдлея, ожидал, что тот предложит ему выбор: или отказаться от всякой мести, или умереть, и уже ликовал, что перед смертью хоть плюнет лорду в лицо. Но теперь увидел, что тот выдал его слугам, не сделав попытки к примирению.
— Вы пришли убить меня? — спросил Брай с горькой усмешкой. — Так торопитесь! Ваш господин хорошо заплатит вам за это, потому что негодяи обыкновенно трусливы, и лорду придется дрожать за свою шкуру все время, пока я буду жив.
Кинггон сделал вид, что удивился.
— Не понимаю, о каком лорде вы говорите, — сказал он.
— Я приказал арестовать вас, потому что вы — шпион католиков. Или вы будете отрицать, что три дня тому назад послали гонца в лагерь шотландской королевы и шныряете здесь по окрестностям, чтобы вербовать приверженцев Стюартам?
— Я ничего не буду отрицать, так как это не стоило бы труда. Я вижу, что лорд Лейстер позаботился подыскать хорошенький предлог, на основании которого меня можно было бы засудить!
— Да милорд даже и не знает ничего о вашем аресте! Конечно, он будет очень рад узнать об этом, так как вы шныряли вблизи замка, в который он запрещает доступ решительно всем.
— Потому что скрывает там жертву своего сластолюбия?
Своего сластолюбия? — удивился опять Кингтон. — Сэр, вы сумасшедший! Или вы знаете какие-нибудь особые подробности, касающиеся супруги милорда?
— Супруги? Вы первый, кто называет так несчастную. Разве свою супругу скрывают от всего света? Разве ее запирают, словно узницу, если имеют честные намерения? И, наконец, разве не преступление выбиваться лорду изо всех сил, чтобы заслужить милость королевы Елизаветы, а обманутую женщину подло держать взаперти, чтобы она могла незаметно исчезнуть, когда станет неудобной?
— Как? — притворялся Кингтон. — Вы сомневаетесь, что леди — законная супруга графа? Говорите, что вы знаете об этом!… Вам ничего не будет грозить, если я увижу, что вы явились совсем с другими целями, чем мутить народ! Вы знаете леди? Вы — родственник этой дамы?
Кингтон так мастерски играл свою роль, что Брай был введен в заблуждение и уже почувствовал доверие к нему.
— Сэр, — воскликнул он, — я — второй отец леди и любил ее, как родную дочь. Лорд увез ее и обещал дать ей свое имя. Я искал только доказательств, сдержал ли он свое слово или обманул меня. Борьба партий в Шотландии нисколько не касается меня. Я не собираюсь вербовать здесь кого бы то ни было, а хочу только убедиться, счастлива ли моя девочка, обманута ли Филли или нет. А так как я имею основания предполагать самое худшее, так как лорд достаточно могуществен, чтобы погубить меня, то я пытался тайком добыть требуемые мне доказательства.
— И вы узнали, что лорд обманул всех, что он не венчан? Но говорят, что брачная церемония все-таки была произведена, хотя и тайно.
— Был совершен обман, и больше ничего! Священника удалили, а в церковной книге исчезла брачная метрика.
— Вы сами видели церковную книгу?
— Нет, но ее видел человек, которому я могу верить, потому что, как и вы, верил в порядочность лорда.
— Это — Томас Ламберт?
Брай утвердительно кивнул, и Кингтон знал теперь все, что хотел, а именно, что Ламберт предал графа.
— Странно! — пробормотал он вполголоса. — А я считал этого человека негодяем, который душой и телом предался графу. Но как же он выдал вам графскую тайну?
— Именно потому, что он — не негодяй, потому, что он сам — отец и знает, что значит видеть, как ребенок погибает в нищете, отчаянии и позоре. Если у вас есть сердце, если вы — порядочный человек, то вы должны помочь мне спасти несчастную жертву.
— Сэр, но что же дает вам уверенность предполагать, что леди, которую вы называете Филли, хочет быть спасенной и последует за вами? Да, наконец, и спасение явится несколько запоздалым. Если леди — не супруга графа, тогда она уже потеряла свою честь, и ей не на что рассчитывать больше, как на то, что лорд обеспечит ее изрядной суммой, способной соблазнить кого-либо на то, чтобы дать ей свое имя.
— Вы были бы правы, если бы Филли была бесчестной, но она скорее согласится умереть, чем быть отвергнутой, и лорд знает это. Потому-то я и боюсь самых страшных последствий. Я боюсь, что он не отступит даже перед убийством, если будет вынужден отделаться от нее, когда ему понадобится быть свободным, чтобы стать мужем королевы.
— То, что вы говорите, — сочувственно размышлял Кингтон, — приводит меня в трепет. Разумеется, лорду придется как-нибудь отделаться от леди, если королева согласится стать его женой: королева вспыльчива и ревнива, она прикажет обезглавить лорда, если узнает, что он изменил ей. Таким образом, тот, кто помог бы скрыть где-нибудь леди, оказал бы графу большую услугу. Но где можно было бы скрыть ее?
— Это уж моя забота! Всем, что свято вам, заклинаю вас, снимите с меня оковы и дайте мне возможность исполнить задуманное. Ведь Филли — мой ребенок!
Кинггон сделал вид, будто задумался в нерешительности.
— Если бы ее увезти в Шотландию, — пробормотал он тихо, — если бы ее можно было спрятать там, пока лорд женится, и сказать ему, что она умерла; если бы тогда такой человек, как я, протянул ей руку, то лорду пришлось бы пойти на все, лишь бы купить наше молчание…
Пытливый взгляд Кингтона прочел по выражению лица Брая, что он усилием воли подавляет в себе желание разразиться проклятиями. Хитрый лицемер понял, что Брая нельзя было склонить в пользу подобного плана, и потому он изменил тон.
— Или, — продолжал он, словно ему пришла в голову другая мысль, — если бы доказать лорду неверность супруги, чтобы он оттолкнул ее раньше, чем будет вынужден пойти на преступление? Это, собственно говоря, можно было бы подстроить…
Брай задрожал от ярости и негодования, он понял, что человек, которому он доверился, думает только о спасении лорда, что ему безразлична несчастная жертва.
Кингтон заметил его возбуждение и принял решение: так как Брай не будет действовать в интересах Кингтона, то незачем входить с ним в соглашение.
— Мы спорим из-за выеденного яйца, — сказал он. — Кто может вообще поручиться, что слухи справедливы, что леди увез сам лорд, а не кто-нибудь из его друзей? Очевидно, лорд не может быть женатым, раз в Лондоне является претендентом на руку королевы, и, следовательно, совершенно невиновен. Знаете что? Если я выпущу вас на свободу, то вам лучше всего скрыться за границу и позабыть о ребенке, который порвал всякие узы с вами и не хочет и слышать о вас!
— Никогда! Лучше я умру в этих цепях! — захрипел Брай, уже не сомневавшийся, что Кингтон выведал от него все, что хотел. — Вы думали обхитрить меня, предполагая, что я не остановлюсь в выборе между тюрьмой и позорным бесчестием, очень возможно, что вы даже хотели с моей помощью обмануть своего господина! Отлично придумано, помощник подлеца! Но он еще пожертвует тобой, чтобы сэкономить благодарность и отделаться от соучастника преступления. Ступай и продавай твоему господину свою совесть, но не торжествуй слишком рано. Более могущественные, чем ты, будут искать меня, и когда найдут, живым или мертвым, то твой господин выдаст им тебя. И когда ты, палач клятвопреступника, будешь проклинать его, то моя тень посмеется над тобой.
— Продолжайте, продолжайте и не щадите глотки, — насмешливо ответил Кингтон. — Через недельку я наведаюсь сюда и посмотрю, может быть, после строгого воздержания вы заговорите иначе!
С этими словами он вышел из камеры и с такой силой щелкнул замком, запирая его, что все зазвенело вокруг.
В Англии, где в народной памяти было еще свежо правление кровавой Марии, в то время достаточно было одного слова «папист», чтобы заклейменного им человека сделать предметом презрения и негодования толпы.
На таком положении вещей Кингтон построил свой план. Он пустил в графстве слух, что помог одной юной девушке бежать от ее шотландских родственников-католиков и укрыл ее в одном из замков. Поэтому приказал следить за всеми новоприбывающими людьми в графстве, так как под предлогом поисков увезенной девушки они могли заниматься вербовкой приверженцев папистской партии в Шотландии. Ему донесли, что в окрестностях Кэнмор-Кастла появился какой-то подозрительный субъект, вступивший в переговоры с Ламбертом и уже пославший двух гонцов в Шотландию, и Кингтону удалось явиться вовремя и захватить Брая, пока тот еще не успел найти Филли. В то время войска Бэрлея стояли на шотландской границе, помогая войскам Мюррея и протестантских лордов. А многие английские католики тайно переправлялись через границу, чтобы примкнуть к войскам Марии Стюарт. Таким образом у Кингтона всегда имелся достаточно приличный повод арестовать любого, кто навлекал на себя подозрения в общении с шотландскими католиками, как называли партию Марии Стюарт.
Лейстерширская тюрьма представляла собой старую прочную башню. Железные полосы ограждали окна; цепи, укрепленные в стенах камер, делали невозможным бегство того, кто однажды попал сюда и был прикован к ним. И Брай понял, что ненависть к нему Лейстера и нечистая совесть заставят его подольше продержать его здесь. Когда он лежал на сырой соломе, закованный в цепи, на него нашло тупое отчаяние, заставившее его роптать на Бога, проклинать судьбу и призывать смерть как единственную избавительницу.
Однажды дверь тюрьмы открылась, и на пороге камеры показался какой-то незнакомец. Брай был готов увидеть Дэдлея, ожидал, что тот предложит ему выбор: или отказаться от всякой мести, или умереть, и уже ликовал, что перед смертью хоть плюнет лорду в лицо. Но теперь увидел, что тот выдал его слугам, не сделав попытки к примирению.
— Вы пришли убить меня? — спросил Брай с горькой усмешкой. — Так торопитесь! Ваш господин хорошо заплатит вам за это, потому что негодяи обыкновенно трусливы, и лорду придется дрожать за свою шкуру все время, пока я буду жив.
Кинггон сделал вид, что удивился.
— Не понимаю, о каком лорде вы говорите, — сказал он.
— Я приказал арестовать вас, потому что вы — шпион католиков. Или вы будете отрицать, что три дня тому назад послали гонца в лагерь шотландской королевы и шныряете здесь по окрестностям, чтобы вербовать приверженцев Стюартам?
— Я ничего не буду отрицать, так как это не стоило бы труда. Я вижу, что лорд Лейстер позаботился подыскать хорошенький предлог, на основании которого меня можно было бы засудить!
— Да милорд даже и не знает ничего о вашем аресте! Конечно, он будет очень рад узнать об этом, так как вы шныряли вблизи замка, в который он запрещает доступ решительно всем.
— Потому что скрывает там жертву своего сластолюбия?
Своего сластолюбия? — удивился опять Кингтон. — Сэр, вы сумасшедший! Или вы знаете какие-нибудь особые подробности, касающиеся супруги милорда?
— Супруги? Вы первый, кто называет так несчастную. Разве свою супругу скрывают от всего света? Разве ее запирают, словно узницу, если имеют честные намерения? И, наконец, разве не преступление выбиваться лорду изо всех сил, чтобы заслужить милость королевы Елизаветы, а обманутую женщину подло держать взаперти, чтобы она могла незаметно исчезнуть, когда станет неудобной?
— Как? — притворялся Кингтон. — Вы сомневаетесь, что леди — законная супруга графа? Говорите, что вы знаете об этом!… Вам ничего не будет грозить, если я увижу, что вы явились совсем с другими целями, чем мутить народ! Вы знаете леди? Вы — родственник этой дамы?
Кингтон так мастерски играл свою роль, что Брай был введен в заблуждение и уже почувствовал доверие к нему.
— Сэр, — воскликнул он, — я — второй отец леди и любил ее, как родную дочь. Лорд увез ее и обещал дать ей свое имя. Я искал только доказательств, сдержал ли он свое слово или обманул меня. Борьба партий в Шотландии нисколько не касается меня. Я не собираюсь вербовать здесь кого бы то ни было, а хочу только убедиться, счастлива ли моя девочка, обманута ли Филли или нет. А так как я имею основания предполагать самое худшее, так как лорд достаточно могуществен, чтобы погубить меня, то я пытался тайком добыть требуемые мне доказательства.
— И вы узнали, что лорд обманул всех, что он не венчан? Но говорят, что брачная церемония все-таки была произведена, хотя и тайно.
— Был совершен обман, и больше ничего! Священника удалили, а в церковной книге исчезла брачная метрика.
— Вы сами видели церковную книгу?
— Нет, но ее видел человек, которому я могу верить, потому что, как и вы, верил в порядочность лорда.
— Это — Томас Ламберт?
Брай утвердительно кивнул, и Кингтон знал теперь все, что хотел, а именно, что Ламберт предал графа.
— Странно! — пробормотал он вполголоса. — А я считал этого человека негодяем, который душой и телом предался графу. Но как же он выдал вам графскую тайну?
— Именно потому, что он — не негодяй, потому, что он сам — отец и знает, что значит видеть, как ребенок погибает в нищете, отчаянии и позоре. Если у вас есть сердце, если вы — порядочный человек, то вы должны помочь мне спасти несчастную жертву.
— Сэр, но что же дает вам уверенность предполагать, что леди, которую вы называете Филли, хочет быть спасенной и последует за вами? Да, наконец, и спасение явится несколько запоздалым. Если леди — не супруга графа, тогда она уже потеряла свою честь, и ей не на что рассчитывать больше, как на то, что лорд обеспечит ее изрядной суммой, способной соблазнить кого-либо на то, чтобы дать ей свое имя.
— Вы были бы правы, если бы Филли была бесчестной, но она скорее согласится умереть, чем быть отвергнутой, и лорд знает это. Потому-то я и боюсь самых страшных последствий. Я боюсь, что он не отступит даже перед убийством, если будет вынужден отделаться от нее, когда ему понадобится быть свободным, чтобы стать мужем королевы.
— То, что вы говорите, — сочувственно размышлял Кингтон, — приводит меня в трепет. Разумеется, лорду придется как-нибудь отделаться от леди, если королева согласится стать его женой: королева вспыльчива и ревнива, она прикажет обезглавить лорда, если узнает, что он изменил ей. Таким образом, тот, кто помог бы скрыть где-нибудь леди, оказал бы графу большую услугу. Но где можно было бы скрыть ее?
— Это уж моя забота! Всем, что свято вам, заклинаю вас, снимите с меня оковы и дайте мне возможность исполнить задуманное. Ведь Филли — мой ребенок!
Кинггон сделал вид, будто задумался в нерешительности.
— Если бы ее увезти в Шотландию, — пробормотал он тихо, — если бы ее можно было спрятать там, пока лорд женится, и сказать ему, что она умерла; если бы тогда такой человек, как я, протянул ей руку, то лорду пришлось бы пойти на все, лишь бы купить наше молчание…
Пытливый взгляд Кингтона прочел по выражению лица Брая, что он усилием воли подавляет в себе желание разразиться проклятиями. Хитрый лицемер понял, что Брая нельзя было склонить в пользу подобного плана, и потому он изменил тон.
— Или, — продолжал он, словно ему пришла в голову другая мысль, — если бы доказать лорду неверность супруги, чтобы он оттолкнул ее раньше, чем будет вынужден пойти на преступление? Это, собственно говоря, можно было бы подстроить…
Брай задрожал от ярости и негодования, он понял, что человек, которому он доверился, думает только о спасении лорда, что ему безразлична несчастная жертва.
Кингтон заметил его возбуждение и принял решение: так как Брай не будет действовать в интересах Кингтона, то незачем входить с ним в соглашение.
— Мы спорим из-за выеденного яйца, — сказал он. — Кто может вообще поручиться, что слухи справедливы, что леди увез сам лорд, а не кто-нибудь из его друзей? Очевидно, лорд не может быть женатым, раз в Лондоне является претендентом на руку королевы, и, следовательно, совершенно невиновен. Знаете что? Если я выпущу вас на свободу, то вам лучше всего скрыться за границу и позабыть о ребенке, который порвал всякие узы с вами и не хочет и слышать о вас!
— Никогда! Лучше я умру в этих цепях! — захрипел Брай, уже не сомневавшийся, что Кингтон выведал от него все, что хотел. — Вы думали обхитрить меня, предполагая, что я не остановлюсь в выборе между тюрьмой и позорным бесчестием, очень возможно, что вы даже хотели с моей помощью обмануть своего господина! Отлично придумано, помощник подлеца! Но он еще пожертвует тобой, чтобы сэкономить благодарность и отделаться от соучастника преступления. Ступай и продавай твоему господину свою совесть, но не торжествуй слишком рано. Более могущественные, чем ты, будут искать меня, и когда найдут, живым или мертвым, то твой господин выдаст им тебя. И когда ты, палач клятвопреступника, будешь проклинать его, то моя тень посмеется над тобой.
— Продолжайте, продолжайте и не щадите глотки, — насмешливо ответил Кингтон. — Через недельку я наведаюсь сюда и посмотрю, может быть, после строгого воздержания вы заговорите иначе!
С этими словами он вышел из камеры и с такой силой щелкнул замком, запирая его, что все зазвенело вокруг.
II
Как ни старался Кингтон быть невозмутимым, угрозы Брая все же навели его на кое-какие сомнения. Ведь он начал слишком большую игру и мог проиграть, если Лейстер не станет супругом королевы. Кингтон был убежден, что только любовь к Филли и боязнь нарушения брака удерживали Лейстера ухватить окончательно руку, которую боязливо протягивала ему Елизавета. Весь двор был уверен, что Лейстер должен восторжествовать, так как королева зашла уже слишком далеко, чтобы вернуться обратно, и что лорду нужно только суметь использовать сложившиеся обстоятельства. Говорили, будто королева втайне уже дала ему свое слово и только колебалась объявить во всеуслышание о своем решении. С другой стороны, из слов Лейстера Кингтон знал, что лорд не решился рискнуть на действия, которые заставили бы королеву сдаться. Поэтому Кингтону казалось самым важным удалить Филли или внушить Лейстеру уверенность, что с этой стороны ему нечего бояться. Если бы ему настоять на этом разрыве, то судьба Лейстера была бы в его руках. Граф не смел бы ни в чем отказать ему, и от него зависело бы устроиться так, чтобы эта тайна защищала его и от самого лорда, в случае если бы тот вздумал отделаться от него. С этой целью Кингтон выкрал из церковной книги метрику и спрятал ее в надежном месте. Что же касалось самого плана овладения Филли, то в данный момент было мало надежд на то, что можно было бы овладеть ею без насилия.
Раздумывая над тем, как бы возбудить у лорда подозрения против Филли — а это было лучшим средством вызвать Лейстера на открытый разрыв с нею, — Кингтон вдруг получил известие, что лорд без предупреждения прискакал в Кэнмор-Кастл. До сих пор каждый раз, когда граф думал навестить свою супругу, он заранее предупреждал Кингтона, чтобы тот мог следить за его безопасностью. Было странно, что именно на этот раз он оставил всякую предосторожность.
«Неужели я уже стал неудобен? — горько подумал он. — Неужели немая леди заключила союз с Ламбертом и объявила мне открытую войну? Клянусь Богом, ничто не могло бы до такой степени ускорить ее гибель, чем это. Ну да чем скорее придет час решения, тем лучше!»
Он приказал ранним утром приготовить лошадей, чтобы отправиться с Пельдрамом в Кэнмор-Кастл.
Лейстер отдыхал в объятиях Филли. Он мог быть веселым, так как слова Елизаветы, что она не желает выходить замуж, обеспечивали ему на некоторое время спокойствие и отдаляли кризис. Филли поделилась с ним своим беспокойством, навеянным на нее угрозами Кингтона, а он, забыв, что еще недавно был готов на крайние средства, решил, что Кингтон без нужды преувеличивает опасность. Почему было ему бояться Сэррея и Брая? Ведь он сдержал слово и сделал Филли графиней Лейстер? К чему Кингтон хотел переменить местопребывание Филли и удалить ее из того круга, который был ей мил и делал жизнь сносной? В душу Дэдлея закрадывалось подозрение, что Кингтон нарочно преувеличивает размеры опасности, чтобы казаться как можно более необходимым, и это подозрение еще больше увеличилось, когда Филли дала ему понять, что очень мало доверяет этому человеку.
Лейстер вышел в другую комнату и приказал позвать Ламберта, и при виде его замкнутого, серьезного лица, у него мелькнула мысль, что, пожалуй, этот человек мог бы заменить ему Кингтона во всем, что касалось соблюдения тайны его брака.
— Вы — старый слуга прежних владельцев Кэнмор-Кастла, — начал он в снисходительно-благосклонном тоне, чтобы ободрить Ламберта. — Кингтон хвалил мне вашу надежность, и у меня есть доказательства ее. Вы знаете, какие причины заставляют меня держать в тайне свой брак. Скажите, как по-вашему: в полной ли безопасности здесь моя жена, даже если произойдет самое худшее и по повелению королевы произведут обыск замка?
— Здесь она в полной безопасности.
— Значит, вы не разделяете мнения Кингтона, что лучше было бы переменить местопребывание графини?
— Если бы это случилось, то я подумал бы, что леди лишилась вашего расположения.
— Вы подозреваете, что кто-либо из слуг способен выдать мой тайну?
— Нет, но под врагами я подразумеваю тех, кто посоветовал вам удалить венчавшего вас священника, кто выкрал метрику о вашем браке из церковных книг и теперь хочет лишить вашу супругу моей защиты. Простите откровенную речь, но я позволю себе спросить вас, ваше сиятельство: может ли быть враг более опасный для вашей тайны, чем человек, делающий все, чтобы лишить вашу супругу доверия к честности ваших намерений? Я не говорю, что это случилось или может случиться, — уточнил Ламберт, заметив, что лорд покраснел и резко вскочил с места, — но попытка сделана, и, как ваш верный слуга, я не смею умолчать об этом.
— Кто осмелился на это?
— Сэр Кингтон сказал леди, что доказательства законности вашего брака имеются у него одного и что в его власти заставить исчезнуть их!
Лейстеру было неприятно, что Кингтон зашел так далеко, но в тоне Ламберта было что-то такое, что привело его в еще большее раздражение.
— Я не потерплю, чтобы мои слуги подозревали друг друга без достаточных оснований! — повысил он голос. — Откуда вы знаете, что Кингтон позволил себе подобную наглость? Неужели моя супруга унизилась до того, что сделала вас своим поверенным?
— Нет, но ввиду того, что я должен оберегать ее, я не закрываю ни глаз, ни ушей, если к ней приближается кто-нибудь иной, кроме вас. Я подслушал все это.
— Ваше рвение заслуживает благодарности, но в будущем я посоветую Кингтону держать вас подальше. Я доверяю ему так же, как и вам, и если захочу, чтобы мои поручения передавали моей супруге вы, то сообщу их вам. Поэтому успокойтесь! Кингтон действовал согласно моему желанию, хотя форма, в которой он передал мое решение, видимо, неподходящая. Я люблю слуг, которые повинуются слепо и размышляют только в тех случаях, когда я того требую от них.
Лейстер сказал последнюю фразу особенно решительным тоном, чтобы твердо объявить Ламберту свою волю. Казалось, тот усилием воли подавлял в себе желание дать полную угроз отповедь, и Лейстер инстинктивно почувствовал, что, быть может, Кингтон был прав, настаивая, чтобы Филли покинула Кэнмор-Кастл. Поэтому он решил продлить испытание до крайних пределов, ожидая, что Ламберт недолго будет в силах владеть собою и выдаст то, что происходило у него в душе.
— Допустим даже, сэр Ламберт, — продолжал он, — что я буду поставлен в необходимость совершенно отрицать, будто брачная церемония действительно состоялась, и доказывать, что вы были введены в заблуждение. Быть может, моя жизнь будет зависеть от того, чтобы этот брак превратился в несуществующий, и я заставлю леди совершенно исчезнуть на некоторое время. Но в таком случае от человека, счета которого по управлению Кэнмор-Кастлом никогда еще не проверялись мной, я потребую слепого повиновения мне и полного молчания. Могу я рассчитывать на это?
Лейстер ждал каждый момент, что Ламберт даст простор раздражению, так как видел, как дергались его губы и судорожно вздрагивали мускулы лица. Но он ошибся. Ламберт сдержался, и его лицо снова приняло выражение прежней мрачной решимости. Он низко поклонился и сказал слегка дрожавшим голосом:
— Я и не подозревал, что вы можете решиться на нечто подобное. Я полюбил леди, как родную дочь, но я пожертвовал бы и родной дочерью для вашего блага, и скорее убил бы вашу супругу, чем повредил бы вам.
Все это было сказано с выражением глубокой преданности, но в глазах Ламберта сверкнул такой неприятный огонек, что Дэдлей невольно почувствовал ужас. Он отпустил Ламберта, сказав ему несколько ласковых слов и уверив,что только испытывал его, так как скорее согласился бы презреть любую опасность, чем поступить недостойно. Но едва Ламберт успел уйти, как граф резко зашагал из угла в угол. Ему было не по себе в этом замке, где любой разговор мог быть подслушан посторонним, ему казалось, что в лице Ламберта для него явился новый враг и мститель, занесший над его головой меч, чтобы отрубить ее, если он изменит Филли. Уж не вступила ли она в соглашение с этим человеком, не просила ли сама у него защиты? Очевидно, именно так, потому что иначе Ламберт не осмелился бы говорить так смело. И он решил, что Филли должна уехать. Как ни далек он был от мысли изменить ей, но должен был быть уверенным, что у нее не появится новый защитник, способный разорвать сеть, скрывающую его тайну…
Ну а если Филли не захочет повиноваться? Ведь раз она сумела настоять на свадьбе, возможно, что она позаботилась сохранить доказательства ее. Что если она не доверяет ему, тогда как он пожертвовал всей будущностью, чтобы овладеть ею, и рисковал из-за нее своей головой? При этой мысли Лейстер почувствовал, что мог бы возненавидеть, даже убить ее!
Он отправился к жене. Была уже ночь, и Филли давно ждала его. Она прочитала на его мрачном лице недоверие, почувствовала холодок, которым веяло от него среди теплых объятий, и ее сердце болезненно сжалось. Она посмотрела так умоляюще, доверчиво и нежно на Дэдлея, что его подозрительность растаяла, словно снег под лучами весеннего солнца.
— Филли, — сказал он, прижимая ее к себе, — если бы я когда-нибудь мог подумать, что ты перестала любить меня и доверять мне, то я усомнился бы в Боге. Что бы ни грозило мне, ты — опора, за которую цепляется мое сердце, в твоей любви я обрел любовь и мир. И если когда-нибудь мрачное недоверие закрадется в мое сердце, если, теснимый опасностью, нуждой и страхом, я позабуду, чем обязан тебе за твою любовь, то посмотри на меня, как теперь, — и я не сойду с пути чести, а скорее умру!…
Филли горячо поцеловала его в губы.
Вдруг Дэдлей вздрогнул: ему показалось, что за обоями послышался легкий шорох. Он вытащил кинжал и ударил им. Клинок скользнул по чему-то твердому, но звук был глуховат…
— И здесь тоже? — захрипел он. — А! Но я уничтожу соглядатая!…
Он посмотрел на Филли и заметил, как она побледнела и задрожала: в ее глазах виднелись ужас и смертельный страх.
Он заставил себя улыбнуться и произнес:
— Я боюсь привидений и бросаюсь с кинжалом на крыс. Ты дрожишь? Наверное, сильно испугалась, бедняжка? Воображаю, как тебе неуютно в этом замке, если даже у меня, мужчины, пробегает мороз по коже в подобной обстановке! Почему ты ни разу не пожаловалась? Такая покорность даже обидна, она доказывает, что ты мало откровенна со мной! Но я не приму больше от тебя такой жертвы, я найду место, где тебе будет веселее, чем здесь. Если хочешь, то Ламберт и его дочь поедут с тобой.
Филли поцеловала руки Лейстера. Его последние слова примирили ее с предложением, которое вначале испугало ее, так как она, по-видимому, угадала, кто был «крысой» за обоями; к тому же она знала, что может положиться на Ламберта, которому верила безгранично.
III
На другое утро Дэдлей встал очень рано; он намеревался повидаться с Кингтоном и вместе с ним составить план переезда Филли в другое место, кроме того, он решил удалить от нее Ламберта.
Дэдлей только что сел на лошадь, как вдруг услышал звонок у ворот парка. Поэтому он быстро проехал по аллее и спрятался за кусты, наблюдая за тем, что происходило у ворот. Ламберт приоткрыл маленькое окошечко для того, чтобы удостовериться, кто звонит, и затем поднял тяжелый крюк, на который запирал ворота. По-видимому, звонивший был своим человеком в Кэнморе, иначе Ламберт должен был бы доложить владельцу замка о прибытии постороннего лица и получить от него соответствующее распоряжение.
Дэдлей решил, что сейчас войдет Кингтон, но, к своему величайшему изумлению, услышал голос Сэррея. Рука Лейстера невольно схватилась за кинжал, как бы готовясь к обороне.
Каким образом явился в Кэнмор Сэррей, и почему Ламберт открыл человеку, который известен ему как заведомый враг его господина?
Лейстер весь задрожал от негодования, но в следующий же момент его подозрения разъяснились. Ворота были снабжены помимо крюка еще и цепью, которая мешала приезжему войти в парк.
— Откройте, пожалуйста, — обратился Сэррей к Ламберту, — мне необходимо поговорить с вами.
— Я не могу исполнить ваше желание, — возразил Ламберт, — вход в замок посторонним воспрещен, а в особенности тем лицам, которые пытались насильно вторгнуться в Кэнмор. К тому же я и так могу говорить с вами, о чем угодно.
— Ну, как хотите, — проговорил Сэррей, — только должен вам сказать, что эти вечно закрытые двери внушают подозрения о том, что в замке происходит нечто такое, что боится огласки. Я пришел к вам затем, чтобы потребовать от вас ответа, куда девался Вальтер Брай. Мой друг остановился в этой местности и внезапно исчез. Скажите, видели ли вы его и что о нем знаете? Я требую определенного ответа, иначе я обращусь за помощью — и королевские войска насильно откроют ворота.
— Ваша угроза доказывает, что вы пришли сюда не с дружеской целью. Насколько мне известно, вы осведомлены о той причине, которая заставляет лорда Лейстера закрывать двери замка для всех посторонних, — ответил Ламберт.
— Если же вы действительно пользуетесь таким влиянием, что можете прибегнуть к войскам, то лорду Лейстеру придется обратиться к правосудию!
— Вы меня не так поняли, сэр, — возразил Сэррей. — Наоборот, я не хочу прибегать к тем мерам, которые могут открыть тайну лорда Лейстера, поэтому я и обращаюсь к вам с просьбой сообщить мне все, что вы знаете о судьбе моего друга. Я знаю, что у Вальтера Брая не было никакого основания уезжать отсюда. Его внезапное исчезновение заставляет меня предполагать, что у него имеется враг в этой местности, и я думаю, что этот враг — не кто иной, как вы.
— Вы заблуждаетесь, — проговорил Ламберт, — у меня нет никакой причины ненавидеть сэра Брая, что же касается моего господина, то он отдал мне строгий приказ вежливо отказать сэру Браю в приеме, если он пожелает посетить замок. Этого пока не случилось.
— Ты лжешь, несчастный! — воскликнул Сэррей. — Я знаю, что ты говорил с ним.
— Говорил ли я с сэром Браем или нет, это не имеет значения, — возразил Ламберт. — Вы можете удовлетвориться моим уверением, что сэр Брай даже не входил в парк Кэнмора. Куда он отправился и где находится теперь, мне совершенно неизвестно.
— Ах, ты, значит, говорил с ним, а между тем только что отрицал это! — не помня себя от негодования, крикнул Сэррей. — Сознавайся сейчас же, запер ли ты его в замке или, может быть, даже убил? Клянусь тебе спасением своей души, что ты мне ответишь за Вальтера Брая собственной головой! Если он еще не убит, а только заперт, то освободи его, за это я щедро заплачу тебе и заступлюсь за тебя перед своим господином.
— Я — не убийца, — с чувством собственного достоинства ответил Ламберт, — а замок Кэнмор — не темница. Мне не в чем сознаваться. Но не советую вам прибегать к исполнению своей угрозы, вы этим только совершенно напрасно возбудите гнев лорда Лейстера. Клянусь вам, что над сэром Браем здесь не совершено никакого насилия.
— Точно так же, как и над обесчещенной женщиной! — задыхаясь от гнева, прохрипел Сэррей и, схватив Ламберта за воротник, направил кинжал к его груди. — Открой сейчас же ворота и повинуйся, иначе смерть тебе!
Ламберт, не ожидавший такого внезапного нападения, растерялся и даже не вынул оружия для защиты.
Лейстер быстро помчался на помощь Ламберту и успел раньше, чем Сэррей смог перерубить цепь снаружи.
— Что это значит, милорд Сэррей? — резко спросил он. — Вы осмеливаетесь насильно врываться в мой замок?
Он выхватил меч и занес его над Сэрреем. Тот был так ошеломлен неожиданным появлением Лейстера, что опустил свой кинжал и разжал руку, державшую Ламберта. Однако, несколько оправившись, ответил Лейстеру:
— Да, я возьму приступом ваш замок, если не получу удовлетворительного ответа на свой вопрос. Вы подслушали наш разговор и потому потрудитесь сообщить мне, где находится Вальтер Брай. Отвечайте, иначе, по первому знаку с моей стороны, мой оруженосец отправится к лорду Бэрлею за помощью, а королева рассудит нас и выскажет свое мнение по поводу тайны кэнморского замка.
— Что ж, совершите клятвопреступление, милорд Сэррей! — холодно возразил Лейстер. — Ведь вы, кажется, клялись своей честью, что будете молчать? Жалуйтесь королеве, и мы увидим, как она отнесется к жалобе нарушителя своего слова.
— К тому же государственного преступника! — внезапно раздался чей-то голос, и позади Сэррея выросла фигура Кингтона с поднятым мечом. — Позвольте, ваше сиятельство, арестовать человека, который нарушает мир в стране и выступал в Шотландии вместе с католиками против солдат ее величества, королевы Елизаветы.
— Обезоружьте его, Кингтон, он хотел убить моего управляющего Ламберта, — распорядился Лейстер. — Ламберт, снимите цепь и поспешите на помощь Кингтону.
Сэррей старался уклониться от нападения Кингтона, но в это время ворота открылись — и мечи Лейстера и Ламберта сверкнули перед его глазами.
— Сдавайтесь! — крикнул Дэдлей. — Иначе вам грозит смерть!
— Я предпочитаю умереть, чем быть вашим пленником! — крикнул Сэррей и, прислонившись спиной к дереву, храбро смотрел на своих трех противников.
Кингтон занес свой меч над головой Сэррея, но Лейстер отпарировал этот удар, решив, что будет лучше, если он пощадит Сэррея, чем отягчит свою совесть убийством человека, который был когда-то его товарищем.
— Не убивайте его, Кингтон! — воскликнул Дэдлей. — Дарую вам жизнь, милорд Сэррей, в память нашей прежней дружбы. Прощаю вам ваше позорное предложение, оно служит ясным доказательством того, до какого ослепления довела вас ваша ненависть ко мне. Вы свободны. Пойдите теперь к королеве и, в благодарность за дарованную вам жизнь, откройте ей мою тайну, и тогда вам нетрудно будет уничтожить меня. Скажите Елизавете, что я женился по любви, прежде чем мог заподозрить, что она удостоит меня своим расположением. Передайте ее величеству, что я предпочитаю сделаться жертвой ее мщения, чем пролить кровь человека, который был раньше для меня братом.
Кингтон с недовольным видом покачал головой, он нашел, что Лейстер поступает глупо. Нужно было воспользоваться благоприятным обстоятельством и отделаться от врага, а не проявлять свое великодушие. Ламберт, напротив, с чувством глубокого уважения взглянул на графа Лейстера. Его сомнения начали рассеиваться. Если бы его господин хотел действительно изменить Филли, он не пощадил бы Сэррея.
Что касается Роберта, то он был поражен и растроган, приписав свое спасение его великодушию.
— Я не буду жаловаться на вас, милорд Лейстер, — ответил Сэррей, вкладывая меч в ножны. — Если бы этот человек, — прибавил он, указывая на Ламберта, — сразу сказал мне, что вы сдержали свое слово, у меня даже и не явилось бы подозрения, что с Браем случилось что-нибудь нехорошее. Ведь Брай хотел только убедиться, счастлива ли Филли, и отомстить за нее, если вы изменили ей. Но раз вы верны Филли, то не может быть никаких сомнений в ее счастье. Я вернусь в Шотландию, как только разыщу своего друга. Вам больше нечего опасаться ни его, ни меня.
Сэррей поклонился, бросил Ламберту свой кошелек и скрылся в чаще леса.
— Никто не упрекнул бы вас, ваше сиятельство, если бы вы не отклонили моего удара, — прошептал Кингтон, наклоняясь к Лейстеру, в то время как Ламберт запирал ворота. — А теперь, дай Бог, чтобы вам не пришлось раскаяться в своем великодушии.
— Характер лорда Сэррея служит мне ручательством, что я не пожалею о своем поступке! — возразил Лейстер. — Но необходимо отыскать другое место пребывания для леди, — продолжал он, когда вошел в замок вместе с Кингтоном, оставив Ламберта в парке. — Во-первых, ее нужно поместить так, чтобы не было возможности отыскать ее; а во-вторых, мне хотелось бы оградить леди от внушений Ламберта. Этот человек более предан ей, чем мне.
— Он уже изменил вам, ваше сиятельство, — вкрадчиво заметил Кингтон. — Сэр Брай узнал от него, что запись о вашем бракосочетании исчезла из церковных книг. И Ламберт будет до тех пор предан вам, пока вы останетесь верны вашей супруге.
— Следовательно, это будет всегда, — уверенно проговорил Дэдлей. — Но я не могу допустить, чтобы кто-нибудь из моих слуг осмеливался выдавать мои поступки и недоверчиво следить за мной. Да, графиня должна уехать отсюда! Ламберт подслушивает всех и не выпускает из вида ни одного моего шага.
— Я уже принял меры, ваше сиятельство, — сообщил Кингтон. — Есть безопасное и приличное помещение для вашей супруги. Если ей угодно, она может сегодня же переехать отсюда.
— Она захочет уехать, если мы скажем ей, что Ламберт и его дочь будут сопровождать ее! — перешел на шепот Дэдлей. — Но это будет только сказано, а в действительности Ламберт должен оставаться здесь. Можешь ты так устроить, чтобы Ламберт и леди Филли не догадались об этом?
— Могу, ваше сиятельство! — кивнул Кингтон.
IV
В тот же день вечером к замку подвели шесть оседланных лошадей. Филли, Ламберт и Тони готовились к отъезду. Ламберт совершенно успокоился, когда ему сказали, что леди должна уехать из Кэнмора, потому что Браю и Сэррею стало известно ее местопребывание, и что на его обязанности будет лежать дальнейшая охрана графини. Разговор Лейстера с Сэрреем развеял последние сомнения Ламберта.
Пельдрам стоял возле лошадей. Кингтон громко заявил, что проводит все общество только через лес, а затем вернется обратно в Кэнмор, где будет управлять имением до тех пор, пока графу Лейстеру можно будет открыто заявить о своем браке, и тогда Ламберт снова займет свое прежнее место.
Дэдлей посадил Филли на лошадь, Ламберт помог дочери сесть в седло, и дамы в сопровождении Лейстера поехали по аллее к воротам парка.
Пельдрам и Кингтон тоже вскочили на коней, но Ламберт не мог сесть на лошадь, так как подпруга у седла оказалась слишком короткой.
— Скорее, скорее! — нетерпеливым голосом торопил его Кингтон. — Пельдрам, поезжайте вперед, покажите графу дорогу, а мы с сэром Ламбертом догоним вас через несколько минут!
Ламберт не подозревал никакого злого умысла, тем более что Кингтон спрыгнул на землю для того, чтобы помочь ему. Однако он скоро заметил, что камердинер графа вместо того, чтобы отстегнуть пряжку и опустить подпругу, наоборот, поднимает ее еще выше.
— Я поеду без седла, не беспокойтесь, сэр, — сухо обратился он к Кингтону и сделал движение, чтобы снять седло, но Кингтон быстро схватил управляющего левой рукой, а в его правой руке сверкнул кинжал.
— Судьбе угодно, — воскликнул он, — чтобы вы оставались в Кэнморе, а я буду стеречь леди Лейстер. Не вздумайте сопротивляться! Я предпочитаю уложить вас тут же, на месте, чем состязаться с вами в фехтовальном искусстве. Видите ли, вы слишком любопытны для того, чтобы быть стражем графини, поэтому граф думает, что для вас будет полезнее остаться здесь. Для того чтобы отвлечь подозрение, что леди Лейстер уехала из замка, охраняйте его так же тщательно, как это было во время пребывания графини здесь. Если вы хотите увидеть свою дочь, то не пытайтесь разузнать, где она находится, так как при малейшей вашей попытке открыть убежище леди Лейстер вы будете убиты мною, Пельдрамом или самим графом. Вы вступили в переговоры с врагом лорда Лейстера, Вальтером Браем, и потому мы принуждены принять меры, чтобы охранить себя от вашего шпионства. Ваша дочь останется при леди заложницей. Если вы будете вести себя хорошо, тихо и спокойно, с вашей дочерью не случится ничего дурного и она будет возвращена вам даже раньше, чем вы, может быть, ожидаете; но в случае какого-нибудь враждебного отношения с вашей стороны, знайте, вы сами подписываете смертный приговор себе и своей дочери. Вы оба — свидетели бракосочетания лорда, и потому, не желая излишней болтовни, мы принуждены будем заставить вас обоих умолкнуть навеки.
Кингтон вскочил на лошадь, пришпорил ее и ускакал вперед.
Ламберт был совершенно ошеломлен; его глаза блуждали точно у безумного. Придя немного в себя, он поспешно сорвал седло с лошади и собирался броситься в погоню за Кингтоном, но увидел, что лошадь истекает кровью. Под видом подтягивания подпруги Кингтон перерезал несчастной лошади ножные вены. Ламберт застонал от бессильной злобы и послал громкие проклятья по адресу Кингтона.
Долго стоял он в полном изнеможении, не зная, что предпринять. Вдруг он облегченно вздохнул, и дьявольски злобная радость сверкнула в его глазах.
— Ты знаешь, что я говорил с Браем, — произнес он вслух, — значит, он находится в твоей власти, а лорд Сэррей ищет своего друга и так же обманут, как и я. Но погоди, я помогу ему найти Брая — живым или мертвым, все равно — и тогда я отомщу вам за себя и свою дочь. Я предпочитаю, чтобы Тони умерла, мне это будет легче, чем сознавать, что она находится в вашей власти! Да, убейте мою дочь, но я отомщу вам за свое дитя, за несчастную леди и за себя самого. Бог накажет вас!
Ламберт, как безумный, бросился из ворот парка на дорогу. По его мнению, лорд Сэррей должен был быть где-нибудь вблизи, так как сказал, что не уедет до тех пор, пока не найдет Вальтера Брая. Ламберт казался совершенно безумным: он бежал вперед, никого и ничего не замечая, и его седые волосы в беспорядке развевались над бледным лицом.
Встретив на пути рабочего, он спросил его, не знает ли тот, куда поехал и где остановился приезжий всадник? Поденщик ответил, что в гостинице проживает какой-то незнакомец, называющий себя лордом Сэрреем, и, как он видел, отправился к судье.
Ламберт радостно помчался дальше.

Глава восемнадцатая
ГРАФ БОСВЕЛ

I
 Из Дэнвера Мария Шотландская призвала часть преданной ей аристократии, которая, вооружившись, составила небольшое войско вокруг королевы. Храбрый Босвел, Этол, Гэнтли и другие собрались под знамя королевы и решили защищать свою прекрасную властительницу от мятежников. Марии пришлось лишний раз убедиться, какой чарующей силой она обладает, но теперь это не радовало ее, так как ее душа была полна мрачной ненависти. Ее сердце требовало мести за все то, что ей пришлось перенести. В ее жизнь грубо ворвались чужие люди, унизили ее, совершили насилие над ее властью. Ей стоило лишь представить себе убитого Риччио, как рядом с ним вырастала фигура Дарнлея, человека, которого она вытащила из грязи и подняла до ступеней трона. А этот человек даже не имел мужества заступиться за нее, когда ее смертельно оскорбляли! Если Дарнлей и не участвовал в заговоре, не совершал сам убийства, то во всяком случае он был в тот страшный час заодно с убийцами. Кровь Риччио навеки оттолкнула от Марии ее супруга, и она чувствовала к Дарнлею глубокое презрение, невыразимую ненависть.
Королева опубликовала манифест против мятежников, но Дарнлея еще щадила, исподволь подготавливаясь к мести. Мария выжидала благоприятную минуту, придумывала всевозможные способы, чтобы полнее и как можно сильнее отомстить своему мужу. Она притворялась перед Дарнлеем, делала вид, что простила ему, но в ее душе все глубже и глубже росла ненависть к трусливому изменнику. Она письменно обещала Мюррею полное прощение, если он согласится подчиниться ей и поможет рассеять враждебную партию.
Со страстным желанием мести и с сознанием того, что она в состоянии выполнить это желание, Мария переехала в Эдинбург вместе со всеми своими приближенными. Лорды Линдсей, Мортон, Дуглас и их сторонники были привлечены к суду, но успели вовремя бежать в Англию, а поплатились лишь отдельные лица, присутствовавшие в Голируде в момент убийства Риччио. Граф Лэтингтон был отрешен от всех своих должностей, а графу Ленноксу запретили являться ко двору. Тело несчастного Риччио вырыли из земли, отпели в королевской капелле и похоронили с подобающими почестями. Что касается Дарнлея, то его тоже привлекли к ответу, а затем на всех перекрестках улиц появились объявления, гласившие следующее:
«Во избежание ложных слухов и превратных толков, распространяемых в народе относительно участия его высочества в убийстве секретаря королевы и преступном аресте подданных ее величеству лиц, королева объявляет своим верноподданным, что его высочество, принц-супруг, в присутствии Тайного совета королевы, поклялся своей честью ее величеству, что не только не принимал никакого участия в преступлениях изменников, но ничего не знал об отвратительном заговоре».
Готовность, с которой Дарнлей согласился на это унизительное объявление, еще более усилила чувство негодования Марии Стюарт, она, конечно, не верила ни одному слову своего супруга, и вскоре ей пришлось наглядно убедиться, насколько она была права в своем недоверии.
Союзники Дарнлея, возмущенные его двойной изменой, прислали Марии подписанный ее мужем оригинал заговора, из которого ясно было видно, что убийство Риччио было заблаговременно задумано, затем предполагался арест королевы и передача ее короны Дарнлею. Мария велела позвать своего мужа, представила ему доказательство его вины и назвала его коварным изменником, трусом и лжецом. Затем она с отвращением отвернулась и просила Дарнлея держаться подальше от нее.
Напрасно старался Мелвил примирить королеву с супругом. Он пытался убедить ее, что проступок ее мужа объясняется безумной, хотя и необоснованной ревностью, которую старались возбудить в нем его враги, чтобы воспользоваться слабостью его высочества. Мария запретила говорить ей об этом ничтожном человеке, которого она тем более ненавидела, чем сильнее чувствовала себя связанной с ним на всю жизнь.
Между тем приближалось время родов. Королева переехала в Стирлинг, где собиралась провести первые недели после болезни, так как там было тихо и не приходилось опасаться мятежников. Вскоре она разрешилась от бремени мальчиком, которого Дарнлей признал своим законным сыном. Тем не менее Мария не допустила, чтобы ее муж присутствовал при обряде крещения. Она хотела освободиться от Дарнлея и вместе с тем презирала его настолько, что жалела потратить сколько-нибудь усилий для того, чтобы устранить этого ничтожного человека со своего пути.
Мария переживала теперь состояние кризиса: обстоятельства жизни требовали от нее действия, стремления вперед, а сердце жаждало отдыха и покоя. Можно было бы думать, что горький опыт заставил ее забыть о любви, тем более что разочарование, испытанное ею во втором браке, должно было ей напоминать чаще о Франциске и сожалеть, что она изменила его памяти.
Может быть, Мария и действительно не думала бы больше о любви, если бы в ее сердце были лишь грусть о прошлом, разочарование в любимом человеке! Но это было не так. Королева мечтала о новой любви, безумной и страстной, которая опьянила бы ее, заставила бы забыть о всех горестях жизни. Кроме того, Мария думала, что, изменив открыто мужу, она отомстит ему, отплатит за смерть невинно убитого Риччио. Ей хотелось полюбить человека, сильного духом, опираясь на руку которого она могла бы смело и открыто посмеяться над своими недругами.
Такой человек нашелся: это был граф Босвел, смертельный враг Мюррея.
Из Дэнвера Мария Шотландская призвала часть преданной ей аристократии, которая, вооружившись, составила небольшое войско вокруг королевы. Храбрый Босвел, Этол, Гэнтли и другие собрались под знамя королевы и решили защищать свою прекрасную властительницу от мятежников. Марии пришлось лишний раз убедиться, какой чарующей силой она обладает, но теперь это не радовало ее, так как ее душа была полна мрачной ненависти. Ее сердце требовало мести за все то, что ей пришлось перенести. В ее жизнь грубо ворвались чужие люди, унизили ее, совершили насилие над ее властью. Ей стоило лишь представить себе убитого Риччио, как рядом с ним вырастала фигура Дарнлея, человека, которого она вытащила из грязи и подняла до ступеней трона. А этот человек даже не имел мужества заступиться за нее, когда ее смертельно оскорбляли! Если Дарнлей и не участвовал в заговоре, не совершал сам убийства, то во всяком случае он был в тот страшный час заодно с убийцами. Кровь Риччио навеки оттолкнула от Марии ее супруга, и она чувствовала к Дарнлею глубокое презрение, невыразимую ненависть.
Королева опубликовала манифест против мятежников, но Дарнлея еще щадила, исподволь подготавливаясь к мести. Мария выжидала благоприятную минуту, придумывала всевозможные способы, чтобы полнее и как можно сильнее отомстить своему мужу. Она притворялась перед Дарнлеем, делала вид, что простила ему, но в ее душе все глубже и глубже росла ненависть к трусливому изменнику. Она письменно обещала Мюррею полное прощение, если он согласится подчиниться ей и поможет рассеять враждебную партию.
Со страстным желанием мести и с сознанием того, что она в состоянии выполнить это желание, Мария переехала в Эдинбург вместе со всеми своими приближенными. Лорды Линдсей, Мортон, Дуглас и их сторонники были привлечены к суду, но успели вовремя бежать в Англию, а поплатились лишь отдельные лица, присутствовавшие в Голируде в момент убийства Риччио. Граф Лэтингтон был отрешен от всех своих должностей, а графу Ленноксу запретили являться ко двору. Тело несчастного Риччио вырыли из земли, отпели в королевской капелле и похоронили с подобающими почестями. Что касается Дарнлея, то его тоже привлекли к ответу, а затем на всех перекрестках улиц появились объявления, гласившие следующее:
«Во избежание ложных слухов и превратных толков, распространяемых в народе относительно участия его высочества в убийстве секретаря королевы и преступном аресте подданных ее величеству лиц, королева объявляет своим верноподданным, что его высочество, принц-супруг, в присутствии Тайного совета королевы, поклялся своей честью ее величеству, что не только не принимал никакого участия в преступлениях изменников, но ничего не знал об отвратительном заговоре».
Готовность, с которой Дарнлей согласился на это унизительное объявление, еще более усилила чувство негодования Марии Стюарт, она, конечно, не верила ни одному слову своего супруга, и вскоре ей пришлось наглядно убедиться, насколько она была права в своем недоверии.
Союзники Дарнлея, возмущенные его двойной изменой, прислали Марии подписанный ее мужем оригинал заговора, из которого ясно было видно, что убийство Риччио было заблаговременно задумано, затем предполагался арест королевы и передача ее короны Дарнлею. Мария велела позвать своего мужа, представила ему доказательство его вины и назвала его коварным изменником, трусом и лжецом. Затем она с отвращением отвернулась и просила Дарнлея держаться подальше от нее.
Напрасно старался Мелвил примирить королеву с супругом. Он пытался убедить ее, что проступок ее мужа объясняется безумной, хотя и необоснованной ревностью, которую старались возбудить в нем его враги, чтобы воспользоваться слабостью его высочества. Мария запретила говорить ей об этом ничтожном человеке, которого она тем более ненавидела, чем сильнее чувствовала себя связанной с ним на всю жизнь.
Между тем приближалось время родов. Королева переехала в Стирлинг, где собиралась провести первые недели после болезни, так как там было тихо и не приходилось опасаться мятежников. Вскоре она разрешилась от бремени мальчиком, которого Дарнлей признал своим законным сыном. Тем не менее Мария не допустила, чтобы ее муж присутствовал при обряде крещения. Она хотела освободиться от Дарнлея и вместе с тем презирала его настолько, что жалела потратить сколько-нибудь усилий для того, чтобы устранить этого ничтожного человека со своего пути.
Мария переживала теперь состояние кризиса: обстоятельства жизни требовали от нее действия, стремления вперед, а сердце жаждало отдыха и покоя. Можно было бы думать, что горький опыт заставил ее забыть о любви, тем более что разочарование, испытанное ею во втором браке, должно было ей напоминать чаще о Франциске и сожалеть, что она изменила его памяти.
Может быть, Мария и действительно не думала бы больше о любви, если бы в ее сердце были лишь грусть о прошлом, разочарование в любимом человеке! Но это было не так. Королева мечтала о новой любви, безумной и страстной, которая опьянила бы ее, заставила бы забыть о всех горестях жизни. Кроме того, Мария думала, что, изменив открыто мужу, она отомстит ему, отплатит за смерть невинно убитого Риччио. Ей хотелось полюбить человека, сильного духом, опираясь на руку которого она могла бы смело и открыто посмеяться над своими недругами.
Такой человек нашелся: это был граф Босвел, смертельный враг Мюррея.
II
Приглашение Босвела обратно в Шотландию было первым шагом королевы против деспотизма брата. Когда-то, во время проезда Марии через Дэнбар, Босвел предложил ей свой меч, теперь же на его долю выпал жребий быть орудием мести в руках королевы.
Новому избраннику Марии Шотландской было в то время около тридцати лет; его имя считалось одним из наиболее аристократических во всем королевстве, а получив обратно свои имения, он мог занять первое место среда богачей Шотландии. Босвел был известен как до безумия храбрый человек, в полном смысле рыцарь, как по взглядам, так и по обращению с людьми. Отличаясь открытым характером, Босвел смело говорил о своих планах, не скрывал своих недостатков и совершенно не привык действовать окольными путями. Всем своим видом он напоминал несокрушимого героя рыцарских времен, которого можно скорее сломать, чем заставить согнуться. Этого человека Мария приблизила к себе и в непродолжительное время он завоевал ее сердце.
Расположение королевы к графу Босвелу было так ясно, что Дарнлею приходилось опасаться за свою участь. Он видел жену, окруженную его врагами, видел, что она примирилась с теми людьми, по милости которых он сам изменил ей. Дарнлей не сомневался, что его звезда закатилась навсегда, и был далеко не уверен в своей судьбе.
В один из прекрасных солнечных дней двор готовился к большому торжеству. На высокой башне Голируда развевался королевский флаг, на котором был изображен красный лев. Многочисленные окна замка блестели на солнце; сталь касок солдат почетного караула ослепительно сверкала. Вокруг замка собрались представители разных видов дворцовой службы: здесь были военные в блестящих мундирах, пестро одетые пажи, стрелки конвоя ее величества в высоких шлемах, с луками и стрелами, с длинными кинжалами за поясом.
Мария Стюарт стояла у окна, поджидая возвращения графа Босвела, который должен был вернуться после недолгого отсутствия. Ни одна влюбленная невеста не могла ждать более нетерпеливо своего жениха, чем ждала Босвела шотландская королева.
Дарнлей, возмущенный всеми приготовлениями для встречи его соперника, был мрачнее обыкновенного. Придворные заметили, что у Дарнлея что-то недоброе на уме, но никто не решался заговорить об этом с королевой и обратить ее внимание на свирепый вид мужа.
Наконец издали показалась блестящая кавалькада, и в тот же момент Дарнлей исчез из замка через один из боковых выходов.
— Принц скрылся, — прошептала Мария Сэйтон, наклоняясь к королеве. — Прикажите догнать его и проследить за ним, у него что-то недоброе на уме.
Мария Стюарт искала в это время глазами графа Босвела и, недооценив тревогу фрейлины, спокойно ответила:
— Пусть Дарнлей строит козни, это только скорей приведет его к гибели. Вот подъезжает к дворцу человек, который защитит меня от всего. Неужели можно бояться Дарнлея, когда здесь Босвел? Наоборот, меня беспокоит мысль, что Дарнлей примирится и с ним. Он слишком труслив, чтобы выражать протест, он — полное ничтожество, пресмыкающийся червь! Дай Бог, чтобы Дарнлей дал мне еще один повод осудить его и расторгнуть свой брак с ним. Я предпочитаю умереть, чем быть связанной с этим человеком.
Кавалькада приблизилась к решетке замка. Впереди всех гарцевал Босвел в блестящем панцире.
Граф не обладал красотой лица, как Дарнлей, но отличался рыцарским благородством, умом и смелостью. Когда он наклонился на своем седле и отвесил почтительный поклон Марии Стюарт, она вспыхнула ярким румянцем и замахала в ответ на поклон белым платком, в ее приветствии была не благосклонность королевы к своему вассалу, а горячая любовь женщины к избраннику ее сердца.
Позади королевы стояли обе сестры Сэйтон. Мария озабоченно смотрела на королеву, предчувствуя какое-то несчастье, а Джэн с детским любопытством следила за блестящей кавалькадой. Вдруг ее лицо зарделось: она заметила среди всадников лорда Сэррея, который только что въехал в ворота замка.
Через несколько часов все залы дворца были залиты огнями. Приехавшие кавалеры сменили свои запыленные платья на бальные костюмы. Королева и ее придворные дамы тоже явились в парадных платьях. Только один человек среди всей этой нарядной толпы выделялся своим скромным костюмом и мрачным выражением лица. Его глаза нетерпеливо и беспокойно следили за королевой, которая вела продолжительный разговор с Босвелом. Этот человек был лорд Сэррей, он притоптывал ногой от досады и уже собирался подойти к Марии Стюарт, не ожидая конца ее разговора с Босвелом, как вдруг увидел проходившую мимо даму, и его лицо просияло, точно по нему скользнул солнечный луч.
— Леди Джэн, — воскликнул он, останавливая даму, — может ли посторонний человек просить вас об одной милости?
— Вы здесь — не совсем посторонний человек, милорд Сэррей, — возразила Джэн Сэйтон, слегка краснея и устремив на Сэррея такой сердечный, горячий взгляд, что у него сердце затрепетало. — Вы — испытанный друг королевы, и она будет очень рада видеть вас и говорить с вами.
— Об этом именно и я мечтаю, — произнес Сэррей. — лорд Босвел обещал мне, что попросит королеву назначить мне как можно скорее тайную аудиенцию. Я так понадеялся на его обещание, что оставил на конюшне оседланную лошадь, так как хочу сегодня же ехать обратно в Англию. Не согласитесь ли вы, леди Джэн, помочь мне в этом деле?
— С удовольствием, — ответила она. — Надеюсь, что ваша просьба будет исполнена королевой и что это так же успокоит вас, как успокоило меня ваше обещание избегать ссор с моим братом. Я потом узнала, какую жертву вы принесли мне, и буду всегда благодарна вам за нее.
— Леди, я поступил бы так же даже в том случае, если бы вы не высказали мне своего желания, — проговорил Сэррей. — Я за вас и за близких вам людей готов отдать свою жизнь. Если бы не священная обязанность, призывающая меня сейчас в Англию, я ни за что не уехал бы отсюда. Боюсь, чтобы эта сияющая радость не была предвестником грозы…
— … которая разразится из-за графа Босвела, — тихо прервала его Джэн. — Прошу вас, предостерегите несчастную королеву. Ваше слово больше значит для Марии Стюарт, чем советы ее лучших друзей. Вы знаете, принц убежал.
— Я предчувствовал это, — ответил Сэррей. — Теперь он придумает новую недостойную борьбу с королевой. Горе ей, если она окажется победительницей, а еще большее горе, если ее победят. Во всяком случае королева найдет во мне человека, который будет защищать ее до последней капли крови. Не оставляйте и вы ее!
— Вы всегда найдете меня возле королевы! — торжественно произнесла Джэн и торопливо направилась к королеве, чтобы передать ей просьбу графа.
Мария Сэйтон стояла недалеко от Джэн и Сэррея, но они не заметили ее. Она не могла вполне расслышать их разговор, но сердцем поняла его. Глубокий вздох вырвался из ее груди, и горькая улыбка скользнула по ее губам, начинавшим уже терять свежесть молодости.
Мария Стюарт сейчас же исполнила просьбу Сэррея, она приняла его в небольшой комнате, примыкавшей к бальному залу. Необыкновенно скромный костюм графа, его мрачный вид и настойчивая просьба принять немедленно внушили королеве беспокойство, она боялась услышать что- нибудь такое, что могло вызвать новую тревогу.
— Что скажете, милорд? — спросила она, озабоченно вглядываясь в лицо Сэррея.
— Я прошу вас, ваше величество, личного одолжения, доказательства того доверия ко мне, о котором вы неоднократно милостиво говорили, — ответил Сэррей. — Соблаговолите дать мне какое-нибудь поручение к королеве английской и удостоверение, что я послан вами. Это удостоверение даст мне возможность видеть королеву Елизавету и защитит меня от интриг моих врагов. Мне необходимо у королевы Англии просить суда над человеком, сделавшимся всемогущим в ее королевстве!
— Вы, вероятно, говорите о графе Лейстере? — удивленно заметила Мария Стюарт. — Но ведь он был вашим другом?
— Я боюсь, ваше величество, что он стал настолько моим врагом, что я принужден просить у вас охранной бумаги для того, чтобы не попасть в тюрьму при малейшей попытке приблизиться к трону королевы Елизаветы!
— Я, конечно, дам вам удостоверение, милорд, — сказала Мария, — но боюсь, что мое ходатайство за вас перед моей сестрой принесет вам мало пользы. Елизавета завидует мне, хотя мое положение далеко незавидно. С тех пор, как у меня родился сын, она возненавидела меня вдвойне, так как мое право на английский престол увеличилось. К довершению всего мои легкомысленные друзья называют уже маленького принца наследником Англии, Шотландии и Ирландии. Так что звание посланника Марии Стюарт не доставит вам радушного приема.
— Мне только важно видеть королеву Елизавету, ваше величество, — заметил Сэррей. — Она должна будет принять меня как человека, явившегося к ней по поручению королевы шотландской, а сделает ли она это с удовольствием, или с отвращением — для меня безразлично.
— Я от души желаю, чтобы ваша цель была достигнута! — сказала Мария. — Надеюсь, что милости Елизаветы, если она вас удостоит ими, не заставят вас позабыть обо мне, вашем постоянном друге. Я мало знаю таких друзей, как вы. Другие мои доброжелатели требуют благодарности раньше, чем заслужат ее, очень многие из них заплатили за мои благодеяния низким предательством, один вы ни разу не дали мне возможности хоть частью погасить свой долг перед вами, который накопился в течение многих лет.
— Вы могли бы вполне расквитаться со мной, ваше величество, даже сегодня, если бы пожелали последовать совету преданного друга, — заметил Сэррей. — Поборите свой совершенно справедливый гнев, помиритесь со своим супругом, вы этим оградите себя и свою страну от нового кровопролития.
— О нет, я была слишком жестоко обманута Дарнлеем, слишком глубоко оскорблена. Не будем больше говорить об этом. Мой секретарь напишет вам сейчас письмо к Елизавете. Передайте ей вместе с этим письмом, что ее опасения совершенно неосновательны, что я жажду отдохнуть от интриг английского двора.
Мария Стюарт сделала прощальный жест рукой и благосклонно взглянула на Сэррея, но он видел по выражению ее лица, что она серьезно рассердится, если он произнесет еще хоть одно слово в пользу Дарнлея.
Сэррей бросил безнадежный взгляд на королеву, как будто она стояла на краю пропасти, которой сама не замечала.

Глава девятнадцатая
УБИЙСТВО ДАРНЛЕЯ

I
 Дарнлей действительно тотчас же выехал из Голируда, как только туда прибыл Босвел. На другой день, еще не зная, что Дарнлей скрылся, граф представил Марии Стюарт доказательства, что тот завязал переговоры с католической партией и написал папе, будто королева с каждым днем выказывает все меньше и меньше религиозного рвения.
Мария презрительно передернула плечами и сказала, с досадой отбрасывая бумаги:
— Ах, да кто ему поверит! Право, я даже не вижу, какова цель этой новой подлой комедии!
— Но зато я вижу! — возразил Босвел. — Католики являются вашей главной опорой — вот Дарнлей и хочет вкрасться к ним в доверие, чтобы они встали на его сторону и воспротивились разрыву ваших брачных уз. Кроме того, по правилам вашей религии развод не может состояться без согласия папы. Вот Дарнлей и старается подластиться к папе, представляясь ревностным католиком. Вы улыбаетесь?.. О, это жестоко! Если у вас хватает терпения влачить это тяжелое ярмо, не видя человека более достойного, чем он, то другие не в состоянии терпеть, чтобы вы, которую надо носить на руках, принадлежали какому-то уличному мальчишке! Я лучше убью его, чем потерплю, чтобы он оставался около вас!
Мария продолжала улыбаться и наконец показала графу письмо:
— Прочтите, а потом судите сами!
Босвел схватил письмо.
— От графа Леннокса? — изумился он, читая письмо. — Лорд Дарнлей собирается бежать во Францию, так как не может долее выносить ваше презрение?.. Он до смерти огорчен тем, что потерял вашу любовь, и поэтому хочет навеки расстаться с вами, чтобы вдали от вас постараться искупить свой грех?..
— Разорвите письмо! — улыбнулась Мария. — Это новое доказательство его лицемерия. Письмо пришло вчера, наверное, граф Леннокс надеялся, что это послание растрогает меня, и я пожалею о самоуничижении Дарнлея, удержу его и прощу все! Он выехал за ворота, зная, что я стою у окна. Но я решила — пусть едет куда хочет, мне до него нет никакого дела!
— Но ведь он уехал, не порвав связывающей вас цепи! Разве вы не видите, что он просто хочет сделать невозможным развод и что ему надоело унижаться?.. Вот он и хочет на чужбине навербовать себе сторонников, которые помогли бы ему защитить свои права! Неужели вы не боитесь, что он упорно будет настаивать на своих супружеских правах, чтобы вы никогда не могли подать свою руку тому, кому выпало бы на долю счастье завоевать вашу милость и благосклонность.
Мария Стюарт покачала головой.
— Я боюсь только одного: как бы Дарнлей не вернулся обратно, увидев, что его план оказался недейственным; если я захочу разорвать связывающие меня цепи, то Дарнлей не в силах помешать мне в этом; сбежавший супруг может подпасть под декрет об изгнании, и папа разрушит подобный брачный союз!
— Вы хотите этого? — спросил Босвел. — Мария! Многие могут по праву добиваться вашей короны, и я с радостью уступил бы вас каждому достойному вас, если бы вы могли вручить корону, не отдавая руки. Но вы — королева, и тот, кто ухаживает за вами, добивается не только короны, но и женщины. Клянусь Богом, я никогда бы не мог лицемерить, подобно Генриху Дарнлею, будто добиваюсь руки Марии без ее короны, потому что там, где я люблю, я хочу иметь всю женщину, хочу быть полным господином, а не вассалом, действительно супругом, а не подданным. Мария, прогоните меня, удалите от себя, если ваше сердце не может подать мне ни малейшей надежды! Не дайте разгореться страсти, и без того пожирающей меня, так как я готов для вас даже на убийство!
— Милорд Босвел, вы говорите с замужней женщиной! Если бы я была свободна, то вы не решились бы сказать такие слова под страхом того, что я вас за это изгоню из пределов государства. Но я не свободна, хотя была бы гораздо счастливее, если бы выбрала вас вместо Дарнлея. Этого вам достаточно. Сказать более было бы преступлением, таинство брака ставит между нами непреодолимую преграду. Однако посмотрите-ка! — сказала она, показывая на окно. — Оказывается, я не ошиблась: Дарнлей возвращается!
Босвел взглянул в окно и увидел, как принц-супруг въехал в ворога замка. Босвел топнул ногой, на его лбу от бешенства налились жилы.
— Клянусь Богом, — сказал он, — такое издевательство королева Шотландии не должна стерпеть. Это подлое лицемерие! Граф Леннокс заслуживает казни за свое письмо. С вами — королевой — играют, словно с влюбленной девчонкой!
— Успокойтесь, — ответила королева, — быть может, болтают, что я сама вынудила жестоким обращением Дарнлея покинуть меня. Но пусть он осмелится сделать мне хоть один упрек, тогда я отвечу ему так, как следует; тогда суду придется разобраться, кто из нас виноват!
Королева приказала немедленно созвать Тайный совет и попросить французского посланника присутствовать на заседании.
Когда собрались все лорды, то пригласили и Дарнлея. Слух, будто он сбежал, уже распространился среди всех. Дарнлей знал, что королева получила письмо его отца, он не осуществил намерения сбежать и поэтому мог сказать, что надежда примириться с Марией удержала его в Шотландии. Этим он рассчитывал дать доказательство, что не замышляет никакой измены.
— Ваше высочество, — начала Мария, и уже ее холодный, строгий тон заставил его вздрогнуть, — мы поставлены в известность, будто вы замыслили оставить Шотландию и поискать себе убежища во Франции. Я не хочу спрашивать французского посланника, не завязывали ли вы с ним таких переговоров, которые могут быть сочтены государственной изменой, равно как не хочу допытываться о том, что заставило вас отказаться от своей мысли. Я остановлюсь на одном: вы собирались тайно покинуть страну и принимали меры к обеспечению побега. Ваше высочество, если вы таили при этом какую-либо преступную мысль, то я не смею и не могу ставить вам это в укор, так как вы отказались от нее вполне добровольно. Но я требую ответа, что привело вас к подобной мысли? Мы, к сожалению, уже испытали, что некоторые из наших подданных пустились на открытые мятежные деяния, так как хотели добиться того, чего им не присудил бы никакой суд в стране. Но то, что вы, наш супруг, искали средств к тайному побегу, что вы могли хоть на миг подумать об этом, служит уже обвинением против вас и заставляет предполагать, будто мы лишали вас приличествующих вам прав и защиты. Предъявите Тайному совету ваши обвинения! Мы готовы защищаться против каждого обвинения и представить законные доказательства, но потребуем также, чтобы их проверили и указали нам, как мы должны поступать, чтобы быть справедливыми по отношению к самим себе.
Дарнлей смущенно молчал. Он чувствовал, что всякие обвинения приведут только к тому, что Мария публично напомнит о его старых грехах и потребует наказания за них. Мог ли он жаловаться на отставку от государственных должностей? Мог ли он обвинять Марию в презрительной холодности обращения? Он видел расставленную ему ловушку. Каждое обвинение могло обрушиться против него же самого, и процесс, которого он потребовал бы в свое оправдание, раздавил бы его!
Дарнлей молчал. Лорды тоже обращались к нему с вопросами, но он ничего не отвечал им. Тогда французский посланник объявил, что, собираясь бежать, Дарнлей обрек на нарекания либо свою собственную честь, либо честь королевы. И спросил, может ли он привести обоснованную мотивировку бегства или не даст никаких убедительных объяснений своего поступка.
У Дарнлея не хватило духа привести свои основания. Он заявил, что королева не давала ему никаких оснований для бегства, и Мария, добившаяся своего, объявила, что вполне удовлетворена таким ответом; теперь она была свободна от всяких нареканий, и Дарнлей мог бежать или оставаться, как ему угодно.
Благодаря этому отношения между супругами стали еще хуже, чем прежде, теперь Мария пренебрегала даже внешними формами общения с супругом. Дарнлей заявил, что не желает больше встречаться с ней, и отправился в Стирлинг, но принялся писать оттуда письма, в которых снова стал угрожать бегством. Словом, благодаря своей нерешительности, он все более и более становился достойным всяческого презрения.
Дарнлей действительно тотчас же выехал из Голируда, как только туда прибыл Босвел. На другой день, еще не зная, что Дарнлей скрылся, граф представил Марии Стюарт доказательства, что тот завязал переговоры с католической партией и написал папе, будто королева с каждым днем выказывает все меньше и меньше религиозного рвения.
Мария презрительно передернула плечами и сказала, с досадой отбрасывая бумаги:
— Ах, да кто ему поверит! Право, я даже не вижу, какова цель этой новой подлой комедии!
— Но зато я вижу! — возразил Босвел. — Католики являются вашей главной опорой — вот Дарнлей и хочет вкрасться к ним в доверие, чтобы они встали на его сторону и воспротивились разрыву ваших брачных уз. Кроме того, по правилам вашей религии развод не может состояться без согласия папы. Вот Дарнлей и старается подластиться к папе, представляясь ревностным католиком. Вы улыбаетесь?.. О, это жестоко! Если у вас хватает терпения влачить это тяжелое ярмо, не видя человека более достойного, чем он, то другие не в состоянии терпеть, чтобы вы, которую надо носить на руках, принадлежали какому-то уличному мальчишке! Я лучше убью его, чем потерплю, чтобы он оставался около вас!
Мария продолжала улыбаться и наконец показала графу письмо:
— Прочтите, а потом судите сами!
Босвел схватил письмо.
— От графа Леннокса? — изумился он, читая письмо. — Лорд Дарнлей собирается бежать во Францию, так как не может долее выносить ваше презрение?.. Он до смерти огорчен тем, что потерял вашу любовь, и поэтому хочет навеки расстаться с вами, чтобы вдали от вас постараться искупить свой грех?..
— Разорвите письмо! — улыбнулась Мария. — Это новое доказательство его лицемерия. Письмо пришло вчера, наверное, граф Леннокс надеялся, что это послание растрогает меня, и я пожалею о самоуничижении Дарнлея, удержу его и прощу все! Он выехал за ворота, зная, что я стою у окна. Но я решила — пусть едет куда хочет, мне до него нет никакого дела!
— Но ведь он уехал, не порвав связывающей вас цепи! Разве вы не видите, что он просто хочет сделать невозможным развод и что ему надоело унижаться?.. Вот он и хочет на чужбине навербовать себе сторонников, которые помогли бы ему защитить свои права! Неужели вы не боитесь, что он упорно будет настаивать на своих супружеских правах, чтобы вы никогда не могли подать свою руку тому, кому выпало бы на долю счастье завоевать вашу милость и благосклонность.
Мария Стюарт покачала головой.
— Я боюсь только одного: как бы Дарнлей не вернулся обратно, увидев, что его план оказался недейственным; если я захочу разорвать связывающие меня цепи, то Дарнлей не в силах помешать мне в этом; сбежавший супруг может подпасть под декрет об изгнании, и папа разрушит подобный брачный союз!
— Вы хотите этого? — спросил Босвел. — Мария! Многие могут по праву добиваться вашей короны, и я с радостью уступил бы вас каждому достойному вас, если бы вы могли вручить корону, не отдавая руки. Но вы — королева, и тот, кто ухаживает за вами, добивается не только короны, но и женщины. Клянусь Богом, я никогда бы не мог лицемерить, подобно Генриху Дарнлею, будто добиваюсь руки Марии без ее короны, потому что там, где я люблю, я хочу иметь всю женщину, хочу быть полным господином, а не вассалом, действительно супругом, а не подданным. Мария, прогоните меня, удалите от себя, если ваше сердце не может подать мне ни малейшей надежды! Не дайте разгореться страсти, и без того пожирающей меня, так как я готов для вас даже на убийство!
— Милорд Босвел, вы говорите с замужней женщиной! Если бы я была свободна, то вы не решились бы сказать такие слова под страхом того, что я вас за это изгоню из пределов государства. Но я не свободна, хотя была бы гораздо счастливее, если бы выбрала вас вместо Дарнлея. Этого вам достаточно. Сказать более было бы преступлением, таинство брака ставит между нами непреодолимую преграду. Однако посмотрите-ка! — сказала она, показывая на окно. — Оказывается, я не ошиблась: Дарнлей возвращается!
Босвел взглянул в окно и увидел, как принц-супруг въехал в ворога замка. Босвел топнул ногой, на его лбу от бешенства налились жилы.
— Клянусь Богом, — сказал он, — такое издевательство королева Шотландии не должна стерпеть. Это подлое лицемерие! Граф Леннокс заслуживает казни за свое письмо. С вами — королевой — играют, словно с влюбленной девчонкой!
— Успокойтесь, — ответила королева, — быть может, болтают, что я сама вынудила жестоким обращением Дарнлея покинуть меня. Но пусть он осмелится сделать мне хоть один упрек, тогда я отвечу ему так, как следует; тогда суду придется разобраться, кто из нас виноват!
Королева приказала немедленно созвать Тайный совет и попросить французского посланника присутствовать на заседании.
Когда собрались все лорды, то пригласили и Дарнлея. Слух, будто он сбежал, уже распространился среди всех. Дарнлей знал, что королева получила письмо его отца, он не осуществил намерения сбежать и поэтому мог сказать, что надежда примириться с Марией удержала его в Шотландии. Этим он рассчитывал дать доказательство, что не замышляет никакой измены.
— Ваше высочество, — начала Мария, и уже ее холодный, строгий тон заставил его вздрогнуть, — мы поставлены в известность, будто вы замыслили оставить Шотландию и поискать себе убежища во Франции. Я не хочу спрашивать французского посланника, не завязывали ли вы с ним таких переговоров, которые могут быть сочтены государственной изменой, равно как не хочу допытываться о том, что заставило вас отказаться от своей мысли. Я остановлюсь на одном: вы собирались тайно покинуть страну и принимали меры к обеспечению побега. Ваше высочество, если вы таили при этом какую-либо преступную мысль, то я не смею и не могу ставить вам это в укор, так как вы отказались от нее вполне добровольно. Но я требую ответа, что привело вас к подобной мысли? Мы, к сожалению, уже испытали, что некоторые из наших подданных пустились на открытые мятежные деяния, так как хотели добиться того, чего им не присудил бы никакой суд в стране. Но то, что вы, наш супруг, искали средств к тайному побегу, что вы могли хоть на миг подумать об этом, служит уже обвинением против вас и заставляет предполагать, будто мы лишали вас приличествующих вам прав и защиты. Предъявите Тайному совету ваши обвинения! Мы готовы защищаться против каждого обвинения и представить законные доказательства, но потребуем также, чтобы их проверили и указали нам, как мы должны поступать, чтобы быть справедливыми по отношению к самим себе.
Дарнлей смущенно молчал. Он чувствовал, что всякие обвинения приведут только к тому, что Мария публично напомнит о его старых грехах и потребует наказания за них. Мог ли он жаловаться на отставку от государственных должностей? Мог ли он обвинять Марию в презрительной холодности обращения? Он видел расставленную ему ловушку. Каждое обвинение могло обрушиться против него же самого, и процесс, которого он потребовал бы в свое оправдание, раздавил бы его!
Дарнлей молчал. Лорды тоже обращались к нему с вопросами, но он ничего не отвечал им. Тогда французский посланник объявил, что, собираясь бежать, Дарнлей обрек на нарекания либо свою собственную честь, либо честь королевы. И спросил, может ли он привести обоснованную мотивировку бегства или не даст никаких убедительных объяснений своего поступка.
У Дарнлея не хватило духа привести свои основания. Он заявил, что королева не давала ему никаких оснований для бегства, и Мария, добившаяся своего, объявила, что вполне удовлетворена таким ответом; теперь она была свободна от всяких нареканий, и Дарнлей мог бежать или оставаться, как ему угодно.
Благодаря этому отношения между супругами стали еще хуже, чем прежде, теперь Мария пренебрегала даже внешними формами общения с супругом. Дарнлей заявил, что не желает больше встречаться с ней, и отправился в Стирлинг, но принялся писать оттуда письма, в которых снова стал угрожать бегством. Словом, благодаря своей нерешительности, он все более и более становился достойным всяческого презрения.
II
На юге между дворянством возникли раздоры. Мария отправилась туда вместе с Мюрреем, чтобы наказать нарушителей мира, и делала по тридцати шести миль в день. Подобное напряжение в связи с известием, что Босвел в сражении с разбойником Джоном Эллиотом был ранен, привело ее к опасной болезни. Онанавестила Босвела и, потрясенная страданиями любимого человека, упала в обморок, изнуряющая лихорадка приковала ее к постели, и уже стали бояться за ее жизнь.
Известие о болезни Марии дошло до Дарнлея, он поспешил приехать, но вернулся, не повидавшись с ней, так как узнал, что ее состояние улучшилось.
Однако лорд Лэтингтон открыто говорил, что сердце Марии готово разорваться при мысли, что ее супругом должен оставаться Дарнлей.
Лэтингтон состоял в родстве с большинством тех заговорщиков, которые убежали после убийства Риччио. Он совершенно правильно думал, что королева все простит, если ее сердцу дадут возможность проложить дорогу к счастью. Он переговорил об этом с Босвелом и увидел, что тот выказывает готовность содействовать прощению заговорщиков, если за это они освободят королеву от ее супруга. Когда же Лэтингтон представил королеве свой план, то она объявила, что согласится на него только в том случае, если развод произойдет по закону и не причинит вреда правам ее сына. Однако это было невозможно, так как разводу должен был предшествовать скандальный процесс, поэтому Лэтингтон намекнул, что заговорщики найдут и другие средства освободить ее от Дарнлея.
— Но не такие, — строго возразила королева, — которые могли бы задеть мою честь, иначе я откажусь от короны и уеду во Францию.
Когда Босвел узнал, что королеве предложили пустить в ход крайнее средство, то он заключил с Лэтингтоном, Гэнтли, Эпджилем и сэром Бальфуром союз, целью которого было убить принца-супруга, так как он был врагом дворянства, тираном и оскорбителем королевы.
Уступая настояниям Босвела, Мария разрешила вернуться бежавшим лордам, которые были изгнаны за убийство Риччио. Все, кроме Дугласа, были помилованы. Это одно уже заключало в себе смертный приговор Дарнлею, так как он вдвойне предал этих людей.
В панике он убежал в Глазго и там заболел оспой. А тем временем Босвел вербовал убийц, злоупотребляя при этом именем королевы, и привел Марию в крайнее раздражение, сообщив ей, будто Дарнлей замыслил похитить сына, чтобы править от его имени.
Несмотря на это, Мария все-таки отправилась в Глазго, чтобы навестить больного супруга. Хотела ли она еще раз испытать свое сердце и защитить его против надвигающейся опасности, или же она хотела присутствовать при мести и видеть, как он заплатит за пролитую кровь Риччио?
Когда королева приехала в Глазго и явилась к больному, то стала горячо упрекать его за новый заговор. Дарнлей отрицал соучастие в нем и рассказал ей, что, наоборот, заговор составлен против него самого, но он не может поверить, чтобы она, его родственница и супруга, таила злые намерения против него. По его словам, ему для подписи предложат документ, и если он не подпишет, то смерть его предрешена.
— Но я дорого продам свою жизнь! — грозился Дарнлей.
— Тот, кто захочет убить меня, должен будет напасть на меня сонного!
Мария принялась успокаивать Дарнлея.
— Не бойся ничего! — сказала она. — Хотя ты очень глубоко обидел меня, но я никогда не забуду, что наслаждалась счастьем в твоих объятиях.
— Мария! — оттаял Дарнлей, и его глаза наполнились слезами. — Неужели ты могла бы простить меня? Я стерпел все твои наказания во искупление моей вины, я все перенес, так как надеялся тронуть твое сердце. И сейчас я мог бы бежать, но надежда на тебя удержала меня здесь.
Мария горько усмехнулась: она знала, что все его бегство было только комедией. Она пришла к нему, движимая чувством, а он хотел выклянчить ее милость, хотел снова заманить в сети то самое сердце, которое предал! Если у него была хоть искорка искреннего чувства к ней, то он не смел надеяться ни на что, кроме прощения.
— Я простила тебя, — сказала Мария, — я не хочу, чтобы ты жил в вечном страхе. Поезжай со мной в Эдинбург, и я сама буду сторожить тебя.
— Я всюду последую за тобой, Мария, но только в том случае, если осмелюсь снова стать твоим супругом. Жизнь только тогда может иметь для меня какую-либо цену, если ты опять сможешь полюбить меня!
— Дарнлей, сердцу не прикажешь любить или ненавидеть! Я ничего не могу обещать, кроме того, что я буду охранять тебя от убийства, потому что твоя жизнь дорога мне. Следуй за мной в Эдинбург, или же мне придется поверить, что ты действительно куешь здесь свои предательские планы, в чем тебя обвиняют врага!
Дарнлей согласился, боязнь, что она окончательно бросит его, заставила подчиниться и этому ее желанию. Мария же находилась в таком состоянии, которое трудно описать, потому что уж слишком разноречивы были обуревавшие ее чувства. Она могла лицемерить, ненависть сделала ее жестокой, вся ее душа была возмущена, но она была слишком благородной натурой, чтобы хладнокровно пойти на страшное преступление. Поэтому вероятнее всего она просто хотела защитить Дарнлея, так как понимала, что его убийство будет поставлено ей в вину. А так как она не решалась отдать его под суд, то готова была подчиниться неизбежному.
III
В то время, как королева по настоянию Босвела перевезла Дарнлея в Эдинбург, заговорщики уже подыскали для него подходящее место. Под предлогом, что его болезнь заразительна и могла бы угрожать наследному принцу, для него вместо замка Голируд избрали квартал Кирк-оф-Филд, находившийся в противоположной стороне города.
«Субъект», как называли Дарнлея, переехал в новое жилище, и ужас пронзил его до мозга костей, когда он переступил порог дома, принадлежавшего Гамильтону, его смертельному врагу.
«Пусть Господь Бог будет судьей между мной и Марией! — мрачно подумал он. — Моя жизнь вполне в ее власти!»
Дом, в котором поселили Дарнлея, был мал, тесен и содержался очень плохо. В нем был полуподвальный этаж, в котором помещались столовая и жилая комната; в первом этаже, над столовой, проходила галерея, а рядом с ней — такая же комната, как и внизу. Нельсон, слуга Дарнлея, войдя в Кирк-оф-Филд, заявил, что единственным подходящим домом для его господина был бы дом герцога Шателлероль. Но королева настояла на своем.
Дарнлей был водворен в первом этаже, где в галерее, служившей одновременно гардеробной и кабинетом, поселились трое слуг — Тэйлор, Нельсон и Эдвард Симонс. Из столовой полуподвального этажа сделали кухню, а в комнате, находившейся непосредственно под комнатой принца-супруга, королева приказала поставить для себя кровать. И в этой-то в высшей степени неудобной обстановке она провела несколько ночей подряд под одной крышей с Дарнлеем.
Опасения мужа могли вполне рассеяться под влиянием ее заботливости, нежности и внимания. Тем не менее он не мог отделаться от мрачных предчувствий, которые особенно возросли, когда королева переселилась в Голируд и посещала его только время от времени.
Вечером 7 февраля 1567 года Дарнлей увидал в окнах мрачного дома, расположенного напротив, свет и на другой день узнал, что там поселился архиепископ. Когда в этот же день он гулял по саду, то жаловался, что стена, для починки которой он уже давно требовал каменщиков, все еще находится в прежнем состоянии. Эта стена действительно в двух местах развалилась, и образовавшиеся отверстия могли служить хорошей дорогой злодеям, а так как Дарнлей жил один со своими лакеями, то можно было бояться всего.
Вечером того же дня ему показалось, будто он слышит под окном разговор и шум шагов. Камердинер уверял, что он ничего не слышал, но на следующее утро Дарнлей нашел следы, терявшиеся в направлении к отверстию в стене. Дарнлей обыскал весь дом, но не нашел ничего подозрительного, только одна из дверей, которая вела в погреб под его спальней, была накрепко заперта.
Ночью он снова услыхал внизу шум, который был настолько громок, что и камердинер уже не мог его отрицать. Дарнлей хотел сейчас же исследовать, в чем дело, но камердинер отговорил его от этого и сказал, что сам узнает. Он взял меч и лампу, спустился вниз, и шум сейчас же замер. Через несколько минут камердинер вернулся обратно с докладом, что увидел там какого-то мужчину, немедленно скрывшегося при его появлении, очевидно, это был уличный бродяга, искавший крова на ночь.
На другое утро Дарнлей послал к королеве настоятельную просьбу навестить его. Мария приказала ответить ему, что придет вечером и проведет с ним ночь, а до этого хочет присутствовать на свадьбе ее камердинера Себастьяна.
А тем временем убийцы окончательно выработали свой план. Босвел достал из Дэнбара бочонок пороха, а затем вызвал к себе камердинера королевы. Это был француз по имени Пари, находившийся на содержании у лорда. Босвел заявил ему, что хочет убить Дарнлея. Для этого необходимо было перенести порох в помещение под спальней принца-супруга и взорвать его.
— Говори прямо, что ты думаешь об этом? — спросил Босвел.
— А если я скажу, вы простите меня? Ведь все обвинят в убийстве королеву!
— Болван! Первые лорды королевства сговорились со мной! Согласен ты дать мне ключ от комнаты королевы или нет? Как бы глуп ты ни был, а ты поймешь, что в таком деле я не потерплю тех, кто способен выдать меня!
Пари принес ключ и были сделаны слепки. Кровать королевы поставили так, чтобы она как раз приходилась под кроватью принца-супруга. Здесь хотели спрятать порох.
Для совершения преступления была назначена ночь на десятое февраля.
Существуют кое-какие улики, говорящие о том, что королеве был известен этот план. Она приказала снять с кровати Дарнлея новый бархат и заменить его старым, а из нижнего помещения убрать дорогой куний мех.
В то самое время, когда королева с графиней Эрджил входила в дом Дарнлея, камердинер поджег матрацы королевы и выбросил их из окна.
Королева отправилась к супругу, и в то время, как она разговаривала с ним, были внесены мешки с порохом в нижний зал. Когда это было сделано, Пари доложил ей, что ей нельзя будет остаться здесь на ночь, так как ее постель сгорела. Камердинер Дарнлея тоже заявил, что чувствует себя совершенно больным и должен вернуться в Голируд. Дарнлей, бывший в большой тревоге благодаря событиям прошлой ночи, заклинал камердинера остаться, но камердинер отказался, и Мария обещала, что сама пошлет ему нескольких слуг. Дарнлей заставил ее несколько раз повторить ему это обещание, прежде чем она покинула его. Она простилась — навсегда! — и Дарнлей остался один, он открыл Библию и пытался прогнать страх молитвами.
При свете факелов королева поскакала в Голируд. Ее свитой были лорд Босвел и некоторые знатнейшие лица государства.
В то время как несчастный Дарнлей, облаченный в халат и туфли, бросился на кровать, положив около себя обнаженный меч и напрасно ожидая прибытия обещанных слуг, королева танцевала на маскараде в празднично освещенных залах Голируда.
Босвел тоже танцевал и покинул замок лишь в полночь, снял богатое платье и накинул просторный гусарский плащ. С паролем «друзья Босвела» он вместе с соучастниками миновал сторожевые посты, направился к Кирк-оф-Фидд и через отверстие в стене пробрался к дому, занимаемому Дарнлеем.
— Все готово? — спросил он человека, который, закутавшись в плащ, поджидал его.
Это был «больной» камердинер Дарнлея.
— Все готово, остается только поджечь фитиль.
— Так за дело! — скомандовал Боев ель с мрачной решимостью.
— Убийцы направились в ту сторону сада, откуда можно было видеть освещенное окно принца-супруга. И Босвел приказал зажечь порох.
Какой-то человек скользнул в дом и сейчас же бесшумно выбежал оттуда.
— Готово! — с дрожью в голосе прошептал он.
Прошло несколько секунд. Босвел от нетерпения не находил себе места. Несмотря на предупреждение фейерверкера, он подбежал к дому, лег на живот и заглянул в окошко погреба, чтобы посмотреть, горит ли фитиль. Едва успел он выскочить оттуда и отбежать на безопасное расстояние, как раздался страшный треск, словно выстрелили из тридцати пушек. Город, поля, бухта так ярко осветились от этой ужасной молнии, что на мгновение можно было видеть корабли, плывшие по морю в расстоянии двух миль; затем все стемнело, дом был превращен в обломки.
Босвел поскакал обратно в Голируд, снова прошел мимо сторожевых постов, пришел к себе в комнату, выпил несколько кубков вина и лег спать.
Через несколько минут в дверь к нему постучались. Он открыл.
— В чем дело?
Дом Дарнлея взлетел на воздух, принц-супруг убит!
— Фу! — притворно простонал Босвел. — Ведь это — убийство!
Он оделся и поскакал вместе с графом Гэнтли к месту преступления.
Благодаря матрацам тело Дарнлея было изолировано от действия огня и на другой день было найдено с явными следами удушения — очевидно, Дарнлей еще корчился, когда его нашли, и удушили его собственными подвязками. Паж тоже был убит.
Через несколько дней Дарнлея втихомолку похоронили…
Мария узнала о страшном происшествии от самого Босвела, который доложил ей о случившемся довольно-таки хладнокровно. Она пролила несколько слезинок, но не закричала о мести, как при известии о смерти Риччио.
IV
Весь народ был возмущен злодеянием и вслух винил в совершившемся Босвела. На другое же утро на эдинбургском кресте появился плакат, обвинявший в убийстве Дарнлея Босвела, Бальфура и других слуг королевы. Мария приказала Тайному совету, состоявшему почти исключительно из соучастников заговора Босвела, расследовать страшное дело и распорядилась, чтобы отслужили заупокойные обедни о погибшем.
После этого появился указ парламента, гласящий, что каждый увидевший на эдинбургском кресте памфлеты и оскорбительные плакаты и не уничтоживший их, будет предан смертной казни, с другой стороны — обещалось три тысячи ливров тому, кто укажет следы убийц.
Придворный этикет Шотландии требовал, чтобы королева-вдова просидела сорок дней в одной из комнат замка запертой и при свете единственной лампы. Однако Мария уже на двенадцатый день приказала открыть дверь и неоднократно принимала у себя Босвела, на пятнадцатый она отправилась с ним в загородный дом Сэйтонов и была достаточно неосторожна, не отказываясь там ни от каких развлечений.
Босвел за несколько недель до этого подал просьбу о разводе со своей женой. Причиной он выставил то обстоятельство, что жена была ему близкой родственницей, так что их брак был противен законам. Это бракоразводное дело в связи с убийством Дарнлея показывало, каким путем Босвел и королева хотели стать свободными. Правда, когда жалоба Босвела была подана в суд, то его супруга и со своей стороны тоже потребовала развода, так как он нарушил святость брака с ее горничной, девицей Краффорд. Бэрлей же сообщил суду еще большее: будто Босвел сам обвинил себя в неоднократных изменах жене с леди, служившей главной посредницей между ним и королевой.
Савойский посол Морета выехал из Эдинбурга на второй день после убийства Дарнлея и донес своему правительству, что Мария знала о готовившемся убийстве и допустила совершиться этому делу. Были и другие показания, говорившие, что после смерти Риччио королева неоднократно грозилась сама убить Дарнлея, если не найдется никого, кто взял бы это на себя.
Народное недовольство росло по мере того, как все меньше Мария проявляла рвения разыскать и наказать убийц. Ей пришлось жестоко поплатиться за легкомыслие, с которым она оставила при себе человека, обвиняемого в убийстве, за то, что ради него досрочно сбросила траурные одежды. Все негодовали. Несмотря на запреты парламента, на улицах появлялись один за другим плакаты, открыто обвинявшие королеву и Босвела в совершении преступления. Духовенство с амвона призывало к мести и грозило Божьим гневом. Тогда Босвел появился в Эдинбурге с многочисленными всадниками и объявил, что передушит всех клеветников.
Отец убитого требовал от королевы правосудия.
«Естественная обязанность — написал он, — вынуждает меня просить Вас, Ваше величество, во имя Вашей чести собрать все дворянство Шотландии, чтобы оно расследовало убийство и отомстило за мерзкое злодеяние. Я не сомневаюсь, что Господь просветит Ваше сердце и поможет найти истинного виновника этого позорного дела».
Мария ответила, что она для этого созвала парламент.
Тогда Леннокс сделал ей представление, что преступление такой важности должно быть наказано немедленно, а потому необходимо приказать, чтобы арестовали тех, кого памфлеты и плакаты обвиняли в убийстве.
Это не было сделано, и часть убийц благополучно спаслась. Что же касается графа Босвела, то Мария, словно издеваясь над обвинителями, подарила ему имение Блэкнес и поручила командовать эдинбургским замком.
Но настоятельные требования правосудия были поддержаны также и иностранными дворами. Убийство повсеместно вызвало большое возмущение, и равнодушие Марии заставляло всех негодовать. Архиепископ Глазгоуский откровенно сообщил ей, что ее осуждают даже во Франции и считают зачинщицей преступления. Елизавета же написала, что жалеет Марию Стюарт больше, чем Дарнлея.
«Повсеместно говорят, — гласило ее послание, — что Вы смотрели сквозь пальцы на все это дело и что Вы не собираетесь наказывать убийц, которые совершили преступление Вам в угоду и будучи заранее уверены в полной безопасности».
Теперь Мария уже не могла медлить с решительным шагом, так как это значило открыто признать себя соучастницей преступления. Однако вместо того, чтобы приказать арестовать Босвела, она распорядилась, чтобы Тайный совет начал следствие. По шотландскому праву, стороны должны были получить повестки за сорок дней до судебного заседания. Совет приказал, чтобы Босвел явился к 12-му апреля, но повестки были посланы всем только 23 марта, так что у Леннокса было всего четырнадцать дней, чтобы собрать улики против самого могущественного человека во всей Шотландии.
Босвел оставался в прежних чинах и должностях. По всему было видно, что процесс окончится оправданием Босвела и его местью обвинителям. Поэтому никто не решался выступить свидетелем.
Напрасно граф Леннокс опирался на законы страны, гласившие, что обвиняемый должен быть арестован, напрасно доказывал, что иначе никто не поверит в честный процесс.
Елизавета в новом письме предупреждала, что все государи мира отвернутся от Марии, все народы станут презирать ее, если она не поведет процесс с полным беспристрастием. Мария зашла слишком далеко, чтобы оглядываться назад. Она связала свою жизнь с Босвелом, она была вся в его руках и не могла уже ничего поделать. Да и непросто было арестовать его, когда он командовал всем эдинбургским гарнизоном.
Присяжные заседатели суда над Босвелом были все его приверженцами. 12 апреля обвиняемый появился перед судом в сопровождении 280 стрелков, тогда как солдаты заняли все площади Эдинбурга и встали около дверей суда. Босвел въехал в Эдинбург словно триумфатор, верхом на любимой лошади убитого, а обвинитель, граф Леннокс, должен был повернуть обратно от ворот, так как ему не позволили взять с собой в город более шести слуг.
Был прочтен обвинительный акт, и суд уже собирался отпустить Босвела, так как обвинитель не появлялся поддерживать обвинение, но вдруг выступил вассал графа Леннокса, который от имени своего сюзерена заявил протест против всякого оправдательного приговора по этому делу. Судьи ответили на этот протест молчанием, и под ропот народа граф Босвел был оправдан.
На радостях Мария подарила своему фавориту Дэнбар и дала право носить перед ней корону и меч. Леннокс и Мюррей вынуждены были бежать в Англию. Королевским указом все привилегии, данные прежде католическим церквям, были уничтожены, чем Мария надеялась снискать расположение протестантов Шотландии.
V
Теперь Босвел чувствовал себя достаточно крепко на ногах, чтобы потребовать награды за убийство — руки Марии. Мелвил был единственным человеком, отважившимся открыто предостеречь королеву от необдуманного шага, каким явилось бы ее замужество с человеком, которого весь свет считает убийцей ее покойного мужа. Все друзья Марии боялись мести буяна-лорда и говорили то, что он им приказывал. Да и самого Мелвила защитили от кинжала Босвела только мольбы и заклинания Марии.
Босвел стремился к цели со страстностью преступника, поставившего на карту свою голову. Он был уверен в согласии королевы на брак с ним и теперь надо было только обеспечить согласие знати. И последнего он добился с неслыханной смелостью и наглостью. Он пригласил самых знатных дворян королевства на ужин, устроенный в одном из кабачков Эдинбурга, и в конце пиршества объявил, предусмотрительно окружив дом стрелками, что Мария согласна вступить с ним в брак. Затем он предложил гостям подписать заготовленную заранее бумагу, в которой объявлялось, что лорды считают Босвела абсолютно невиновным в убийстве Дарнлея и находят его достойным супругом для королевы.
Растерявшиеся лорды подписали, и с этой бумагой в руках Босвел отправился к Марии, чтобы побороть ее нерешительность.
Королева колебалась, она понимала, что подписи добыты нечестным путем. Она умоляла Босвела потерпеть еще немного, но он был не такой человек, чтобы его могла провести женщина, сумевшая когда-то обмануть Мюррея.
— Я кровью купил тебя, — сказал он, — и во что бы то ни стало удержу тебя в своих руках. Ты моя!
— Я твоя, — ответила Мария. — Но ради меня и себя самого внемли голосу рассудка! Вся страна проклянет нас!
— Я смеюсь над всей этой добродетельной болтовней! Мария, лучше сразу ударить врага в лицо, чем тянуть и долго угрожать. Только смелости обеспечен успех, кто долго мешкает, тот дает основание подозрениям!
— Босвел, ты знаешь, что я люблю тебя и только и думаю о том, как бы сделать тебя счастливым. Но подумай и о том, что многое, на что смеешь дерзнуть ты, никогда не будет прощено мне. Мужчина может открыто проявлять свою любовь, но стыдливость и обычай приказывают женщине переждать по крайней мере обусловленный обычаем срок траура.
— И я должен ждать, — горько рассмеялся Босвел, — пока враги вытеснят меня из твоего сердца, пока ты станешь обращаться со мною, как с сумасшедшим, вроде Кастеляра?
— Босвел! — воскликнула она, побледнев. — Такое подозрение слишком оскорбительно. А между тем я думаю только о тебе! Будут говорить, что Босвел заставил Марию Стюарт принять его предложение…
— Так пусть говорят! — перебил ее Босвел. — Пусть скрежещут зубами и клянут меня! Ну и что!… Раз уж тебе требуется предлог, чтобы подчиниться моему желанию, то я дам тебе его. Я похищу тебя. Тогда вся вина падет на меня, тогда дело сложится так, что тебе останется либо судить меня, либо выйти за меня замуж… И в силу необходимости ты пойдешь на второе!
Мария изумленно взглянула на него. Как ни отчаянно смелым казался этот план, но он доказывал страстную любовь этого дикого человека, издевавшегося над всеми законами и управлявшего шотландской знатью словно укрощенной лошадью. Отважная решимость этого человека пробуждала в сердце затаенную любовь к приключениям и заставляла согласиться на этот смелый шаг, ведь до сих пор ему все удавалось, неужели же теперь она из пустого упрямства испортит все результаты его упорных стремлений?
Босвел сговорился с ней, что будет сторожить ее, когда она поедет обратно из Стирлинга. Затем уехал из Эдинбурга, чтобы подготовить вся для похищения. Графу Гэнтли, посвященному в тайну и предостерегавшему королеву, она сказала, что никакие уговоры не помогут — только смерть может удержать ее от исполнения данного слова.
Граф Босвел засел устроил засаду с тысячью всадников у моста между Стирлингом и Эдинбургом и, когда королева показалась в сопровождении свиты, состоявшей из двадцати человек, бросился к ней навстречу, приказал схватить и обезоружить Мелвила и Лэтингтона, схватил лошадь королевы за поводья и повел ее в Дэнбар, причем Мария даже не притворялась возмущенной или негодующей. Там он прожил с ней десять дней, а на одиннадцатый снова отвез в Эдинбург, правда, и теперь он опять вел лошадь на поводу, но его свита была безоружной в знак того, что теперь уже ни к чему пускать в ход насилие. Мария объявила, что простила ему и в вознаграждение за великие услуги, оказанные государству, возводит его в сан герцога Оркнея и предполагает выйти за него замуж.
Протестантский священник Джон Крайт отказался обручить влюбленную пару, в Тайном совете он назвал Босвела разбойником и прелюбодеем, а с церковной кафедры огласил, насколько страстно он презирает и проклинает такое супружество, и пригласил верующих пламенно молиться Богу, чтобы этот брак, затеянный против совести и права, не мог состояться.
Несмотря на это Крайт был вынужден присутствовать при бракосочетании, совершенном епископом оркнейским Адамом Босвелом.
На следующий день после свадьбы на дверях Голирудского замка был обнаружен плакат с надписью: «По народному поверью все злое брачуется в мае».
Все негодование, питаемое против Босвела, обрушилось теперь на Марию: у католической партии больше не было никаких оснований долее поддерживать монархиню, которая избрала себе в супруги рьяного протестанта и слепо повиновалась ему во всем, а старая ненависть протестантов обострилась еще больше благодаря этому безнравственному браку. Знать видела в Босвеле только счастливого авантюриста, домогающегося возможности стать тираном страны. И как только по стране разнесся слух о предполагаемой свадьбе, Мюррей, Мортон и Мейтленд, трое старых заговорщиков против Марии, рассудительно державшихся в последнее время в стороне от всех партий, начали свою работу. И на их призыв отозвалась вся шотландская знать, которая объединилась, чтобы очистить трон от такой государыни и её забрызганного кровью мужа.

Глава двадцатая
ЛАМБЕРТ

I
 Сэррей обратился к мировому судье Кэнмора, чтобы навести справки о Брае, после того как Дэдлей дал ему слово, что ему ничего неизвестно о судьбе, постигшей Вальтера. Мировой судья обещал сделать все, что в его силах, в поисках исчезнувшего, но не мог подать никакой особенной надежды.
— Все, что происходит в Кэнмор-Кастле, — сказал судья, — окружено глубочайшей тайной. Допустите, что удалось бы даже довести жалобу до сведения королевы; но где же взять доказательства и улики, которыми можно было бы подкрепить ее? У лорда Лейстера достаточно времени, чтобы замести всякие следы, прежде чем начнутся поиски, если их разрешат.
— Но ведь обитателям замка придется дать показания?
— Так что же из этого? Они и дадут их в пользу графа! Ламберт — упрямый, замкнутый человек, душой и телом преданный графу. А потом, кто сказал вам, что тут непременно произошло преступление? Кто сказал вам, что граф Лейстер действительно виноват? Правда, рассказывают, будто граф женился и держит свою супругу в замке. Но я не верю этому. Я гораздо более склонен думать, что лорд выдал отдавшуюся ему девушку замуж за кого-нибудь из своих слуг, ведь иначе он не осмелился бы выступить претендентом на руку королевы. А если этот слуга лорда, а я думаю, что избранным мог быть только Кингтон, защищая свою жену, убил Брая в честном бою? Тогда что? А что если лорд посещает обольщенную с согласия человека, давшего ей свое имя? Ведь тогда, обвинив графа, мы вынуждены обвинить ту, которую хотим спасти? Не падет ли в таком случае гнев королевы на головы наветчиков?
— Так вы все-таки думаете, — мрачно пробормотал Сэррей, — что граф Лейстер не женат?
— Думаю, что нет. Во всяком случае достоверно одно: сделано все, чтобы не было возможности доказать существование такого брака, даже если он и состоялся. Меня не призывали, значит, в гражданском смысле брак несостоятелен. Старый священник лично никогда не видел лорда, это был старый, полуслепой человек, на его память тоже нельзя положиться, чтобы построить улику на основании его показаний, да кроме того, его удалили отсюда. Документ выкраден из книги метрик, свидетелями совершения церемонии были люди, бесконечно преданные графу. Таким образом, мне кажется, что человека, вынужденного хранить опасную тайну и имеющего власть уничтожить доказательства, не следует ставить в такое положение, когда он вынужден будет пойти на преступление, на которое, быть может, без этого он и не решится. Спасти теперь ничего нельзя, а напортить можно много. Если сэр Брай прибег к насилию, то он стал сам жертвой насилия, если он убит, то ему ничем не поможешь, если он посажен в тюрьму, то Кингтон скорее убьет его, чем допустит, чтобы открыли местопребывание узника; но как бы то ни было, что бы мы не предприняли, всем этим мы только ухудшим положение Филли!
Сэррей чувствовал, что на это ничего нельзя ответить, что он бессилен помочь другу, но его вера в слова графа Лейстера была жестоко поколеблена. Все мероприятия, стремившиеся сделать тайну непроницаемой, ясно говорили за то, что над Филли учинено насилие и что Лейстер даже и не думает о том, чтобы когда-нибудь открыто признать ее своей женой, и постарается скрыть всякие следы брака, даже пойти на преступление.
Но как спасти Филли, как разузнать, куда делся Брай, не вызывая этим новых напастей на голову несчастной жертвы Дэдлея? Напрасно Сэррей ломал себе голову, он был бессилен выбраться из этой паутины интриг.
Сэррей обратился к мировому судье Кэнмора, чтобы навести справки о Брае, после того как Дэдлей дал ему слово, что ему ничего неизвестно о судьбе, постигшей Вальтера. Мировой судья обещал сделать все, что в его силах, в поисках исчезнувшего, но не мог подать никакой особенной надежды.
— Все, что происходит в Кэнмор-Кастле, — сказал судья, — окружено глубочайшей тайной. Допустите, что удалось бы даже довести жалобу до сведения королевы; но где же взять доказательства и улики, которыми можно было бы подкрепить ее? У лорда Лейстера достаточно времени, чтобы замести всякие следы, прежде чем начнутся поиски, если их разрешат.
— Но ведь обитателям замка придется дать показания?
— Так что же из этого? Они и дадут их в пользу графа! Ламберт — упрямый, замкнутый человек, душой и телом преданный графу. А потом, кто сказал вам, что тут непременно произошло преступление? Кто сказал вам, что граф Лейстер действительно виноват? Правда, рассказывают, будто граф женился и держит свою супругу в замке. Но я не верю этому. Я гораздо более склонен думать, что лорд выдал отдавшуюся ему девушку замуж за кого-нибудь из своих слуг, ведь иначе он не осмелился бы выступить претендентом на руку королевы. А если этот слуга лорда, а я думаю, что избранным мог быть только Кингтон, защищая свою жену, убил Брая в честном бою? Тогда что? А что если лорд посещает обольщенную с согласия человека, давшего ей свое имя? Ведь тогда, обвинив графа, мы вынуждены обвинить ту, которую хотим спасти? Не падет ли в таком случае гнев королевы на головы наветчиков?
— Так вы все-таки думаете, — мрачно пробормотал Сэррей, — что граф Лейстер не женат?
— Думаю, что нет. Во всяком случае достоверно одно: сделано все, чтобы не было возможности доказать существование такого брака, даже если он и состоялся. Меня не призывали, значит, в гражданском смысле брак несостоятелен. Старый священник лично никогда не видел лорда, это был старый, полуслепой человек, на его память тоже нельзя положиться, чтобы построить улику на основании его показаний, да кроме того, его удалили отсюда. Документ выкраден из книги метрик, свидетелями совершения церемонии были люди, бесконечно преданные графу. Таким образом, мне кажется, что человека, вынужденного хранить опасную тайну и имеющего власть уничтожить доказательства, не следует ставить в такое положение, когда он вынужден будет пойти на преступление, на которое, быть может, без этого он и не решится. Спасти теперь ничего нельзя, а напортить можно много. Если сэр Брай прибег к насилию, то он стал сам жертвой насилия, если он убит, то ему ничем не поможешь, если он посажен в тюрьму, то Кингтон скорее убьет его, чем допустит, чтобы открыли местопребывание узника; но как бы то ни было, что бы мы не предприняли, всем этим мы только ухудшим положение Филли!
Сэррей чувствовал, что на это ничего нельзя ответить, что он бессилен помочь другу, но его вера в слова графа Лейстера была жестоко поколеблена. Все мероприятия, стремившиеся сделать тайну непроницаемой, ясно говорили за то, что над Филли учинено насилие и что Лейстер даже и не думает о том, чтобы когда-нибудь открыто признать ее своей женой, и постарается скрыть всякие следы брака, даже пойти на преступление.
Но как спасти Филли, как разузнать, куда делся Брай, не вызывая этим новых напастей на голову несчастной жертвы Дэдлея? Напрасно Сэррей ломал себе голову, он был бессилен выбраться из этой паутины интриг.
II
Он сидел у окна харчевни и мрачно смотрел на улицу. Там, за последними домами Кэнмора, виднелся среди темного леса замок, быть может, в недрах этого леса зарыли труп Брая, а за стенами замка в тоскливом одиночестве проливала слезы отчаяния несчастная Филли.
Но что это за человек ураганом несся по улице? Его волосы развевались по ветру, и он бежал так, как если бы его преследовала нечистая сила…
Оказалось, что это — тот самый человек, который хранил ключи темниц Кэнмора, это — Ламберт. Уж не случилось ли несчастья, не ищет ли он священника, чтобы причастить в последний раз умирающую Филли?
Сэррею сделалось страшно при виде этого человека, ведь он мог быть только вестником ужаса… Но почему же он остановился перед дверью, почему спросил лорда Сэррея?
Роберт вскочил, поспешил к двери и, дрожа от нетерпения, позвал Ламберта в свою комнату.
Старик вошел. Его лицо было возбуждено, кулаки судорожно сжимались, голос был глухой…
— Милорд, — спросил он Сэррея, — хватит ли у вас мужества отомстить за вашего друга и несчастную, которая любит вас? Вы обмануты, да и я тоже. Граф Лейстер — вероломный мерзавец. Если хотите отомстить, то следуйте за мной.
— Дайте мне позвать оруженосца…
— Этого совсем не нужно, милорд, вы должны один последовать за мной. Доверьтесь мне! Вы не раскаетесь!
— Как мне поверить вам? Ведь вы — вассал Лейстера и, может быть, были палачом у него!
— Милорд, доверьтесь ненависти отца, у которого украли ребенка, бешенству несчастного, которого обманули наградой! Неужели вы так мало любите вашего друга, если не решаетесь отомстить за него?
— Я следую за вами! — решился Сэррей.
— Пойдемте в Кэнмор-Кастл! — шепнул Ламберт. — Выскользните из деревни так, чтобы вас никто не заметил. Я открою вам ворота. Нельзя, чтобы заподозрили о нашем разговоре, никто не должен даже предположить, где вы!
— Значит, я должен идти один, а не с вами?.. Старик, в этой местности в одиночку вышел и исчез и мой друг!
— Вы найдете его! Оставайтесь на месте, милорд, раз вы так дрожите за свою жизнь!… Тот, кто хочет мстить, не должен отступать ни перед какими препятствиями. А вы…
— Иду, — ответил Сэррей.
— Уходите из дома, как только я скроюсь из вида, и отыщите тропинку, ведущую к парку. Я буду в Кэнморе раньше вас и увижу, достаточно ли чист там воздух… Как услышите стук засова о ворота, так выходите, но не ранее, а до того прячьтесь среди деревьев.
Ламберт торопливо вышел.
Сэррей вооружился с нетерпеливой поспешностью и задним ходом вышел из дома; он нашел тропинку, вившуюся среди полей, и она повела его в самую чащу леса. В ночной темноте только тихий шелест ветвей говорил о надвигающейся буре, и все громче стучало и билось сердце Сэррея.
Послышался звон засова, парковая калитка открылась, и Ламберт нетерпеливо поманил Сэррея войти.
— Куда вы ведете меня? — спросил он, когда Ламберт открыл маленькую дверцу замка с выходом на винтовую лестницу.
— В помещение леди.
— Я увижу ее?
— Вы не найдете ее. С помощью подлого обмана ее и мою дочь увезли отсюда. Вы все услышите. Терпение, милорд!
Сэррей поднялся по узкой лестнице. Оба они вошли в комнату Филли, в ней парил полный беспорядок, так как, повинуясь приказанию Дэдлея, Филли наспех хватала свои вещи, чтобы бежать.
— Вот здесь жила она, — сказал Ламберт, — и моя дочь была ее поверенной. Я охранял леди от лорда Лейстера так же, как и от вас. Я предчувствовал несчастье, но мне и в голову не приходило, что меня так подло обманут… Тише! Звонят! Кингтон сдержал слово! — Ламберт подошел к стене, нажал какую-то скрытую пружину — и в стене открылась потайная дверь. — Спрячьтесь сюда! Здесь вы услышите каждое слово, и если я не ошибаюсь, то из уст другого вы получите более удовлетворительные объяснения, чем их мог бы дать вам я. Теперь ведь и я такой же обманутый, как и вы! — сказав это, Ламберт поспешил к воротам парка.
Сэррей прошел в тайник, исследовал запор потайной двери, чтобы в случае крайней необходимости самому открыть ее. Он прислонял обнаженный меч к двери, чтобы в любой момент иметь под рукой оружие, если ему будет что-либо угрожать.
Прошло четверть часа, наконец послышались голоса и шум шагов.
Пельдрам отвел лошадь в конюшню и охотно последовал приглашению Ламберта поселиться в комнате Филли.
— А здесь и в самом деле недурно, — сказал он, с удовольствием вытягиваясь на мягком диване. — С вашей стороны очень мило, дедушка Ламберт, что вы бодритесь и строите веселую рожу в несчастье. Тут уж ничего не поделаешь, и это будет для вас самым лучшим. Позаботьтесь-ка о добром вине да изрядной закуске, тогда я буду в хорошем расположении духа и прогоню ваше дурное настроение. Я вижу, — продолжал он, когда Ламберт принес и стал откупоривать бутылку хорошего вина, — что вам в голову приходят иногда очень правильные мысли, так что мы с вами споемся. Камеристок леди нужно отпустить, но если среди них имеются хорошенькие, то с ними торопиться не стоит, у меня имеется полномочие устраиваться поудобнее, ну а для этого необходимы красивые женщины.
— Вот этого, пожалуй, вам будет не хватать, сэр, придется поискать в Кэнморе. Но разве сэр Кингтон не дал вам для меня никакого поручения? — спросил Ламберт, отодвинув предложенный ему Пельдрамом стакан вина. — Нет, я не могу пить, пока не успокоюсь за судьбу моего ребенка.
— Вы — дурак, Ламберт! Хорошенькую Тони будут содержать как настоящую леди, и если бы вы не были ослом, то стали бы только радоваться, что ее силой увезли из этого притона. Возможно, что она понравится лорду, и тогда ваше счастье обеспечено.
— Но у лорда есть жена, — сказал Ламберт, с большим трудом сдержав свой гнев, и только легкая дрожь в его голосе выдала прислушивавшемуся Сэррею, чего стоила старику эта перспектива его дочери.
— Дурацкая комедия! — засмеялся Пельдрам. — Послушайте! Дожив до седых волос, вам следовало бы быть поопытнее. Неужели вы так глупы, что верите, будто лорд, имеющий возможность взять в жены даже королеву, даст себя связать первой попавшейся смазливой мордочке?
— Он сам настоял на женитьбе…
Пельдрам громко расхохотался, отдаваясь чувству неизъяснимого блаженства от старого доброго вина.
— Если бы не ваша глупость, — сказал он, — то лорду не понадобилась бы комедия венчания с леди. А теперь вместо вас Кингтон разъяснит ей положение дел и получит кругленькую сумму!
— Брак совершен, и леди не согласится на развод.
— Ее заставят сделать это. А если Филли будет упрямиться, так пусть ищет доказательства своего брака… Разумеется, если только ее не отправят до того еще в сумасшедший дом…
— У нее найдутся заступники.
— Вы думаете? Башни Лейстершира очень прочно построены, и уже многие были укрощены в их недрах. Вы, кажется, очень желаете составить компанию сэру Браю?
— Что вы говорите? Сэр Брай посажен в тюрьму? А что если лорд Сэррей потребует его освобождения?
— Пусть-ка лорд Сэррей подумает сначала о своей собственной голове! Не пройдет и трех дней, как его обвинят в государственной измене и изгонят из пределов государства! Лорд Лейстер не шутит, а сэр Кинггон тем более! Вот это — человек! Фехтует, словно сатана, а стоит ему только устроить где-нибудь западню, так уж намеченная жертва не уйдет — обязательно попадется! У него в руках имеются доказательства, что лорд Сэррей и сэр Брай примкнули к заговору католиков в Шотландии. Эти документы он послал в Лондон, и не успеет Сэррей добраться до границы, как его будет поджидать приказ об аресте. А если его поймают здесь, то граф Лейстер позаботится о том, чтобы обезвредить его! Да вы, вероятно, думаете, что наш брат только тем и занимается, что нацепляет лорду шпоры да седлает ему жеребца? Гм… если приходится вмешиваться в интимные дела своего господина, то надо постараться взять у него из рук поводья: тогда можно добиться и власти, и богатства. Ну подумайте сами: было время, когда вы смотрели на меня свысока, а теперь я стал человеком, служащим первому лорду государства. Теперь уже я — ваш господин, и если мне заблагорассудится, то я могу приказать посадить вас на цепь, хоть бы десять раз вы собирались стать тестем моего друга Кингтона!
— Не собирался и не собираюсь! — вскрикнул Ламберт.
— А вы думаете, вас спросят? Вы просто старый болван, и больше ничего! Что вам больше по душе: чтобы Кингтон сделал вашу дочь своей любовницей или вас — тестем человека, имеющего возможность довести до эшафота первого лорда Англии? Предоставляю вам время подумать об этом на досуге! Через три дня я должен доложить о вас. Если вы будете покорны, то ваше счастье будет обеспечено, если же нет, то в Лейстершире еще найдутся цепи, чтобы приковать вас к стенам подземелья.
— А если я убью вас и убегу сам? — мрачно сказал Ламберт, невольно хватаясь за рукоятку кинжала.
— Я живал между испанцами и итальянцами, и то бывал всегда проворнее кинжала бандитов, и вы погибнете, как только вытащите этот кинжал из ножен! Во-первых, я всегда начеку и моя рука даже в пьяном виде никогда не ошибается; во-вторых, вблизи находятся люди, которые ждут, чтобы время от времени я подавал им сигналы о том, что я жив, здоров и весел. Не дам я этого сигнала — и через час парк Кэнмор-Кастла будет полон вооруженных людей и смертный приговор вам будет приведен в исполнение. Да не в том даже дело: как только станет известно, что вы поступили предательски, сэр Кингтон, имея разрешение графа Лейстера, опозорит вашу дочь, а он очень жаждет этого! Вы не можете доставить ему большее удовольствие, чем нарушить условия, поставленные графом. Слово лорда защищает вашу дочь до тех пор, пока я доволен вами и буду посылать хорошие сведения о вас. Если же провинитесь в чем бы то ни было, то она поплатится за вас. Поэтому, если вы любите свою дочь, то должны беречь меня как зеницу ока!
— Вам неведомо чувство отца, дрожащего за судьбу своего ребенка!… Поклянитесь своей верой в Бога, что честь моей Тони останется незапятнанной, если я буду повиноваться и подчиняться графу! — потребовал Ламберт.
— Даю вам эту клятву, и вот вам моя рука, а я еще ни разу в жизни не нарушал данного слова! Благодарите Бога, что Он просветил ваш рассудок и не дал вам оставаться в прежнем упорстве, которое повело бы только к вашей гибели. Я предпочитаю быть другом честного человека, чем шпионить за упрямым болваном. Если вы спокойно рассудите все это дело, то найдете, что оно сложилось далеко не так уж плохо. Лорд Лейстер вовсе не желает причинять вам зло, он только хочет быть уверенным в том, что с вашей стороны ему ничего не грозит, а Кингтон поостережется причинить бесчестье вашей дочери, пока лорд хоть немного дорожит вами.
— Ну а леди? Что будет с ней?
— Гм!… Ну, знаете, вы спрашиваете больше, чем мог бы ответить даже и человек умнее меня! Вернее всего, что сам лорд еще не знает, чем кончится вся эта история. Говоря между нами, королева достаточно перезрела, чтобы заставить лорда помешаться от любви к ней. А если леди окажется достаточно умной, то она останется любовницей могущественного графа. Если же она потребует большего, тогда ей придется узнать, что значит становиться поперек дороги такому человеку, как граф Лейстер!
— Ну да, разумеется, граф найдет слуг, чтобы убрать ее.
— Разумеется, если только он хорошо заплатит. А потом пусть отвечает за это сам, это — уже его дело!
— Вы думаете? Знаете ли, обыкновенно это бывает иначе. Дело нехитрое — убить невинную женщину. Но затем настанет час раскаяния, и вызвавший злое деяние человек начинает ненавидеть того, кто явился исполнителем его воли. И лорду придется отделаться от тех, кто знает его тайну и помогал в совершении преступления. Да, да! — продолжал Ламберт, заметив, с каким вниманием слушал его Пельдрам. — Я уже не раз подумывал обо всем этом. И если бы только со мной была моя девочка, я был бы страшно рад, что отделался от леди. Говоря между нами, я больше всего боялся, что Кингтон уговорит лорда совершить такой поступок, который заставит графа раскаиваться, а главное — что он изберет меня оружием своего решения. Кингтон не постесняется пожертвовать не только мной, но и головой самого близкого друга, лишь бы самому вылезти сухим из воды!
— В этом вы совершенно правы. Кингтон уже теперь разыгрывает из себя полного хозяина, потому что у него в руках имеются все доказательства против лорда, а я ведь знаю, как он ненавидит леди и с каким ожесточением думает погубить ее.
— Он ненавидит леди? Но что же она сделала ему?
— Собственно говоря, ничего, но он рассчитывал расположить ее к себе, чтобы воспользоваться ей как оружием против самого лорда. Когда Кингтон был здесь в последний раз, то между ними, должно быть, произошла неприятная сцена, так как до того времени он постоянно называл ее прекрасной леди, а с того дня стал называть — за глаза, конечно, — «кэнморской девкой». Тогда-то он и начал искать местечко, куда бы спрятать ее получше. Ламберт, вы много потеряли! Если бы вы сумели использовать обстоятельства к своей выгоде, то могли бы обойтись без Кингтона, я стал бы доверенным лицом графа, а вы могли бы заботиться о прекрасной леди, если бы лорд вздумал бросить ее. Онзаплатил бы массу деньжищ, мы столковались бы с вами, и стали бы господами положения… А так что вышло? Вся награда достанется Кингтону, а вы стали моим узником! Знаете, я не очень-то доверяю ему. Вчера он сыграл с вами шутку — ну, а стань я ему завтра неудобен, так он не постесняется сыграть и со мной что-нибудь похуже! Он тоже не сдержал слова, которое дал мне. Я должен был стать слугой лорда, а стал только слугой Кингтона. Он играет в рискованную игру, а я совсем не хотел бы стать козлом отпущения и рисковать жизнью, в то время как он будет один заграбастывать себе всю добычу!
— Так что же мешает вам вырвать у него эту добычу из рук? Ну конечно, гораздо приятнее и легче оставаться тюремщиком старого, слабого Ламберта и ворчать да покрикивать на него, чем пойти на риск!… Зато, если бы вам удалось узнать, куда именно эти негодяи заманили несчастную леди и мою дочку, мы с вами могли бы поставить сэру Кингтону какие угодно условия!
— Ага! — засмеялся Пельдрам. — Так вот оно что! Вот куда вы гнули, старый лис! По-вашему, я должен предать своего господина?
— Да кто же говорит об этом? Ведь ваш господин — лорд, а если вы — честный слуга, то должны сами стоять на страже его интересов, не допускать, чтобы Кингтон зашел далее, чем это может быть желательно самому лорду. Вы сами только что сказали, что Кингтон ненавидит леди, и она будет вполне в его власти, как только граф вернется обратно в Лондон. Графу Лейстеру придется поверить всему, что только ни скажет ему Кингтон, например, надоумит преследовать последнего свидетеля тайны так же, как и меня. Вы знаете чересчур много, господин Пельдрам, чтобы Кингтону можно было бы не бояться вас!
— Подождем еще, старик! Если бы вы не проявляли подозрительно большого интереса к этому, я бы склонился на ваши слова. Но посмотрим — утро вечера мудренее. Если я только заподозрю, что Кингтон собирается подставить ножку и мне, то у меня еще будет время вступить с вами в переговоры, а вы никуда не скроетесь от меня!
Ламберт подал ему еще жбан сваренного на кореньях вина и вышел через боковую дверь на галерею, в которой скрывался Сэррей.
— Теперь вы все знаете, милорд, — прошептал он. — За вами дело, чтобы найти дорогу к спасению!
— И к мести! — мрачно шепнул Сэррей. — Что же вы думаете делать?
— Милорд, мне придется терпеливо ждать, пока не удастся переманить на свою сторону этого упрямого негодяя. Вы слышали, моя дочь должна поплатиться за измену, но это не может сдержать меня, так как она потеряна для меня с того самого момента, как ее украли. Такой, какой она покинула меня, я уже не увижу ее, и если она даже останется незапятнанной, то все же яд проник в душу, и она стала для меня чужой. Не о ней я забочусь, для меня она теперь хуже, чем мертвая. И я жажду мести и не успокоюсь, пока не всажу нож в сердце лорда и Кингтона с такой же жестокостью, с какой они наслаждаются моим позором.
— Положитесь на меня, — сказал Сэррей, — я надеюсь, что все к лучшему, для вас по крайней мере. Кингтон не решится проявить насилие над вашей дочерью до тех пор, пока жива Филли, а Лейстер, насколько я знаю, решится на преступление лишь в случае крайней опасности. Он труслив, способен на коварный обман, но погубить свою жертву у него не хватит храбрости. Пред троном королевы он должен будет принять ответственность за то, что причинил Филли и вашей дочери.
— Попытайтесь добиться желанного своим путем, я же больше доверяю своему: он вернее ведет к цели.
Ламберт проводил Сэррея до ворот парка, и через час тот поскакал уже из Кэнмора по направлению к Шотландии, чтобы выпросить у Марии Стюарт охранную грамоту и поручение к английской королеве.

Глава двадцать первая
ГОСПОДИН И СЛУГА

I
 В горах, на границе Шотландии, был старый замок, который во время последней войны был наполовину сожжен и служил притоном для шотландских разбойников, грабивших пограничные местности. Замок представлял собой довольно объемистое строение и укрепленную башню, которая уцелела от опустошительной силы огня, уничтожившего все внутри жилого помещения. Подъемный мост отрезал единственный доступ к горному утесу, на котором возвышались развалины замка. В последнее время мост был приведен в порядок, так как Кингтон вошел в соглашение с шотландскими разбойниками и выговорил себе приют в этом замке на тот случай, если у него произойдет серьезная ссора с графом Лейстером и понадобится надежное убежище.
Этот замок, под названием Ратгоф-Кастл, Кингтон избрал убежищем для Филли и охранял его надежными, преданными людьми. Переезд туда был совершен с возможной быстротой, а чтобы успокоить Филли и Тони относительно отсутствия Ламберта, их уверили, что он следует вместе со служанками и несколько отстал, так как его кони уступали в быстроте хода.
Лейстер пришел в очень хорошее настроение, когда узнал от Кингтона, что Ламберта можно не опасаться, втайне же он обдумывал, как найти для Филли такое убежище, о котором бы не подозревал даже Кингтон.
— Выписка из церковной книги находится при вас? — спросил он Кингтона, как бы между прочим.
— Это было бы неосторожно с моей стороны, милорд, — ответил Кингтон, — если бы со мной приключилось что- нибудь, документ мог бы попасть в чужие руки.
— А он у вас в сохранном месте?
— Конечно, милорд, так как я не был уверен относительно судебного преследования со стороны лорда Сэррея, то доверил выписку приятелю из Шотландии!
Лейстер едва был в состоянии скрыть свое негодование.
— Такая предосторожность была излишней, — возразил он недовольным тоном. — Что же, мы еще не скоро прибудем к месту назначения?
— Еще четыре мили. Там никто не станет искать вашу супругу.
— Но там полно разбойников?
— Милорд, разбойники нападут на Ратгоф-Кастл в том случае, если того пожелаете вы, это — мощная защита.
— Разве вы забыли, что за вами стоит человек более могущественный?
— Милорд, я счел за благоразумное скрыть ваше имя.
Лейстер одобрил поступок Кингтона, но в нем росло подозрение, что этот покорный слуга стремится совершенно завладеть Филли и занять вполне независимое положение.
— Кингтон, — сказал он после короткого молчания, — вашу предосторожность я одобряю: но она кажется мне почти недостойной. Я готов скорее открыто признаться во всем королеве, чем подвергать Филли хотя бы самой малейшей опасности.
Кингтон улыбнулся. Он отлично понял, что лорд ревнует его к Филли.
— Милорд, — возразил он, — наилучшим средством для вашего успокоения, надеюсь, послужит мое признание, что в Ратгоф-Кастле будет сохранно укрыта не только ваша супруга, но также и женщина, которая для меня дороже всего на свете. Вашей супруге, потребовавшей себе в спутницы мисс Ламберт, я обязан тем, что имею возможность в стенах Ратгоф-Кастла хранить не только ваше, но и свое сокровище.
Лицо Лейстера прояснилось, и подозрение рассеялось.
— А, вы любите дочь управляющего? — воскликнул он.
— Это меня радует вдвойне, так как мне представляется возможность утихомирить ворчливого старика, дав ему богатого зятя. Получили вы уже от мисс ее согласие?
— На это я не мог решиться, милорд. Усердие к службе вам поставило меня во враждебные отношения к старику Ламберту, а мисс Тони так нежно любит своего отца, что к его противнику не может не относиться подозрительно.
— Положитесь на меня, Филли замолвит за вас словечко! — воскликнул лорд с искренним доброжелательством.
Вот наконец сквозь темные верхушки сосен перед ними открылся крутой обрыв скалы со стенами замка на ее вершине. Почерневшие от огня стены мрачно вырисовывались на горизонте, и весь замок напоминал скорее разбойничье гнездо, нежели здание, предназначенное для пребывания молодых женщин.
Через несколько минут подъехали к подъемному мосту. Кингтон подал знак свистком, появился разбойник, вооруженный с ног до головы, петли заскрипели, и мост с грохотом опустился.
Филли испуганно посмотрела на своего супруга, очевидно, ею овладело чувство страха при виде этой тюрьмы. Тони задержала своего коня, она как будто не верила, что это место предназначено для пребывания графини. Даже сам Лейстер пришел в нерешительность, когда увидел дикого молодца, охранявшего вход в замок.
Но поворачивать обратно уже слишком поздно; нужно было, наоборот, скрыть свое подозрительное отношение к Кингтону.
Он взял под уздцы коня Филли и повел к мосту, а Кингтону пришлось втаскивать иноходца Тони почти силой. Мост с грохотом поднялся опять, подоспели неопрятные слуги, коней отвели на конюшню, а гостей Кингтон проводил в жилые комнаты замка.
Комнаты были наскоро приведены в жилое состояние и превосходили, во всяком случае, те ожидания, какие возникали, если смотреть на замок снаружи. Пребывание в таком убежище могло показаться даже несколько романтическим и привлекательным, если бы владельцем замка был не Кингтон, а кто-либо иной. Окна располагались непосредственно над пропастью; открывался широкий вид на лесистые возвышенности, глубокие расселины скал и овраги; внизу зияла глубокая пропасть, по скалам, шумя и пенясь, несся горный поток и терялся в лесной чаще; шум от верхушек темных сосен раздавался как мрачная песня.
Слуги встретили гостей с льстивым подобострастием, которое возбуждало не доверие, а лишь отвращение. На смуглом лице человека, которому Кингтон отдавал распоряжения, лежал отпечаток диких страстей. Темные и жгучие его глаза выражали отвагу и решимость, но вместе с тем и хитрость, когда он получил от Кингтона приказание исполнить все требования господина и нести ответственность за все, что будет происходить в замке.
— Сэр Джонстон, — обратился Лейстер к распорядителю, узнав от Кингтона его имя, — вашему попечению поручаются две дамы, требующие к себе почтения. Вы предоставите им полную свободу и будете ответственны за все их неудовольствия, равно как и за то, чтобы к ним никто не приближался, кроме меня и сэра Кингтона. Если я буду доволен вами, то при каждом моем посещении замка вы будете получать по пятьдесят золотых, а в тот день, когда я увезу отсюда дам, вы получите тысячу золотых и сможете обратиться ко мне с любой просьбой. В моей власти карать за измену и настигнуть изменника, где бы он ни был в Шотландии или во Франции; а за верную службу, если вы даже прежней жизнью обрекли свои головы на погибель, я могу вам добыть милостивое прощение и приличное, доходное служебное положение.
Джонстон прислушивался к этим словам, поняв, что имеет дело с более влиятельным господином, чем тот, который нанимал его. Кингтон же от досады кусал губы, он надеялся, что лорд из предосторожности сохранит свое инкогнито, но тот открыл себя, и Кингтону пришлось утратить свое значение. Джонстон действительно подвергался преследованию за преступление: во время одного грабежа он при самозащите убил мирового судью, поэтому обещание лорда произвело на него большее впечатление, чем все посулы и угрозы Кингтона.
В горах, на границе Шотландии, был старый замок, который во время последней войны был наполовину сожжен и служил притоном для шотландских разбойников, грабивших пограничные местности. Замок представлял собой довольно объемистое строение и укрепленную башню, которая уцелела от опустошительной силы огня, уничтожившего все внутри жилого помещения. Подъемный мост отрезал единственный доступ к горному утесу, на котором возвышались развалины замка. В последнее время мост был приведен в порядок, так как Кингтон вошел в соглашение с шотландскими разбойниками и выговорил себе приют в этом замке на тот случай, если у него произойдет серьезная ссора с графом Лейстером и понадобится надежное убежище.
Этот замок, под названием Ратгоф-Кастл, Кингтон избрал убежищем для Филли и охранял его надежными, преданными людьми. Переезд туда был совершен с возможной быстротой, а чтобы успокоить Филли и Тони относительно отсутствия Ламберта, их уверили, что он следует вместе со служанками и несколько отстал, так как его кони уступали в быстроте хода.
Лейстер пришел в очень хорошее настроение, когда узнал от Кингтона, что Ламберта можно не опасаться, втайне же он обдумывал, как найти для Филли такое убежище, о котором бы не подозревал даже Кингтон.
— Выписка из церковной книги находится при вас? — спросил он Кингтона, как бы между прочим.
— Это было бы неосторожно с моей стороны, милорд, — ответил Кингтон, — если бы со мной приключилось что- нибудь, документ мог бы попасть в чужие руки.
— А он у вас в сохранном месте?
— Конечно, милорд, так как я не был уверен относительно судебного преследования со стороны лорда Сэррея, то доверил выписку приятелю из Шотландии!
Лейстер едва был в состоянии скрыть свое негодование.
— Такая предосторожность была излишней, — возразил он недовольным тоном. — Что же, мы еще не скоро прибудем к месту назначения?
— Еще четыре мили. Там никто не станет искать вашу супругу.
— Но там полно разбойников?
— Милорд, разбойники нападут на Ратгоф-Кастл в том случае, если того пожелаете вы, это — мощная защита.
— Разве вы забыли, что за вами стоит человек более могущественный?
— Милорд, я счел за благоразумное скрыть ваше имя.
Лейстер одобрил поступок Кингтона, но в нем росло подозрение, что этот покорный слуга стремится совершенно завладеть Филли и занять вполне независимое положение.
— Кингтон, — сказал он после короткого молчания, — вашу предосторожность я одобряю: но она кажется мне почти недостойной. Я готов скорее открыто признаться во всем королеве, чем подвергать Филли хотя бы самой малейшей опасности.
Кингтон улыбнулся. Он отлично понял, что лорд ревнует его к Филли.
— Милорд, — возразил он, — наилучшим средством для вашего успокоения, надеюсь, послужит мое признание, что в Ратгоф-Кастле будет сохранно укрыта не только ваша супруга, но также и женщина, которая для меня дороже всего на свете. Вашей супруге, потребовавшей себе в спутницы мисс Ламберт, я обязан тем, что имею возможность в стенах Ратгоф-Кастла хранить не только ваше, но и свое сокровище.
Лицо Лейстера прояснилось, и подозрение рассеялось.
— А, вы любите дочь управляющего? — воскликнул он.
— Это меня радует вдвойне, так как мне представляется возможность утихомирить ворчливого старика, дав ему богатого зятя. Получили вы уже от мисс ее согласие?
— На это я не мог решиться, милорд. Усердие к службе вам поставило меня во враждебные отношения к старику Ламберту, а мисс Тони так нежно любит своего отца, что к его противнику не может не относиться подозрительно.
— Положитесь на меня, Филли замолвит за вас словечко! — воскликнул лорд с искренним доброжелательством.
Вот наконец сквозь темные верхушки сосен перед ними открылся крутой обрыв скалы со стенами замка на ее вершине. Почерневшие от огня стены мрачно вырисовывались на горизонте, и весь замок напоминал скорее разбойничье гнездо, нежели здание, предназначенное для пребывания молодых женщин.
Через несколько минут подъехали к подъемному мосту. Кингтон подал знак свистком, появился разбойник, вооруженный с ног до головы, петли заскрипели, и мост с грохотом опустился.
Филли испуганно посмотрела на своего супруга, очевидно, ею овладело чувство страха при виде этой тюрьмы. Тони задержала своего коня, она как будто не верила, что это место предназначено для пребывания графини. Даже сам Лейстер пришел в нерешительность, когда увидел дикого молодца, охранявшего вход в замок.
Но поворачивать обратно уже слишком поздно; нужно было, наоборот, скрыть свое подозрительное отношение к Кингтону.
Он взял под уздцы коня Филли и повел к мосту, а Кингтону пришлось втаскивать иноходца Тони почти силой. Мост с грохотом поднялся опять, подоспели неопрятные слуги, коней отвели на конюшню, а гостей Кингтон проводил в жилые комнаты замка.
Комнаты были наскоро приведены в жилое состояние и превосходили, во всяком случае, те ожидания, какие возникали, если смотреть на замок снаружи. Пребывание в таком убежище могло показаться даже несколько романтическим и привлекательным, если бы владельцем замка был не Кингтон, а кто-либо иной. Окна располагались непосредственно над пропастью; открывался широкий вид на лесистые возвышенности, глубокие расселины скал и овраги; внизу зияла глубокая пропасть, по скалам, шумя и пенясь, несся горный поток и терялся в лесной чаще; шум от верхушек темных сосен раздавался как мрачная песня.
Слуги встретили гостей с льстивым подобострастием, которое возбуждало не доверие, а лишь отвращение. На смуглом лице человека, которому Кингтон отдавал распоряжения, лежал отпечаток диких страстей. Темные и жгучие его глаза выражали отвагу и решимость, но вместе с тем и хитрость, когда он получил от Кингтона приказание исполнить все требования господина и нести ответственность за все, что будет происходить в замке.
— Сэр Джонстон, — обратился Лейстер к распорядителю, узнав от Кингтона его имя, — вашему попечению поручаются две дамы, требующие к себе почтения. Вы предоставите им полную свободу и будете ответственны за все их неудовольствия, равно как и за то, чтобы к ним никто не приближался, кроме меня и сэра Кингтона. Если я буду доволен вами, то при каждом моем посещении замка вы будете получать по пятьдесят золотых, а в тот день, когда я увезу отсюда дам, вы получите тысячу золотых и сможете обратиться ко мне с любой просьбой. В моей власти карать за измену и настигнуть изменника, где бы он ни был в Шотландии или во Франции; а за верную службу, если вы даже прежней жизнью обрекли свои головы на погибель, я могу вам добыть милостивое прощение и приличное, доходное служебное положение.
Джонстон прислушивался к этим словам, поняв, что имеет дело с более влиятельным господином, чем тот, который нанимал его. Кингтон же от досады кусал губы, он надеялся, что лорд из предосторожности сохранит свое инкогнито, но тот открыл себя, и Кингтону пришлось утратить свое значение. Джонстон действительно подвергался преследованию за преступление: во время одного грабежа он при самозащите убил мирового судью, поэтому обещание лорда произвело на него большее впечатление, чем все посулы и угрозы Кингтона.
II
Граф Лейстер пробыл в Ратгоф-Кастле всего несколько часов. Он слишком долго отсутствовал, поэтому спешил возвратиться в Лондон.
Прощание с возлюбленным никогда еще не было так тяжко для Филли. Единственным утешением, облегчавшим ей разлуку, было то, что Лейстер брал с собой и Кингтона. В присутствии этого человека Филли всегда испытывала безотчетный страх, и только безграничное доверие и любовь к Лейстеру заставляли Филли повиноваться ему. Сейчас же его отъезд казался ей чуть ли не смертным приговором. Она, как и Тони, чувствовала, что с Ламбертом их разлучили не напрасно.
— Теперь вы можете с легким сердцем отправляться в Лондон, — сказал Кингтон Лейстеру, когда они пробирались через лесную чащу. — В Ратгоф-Кастл не проникнут ни шпионы, ни искусители.
— Что вы хотите этим сказать? Разве вы полагаете, что у Ламберта имеются какие-нибудь дальнейшие планы?
— Нет никакого сомнения, что Ламберт был в сношениях с лордом Сэрреем. Хорошо, что леди уехала оттуда. Она нежно любит вас, но этому можно поверить только со стороны…
— Кингтон, у вас есть какое-то подозрение? Говорите прямо!
— Некоторые мысли наводят на размышления. Мне кажется странным, что лорд Сэррей принимает такое живое участие в леди.
— Ах, вот на что вы намекаете? — сказал Лейстер со спокойной улыбкой. — Но мне вполне понятно это участие.
— Значит, вам известно, что в Сэнт-Эндрю все убеждены, что Филли увез лорд Сэррей? Я знал об этом и не мог объяснить, почему вы предоставили ему свободный доступ в замок, ведь чувство ревности всегда делает человека прозорливым.
— Вздор! Сэррей любит ее как отец, как покровитель.
— Неужели красота леди, пленившая вас, могла остаться незамеченной лордом Сэрреем? Разве любой отец не удовольствовался бы словом графа Лейстера?
— А Сэррей и удовольствовался! — возразил Лейстер, но по тону было заметно, что сомнение Кингтона задело его.
— Однако это не помешало ему послать сэра Брая и стараться тайно проникнуть в Кэнмор-Кастл, — улыбаясь, сказал Кингтон.
— Вы правы, ей Богу, правы! — сдался Лейстер.
— Вспомните, как неохотно леди покидала Кэнмор, быть может, Ламберт был уже подкуплен лордом Сэрреем.
— Черт возьми, вы, кажется, готовы обвинить леди?
— Нет, это было бы безумием с моей стороны, так как дурной вестник всегда становится ненавистным. Я могу поклясться в невиновности леди, но…
— Послушайте, вы, должно быть, хотите испытать силу моего кинжала? Горе тому, кто решится оклеветать супругу графа Лейстера!
— Быть может, лорд Сэррей только притворяется заботливым?
— Вы — олицетворение сатаны, Кингтон! Какова цель ваших подозрений? Вы хотите заставить меня усомниться в моей жене? Клянусь Богом, если только вами руководит это желание и вы солгали, то берегите свой язык! Я приколю его своим кинжалом к порогу двери моей супруги.
Кингтон был слишком опытный интриган, чтобы не удовольствоваться таким успехом. Он знал, что семя подозрения, ловкой рукой брошенное в сердце человека, не нуждается в заботливом уходе, а само пускает корни и разрастается.
— Милорд, — произнес он, — я далек от того, чтобы решиться на какое-либо обвинение, я хотел только доказать вам, что во всяком случае было полезно удалить леди из Кэнмор-Кастла. Я мог ошибиться относительно лорда Сэррея. И убежден, что ваша супруга старательно избегала бы всяких сношений с ним, если бы он проявил какой-либо иной интерес, кроме дружбы. Но ведь вы можете отсутствовать более продолжительное время, а до сведения леди могут дойти слухи о милости королевы! Все это способно вызвать вполне известное настроение, которое может использовать тот, кто сумеет и пожелает.
— Довольно, Кингтон, ваши выводы приводят меня в бешенство. Одна мысль, что лорд Сэррей посягает на мою жену, заставляет меня пожалеть о том, что я пощадил его, когда он грозил мне войском. Он не довольствуется тем, что вынудил у меня клятву, а продолжает вмешиваться в мои дела и стережет меня, как будто я обязан давать ему отчет в своих поступках. Этому нужно положить конец!
— Если он разведает о том, что произошло в Кэнмор-Кастле, то готов будет встретиться с вами перед троном королевы. Вы помешали мне убить его, но я боюсь, как бы вы не пожалели об этом.
— Я и теперь уже сожалею. Если он появится в Лондоне — все пропало. Королева Елизавета предпримет строжайшее расследование, и ее ревность погубит меня.
— Значит, лорд Сэррей не должен появиться в Лондоне.
— Как бы я мог тому воспрепятствовать?
— Вам нужно только одобрить то, что я сделал. Я послал лорду Бэрлею извещение, что в графстве Лейстер были сделаны попытки навербовать людей для католической партии в Шотландии. Я полагаю, что декрет об изгнании лорда Сэррея уже утвержден королевой.
— А если он явится и разоблачит твою ложь?
— Он не в силах это сделать! Имеются неопровержимые доказательства того, что он сражался в войске Марии Стюарт. Достаточно будет нескольких ваших слов, чтобы побудить королеву Елизавету предать суду государственного изменника. Я уже позаботился о том, чтобы его могли найти, если он покажется в Лейстершире.
— А если он сошлется на показания Брая?
— Сэра Брая не найдут, милорд!
— Ты убил его?
— В ваших интересах было бы не допытываться ответа, дабы в случае необходимости вы могли поклясться, что ничего не знаете о судьбе сэра Брая.
— Кингтон, я не встречал более утонченного злодея, чем вы. Но пусть так! Вы это дело затеяли, вы и ведите его до конца.
— Вы останетесь довольны!
Как только лорд Лейстер появился в своем доме в Лондоне, ему доложили, что королева требует его к себе на следующий день.

Глава двадцать вторая
ОБВИНИТЕЛЬ

I
 Королева Елизавета танцевала на придворном балу, когда явились с известием, что королева Шотландии разрешилась от бремени сыном. Бэрлей шепотом сообщил ей об этом, королева оставила своего кавалера, опустилась в кресло и мрачно прошептала:
— Королева Шотландии родила сына! А я?..
Ничто не могло так обострить ненависть королевы к сопернице, как материнское счастье Марии. На английский престол не было прямого наследника, неужели же ее смерти будет ждать сын женщины, которая, будучи женой дофина Франции, уже целилась на титул королевы английской?! Неужели Мария, ненавидимая и презираемая ею, станет лучшей матерью для своих подданных, чем она? Гордой Елизавете было тяжелее всего признаться самой себе, что она пропустила самое важное и что ее опередила женщина, которая сочеталась браком не ради забот о престолонаследии, а исключительно ради своего удовольствия. А если она теперь изберет себе супруга, кто поручится, что Бог наградит ее потомством? В этом, казалось, сомневался весь мир, так как шотландец Патрик Адамсон обнародовал уже письмо, в котором доказывалось право на престол шотландского наследного принца, и даже ее собственный парламент обсуждал вопрос о престолонаследии под предлогом избежания возможных в будущем смут. Она воспретила эти обсуждения, и палата лордов подчинилась, но нижняя палата упорствовала. Елизавета выступила с угрозами против не повинующихся королевскому приказанию, и нижняя палата уступила, но в то же время объявила протест против незаконного посягательства на свободу прений.
Мария Стюарт пригласила ее на крестины своего сына, которые долгое время откладывались. Елизавета умела скрывать свое раздражение, но все же ее ответ не был лишен резкости.
«Так как мы, — написала она английскому послу, — несмотря на наше желание, не может приехать в Эдинбург и так как в зимнее время неудобно посылать туда одну из дам Англии, то пусть заменит нас на крестинах графиня Эрджил. Граф Бедфорд, с осторожностью к религиозным чувствам, передаст золотую купель, которую мы при сем посылаем. Вы можете в шутку сказать, что купель сделана специально, когда мы узнали о рождении принца. Теперь, когда он успел подрасти, купель окажется слишком мала для него, поэтому удобнее было бы оставить ее для крещения следующего ребенка, предполагая, конечно, что он будет крещен ранее, чем успеет вырасти…
Что касается ее последнего предложения, переданного через Мелвила, чтобы мы разузнали через людей, оставшихся еще в живых, каким образом и при каких обстоятельствах составлялось духовное завещание нашего отца, короля Генриха VIII, то вы можете ответить на ее вопрос: для ее удовлетворения и ради нашей собственной совести будут предприняты все возможные и допустимые расследования.
С другой стороны, склоните королеву к утверждению эдинбургского договора, откладывавшегося все время из-за нескольких слов, показавшихся Марии нарушающими ее права и требования. Наше намерение — утвердить в том договоре лишь то, что непосредственно касается нас и наших детей, причем мы исключаем из договора все, что могло бы противоречить ее претензиям как ближайшей наследницы после нас и наших детей. Мы можем заключить новый договор, которым утверждалось бы наше обещание никогда не делать и не допускать ничего такого, что нарушало бы ее права, мало того, мы обещаем пресекать каждого, посягающего на них. Вы должны убедить Марию, что это является единственным средством избежать между нами подозрений и недоразумений и что это — единственный путь к упрочению дружественных отношений».
Эти замечательные указания, данные английскому посланнику, свидетельствуют о том, насколько Елизавета умела делать дешевые предложения там, где была уверена, что встретит отказ, и тем выставляла всегда Марию как зачинщицу раздоров.
В таком настроении была королева Елизавета, когда Бэрлей доложил ей, что англичане, между ними и лорд Сэррей, вербуют приверженцев католической партии в Шотландии. Момент был самый благоприятный, чтобы Елизавета могла излить свое раздражение в гневе на виновных. Но лорд Сэррей был другом и соратником Дэдлея, а Бэрлей упомянул, что Сэррея даже видели в графстве Лейстера. Странно было, что граф не делал никаких попыток для защиты своего друга, хотя, видимо, знал, что тот находился под обвинением.
— А вдруг Лейстер — тайный приверженец Марии Стюарт и одобряет вербовку ее сторонников?
Елизавета высказала это подозрение Бэрлею.
— Ваше величество, — ответил он, — граф Лейстер так часто уезжает из Лондона и так тщательно скрывает цель своих поездок, что ваше подозрение, быть может, и основательно.
— Милорд, — разволновалась Елизавета, — кому обязан граф Лейстер своим положением, как не исключительно моей милости? Что сделал он, чем отличился, чтобы попасть в то положение, какое он занимает? Одним тем — я не стыжусь признаться в этом, — что благоговел передо мной, и тем, что его чувство имело больше видов на успех, чем чье бы то ни было другое. Но, клянусь Богом, забыла бы, что я — королева, и стала бы мстить, как оскорбленная женщина, если бы узнала, что он лицемерит, что он шутит со мной, королевой Англии, как будто я — такая же кокетка, как Мария Шотландская. Неужели он решился обмануть меня? Голова изменника будет на плахе, если он окажется виновным. Позовите лорда Лейстера! Я желаю говорить с ним.
— Ваше величество, он уже несколько дней в Лейстершире, и я благодарю Бога, что вы не увидите его в таком возбужденном состоянии. Если он действительно виновен в обмане, то никто не должен подозревать, что вы обмануты им. Ни один мужчина в мире не достоин, чтобы ради него вы уподобились обыкновенной женщине; чем равнодушнее ваше презрение, тем величественнее будет ваша месть.
— Лорд Бэрлей, вы и не подозреваете, что происходит во мне. Лейстер знает, что я любила его и ради него готова была забыть свой долг королевы. Он добровольно сознался мне, что не любит Марию. Она, при всей своей красоте, оскорбляет чувство нравственности, достоинство женщины и королевы. Мне стыдно назвать ее своей соперницей. В тот час, когда Лейстер сказал мне, что Мария — ничто для него, он стал близок моему сердцу. И неужели же все это — игра? Неужели мой вассал отдал ей свое сердце, а я чуть было не доверилась жалкому лицемеру?
— Ваше величество, как бы вы ни были оскорблены, как бы ни был справедлив ваш гнев, но все же ваша ненависть выдаст оскорбленную любовь. Смертный приговор над Лейстером заставил бы торжествовать Марию и поведал бы всему миру, что вы отомстили за свое оскорбленное тщеславие! Осудите графа Лейстера на изгнание, если он виновен, но не мстите ему.
— Изгнать его? — прошептала Елизавета, подавляя слезы злобы и глубоко оскорбленного чувства. — Изгнать для того, чтобы он пошел к Марии и рассказал ей, как он обманул тщеславную Елизавету? Нет, нет, я не хочу верить, пока его измена не будет доказана мне. Пошлите тотчас гонцов, чтобы разыскали Лейстера. Горе тому, кто даст ему возможность бежать! Если же он окажет сопротивление, то заковать его и запереть в тюрьму!…
— Еще нет никаких доказательств. Не обнаруживайте подозрения, пока не получите права судить его! — возразил Бэрлей, пораженный страстностью королевы, которой он не ожидал.
— Вы сомневаетесь? — спросила Елизавета, мрачно глядя на него. — Вы, кажется, изволите шутить со мной? Но кто же обвинил Лейстера, как не вы? Кто навел меня на эти ужасные подозрения? Быть может, вы захотели разведать о том, что значит для меня Дэдлей? Клянусь кровью моего отца, вы раскаетесь в этой игре!
— Ваше величество, — твердо ответил Бэрлей, спокойно глядя ей в глаза, — я не боюсь гнева королевы, если он падает на ее верного слугу, потому что тогда судит королева, а не оскорбленная женщина. Я сам поддерживал лорда Лейстера, когда он влюбился в вас, но вы отвергли его — и я не мог подозревать, что это сопровождалось вашей внутренней борьбой. И странные отлучки лорда обязывали меня в связи с известиями из Лейстершира высказать подозрение, которое теперь кажется мне чрезвычайно оскорбительным.
— Разрешите мне расследовать, ошибался ли я, и я буду счастлив сказать вам, что слишком переусердствовал в своем желании служить вам.
— Сделайте это, Бэрлей!… Нет, сначала я должна сама видеть Лейстера и прочесть в его глазах вину или невиновность. Не говорите никому о подозрениях, его могут предупредить, а я хочу видеть, покраснеет ли он, когда я брошу ему в лицо обвинение в измене.
Бэрлей поклонился, а Елизавета, перейдя к государственным делам, стала разбирать их с таким спокойствием, которое ввело бы в заблуждение каждого, но не Бэрлея. Тот лишь, кто знал ее, мог понять, какая железная воля, какое самообладание требовалось с ее стороны, чтобы подавить бушующие чувства.
Однако, когда Бэрлей вышел от королевы, перо выпало у нее из руки, она сидела совершенно обессилевшая. Теперь, когда она осталась одна, сдерживаемая буря забушевала с новой силой, так как ей не перед кем было скрывать слезы и волнение. Она вся, казалось, была охвачена пламенем, ее глаза горели, грудь тяжело вздымалась, и губы судорожно подергивались.
Какое унизительное, возмущающее ее гордость чувство! Елизавета думала, что победила женскую слабость, а на поверку оказалось, что она ревновала и боялась быть обманутой, как простая девчонка, которой забавляются. Нет, эта мысль была слишком ужасна, чтобы можно было допустить ее!
В чем же заключались чары этой Стюарт? Елизавета порывисто выдвинула ящик, где лежало миниатюрное изображение Марии Стюарт, и горькая улыбка проскользнула по ее лицу.
«Да, она так хороша, но это — красота куртизанки, а не королевы, — сравнивала она. — Мои золотистые волосы красивее, чем ее, бесцветные, у меня большие глаза, а лицо выражает ум и величие, у Марии же какая-то кокетливая улыбка на устах. Какая безвкусица — эти католические побрякушки, крест и папские четки. Моя прикрытая грудь чиста и непорочна, а у нее — вздымается для каждого, кто останавливает на ней взгляд. И что же? Она покоряет сердца, перед ней благоговеют, а я — только мишень для лицемерной лести и наглости. Бэрлей прав: презрение более подобает мне, чем месть. Если он виновен, я раздавлю его как червяка. Я буду судить строго и так, чтобы все видели, что он оскорбил королеву, а не женщину… А если Бэрлей ошибался?.. О, тогда я вознагражу его за то, что он избавил мое сердце от унижения, вознагражу за верность, даже если он потребует моей руки и сердца. Если я теперь протяну Лейстеру руку, то это будет уже не слабость с моей стороны, а сила воли, решение, основанное на испытании и оценке его личности».
Королева Елизавета танцевала на придворном балу, когда явились с известием, что королева Шотландии разрешилась от бремени сыном. Бэрлей шепотом сообщил ей об этом, королева оставила своего кавалера, опустилась в кресло и мрачно прошептала:
— Королева Шотландии родила сына! А я?..
Ничто не могло так обострить ненависть королевы к сопернице, как материнское счастье Марии. На английский престол не было прямого наследника, неужели же ее смерти будет ждать сын женщины, которая, будучи женой дофина Франции, уже целилась на титул королевы английской?! Неужели Мария, ненавидимая и презираемая ею, станет лучшей матерью для своих подданных, чем она? Гордой Елизавете было тяжелее всего признаться самой себе, что она пропустила самое важное и что ее опередила женщина, которая сочеталась браком не ради забот о престолонаследии, а исключительно ради своего удовольствия. А если она теперь изберет себе супруга, кто поручится, что Бог наградит ее потомством? В этом, казалось, сомневался весь мир, так как шотландец Патрик Адамсон обнародовал уже письмо, в котором доказывалось право на престол шотландского наследного принца, и даже ее собственный парламент обсуждал вопрос о престолонаследии под предлогом избежания возможных в будущем смут. Она воспретила эти обсуждения, и палата лордов подчинилась, но нижняя палата упорствовала. Елизавета выступила с угрозами против не повинующихся королевскому приказанию, и нижняя палата уступила, но в то же время объявила протест против незаконного посягательства на свободу прений.
Мария Стюарт пригласила ее на крестины своего сына, которые долгое время откладывались. Елизавета умела скрывать свое раздражение, но все же ее ответ не был лишен резкости.
«Так как мы, — написала она английскому послу, — несмотря на наше желание, не может приехать в Эдинбург и так как в зимнее время неудобно посылать туда одну из дам Англии, то пусть заменит нас на крестинах графиня Эрджил. Граф Бедфорд, с осторожностью к религиозным чувствам, передаст золотую купель, которую мы при сем посылаем. Вы можете в шутку сказать, что купель сделана специально, когда мы узнали о рождении принца. Теперь, когда он успел подрасти, купель окажется слишком мала для него, поэтому удобнее было бы оставить ее для крещения следующего ребенка, предполагая, конечно, что он будет крещен ранее, чем успеет вырасти…
Что касается ее последнего предложения, переданного через Мелвила, чтобы мы разузнали через людей, оставшихся еще в живых, каким образом и при каких обстоятельствах составлялось духовное завещание нашего отца, короля Генриха VIII, то вы можете ответить на ее вопрос: для ее удовлетворения и ради нашей собственной совести будут предприняты все возможные и допустимые расследования.
С другой стороны, склоните королеву к утверждению эдинбургского договора, откладывавшегося все время из-за нескольких слов, показавшихся Марии нарушающими ее права и требования. Наше намерение — утвердить в том договоре лишь то, что непосредственно касается нас и наших детей, причем мы исключаем из договора все, что могло бы противоречить ее претензиям как ближайшей наследницы после нас и наших детей. Мы можем заключить новый договор, которым утверждалось бы наше обещание никогда не делать и не допускать ничего такого, что нарушало бы ее права, мало того, мы обещаем пресекать каждого, посягающего на них. Вы должны убедить Марию, что это является единственным средством избежать между нами подозрений и недоразумений и что это — единственный путь к упрочению дружественных отношений».
Эти замечательные указания, данные английскому посланнику, свидетельствуют о том, насколько Елизавета умела делать дешевые предложения там, где была уверена, что встретит отказ, и тем выставляла всегда Марию как зачинщицу раздоров.
В таком настроении была королева Елизавета, когда Бэрлей доложил ей, что англичане, между ними и лорд Сэррей, вербуют приверженцев католической партии в Шотландии. Момент был самый благоприятный, чтобы Елизавета могла излить свое раздражение в гневе на виновных. Но лорд Сэррей был другом и соратником Дэдлея, а Бэрлей упомянул, что Сэррея даже видели в графстве Лейстера. Странно было, что граф не делал никаких попыток для защиты своего друга, хотя, видимо, знал, что тот находился под обвинением.
— А вдруг Лейстер — тайный приверженец Марии Стюарт и одобряет вербовку ее сторонников?
Елизавета высказала это подозрение Бэрлею.
— Ваше величество, — ответил он, — граф Лейстер так часто уезжает из Лондона и так тщательно скрывает цель своих поездок, что ваше подозрение, быть может, и основательно.
— Милорд, — разволновалась Елизавета, — кому обязан граф Лейстер своим положением, как не исключительно моей милости? Что сделал он, чем отличился, чтобы попасть в то положение, какое он занимает? Одним тем — я не стыжусь признаться в этом, — что благоговел передо мной, и тем, что его чувство имело больше видов на успех, чем чье бы то ни было другое. Но, клянусь Богом, забыла бы, что я — королева, и стала бы мстить, как оскорбленная женщина, если бы узнала, что он лицемерит, что он шутит со мной, королевой Англии, как будто я — такая же кокетка, как Мария Шотландская. Неужели он решился обмануть меня? Голова изменника будет на плахе, если он окажется виновным. Позовите лорда Лейстера! Я желаю говорить с ним.
— Ваше величество, он уже несколько дней в Лейстершире, и я благодарю Бога, что вы не увидите его в таком возбужденном состоянии. Если он действительно виновен в обмане, то никто не должен подозревать, что вы обмануты им. Ни один мужчина в мире не достоин, чтобы ради него вы уподобились обыкновенной женщине; чем равнодушнее ваше презрение, тем величественнее будет ваша месть.
— Лорд Бэрлей, вы и не подозреваете, что происходит во мне. Лейстер знает, что я любила его и ради него готова была забыть свой долг королевы. Он добровольно сознался мне, что не любит Марию. Она, при всей своей красоте, оскорбляет чувство нравственности, достоинство женщины и королевы. Мне стыдно назвать ее своей соперницей. В тот час, когда Лейстер сказал мне, что Мария — ничто для него, он стал близок моему сердцу. И неужели же все это — игра? Неужели мой вассал отдал ей свое сердце, а я чуть было не доверилась жалкому лицемеру?
— Ваше величество, как бы вы ни были оскорблены, как бы ни был справедлив ваш гнев, но все же ваша ненависть выдаст оскорбленную любовь. Смертный приговор над Лейстером заставил бы торжествовать Марию и поведал бы всему миру, что вы отомстили за свое оскорбленное тщеславие! Осудите графа Лейстера на изгнание, если он виновен, но не мстите ему.
— Изгнать его? — прошептала Елизавета, подавляя слезы злобы и глубоко оскорбленного чувства. — Изгнать для того, чтобы он пошел к Марии и рассказал ей, как он обманул тщеславную Елизавету? Нет, нет, я не хочу верить, пока его измена не будет доказана мне. Пошлите тотчас гонцов, чтобы разыскали Лейстера. Горе тому, кто даст ему возможность бежать! Если же он окажет сопротивление, то заковать его и запереть в тюрьму!…
— Еще нет никаких доказательств. Не обнаруживайте подозрения, пока не получите права судить его! — возразил Бэрлей, пораженный страстностью королевы, которой он не ожидал.
— Вы сомневаетесь? — спросила Елизавета, мрачно глядя на него. — Вы, кажется, изволите шутить со мной? Но кто же обвинил Лейстера, как не вы? Кто навел меня на эти ужасные подозрения? Быть может, вы захотели разведать о том, что значит для меня Дэдлей? Клянусь кровью моего отца, вы раскаетесь в этой игре!
— Ваше величество, — твердо ответил Бэрлей, спокойно глядя ей в глаза, — я не боюсь гнева королевы, если он падает на ее верного слугу, потому что тогда судит королева, а не оскорбленная женщина. Я сам поддерживал лорда Лейстера, когда он влюбился в вас, но вы отвергли его — и я не мог подозревать, что это сопровождалось вашей внутренней борьбой. И странные отлучки лорда обязывали меня в связи с известиями из Лейстершира высказать подозрение, которое теперь кажется мне чрезвычайно оскорбительным.
— Разрешите мне расследовать, ошибался ли я, и я буду счастлив сказать вам, что слишком переусердствовал в своем желании служить вам.
— Сделайте это, Бэрлей!… Нет, сначала я должна сама видеть Лейстера и прочесть в его глазах вину или невиновность. Не говорите никому о подозрениях, его могут предупредить, а я хочу видеть, покраснеет ли он, когда я брошу ему в лицо обвинение в измене.
Бэрлей поклонился, а Елизавета, перейдя к государственным делам, стала разбирать их с таким спокойствием, которое ввело бы в заблуждение каждого, но не Бэрлея. Тот лишь, кто знал ее, мог понять, какая железная воля, какое самообладание требовалось с ее стороны, чтобы подавить бушующие чувства.
Однако, когда Бэрлей вышел от королевы, перо выпало у нее из руки, она сидела совершенно обессилевшая. Теперь, когда она осталась одна, сдерживаемая буря забушевала с новой силой, так как ей не перед кем было скрывать слезы и волнение. Она вся, казалось, была охвачена пламенем, ее глаза горели, грудь тяжело вздымалась, и губы судорожно подергивались.
Какое унизительное, возмущающее ее гордость чувство! Елизавета думала, что победила женскую слабость, а на поверку оказалось, что она ревновала и боялась быть обманутой, как простая девчонка, которой забавляются. Нет, эта мысль была слишком ужасна, чтобы можно было допустить ее!
В чем же заключались чары этой Стюарт? Елизавета порывисто выдвинула ящик, где лежало миниатюрное изображение Марии Стюарт, и горькая улыбка проскользнула по ее лицу.
«Да, она так хороша, но это — красота куртизанки, а не королевы, — сравнивала она. — Мои золотистые волосы красивее, чем ее, бесцветные, у меня большие глаза, а лицо выражает ум и величие, у Марии же какая-то кокетливая улыбка на устах. Какая безвкусица — эти католические побрякушки, крест и папские четки. Моя прикрытая грудь чиста и непорочна, а у нее — вздымается для каждого, кто останавливает на ней взгляд. И что же? Она покоряет сердца, перед ней благоговеют, а я — только мишень для лицемерной лести и наглости. Бэрлей прав: презрение более подобает мне, чем месть. Если он виновен, я раздавлю его как червяка. Я буду судить строго и так, чтобы все видели, что он оскорбил королеву, а не женщину… А если Бэрлей ошибался?.. О, тогда я вознагражу его за то, что он избавил мое сердце от унижения, вознагражу за верность, даже если он потребует моей руки и сердца. Если я теперь протяну Лейстеру руку, то это будет уже не слабость с моей стороны, а сила воли, решение, основанное на испытании и оценке его личности».
II
Когда на следующее утро Бэрлей доложил Елизавете, что граф Лейстер возвратился, она велела пригласить его в кабинет, причем, по странной прихоти, избрала себе костюм того же покроя, какой был у Стюарт на миниатюре.
Граф Лейстер вошел и остановился у дверей пораженный и ослепленный. Королева Елизавета часто увлекала его и являлась предметом его тщеславных желаний, но в этом наряде она казалась женщиной, благоухающей, прекрасной, полной жизни и желанья.
— Что вы так смотрите на меня, милорд? — спросила королева. — Вы хотите придумать какую-нибудь льстивую фразу, чтобы замаскировать ваше странное поведение? Я должна разыскивать вас, вы злоупотребляете моей благосклонностью, открывшей вам доступ в мой дворец. Мне кажется, что только необходимость заставляет вас бывать в Лондоне, быть может, вам было бы приятнее в Голируде?
— Ваше величество, если бы я мог знать, что мое отсутствие в Лондоне будет замечено вами, что меня желает видеть не королева, а Елизавета, тогда моя тоска сменилась бы надеждой, что вы произнесете слово, которое навеки приковало бы меня к вам неразрывными узами. Как вы хороши!…
— Ваша речь дерзка и привела бы вас на эшафот, если бы я усомнилась в том, что ваши слова относятся только к женщине. Я пригласила вас сюда, чтобы задать вам серьезный вопрос. Я никогда не забываю тех, кто выказал мне свою преданность в то время, когда я подвергалась преследованию. Среди них — лорд Сэррей. Вы подружились с ним?
— Да.
— Я возвратила ему владения его родственников, у меня было намерение благодеянием примирить тех, которые подверглись строгой каре моего отца. Благодарен ли мне этот лорд Сэррей за такую милость? Мы должны это знать, так как он — ваш друг и приводил вас ко двору в Голируде. — При этих словах Елизавета пристально посмотрела в глаза Лейстера, как бы желая пронзить его насквозь.
В глубине души он благодарил Кингтона, предупредившего его.
— Ваше величество, — ответил Лейстер, — с того момента, как я увидел вас и ваша улыбка очаровала меня, я стал рабом ваших желаний. Сэррей будет моим другом, если вы того потребуете, но может и не быть им, если не захотите. Для того, кто предложил вам свою жизнь и кто по вашему желанию подвергся насмешкам в Голируде, нет никакой слишком большой жертвы, он готов на все, лишь бы заслужить ваше благорасположение.
— Лорд Сэррей подвергся подозрению в том, что оказывает шотландской королеве услуги, враждебные интересам Англии. Я ждала, чтобы вы оправдали его, прежде чем я приму меры.
— Я не могу защитить его.
— Не можете потому, что несете часть его вины: ведь вы укрываете его.
Лейстер потупился, а Елизавета приняла его молчание за признание вины. Ее кулаки сжались, и, казалось, она еле сдержалась, чтобы не ударить его по лицу.
— Так значит, вы — лицемер и изменник! Не осмеливайтесь даже взглянуть на меня! Клянусь Богом, если вы даже будете валяться у моих ног, вам не вымолить помилования. Говорите, презренный! У вас ловкий язык. Ну, что же? Или ждете, чтобы щипцами вам открыли рот?..
— Ваше величество, — возразил Лейстер с горькой, почти соболезнующей улыбкой, — подобное недоверие ко мне оскорбительно прежде всего для вас.
— Что?! Разве вы не сказали, что не можете защитить Сэррея?
— Да, ваше величество, говорил, потому что обвинитель не может защищать обвиняемого. Ведь вам, вероятно, известно, что жалоба на лорда Сэррея послана из Лейстерского графства. Я не мог лично выступить против него ввиду того, что он был когда-то моим другом. Но я отдал приказ, чтобы за ним тщательно следили, и просил, чтобы вам, ваше величество, дали подписать декрет о том, чтобы Сэррея арестовали, если он осмелится снова показаться в моих владениях.
Королева опешила — этот неожиданный оборот дела заставил ее сердце затрепетать от радости.
— Можете вы доказать мне это, Дэдлей? — прошептала она растроганным голосом и бросила на Лейстера нежный взгляд, как бы извиняясь за высказанное подозрение.
— Лорд Бэрлей может удостоверить мои слова, — ответил Лейстер. — Я приказал своему шталмейстеру следить за лордом Сэрреем, а тот обратился к лейсгерскому судье с просьбой арестовать лорда в случае его появления в моем графстве; судья же, в свою очередь, просил полномочия на этот счет у лорда Бэрлея. Я ограничился этим только потому, что считал попытки Сэррея совершенно бесплодными. В моем графстве имеются лишь верноподданные вашего величества, преданные слуги королевы Елизаветы.
Всю эту тираду Дэдлей произнес с видом оскорбленного достоинства. Казалось, что он не заметил нежный, одобряющий взгляд королевы. Елизавета почувствовала, что обязана дать ему удовлетворение, и от большой радости, что ее мрачные предположения оказались несправедливыми, ей хотелось, чтобы требования Дэдлея были очень смелы. Она ласково охватила рукой его шею и, любовно проведя рукой по его волосам, прошептала:
— Простите меня, Дэдлей! Я чувствую, что была глубоко несправедлива к вам.
— Мне нечего прощать вам, ваше величество, — сдержанно ответил Лейстер, — вы не виноваты, если у вас нет достаточной веры ко мне. Разве ваша вина, что ваше сердце не может любить, что соткано из одних сомнений? Если бы в вашем сердце была хоть искра той пламенной страсти, которая пожирает меня, вы никогда-никогда не усомнились бы в моем чувстве к вам. Но вы холодны как камень.
— Это неправда, Дэдлей! — горячо возразила королева.
— Мое сердце бьется для вас.
— Неужели для меня? — страстно прошептал Лейстер и, как бы желая убедиться в этом, прижал свою щеку к груди Елизаветы и прикоснулся горячими губами к легкой ткани ее платья.
Елизавета вспыхнула, хотела оттолкнуть его, но остановилась, как бы не в силах освободиться из его объятий. Блаженство и счастье засверкали в ее глазах.
В соседней комнате послышались голоса.
— Мы забылись, Дэдлей! — проговорила королева, ласково отстраняя от себя возлюбленного.
Лейстер опустился на колено и пламенно поцеловал протянутую ему руку.
Вошедший паж доложил о приходе лорда Бэрлея.
— Вы пришли как нельзя более кстати! — приняла его Елизавета. — Где наш указ об изменнике Сэррее? Я хочу подписать его.
— Ваше величество, лорд Сэррей теперь в Лондоне и просит у вас аудиенции, чтобы передать вам частное письмо от королевы шотландской! — спокойно проговорил Бэрлей.
Громовой удар при ясном небе не мог произвести большее впечатление своей неожиданностью. Королева с удивлением глянула на Лейстера и была поражена, увидев, что он бледнеет, подобно застигнутому врасплох преступнику.
— Что это означает, милорд? — строго спросила она Дэдлея, гневно сдвинув брови. — Вы сказали мне, что Сэррей убежал! Скажите, милорд Бэрлей, когда граф Сэррей приехал в Лондон?
— Только что, ваше величество, его лошадь почти свалилась под ним от усталости. Он был в моем доме, показал мне письмо королевы шотландской и просил ходатайствовать перед вами о том, чтобы вы лично приняли его. Он уверяет, что его оклеветали, и желает или оправдаться перед вами, или понести должное наказание, если вы, выслушав его, найдете, что он виновен. Он намекнул мне, что боится постороннего сильного влияния, но убежден, что в состоянии будет оправдаться перед вами и вместо обвиняемого сделаться обвинителем, если вы пожелаете выслушать его и не откажете ему в правосудии.
— Обвинителем Сэррея являетесь вы, милорд Лейстер? — спросила Елизавета, и ее лицо запылало от гнева. — Скажите, как вы думаете, следует принять его или нет?
Лейстер понял, что его крайне опасное положение может спасти только отчаянная смелость.
— Я не боюсь, ваше величество, обвинения того человека, который стал моим врагом только потому, что я оказался слишком преданным слугой королевы английской, — с горькой улыбкой ответил он. — Если вам будет угодно позволить бунтовщику дерзко обвинить вашего верноподданного, то мне придется увидеть в этом доказательство того, что вы все еще сомневаетесь в моей преданности. Что же делать? Постараюсь отстоять свою жалобу, насколько это будет возможно.
— Я приму лорда Сэррея в вашем присутствии! — после некоторого раздумья обратилась Елизавета к Лейстеру, недоверчиво смотря на него. — Мне интересно, как он будет оправдываться. И если он окажется клеветником по отношению к вам, то даю вам право самому придумать для него наказание.

Глава двадцать третья
КРИЗИС

I
 В королевском дворце открыли двери большого тронного зала. У ворот разместилась королевская гвардия, а у входа стоял лорд-маршал с большим жезлом в руках. Елизавета хотела принять в присутствии всех министров посланника королевы шотландской. Весь двор был в полном сборе, когда королева вошла в зал и заняла свое место на троне, по правую руку ее стал граф Лейстер, а сзади него поместился какой-то господин, которого раньше ни разу не видели при дворе; граф Лейстер просил позволения привести его, на что получил милостивое разрешение.
Лорд Дэдлей казался спокойным, выражение его лица было веселое, хотя бледность бросалась в глаза. Многие его враги надеялись, что наступил конец могуществу любимца королевы.
Накануне Лейстер вернулся из дворца королевы с намерением сейчас же оседлать лошадь и бежать из Англии. Он рассказал обо всем происшедшем своему верному слуге, ожидая, что тот будет совершенно сражен ужасным известием, но, к его величайшему изумлению, Кингтон только засмеялся:
— Милорд, ваш побег испортит все дело, так как королева, вероятно, приказала следить за вами и вас схватят раньше, чем вы успеете добраться до ворот замка. Подождите обвинения лорда Сэррея и отнеситесь к нему как можно спокойнее. У лорда Сэррея нет никакого доказательства вашей вины, он надеется запугать вас, но сам задрожит, когда увидит, что вы скорее убьете вашу супругу, чем рискнете собственной головой. Напомните ему о слове, которое он вам дал, а еще лучше отрицайте все и предоставьте мне право отвечать за вас.
— Вы не знаете королевы, Кингтон, — возразил Дэдлей, — она благодаря своей подозрительности чрезвычайно наблюдательна и от нее не скроешь лжи. Мне кажется, что лучше сказать ей правду. Она сначала рассвирепеет, но, когда гнев остынет, она успокоится и поймет, что, мстя мне за мою вину, она прежде всего скомпрометирует себя.
— Королева передаст ваше дело в палату пэров, где вас будут судить как соблазнителя женщины, — заметил Кингтон. — Вы оскорбили королеву, добиваясь ее руки, уже будучи женатым. Такой обман по отношению к ее величеству сочтут большим преступлением и вас могут присудить даже к смертной казни. Не забудьте, что главным вашим обвинителем и вместе с тем судьей является оскорбленная женщина.
— К тому же беспощадная в своей ревности! — прибавил Дэдлей. — Да, я поступил как безумный! Все же я предпочитаю вытерпеть какое угодно наказание, чем продолжать существовать в постоянном страхе.
Кингтон не переставал горячо убеждать своего господина в том, что надежда еще не потеряна, и Дэдлей наконец согласился с его доводами. У него явилась даже надежда, что он может выйти победителем из этого критического положения.
В зал вошел лорд Сэррей. Он был в скромном костюме и высоких сапогах из оленьей кожи, придававших ему вид воина, отправляющегося на войну. Может быть, он думал, что являться к королеве в качестве обвиненного лица в парадном платье неуместно. И этот костюм Сэррея произвел очень неприятное впечатление на королеву, которая, подобно многим женщинам, обращала большое внимание на внешность. Она не требовала от Сэррея дорогого одеяния, но то обстоятельство, что он не потрудился надеть придворный костюм, заставило Елизавету обвинить Сэррея в недостатке уважения к ней. К невыгодному впечатлению, произведенному внешностью Сэррея, примешивалось еще и чувство неприязни к нему за то, что он, несмотря на все благодеяния, оказанные ему английской королевой, был на стороне Марии Стюарт.
— Милорд Бэрлей, возьмите, пожалуйста, от лорда Сэррея письмо от нашей сестры, — проговорила Елизавета, затыкая платком нос, — а вы, милорд Сэррей, держитесь подальше от меня. Я даже отсюда чувствую убийственный запах ваших сапог.
— Я проскакал из лагеря сотни миль, ваше величество, чтобы просить вас о правосудии, и потому позволил себе явиться к вам не в туфлях и шелковом камзоле, — холодно ответил Сэррей, приняв слова королевы за желание выказать ему немилость.
— Вы хорошо делаете, милорд, что напоминаете нам о правосудии по отношению к вам, — проговорила Елизавета.
— Вы сказали, что возвращаетесь из лагеря! Где же это было? Я не слыхала, чтобы вы сражались под моими знаменами?
— В Шотландии появились мятежники, ваше величество, которые осмелились злоупотреблять именем вашего величества и распространили ложный слух, будто английская королева благосклонно смотрит и даже поощряет восстание против Марии Стюарт! — ответил Сэррей. — В то же время английский посланник уверяет шотландскую королеву в непоколебимой дружбе вашего величества к ней. Поэтому я больше полагался на слова лорда Рандольфа, чем на слухи мятежников, и выступил против них.
— Вероятно, лорд Рандольф и посоветовал вам сеять возмущение среди моих подданных католиков для блага шотландской королевы? — насмешливо спросила Елизавета.
— И вы с этой целью приехали в графство Лейстер? Что же, много вам удалось навербовать сторонников Марии Стюарт?
— Тот, кто сообщил вам эту небылицу, ваше величество, или сам лжет, или был кем-нибудь жестоко обманут! — негодующим тоном возразил Сэррей.
Милорд Бэрлей, что вы можете сказать по этому поводу? — спросила Елизавета.
— Я могу возразить на резкие слова лорда Сэррея, ваше величество, лишь то, что бумага, переданная мною вам, была удостоверена лейстерским судом. Если тут существует какая-нибудь ошибка, то лорду Сэррею нетрудно будет доказать свою невиновность.
— Милорд, — сказал Сэррей, — я очень благодарен вам за то, что вы дали мне возможность быть принятым королевой и услышать от ее величества, в каком страшном преступлении обвиняют меня. Я думаю, что судья, подписавший этот донос, был обманут каким-нибудь лжецом. Если бы мне пришлось вербовать наемников для защиты шотландской королевы, то мне незачем было ехать во владения графа Лейстера, гораздо проще было бы искать таких людей в собственном графстве! Конечно, я решился бы на это лишь при том условии, если бы вы, ваше величество, ничего не имели против того, чтобы таким способом увеличилось войско шотландской королевы.
— Что же привело вас тогда во владения графа Лейстера? — спросилаЕлизавета. — Очень странно, что обманутым оказался не только судья, но и сам граф Лейстер, ваш старый товарищ по оружию. Милорд Лейстер, — обратилась она к Дэдлею, — на каком основании вы поддерживаете обвинения против лорда Сэррея? Вы слышите, что говорит ваш бывший друг? Он утверждает, что судья был обманут каким-нибудь лжецом.
— Я с удивлением и грустью смотрю на то, что здесь происходит, ваше величество, — ответил Лейстер. — Еще вчера, когда лорд Бэрлей передал вам просьбу лорда Сэррея, я был поражен и глубоко огорчен, что лорд Сэррей выбрал себе посредником не меня, а лорда Бэрлея, и подумал — может быть, и я был кем-то обманут. Уже давно лорд Сэррей не принадлежит к числу моих друзей. При тех отношениях, которые существовали между нами в последнее время, для меня был непонятен приезд лорда Сэррея в мои владения, так как мне не приходило в голову, что он может нарушить свое слово или считать меня способным на измену. Я спросил о цели приезда лорда Сэррея у человека, который является моим заместителем в Лейстере, а именно, у сэра Кингтона, и услышал от него то, что имел уже честь доложить вам; я пригласил сюда сэра Кингтона, чтобы он лично мог подтвердить свои слова и засвидетельствовать, что я всегда рекомендовал ему крайнюю осторожность по отношению к лорду Сэррею.
— Подойдите поближе, сэр Кингтон, — позвала Елизавета, — и скажите всю правду, без утайки. Помните, что дело идет о вашей жизни. Правда, что вы подали жалобу на лорда Сэррея? И если это — правда, то объясните, что побудило вас на этот поступок? Не скрывайте ничего! Может быть, вам известно, что лорд Лейстер тайно поддерживал лорда Сэррея? Хотя я не допускаю этой мысли, но случаются и невероятные вещи.
— Ваше величество, — ответил Кингтон, опускаясь на колено перед королевой, — если кто-нибудь был обманут в этой истории, то прежде всего и больше всех лорд Лейстер. Сознаюсь, что я сам заблуждался и ввел в заблуждение своего господина. Граф Сэррей дал слово лорду Лейстеру, что при соблюдении известных условий со стороны моего господина он никогда не покажется в пределах графства Лейстер. Зная, что обещания, данные моим господином, ничем не были нарушены, и не допуская мысли, что граф Сэррей может изменить своему слову, я объяснил себе приезд графа только тем, что он явился в Лейстер с целью склонить наших католиков в пользу королевы Шотландской. Лорд Сэррей отрицает, что он приехал во владения лорда Лейстера с какой-нибудь политической целью, пусть он тогда объяснит свое присутствие в Лейстере, объяснит, почему он нарушил данное им слово, хотя лорд Лейстер его условия выполнил.
— Господи, что за загадки вы нам задаете! — нетерпеливо воскликнула Елизавета. — Какие-то тайны, какие-то обещания! В чем дело? Милорд Сэррей, я приказываю вам объясниться.
Напоминание о данном слове и намек Кингтона, что Лейстер ни в чем не изменил своим обещаниям, не могли не оказать известного влияния на честного, прямого Сэррея.
— Ваше величество, — проговорил он, — та тайна, о которой здесь идет речь, совершенно частного характера и касается лишь лорда Лейстера и меня. Я обязался хранить данное ему слово при известных условиях с его стороны, но у меня есть основания думать, что он нарушил эти условия. Мой верный слуга и друг, приехавший в Лейстер для того, чтобы убедиться, сдержал ли лорд Лейстер свои обещания, бесследно исчез, я тоже встретил препятствия при первом моем желании попасть к лорду Лейстеру. Теперь я узнаю, что на меня сделали донос, в котором меня обвиняют в государственной измене, и что это сделано с целью удалить меня из пределов Англии. Все вместе взятое служит ясным доказательством, что меня боятся и имеют, очевидно, серьезные причины для этого. Я приехал сюда, ваше величество, просить, даже умолять вас о защите.
— Клянусь всем святым, что здесь происходит нечто неслыханное, — воскликнула королева, гордо выпрямляясь. — Два лорда ссорятся между собой из-за какой-то тайны. Один из них умоляет о защите, другой пишет ложные доносы для того, чтобы отправить своего врага как можно дальше. Говорят о каких-то пропавших людях, точно я и мои министры не в состоянии защитить моих подданных и открыть всякое преступление! Я хочу уяснить себе, в чем дело.
— Ваше величество, — проговорил наконец Лейстер, — я не ссорился с лордом Сэрреем. Вы только что слышали сами, что он не поверил моему обещанию и вследствие этого решился на такой поступок, который легко мог ввести меня в заблуждение. Я считаю ниже своего достоинства оправдываться перед лордом Сэрреем и предпочитаю молчать.
— В таком случае, я заставлю вас говорить, милорд! — воскликнула разгневанная королева. — Вы должны сказать мне, в чем дело. Только изменник может колебаться в том, открыть ли тайну своей королеве, которая удостаивала его полным доверием. Повинуйтесь, милорд, во избежание моего неудовольствия.
Лейстер продолжал молчать.
Недоверие королевы еще больше увеличилось при виде этого непослушания. Не помня себя от гнева, она позвала начальника конвоя и громко приказала арестовать Лейстера.
— Милорд Боуэн, обезоружьте и арестуйте графа Лейстера! — приказала она. — Вы отвечаете мне за него своей головой.
Лейстер отстегнул свою шпагу и передал ее Боуэну, причем так взглянул на Сэррея, точно хотел сказать ему: «Вот видишь, по твоей милости я отправляюсь на эшафот!»
Сэррей не ожидал такого оборота дела. Ведь у него, собственно, не было явных доказательств, что Лейстер не сдержал данного ему обещания! Заточение Вальтера Брая и хитрый обман по отношению к Ламберту могли быть делом рук Кингтона, который останется на свободе и может причинить еще худшее зло.
— Милорд Сэррей, — гневно сказала королева, — охранная грамота шотландской королевы заставляет меня щадить вас, но вы обязуетесь представить мне доказательства своего обвинения. Передайте их лорду Бэрлею и будьте уверены, что преступление не останется без строгого наказания. Но, если ваши слова окажутся клеветой, тогда не ждите пощады.
— Ваше величество, для этого мне необходима ваша помощь, — возразил лорд Сэррей. — Отдайте, ваше величество, строгий приказ, чтобы всякое сообщение между лордом Дэдлеем, его приближенными людьми и жителями графства Лейстер было прекращено. И прошу вас распорядиться, чтобы для меня открылись все темницы и замки владений лорда Лейстера. И тогда ручаюсь вам, что через очень непродолжительный срок я вернусь сюда с явными уликами в руках. Если же окажется, что я ошибся, то разорву охранную грамоту шотландской королевы и покорно понесу то наказание, которое вам угодно будет наложить на меня.
— Ваше желание поразительно странно, — насмешливо заметила Елизавета. — Вы хотите, чтобы я дала вам полномочия распоряжаться в Лейстере, да разве вы забыли, что являетесь обвиняемым? Вы не хотите даже сказать, в чем состоит то преступление, которое заставляет вас просить у меня защиты, а к себе требуете полного доверия! И все же ввиду того, что ни мои просьбы, ни мое приказание не могут вызвать откровенность лорда Лейстера, я склоняюсь исполнить ваше желание. Скажите только, что вы собираетесь делать во владениях графа Лейстера?
— Я хочу осмотреть тюрьмы, ваше величество, — ответил Сэррей, — и поискать, нет ли среди заключенных моего друга, сэра Вальтера Брая; кроме того, мне хочется доставить сюда свидетеля из Кэнморского замка, который мог бы кое-что рассказать по этому делу.
— Вы ищете сэра Брая? — воскликнула королева. — Это не тот ли Брай, которого хотела здесь отравить его жена? Он ведь отправился затем в Шотландию искать своего ребенка.
— Да, ваше величество, это тот самый Брай! — подтвердил Сэррей.
— Что же, он нашел его? — спросила Елизавета.
— Да, ваше величество! Вальтер Брай узнал, что его дочь находится при дворе шотландской королевы, но прежде, чем он успел повидаться с нею, молодую девушку похитили.
— Ах, у него, значит, была дочь?! Хорошенькая? — ревниво проговорила королева. — Скажите, это не она ли повсюду сопровождала вас и графа Лейстера в костюме пажа?
Вместо ответа Сэррей поклонился.
— Постойте, значит, эта особа знакома графу Лейстеру? — засмеялась Елизавета, и ее глаза гневно сверкнули. — Не произошло ли похищение девушки в то время, когда лорд Дэдлей был в Шотландии?
— Да, в это время, ваше величество! — ответил Сэррей.
— В таком случае я угадываю, что нарушило вашу дружбу, — прошептала королева. И громко добавила: — Мне писали из Шотландии об одной сирене, которая ослепила лорда Лейстера своей красотой и затем внезапно исчезла. А теперь я понимаю, что означают все эти тайны! Да, я прикажу обыскать все тюрьмы и замки в Лейстере.
Видя, что граф Лейстер побледнел, Елизавета взъярилась от безумной ревности.
Боясь, чтобы королева не совершила какого-либо вызывающего поступка, Бэрлей поспешил подойти к ней.
— Не выказывайте так явно своей ревности, ваше величество! — прошептал он. — Не подавайте повода к насмешкам! Вспомните, что вы — великая королева Англии, дочь Генриха Восьмого! Победите чувство негодования, соберитесь с силами!
— Нет, это уж слишком! — задыхаясь от злобы, возразила королева. — На лице Дэдлея лежит печать позора, подлой измены! А я еще хотела отдать ему свою руку, он клялся, что любит меня одну на всем свете! Такого наглого обмана не перенесла бы ни одна женщина, даже самого низшего сословия. Неужели я могу допустить, чтобы этот негодяй хвастал, что насмеялся над королевой, как над какой-нибудь…
— Вы очень взволнованы, ваше величество, — прервал ее шепотом Бэрлей, — и потому не можете в эту минуту спокойно вникнуть в дело. — Я не верю, чтобы лорд Лейстер решился на такую измену, это было бы уж слишком смело! Выслушайте лорда Лейстера, но не в присутствии всего двора. Может быть, он и в состоянии будет оправдаться перед вами. Если же у него не будет возможности сделать это, то осудите его, как справедливая королева. Посмотрите на того хитрого мошенника Кингтона, вы видите, что он нашептывает что-то лорду Лейстеру. Мне кажется, что граф — скорее увлекающийся человек, чем сознательный обманщик.
Бэрлей был очень тонким дипломатом и решил, что какой бы оборот ни приняло дело для него во всяком случае будет выгодно сыграть роль посредника между королевой и любимым ею человеком.
— Королева все простит вам, — шептал Кингтон, — если вы ей скажете, что увезли Филли для того, чтобы отомстить лорду Сэррею и сэру Браю, и выдали замуж увезенную девушку за своего слугу.
Лейстер взглянул на королеву, которая продолжала разговаривать с Бэрлеем, и выражение ее лица было так грозно, что Лейстер потерял надежду на то, что она когда-либо простит ему.
Он уже решил было сознаться королеве в своем преступлении и не отягощать своей совести новой ложью, но его размышления были прерваны словами королевы, которая наконец решила высказать свое заключение по этому делу.
— Милорд Сэррей, — громко заговорила Елизавета, и гробовая тишина воцарилась в зале, — мы обсудили вашу просьбу, но прежде чем ответить на нее, желаем дать возможность лорду Лейстеру оправдаться, если он в состоянии будет сделать это. Затем, смотря по обстоятельствам, или сами произведем следствие, или поручим его вам. Так как это дело чрезвычайно щекотливое для лорда Лейстера, то я нахожу справедливым выслушать его без свидетелей, а потому прошу весь двор и вас, милорд Сэррей, на время удалиться из зала.
Все двери открылись, и придворные поспешили к выходу, лишь один Сэррей не двигался с места. Он предчувствовал, что ловкому Лейстеру нетрудно будет обойти влюбленную Елизавету, которая уже наполовину успокоилась.
Нарушив внезапно придворный этикет, Сэррей быстро подошел к трону и, взяв конец платья Елизаветы, взмолился:
— Ваше величество, умоляю вас, не слушайте лорда Лейстера до тех пор, пока я не представлю вам доказательства его вины! Не давайте ему возможности сейчас же принять меры для того, чтобы скрыть следы преступления. Будьте справедливой королевой, не делающей никакой разницы между своими подданными, когда дело идет о раскрытии чьей-нибудь вины.
— Господи, — недовольным тоном проговорила Елизавета, с отвращением вырывая платье, — да вы совершенно забываетесь, милорд Сэррей! Я молча переносила вашу несносную болтовню и отвратительный запах ваших сапог, для вас всего этого мало? Моя снисходительность привела к тому, что вы становитесь дерзки. Я приказала двору и вам удалиться. Исполняйте мой приказ, иначе лорд Боуэн принужден будет арестовать вас.
— Ваше величество, единственное, чего я боюсь, это чтобы вас не обманули лживыми словами, — упорствовал Сэррей. — Я отвечаю вам своей головой, что найду доказательства вины лорда Лейстера, в вашей власти будет казнить меня, если я не выполню своего обещания, но не лишайте же меня возможности представить вам эти доказательства.
— Вы — упрямый, своевольный человек, милорд Сэррей, — ответила королева. — Вы так ослеплены своей ненавистью, что не доверяете даже мудрости той, к которой сами же обратились за правосудием! Я просила вас удалиться и повторяю свою просьбу, одно могу сказать вам в утешение, что лорд Бэрлей поможет вам следить за тем, чтобы ни одно приказание, ни одно распоряжение лорда Лейстера не выходило за пределы этого замка.
Граф Лейстер потупился и сложил руки на груди. Казалось, что он решил молча покориться своей судьбе.
В королевском дворце открыли двери большого тронного зала. У ворот разместилась королевская гвардия, а у входа стоял лорд-маршал с большим жезлом в руках. Елизавета хотела принять в присутствии всех министров посланника королевы шотландской. Весь двор был в полном сборе, когда королева вошла в зал и заняла свое место на троне, по правую руку ее стал граф Лейстер, а сзади него поместился какой-то господин, которого раньше ни разу не видели при дворе; граф Лейстер просил позволения привести его, на что получил милостивое разрешение.
Лорд Дэдлей казался спокойным, выражение его лица было веселое, хотя бледность бросалась в глаза. Многие его враги надеялись, что наступил конец могуществу любимца королевы.
Накануне Лейстер вернулся из дворца королевы с намерением сейчас же оседлать лошадь и бежать из Англии. Он рассказал обо всем происшедшем своему верному слуге, ожидая, что тот будет совершенно сражен ужасным известием, но, к его величайшему изумлению, Кингтон только засмеялся:
— Милорд, ваш побег испортит все дело, так как королева, вероятно, приказала следить за вами и вас схватят раньше, чем вы успеете добраться до ворот замка. Подождите обвинения лорда Сэррея и отнеситесь к нему как можно спокойнее. У лорда Сэррея нет никакого доказательства вашей вины, он надеется запугать вас, но сам задрожит, когда увидит, что вы скорее убьете вашу супругу, чем рискнете собственной головой. Напомните ему о слове, которое он вам дал, а еще лучше отрицайте все и предоставьте мне право отвечать за вас.
— Вы не знаете королевы, Кингтон, — возразил Дэдлей, — она благодаря своей подозрительности чрезвычайно наблюдательна и от нее не скроешь лжи. Мне кажется, что лучше сказать ей правду. Она сначала рассвирепеет, но, когда гнев остынет, она успокоится и поймет, что, мстя мне за мою вину, она прежде всего скомпрометирует себя.
— Королева передаст ваше дело в палату пэров, где вас будут судить как соблазнителя женщины, — заметил Кингтон. — Вы оскорбили королеву, добиваясь ее руки, уже будучи женатым. Такой обман по отношению к ее величеству сочтут большим преступлением и вас могут присудить даже к смертной казни. Не забудьте, что главным вашим обвинителем и вместе с тем судьей является оскорбленная женщина.
— К тому же беспощадная в своей ревности! — прибавил Дэдлей. — Да, я поступил как безумный! Все же я предпочитаю вытерпеть какое угодно наказание, чем продолжать существовать в постоянном страхе.
Кингтон не переставал горячо убеждать своего господина в том, что надежда еще не потеряна, и Дэдлей наконец согласился с его доводами. У него явилась даже надежда, что он может выйти победителем из этого критического положения.
В зал вошел лорд Сэррей. Он был в скромном костюме и высоких сапогах из оленьей кожи, придававших ему вид воина, отправляющегося на войну. Может быть, он думал, что являться к королеве в качестве обвиненного лица в парадном платье неуместно. И этот костюм Сэррея произвел очень неприятное впечатление на королеву, которая, подобно многим женщинам, обращала большое внимание на внешность. Она не требовала от Сэррея дорогого одеяния, но то обстоятельство, что он не потрудился надеть придворный костюм, заставило Елизавету обвинить Сэррея в недостатке уважения к ней. К невыгодному впечатлению, произведенному внешностью Сэррея, примешивалось еще и чувство неприязни к нему за то, что он, несмотря на все благодеяния, оказанные ему английской королевой, был на стороне Марии Стюарт.
— Милорд Бэрлей, возьмите, пожалуйста, от лорда Сэррея письмо от нашей сестры, — проговорила Елизавета, затыкая платком нос, — а вы, милорд Сэррей, держитесь подальше от меня. Я даже отсюда чувствую убийственный запах ваших сапог.
— Я проскакал из лагеря сотни миль, ваше величество, чтобы просить вас о правосудии, и потому позволил себе явиться к вам не в туфлях и шелковом камзоле, — холодно ответил Сэррей, приняв слова королевы за желание выказать ему немилость.
— Вы хорошо делаете, милорд, что напоминаете нам о правосудии по отношению к вам, — проговорила Елизавета.
— Вы сказали, что возвращаетесь из лагеря! Где же это было? Я не слыхала, чтобы вы сражались под моими знаменами?
— В Шотландии появились мятежники, ваше величество, которые осмелились злоупотреблять именем вашего величества и распространили ложный слух, будто английская королева благосклонно смотрит и даже поощряет восстание против Марии Стюарт! — ответил Сэррей. — В то же время английский посланник уверяет шотландскую королеву в непоколебимой дружбе вашего величества к ней. Поэтому я больше полагался на слова лорда Рандольфа, чем на слухи мятежников, и выступил против них.
— Вероятно, лорд Рандольф и посоветовал вам сеять возмущение среди моих подданных католиков для блага шотландской королевы? — насмешливо спросила Елизавета.
— И вы с этой целью приехали в графство Лейстер? Что же, много вам удалось навербовать сторонников Марии Стюарт?
— Тот, кто сообщил вам эту небылицу, ваше величество, или сам лжет, или был кем-нибудь жестоко обманут! — негодующим тоном возразил Сэррей.
Милорд Бэрлей, что вы можете сказать по этому поводу? — спросила Елизавета.
— Я могу возразить на резкие слова лорда Сэррея, ваше величество, лишь то, что бумага, переданная мною вам, была удостоверена лейстерским судом. Если тут существует какая-нибудь ошибка, то лорду Сэррею нетрудно будет доказать свою невиновность.
— Милорд, — сказал Сэррей, — я очень благодарен вам за то, что вы дали мне возможность быть принятым королевой и услышать от ее величества, в каком страшном преступлении обвиняют меня. Я думаю, что судья, подписавший этот донос, был обманут каким-нибудь лжецом. Если бы мне пришлось вербовать наемников для защиты шотландской королевы, то мне незачем было ехать во владения графа Лейстера, гораздо проще было бы искать таких людей в собственном графстве! Конечно, я решился бы на это лишь при том условии, если бы вы, ваше величество, ничего не имели против того, чтобы таким способом увеличилось войско шотландской королевы.
— Что же привело вас тогда во владения графа Лейстера? — спросилаЕлизавета. — Очень странно, что обманутым оказался не только судья, но и сам граф Лейстер, ваш старый товарищ по оружию. Милорд Лейстер, — обратилась она к Дэдлею, — на каком основании вы поддерживаете обвинения против лорда Сэррея? Вы слышите, что говорит ваш бывший друг? Он утверждает, что судья был обманут каким-нибудь лжецом.
— Я с удивлением и грустью смотрю на то, что здесь происходит, ваше величество, — ответил Лейстер. — Еще вчера, когда лорд Бэрлей передал вам просьбу лорда Сэррея, я был поражен и глубоко огорчен, что лорд Сэррей выбрал себе посредником не меня, а лорда Бэрлея, и подумал — может быть, и я был кем-то обманут. Уже давно лорд Сэррей не принадлежит к числу моих друзей. При тех отношениях, которые существовали между нами в последнее время, для меня был непонятен приезд лорда Сэррея в мои владения, так как мне не приходило в голову, что он может нарушить свое слово или считать меня способным на измену. Я спросил о цели приезда лорда Сэррея у человека, который является моим заместителем в Лейстере, а именно, у сэра Кингтона, и услышал от него то, что имел уже честь доложить вам; я пригласил сюда сэра Кингтона, чтобы он лично мог подтвердить свои слова и засвидетельствовать, что я всегда рекомендовал ему крайнюю осторожность по отношению к лорду Сэррею.
— Подойдите поближе, сэр Кингтон, — позвала Елизавета, — и скажите всю правду, без утайки. Помните, что дело идет о вашей жизни. Правда, что вы подали жалобу на лорда Сэррея? И если это — правда, то объясните, что побудило вас на этот поступок? Не скрывайте ничего! Может быть, вам известно, что лорд Лейстер тайно поддерживал лорда Сэррея? Хотя я не допускаю этой мысли, но случаются и невероятные вещи.
— Ваше величество, — ответил Кингтон, опускаясь на колено перед королевой, — если кто-нибудь был обманут в этой истории, то прежде всего и больше всех лорд Лейстер. Сознаюсь, что я сам заблуждался и ввел в заблуждение своего господина. Граф Сэррей дал слово лорду Лейстеру, что при соблюдении известных условий со стороны моего господина он никогда не покажется в пределах графства Лейстер. Зная, что обещания, данные моим господином, ничем не были нарушены, и не допуская мысли, что граф Сэррей может изменить своему слову, я объяснил себе приезд графа только тем, что он явился в Лейстер с целью склонить наших католиков в пользу королевы Шотландской. Лорд Сэррей отрицает, что он приехал во владения лорда Лейстера с какой-нибудь политической целью, пусть он тогда объяснит свое присутствие в Лейстере, объяснит, почему он нарушил данное им слово, хотя лорд Лейстер его условия выполнил.
— Господи, что за загадки вы нам задаете! — нетерпеливо воскликнула Елизавета. — Какие-то тайны, какие-то обещания! В чем дело? Милорд Сэррей, я приказываю вам объясниться.
Напоминание о данном слове и намек Кингтона, что Лейстер ни в чем не изменил своим обещаниям, не могли не оказать известного влияния на честного, прямого Сэррея.
— Ваше величество, — проговорил он, — та тайна, о которой здесь идет речь, совершенно частного характера и касается лишь лорда Лейстера и меня. Я обязался хранить данное ему слово при известных условиях с его стороны, но у меня есть основания думать, что он нарушил эти условия. Мой верный слуга и друг, приехавший в Лейстер для того, чтобы убедиться, сдержал ли лорд Лейстер свои обещания, бесследно исчез, я тоже встретил препятствия при первом моем желании попасть к лорду Лейстеру. Теперь я узнаю, что на меня сделали донос, в котором меня обвиняют в государственной измене, и что это сделано с целью удалить меня из пределов Англии. Все вместе взятое служит ясным доказательством, что меня боятся и имеют, очевидно, серьезные причины для этого. Я приехал сюда, ваше величество, просить, даже умолять вас о защите.
— Клянусь всем святым, что здесь происходит нечто неслыханное, — воскликнула королева, гордо выпрямляясь. — Два лорда ссорятся между собой из-за какой-то тайны. Один из них умоляет о защите, другой пишет ложные доносы для того, чтобы отправить своего врага как можно дальше. Говорят о каких-то пропавших людях, точно я и мои министры не в состоянии защитить моих подданных и открыть всякое преступление! Я хочу уяснить себе, в чем дело.
— Ваше величество, — проговорил наконец Лейстер, — я не ссорился с лордом Сэрреем. Вы только что слышали сами, что он не поверил моему обещанию и вследствие этого решился на такой поступок, который легко мог ввести меня в заблуждение. Я считаю ниже своего достоинства оправдываться перед лордом Сэрреем и предпочитаю молчать.
— В таком случае, я заставлю вас говорить, милорд! — воскликнула разгневанная королева. — Вы должны сказать мне, в чем дело. Только изменник может колебаться в том, открыть ли тайну своей королеве, которая удостаивала его полным доверием. Повинуйтесь, милорд, во избежание моего неудовольствия.
Лейстер продолжал молчать.
Недоверие королевы еще больше увеличилось при виде этого непослушания. Не помня себя от гнева, она позвала начальника конвоя и громко приказала арестовать Лейстера.
— Милорд Боуэн, обезоружьте и арестуйте графа Лейстера! — приказала она. — Вы отвечаете мне за него своей головой.
Лейстер отстегнул свою шпагу и передал ее Боуэну, причем так взглянул на Сэррея, точно хотел сказать ему: «Вот видишь, по твоей милости я отправляюсь на эшафот!»
Сэррей не ожидал такого оборота дела. Ведь у него, собственно, не было явных доказательств, что Лейстер не сдержал данного ему обещания! Заточение Вальтера Брая и хитрый обман по отношению к Ламберту могли быть делом рук Кингтона, который останется на свободе и может причинить еще худшее зло.
— Милорд Сэррей, — гневно сказала королева, — охранная грамота шотландской королевы заставляет меня щадить вас, но вы обязуетесь представить мне доказательства своего обвинения. Передайте их лорду Бэрлею и будьте уверены, что преступление не останется без строгого наказания. Но, если ваши слова окажутся клеветой, тогда не ждите пощады.
— Ваше величество, для этого мне необходима ваша помощь, — возразил лорд Сэррей. — Отдайте, ваше величество, строгий приказ, чтобы всякое сообщение между лордом Дэдлеем, его приближенными людьми и жителями графства Лейстер было прекращено. И прошу вас распорядиться, чтобы для меня открылись все темницы и замки владений лорда Лейстера. И тогда ручаюсь вам, что через очень непродолжительный срок я вернусь сюда с явными уликами в руках. Если же окажется, что я ошибся, то разорву охранную грамоту шотландской королевы и покорно понесу то наказание, которое вам угодно будет наложить на меня.
— Ваше желание поразительно странно, — насмешливо заметила Елизавета. — Вы хотите, чтобы я дала вам полномочия распоряжаться в Лейстере, да разве вы забыли, что являетесь обвиняемым? Вы не хотите даже сказать, в чем состоит то преступление, которое заставляет вас просить у меня защиты, а к себе требуете полного доверия! И все же ввиду того, что ни мои просьбы, ни мое приказание не могут вызвать откровенность лорда Лейстера, я склоняюсь исполнить ваше желание. Скажите только, что вы собираетесь делать во владениях графа Лейстера?
— Я хочу осмотреть тюрьмы, ваше величество, — ответил Сэррей, — и поискать, нет ли среди заключенных моего друга, сэра Вальтера Брая; кроме того, мне хочется доставить сюда свидетеля из Кэнморского замка, который мог бы кое-что рассказать по этому делу.
— Вы ищете сэра Брая? — воскликнула королева. — Это не тот ли Брай, которого хотела здесь отравить его жена? Он ведь отправился затем в Шотландию искать своего ребенка.
— Да, ваше величество, это тот самый Брай! — подтвердил Сэррей.
— Что же, он нашел его? — спросила Елизавета.
— Да, ваше величество! Вальтер Брай узнал, что его дочь находится при дворе шотландской королевы, но прежде, чем он успел повидаться с нею, молодую девушку похитили.
— Ах, у него, значит, была дочь?! Хорошенькая? — ревниво проговорила королева. — Скажите, это не она ли повсюду сопровождала вас и графа Лейстера в костюме пажа?
Вместо ответа Сэррей поклонился.
— Постойте, значит, эта особа знакома графу Лейстеру? — засмеялась Елизавета, и ее глаза гневно сверкнули. — Не произошло ли похищение девушки в то время, когда лорд Дэдлей был в Шотландии?
— Да, в это время, ваше величество! — ответил Сэррей.
— В таком случае я угадываю, что нарушило вашу дружбу, — прошептала королева. И громко добавила: — Мне писали из Шотландии об одной сирене, которая ослепила лорда Лейстера своей красотой и затем внезапно исчезла. А теперь я понимаю, что означают все эти тайны! Да, я прикажу обыскать все тюрьмы и замки в Лейстере.
Видя, что граф Лейстер побледнел, Елизавета взъярилась от безумной ревности.
Боясь, чтобы королева не совершила какого-либо вызывающего поступка, Бэрлей поспешил подойти к ней.
— Не выказывайте так явно своей ревности, ваше величество! — прошептал он. — Не подавайте повода к насмешкам! Вспомните, что вы — великая королева Англии, дочь Генриха Восьмого! Победите чувство негодования, соберитесь с силами!
— Нет, это уж слишком! — задыхаясь от злобы, возразила королева. — На лице Дэдлея лежит печать позора, подлой измены! А я еще хотела отдать ему свою руку, он клялся, что любит меня одну на всем свете! Такого наглого обмана не перенесла бы ни одна женщина, даже самого низшего сословия. Неужели я могу допустить, чтобы этот негодяй хвастал, что насмеялся над королевой, как над какой-нибудь…
— Вы очень взволнованы, ваше величество, — прервал ее шепотом Бэрлей, — и потому не можете в эту минуту спокойно вникнуть в дело. — Я не верю, чтобы лорд Лейстер решился на такую измену, это было бы уж слишком смело! Выслушайте лорда Лейстера, но не в присутствии всего двора. Может быть, он и в состоянии будет оправдаться перед вами. Если же у него не будет возможности сделать это, то осудите его, как справедливая королева. Посмотрите на того хитрого мошенника Кингтона, вы видите, что он нашептывает что-то лорду Лейстеру. Мне кажется, что граф — скорее увлекающийся человек, чем сознательный обманщик.
Бэрлей был очень тонким дипломатом и решил, что какой бы оборот ни приняло дело для него во всяком случае будет выгодно сыграть роль посредника между королевой и любимым ею человеком.
— Королева все простит вам, — шептал Кингтон, — если вы ей скажете, что увезли Филли для того, чтобы отомстить лорду Сэррею и сэру Браю, и выдали замуж увезенную девушку за своего слугу.
Лейстер взглянул на королеву, которая продолжала разговаривать с Бэрлеем, и выражение ее лица было так грозно, что Лейстер потерял надежду на то, что она когда-либо простит ему.
Он уже решил было сознаться королеве в своем преступлении и не отягощать своей совести новой ложью, но его размышления были прерваны словами королевы, которая наконец решила высказать свое заключение по этому делу.
— Милорд Сэррей, — громко заговорила Елизавета, и гробовая тишина воцарилась в зале, — мы обсудили вашу просьбу, но прежде чем ответить на нее, желаем дать возможность лорду Лейстеру оправдаться, если он в состоянии будет сделать это. Затем, смотря по обстоятельствам, или сами произведем следствие, или поручим его вам. Так как это дело чрезвычайно щекотливое для лорда Лейстера, то я нахожу справедливым выслушать его без свидетелей, а потому прошу весь двор и вас, милорд Сэррей, на время удалиться из зала.
Все двери открылись, и придворные поспешили к выходу, лишь один Сэррей не двигался с места. Он предчувствовал, что ловкому Лейстеру нетрудно будет обойти влюбленную Елизавету, которая уже наполовину успокоилась.
Нарушив внезапно придворный этикет, Сэррей быстро подошел к трону и, взяв конец платья Елизаветы, взмолился:
— Ваше величество, умоляю вас, не слушайте лорда Лейстера до тех пор, пока я не представлю вам доказательства его вины! Не давайте ему возможности сейчас же принять меры для того, чтобы скрыть следы преступления. Будьте справедливой королевой, не делающей никакой разницы между своими подданными, когда дело идет о раскрытии чьей-нибудь вины.
— Господи, — недовольным тоном проговорила Елизавета, с отвращением вырывая платье, — да вы совершенно забываетесь, милорд Сэррей! Я молча переносила вашу несносную болтовню и отвратительный запах ваших сапог, для вас всего этого мало? Моя снисходительность привела к тому, что вы становитесь дерзки. Я приказала двору и вам удалиться. Исполняйте мой приказ, иначе лорд Боуэн принужден будет арестовать вас.
— Ваше величество, единственное, чего я боюсь, это чтобы вас не обманули лживыми словами, — упорствовал Сэррей. — Я отвечаю вам своей головой, что найду доказательства вины лорда Лейстера, в вашей власти будет казнить меня, если я не выполню своего обещания, но не лишайте же меня возможности представить вам эти доказательства.
— Вы — упрямый, своевольный человек, милорд Сэррей, — ответила королева. — Вы так ослеплены своей ненавистью, что не доверяете даже мудрости той, к которой сами же обратились за правосудием! Я просила вас удалиться и повторяю свою просьбу, одно могу сказать вам в утешение, что лорд Бэрлей поможет вам следить за тем, чтобы ни одно приказание, ни одно распоряжение лорда Лейстера не выходило за пределы этого замка.
Граф Лейстер потупился и сложил руки на груди. Казалось, что он решил молча покориться своей судьбе.
II
Наконец Сэррей вместе с Бэрлеем вышел из зала. Елизавета осталась одна с Лейстером.
— Защищайтесь теперь, милорд, — сказала королева, — или сознайтесь в своем позоре, чтобы я могла узнать от вас самих, а не от посторонних, какую гнусную игру вели вы с моим сердцем. Говорите правду, и, как бы постыдно вы ни поступали, я буду судить вас снисходительно, если вы избавите меня от неизвестности.
— Ваше величество, — ответил Дэдлей, — мне не в чем признаваться. Рассеять такое жестокое подозрение можно лишь одним способом. Пусть тот, кому вы дозволяли обесчестить меня, перед которым вы поставили меня как арестанта, как беззащитную мишень злобной клеветы, обыщет теперь по вашему приказу мои замки и допросит моих слуг.
— Но разве я не вправе подозревать, если вы молчите, когда я требую объяснений?
— Вы как королева отказали мне в своей руке и не имеете права требовать от меня объяснения в вещах, не касающихся государства. После того как вы обесчестили меня, вашему узнику место в Тауэре, я буду держать ответ перед пэрами, которые соберутся судить меня.
— Боже мой, никто не будет судить вас, кроме меня! Вы истощаете мое терпение!
— Я не боюсь вашего гнева с той минуты, как я отринут вашим сердцем. Перед ним я мог бы оправдаться, возлюбленная простила бы меня, а оскорбленная королева может только осудить меня, и я хочу быть осужденным.
— Значит, вы чувствуете, что виноваты? Значит, вы похитили ту женщину, и Сэррей сказал правду?
Он сказал правду, а данное им слово обязывало его умолчать о еще худшем; если бы он не дал слова молчать, то ему пришлось бы сказать вам, что он разыскивает графиню Лейстер.
— Графиню Лейстер?! — воскликнула изумленная Елизавета, дрожа от бешенства и негодования. — Не с ума ли вы сошли, или не думали ли вы сделать меня, королеву Англии, своей любовницей? Скажите мне прямо в глаза: чем, по вашему мнению, должна была стать для вас я, Елизавета Тюдор, когда вы опустились предо мною на колени, — говорите! Но не осмеливайтесь заикаться о какой-то графине Лейстер! Ведь если она действительно найдется, я пошлю ей голову изменника, именовавшегося когда-то графом Лейстером. Вы молчите?.. Дэдлей, если бы вы не только постыдно обманули меня, но лишь подумали о том, чтобы нанести мне бесчестье, я приказала бы растоптать вас на лондонских улицах. Говорите! Или пытка должна развязать вам язык?
— Я согласен говорить, когда вы называете меня Дэдлеем, потому что тогда вы выслушиваете меня как женщина. Да, я виновен, но заслуживаю вашего сострадания, а не презрения. Вам известно, с какими чувствами отправлялся я в Шотландию. Мое сердце было разбито: я видел себя отринутым и осмеянным; та, которую я любил, потребовала, чтобы я связал свою жизнь с другой женщиной, я хотел повиноваться вашей воле и надеялся, что вы со временем раскаетесь в том, как безжалостно поступили со мной. Я посватался к Марии. Однажды меня поддразнила маска. Мария хотела показать своему двору, что я даже не присмотрелся хорошенько к той, в которую поневоле прикидывался влюбленным. Она отдала меня на посмеяние, что уязвило мое самолюбие, и я замыслил мщение. Существо, которым злоупотребили для этой комедии, было доступно. Я подумал, что самый лучший способ отомстить за себя — это доказать, что я охотнее ухаживаю за этой особой, чем за Марией. Она отдалась мне, но когда я спокойно обдумал свое положение, то почувствовал, что ослушаюсь вас, если мое мщение наделает шума. И вот я приказал Кингтону похитить Филли. Тут вмешались в дело Брай и лорд Сэррей, они обвинили меня в похищении девушки, и мне приходилось отрицать случившееся или удалиться из Сент-Эндрю, сделавшись посмешищем двора. Кингтон отвез Филли в один из моих замков. Я хотел устроить и обеспечить ее, как только сдам свою должность при вашем дворе, я ожидал немилостивого приема у вас, так как не смел надеяться, что вы можете осчастливить меня своей благосклонностью. Тогда ко мне явились Сэррей и Брай, они настаивали на том, чтобы увидеть Филли, и угрожали донести на меня как на похитителя. Чтобы успокоить их, я сказал им, что девушка находится под моей охранной и может сделаться графиней Лейстер. Мне пришло вдруг на ум подвергнуть самого себя глубочайшему унижению: я неудачно домогался любви двух королев, а тут вздумал вступить в брак с несчастной калекой. Отсюда вы должны убедиться, что я никогда не любил другой женщины, кроме вас, и хотел навек отказаться от всякой надежды на счастье, будучи отвергнут вами. Вы желали утешить меня королевой, а я удовольствовался ее служанкой. Ведь вам прежде всего хотелось, чтобы я женился.
— Однако вы не сделали этого, Дэдлей? — в волнении боязливо-тревожным тоном прошептала Елизавета. — Вы не сделали этого, потому что явились ко мне и увидели, что я не презираю вас, что я вас люблю!
— Я увидел это и погрузился в блаженство, но зато мне пришлось трепетать, чтобы вы не узнали о случившемся. Оно могло быть неверно истолковано, и я рисковал лишиться вашей благосклонности.
— Значит, вы не женились на той женщине? — воскликнула Елизавета, с облегчением переводя дух и почти ликуя. — Дэдлей, та девушка — не жена вам, вы не потешались надо мной, вы не лгали мне, и не было притворством, когда вы недавно склонились к моим ногам и давали мне сладостные клятвы?
В этот момент судьба Филли была решена. Лейстер мог бы добиться прощения Елизаветы, ведь она была взволнована, однако он не рискнул на такое опасное испытание.
— Я не женился на ней, — ответил он, — ведь я лежал у ваших ног, Елизавета! Кингтон устроил комедию, чтобы умиротворить Сэррея. Ведь для меня было важно только избежать доноса, пока я успею убедиться, что вы узнали мое сердце, я опасался, как бы подозрение не рассеяло вашей мимолетной благосклонности.
— А куда же девалась та девушка? Вы очень часто бываете у себя в графстве. Не хочу думать, что она еще не утратила для вас прежней привлекательности и что я разделяю с ней вашу любовь!
— Если бы вы могли заглянуть в мое сердце, то ваши прекрасные уста не высказали бы такого подозрения.
— Кингтон удалил Филли, и, если я не ошибаюсь, она не прочь утешиться с ним. Но Сэррей жаждет самообладать ею, он ревнует, хотя уже обещал свое сердце двум дамам из Шотландии. И Кингтон до сих пор удерживал его вдали только тем, что выдавал Филли за мою супругу.
— Этого не должно быть! — воскликнула королева. — Я возьму ее под свою защиту, и если она благоволит к Кингтону, то устрою их свадьбу. Мне интересно увидеть ту, которая подала повод ко всей этой распре и, по-видимому, внушила пламенную страсть Сэррею.
— Ваше величество…
— Без возражений, если вы не хотите снова расшевелить мое подозрение! Ах, Дэдлей, я чувствую, что женщина должна сначала убить свое сердце, если хочет быть справедливою повелительницей! Я думала, что заковала себя в броню против слабостей женского пола, но чувствую, что поддаюсь им, как всякая другая!
— Если бы вы любили меня, как я люблю вас, то никогда не могли бы усомниться во мне, как сделали сегодня.
— Это — неправда, Дэдлей! Дружба доверяет, но любовь сомневается. Я — избалованное дитя, когда люблю, нельзя обижаться на меня, если я разгневаюсь, потому что у меня нет ничего, что вознаграждало бы меня за все заботы правления, за одиночество на королевском троне, кроме единственного сладкого сознания, что есть на свете один человек, который понял мое сердце и знает, какую тяжкую жертву приношу я своему достоинству королевы. Я почти завидую той женщине, которую вы избрали орудием своей мести: она может мечтать о том, что лишь высокое звание графа Лейстера стало на дороге ее счастью. Я хочу увидеть ту, которая отдалась вам, и тогда я прочту в ее глазах, не обманули ли вы меня. И если нет — я награжу ее в оплату за этот жестокий, но сладостный триумф моего сердца.
У Лейстера выступил на лбу холодный пот. Такой неожиданный оборот дела грозил ему новыми опасностями, и он возлагал свою единственную и последнюю надежду на то, что Кингтону удастся, наперекор королеве и Сэррею, найти средство устроить так, чтобы Филли исчезла, ею следовало пожертвовать, иначе он сам погибнет.
Но каким способом заставить ее исчезнуть?
Убить ее? Нет, уж тогда лучше самому положить голову на плаху.
Но неужели невозможно спрятать ее, переправить через границу или же, если бы все эти попытки потерпели неудачу, склонить ее ко лжи? Ведь допустила же она, чтобы ее пытали из-за него, почему же ей не согласиться на обман ради спасе ния его жизни?
Такие мысли обуревали графа, пока Елизавета, дернув звонок, отдала приказание снова впустить двор.
III
Дэдлей успел кинуть украдкой взгляд на Кингтона, дав тому понять, что он воспользовался его советом. А весь двор при виде его спокойной, гордой осанки тотчас сообразил, что и этот опасный кризис благополучно миновал.
— Лорд Боуэн, — начала Елизавета, — возвратите графу Лейстеру его оружие, мы получили удовлетворительные объяснения. Милорд, — обратилась она к Сэррею, который почтительно, но с мрачным лицом приблизился к тронному креслу, — просьба, которую вы изложили нам, основана на подозрении, обидном для графа Лейстера, и хотя я питаю к графу полное доверие, о вас же знаю только, что вы предпочитаете службу у шотландской королевы службе при моем дворе, тем не менее, в интересах справедливости, я нашла нужным потребовать от графа Лейстера объяснений. Вы и граф Лейстер не покинете Лондона, а сэр Кингтон, напротив, по нашему приказу отправится за той девушкой и привезет ее сюда. Мы сделаем дальнейшие распоряжения, когда поговорим с ней. Затем прикажем произвести розыски сэра Брая и надеемся поступить с вами по справедливости, не оскорбив графа Лейстера и не задев вашей чести.
Королева подала знак рукой, что отпускает их. Однако Сэррей не тронулся с места.
— Ваше величество, — произнес он, — чего я боялся, то и случилось: вас обманули…
Лейстер схватился за меч, и этот порыв, напомнивший королеве, что она должна еще доставить ему удовлетворение, вызвал краску на ее лице.
— Тише, милорд! — грозно крикнула она на него. — Мы присутствуем здесь, и никто не смеет сказать, что Елизавета Английская оставляет безнаказанным оскорбление ее верных вассалов. Милорд Сэррей, вы лишаетесь права неприкосновенности, придержите свой язык, иначе вам придется увидеть закат солнца в Тауэре!
— Что ж, отправьте меня в Тауэр, ваше величество. Но этим вы запятнаете свое имя, тогда скажут, что лорд Сэррей требовал справедливости, обвиняя любимца Елизаветы, и был за это посажен в тюрьму.
— Вы смелы, но вас ослепляет безумная ненависть. Разве вы не слышали, что граф Лейстер дал нам удовлетворительные объяснения?
— Ваше величество, вы сказали, что сэр Кингтон должен представить вам девушку, и были намерены распорядиться ее дальнейшей судьбой. Разве граф Лейстер говорил вам, что Филли — еще девушка, участью которой можно распорядиться?
Лейстер улыбнулся при этих словах Сэррея, и королева поняла значение его взгляда, брошенного ей.
— Милорд, — возразила она, — хотя и отчаянная дерзость допрашивать королеву, но я хочу быть снисходительной, потому что ваша ненависть и ревность, вызванные низкой склонностью, внушают мне жалость к вам. Граф Лейстер открыл мне причину, почему вы замышляли погубить его. Я не хочу ни малейшего упоминания о ней, молчите о том, если вам дорога жизнь; скажу только, что я серьезно порицаю многое и прощаю графа за откровенное признание. Но я не только прощаю, но и оправдываю то, что лорд Дэдлей держал свои намерения в тайне от вас и сэра Брая и не исполнил вынужденного обещания, которое было настолько смешно, что лишь глупцы могли потребовать его и поверить ему. Удовольствуйтесь тем, что я сама позабочусь об участи той, которую вы разыскиваете с весьма сомнительным правом и еще более сомнительными побуждениями. Прощайте, милорд! Для нас не будет потерей, если вы, полагаясь на то, что мы устроим судьбу той девушки, возвратитесь ко двору, ще вас, по-видимому, ценят больше, чем здесь.
Сэррей не заметил едкой насмешки, не почувствовал оскорбительности этого тона, он видел только, что Лейстер поступил с Филли как негодяй и что королева простила ему это. О спасении Филли нельзя было больше и думать, ее обманули, значит он мог только отомстить за нее, однако и это оказывалось недоступным для него в данную минуту, когда клятвопреступник торжествовал и прятался за троном королевы.
— Ваше величество, — сказал Сэррей королеве, — там, где милорд Лейстер считается честным человеком, я буду слыть мошенником; не дай Бог узнать скорбь, причиненную обманом доверия. Я отправлюсь обратно в Шотландию и прошу вас напоследок лишь об одной милости: предоставьте самому лорду Лейстеру, а не его слуге розыски сэра Брая и пропавшей девушки. Иначе они исчезнут навсегда.
Лейстер заметил, какое впечатление произвели слова Сэррея на королеву и на весь двор, и поспешил предупредить ответ Елизаветы.
— Ваше величество, — сказал Лейстер, преклоняя колено перед королевой, — я всегда знал лорда Сэррея за честного человека и еще недавно вызвал бы на поединок каждого, кто осмелился бы оскорбить его. Если бы он вместо того, чтобы в слепой ненависти и мрачном подозрении расстраивать мои дела у меня за спиной, отнесся ко мне с прежним доверием, то я убедил бы его, как раньше и вас, ваше величество, что он сделал бы лучше, оказав мне доверие. Поэтому поручите мне разыскать сэра Брая, и я ручаюсь головой, что лорду Сэррею придется взять назад эту часть обвинения. Что же касается похищенной, то, с целью отклонить от себя всякое подозрение, я хочу предоставить сэру Кингтону заботу привезти ее сюда, и он поручится своей жизнью, что исполнит это… хотя бы для того, чтобы я с разрешения вашего величества устроил так, чтобы лорд Сэррей и сэр Брай, мои обвинители, свободно и без принуждения заявили в вашем присутствии, что они удовлетворены мною.
Королева с нежной благосклонностью посмотрела на коленопреклоненного Лейстера, однако отрицательно покачала головой и промолвила:
— Мое решение остается неизменным. Сэр Кингтон, вы ответственны за то, что обе эти личности найдутся. Вы отвечаете мне за них своей головой. Мы дадим вам провожатых как для содействия, так и для наблюдения за вами. Если у вас есть какое-либо сомнение, то выскажите его теперь, в присутствии лорда Сэррея.
— Ваше величество, — подал голос Кингтон, и Лейстер, затаив дыхание, прислушивался к его ответу, а Сэррей смотрел на него с напряженным ожиданием, — ваш приказ будет исполнен приблизительно через неделю. Сэр Брай по моему приказанию был тайно арестован, а леди находится в полной безопасности и с радостью подчинится вашему милостивому повелению.
— Как? — воскликнула королева, мрачно хмуря лоб. — Вы осмелились на собственный страх арестовать человека и промолчали о том, когда вашему господину был брошен упрек, что он содействовал исчезновению сэра Брая?
— Ваше величество, мне не подобало вмешиваться в разговор, пока меня не спрашивают, кроме того, я хотел убедиться, будет ли моему господину приятно, если сэр Брай найдется.
— Боже мой, да у вас, милорд Лейстер, такой слуга, который так и просится на виселицу! Говорите, сэр! Как вы осмелились арестовать путешественника?
— Ваше величество, граф Лейстер мог иметь свои причины действовать великодушно, но обязанность верного слуги — защищать его от тех, кто пользуется его великодушием, чтобы строить козни. Сэр Брай так же, как и лорд Сэррей, угрожал моему господину в Кэнмор-Кастле. Граф отпустил их с миром в знак прежней дружбы. Однако же сэр Брай, а потом и лорд Сэррей отплатили моему господину за его благородство тем, что тайком шпионили поблизости от его замка. Сэр Брай хотел прокрасться туда как вор, и я приказал схватить его как вора. Он замышлял убийство и похищение. Я умолчал о том с целью выждать, не пожалует ли к нам также лорд Сэррей. Мои ожидания оправдались. Лорд Сэррей напал с обнаженным мечом на безоружного привратника и хотел насильно ворваться в замок. Но я был тут и прикончил бы его на месте, как он того заслуживал, однако граф подарил ему жизнь. А теперь лорд Сэррей стоит здесь как клеветник, в благодарность за это. Если бы граф Лейстер проведал, что я арестовал сэра Брая, то помиловал бы и его, он доверяет чужой честности, потому что сам честен.
— Правда ли это? — спросила королева, обращаясь к Сэррею. — Граф Лейстер действительно подарил вам жизнь?
— Да, он не дал своим людям убить меня.
— Значит, лорд Лейстер находился там… Должно быть, Кэнмор-Кастл служил убежищем для похищенной девушки?
— Да, ваше величество, — смело ответил Кингтон, предупреждая ответ Лейстера, — но лорд ничего не знал о том, потому что давно велел мне перевезти ее в безопасное место. Оттого он и поверил мне, когда я вынужден был сказать ему, будто лорд Сэррей вербует рекрутов для Шотландии.
— Значит, эта ложь была выдумана вами?
— Ваше величество, я хотел избавить моего господина от людей, покушавшихся на его жизнь.
— А как намеревались вы поступить с вашим пленником, сэром Браем?
— Как только вы подписали бы декрет об изгнании, я переправил бы его через границу, а если бы он вернулся опять, то был бы вне закона.
— Однако вам прекрасно служат, лорд Лейстер! — обратилась королева к графу. — Я желаю простить того отчаянного малого ради его верности, предполагая, конечно, что лица, которых я желаю видеть, будут доставлены сюда.
Этим закончилась аудиенция, где дело шло о голове графа Лейстера, но собравшаяся над ним гроза еще не рассеялась и ежеминутно могла разразиться со страшной силой.

Глава двадцать четвертая
ПРОКЛЯТИЕ ЗЛА

I
 Свое бракосочетание с Босвелом Мария Стюарт обставила блестящими празднествами, хотя убитого супруга облекал окровавленный саван. Новобрачная хотела казаться счастливой, и именно это отталкивало от нее истинно преданных ей людей. Ее приближенные понимали, что необузданный Босвел оказывал на нее демоническое влияние с того момента, когда Мария сделалась сообщницей его преступления.
Конечно, она могла бояться хладнокровного убийцу, а мысль, что она прикована к нему кровавым злодейством, пожалуй, внушала ей ужас, но если бы она порвала эту цепь, то очутилась бы без всякой опоры и сделалась бы добычей своих врагов.
Мария стала женой убийцы, но вместе с тем она была королевой, и в ее сердце еще жило гордое сознание, что могущество, которым обладал ее муж, досталось ему через нее. Однако Босвел спешил принять меры, ради собственной безопасности спешил принять меры, чтобы она не вздумала со временем бросить его. И с той же беспощадной суровостью, с какой он принудил ее допустить свое похищение, он начал теперь показывать ей, что она перестала уже быть его повелительницей, а была только женой, что он — ее господин и муж, который не потерпит никаких пререканий, никакой измены.
Все слухи, ходившие о легком поведении Марии, пожалуй, внушили ему опасение, что она когда-нибудь бросит и его честолюбивый Босвел завоевал ее посредством преступления, и поэтому боялся, что все может пойти прахом из-за женской слабости. Первым делом после свадьбы он решил удалить от жены ее доверенных. Мария потребовала, чтобы арестованный им и содержавшийся под строгим караулом Мелвил снова занял почетное место. Однако Босвел воспротивился этому. Тогда Мария напомнила ему, что она — королева, а он, ее супруг, состоит ее вассалом. Едва эти слова сорвались с ее губ, как она содрогнулась при виде мрачной мины Босвела: его глаза загорелись, он запер двери и подступил к жене, точно собираясь сокрушить ее могучим кулаком.
— Мария, — сказал Босвел, — хорошо, что ты сама коснулась этой темы, давай разъясним друг другу наши взгляды на нее. Ты называешь меня своим вассалом. Значит, тебе приходит в голову разыгрывать передо мной королеву, которая имеет право даже велеть казнить меня, которая свободно избирает себе доверенных, а когда супруг становится заносчивым, то принуждает его к повиновению. Я должен быть куклой, если же имею несчастье не нравиться твоим доверенным, тогда я становлюсь бунтовщиком против королевы?
Мрачное выражение, с каким были произнесены эти слова, привело в трепет Марию, она видела огонь гнева на лице Босвела и почти чувствовала, как в нем клокочет злоба.
— Босвел, — воскликнула она, дрожа, — какое подозрение закралось тебе в сердце? Нас сковала вместе любовь, я требую лишь того, чего требует каждая женщина от своего супруга, а именно снисхождения и уважения к людям, которые дороги ей.
— Ты ошибаешься, Мария! — мрачно возразил он. — Нас соединила не любовь, и ты не вправе требовать того, чего требуют другие жены. Пойми меня хорошенько! Любовь связывала нас еще при жизни Дарнлея, и он не мог бы помешать нашему счастью, ты была и тогда свободна, — тебя навсегда приковала ко мне кровь Дарнлея, убийство, общая вина, преступление. Ты моя сообщница и не смеешь иметь доверенных, которым я не доверяю, которым хотелось бы вырвать тебя из моих рук, чтобы я один нес ответственность за нашу общую вину. Ты не смеешь требовать того, чего позволительно требовать другой женщине, потому что ты — королева, и всякая власть, которую дает тебе корона, есть умаление моего права над тобой, которое я завоевал. Ты моя, и я буду держать тебя как жену, которая благоденствует для меня, как и я рискую для тебя жизнью.
— Босвел, тебе, очевидно, хочется превратить меня в твою рабыню. Да, да!… Ведь я была бы не чем иным, как рабыней, если бы слепо повиновалась твоей воле. Ты не довольствуешься тем, что доставляет тебе моя любовь, ты требуешь с угрозами того, в чем я не отказала бы любимому человеку, если бы он обратился ко мне с просьбой. Я желаю оградить гордость моей любви. Я не хочу повиноваться по принуждению, когда послушание не заслуживает даже благодарности.
— Но я этого хочу. Мария, я не доверяю ни одной женщине. Я — не Кастеляр, который слепо кидался в омут гибели и рисковал жизнью, не обеспечив себе награды, я — не Дарнлей, который трусливо изменял и так же впал в самообман; у меня нет охоты разыгрывать роль ревнивого сторожа своей жены и бояться появления второго Риччио. Я повелеваю у себя в доме и не хочу никаких блюдолизов, никаких льстецов, что мне противно — будет удалено. Ты подчинишься мне, твоему мужу, и должна привыкнуть видеть во мне одном своего друга, поверенного, любовника.
— Это унизительно, это — требования тюремщика! Подозрительность, а не любовь подсказывает подобные требования, и ты забываешь, что я имею власть ограничить тебя.
Королева поднялась и хотела дернуть звонок, но Босвел схватил ее руку железной хваткой.
— Повинуйся, — крикнул он, скрежеща зубами, — повинуйся, Мария, иначе я сокрушу тебя!
Она вскрикнула от боли и зарыдала.
— Это жестоко!… — всхлипывала Мария. — Ты прибегаешь к грубой силе с женщиной.
И королеве я покажу свой меч, если она осмелится пойти мне наперекор, а жену я укрощу, если она будет отказываться повиноваться своему господину. Ты хотела дернуть звонок, чтобы позвать на помощь против твоего господина и супруга? За это ты должна просить прощенья на коленях. На колени, Мария! Повинуйся, иначе я заставлю тебя преклониться сам!
— Лучше умереть! Помогите, помогите! — закричала несчастная женщина, но Босвел зажал ей рот, стиснул ее руку и стал пригибать ее к полу, пока ее колени не согнулись поневоле.
Мария рыдала от бешенства и боли, потому что Босвел невыносимо давил ей руку.
— Мне больно, пощади!
— Я буду давить тебе руку, хотя бы она сломалась, если ты не дашь слова слушаться меня; ты должна покориться мне!
— Я буду слушаться! — пробормотала королева, чтобы только освободиться от железного кулака, стискивавшего ее руку с такой силой, что, казалось, из ее пальцев вот-вот брызнет кровь.
Наконец Босвел разжал свои стальные тиски, нагнулся и поцеловал жену в лоб.
— Приди ко мне на грудь! — сказал он. — Клянусь Богом, боль, которую я причинил тебе, заставляет меня страдать, как будто я вонзил раскаленное железо в свою грудь. Оттого, что я люблю, я не хочу тебя потерять, а мог бы потерять, если бы не требовал повиновения. Охлади руку водой и не забывай этого часа, ты испытала мою силу и теперь знаешь ее.
Он отпер дверь.
Однако едва Мария почувствовала себя на свободе, как бросилась к окну и стала звать на помощь, в тот же момент капитан ее гвардии Артур Эрскин вошел в комнату, привлеченный еще раньше криками королевы.
Босвел стоял как вылитый из бронзы, скрестив руки на груди, с мрачным и угрожающим видом.
— Ваше величество, — сказал он, — вы звали на помощь в супружеском споре. Сэр Эрскин ожидает ваших приказаний, прошу вас дать их ему, не называя причины нашей ссоры, потому что я не потерплю иных судей моего поведения, кроме вашего сердца. Если вы находите, что я поступил предосудительно, то осудите меня, если нет, то удалите этого свидетеля, которому подобное положение так же тягостно, как и мне.
Мария почувствовала себя униженной и жалкой, как никогда. Босвел действовал вызывающим образом, даже в настоящую минуту. Неужели ей велеть арестовать человека, из-за которого она навлекла на себя ненависть всей Шотландии, неужели ей суждено вторично встретить в своем супруге заклятого врага? А между тем… невыносимо и терпеть эту жестокую насмешку, сделаться его рабой?.. «Лучше умереть»! — решила она.
— Сэр Эрскин, — воскликнула она, — подайте мне ваш кинжал.
— Сэр Эрскин, — вмешался Босвел, — вы видите, королева сильно возбуждена. Не давайте ей оружия!
— Я хочу кинжал, я хочу лишить себя жизни! Кинжал, сэр, или я выброшусь из окна, я хочу умереть.
Мария вскочила на подоконник.
— Назад, сэр! — загремел Босвел, когда Эрскин рванулся к ней. — Дайте королеве свой кинжал, иначе она ринется вниз, а это была бы жалкая смерть для государыни. Вы колеблетесь?.. Хорошо! Тогда идите вон, я дам королеве свое оружие! Вон! Я приказываю! Повинуйтесь, если вам дорога жизнь!
Эрскин повиновался.
Тогда Босвел вытащил свой кинжал и кинул его под ноги супруге.
— Заколитесь! — хладнокровно сказал он. — Если бы вы попросили оружие у меня, я дал бы вам его, и вы по крайней мере избавили бы меня от этой сцены.
Мария бросилась к кинжалу. Она, конечно, не думала убивать себя, а хотела защититься от жестокостей.
Тут ее взгляд упал на Босвела, который вытащил свой меч и поставил его рукояткой на пол, тогда как острие направил себе в грудь.
— Что ты затеваешь? — крикнула Мария.
— Я хочу умереть, как ты, и если у тебя не хватит мужества заколоться, то я первый покончу с собой.
— Босвел! — прошептала она, растерявшись и дрожа от испуга. — Почему ты хочешь убить себя?
— Потому что ты разлюбила меня, и я лучше сам лишу себя жизни, чем допущу, чтобы меня казнили или зарезали. Избавим себя от тягостных речей, Мария! Я полагался на твою любовь, на твою преданность и послушание, когда рисковал жизнью, чтобы достичь высшего блага. Но возведенное здание рушится. Ты согласна скорее убить себя, чем действовать со мной заодно. Неужели мне дожидаться, пока я сделаюсь тебе в тягость, и ты возненавидишь меня, как Дарнлея? Нет, Джэмс Босвел господствует или умирает. Прощай, Мария, и ты свободна.
Он снова приставил оружие к своей груди и нагнулся.
С громким воплем Мария подскочила к нему и вышибла у него меч, который со звоном покатился на пол. Но поток крови окрасил уже камзол герцога, и Мария убедилась, что этот ужасный человек никогда не шутит.
— Не убивай себя! — зарыдала она. — Я буду повиноваться, я согласна быть твоей служанкой, теперь я верю, что ты любишь меня… О Джэмс, эта кровь!…
С плачем прижала королева носовой платок к ране, схватила мужа в объятия и осыпала его поцелуями. Теперь она снова сделалась любящей, слабой женщиной, которая подчиняется и ласково умоляет, которая требует только любви и жертвует всем для любимого человека, даже собственной жизнью, даже честью!
Конечно, она задумалась о происшедшем, когда Босвел оставил ее, и почувствовала ужас к этому человеку, необузданная горячность которого неуклонно стремилась к своей цели и знала одни крайние насильственные средства; конечно, Мария предвидела, что с этих пор ее жизнь утратит последние проблески свободы. Но ведь она опять одержала верх над своим тираном посредством любви! Эта мысль утешила ее.
Мария надеялась укротить Босвела нежностью, рассеять его подозрения, но ей пришлось ошибиться. Она должна была сделаться его служанкой, чтобы быть не чем иным, как орудием его властолюбия; он приковал ее к себе и отнял у нее средство ослабить свои цепи.
Свое бракосочетание с Босвелом Мария Стюарт обставила блестящими празднествами, хотя убитого супруга облекал окровавленный саван. Новобрачная хотела казаться счастливой, и именно это отталкивало от нее истинно преданных ей людей. Ее приближенные понимали, что необузданный Босвел оказывал на нее демоническое влияние с того момента, когда Мария сделалась сообщницей его преступления.
Конечно, она могла бояться хладнокровного убийцу, а мысль, что она прикована к нему кровавым злодейством, пожалуй, внушала ей ужас, но если бы она порвала эту цепь, то очутилась бы без всякой опоры и сделалась бы добычей своих врагов.
Мария стала женой убийцы, но вместе с тем она была королевой, и в ее сердце еще жило гордое сознание, что могущество, которым обладал ее муж, досталось ему через нее. Однако Босвел спешил принять меры, ради собственной безопасности спешил принять меры, чтобы она не вздумала со временем бросить его. И с той же беспощадной суровостью, с какой он принудил ее допустить свое похищение, он начал теперь показывать ей, что она перестала уже быть его повелительницей, а была только женой, что он — ее господин и муж, который не потерпит никаких пререканий, никакой измены.
Все слухи, ходившие о легком поведении Марии, пожалуй, внушили ему опасение, что она когда-нибудь бросит и его честолюбивый Босвел завоевал ее посредством преступления, и поэтому боялся, что все может пойти прахом из-за женской слабости. Первым делом после свадьбы он решил удалить от жены ее доверенных. Мария потребовала, чтобы арестованный им и содержавшийся под строгим караулом Мелвил снова занял почетное место. Однако Босвел воспротивился этому. Тогда Мария напомнила ему, что она — королева, а он, ее супруг, состоит ее вассалом. Едва эти слова сорвались с ее губ, как она содрогнулась при виде мрачной мины Босвела: его глаза загорелись, он запер двери и подступил к жене, точно собираясь сокрушить ее могучим кулаком.
— Мария, — сказал Босвел, — хорошо, что ты сама коснулась этой темы, давай разъясним друг другу наши взгляды на нее. Ты называешь меня своим вассалом. Значит, тебе приходит в голову разыгрывать передо мной королеву, которая имеет право даже велеть казнить меня, которая свободно избирает себе доверенных, а когда супруг становится заносчивым, то принуждает его к повиновению. Я должен быть куклой, если же имею несчастье не нравиться твоим доверенным, тогда я становлюсь бунтовщиком против королевы?
Мрачное выражение, с каким были произнесены эти слова, привело в трепет Марию, она видела огонь гнева на лице Босвела и почти чувствовала, как в нем клокочет злоба.
— Босвел, — воскликнула она, дрожа, — какое подозрение закралось тебе в сердце? Нас сковала вместе любовь, я требую лишь того, чего требует каждая женщина от своего супруга, а именно снисхождения и уважения к людям, которые дороги ей.
— Ты ошибаешься, Мария! — мрачно возразил он. — Нас соединила не любовь, и ты не вправе требовать того, чего требуют другие жены. Пойми меня хорошенько! Любовь связывала нас еще при жизни Дарнлея, и он не мог бы помешать нашему счастью, ты была и тогда свободна, — тебя навсегда приковала ко мне кровь Дарнлея, убийство, общая вина, преступление. Ты моя сообщница и не смеешь иметь доверенных, которым я не доверяю, которым хотелось бы вырвать тебя из моих рук, чтобы я один нес ответственность за нашу общую вину. Ты не смеешь требовать того, чего позволительно требовать другой женщине, потому что ты — королева, и всякая власть, которую дает тебе корона, есть умаление моего права над тобой, которое я завоевал. Ты моя, и я буду держать тебя как жену, которая благоденствует для меня, как и я рискую для тебя жизнью.
— Босвел, тебе, очевидно, хочется превратить меня в твою рабыню. Да, да!… Ведь я была бы не чем иным, как рабыней, если бы слепо повиновалась твоей воле. Ты не довольствуешься тем, что доставляет тебе моя любовь, ты требуешь с угрозами того, в чем я не отказала бы любимому человеку, если бы он обратился ко мне с просьбой. Я желаю оградить гордость моей любви. Я не хочу повиноваться по принуждению, когда послушание не заслуживает даже благодарности.
— Но я этого хочу. Мария, я не доверяю ни одной женщине. Я — не Кастеляр, который слепо кидался в омут гибели и рисковал жизнью, не обеспечив себе награды, я — не Дарнлей, который трусливо изменял и так же впал в самообман; у меня нет охоты разыгрывать роль ревнивого сторожа своей жены и бояться появления второго Риччио. Я повелеваю у себя в доме и не хочу никаких блюдолизов, никаких льстецов, что мне противно — будет удалено. Ты подчинишься мне, твоему мужу, и должна привыкнуть видеть во мне одном своего друга, поверенного, любовника.
— Это унизительно, это — требования тюремщика! Подозрительность, а не любовь подсказывает подобные требования, и ты забываешь, что я имею власть ограничить тебя.
Королева поднялась и хотела дернуть звонок, но Босвел схватил ее руку железной хваткой.
— Повинуйся, — крикнул он, скрежеща зубами, — повинуйся, Мария, иначе я сокрушу тебя!
Она вскрикнула от боли и зарыдала.
— Это жестоко!… — всхлипывала Мария. — Ты прибегаешь к грубой силе с женщиной.
И королеве я покажу свой меч, если она осмелится пойти мне наперекор, а жену я укрощу, если она будет отказываться повиноваться своему господину. Ты хотела дернуть звонок, чтобы позвать на помощь против твоего господина и супруга? За это ты должна просить прощенья на коленях. На колени, Мария! Повинуйся, иначе я заставлю тебя преклониться сам!
— Лучше умереть! Помогите, помогите! — закричала несчастная женщина, но Босвел зажал ей рот, стиснул ее руку и стал пригибать ее к полу, пока ее колени не согнулись поневоле.
Мария рыдала от бешенства и боли, потому что Босвел невыносимо давил ей руку.
— Мне больно, пощади!
— Я буду давить тебе руку, хотя бы она сломалась, если ты не дашь слова слушаться меня; ты должна покориться мне!
— Я буду слушаться! — пробормотала королева, чтобы только освободиться от железного кулака, стискивавшего ее руку с такой силой, что, казалось, из ее пальцев вот-вот брызнет кровь.
Наконец Босвел разжал свои стальные тиски, нагнулся и поцеловал жену в лоб.
— Приди ко мне на грудь! — сказал он. — Клянусь Богом, боль, которую я причинил тебе, заставляет меня страдать, как будто я вонзил раскаленное железо в свою грудь. Оттого, что я люблю, я не хочу тебя потерять, а мог бы потерять, если бы не требовал повиновения. Охлади руку водой и не забывай этого часа, ты испытала мою силу и теперь знаешь ее.
Он отпер дверь.
Однако едва Мария почувствовала себя на свободе, как бросилась к окну и стала звать на помощь, в тот же момент капитан ее гвардии Артур Эрскин вошел в комнату, привлеченный еще раньше криками королевы.
Босвел стоял как вылитый из бронзы, скрестив руки на груди, с мрачным и угрожающим видом.
— Ваше величество, — сказал он, — вы звали на помощь в супружеском споре. Сэр Эрскин ожидает ваших приказаний, прошу вас дать их ему, не называя причины нашей ссоры, потому что я не потерплю иных судей моего поведения, кроме вашего сердца. Если вы находите, что я поступил предосудительно, то осудите меня, если нет, то удалите этого свидетеля, которому подобное положение так же тягостно, как и мне.
Мария почувствовала себя униженной и жалкой, как никогда. Босвел действовал вызывающим образом, даже в настоящую минуту. Неужели ей велеть арестовать человека, из-за которого она навлекла на себя ненависть всей Шотландии, неужели ей суждено вторично встретить в своем супруге заклятого врага? А между тем… невыносимо и терпеть эту жестокую насмешку, сделаться его рабой?.. «Лучше умереть»! — решила она.
— Сэр Эрскин, — воскликнула она, — подайте мне ваш кинжал.
— Сэр Эрскин, — вмешался Босвел, — вы видите, королева сильно возбуждена. Не давайте ей оружия!
— Я хочу кинжал, я хочу лишить себя жизни! Кинжал, сэр, или я выброшусь из окна, я хочу умереть.
Мария вскочила на подоконник.
— Назад, сэр! — загремел Босвел, когда Эрскин рванулся к ней. — Дайте королеве свой кинжал, иначе она ринется вниз, а это была бы жалкая смерть для государыни. Вы колеблетесь?.. Хорошо! Тогда идите вон, я дам королеве свое оружие! Вон! Я приказываю! Повинуйтесь, если вам дорога жизнь!
Эрскин повиновался.
Тогда Босвел вытащил свой кинжал и кинул его под ноги супруге.
— Заколитесь! — хладнокровно сказал он. — Если бы вы попросили оружие у меня, я дал бы вам его, и вы по крайней мере избавили бы меня от этой сцены.
Мария бросилась к кинжалу. Она, конечно, не думала убивать себя, а хотела защититься от жестокостей.
Тут ее взгляд упал на Босвела, который вытащил свой меч и поставил его рукояткой на пол, тогда как острие направил себе в грудь.
— Что ты затеваешь? — крикнула Мария.
— Я хочу умереть, как ты, и если у тебя не хватит мужества заколоться, то я первый покончу с собой.
— Босвел! — прошептала она, растерявшись и дрожа от испуга. — Почему ты хочешь убить себя?
— Потому что ты разлюбила меня, и я лучше сам лишу себя жизни, чем допущу, чтобы меня казнили или зарезали. Избавим себя от тягостных речей, Мария! Я полагался на твою любовь, на твою преданность и послушание, когда рисковал жизнью, чтобы достичь высшего блага. Но возведенное здание рушится. Ты согласна скорее убить себя, чем действовать со мной заодно. Неужели мне дожидаться, пока я сделаюсь тебе в тягость, и ты возненавидишь меня, как Дарнлея? Нет, Джэмс Босвел господствует или умирает. Прощай, Мария, и ты свободна.
Он снова приставил оружие к своей груди и нагнулся.
С громким воплем Мария подскочила к нему и вышибла у него меч, который со звоном покатился на пол. Но поток крови окрасил уже камзол герцога, и Мария убедилась, что этот ужасный человек никогда не шутит.
— Не убивай себя! — зарыдала она. — Я буду повиноваться, я согласна быть твоей служанкой, теперь я верю, что ты любишь меня… О Джэмс, эта кровь!…
С плачем прижала королева носовой платок к ране, схватила мужа в объятия и осыпала его поцелуями. Теперь она снова сделалась любящей, слабой женщиной, которая подчиняется и ласково умоляет, которая требует только любви и жертвует всем для любимого человека, даже собственной жизнью, даже честью!
Конечно, она задумалась о происшедшем, когда Босвел оставил ее, и почувствовала ужас к этому человеку, необузданная горячность которого неуклонно стремилась к своей цели и знала одни крайние насильственные средства; конечно, Мария предвидела, что с этих пор ее жизнь утратит последние проблески свободы. Но ведь она опять одержала верх над своим тираном посредством любви! Эта мысль утешила ее.
Мария надеялась укротить Босвела нежностью, рассеять его подозрения, но ей пришлось ошибиться. Она должна была сделаться его служанкой, чтобы быть не чем иным, как орудием его властолюбия; он приковал ее к себе и отнял у нее средство ослабить свои цепи.
II
Мария хлопотала, чтобы ее новый брак был признан иностранными дворами. Она заявила, что нуждалась в защите и что никто не мог защитить ее лучше графа Босвела. Шотландское дворянство рекомендовало Босвела ей в супруги, он был очищен от всякого подозрения в убийстве Дарнлея, потому что шотландские судьиоправдали его, и, наконец, он готов был подтвердить свою невиновность мечом против всякого обвинителя.
Однако все старания Марии не увенчались успехом. Именно дворяне, так трусливо подписавшие документ, предложенный им Босвелом на пиру, соединились для его ниспровержения и через лорда Гранжа просили Елизавету о помощи.
Лорд Мелвил также примкнул к их союзу и заручился помощью французов, но лорды предпочли содействие англичан, опасаясь, что Франция будет больше домогаться влияния на шотландское королевство, чем действовать в интересах королевы. Однако Елизавета отказала в помощи, опасаясь новой неудачи заговора, тем более что мятеж всякого рода был ненавистен ей, поэтому она затянула переговоры, но и не сообщила Марии, что ей угрожает.
Таким образом, Мария и Босвел жили спокойно, ни о чем не догадываясь, они выбрали для местопребывания укрепленный замок Борсвик и заносчиво насмехались там над своими могущественными врагами: Этолом, Эрджилом и Мортоном.
Босвел потребовал наследного принца в Борсвик, но граф Марр отказал в его выдаче, и, когда королева обратилась к помощи дворянства, никто не откликнулся на этот призыв.
Однажды, когда Мария с Босвелом собирались садиться за обед, в столовую вбежал караульный и доложил, что значительный отряд вооруженных всадников мчится галопом к замку. Босвел и Мария, догадавшись, что им грозит опасность, поспешно переоделись в лакейскую ливрею, костюм пажа и в таком виде покинули замок через потайные ворота.
Они благополучно скрылись в Дэнбар, где созвали своих приверженцев. А заговорщики тем временем вступили в Эдинбург, и на этот раз осадные пушки Голируда молчали, а народ приветствовал их ликованием. Они выпустили прокламацию, призывавшую дворянство преследовать убийц Дарнлея и освободить наследного принца. Каждый, кто примкнет к партии Босвела, — говорилось в прокламации, — будет наказан как изменник. Королева, со своей стороны, также выпустила прокламацию и обещала разделить владения мятежников между своими приверженцами, после чего выступила в поход, одетая в красную юбку, до половины прикрывавшую ей ноги. Впереди королевы развевалось шотландское знамя; лорды Сэйтон и Борсвик охраняли ее с обеих сторон. У мятежников же было собственное знамя, на котором вместо шотландского льва на белом шелке был помещен образ умерщвленного Дарнлея, перед ним на коленях стоял наследный принц и взывал: «О Боже, суди и отомсти за меня!» Эти слова были вышиты цветными шелковыми нитками. Вид этого знамени, наглядно представлявшего народу гнусное злодейство, приводил в ярость войско и привлекал сотни борцов под знамена мятежников.
Мария не дождалась даже прибытия Гамильтонов, она выступила в поход с наскоро собранными ею отрядами. А навстречу королеве выступили вассалы Эрджила, Этола, Марра, Линдсея, Мюррея, Майтлэнда, Бойда и Киркэльди Лагранжа, а также отборное английское войско под начальством опытнейших предводителей. Едва противники сошлись у Кэрбери-Голла, как приверженцы Марии почувствовали свою слабость. Чтобы еще более усилить этот упадок духа, появился дю Круа в качестве посредника и стал внушать сторонникам Марии Стюарт, что они сражаются не за отечество, а за любовные капризы женщины, и обещал, что королеве будут повиноваться, если она расстанется с Босвелом, так как он — убийца Дарнлея, и немало лордов готово сказать это ему в лицо и подтвердить на поединке.
— Мне завидуют, — ответил Босвел, — и потому обвиняют меня. Но хотя никто не может равняться званием с супругом королевы, однако я согласен биться насмерть с каждым, кого мятежники выставят как моего обвинителя.
Круа вернулся с этим ответом обратно в лагерь восставших. Билетики с именами предводителей положили в шлем и решили, что трое из них, имена которых вынут первыми, должны принять вызов. Жребий пал на Киркэльди Лагранжа, Мюррея Тулибардина и Линдсея Бинса. Двух первых Босвел отверг из-за того, что они не носили графского титула и не были равны ему по происхождению, так что выбор пал на Линдсея, и Мортон вооружил его мечом своего знаменитого предка, чтобы он одержал победу. Став перед фронтом армии, Линдсей пал на колени и молил Бога укрепить его руку, защитить справедливость и покарать порочного убийцу.
Лорд Линдсей славился как храбрейший рыцарь своего времени, опытный боец и человек исполинской силы. Когда герольд возвестил, что он вызывает на бой герцога Босвела, последняя надежда померкла в сердцах верных защитников королевы. Большая часть солдат дезертировала, а когда одновременно с тем кавалерия мятежников обошла Кэрбери, чтобы преградить отступление войску Марии Стюарт, ряды расстроились, и только шестьдесят рыцарей и лейб-гвардия остались возле королевы и Босвела.
Мария увидела, что все погибло, и, чтобы спасти по крайней мере мужа, приказала ему бежать, пока она будет вести переговоры с мятежниками. Босвел повиновался ей, чтобы навербовать войско в Дэнбаре. Лорд Киркэльди, которого она велела тем временем позвать для переговоров, поручился ей своим словом, что с нею обойдутся почтительно, и, поцеловав ей руку, повел ее в лагерь мятежников.
— Милорды, — сказала им Мария, — я являюсь к вам вовсе не из страха за свою жизнь, но потому, что мне отвратительно проливать кровь моих подданных. Теперь я согласна следовать вашим советам и питаю уверенность, что вы встретите меня с уважением, подобающим мне как вашей законной королеве.
Лорды клятвенно подтвердили свою преданность, но когда Мария стала продвигаться между рядами солдат, среди них поднялся ропот недовольства, перешедший вскоре в громкие ругательства. Поначалу королева хотела пренебречь этими насмешливыми криками, однако из-за страшного волнения лишилась чувств и упала бы с лошади, если бы ее не успел подхватить Киркэльди. Так как он заверил королеву, что с нею обойдутся почтительно, то ему пришлось кинуться с обнаженным мечом в ряды воинов, чтобы угомонить поносивших Марию. Королева была вынуждена следовать за знаменем, один вид которого был для нее самой жестокой насмешкой.
Войско выступило с места стоянки и с торжеством повело с собой королеву, как пленницу. Ряды солдат до такой степени теснили ее, что подол ее платья был изорван в клочья, а растрепанные волосы висели по плечам. В таком плачевном виде вернулась Мария в свою столицу среди угроз черни, которая, простирая руки к знамени, встретила ее криками:
— Смерть прелюбодейке! Смерть мужеубийце!
Гамильтоны тем временем стали под оружие, и королева потребовала, чтобы ей дали возможность вступить с ними в переговоры во избежание новой распри. Однако лорды справедливо опасались, что она пошлет Гамильтонов к Босвелу на подкрепление, и не исполнили ее желания.
— Значит, вы нарушаете данное вами слово, для вас я — уже не королева, а пленница! — возмутилась Мария. — Но учтите, — продолжала она, схватив руку Линдсея, — как я держу сейчас вашу руку, так получу и вашу голову.
Такая безрассудная угроза стоила Марии того, что ее передали старшине города Эдинбурга.
Было десять часов вечера, когда она смогла наконец удалиться к себе в комнату, чтобы отдохнуть после всех передряг ужасного дня. Целые сутки королева ничего не ела, однако и теперь она отказывалась подкрепить себя пищей. Ее разлучили со служанками, а к дверям приставили караул. И в этой тюрьме несчастной не давали покоя. К замку подступили несметные толпы народа, и до королевы доносился глухой, грозный, зловещий ропот, подобный шуму морского прилива. Слышались самые грубые угрозы, и при свете факелов жестокие варвары водрузили против ее окна ужасное знамя, представлявшее убийство Дарнлея и ребенка Марии, взывавшего к Богу о мщении.
Несчастная женщина была близка к отчаянию. Она хотела опустить занавесы, но, как только с площади заметили ее фигуру, угрозы удвоились и в оконные стекла полетели камни. Растерянная, полураздетая, с беспорядочно развевавшимися волосами, как сумасшедшая, кинулась Мария к окну и закричала громким голосом, именем Божиим упрашивая народ освободить ее. Никто не мог оставаться равнодушным зрителем этой потрясающей сцены. Рев черни затих. Тогда королева, плача от горя и ломая от ярости руки, отошла в глубину комнаты и опустилась в кресло, охватив ладонями голову. Тронутые ее страданиями, знатнейшие граждане Эдинбурга пришли несколько часов спустя на площадь и уговорами и угрозами им удалось удалить разбушевавшуюся чернь.
Едва успела водвориться тишина, как Мария принялась писать письмо Босвелу. Так как лорды нарушили данное им слово и поступили с ней, как с пленницей, то и она не считала себя связанной с ними никакими обязательствами. В письме королева называла отсутствующего супруга «своим дорогим сокровищем», уверяла, что никогда не забудет и не покинет его, и заклинала его ежечасно быть настороже. Это письмо было вручено Марией солдату из ее караула вместе с кошельком, набитым червонцами. Солдат взял золото, а письмо передал лорду Мортону.
Лорды только и ждали какого-нибудь предлога, чтобы удалить Марию, и письма к Босвелу оказалось вполне достаточно, чтобы даже те, которые готовы были сдержать данное ими обещание, склонились к применению самых решительных мер.
Вечером 16-го июня Марию Стюарт доставили в Голируд. Она шла пешком между Этолем и Мортоном, сопровождаемая девицами Семпиль и Сэйтон и конвоируемая тремя сотнями стрелков. Лорды собрались в Голируде на совещание, где и порешили принять самые крайние меры. В протоколе они изложили все, что произошло со времени «позорного и отвратительного убийства короля». Они ссылались как на бесстыдное и богопротивное супружество королевы с графом Босвелом, главным зачинщиком и подстрекателем убийства, так и на то, что дворянство вынуждено взяться за оружие, дабы отомстить за это преступление, защитить драгоценную жизнь наследного принца, предупредить падение самой Марии и предотвратить окончательную гибель всего государства.
После того, как они поставили королеву в известность относительно ее собственного положения, бедственного состояния государства и опасности, в которой находился дорогой принц, ее сын, и потребовали наказания убийц, они натолкнулись на такое непреоборимое сопротивление, из которого ясно стало видно, что королева поддерживала Босвела и его соучастников в их позорных злодеяниях и что, сохранив бразды правления, она в своей необузданной страстности приведет государство к полному смятению и окончательной гибели. По зрелому рассуждению и общему мнению и согласию лорды постановили: особу ее величества держать вдали от возможности каких-либо сношений с графом Босвелом, а также всеми теми, которые могли бы быть его единомышленниками, готовыми содействовать ему избегнуть заслуженного возмездия за преступление. А так как не могли найти более подходящее и удобное место для содержания ее величества, чем замок Лохлевин, то приказали лордам Патрику, Линдсею, Вильяму Тутвену и Вильяму Дугласу доставить туда ее величество, запереть и держать под строгим надзором, чтобы она не имела возможности не только сама выйти оттуда, но и поддерживать с кем-либо сношения или посылать письма, за исключением тех случаев, когда это понадобится приставленным к ней лордам или государственному совету в Эдинбурге.
Замок Лохлевин, «опоясываемая водой твердыня», находился на острове посреди одноименного озера. Это старое большое строение замыкали две круглые ба шни. Он принадлежал сводному брату графа Мюррея; Маргарита Эрскин, бывшая когда-то возлюбленной Якова Пятого, урожденная графиня Марр, гордая красавица в юности, надеялась, что ее первенец, теперешний лорд Мюррей, будет законным повелителем Шотландии.
Разумеется, Маргарита Эркин видела в Марии Стюарт дочь той, которая лишила ее руки короля, а ее сына — короны. С жаждой мести, оскорбленной гордостью и обманутыми честолюбивыми надеждами в ней соединялись нетерпимая набожность и мрачная ненависть против католической религии. Фанатизм и старые счеты могли сделать ее непреклонным стражем женщины, которая после разрыва с Мюрреем видела в нем и в его приверженцах смертельных врагов.
Когда Марии было сообщено решение лордов, причем место, где предполагалось ее заточить, не было названо, то она с облегчением вздохнула, она так много перестрадала в Эдинбурге, что уже факт перемены места был для нее каким-то утешением. Она только попросила, чтобы для путешествия ей предоставили закрытый экипаж, на что лорд Линдсей, к которому она обратилась с этой просьбой, объявил, что ее желание уже предупреждено и что экипаж ждет ее у ворот.
В сопровождении дам, которые когда-то уже разделяли с ней годы заточения в Инч-Магоме, Мария Стюарт во мраке ночи простилась с Эдинбургом, чтобы уже никогда больше не видеть его; мрачные башни Голируда исчезли в тумане, и уже через несколько часов королева плыла через Лохлевинское озеро. Ворота замка распахнулись перед ней, навстречу вышла высокая женщина, одетая во все черное. Мария узнала мать Мюррея и сразу поняла, какая участь ожидала ее.
На другой день французский посланник Виллеруа потребовал пропуска в Лохлевин, чтобы повидаться с шотландской королевой. Ему отказали в этом, и он вернулся во Францию, где и доложил, что французскую вдовствующую королеву, шотландскую королеву Марию заключили в темницу.

Глава двадцать пятая
ДОКУМЕНТ

I
 Сэр Вальтер Ралейг получил приказание сопровождать Сэррея и Кингтона, чтобы произвести потребованное Елизаветой расследование.
Еще семнадцатилетним юношей Ралейг воевал во Франции с гугенотами, а затем участвовал в карательной морской экспедиции против ирландских мятежников. Елизавета почувствовала симпатию к остроумному молодому человеку, ей очень понравилась галантность его обращения.
Однажды на прогулке королева остановилась в затруднении перед грязной лужей, через которую ей надлежало перейти, тогда Ралейг сорвал с себя плащ и кинул его на лужу, так что перед Елизаветой образовался ковер. Ралейг запретил очищать этот плащ и хранил его как драгоценность; это так понравилось тщеславной женщине, что она с того дня начала отличать его перед всеми.
Открытый рыцарский характер Ралейга внушал Сэррею надежду найти в нем опору в том случае, если Кингтон замышляет измену, но именно в этом-то Сэррей и ошибался. Ралейг был слишком большим дипломатом и опытным придворным, чтобы не видеть из всего происходящего при дворе, что Елизавета любит графа Лейстера и, во всяком случае, для нее приятнее помиловать, а не карать его. Поэтому, когда Сэррей потребовал сначала отправиться в Кэнмор-Кэстл, где он надеялся найти свидетеля, то Ралейг хоть и не воспротивился этому, но разрешил Кингтону послать вперед своего доверенного. Вот почему, когда они прибыли туда, там оказался только Пельдрам, нахально заявивший, что он не мог долее противиться просьбам Ламберта и разрешил ему отправиться в Ратгоф-Кастл, чтобы повидаться там с дочерью.
Сэррей был вне себя от того, что упустил самого важного свидетеля, он уже начинал бояться, что и Брая тоже не удастся найти, когда Пельдрам заявил, что он уже дал знать Браю о необходимости предстать перед королевой, так что его доставят под конвоем надежных людей в Кэнмор-Кастл в ближайшем времени.
Смущение, отразившееся при этом известии на лице Кингтона, и его свирепый взгляд, брошенный на Пельдрама, наполнили Сэррея надеждой, что, быть может, Ламберту все-таки удалось склонить Пельдрама стать на его сторону против Кингтона, и он еще более укрепился в этой надежде, когда Кингтон при первой же возможности уединился с Пельдрамом.
Кингтон послал Пельдраму строгий приказ позаботиться, чтобы Ламберт исчез и чтобы Брая они застали либо мертвым, либо согласившимся следовать определенным предначертаниям. В возможность согласия Брая Кингтон плохо верил и потому заподозрил измену, когда Пельдрам открыто заявил, где именно находится Филли и что Брай должен появиться в Кэнмор-Кастле, Но, может быть, Пельдрам, чувствуя опасность и желая выказать особое рвение, решил пустить в ход крайние средства: убить Брая не в тюрьме, а по дороге. Эта надежда у Кингтона возросла, когда Пельдрам повиновался его первому знаку и последовал за ним в помещение управляющего. Однако недоверие снова закопошилось в его душе, когда он заметил, как Пельдрам нащупывал под камзолом рукоятку пистолета.
— Что случилось? — спросил он с мрачным выражением лица, — теперь мы одни!…
— Да, мы одни… Но у ворот стоят солдаты Ралейга, и мне достаточно только крикнуть, чтобы они стали свидетелями нашего разговора!
— А, вот что! Негодяй! Ты замышляешь предательство! Берегись, над Ралейгом стоит лорд Лейстер!
— Может быть, но только до тех пор, пока его тайна не выплывет на Божий свет, а ведь эта тайна в руках у нас обоих — не у вас одного! Знаете, мне уже давно не нравится, что вы третируете меня как простого слугу, и собираетесь единолично использовать все милости, на которые так щедр граф!
Кингтон закусил губу. Он насквозь видел Пельдрама и отлично понимал, куда тот клонит, и проницательный наблюдатель мог бы разглядеть под натянутой улыбкой Кингтона признаки надвигающейся бури.
— Пельдрам, — сказал он, — каждый другой усмотрел бы на моем месте угрозу в подобных словах, быть может, даже открытое объявление войны. Но я только радуюсь, что нашел в вас не бессловесное орудие, а сознательного и смелого помощника. Да, вы сами виноваты, что до сих пор я видел в вас только слугу. Каждый человек является тем, чем он сам хочет быть, и если в нем кипят честолюбивые надежды, то он должен рискнуть на большее. До сегодняшнего дня вы были в моих глазах простым слугой, вы просто получали жалованье, а я должен был отвечать за то, что вы делали по моему приказанию. Но вы хотите добиться большего. Что же, мне приятнее обрести в вас — вместо слуги — помощника и друга, готового разделить со мной не только награду, но и опасность.
— Ну, знаете ли, больше, чем жизнью, рисковать невозможно, а я уже сотни раз ставил из-за пустяков свою жизнь на карту!
— Пусть, но не забывайте, что в тех случаях вашу жизнь могла спасти сила ваших рук. Теперь же вы осмеливаетесь выступать против такого могущества, которое способно раздавить нас обоих, а защитить нас может не сила рук, не умение драться, а тонкий расчет. Достаточно малейшей неловкости, чтобы погибнуть, потому что вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что мы можем спастись, изменив лорду Лейстеру. От вас и от меня зависит низвергнуть его, но достаточно одного его слова, чтобы он похоронил и нас в своем падении, потому что королева не пощадит исполнителей воли лорда, если решит отомстить ему. Моей целью — а если вы хотите стать моим помощником, а не слугой, то и вашей — должна быть непрестанная забота ограждать графа от малейшей опасности, сохраняя однако в своих руках оружие против него, чтобы он не вздумал отделаться от нас так же, как теперь отделывается от своих бывших друзей.
— Так оно и есть, Кингтон, и потому-то вы и позаботились об исчезновении священника и о перенесении в надежное место документа из церковной книги. Я преследовал ту же цель, что и вы, и потому постарался обеспечить себе в Ламберте и сэре Брае оружие против вас на тог случай, если вы захотите устранить меня!
— Что вы наделали? Несчастный! Да разве вы не знаете, что Брай — непреклонный человек?
— Я завел с ним переговоры и очень доволен их результатом. Он поклялся мне, что скроется из Англии и никогда более не вернется обратно, если я доставлю ему доказательства, что брачная церемония графа и графини Лейстер действительно состоялась и что лорд был вынужден прибегнуть к насилию против него лишь потому, что он и Сэррей грозили погубить его своим недоверием.
Черты лица Кингтона прояснились, а взор засверкал торжеством. Он видел, что Пельдрам не предал лорда, а только хотел оградить себя самого от предательства.
— Ну а Ламберт? — спросил он.
Ламберт поклялся мне хранить тайну лорда от всех и каждого, если я помогу ему вернуть дочь. Он хочет скрыться с ней в Шотландию.
— И вы послали его в Ратгоф-Кастл?
Ну нет! — хитро улыбнулся Пельдрам. — Я не так глуп! Я хочу, чтобы он мог убежать в Шотландию, а вы уже, наверное, позаботились бы, чтобы его убили в Ратгоф-Кастле!
— Значит, он спрятан здесь, в замке?
— Здесь или где-нибудь в другом месте, но вам его не найти. Если он не будет иметь возможности в определенное время обнять Тони на шотландской территории и убедиться, что никто не осмелился обесчестить ее, то он явится в Лондон обвинять вас. Если же его требования будут удовлетворены мною, он будет мне глубоко благодарен за то, что я помог его дочери вырваться из ваших тисков.
Кингтон, еле сдерживая ярость, понял, что Пельдрам перехитрил его и позаботился запастись против него столь же надежным оружием, какое он, Кингтон, имел против графа Лейстера.
— Клянусь, если бы я когда-нибудь мог предположить, что вы умеете так тонко рассчитывать ходы, то открылся бы вам во всем и мы вместе уже давно предупредили бы всякую опасность, — воскликнул он. — Ну, по рукам! Я принимаю все, что вы обещали Ламберту. Мне это тем легче сделать, что я имею виды теперь на другую женщину и охотно уступаю вам крошку Тони, которая должна будет унаследовать все богатства скряги Ламберта.
Пельдрам, пожав руку Кингтона, произнес:
— Я слышал, вы вместе с лордом Сэрреем отправляетесь в Ратгоф-Кастл. Я буду сопровождать вас, чтобы посмотреть, что там происходит; надеюсь, вы ничего не будете иметь против?
Кингтон даже ахнул. Он не ожидал такого предложения, но довольно скоро овладел собой. Все же утешением для него была откровенность Пельдрама, она заставляла предполагать, что Пельдрам может быть неосторожным. А для того, чтобы оплести такого простака сетью хитроумных интриг, не могло быть человека, более способного, чем Кингтон. Из последнего предложения Пельдрама было видно, что тот вполне возмещал энергией и дальновидностью то, чего ему не хватало в хитрости и изворотливости.
— Ахи — это еще не ответ на мой вопрос, — насмешливо сказал Пельдрам.
Вы неправильно истолковываете мое изумление, — поспешно ответил Кингтон, — я просто удивлен той манерой, с которой вы отвергаете предлагаемую дружбу и сомневаетесь в самых святых заверениях…
— Дружба!… Святые уверения!… — повторил Пельдрам.
— Ну ей-Богу же, сэр Кингтон, я не так глуп, как вы думаете. Раз у вас хватает совести быть готовым в любой момент предать графа Лейстера, то что же остановит вас сделать это по отношению ко мне! Словом, с настоящего момента я доверяю вам лишь постольку, поскольку могу следить за вами своими глазами. Поэтому, чтобы не быть обманутым, я отправляюсь вместе с вами.
— Но подумали ли вы, что разрешение отправиться со мной в Ратгоф-Кастл зависит не от меня, что это может разрешить только сэр Ралейг?
— Вот хорошо, что вы напомнили мне о наших гостях! — воскликнул Пельдрам. — Я должен позаботиться о них как представитель графа. А в Ратгоф-Кастл я могу найти дорогу и без вашего общества. Вам после всех сегодняшних треволнений, наверное, нужен покой, так что желаю вам спокойной ночи! — Пельдрам повернулся и вышел из комнаты.
«Проклятье! — подумал Кингтон, — этот субъект в состоянии все испортить мне! Самым простым выходом было бы запустить ему в тело несколько дюймов железа, но для этого Ратгоф-Кастл — несравненно более удобное место, а Джонстон работает к тому же на славу!».
До известной степени успокоенный этой мыслью, Кингтон поспешил подслушать, что говорят между собой Сэррей и Ралейг. С этой целью он отправился в тайник, из которого можно было наблюдать за всем происходящим в той комнате, где остановился Ралейг. Он был уверен, что Сэррей непременно придет поговорить с ним о дальнейших поисках.
Кингтон застал их разговор, но пришел слишком поздно, чтобы услышать что-нибудь полезное. Лишь в прощальных словах Сэррея он уловил, что между ними пробежала какая-то тень, и это еще более заставило его поругать в душе Пельдрама, из-за разговора с которым он был лишен возможности сделать ценные наблюдения. Кингтон видел, что Ралейг, недовольный навязанным ему поручением, вообще не был расположен выполнить его так, чтобы нанести какой-либо ущерб графу Лейстеру. Хотя по характеру Ралейг был прямым и честным, он не мог не дорожить своим положением при дворе. Дело сложилось так, что оставалось совершенно неопределенным, действительно ли обвинители руководствовались честными намерениями, поэтому он решил вести расследование с величайшей осторожностью, зная, насколько тонко и нагло разыгрывались придворные интриги.
Ралейг не пригласил Сэррея разделить с ним обед, но, когда тот пришел, вежливо принял его и любезно предложил сесть.
Сэррей поблагодарил за приглашение.
— Сэр, — сказал он, — вы слышали, что нам сообщил управляющий замка? Мне кажется, мы достаточно отдохнули и можем предпринять шаги в пользу освобождения того самого человека, появление которого особенно важно для меня.
По энергичному лицу сэра Ралейга скользнула тень недовольства, и прошло несколько минут, пока он ответил.
— Милорд, было бы очень смешно, если бы я вздумал отговариваться усталостью или плохой погодой в тех случаях, когда дело идет о службе королеве. Тем не менее, я не вижу причин к поспешности.
— Сэр! — резко напомнил Сэррей, — королева приказала…
— Совершенно верно! Я отлично помню приказание ее величества, я должен отыскать человека по имени Брай и в полной безопасности доставить его ее величеству, так как вы требуете его показаний.
— Этот человек найден, — воскликнул Сэррей, — пока он все еще находится в тюрьме, куда посажен без всяких оснований, и необходимо немедленно выпустить его на свободу.
— Это — уже мое дело — расследовать, справедливо или несправедливо посажен в тюрьму сэр Брай. Он найден, как вы только что сказали сами, и находится в полной сохранности. Ведь ясно, что там, где его стерегли в течение столь долгого времени, он может остаться и до того момента, когда его в полной безопасности отправят в Лондон.
— Но послушайте, сэр Ралейг, ведь этот человек неповинен, как сами вы изволили слышать из уст Кинггона во время его показаний в присутствии королевы!
— На это я уже ответил вам. Ему будет дано полное удовлетворение, но только не мной.
— Но в интересах графа Лейстера заставить исчезнуть этого человека, и так оно и будет, если мы немедленно не примем меры.
— Вы заблуждаетесь! Графу важно, чтобы сэр Брай был бы доставлен в Лондон, и граф, и слуга его — оба они поклялись своей головой в этом. Мы можем захватить Брая на обратном пути. Между прочим, до допроса сэра Брая вам не разрешается никаких непосредственных сношений с ним.
Делая это замечание, Ралейг имел в виду в высшей степени порядочную цель. Если обвинение Сэррея было основательно, тогда ему с Браем не о чем сговариваться; если бы обвинение было ложным, тогда никоим образом нельзя было допускать, чтобы, сговорившись между собой, они были в состоянии продолжать свои интриги.
— Сэр, хотя и косвенным образом, но вы делаете мне этими словами такой упрек, который я не могу оставить без внимания. Вы уже допустили, чтобы обитатели замка были извещены сэром Кингтоном о нашем прибытии. Неужели я должен допустить…
— Стойте, ни слова более! — загремел Ралейг.
Наступила длинная пауза. Ралейг наморщил лоб от возмущения. Но и Сэррей мрачным взглядом впился в уполномоченного королевы, а левая рука его судорожно сжала рукоятку меча.
Ралейг первым делом постарался подавить вспышку гнева, и мало-помалу черты его лица приняли более спокойное выражение.
— Милорд Сэррей, — медленно и выразительно сказал он, — я не подчинен вам в этом расследовании и буду исполнять данное мне поручение так, как сочту это нужным. Отвечать за свои действия я буду только перед королевой. Мне поручено найти двух человек, и я найду их обоих и доставлю к ее величеству; насколько я могу при этом руководствоваться вашими указаниями, это — уже мое дело.
Сэррей встал и добавил с поклоном:
— Честь и счастье дорогого мне существа поставлены на карту в данном деле так же, как и моя собственная жизнь и честь. Мальчишеские проделки бесчестного человека возмутили меня, и я боюсь нового преступления. Поэтому-то я и обращаюсь к вам с вопросом: неужели вы не хотите лично убедиться в безопасности Брая?
— Я завтра увижу этого человека.
— Может быть, мое честное слово не общаться с Браем и данное им обязательство отправиться в Лондон окажутся достаточными, чтобы вы освободили его от незаслуженного ареста?
— Сэр Брай останется, где он есть! — ответил Ралейг, поднимаясь в свою очередь.
Сэррей, еле сдержав себя, вышел из комнаты, где уселся в кресло и, не обращая внимания на накрытый ужин, тяжело опустил голову на руки.
Он подумал о том, что Ралейгу явно противно возложенное на него поручение, что он всеми силами постарается не получить доказательств против Лейстера. Однако он надеялся, что прирожденная честность и порядочность не позволят ему скрыть явные улики, если они все-таки попадутся ему. Но как добыть эти улики в таком лабиринте подлости, интриг и предательства?
Вдруг внезапно блеснувшая мысль заставила Сэррея вскочить. Не притронувшись к еде и питью, он прошел в спальню и не раздеваясь, бросился на кровать. Он был так истощен физически и нравственно, что крайне нуждался в отдыхе.
Сэр Вальтер Ралейг получил приказание сопровождать Сэррея и Кингтона, чтобы произвести потребованное Елизаветой расследование.
Еще семнадцатилетним юношей Ралейг воевал во Франции с гугенотами, а затем участвовал в карательной морской экспедиции против ирландских мятежников. Елизавета почувствовала симпатию к остроумному молодому человеку, ей очень понравилась галантность его обращения.
Однажды на прогулке королева остановилась в затруднении перед грязной лужей, через которую ей надлежало перейти, тогда Ралейг сорвал с себя плащ и кинул его на лужу, так что перед Елизаветой образовался ковер. Ралейг запретил очищать этот плащ и хранил его как драгоценность; это так понравилось тщеславной женщине, что она с того дня начала отличать его перед всеми.
Открытый рыцарский характер Ралейга внушал Сэррею надежду найти в нем опору в том случае, если Кингтон замышляет измену, но именно в этом-то Сэррей и ошибался. Ралейг был слишком большим дипломатом и опытным придворным, чтобы не видеть из всего происходящего при дворе, что Елизавета любит графа Лейстера и, во всяком случае, для нее приятнее помиловать, а не карать его. Поэтому, когда Сэррей потребовал сначала отправиться в Кэнмор-Кэстл, где он надеялся найти свидетеля, то Ралейг хоть и не воспротивился этому, но разрешил Кингтону послать вперед своего доверенного. Вот почему, когда они прибыли туда, там оказался только Пельдрам, нахально заявивший, что он не мог долее противиться просьбам Ламберта и разрешил ему отправиться в Ратгоф-Кастл, чтобы повидаться там с дочерью.
Сэррей был вне себя от того, что упустил самого важного свидетеля, он уже начинал бояться, что и Брая тоже не удастся найти, когда Пельдрам заявил, что он уже дал знать Браю о необходимости предстать перед королевой, так что его доставят под конвоем надежных людей в Кэнмор-Кастл в ближайшем времени.
Смущение, отразившееся при этом известии на лице Кингтона, и его свирепый взгляд, брошенный на Пельдрама, наполнили Сэррея надеждой, что, быть может, Ламберту все-таки удалось склонить Пельдрама стать на его сторону против Кингтона, и он еще более укрепился в этой надежде, когда Кингтон при первой же возможности уединился с Пельдрамом.
Кингтон послал Пельдраму строгий приказ позаботиться, чтобы Ламберт исчез и чтобы Брая они застали либо мертвым, либо согласившимся следовать определенным предначертаниям. В возможность согласия Брая Кингтон плохо верил и потому заподозрил измену, когда Пельдрам открыто заявил, где именно находится Филли и что Брай должен появиться в Кэнмор-Кастле, Но, может быть, Пельдрам, чувствуя опасность и желая выказать особое рвение, решил пустить в ход крайние средства: убить Брая не в тюрьме, а по дороге. Эта надежда у Кингтона возросла, когда Пельдрам повиновался его первому знаку и последовал за ним в помещение управляющего. Однако недоверие снова закопошилось в его душе, когда он заметил, как Пельдрам нащупывал под камзолом рукоятку пистолета.
— Что случилось? — спросил он с мрачным выражением лица, — теперь мы одни!…
— Да, мы одни… Но у ворот стоят солдаты Ралейга, и мне достаточно только крикнуть, чтобы они стали свидетелями нашего разговора!
— А, вот что! Негодяй! Ты замышляешь предательство! Берегись, над Ралейгом стоит лорд Лейстер!
— Может быть, но только до тех пор, пока его тайна не выплывет на Божий свет, а ведь эта тайна в руках у нас обоих — не у вас одного! Знаете, мне уже давно не нравится, что вы третируете меня как простого слугу, и собираетесь единолично использовать все милости, на которые так щедр граф!
Кингтон закусил губу. Он насквозь видел Пельдрама и отлично понимал, куда тот клонит, и проницательный наблюдатель мог бы разглядеть под натянутой улыбкой Кингтона признаки надвигающейся бури.
— Пельдрам, — сказал он, — каждый другой усмотрел бы на моем месте угрозу в подобных словах, быть может, даже открытое объявление войны. Но я только радуюсь, что нашел в вас не бессловесное орудие, а сознательного и смелого помощника. Да, вы сами виноваты, что до сих пор я видел в вас только слугу. Каждый человек является тем, чем он сам хочет быть, и если в нем кипят честолюбивые надежды, то он должен рискнуть на большее. До сегодняшнего дня вы были в моих глазах простым слугой, вы просто получали жалованье, а я должен был отвечать за то, что вы делали по моему приказанию. Но вы хотите добиться большего. Что же, мне приятнее обрести в вас — вместо слуги — помощника и друга, готового разделить со мной не только награду, но и опасность.
— Ну, знаете ли, больше, чем жизнью, рисковать невозможно, а я уже сотни раз ставил из-за пустяков свою жизнь на карту!
— Пусть, но не забывайте, что в тех случаях вашу жизнь могла спасти сила ваших рук. Теперь же вы осмеливаетесь выступать против такого могущества, которое способно раздавить нас обоих, а защитить нас может не сила рук, не умение драться, а тонкий расчет. Достаточно малейшей неловкости, чтобы погибнуть, потому что вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что мы можем спастись, изменив лорду Лейстеру. От вас и от меня зависит низвергнуть его, но достаточно одного его слова, чтобы он похоронил и нас в своем падении, потому что королева не пощадит исполнителей воли лорда, если решит отомстить ему. Моей целью — а если вы хотите стать моим помощником, а не слугой, то и вашей — должна быть непрестанная забота ограждать графа от малейшей опасности, сохраняя однако в своих руках оружие против него, чтобы он не вздумал отделаться от нас так же, как теперь отделывается от своих бывших друзей.
— Так оно и есть, Кингтон, и потому-то вы и позаботились об исчезновении священника и о перенесении в надежное место документа из церковной книги. Я преследовал ту же цель, что и вы, и потому постарался обеспечить себе в Ламберте и сэре Брае оружие против вас на тог случай, если вы захотите устранить меня!
— Что вы наделали? Несчастный! Да разве вы не знаете, что Брай — непреклонный человек?
— Я завел с ним переговоры и очень доволен их результатом. Он поклялся мне, что скроется из Англии и никогда более не вернется обратно, если я доставлю ему доказательства, что брачная церемония графа и графини Лейстер действительно состоялась и что лорд был вынужден прибегнуть к насилию против него лишь потому, что он и Сэррей грозили погубить его своим недоверием.
Черты лица Кингтона прояснились, а взор засверкал торжеством. Он видел, что Пельдрам не предал лорда, а только хотел оградить себя самого от предательства.
— Ну а Ламберт? — спросил он.
Ламберт поклялся мне хранить тайну лорда от всех и каждого, если я помогу ему вернуть дочь. Он хочет скрыться с ней в Шотландию.
— И вы послали его в Ратгоф-Кастл?
Ну нет! — хитро улыбнулся Пельдрам. — Я не так глуп! Я хочу, чтобы он мог убежать в Шотландию, а вы уже, наверное, позаботились бы, чтобы его убили в Ратгоф-Кастле!
— Значит, он спрятан здесь, в замке?
— Здесь или где-нибудь в другом месте, но вам его не найти. Если он не будет иметь возможности в определенное время обнять Тони на шотландской территории и убедиться, что никто не осмелился обесчестить ее, то он явится в Лондон обвинять вас. Если же его требования будут удовлетворены мною, он будет мне глубоко благодарен за то, что я помог его дочери вырваться из ваших тисков.
Кингтон, еле сдерживая ярость, понял, что Пельдрам перехитрил его и позаботился запастись против него столь же надежным оружием, какое он, Кингтон, имел против графа Лейстера.
— Клянусь, если бы я когда-нибудь мог предположить, что вы умеете так тонко рассчитывать ходы, то открылся бы вам во всем и мы вместе уже давно предупредили бы всякую опасность, — воскликнул он. — Ну, по рукам! Я принимаю все, что вы обещали Ламберту. Мне это тем легче сделать, что я имею виды теперь на другую женщину и охотно уступаю вам крошку Тони, которая должна будет унаследовать все богатства скряги Ламберта.
Пельдрам, пожав руку Кингтона, произнес:
— Я слышал, вы вместе с лордом Сэрреем отправляетесь в Ратгоф-Кастл. Я буду сопровождать вас, чтобы посмотреть, что там происходит; надеюсь, вы ничего не будете иметь против?
Кингтон даже ахнул. Он не ожидал такого предложения, но довольно скоро овладел собой. Все же утешением для него была откровенность Пельдрама, она заставляла предполагать, что Пельдрам может быть неосторожным. А для того, чтобы оплести такого простака сетью хитроумных интриг, не могло быть человека, более способного, чем Кингтон. Из последнего предложения Пельдрама было видно, что тот вполне возмещал энергией и дальновидностью то, чего ему не хватало в хитрости и изворотливости.
— Ахи — это еще не ответ на мой вопрос, — насмешливо сказал Пельдрам.
Вы неправильно истолковываете мое изумление, — поспешно ответил Кингтон, — я просто удивлен той манерой, с которой вы отвергаете предлагаемую дружбу и сомневаетесь в самых святых заверениях…
— Дружба!… Святые уверения!… — повторил Пельдрам.
— Ну ей-Богу же, сэр Кингтон, я не так глуп, как вы думаете. Раз у вас хватает совести быть готовым в любой момент предать графа Лейстера, то что же остановит вас сделать это по отношению ко мне! Словом, с настоящего момента я доверяю вам лишь постольку, поскольку могу следить за вами своими глазами. Поэтому, чтобы не быть обманутым, я отправляюсь вместе с вами.
— Но подумали ли вы, что разрешение отправиться со мной в Ратгоф-Кастл зависит не от меня, что это может разрешить только сэр Ралейг?
— Вот хорошо, что вы напомнили мне о наших гостях! — воскликнул Пельдрам. — Я должен позаботиться о них как представитель графа. А в Ратгоф-Кастл я могу найти дорогу и без вашего общества. Вам после всех сегодняшних треволнений, наверное, нужен покой, так что желаю вам спокойной ночи! — Пельдрам повернулся и вышел из комнаты.
«Проклятье! — подумал Кингтон, — этот субъект в состоянии все испортить мне! Самым простым выходом было бы запустить ему в тело несколько дюймов железа, но для этого Ратгоф-Кастл — несравненно более удобное место, а Джонстон работает к тому же на славу!».
До известной степени успокоенный этой мыслью, Кингтон поспешил подслушать, что говорят между собой Сэррей и Ралейг. С этой целью он отправился в тайник, из которого можно было наблюдать за всем происходящим в той комнате, где остановился Ралейг. Он был уверен, что Сэррей непременно придет поговорить с ним о дальнейших поисках.
Кингтон застал их разговор, но пришел слишком поздно, чтобы услышать что-нибудь полезное. Лишь в прощальных словах Сэррея он уловил, что между ними пробежала какая-то тень, и это еще более заставило его поругать в душе Пельдрама, из-за разговора с которым он был лишен возможности сделать ценные наблюдения. Кингтон видел, что Ралейг, недовольный навязанным ему поручением, вообще не был расположен выполнить его так, чтобы нанести какой-либо ущерб графу Лейстеру. Хотя по характеру Ралейг был прямым и честным, он не мог не дорожить своим положением при дворе. Дело сложилось так, что оставалось совершенно неопределенным, действительно ли обвинители руководствовались честными намерениями, поэтому он решил вести расследование с величайшей осторожностью, зная, насколько тонко и нагло разыгрывались придворные интриги.
Ралейг не пригласил Сэррея разделить с ним обед, но, когда тот пришел, вежливо принял его и любезно предложил сесть.
Сэррей поблагодарил за приглашение.
— Сэр, — сказал он, — вы слышали, что нам сообщил управляющий замка? Мне кажется, мы достаточно отдохнули и можем предпринять шаги в пользу освобождения того самого человека, появление которого особенно важно для меня.
По энергичному лицу сэра Ралейга скользнула тень недовольства, и прошло несколько минут, пока он ответил.
— Милорд, было бы очень смешно, если бы я вздумал отговариваться усталостью или плохой погодой в тех случаях, когда дело идет о службе королеве. Тем не менее, я не вижу причин к поспешности.
— Сэр! — резко напомнил Сэррей, — королева приказала…
— Совершенно верно! Я отлично помню приказание ее величества, я должен отыскать человека по имени Брай и в полной безопасности доставить его ее величеству, так как вы требуете его показаний.
— Этот человек найден, — воскликнул Сэррей, — пока он все еще находится в тюрьме, куда посажен без всяких оснований, и необходимо немедленно выпустить его на свободу.
— Это — уже мое дело — расследовать, справедливо или несправедливо посажен в тюрьму сэр Брай. Он найден, как вы только что сказали сами, и находится в полной сохранности. Ведь ясно, что там, где его стерегли в течение столь долгого времени, он может остаться и до того момента, когда его в полной безопасности отправят в Лондон.
— Но послушайте, сэр Ралейг, ведь этот человек неповинен, как сами вы изволили слышать из уст Кинггона во время его показаний в присутствии королевы!
— На это я уже ответил вам. Ему будет дано полное удовлетворение, но только не мной.
— Но в интересах графа Лейстера заставить исчезнуть этого человека, и так оно и будет, если мы немедленно не примем меры.
— Вы заблуждаетесь! Графу важно, чтобы сэр Брай был бы доставлен в Лондон, и граф, и слуга его — оба они поклялись своей головой в этом. Мы можем захватить Брая на обратном пути. Между прочим, до допроса сэра Брая вам не разрешается никаких непосредственных сношений с ним.
Делая это замечание, Ралейг имел в виду в высшей степени порядочную цель. Если обвинение Сэррея было основательно, тогда ему с Браем не о чем сговариваться; если бы обвинение было ложным, тогда никоим образом нельзя было допускать, чтобы, сговорившись между собой, они были в состоянии продолжать свои интриги.
— Сэр, хотя и косвенным образом, но вы делаете мне этими словами такой упрек, который я не могу оставить без внимания. Вы уже допустили, чтобы обитатели замка были извещены сэром Кингтоном о нашем прибытии. Неужели я должен допустить…
— Стойте, ни слова более! — загремел Ралейг.
Наступила длинная пауза. Ралейг наморщил лоб от возмущения. Но и Сэррей мрачным взглядом впился в уполномоченного королевы, а левая рука его судорожно сжала рукоятку меча.
Ралейг первым делом постарался подавить вспышку гнева, и мало-помалу черты его лица приняли более спокойное выражение.
— Милорд Сэррей, — медленно и выразительно сказал он, — я не подчинен вам в этом расследовании и буду исполнять данное мне поручение так, как сочту это нужным. Отвечать за свои действия я буду только перед королевой. Мне поручено найти двух человек, и я найду их обоих и доставлю к ее величеству; насколько я могу при этом руководствоваться вашими указаниями, это — уже мое дело.
Сэррей встал и добавил с поклоном:
— Честь и счастье дорогого мне существа поставлены на карту в данном деле так же, как и моя собственная жизнь и честь. Мальчишеские проделки бесчестного человека возмутили меня, и я боюсь нового преступления. Поэтому-то я и обращаюсь к вам с вопросом: неужели вы не хотите лично убедиться в безопасности Брая?
— Я завтра увижу этого человека.
— Может быть, мое честное слово не общаться с Браем и данное им обязательство отправиться в Лондон окажутся достаточными, чтобы вы освободили его от незаслуженного ареста?
— Сэр Брай останется, где он есть! — ответил Ралейг, поднимаясь в свою очередь.
Сэррей, еле сдержав себя, вышел из комнаты, где уселся в кресло и, не обращая внимания на накрытый ужин, тяжело опустил голову на руки.
Он подумал о том, что Ралейгу явно противно возложенное на него поручение, что он всеми силами постарается не получить доказательств против Лейстера. Однако он надеялся, что прирожденная честность и порядочность не позволят ему скрыть явные улики, если они все-таки попадутся ему. Но как добыть эти улики в таком лабиринте подлости, интриг и предательства?
Вдруг внезапно блеснувшая мысль заставила Сэррея вскочить. Не притронувшись к еде и питью, он прошел в спальню и не раздеваясь, бросился на кровать. Он был так истощен физически и нравственно, что крайне нуждался в отдыхе.
II
Из всего разговора Сэррея с Ралейгом Кингтон уловил только то, что сэр Брай останется там, где он есть; на этом Кингтон и решил построить свои дальнейшие комбинации.
Он задумался над идеей Пельдрама, чтобы извлечь свои выгоды из той подготовительной работы, которую тот сделал. Раз Брай решил немедленно удалиться, как только ему дадут неопровержимые доказательства законности брака Филли, то он мог склониться в пользу того, чтобы дать показания, благоприятствующие графу Лейстеру, так как этим оказал бы услугу Филли. Но подобное доказательство ему мог дать один только Кингтон. И то, что он вынул этот документ из книги метрик, он мог оправдать тем, чтобы помешать сделать это другим, которым могло бы быть на руку уничтожить все следы законности союза Лейстера с Филли.
С одной стороны, Кинггон рассчитывал на легковерие Брая, с другой — на его честность, которая не позволит изменить раз данному обещанию. Брай обещает явиться ко двору и явится. Но это должно было случиться до возвращения Сэррея. Ну, а если не явится Брай, тогда… Лицо Кинггона озарила дьявольская улыбка, и на этот случай у него тоже был готов план.
Брай был арестован, и его сторожили очень надежно, граф Лейстер и он, Кингтон, поручились жизнью за то, что доставят его в Лондон. Было бы безумием предположить, что при таких обстоятельствах они постараются заставить его исчезнуть… Но как только явился Сэррей, Брай исчез… У этого Сэррея есть слуга, хороший парень, с ним Кингтону удалось отлично сойтись по дороге… Может выйти знатная штука!
Эта новая мысль переполнила Кинггона такой радостью, что к себе в комнату он вернулся в самом радужном настроении духа. Там уже был накрыт ужин. Кинггон с жадностью выпил несколько стаканчиков вина, еще более успокоившись. Продолжая потягивать вино, он окончательно решил отправиться в Лейстершир, чтобы начать там переговоры с Браем. Но пока перебирал в уме отдельные детали намеченного плана, усталость все более и более клонила его в сон. Кинггон прилег на минуту отдохнуть на диван и почувствовал, как сознание ускользает от него, как, словно налитые свинцом, опускаются тяжелые веки и, тяжело дыша, заснул на диване.
Через час дверь его комнаты тихонько открылась, и на пороге показался Пельдрам; следом за ним вошел Ламберт. Пельдрам снова закрыл дверь и запер ее изнутри.
За первым разговором Пельдрама и Ламберта последовало много других в таком же духе и старый Ламберт не упустил возможности глубоко посеять в сознании Пельдрама ростки недовольства и зависти, которые дали богатые всходы. Большой подмогой старику в данном случае оказались скука и одиночество Пельдрама, который постепенно открыл старику содержание посылаемых им докладов, рассказал, какими мерами он надеялся обеспечить себя от болтливости Ламберта и, наконец, даже назвал ему место, куда Кингтон отвез Филли и Тони.
Ненависть и зависть служат очень могущественными источниками энергии. Проникнувшись полным доверием к Ламберту, Пельдрам начал все более и более склоняться к его предложениям. Мнение Лаберта, что им надо отправиться в Ратгоф-Кастл, чтобы увезти оттуда обеих женщин, он решительно опротестовал, но поговорить с Браем согласился, и за первоначальным посещением к нему последовало много других.
Пельдрам в конце концов составил себе план действия, который должен был удовлетворить всех троих, в особенности же его самого. Результатами этого плана должно было быть то, что Ламберт получит обратно свою дочь, Брай — свободу, а он сам — значительную сумму денег от графа, который будет вынужден заплатить ему под угрозой свидетельских показаний Ламберта, Тони и Брая; в особенности же хорошую услугу могло оказать предъявление удаленного из книги метрик листочка.
План был великолепен, но ему не хватало для полного проведения в жизнь самого пустяка, а именно — упомянутого документа, который, по всей очевидности, все еще находился в руках Кингтона, и Пельдрам много думал над тем, как бы перехитрить Кингтона и выкрасть у него этот документ, чтобы вышибить его из седла.
План Пельдрама был уже выработан, когда пришло известие от Кингтона, что он вместе с королевским комиссаром и лордом Сэрреем прибудет в Кэнмор-Кастл для розыска и что необходимо довести Ламберта до того, чтобы он и мысли не имел дать какие-либо неудобные показания; во всяком случае до того, как с Ламбертом не поговорит сам Кингтон, его не следовало представлять приезжим. Подобные же инструкции давались относительно Брая.
Пельдрам отпустил гонца и поспешил к Ламберту. Тот уже заметил гостя и сгорал от нетерпения узнать о привезенных новостях.
Пельдрам сообщил ему обо всем и потом возбужденно прибавил:
— Ну, что вы теперь скажете? Что нам теперь делать?
Ламберт понял, что шаги Сэррея увенчались успехом, что он благополучно довел свою жалобу до сведения королевы. Это переполнило его радостью, и он ответил:
— Если лорд Сэррей явится при таких обстоятельствах, то все хорошо, и нам совершенно не придется заботиться о чем бы то ни было!
— Вы так думаете? — усомнился Пельдрам. — Но вы ошибаетесь! Послушайте-ка, что дальше будет, потому что вы знаете далеко еще не все. Очевидно, Кингтон предполагает, что я держу вас под замком, как он приказал, и предписывает мне принудить вас угрозами показать комиссару, что вам ничего не известно о супружестве графа; одновременно и сэра Брая тоже приказано обработать, только другим способом. Из всего следует, что хотя Сэррей и подал королеве жалобу, но не мог подкрепить ее бесспорными уликами. Даже больше — эти улики, очевидно, очень слабоваты, раз для получения их послали с комиссаром даже Кинггона. Ну а вы сами понимаете, что там, где этот молодчик начнет мутить воду, не скоро доберешься до истины.
— Неужели это правда? — огорчился Ламберт. — Но все-таки что же вы решили?
— Прежде всего сделать то, что я должен, — запереть вас! Мы служим, да и хотим служить графу Лейстеру. Но, не изменяя ему, нам следует позаботиться, чтобы ваша дочь навсегда освободилась от силков Кинггона, а я заступил его место около графа. Ну, что вы об этом думаете?
— О, если бы это удалось, сэр Пельдрам!
— Должно удасться, и для этого нам не нужно ни комиссара, ни Сэррея. Лишь бы мне удалось выкрасть у Кингтона документ. Я твердо решил отстранить вас от них и заявить, что вы скрылись, если же наше предприятие не удастся, то у нас всегда будет время вступить в переговоры с прибывающими господами!
— Я что-то не совсем понимаю вас, сэр Пельдрам! — задумался Ламберт.
— И этого достаточно, — буркнул Пельдрам. — Вашему нетерпению скоро придет конец, так как я твердо рассчитываю, что вы поможете мне отнять у сэра Кинггона его документ и полномочия. Если это удастся, то достаточно будет одного моего слова, чтобы ваша дочь стала свободной.
— Но как вы намерены поступить? — спросил Ламберт и, смутившись, добавил: — Знаете ли, мне пришла в голову очень хорошая мысль! Видите ли, бывают вина совершенно чистые, а бывают и такие, в которые что-нибудь подмешано. Приезжие, вероятно, пробудут в замке некоторое время…
— Отлично, старик! Я всегда подозревал в вас отравителя!
— Я совсем не отравитель! — перекрестился старик.
— Ну, что нам спорить о словах! Однако надо позаботиться об уборке комнат для приема гостей. Когда работа будет кончена, я отошлю парней обратно в деревню, ну а уж тех, кто здесь останется, я настрою, как следует.
С того времени заговорщики не имели больше времени потолковать наедине. Ламберт приготовил необходимую примесь к вину и своевременно передал ее Пельдраму.
Обойдя дозором весь дом, Пельдрам отправился за Ламбертом и освободил его из заключения. Затем они вместе вошли в комнату Кингтона.
Тот лежал недвижим, словно мертвец. Только тяжелое дыхание выдавало, что жизнь в нем еще не погасла.
— Вам ни к чему соблюдать особенную осторожность, — сказал Ламберт, — вплоть до утра он не проснется, хоть стреляй из пушек под самым ухом.
— Тем лучше! — кивнул Пельдрам. — Однако скорее за работу! Нам некогда терять время.
Они начали вместе перебирать все вещи спящего, долго все их старания оставались тщетными, и Пельдрам неоднократно собирался бросить это дело. Наконец на Кингтоне они нашли зашитыми в платье искомый документ и доверенность.
Пельдрам страшно обрадовался, когда овладел этими бумагами.
— Теперь седлайте поскорее лошадей! — сказал он. — Две-три, да не забудьте одну для сэра Брая. И чтобы он ни в коем случае не встретился с милордом Сэрреем. Пусть бежит куда-нибудь подальше или отправляется вместе с вами.
— А мы!… Куда мы отправимся?
— Прямо в Ратгоф-Кастл!
Ламберт стал проворным, словно юноша. Он поторопился оседлать коней и подвел их к воротам. Пельдрам набил свою дорожную сумку всеми необходимыми для далекого путешествия продуктами и захватил большую сумму денег. Оба вскочили в седла и поскакали в Лейстершир, куда намечали прибыть около полуночи.
Наконец Пельдрам остановился и приказал Ламберту подождать его, а сам поспешно зашагал по улице по направлению к старой башне и скоро скрылся в темноте.
Ламберт ждал, как ему было назначено, но проходил час за часом, а Пельдрам все не возвращался. Ламберт почувствовал непонятную тревогу, наконец его беспокойство перешло в открытое недоверие.
Уже начинало рассветать, когда старик наконец принял определенное решение. Он привязал лошадей, отправился в деревню и спросил у башенного сторожа о Пельдраме.
Тот ответил, что сэр Пельдрам прибыл около полуночи, но, пробыв в камере заключенного с полчаса, снова ушел.
Ламберт не мог уже далее сомневаться, что его провели как мальчишку. Он торопливо пошел назад к лошадям, ему ничего больше не оставалось, как обратиться к Сэррею. И вот он сел верхом, чтобы поскакать обратно в Кэнмор-Кастл. Когда он вернулся обратно в замок, то был уже полный день. Обитатели выказывали необыкновенное возбуждение, все наперебой кричали что-то, но особенно неистовствовал Кингтон, который, завидя Ламберта, прямо набросился на него.

Глава двадцать шестая
ОБМАНУТЫЙ РАСЧЕТ

I
 Оставив старого Ламберта, Пельдрам зашагал к Ланкастерской башне. Придя туда, он дернул за висевший около узенькой дверцы звонок и через несколько минут уже входил в камеру, где долгое время томился в заключении Брай.
Благодаря строгому посту в сыром погребе он стал много мягче в обращении и уже не впадал в такие приступы бешенства, как это бывало в первое время его заключения.
Брай был прикован цепями за руки и за ноги, его ложе состояло из гнилой соломы, а пища — из хлеба и воды. Но условия значительно изменились к лучшему с тех пор, как Пельдрам стал навещать его.
— А, сэр! — сказал Пельдрам. — Вы бодрствуете? Тем лучше! Быть может, сегодня суждено сбыться вашим желаниям, если только мы с вами столкуемся.
Брай испытующе поглядел на Пельдрама.
— Все зависит от того, чего вы потребуете, — ответил он.
— Вы, главным образом, желали убедиться, что молодая женщина, судьба которой вас так озабочивает, состоит в законном браке с графом Лейстером?
— Это — почти все, чего я желаю. Если я буду уверен в этом, то все остальное, даже моя собственная судьба, в значительной степени безразличны мне.
— Ну, так я могу показать вам это доказательство! Мне удалось овладеть выкраденным из книги метрик листком — вот он!
Пельдрам протянул Браю запись о бракосочетании графа Лейстера и поднял фонарь, чтобы тот мог прочесть его содержание.
Брай схватил листок дрожащими руками. Там были поименованы все свидетели церемонии, действительно, венчание было совершено по всей форме и вполне законным образом.
— Да будет благословен Бог! — сказал он с тяжелым вздохом. — Но, значит, и я и Сэррей очень несправедливы к графу, он был совершенно прав, когда старался отделаться от нас. Но как попал к вам этот листок?
— Я вытащил его у этого негодяя Кингтона!
— А что могло заставить его выкрасть листок?
— Ну, это нетрудно отгадать! Очевидно, он хотел воспользоваться им в качестве орудия вымогательства против графа!
— Черт возьми! Но ведь граф принимал участие в этой подлости!
— Неужели вы думаете, что граф оставил бы такой важный документ в руках слуги, если бы ему было желательно уничтожить всякие следы венчания? Нет, нет! Кингтон хотел воспользоваться документом в своих интересах и провести графа. Но настала пора, когда нужно открыть графу глаза на подлые проделки его слуги!
— Но что вы собираетесь теперь предпринять?
— Я хочу отправиться прямо к графу, передать ему документ и обвинить Кингтона. Мне кажется, что в награду за это я могу потребовать, чтобыменя назначили вместо Кингтона. Если хотите, то можете отправиться вместе со мной.
В глазах Брая сверкнул огонь недоверия.
— Ну а Ламберт? — спросил он. — Что стало с ним, или что должно стать с ним?
— Он тоже будет сопровождать вас.
Брай помолчал некоторое время и, казалось, раздумывал.
— Нет! — пробормотал он наконец. — Я не могу идти с вами! Если граф поступал вполне честно и не таил против Филли никаких преступных планов, то я слишком глубоко обидел его, чтобы простое объяснение могло бы все искупить. Но я не имею права и встретиться с ним с мечом в руках и лучше соглашусь безропотно принять его упрек в трусости, чем дать удовлетворение таким путем. Я не могу идти с вами, Пельдрам, да и после того, что случилось, и Филли тоже едва ли захочет меня видеть, быть может, она ненавидит меня…
— Я не собираюсь заставлять вас отправляться со мною. Но если граф действительно имеет желание порвать всякие отношения с Филли, то, сделав все это, я сыграл в его глазах очень дурную шутку и поэтому может статься, что вместо награды меня ждет нечто совсем другое. Вот на этот случай мне и могли бы понадобиться ваша помощь и поддержка!
— И, клянусь Богом, это так и будет, — вскочил Брай, — если только мне удастся выбраться из этой клетки!
— Я выпущу вас на свободу, если вы обещаете ожидать в условленном месте — может быть, в Лондоне — вестей от меня!
— Согласен, даю слово!
— Ну и ладно! — ответил Пельдрам.
Отыскав нужные ключи, Пельдрам сначала отомкнул железное кольцо, которым было схвачено тело Брая и которое было связано цепью со стеной, затем освободил пленника от ножных оков и в заключение снял наручники. Цепи со звоном упали на пол.
Брай молча следил за работой Пельдрама, только его грудь тяжело дышала. Когда же он почувствовал, что наконец свободен, то издал такой крик радости, который сначала оглушил Пельдрама, а потом заставил его рассмеяться.
Брай потянулся всем телом и принялся разминать руки и ноги, сгибая и разгибая их и прохаживаясь крупными шагами по камере. Как будто случайно, он подошел к двери камеры, заглянул в коридор и потом повернулся к Пельдраму. Тот не заподозрил ничего дурного, когда Брай вплотную подошел к нему.
— Клянусь Богом, — сказал Брай, — ведь это ж подлость — загонять человека в такие железные тиски. Но, слава Богу, теперь я свободен, а это самое главное. Сэр Пельдрам! Я отплачу за это, чем могу, но только в свое время!
При этих словах Брай вытянул вперед обе руки к Пельдраму, который, сочтя это за желание освобожденного узника обнять его в знак признательности, даже не отшатнулся. Но в тот же момент левая рука Брая охватила его затылок, а правая схватила за горло. Под этим двойным захватом Пельдрам закачался.
— Черт!… Брай! — простонал он. — Да вы с ума сошли, что ли?
Брай же продолжал душить его и совсем притиснул к полу. Лицо Пельдрама почернело, глаза выкатились из орбит, жилы на лбу вздулись, и язык высунулся изо рта. Когда Брай увидел эти признаки и мог быть уверен, что побежденный не будет больше в состоянии кричать, он несколько ослабил тиски своих рук, но постарался при помощи колен подтолкнуть Пельдрама поближе к стене, в то место, где находились только что упавшие с него самого узы.
— Мне очень прискорбно, что пришлось сыграть с вами такую штуку, сэр Пельдрам, — сказал он, — но иначе ничего нельзя было поделать. Слышите ли вы меня и понимаете ли, что я говорю?
Пельдрам утвердительно прохрипел.
— Я принужден посадить вас вместо себя, — сказал Брай, надевая на него наручники и цепи, — и вполне уверен, что вы долго не останетесь моим заместителем. Когда вы освободитесь, то можете думать обо мне что угодно, и предпринимать против меня все что сочтете нужным, но мне кажется, что этот листочек будет у меня в большей сохранности, чем у вас. Поэтому я возьму его, а для того, чтобы иметь возможность выйти отсюда и в случае нужды защищаться, я прихвачу также и ваше оружие. Поэтому лучше не противьтесь моему желанию, иначе вы только заставите меня обойтись с вами более сурово, чем, быть может, я хотел бы, так как я уже сказал вам, что совершенно не желал бы покушаться на вашу жизнь.
Пельдрам попытался сказать что-то, но это совершенно не удалось ему.
— Не теряйте понапрасну слов, сэр! — сказал Брай, заметив намерение побежденного. — Вы только не сопротивляйтесь, пока я навешу на вас все эти украшения, это — все, что я хочу от вас.
Пельдрам бы совершенно беззащитен, он только и мог, что набрать немного воздуха, достаточного, чтобы кое-как поддержать замирающее пламя его жизни. Поэтому Брай не встретил с его стороны никакого сопротивления, когда опоясал его железным кольцом. Сделав это, он выпустил Пельдрама из рук, и тот тяжело, словно мешок, рухнул на пол.
— Да, да, мне и в самом деле очень жалко, — повторил Брай, — что я вынужден обойтись с вами таким образом, но этот документ слишком важен, чтобы ему оставаться в руках негодяя, а если вы и не являетесь таким злодеем, как Кингтон, то нет ни малейшего основания ценить вас много выше его.
Пельдрам разными движениями выказывал желание что- то сказать своему противнику. Но Брай ударил его рукой по губам.
— Кто не хочет слушать, должен почувствовать! — сказал он, оглядываясь на дверь. — Я вам уже раньше говорил это. Только не хватало, чтобы вы кого-то позвали на помощь!
Если бы Брай только мог себе представить, что хотел сообщить ему побежденный Пельдрам, то он не стал бы так заботиться о безопасности и был бы избавлен от многих мытарств. Но после всех этих неудачных попыток Пельдрам опустил голову и не возобновлял больше стараний объясниться. Брай надел на него ножные кандалы. Теперь Пельдрам почти не был в состоянии сдвинуться с места.
Подняв упавший на пол документ и даже не посмотрев на остальные бумаги, Брай взял меч, кинжал и пистолеты побежденного. Торопливо схватив фонарь и ключи, Брай поспешил выйти из камеры, приняв все необходимые меры предосторожности, запер дверь и поставил фонарь вместе со связкой ключей перед входом в помещение сторожа Ральфа, затем скользнул в башенную дверь и выбрался на Божий свет.
Ральф, вышедший на шум, произведенный уходом посетителя, послал ему вслед несколько проклятий, мимоходом глянул в камеру убедиться, здесь ли еще доверенный его попечениям арестант, и снова ушел к себе, чтобы отдаться прерванному сну.
Так что старый Ламберт мог бы до бесконечности поджидать появления Пельдрама.
Оставив старого Ламберта, Пельдрам зашагал к Ланкастерской башне. Придя туда, он дернул за висевший около узенькой дверцы звонок и через несколько минут уже входил в камеру, где долгое время томился в заключении Брай.
Благодаря строгому посту в сыром погребе он стал много мягче в обращении и уже не впадал в такие приступы бешенства, как это бывало в первое время его заключения.
Брай был прикован цепями за руки и за ноги, его ложе состояло из гнилой соломы, а пища — из хлеба и воды. Но условия значительно изменились к лучшему с тех пор, как Пельдрам стал навещать его.
— А, сэр! — сказал Пельдрам. — Вы бодрствуете? Тем лучше! Быть может, сегодня суждено сбыться вашим желаниям, если только мы с вами столкуемся.
Брай испытующе поглядел на Пельдрама.
— Все зависит от того, чего вы потребуете, — ответил он.
— Вы, главным образом, желали убедиться, что молодая женщина, судьба которой вас так озабочивает, состоит в законном браке с графом Лейстером?
— Это — почти все, чего я желаю. Если я буду уверен в этом, то все остальное, даже моя собственная судьба, в значительной степени безразличны мне.
— Ну, так я могу показать вам это доказательство! Мне удалось овладеть выкраденным из книги метрик листком — вот он!
Пельдрам протянул Браю запись о бракосочетании графа Лейстера и поднял фонарь, чтобы тот мог прочесть его содержание.
Брай схватил листок дрожащими руками. Там были поименованы все свидетели церемонии, действительно, венчание было совершено по всей форме и вполне законным образом.
— Да будет благословен Бог! — сказал он с тяжелым вздохом. — Но, значит, и я и Сэррей очень несправедливы к графу, он был совершенно прав, когда старался отделаться от нас. Но как попал к вам этот листок?
— Я вытащил его у этого негодяя Кингтона!
— А что могло заставить его выкрасть листок?
— Ну, это нетрудно отгадать! Очевидно, он хотел воспользоваться им в качестве орудия вымогательства против графа!
— Черт возьми! Но ведь граф принимал участие в этой подлости!
— Неужели вы думаете, что граф оставил бы такой важный документ в руках слуги, если бы ему было желательно уничтожить всякие следы венчания? Нет, нет! Кингтон хотел воспользоваться документом в своих интересах и провести графа. Но настала пора, когда нужно открыть графу глаза на подлые проделки его слуги!
— Но что вы собираетесь теперь предпринять?
— Я хочу отправиться прямо к графу, передать ему документ и обвинить Кингтона. Мне кажется, что в награду за это я могу потребовать, чтобыменя назначили вместо Кингтона. Если хотите, то можете отправиться вместе со мной.
В глазах Брая сверкнул огонь недоверия.
— Ну а Ламберт? — спросил он. — Что стало с ним, или что должно стать с ним?
— Он тоже будет сопровождать вас.
Брай помолчал некоторое время и, казалось, раздумывал.
— Нет! — пробормотал он наконец. — Я не могу идти с вами! Если граф поступал вполне честно и не таил против Филли никаких преступных планов, то я слишком глубоко обидел его, чтобы простое объяснение могло бы все искупить. Но я не имею права и встретиться с ним с мечом в руках и лучше соглашусь безропотно принять его упрек в трусости, чем дать удовлетворение таким путем. Я не могу идти с вами, Пельдрам, да и после того, что случилось, и Филли тоже едва ли захочет меня видеть, быть может, она ненавидит меня…
— Я не собираюсь заставлять вас отправляться со мною. Но если граф действительно имеет желание порвать всякие отношения с Филли, то, сделав все это, я сыграл в его глазах очень дурную шутку и поэтому может статься, что вместо награды меня ждет нечто совсем другое. Вот на этот случай мне и могли бы понадобиться ваша помощь и поддержка!
— И, клянусь Богом, это так и будет, — вскочил Брай, — если только мне удастся выбраться из этой клетки!
— Я выпущу вас на свободу, если вы обещаете ожидать в условленном месте — может быть, в Лондоне — вестей от меня!
— Согласен, даю слово!
— Ну и ладно! — ответил Пельдрам.
Отыскав нужные ключи, Пельдрам сначала отомкнул железное кольцо, которым было схвачено тело Брая и которое было связано цепью со стеной, затем освободил пленника от ножных оков и в заключение снял наручники. Цепи со звоном упали на пол.
Брай молча следил за работой Пельдрама, только его грудь тяжело дышала. Когда же он почувствовал, что наконец свободен, то издал такой крик радости, который сначала оглушил Пельдрама, а потом заставил его рассмеяться.
Брай потянулся всем телом и принялся разминать руки и ноги, сгибая и разгибая их и прохаживаясь крупными шагами по камере. Как будто случайно, он подошел к двери камеры, заглянул в коридор и потом повернулся к Пельдраму. Тот не заподозрил ничего дурного, когда Брай вплотную подошел к нему.
— Клянусь Богом, — сказал Брай, — ведь это ж подлость — загонять человека в такие железные тиски. Но, слава Богу, теперь я свободен, а это самое главное. Сэр Пельдрам! Я отплачу за это, чем могу, но только в свое время!
При этих словах Брай вытянул вперед обе руки к Пельдраму, который, сочтя это за желание освобожденного узника обнять его в знак признательности, даже не отшатнулся. Но в тот же момент левая рука Брая охватила его затылок, а правая схватила за горло. Под этим двойным захватом Пельдрам закачался.
— Черт!… Брай! — простонал он. — Да вы с ума сошли, что ли?
Брай же продолжал душить его и совсем притиснул к полу. Лицо Пельдрама почернело, глаза выкатились из орбит, жилы на лбу вздулись, и язык высунулся изо рта. Когда Брай увидел эти признаки и мог быть уверен, что побежденный не будет больше в состоянии кричать, он несколько ослабил тиски своих рук, но постарался при помощи колен подтолкнуть Пельдрама поближе к стене, в то место, где находились только что упавшие с него самого узы.
— Мне очень прискорбно, что пришлось сыграть с вами такую штуку, сэр Пельдрам, — сказал он, — но иначе ничего нельзя было поделать. Слышите ли вы меня и понимаете ли, что я говорю?
Пельдрам утвердительно прохрипел.
— Я принужден посадить вас вместо себя, — сказал Брай, надевая на него наручники и цепи, — и вполне уверен, что вы долго не останетесь моим заместителем. Когда вы освободитесь, то можете думать обо мне что угодно, и предпринимать против меня все что сочтете нужным, но мне кажется, что этот листочек будет у меня в большей сохранности, чем у вас. Поэтому я возьму его, а для того, чтобы иметь возможность выйти отсюда и в случае нужды защищаться, я прихвачу также и ваше оружие. Поэтому лучше не противьтесь моему желанию, иначе вы только заставите меня обойтись с вами более сурово, чем, быть может, я хотел бы, так как я уже сказал вам, что совершенно не желал бы покушаться на вашу жизнь.
Пельдрам попытался сказать что-то, но это совершенно не удалось ему.
— Не теряйте понапрасну слов, сэр! — сказал Брай, заметив намерение побежденного. — Вы только не сопротивляйтесь, пока я навешу на вас все эти украшения, это — все, что я хочу от вас.
Пельдрам бы совершенно беззащитен, он только и мог, что набрать немного воздуха, достаточного, чтобы кое-как поддержать замирающее пламя его жизни. Поэтому Брай не встретил с его стороны никакого сопротивления, когда опоясал его железным кольцом. Сделав это, он выпустил Пельдрама из рук, и тот тяжело, словно мешок, рухнул на пол.
— Да, да, мне и в самом деле очень жалко, — повторил Брай, — что я вынужден обойтись с вами таким образом, но этот документ слишком важен, чтобы ему оставаться в руках негодяя, а если вы и не являетесь таким злодеем, как Кингтон, то нет ни малейшего основания ценить вас много выше его.
Пельдрам разными движениями выказывал желание что- то сказать своему противнику. Но Брай ударил его рукой по губам.
— Кто не хочет слушать, должен почувствовать! — сказал он, оглядываясь на дверь. — Я вам уже раньше говорил это. Только не хватало, чтобы вы кого-то позвали на помощь!
Если бы Брай только мог себе представить, что хотел сообщить ему побежденный Пельдрам, то он не стал бы так заботиться о безопасности и был бы избавлен от многих мытарств. Но после всех этих неудачных попыток Пельдрам опустил голову и не возобновлял больше стараний объясниться. Брай надел на него ножные кандалы. Теперь Пельдрам почти не был в состоянии сдвинуться с места.
Подняв упавший на пол документ и даже не посмотрев на остальные бумаги, Брай взял меч, кинжал и пистолеты побежденного. Торопливо схватив фонарь и ключи, Брай поспешил выйти из камеры, приняв все необходимые меры предосторожности, запер дверь и поставил фонарь вместе со связкой ключей перед входом в помещение сторожа Ральфа, затем скользнул в башенную дверь и выбрался на Божий свет.
Ральф, вышедший на шум, произведенный уходом посетителя, послал ему вслед несколько проклятий, мимоходом глянул в камеру убедиться, здесь ли еще доверенный его попечениям арестант, и снова ушел к себе, чтобы отдаться прерванному сну.
Так что старый Ламберт мог бы до бесконечности поджидать появления Пельдрама.
II
Слуги, которых Пельдрам оставил в старом здании, вышли утром во двор, чтобы дать корм содержавшимся в конюшнях замка животным. Разумеется, они обнаружили исчезновение трех уведенных Ламбертом лошадей.
Это показалось им странным. Но с тех пор, как в замке стали прятать молодую госпожу, слуги в достаточной мере привыкли к разным чудесным событиям, чтобы поднимать большой шум из-за трех пропавших лошадей. Поэтому они стали спокойно ожидать, пока им дадут объяснение по поводу пропажи лошадей, но это объяснение явилось в совершенно неожиданной для них форме.
Кингтон самым отличнейшим образом проспал все свои намерения. Когда он проснулся, то в его голове было так все спутано и туманно, что ему понадобилось довольно продолжительное время, чтобы сообразить, где он находится.
Вдруг луч света пронизал его сознание, Кингтон вскочил и разразился дикими проклятиями. Глянув на неубранный стол с остатками ужина, он обхватил руками трещавшую голову, так как сейчас же догадался, что произошло. Он первым делом хватился запрятанных бумаг и убедился, что эти столь важные для него и всецело его изобличающие документы исчезли.
— Меня обокрали! — крикнул он и некоторое время простоял, словно оглушенный, а затем стал кричать: — Меня обокрали! А, Пельдрам, негодяй, это ты?
Кингтон бросился из комнаты в коридор, оттуда к лестнице, продолжая звать Пельдрама и обвинять его в воровстве.
На этот крик сбежались все обитатели замка, появились и приезжие гости, и вскоре выяснилось, что Пельдрама нет в замке. Вот тут-то и выплыло дело о пропаже трех лошадей, что еще более подтверждало очевидность бегства Пельдрама. Кингтон стал носиться как сумасшедший по замку, а затем выбежал на двор, где теперь сосредоточился главный шум.
Как раз в этот момент появился Ламберт, и, едва увидев его, Кингтон набросился на него.
— Ты мошенник! — заорал он, схватив старика за горло и чуть не задушив его. — Ты помогал ему! Где этот негодяй, где мои бумаги? Говори!
Сэррей был сильно поражен появлением Ламберта, хотя нападение на него Кинггона удивило его гораздо меньше. Зато оно произвело очень большое впечатление на Ралейга, на лице которого ясно отразился гнев за то, что Кинггон позволил себе до такой степени забыться в его присутствии.
— Кто этот человек? — резко спросил он.
— Сэр, — ответил Сэррей, — это тот самый, которого я искал здесь. Это — Ламберт, который будет в состоянии дать нам очень важные показания. Но освободите его из рук этого сумасшедшего!
Ламберт потерял всякое самообладание от нападения Кингтона и с надеждой уставился на лорда Сэррея.
— Милорд! — дрожа, взмолился старик. — Спасите меня, защитите меня! Я во всем признаюсь! Ничего не утаю!
— Признавайся, собака! — заревел Кингтон, все еще вне себя от бешенства.
Ралейг окончательно рассердился на новое неуважение его авторитета со стороны простого слуги. Его рука тяжело легла на плечо Кингтона и резко оттолкнула от Ламберта.
— Здесь, кроме меня, никто не смеет приказывать! — заревел он громовым голосом. — Назад, говорю вам! Вы будете говорить только тогда, когда я спрошу вас. В чем вы можете признаться, старик?
Кингтона сильно напугал такой оборот дела. Его лицо вытянулось. К тому же он не мог не сознавать, что впервые изменил своей сдержанной, осторожной манере и попался как кур в ощип.
Ламберт смутился от вопроса Ралейга, затем в замешательстве вопросительно поглядел на Сэррея и наконец произнес:
— Милорд, я все скажу вам… Но только подходящее ли место для этого — двор?
— Совершенно верно! — согласился Ралейг, — Эй, люди, возьмите лошадей, а вы оба следуйте за нами!
Ралейг повернулся, чтобы войти обратно в замок. Но Кингтон уже успел подбежать к лошадям и хотел вскочить на одну из них. Сэррей и его слуга сейчас же подскочили к нему, так что Кинггону пришлось сделать вид, будто он и не собирался бежать. Стиснув зубы, он последовал за Ралейгом и Сэрреем. За ними шел Ламберт, сзади которого следовал слуга лорда Роберта.
В комнате, которую он занимал, Ралейг попросил Сэррея присесть, сел сам, а оба допрашиваемых остались стоять. Дверь комнаты охранялась слугами.
— Говорите! — приказал Ралейг Ламберту.
Тот прежде всего обратился к Сэррею:
— Простите мне, что я как будто действовал против вас, несмотря на данное вам обещание. Обстоятельства, которые будут видны из моих признаний, меня привели к этому. Но я не замышлял никакого предательства, да оно и не входило в мои расчеты. Сэр, — обратился он к комиссару, — прежде чем я начну говорить, прошу принять во внимание, что я страшно озабочен судьбой похищенной у меня дочери, которой каждый момент грозит страшная опасность, и что вам дает показания отец, у которого уже увели когда-то другую дочь, затем обесчестили ее и лишили жизни. Спасение моего ребенка было моей главной задачей, хотя я и принимаю самое горячее участие в судьбе другого существа, тоже ставшего жертвой подлого и злобного обмана!
Ралейг сделал жест нетерпения, и Ламберт замолчал, склонившись в глубоком поклоне.
— К делу, к делу, пожалуйста! — сказал Ралейг. — А вы, Кингтон, перестаньте делать свои знаки, иначе я вынужден буду поставить вас на место.
— Принимая во внимание, — продолжал Ламберт, — что вы появились здесь в обществе милорда Сэррея, я могу предположить, что вам известны последние события, происшедшие в этом замке. После увоза леди Лейстер сэр Пельдрам стал управляющим Кэнмор-Кастла и моим сторожем. Он был недоволен обращением Кингтона, и это недовольство навело его на мысль подставить Кингтону ножку, что он надеялся сделать, овладев выкраденным из книг метрик кэнморской церкви листком. Я вполне одобрил его план, так как он обещал за мое пособничество освободить мою дочь. На этом мы и порешили с ним. Вдруг вчера вы прибыли сюда. Узнав об этом, я не хотел действовать по этому плану, а собирался представить все вашему благоусмотрению. Но Пельдрам сумел уговорить меня, он доказывал мне, что вам гораздо лучше будет действовать без нас. И вот с моей помощью Пельдрам вытащил бумаги у Кингтона, и ночью мы отправились в Лейстершир, чтобы освободить сэра Брая.
— Скажите, этот листок оказался среди бумаг?
— Да, сэр.
— А сэр Брай освобожден?
— Не думаю! Долго прождав возвращения Пельдрама, я справился и узнал, что он пробыл у сэра Брая очень недолгое время и потом ушел. Из этого я понял, что он меня обманул, и потому вернулся сюда.
— Сэр Ралейг! — подал голос Кингтон.
— Молчите! — громовым голосом оборвал его Ралейг. — Я не желаю слышать от вас ни слова.
Хотя Кингтон и повиновался, но было ясно, что это стоило ему большого труда.
Тогда Ралейг, не продолжая допроса Ламберта, обратился к Сэррею:
— Как вы знаете — об этом я не раз говорил вам, — я не могу высказать свое суждение, но все слышанное мною здесь убеждает меня, что слуга Лейстера обманул и провел не только его, но и ее величество. Этого достаточно, чтобы задержать его вместе с тем стариком и отправить в Лондон. В то же время я считаю нашу задачу оконченной.
Сэррей смутился и наконец произнес:
— Разве вы забыли о сэре Брае?
— Я совсем не забыл о нем, мы найдем его и узнаем, чего Пельдрам хотел от него.
— А вы не намерены увезти молодую даму из Ратгоф-Кастла? Она, по-видимому, главное действующее лицо, только ее показания могли бы внести свет в это дело. Лейстер дал мне слово, что состоит в супружестве с молодой леди, этот человек утверждает, что был свидетелем при совершении обряда, но документ затерян и граф скрыл свой брак от королевы. Мы можем добиться правды, только услышав показания молодой леди, и, лишь сообразуясь с этими объяснениями, королева может судить о моем обвинении и о виновности Лейстера.
— Вы правы, — сказал Ралейг, подымаясь с решимостью.
— Мы отправимся в Ратгоф-Кастл, но прежде переговорим с сэром Браем. Оба задержанных будут следовать за нами.
По приказанию Ралейга быстро были сделаны все необходимые приготовления к отъезду в Лейстершир, и через четверть часа все общество отправилось в путь.
Кингтон был слишком груб с людьми, чтобы рассчитывать при попытке к освобождению на помощь служащих в замке, и потому должен был покориться своей судьбе, но все-таки по пути он строил планы, которые могли бы исправить то, что он испортил своей двойной неосторожностью.
Однако в Лейстершире все члены маленького каравана наткнулись на новое непредвиденное обстоятельство.
Тюремщик заметил утром бегство Брая и замену его Пельдрамом. Тщетно просил последний отпустить его. В обыкновенное время тюремщик, быть может, исполнил бы эту просьбу, но теперь, когда важные лица находились поблизости, ему приходилось думать о своей шкуре, и он оставил нового заключенного в том же положении, поспешив сделать обстоятельный доклад о происшествии мировому судье, своему настоящему начальнику. Мировой судья прибыл почти одновременно с Ралейгом, и вскоре все обсудили, что нужно сделать.
Кинггон, Пельдрам и Ламберт были переданы мировому судье с приказом немедленно в целости доставить их в Лондон, причем судья головой отвечал за их доставку. Ралейг тотчас же написал Бэрлею подробное донесение и немедленно отправил его по назначению. Поиски Брая велись с той целью, чтобы дать ему указание явиться в Лондон к канцлеру со своим документом. После этого Ралейг и Сэррей поспешно отправились в дальнейшую поездку, на север.

Глава двадцать седьмая
СЕРЕБРЯНАЯ ШКАТУЛКА

I
 В замке Лохлевин уже в течение двенадцати дней находилась Мария Стюарт. За шумными и печальными днями в Эдинбурге и Голируде последовали более тихие, но не менее печальные благодаря утонченной жестокости леди Дуглас. Но тем не менее в этот промежуток времени произошло много благоприятного для Марии. Елизавета Английская стала на ее сторону и послала уполномоченного для примирения ее с восставшими шотландскими лордами. С другой стороны, вследствие применения к Марии строгости настроение общества изменилось, перейдя к сочувствию. Притеснители Марии начали понимать, что им угрожает тяжелая ответственность.
Главная вина Марии заключалась в ее браке с Босвелом, а преступление Босвела — в убийстве короля. Но теперь, когда Мария была разлучена с супругом, никому не приходило в голову обвинять ее в смерти Дарнлея, вследствие этого у всех партий было средство прийти к соглашению; оно заключалось в том, чтобы признать Босвела козлом отпущения за все совершившееся и подвергнуть его соответствующему наказанию.
Возмутившимся было нетрудно ухватиться за это средство. Приверженцы Марии не желали ничего искреннее, как расторгнуть ее брак с Босвелом, и оставалось только самой Марии высказаться против этого брака. Но она и не думала этого делать, объявив, что лучше в одной только нижней юбке покинет с ним отечество, чем откажется от него.
В это самое время стали раздаваться протесты коронованных особ, осуждавших поведение шотландцев по отношению к их королеве, и бунтовщики все более теряли почву под ногами. Но вдруг произошло событие, снова придавшее им силу и снова сгустившее над головой Марии политические тучи, которые готовы были рассеяться.
Вынужденный разлучиться с Марией, Босвел бежал в Эдинбург, где он надеялся найти убежище и защиту в замке, порученном надзору одного из облагодетельствованных им слуг. Но этот слуга, по имени Джэмс Бэльфор, так мало заслуживал доверия, что Босвел, вскоре открыв его изменнические замыслы, бежал среди ночи и непогоды в Дэнбар, решив ждать там последующих событий. Здесь он не оставался в бездействии; снарядил четыре корабля, подготовил замок к обороне и вообще предпринимал все, что только возможно было в его положении, так как замок был окружен его противниками.
Но вдруг Босвел вспомнил, что среди бурных событий он позабыл один предмет, который мог погубить его и Марию, если бы попался в руки его врагов. Прервав ужин, он с непокрытой головой поспешно выбежал из башни замка на крепостной вал и по нему бежал до тех пор, пока не наткнулся на капитана, который проверял часовых. Босвел судорожно схватил его за руку и увлек его в свой кабинет.
Внешность капитана Блэкеддера изобличала в нем закаленного, храброго воина, это был высокий, сильный мужчина с загорелым лицом и густой бородой, его манеры были сдержаны и решительны.
— Капитан, — сказал Босвел, — ты — мужественный человек и остался верен мне, когда многие покинули меня, я могу рассчитывать на тебя и в будущем, не так ли?
— Вы сами это сказали, — ответил Блэкеддер, — и я не желаю ничего искреннее, как доказать, что не принадлежу к тем трусливым предателям.
— Ты должен попытаться проникнуть в Эдинбург!
— Это будет очень трудно, милорд, — ответил капитан, — но я в вашем распоряжении.
— Прекрасно! В Эдинбурге ты отыщешь моего кастеляна Дэльглейша. Ты, вероятно, найдешь его еще в замке и добром или силой потребуешь от него серебряную шкатулку, которую я доверил ему. Ты понял?
— Да, я потребую прежде добром, но для этого…..
— Тебе нужно письменное полномочие, — быстро перебил его Босвел. — Ты получишь его. — Босвел сел к столу и спешно написал несколько слов на листе бумаги и приложил свою печать. — Вот полномочие, — сказал он. — Я доверяю твоему уму и преданности и сумею отблагодарить тебя. Теперь поспеши: каждое мгновение промедления может принести неисчислимые беды.
Блэкеддер взял бумагу и вышел. Переодевшись в солдатский мундир, он направился к валу, к ближайшему сторожевому посту, тихо ответил на оклик часового и некоторое время в раздумье смотрел на него.
— Мак Леан, — начал капитан, понизив голос, — я хочу предпринять прогулку туда, через вал, на открытое место. Понял ты меня?
— Думаю, что почти да, — ответил солдат после короткой паузы. — Но ваша прогулка будет очень длительной, если вы хотите окружным путем снова пробраться в Дэнбар.
— Я хочу сыграть роль дезертира, — сказал капитан. — Ты вслед мне выстрелом подымешь тревогу, твои товарищи поддержат тебя. Тогда ты можешь объявить о дезертире. Но затем каждую ночь ты должен стоять здесь на часах, ожидая меня, и не удивляйся, если перед тобой вдруг предстанет человек во вражеской форме. Я намерен уйти с шумом, но вернуться как можно тише. Понял?
— Совершенно ясно, — ответил солдат, — я в точности исполню ваши приказания.
— Ну, отлично! Тогда до свидания! — сказал Блэкеддер, после чего перебежал бруствер и спустился по внешнему откосу вала.
— Слушай! Смотри! — раздался тотчас же громкий, отчетливый голос солдата среди ночной тиши.
— Смотри! — повторили часовые ближайших постов.
И пока этот крик перекатывался вокруг крепости, раздался первый выстрел, за которым последовали два других. Весь гарнизон встрепенулся, и все бросились к своим боевым местам. Появился также и граф Босвел, окруженный своими офицерами; все стремились узнать причину ночной тревоги.
Начальники недолго оставались в неизвестности, вскоре перед ними предстал офицер и донес им о случившемся.
Расчет Блэкеддера — привлечь внимание неприятельских постов — удался ему вполне. Окрик, раздавшийся в крепости, дошел до всей сторожевой линии окружающих, и несколько минут спустя послышался голос одного из часовых: «Стой! Кто идет!» Блэкеддера окружили солдаты, с любопытством и неодобрением осматривая его.
— Ведите меня к вашему командиру, — сказал капитан тоном, ясно говорившим, что он привык повелевать и что его солдатское одеяние было лишь переодеванием.
И через полчаса он был в квартире полковника экзекуционной армии восставших против Босвела — лорда Киркэльди де Гранжа.
В замке Лохлевин уже в течение двенадцати дней находилась Мария Стюарт. За шумными и печальными днями в Эдинбурге и Голируде последовали более тихие, но не менее печальные благодаря утонченной жестокости леди Дуглас. Но тем не менее в этот промежуток времени произошло много благоприятного для Марии. Елизавета Английская стала на ее сторону и послала уполномоченного для примирения ее с восставшими шотландскими лордами. С другой стороны, вследствие применения к Марии строгости настроение общества изменилось, перейдя к сочувствию. Притеснители Марии начали понимать, что им угрожает тяжелая ответственность.
Главная вина Марии заключалась в ее браке с Босвелом, а преступление Босвела — в убийстве короля. Но теперь, когда Мария была разлучена с супругом, никому не приходило в голову обвинять ее в смерти Дарнлея, вследствие этого у всех партий было средство прийти к соглашению; оно заключалось в том, чтобы признать Босвела козлом отпущения за все совершившееся и подвергнуть его соответствующему наказанию.
Возмутившимся было нетрудно ухватиться за это средство. Приверженцы Марии не желали ничего искреннее, как расторгнуть ее брак с Босвелом, и оставалось только самой Марии высказаться против этого брака. Но она и не думала этого делать, объявив, что лучше в одной только нижней юбке покинет с ним отечество, чем откажется от него.
В это самое время стали раздаваться протесты коронованных особ, осуждавших поведение шотландцев по отношению к их королеве, и бунтовщики все более теряли почву под ногами. Но вдруг произошло событие, снова придавшее им силу и снова сгустившее над головой Марии политические тучи, которые готовы были рассеяться.
Вынужденный разлучиться с Марией, Босвел бежал в Эдинбург, где он надеялся найти убежище и защиту в замке, порученном надзору одного из облагодетельствованных им слуг. Но этот слуга, по имени Джэмс Бэльфор, так мало заслуживал доверия, что Босвел, вскоре открыв его изменнические замыслы, бежал среди ночи и непогоды в Дэнбар, решив ждать там последующих событий. Здесь он не оставался в бездействии; снарядил четыре корабля, подготовил замок к обороне и вообще предпринимал все, что только возможно было в его положении, так как замок был окружен его противниками.
Но вдруг Босвел вспомнил, что среди бурных событий он позабыл один предмет, который мог погубить его и Марию, если бы попался в руки его врагов. Прервав ужин, он с непокрытой головой поспешно выбежал из башни замка на крепостной вал и по нему бежал до тех пор, пока не наткнулся на капитана, который проверял часовых. Босвел судорожно схватил его за руку и увлек его в свой кабинет.
Внешность капитана Блэкеддера изобличала в нем закаленного, храброго воина, это был высокий, сильный мужчина с загорелым лицом и густой бородой, его манеры были сдержаны и решительны.
— Капитан, — сказал Босвел, — ты — мужественный человек и остался верен мне, когда многие покинули меня, я могу рассчитывать на тебя и в будущем, не так ли?
— Вы сами это сказали, — ответил Блэкеддер, — и я не желаю ничего искреннее, как доказать, что не принадлежу к тем трусливым предателям.
— Ты должен попытаться проникнуть в Эдинбург!
— Это будет очень трудно, милорд, — ответил капитан, — но я в вашем распоряжении.
— Прекрасно! В Эдинбурге ты отыщешь моего кастеляна Дэльглейша. Ты, вероятно, найдешь его еще в замке и добром или силой потребуешь от него серебряную шкатулку, которую я доверил ему. Ты понял?
— Да, я потребую прежде добром, но для этого…..
— Тебе нужно письменное полномочие, — быстро перебил его Босвел. — Ты получишь его. — Босвел сел к столу и спешно написал несколько слов на листе бумаги и приложил свою печать. — Вот полномочие, — сказал он. — Я доверяю твоему уму и преданности и сумею отблагодарить тебя. Теперь поспеши: каждое мгновение промедления может принести неисчислимые беды.
Блэкеддер взял бумагу и вышел. Переодевшись в солдатский мундир, он направился к валу, к ближайшему сторожевому посту, тихо ответил на оклик часового и некоторое время в раздумье смотрел на него.
— Мак Леан, — начал капитан, понизив голос, — я хочу предпринять прогулку туда, через вал, на открытое место. Понял ты меня?
— Думаю, что почти да, — ответил солдат после короткой паузы. — Но ваша прогулка будет очень длительной, если вы хотите окружным путем снова пробраться в Дэнбар.
— Я хочу сыграть роль дезертира, — сказал капитан. — Ты вслед мне выстрелом подымешь тревогу, твои товарищи поддержат тебя. Тогда ты можешь объявить о дезертире. Но затем каждую ночь ты должен стоять здесь на часах, ожидая меня, и не удивляйся, если перед тобой вдруг предстанет человек во вражеской форме. Я намерен уйти с шумом, но вернуться как можно тише. Понял?
— Совершенно ясно, — ответил солдат, — я в точности исполню ваши приказания.
— Ну, отлично! Тогда до свидания! — сказал Блэкеддер, после чего перебежал бруствер и спустился по внешнему откосу вала.
— Слушай! Смотри! — раздался тотчас же громкий, отчетливый голос солдата среди ночной тиши.
— Смотри! — повторили часовые ближайших постов.
И пока этот крик перекатывался вокруг крепости, раздался первый выстрел, за которым последовали два других. Весь гарнизон встрепенулся, и все бросились к своим боевым местам. Появился также и граф Босвел, окруженный своими офицерами; все стремились узнать причину ночной тревоги.
Начальники недолго оставались в неизвестности, вскоре перед ними предстал офицер и донес им о случившемся.
Расчет Блэкеддера — привлечь внимание неприятельских постов — удался ему вполне. Окрик, раздавшийся в крепости, дошел до всей сторожевой линии окружающих, и несколько минут спустя послышался голос одного из часовых: «Стой! Кто идет!» Блэкеддера окружили солдаты, с любопытством и неодобрением осматривая его.
— Ведите меня к вашему командиру, — сказал капитан тоном, ясно говорившим, что он привык повелевать и что его солдатское одеяние было лишь переодеванием.
И через полчаса он был в квартире полковника экзекуционной армии восставших против Босвела — лорда Киркэльди де Гранжа.
II
Киркэльди, один из могущественных лордов Шотландии, давший в свое время клятву уничтожить убийц принца-супруга, внимательно присматривался к лицу пленника и вдруг, по-видимому, узнал его.
— Черт побери, — резко спросил он, — что вы хотите, сэр? Что привело вас сюда?.. Неужели сатане изменяют даже самые его верные слуги ада?
— Я всегда следовал своим убеждениям, — спокойно ответил он, — а они заставляют меня теперь покинуть изгнанника, как раньше заставляли служить ему. Быть может, вам мог бы пригодиться исправный воин в вашей армии…
— Нет, мой друг, благодарю вас, — насмешливо перебил его Киркэльди, — если вы совершили прогулку в надежде найти здесь убежище, то вы сильно ошибаетесь. Еще сегодня, в сопровождении необходимого конвоя, вы отправитесь в Эдинбург, местный мировой судья поговорит с вами.
По лицу капитана пробежала тень недоумения, но он легко сдержал себя и ответил на угрозу Киркэльди только новым поклоном.
Киркэльди позвал в комнату офицера и дал ему необходимые инструкции относительно Блэкеддера. Уже через несколько минут капитан на лошади, окруженный караулом, направился в столицу.
Для Блэкеддера ничего не могло быть желательнее, как то, что лорд немедленно отправил его в Эдинбург. Его смущали только встреча с судьей и присутствие конвоя. По пути он пробовал заговорить со своими провожатыми и разрешить мучившие его вопросы, но весь эскорт состоял из ленников лорда Киркэльди, и ему или не отвечали, или давали уклончивые и даже грубые ответы. Вследствие этого капитан решил молчать вплоть до Эдинбурга.
Тревога Блэкеддера несколько улеглась по прибытии в замок, где комендантом, как он знал, был все еще Джэмс Бэльфор, которого, раньше по крайней мере, он называл своим другом и товарищем по оружию. Другой причиной, повлиявшей на улучшение его настроения, была встреча с привратником Поври, тоже бывшим слугой Босвела. Правда, сторож у ворот ощерился, увидев Блэкеддера, въезжающего в замок под охраной многочисленного конвоя, но сейчас же подал ему сочувственный знак, на который капитан ответил, после чего, успокоившись, последовал за предводителем отряда к коменданту замка.
Джэмс Бэльфор играл во всей этой истории презреннейшую роль; можно было даже подозревать, что изменник служил королеве, ожидая особенной награды за свои предательские услуги. Находясь в нравственном отношении на низшей ступени, Бэльфор по своей внешности был красив, мужествен и не лишен той шлифовки, которую в то время было принято называть великосветским образованием.
Когда офицер от Киркэльди вошел к Бэльфору с Блэкеддером, тот приветствовал его радостной улыбкой. Офицер отдал свой рапорт и вышел из комнаты, оба прежних друга и боевых товарища остались одни.
— Итак, наконец-то! — воскликнул Бэльфор. — Ты также убедился, что Босвел идет к своей гибели, но все же это убеждение пришло к тебе немного поздно, милый друг.
— Лучше поздно, чем никогда, — ответил Блэкеддер с легкой тенью неудовольствия, — но все-таки я ожидал другого приема. Почему меня держат пленником?
— Сейчас узнаешь. Тебя обвиняют в соучастии в убийстве короля Дарнлея.
Блэкеддер измерил своего друга испытующим взглядом, а затем громко расхохотался.
— Черт возьми, — сказал он, — в таком случае у меня была бы масса товарищей-соучастников, а также и ты, Джэмс, был бы в их числе.
— Я?.. Нет, мой друг, я в этом деле не замешан. Впрочем, своевременное раскаяние погашает всякую вину. Я думаю, ты понимаешь меня?
Блэкеддер задумался, он вдруг понял опасность, которой сам подверг себя, понял, что искали отдельные жертвы, желая других виновных очистить от подозрений и оградить от преследований.
— Я понимаю, — наконец медленно произнес он, — и должен считать себя счастливым, что при подобных обстоятельствах попал под твою защиту.
— Это еще неизвестно, — ответил Бэльфор с неприятным смехом. — Я не могу для тебя сделать ничего иного, как только хорошо обращаться с тобой, пока тебя не передадут кому-нибудь другому.
— Что ж, буду довольствоваться и этим, — сказал капитан равнодушно. — Но прежде всего докажи мне свою доброту и вели подать мне хороший ужин, я голоден как волк.
Блэкеддер, по-видимому, надеялся, что Бельфор пригласит его ужинать с собой, но этого не случилось. Комендант замка повел своего пленника в предназначенную ему комнату и здесь объявил ему, что он может свободно ходить внутри здания, но не смеет покидать его стен, а затем вышел.
Оставшись один, капитан стал ходить по комнате. Он взял на себя тяжелое поручение, но препятствия, на которые он мог рассчитывать, внезапно увеличились еще новыми обстоятельствами, делавшими его задачу еще труднее. Он стал думать, как ему поступить при подобных обстоятельствах, и был еще занят этими мыслями, когда дверь отворилась и в комнату вошел привратник Поври с ужином.
— Поври! — обрадовался пленник. — Я не ошибся, старик, ты остался верен своему господину?
Старик закрыл дверь и поставил кушанья на стол, затем робким, недоверчивым взглядом испытующе посмотрел в лицо капитана и прошептал:
— О, сэр, это верно! Но как вы относитесь к этому? В нынешнее смутное время почти никому нельзя доверять.
— Я — пленник, Поври, — ответил Блэкеддер, — и этим все сказано. Тебе я доверяю без всяких сомнений. Ты должен помочь мне выбраться из замка. Для этого держи только всю ночь наготове для меня лошадь в кабачке «Красный Дуглас», это все, что я требую от тебя.
— Это я исполню, сэр, будьте покойны!
Затем извести Дэльглейша, что я должен переговорить с ним как можно скорее. Быть может, ты знаешь, как он настроен по отношению к графу?
— Он предан графу Босвелу.
— Тем лучше, я должен с ним говорить в интересах графа, Поври. Слышишь? Я здесь по поручению графа.
— Я передам это Дэльглейшу.
Поври удалился.
Несмотря на то, что Блэкеддер был голоден и утомлен, он не дотронулся до еды и позабыл об отдыхе, его возбуждение возросло при мысли о явившейся отдаленной возможности исполнить поручение и в то же время бежать от угрожавшей ему опасности.
Между тем прошло много времени, а кастелян не появлялся, и у капитана уже несколько раз являлось желание его поискать, но он не решался из боязни, чтобы такая выходка не возбудила подозрений и не повлекла за собой более строгого надзора.
Наконец к полуночи в коридоре послышались шаги, и Дэльглейш осторожно вошел в комнату.
— Вы, кажется, сами бросаетесь в пасть льву, капитан, — сказал кастелян, — это может дурно кончиться для вас.
— Весьма возможно, — ответил Блэкеддер, — но я ничего не знал о том, что меня в чем-то обвиняют. Однако нам надо поговорить о других вещах; я надеюсь, что вы верны своему господину и готовы исполнить его приказание?
— Без сомнения! Чего требуете от меня, милорд?
— Прочтите эту бумагу и вы узнаете.
Блэкеддер передал кастеляну полученную им от Босвела доверенность, и тот прочел ее при свете горевшей в комнате лампы.
— Ах, шкатулка, — сказал он, — на ее крышке выгравировано имя Франциска Второго. Он подарил ее своей супруге, а она — своему теперешнему супругу, нашему господину; эта шкатулка серебряная, я знаю ее.
— Ну, слава Богу! — воскликнул капитан. — В этом вопросе мы пришли к соглашению. Но вы говорите так, словно шкатулка уже более не находится в ваших руках?
— Да, это действительно верно!
— Но граф Босвел, передавший ее вам, хочет получить ее обратно, и вы должны, вы обязаны возвратить ее!
— Имейте терпение, сэр, — сказал кастелян вполголоса.
— Когда милорд поручал мне шкатулку, здесь находился также Бэльфор, впоследствии он потребовал ее у меня и спрятал ее с другими вещами милорда в комнате, ключ от которой всегда находится у него, потом, при благоприятных обстоятельствах, он, конечно, заберет все себе.
— Пусть палач вознаградит его за это доброе намерение. Но шкатулка должна быть доставлена. Как пройти к этой комнате?
— Как? Вы отважитесь на это, сэр?
— Да!… Милорд придает громадное значение тому, что содержится в этой шкатулке, и я обязался доставить ему эту вещь. Вы — преданный слуга графа и, конечно, не откажетесь помочь мне всем, что зависит от вас.
— Конечно, конечно! — ответил Дэльглейш. — Но дайте мне немного времени сообразить… — Кастелян помолчал немного, а затем произнес: — Да, так будет хорошо! Мы должны взломать дверь комнаты — это возможно, а затем заняться поисками шкатулки, но все должно происходить в темноте. Следуйте за мной!…
Оба тихо вышли из комнаты, в которой осталась гореть лампа, пробрались через коридор в те помещения, где жил Босвел с королевой во время их пребывания в замке, и незаметно подошли к бывшей спальне Босвела, выбранной Бэльфором для сохранения всех вещей, оставленных графом. В эту комнату вели два выхода: один — из парадных помещений, другой — через маленькую лестницу, этой лестницей и воспользовались Дэльглейш и Блэкеддер.
Все предприятие было нетрудным: старый замок был пуст, никакого движения в темных коридорах, железные решетки у окон, а сторожевые посты внизу, во дворе, посчитали достаточными для предохранения верхних помещений замка. Довольно слабая дверь не могла долго выдержать натиск двух мужчин, и не прошло и получаса, как они проникли в комнату. После долгих усилий кастелян нашел серебряную шкатулку и передал ее Блэкеддеру.
Теперь оставалось только устроить бегство пленника из замка.
По приказу Бэльфора никто не смел ночью выходить из ворот, и потому следовало подумать, как бы ускользнуть от зорких глаз коменданта. Кастелян вспомнил о потайной двери в нижнем этаже, которая уже давно была забыта всеми и ключ от которой был у Поври; пришлось идти к нему и просить его о помощи.
Между тем Поври, исполняя желание Блэкеддера, послал из замка к условленному месту конюха с лошадью. Старый привратник нашел ключ от потайной двери, отвел капитана к этому выходу и выпустил его. Блэкеддер очутился в саду замка, быстро пробежал до стены, перелез через нее, стремительно кинулся по направлению к городу и очень скоро достиг кабачка «Красный Дуглас».
Но здесь счастье отважного смельчака изменило ему. Бэльфор был слишком тонкий плут, чтобы полагаться на бдительность других, когда дело шло о важных предметах. Что он подумал о появлении Блэкеддера в эдинбургском замке, трудно отгадать, во всяком случае он намеренно предоставил ему известную свободу, чтобы наблюдением узнать его замыслы. Весьма возможно, что он рассчитывал побудить капитана к бегству, домогаясь права подвергнуть его более строгому заточению, благодаря чему он обнаружил бы и другие преступные деяния Блэкеддера.
Капитан только что сказал конюху несколько благодарственных слов и занес уже ногу в стремя, как вдруг был схвачен и сброшен на землю, так же поступили и с конюхом, причем обоих окружила по крайней мере дюжина солдат.
— Вяжите их! — услышал Блэкеддер громкий голос Бэльфора.
Капитан ни от кого не мог ждать помощи. Сопротивление было немыслимо, его так сильно скрутили, что ему поневоле пришлось позволить обыскать себя, причем была найдена шкатулка.
— Эге! — воскликнул Бельфор, когда ему передали ее. — Я предчувствовал, что эта вещица должна иметь важное значение.
По его приказу пленников эскортировали в замок. Тотчас по прибытии в крепость были схвачены Дэльглейш и Поври, прямо с постелей, и также заключены под стражу. На следующее утро Бельфор сдал капитана Блэкеддера, Дэльглейша, Поври и конюха Мервина в эдинбургскую городскую тюрьму, а сам отправился к секретарю Тайного совета лордов, и передал ему серебряную шкатулку, подарок Франциска Второго Марии Стюарт.
III
В полдень того же дня собрались все члены Тайного совета лордов, за исключением лорда Киркэльди, и велели вскрыть в их присутствии шкатулку. В ней нашли бумаги, брачное свидетельство Марии и Босвела, письма Марии к Босвелу до ее замужества, не оставлявшие ни малейшего сомнения в ее участии в убийстве Дарнлея. Быть может, Босвел сохранил эти письма, чтобы воспользоваться ими как доказательством против Марии, теперь же они должны были сослужить свою службу как против него, так и против королевы. Эти письма давали огромную власть в руки Эрджила, Этола, Марра, Мортона, Линдсея и других лордов.
В тот же день все четверо заключенных были подвергнуты самому строгому допросу, одни сознались в похищении, другие в своем участии в похищении, но отказались от всех остальных обвинений, в особенности касавшихся убийства Дарнлея. Но судьям надо было иметь жертвы, и вследствие этого верховный совет лордов присудил заключенных к пытке.
В семь дней все дело было окончено. Все жители Эдинбурга и его окрестностей собрались на казнь.
Осужденных, не имеющих сил двигаться, притащили к подножию четырех сооруженных виселиц. Народ издевался над ними. Каждый из приговоренных умирал по-своему, но смиренно. Лишь Блэкеддер боролся с палачом на лестнице и сорвался с ним вместе на землю, причем сломал себе ключицу.
Когда с осужденными было покончено, в народе распространился слух, что они не сделали никаких признаний и казнены совершенно безвинно.
Тайный совет лордов обнародовал свой приговор и содержание писем из шкатулки с пояснениями, что Мария Стюарт виновна в убийстве супруга.
Через несколько дней совет решил принудить Марию Стюарт отказаться от трона, возвести на престол ее сына Иакова и учредить регентство от его имени.

Глава двадцать восьмая
В ЗАМКЕ ЛОХЛЕВИН

I
 Комнаты, предназначенные Марии Стюарт для ее пребывания в замке Лохлевин, находились в нижнем этаже восточной башни. Выбор помещения для королевы очень мало согласовался как с удобствами, так и с мерами предосторожности для ее охраны.
Королеве было разрешено иметь при себе четырех из ее фрейлин, и все они вместе со своей госпожой занимали только три комнаты. Этими четырьмя дамами королевы были: Флеминг, Бэйтони и две сестры Сэйтон; леди Левингстон была отпущена королевой, так как ее отец и брат не выказали достаточной преданности ее делу, и она не пожелала держать около себя их родственницу.
Мария Стюарт сидела в самой большой из трех комнат в мягком кожаном кресле, а дамы с поникшей головой стояли вокруг нее.
— Уже четыре дня, — вздохнув, сказала Мария, — нет никакой вести от моего супруга и никаких признаков того, что наши верные вассалы пытались освободить меня… О, как я несчастна. Шотландцы — презреннейший народ на земле. Народ, который не почитает своих правителей, сам производит над собой свой суд.
Дамы молчали. В последнее время Марией часто овладевали эти вспышки негодования о ее положении и судьбе, и они привыкли к ним.
Впрочем, настроение королевы менялось очень быстро, так было и сегодня.
— Что мы будем сегодня делать? — продолжала она после короткого молчания. — Как убьем время?.. Так, прежде всего начнем с утренней комедии при участии нашей благородной хозяйки, мы опять разгневаем ее.
При этих словах Мария рассмеялась.
Дамы переглянулись.
— Ваше величество, — сказала Мария Сэйтон, — простите меня, но, по-моему, разговоры с хозяйкой дома раздражают вас более, чем ее. Лучше всего, если бы вы не удостаивали своим вниманием леди Дуглас.
— Мне кажется, ты права, — резко ответила она. — Да, моя милая Сэйтон, эта женщина раздражает меня, но все же я не могу удержаться, чтобы не сказать ей чего-нибудь неприятного. Ну хорошо, мы подчинимся вашей воле. Моя милая Джэн, возьми на себя переговоры с почтенной леди, когда она появится.
— Я уже слышу ее приближение, она несет завтрак, — ответила Джэн.
Леди Дуглас вошла в комнату в сопровождении двух служанок, несших посуду и кушанья. Движения леди были медленны, а осанка не лишена некоторого достоинства. На ней было простое черное платье, а на голове траурный капор, какой носили в то время дамы из высшего класса. Леди Дуглас все продолжала сожалеть о том, что она — не королева, а ее сын не сделался повелителем страны.
Она холодно и чопорно поклонилась королеве, не удостоив присутствующих дам. Затем подошла к столу и велела служанкам приготовить все к завтраку, после чего обе служанки, не ожидая дальнейших приказаний, вышли из комнаты. Сама леди Дуглас также направилась к двери, но при этом бросила удивленный взгляд на молчавшую и не обращавшую на нее внимания королеву. Уже у двери она все-таки остановилась, словно ожидала, что Мария Стюарт заговорит с ней.
— Вы можете идти, — сказала Джэн Сэйтон по знаку, сделанному королевой.
Леди Дуглас насмешливо посмотрела на говорившую и спросила, обращаясь прямо к королеве:
— Нет ли у вас еще каких-либо желаний?
— Для вас есть только приказания! — резко произнесла Мария Стюарт. — Приказания, которых вы будете ждать, не надоедая вашим присутствием.
Леди Дуглас насмешливо улыбнулась и с иронией ответила:
— Нигде нет такого обычая, чтобы заключенные приказывали. Вы находитесь здесь именно в таком положении, и я должна известить вас, что в замок прибыла депутация от Тайного совета лордов и просит позволения представиться вам.
— Я не признаю этого совета! — вспыхнула Мария, вставая, у меня нет ничего общего с бунтовщиками и государственными преступниками, я не хочу видеть их.
— Даже и лорда Мелвила? — насмешливо спросила леди Дуглас.
— Мелвил здесь? — переспросила Мария. — Да, я хочу видеть его, пусть он войдет!
Леди Дуглас поклонилась и вышла из комнаты.
— Мой посол от Елизаветы, — сказала Мария, — значит, мои друзья, мы скоро оставим эту темницу!
Лица всех дам не выразили никакого оживления, надежд. По предыдущему письму королевы Елизаветы никак нельзя было надеяться на ее заступничество за Марию.
— Ваше величество, не угодно ли позавтракать? — предложила Мария Сэйтон, показывая на накрытый стол.
— Нет, — ответила королева, — я не голодна, а вы присаживайтесь и можете кушать.
Дамы поклонились, но ни одна из них не воспользовалась разрешением повелительницы. В это время появился лорд Мелвил в сопровождении Дугласа. Граф тотчас же удалился, и его примеру последовали дамы.
Мария Стюарт села в свое кресло, а Мелвил сначала преклонил колено, чтобы поцеловать ей руку, а затем, с разрешения королевы, начал свои сообщения.
Королева Елизавета предлагала Марии Стюарт подчиниться решениям совета, который требовал от нее отречения от прав на престол в пользу ее сына. Мелвил старался облечь свои сообщения в возможно мягкую форму. Но Мария резко отвергла все предложенные ей условия и в особенности решительно отказалась принять двух остальных уполномоченных совета. Затем она стала жаловаться на плохое обращение с ней в месте ее заключения и на навязчивость надоевшей ей тюремщицы. На эти жалобы Мария имела основание, и Мелвил обещал исполнить ее желание.
Он покинул королеву и отправился объявить о ее решении своим коллегам. Между тем Марии было подано письмо Тогмортона, который от имени королевы Елизаветы тоже советовал ей отказаться от престола, но с добавлением, что «отречение, сделанное по принуждению, не имеет юридической силы и что в любой момент его можно взять обратно».
Мария так и не приняла никакого решения, единственное, что ей удалось, так это получить лучшее помещение и большую свободу и избавиться от надоевшей ей тюремщицы, удалившейся по приказу депутатов Тайного совета лордов в другое свое поместье.
Комнаты, предназначенные Марии Стюарт для ее пребывания в замке Лохлевин, находились в нижнем этаже восточной башни. Выбор помещения для королевы очень мало согласовался как с удобствами, так и с мерами предосторожности для ее охраны.
Королеве было разрешено иметь при себе четырех из ее фрейлин, и все они вместе со своей госпожой занимали только три комнаты. Этими четырьмя дамами королевы были: Флеминг, Бэйтони и две сестры Сэйтон; леди Левингстон была отпущена королевой, так как ее отец и брат не выказали достаточной преданности ее делу, и она не пожелала держать около себя их родственницу.
Мария Стюарт сидела в самой большой из трех комнат в мягком кожаном кресле, а дамы с поникшей головой стояли вокруг нее.
— Уже четыре дня, — вздохнув, сказала Мария, — нет никакой вести от моего супруга и никаких признаков того, что наши верные вассалы пытались освободить меня… О, как я несчастна. Шотландцы — презреннейший народ на земле. Народ, который не почитает своих правителей, сам производит над собой свой суд.
Дамы молчали. В последнее время Марией часто овладевали эти вспышки негодования о ее положении и судьбе, и они привыкли к ним.
Впрочем, настроение королевы менялось очень быстро, так было и сегодня.
— Что мы будем сегодня делать? — продолжала она после короткого молчания. — Как убьем время?.. Так, прежде всего начнем с утренней комедии при участии нашей благородной хозяйки, мы опять разгневаем ее.
При этих словах Мария рассмеялась.
Дамы переглянулись.
— Ваше величество, — сказала Мария Сэйтон, — простите меня, но, по-моему, разговоры с хозяйкой дома раздражают вас более, чем ее. Лучше всего, если бы вы не удостаивали своим вниманием леди Дуглас.
— Мне кажется, ты права, — резко ответила она. — Да, моя милая Сэйтон, эта женщина раздражает меня, но все же я не могу удержаться, чтобы не сказать ей чего-нибудь неприятного. Ну хорошо, мы подчинимся вашей воле. Моя милая Джэн, возьми на себя переговоры с почтенной леди, когда она появится.
— Я уже слышу ее приближение, она несет завтрак, — ответила Джэн.
Леди Дуглас вошла в комнату в сопровождении двух служанок, несших посуду и кушанья. Движения леди были медленны, а осанка не лишена некоторого достоинства. На ней было простое черное платье, а на голове траурный капор, какой носили в то время дамы из высшего класса. Леди Дуглас все продолжала сожалеть о том, что она — не королева, а ее сын не сделался повелителем страны.
Она холодно и чопорно поклонилась королеве, не удостоив присутствующих дам. Затем подошла к столу и велела служанкам приготовить все к завтраку, после чего обе служанки, не ожидая дальнейших приказаний, вышли из комнаты. Сама леди Дуглас также направилась к двери, но при этом бросила удивленный взгляд на молчавшую и не обращавшую на нее внимания королеву. Уже у двери она все-таки остановилась, словно ожидала, что Мария Стюарт заговорит с ней.
— Вы можете идти, — сказала Джэн Сэйтон по знаку, сделанному королевой.
Леди Дуглас насмешливо посмотрела на говорившую и спросила, обращаясь прямо к королеве:
— Нет ли у вас еще каких-либо желаний?
— Для вас есть только приказания! — резко произнесла Мария Стюарт. — Приказания, которых вы будете ждать, не надоедая вашим присутствием.
Леди Дуглас насмешливо улыбнулась и с иронией ответила:
— Нигде нет такого обычая, чтобы заключенные приказывали. Вы находитесь здесь именно в таком положении, и я должна известить вас, что в замок прибыла депутация от Тайного совета лордов и просит позволения представиться вам.
— Я не признаю этого совета! — вспыхнула Мария, вставая, у меня нет ничего общего с бунтовщиками и государственными преступниками, я не хочу видеть их.
— Даже и лорда Мелвила? — насмешливо спросила леди Дуглас.
— Мелвил здесь? — переспросила Мария. — Да, я хочу видеть его, пусть он войдет!
Леди Дуглас поклонилась и вышла из комнаты.
— Мой посол от Елизаветы, — сказала Мария, — значит, мои друзья, мы скоро оставим эту темницу!
Лица всех дам не выразили никакого оживления, надежд. По предыдущему письму королевы Елизаветы никак нельзя было надеяться на ее заступничество за Марию.
— Ваше величество, не угодно ли позавтракать? — предложила Мария Сэйтон, показывая на накрытый стол.
— Нет, — ответила королева, — я не голодна, а вы присаживайтесь и можете кушать.
Дамы поклонились, но ни одна из них не воспользовалась разрешением повелительницы. В это время появился лорд Мелвил в сопровождении Дугласа. Граф тотчас же удалился, и его примеру последовали дамы.
Мария Стюарт села в свое кресло, а Мелвил сначала преклонил колено, чтобы поцеловать ей руку, а затем, с разрешения королевы, начал свои сообщения.
Королева Елизавета предлагала Марии Стюарт подчиниться решениям совета, который требовал от нее отречения от прав на престол в пользу ее сына. Мелвил старался облечь свои сообщения в возможно мягкую форму. Но Мария резко отвергла все предложенные ей условия и в особенности решительно отказалась принять двух остальных уполномоченных совета. Затем она стала жаловаться на плохое обращение с ней в месте ее заключения и на навязчивость надоевшей ей тюремщицы. На эти жалобы Мария имела основание, и Мелвил обещал исполнить ее желание.
Он покинул королеву и отправился объявить о ее решении своим коллегам. Между тем Марии было подано письмо Тогмортона, который от имени королевы Елизаветы тоже советовал ей отказаться от престола, но с добавлением, что «отречение, сделанное по принуждению, не имеет юридической силы и что в любой момент его можно взять обратно».
Мария так и не приняла никакого решения, единственное, что ей удалось, так это получить лучшее помещение и большую свободу и избавиться от надоевшей ей тюремщицы, удалившейся по приказу депутатов Тайного совета лордов в другое свое поместье.
II
После ухода Мелвила к Марии снова вошли ее дамы; только с трудом, лишь через несколько часов, удалось успокоить ее. Тем временем в западной башне приготовили комнаты, предназначенные для Марии, и явился новый паж, чтобы доложить об этом и проводить ее туда.
В положении Марии всякое новое явление имело важное значение, поэтому она с удивлением посмотрела на вошедшего юношу. Он грациозно преклонил колено и в вежливых, изысканных словах сообщил ей, что удостоен счастья быть назначенным для услугей. Молодому человеку было на вид не более восемнадцати-двадцати лет, и его наружность можно было назвать безукоризненной.
Лицо Марии прояснилось, она ласково улыбнулась пажу и обратилась к своим дамам со словами:
— Снова возвращаются дни, проведенные в Инч-Магоме! Поздравим же друг друга с таким слугой. Встаньте, сэр! Как ваше имя?
Молодой человек поднялся, низко поклонился и ответил:
— Миледи, меня зовут Георг Дуглас, я — внук владельца замка.
Минутная иллюзия Марии исчезла, имя Дугласа прозвучало для нее неприятно, и она, холодно отвернувшись от пажа, сказала:
— Делайте, что вам приказано!
Георг Дуглас заметил перемену в настроении королевы, тень печали скользнула по его прекрасному лицу, и мольба отразилась в его глазах, устремленных на гневное лицо королевы. Она, казалось, не заметила этого, чего нельзя было сказать о дамах. Георг снова поклонился и пошел вперед.
На переезд не потребовалось много времени, женщины покинули прежние комнаты и переселились в новые, правда и они мало отличались королевским убранством, однако были обставлены с удобствами, какие только возможны в шотландском замке.
Мария была очень довольна такой переменой обстановки и всю остальную часть дня провела со своими дамами в хлопотах по устройству своего нового обиталища. К вечеру только отправилась она на прогулку по большому, несколько запущенному саду.
Георг Дуглас, прислуживавший Марии у стола и бессменно дежуривший в передней в ожидании ее приказаний, последовал за дамами в сад. До этого момента на него обращали мало внимания, но тут Мария оглянулась к нему и сказала:
— Я вспомнила об Инч-Магоме, потому что этот новый паж невольно напомнил Сэррея.
При этих словах Мария Сэйтон побледнела, а ее сестра Джэн смутилась.
— Ваше величество, вы изволили произнести имя, которое у всех нас еще очень живо в памяти, — сказала Мария Флеминг, — лорд Сэррей наделал нам много забот.
— Что касается меня, — сказала Мария Стюарт, — то я желала бы, чтобы Сэррей был здесь, я доверилась бы ему и убеждена, что мне недолго пришлось бы изнывать в таком недостойном заключении.
Дамы ничего не ответили ей. Паж, очевидно, слышал слова королевы и быстро приблизился к ней. Это напомнило Марии, что она находится под надзором.
— Вернемся обратно в замок! — сказала она, и общество возвратилось в свое новое обиталище. Паж остался в передней.
Так неожиданно завершившаяся прогулка испортила расположение духа Марии, и она, не скрывая, высказала это. Флеминг заметила, что едва ли у пажа было какое-либо намерение подслушивать, наоборот, у него, по-видимому, были совсем другие намерения.
— В самом деле ты так думаешь? — живо откликнулась Мария. Я слишком часто ошибалась, но полагаю, что и ты ошибаешься.
— Ваше величество, и я заметила то же самое! — сказала Джэн Сэйтон.
— И я также! — прибавила Мария Сэйтон.
— Позовите мне пажа! — приказала королева.
Флеминг позвала Георга Дугласа, и по знаку королевы дамы удалились.
— Сэр, дайте мне стакан воды! — обратилась к нему Мария.
Паж быстро сходил за водой. Подавая стакан на серебряном подносе, он опустился на колено перед королевой, и его руки дрожали до такой степени, что вода чуть ли не расплескалась. Мария улыбнулась этому, заглянула в открытое лицо юноши и спросила:
— Что с вами, сэр? Вам неудобно так стоять… Встаньте! Вы больны?
— Нет, ваше величество, я здоров, — сказал Георг.
— Если вы нездоровы, я охотно избавлю вас от услуг, мне нет удовольствия заставлять кого-нибудь страдать из-за меня понапрасну.
— О если бы я мог пострадать за вас! — порывисто воскликнул юноша.
Мария печально улыбнулась.
— Ваше величество, — продолжал Георг, — там, в саду, вы выразили желание иметь поблизости человека, который мог бы спасти вас; кроме лорда Сэррея, найдутся и другие люди, готовые возвратить вам свободу.
При этих словах молодого человека лицо Марии прояснилось, со времени ее пребывания в Лохлевине впервые посторонний человек выражал ей действительное участие и подавал некоторую надежду на освобождение из ее печального положения.
Королева улыбнулась юноше еще более ободряюще и промолвила:
— И одним из таких людей могли бы быть вы, внук человека, который приставлен охранять меня и который взял на себя такую противозаконную роль?
— Ваше величество, — ответил Георг, — я прежде всего — подданный и верный слуга моей королевы. Подозрение, которое вы выказали, причинило мне глубокое страдание.
— О, я могла бы рассказать вам о многом, что дало мне повод быть недоверчивой, без отношения даже к тому, что вы состоите в родственных отношениях с владельцем этого замка. Я совсем не желала оскорбить вас и могу уверить, что почувствовала расположение к вам с тех пор, как впервые увидела вас.
При этих словах Мария протянула юноше руку, тот поспешно схватил ее и поцеловал с несколько большим жаром, чем то дозволяло его положение. Однако королева отнеслась в этому снисходительно.
— Ваше величество, — вымолвил молодой человек, — ваши слова сделали меня счастливейшим из смертных; теперь позвольте сообщить вам нечто интересное для вас.
— Говорите, я сгораю от нетерпения узнать, что случилось, где находится мой супруг?
— В Дэнбаре, окруженный войском под предводительством лорда Киркэльди Гранжа.
— Он раскается в этом! — порывисто воскликнула Мария.
— Позвольте мне говорить только о том, что может обрадовать вас.
— Разве может быть что-либо радостное?
— Да! Лорды Сэйтон и Гамильтон собрали близ Дэмбертона всех преданных вам людей и образовали войско, недостает только вашего присутствия, чтобы выступить против мятежников.
— Моего присутствия? Но как я могу попасть туда, как уйти из этого замка? — с горечью спросила Мария.
— При моем содействии, ваше величество, и если пожелаете, то не далее, как следующей ночью.
— Что же вы хотите предпринять для этой цели?
— Завтра вечером позади парка будет ждать вас лодка. Лучше всего было бы никого не посвящать в это дело, самое большее — одну из ваших дам. Я буду ждать вас с лошадьми на другом берегу и постараюсь доставить вас в Ниддрин, где вы будете в безопасности.
— Разве вы состоите в сношениях с моими приверженцами?
— Да! Я бы освободил вас и при прежних обстоятельствах. А благоприятный случай облегчает мою задачу, но нужно использовать его как можно скорее.
— Да, да, вы правы! — согласилась Мария. — А лодочник посвящен в это дело?
— Нет, это было бы рискованно, я сообщу ему только, что женщины из замка отправятся за покупками в Кинрос, — этого для него достаточно, вас же прошу в точности придерживаться этого показания.
— Хорошо, я буду готова к условленному времени!
Мария еще раз протянула юноше руку для поцелуя.
На следующий день Мария отдыхала после обеда в течение нескольких часов, а затем пожелала одеться в платье из плотного бархата и в полусапожки из оленьей кожи, объясняя свой туалет тем, что, несмотря на дурную погоду, ей хочется подольше погулять на свежем воздухе в парке. Чтобы не подвергать неприятной погоде всех своих дам, она решила избрать себе в спутницы только Марию Сэйтон.
Мария Сэйтон также надела платье из плотной материи, и после ужина королева в ее сопровождении отправилась в парк. Георг Дуглас попросил у королевы отпуск сразу после обеда и покинул замок.
Королева и леди Сэйтон, прогуливаясь, направились к озеру, примыкавшему к парку, и, когда сквозь ветви заблестела зеркальная поверхность воды, Мария Стюарт замедлила шаги и обратилась с улыбкой к своей спутнице:
— Мария, ты, вероятно, догадываешься о цели нашей прогулки?
— Догадываюсь, ваше величество, — ответила леди Сэйтон, — и удивляюсь, что так внезапно представился случай для бегства. Не ловушка ли это?
— Нет, милая моя, быть может, наше бегство будет неудачно, но во всяком случае это — не ловушка со стороны того, кто подготовил его. Молодой Дуглас проводит нас к твоему брату. Последний находится в сношениях с Гамильтоном, и они решили поднять наши знамена против мятежников, поэтому-то я и избрала тебя в спутницы. Посмотрим, есть ли на берегу лодочник, который должен переправить нас на ту сторону.
Мария Сэйтон ничего не ответила. Да королева, казалось, и не ждала ответа, она быстро направилась к берегу озера и лишь только вышла из-за кустов, увидела лодку и двоих мужчин, явно поджидавших кого-то. Мария в сопровождении своей фрейлины подошла к ним, они молча помогли дамам занять приготовленные для них места, и лодочник отчалил. На дамах были шляпы со спущенными черными вуалями, так что трудно было разглядеть их лица.
Был июньский вечер, когда, несмотря на поздний час, еще светло. При внимательном наблюдении со стороны замка легко можно было заметить удаляющуюся лодку. Но, очевидно, никто не следил. Лодка находилась уже на половине дороги между Лохлевином и Кинросом, и бегство можно было считать удавшимся, как вдруг Мария вздумала снять с руки перчатку. И лодочник заметил необычайную белизну, нежность и красоту ее руки.
— Клянусь Богом, — удивился лодочник, — это — не служанки, которые нанимали нас для переезда в Кинрос! Леди, я попрошу вас открыть лицо, чтобы полюбоваться вашей красотой.
Дамы испугались.
— Как вы смеете! — возмутилась Мария Сэйтон.
Грубый лодочник на миг опешил, но затем, отложил весла в сторону, подошел к королеве и поднял ее вуаль. Хотя Мария тотчас же вырвала вуаль из его рук и снова опустила, но лодочник разглядел ее лицо.
— Вперед! — крикнула Мария повелительным тоном. — Поспешите переправить нас!
Лодочник стоял некоторое время как бы в нерешительности.
— Это — подлость! — крикнул он сурово. — Ей-Богу, сударыня! Я — ленник лорда Дугласа, и всякое ослушание может стоить мне жизни. Но меня обманули. И я не буду исполнять данное обещание.
— Я возмещу вам все, что вы рискуете утратить, — сказала Мария. — Кроме того, вы получите хорошую награду, только перевезите нас поскорее!…
— Я не соглашусь даже за золотые горы, — возразил лодочник. — Нет, ни за что!… Поворачиваем назад!
Просьбы, угрозы, приказания, мольбы — все было бесполезно, непреклонный человек повернул лодку обратно и направил ее к тому самому месту, откуда отъехал. Высадив дам, он проводил их через парк к замку, где попросил доложить о себе лорду Дугласу.
Старый Дуглас был вне себя от злости и отозвался о королеве очень резко, в особенности за то, что она соблазнила его внука, на которого он наложил за это дедовское проклятие. Позаботившись о надежной охране замка, Дуглас отправился в Кинрос, чтобы арестовать своего внука. Но Георг Дуглас узнал, что произошло на воде, и успел бежать.
На Марию это неудачное бегство подействовало самым угнетающим образом, громкое разочарование в надеждах потрясло ее, и всю ночь напролет она плакала, и дамы никак не могли успокоить ее.
После такой ночи Мария чувствовала себя крайне угнетенно и подавленно. Старый Дуглас появился в ее комнатах довольно поздно, с мрачным выражением лица, еще более способствовавшим страху королевы. Когда же он объявил ей, что прибыло новое посольство от Тайного совета лордов и в одиннадцать часов явится перед нею, она чуть было не упала в обморок.
Членами посольства был на этот раз Роберт Мелвил и лорд Линдсей. По-прежнему задача первого состояла в том, чтобы подготовить королеву к акту отречения от престола. На этот раз он еще определеннее разъяснил ей все последствия продолжительного сопротивления воле лордов. Мария хотя и продолжала сопротивляться этому требованию, но уже не с прежней решительностью. Потом, держа в руках три хартии, без поклона вошел Линдсей и прямо направился к королеве, разложил перед ней на столе бумаги и заявил беспрекословным тоном:
— Вам предоставляется или подписать эти документы, или же быть приговоренной к смертной казни, доказательства вашей вины налицо.
Эта угроза окончательно потрясла Марию и лишила ее последнего мужества. Слезы брызнули из ее глаз, и, дрожа всем телом, она схватила перо и стала подписывать лежавшие перед ней три документа.
Добившись своего, Линдсей отошел к двери и приказал позвать Томаса Синклера, секретаря Марии. Этим моментом воспользовался Мелвил и шепнул королеве несколько слов.
Роль Мелвил а в этом деле была несколько двусмысленная, однако казалось, что он взял ее на себя исключительно с целью служить интересам королевы, о чем можно было судить по словам, с которыми он обратился к ней:
— Ваше величество, лорды Этол, Мейтлэнд и Киркэльди извещают вас, что насильственное отречение недействительно!
Как известно, о том же написал Марии Трогмортон от имени Елизаветы.
Королева не успела отреагировать на эти слова, так как Линдсей уже приближался к ней, но она бросила на Мелвила взгляд, полный благодарности. К ней вернулось некоторое самообладание.
— У вас при себе печать королевы? — спросил Линдсей вошедшего секретаря.
— Она всегда при мне!
— В таком случае приложите печать к этим хартиям.
— Королева приказывает! — крикнул на него Линдсей.
— Синклер, — вмешалась Мария, — я вынуждена подписать хартию об отречении, приложите мою печать к этим документам!…
— Вы приказываете, и я повинуюсь, — ответил преданный секретарь, — но объявляю этот вынужденный акт по закону недействительным!
— Тебе нечего объявлять, плут! — крикнул Линдсей. — Держи свой язык за зубами, пока он не наделал тебе беды!
Линдсей тотчас же взял эти документы и в сопровождении Мелвила вышел из комнаты. Так как Мария не выразила намерения говорить с секретарем, он тоже удалился.
Несколько минут Мария сидела неподвижно, как бы окаменев, а затем разразилась слезами, упала на колени, молитвенно сложила руки и возвела глаза к небу, как бы в молитве ища последнего утешения и надежды. Ее молитва была прервана шорохом, свидетельствовавшим, что она не одна в комнате. Мария оглянулась. У дверей стоял молодой человек в костюме пажа, смуглые черты лица его и глаза были устремлены на нее с выражением участия, в руках у пажа была какая-то бумага.
Эта фигура напомнила королеве что-то знакомое, вглядевшись же повнимательнее, Мария вскочила и поспешила навстречу вошедшему.
— Филли! — обрадовалась она. — Неужели это ты, Филли? Ты принесла мне избавление?
Паж молча указал рукой на свой рот, быстро подошел к столу и положил бумагу, затем повернулся и направился к двери.
— Останься! — воскликнула Мария. — Мне нужно поговорить с тобой. Ушла!…
Королева быстро прочитала записку — и новое жизнерадостное чувство пронизало все ее существо.

Глава двадцать девятая
БЕГСТВО

I
 Содержание письма заключалось в следующем:
Содержание письма заключалось в следующем:
«Ваше величество! Я сожалею о неудачной попытке бегства, но готовится новая, более надежными средствами. Рядом с Вами находятся лица, которые обеспечат успех. Близ Дэмбертона стоит войско, готовое к выступлению. Уничтожьте эту записку и сообщайте нам обо всем через подателя сего письма, который будет появляться у Вас в свое время».
Подписи не было, но Мария не сомневалась, что эти строчки были написаны Георгом Дугласом. Но каким образом встретился он с Филли? Как Филли вообще попала сюда? Нет ли здесь Сэррея?
Ход мыслей Марии был прерван приближением чьих-то шагов. Это был старик Дуглас. Он вошел без доклада. Мария едва успела спрятать письмо и застыла в ожидании того, что скажет ей тюремщик.
— Ваше величество, — сказал лорд, осматривая комнату, — я уполномочен разрешать и запрещать вам прогулки. Поэтому вы каждый раз должны обращаться ко мне за разрешением, я же позабочусь и о соответствующем штате провожатых.
Мария вспылила, хотела резко ответить, но вовремя опомнилась и сделала лорду знак удалиться. Дуглас поклонился и вышел.
Приближенные дамы королевы, слышавшие в соседней комнате все, что происходило между нею и лордами, предполагали застать свою госпожу удрученной и несчастной, но, к их удивлению, Мария казалась спокойной, даже до известной степени веселой.
В таком настроении королева пребывала и во все последующие дни. Несмотря даже на тревожные вести, доходившие до узницы, настроение ее не менялось и душа была преисполнена надежд на лучшее будущее.
II
Шотландия была тем временем свидетельницей двух совершенно противоположных зрелищ, из которых одно — драма, а другое можно было назвать водевилем.
Что касается первого зрелища, то это было лишь продолжение той трагедии, в которой главную роль сыграли Блэкеддер и его сообщники. Тайный совет лордов вошел во вкус смертных казней. Между прочими были подвергнуты пытке и казнены Гай Талли и Генбурн Болтон. Восходя на эшафот, Болтон предостерегал народ никогда не соглашаться быть орудием великих людей в их политических деяниях. Резким контрастом казням было награждение более высокопоставленных соучастников убийства графа Дарнлея. Их не осмелились коснуться. Так Гэнтли остался в Тайном совете, Эрджил получил звание шерифа города Эдинбурга, Летингтон — шерифа Лотиана, а Мортон — адмирала Шотландии.
Вторым зрелищем было коронование нового короля в городе Стирлинге.
Как только добились отречения Марии Стюарт, Тайный совет лордов назначил коронование ее сына на 29 июня 1567 года и пригласил к этому дню в Стирлинг всех, кто должен был принести присягу королю. Лордов «союза», образовавшегося для освобождения Марии, приглашали через особых послов, отправленных к ним в Дэмбертон. Однако эти лорды не только отклонили приглашение, но выразили протест против коронования Иакова.
Сын Марии, Иаков, был возведен на шотландский престол, когда ему было всего тринадцать месяцев от роду. Граф Марр нес его в церковь на руках. Лорд Этол следовал за ним с короной, Мортон нес скипетр, а Глансер — оружие. Регентом был назначен граф Мюррей. На границе его встречало посольство из четырехсот дворян. Он направлялся в столицу как истинный властелин, граждане встречали его с энтузиазмом.
Роль Мюррея в судьбе его сводной сестры была далеко не благовидной. Живя во Франции в качестве беглеца, он громко возмущался тем, что происходило в Шотландии. Появившись в Лондоне, хотел вначале вступиться за Марию, но потом переменил свои намерения. При всем том он вел себя в Эдинбурге так, как будто очень неохотно принимал на себя звание регента, и объявил, что согласится на это лишь в том случае, если убедится, что Мария добровольно отказалась от короны, а с этой целью считает необходимым личную встречу с ней. Такое поведение с его стороны объяснялось, по-видимому, не желанием участвовать в мятеже, а воспользоваться лишь плодами переворота. В сопровождении Мортона, Этола и Линдсея Мюррей отправился в Лохлевин 15 августа.
Известие о прибытии брата было неожиданностью для Марии, но обрадовало ее. Она надеялась на его благорасположение.
Мюррей попросил у Марии аудиенции. Она тотчас же согласилась и, когда он вошел к ней в сопровождении лордов, поспешила к нему навстречу.
— Мой добрый Вильям, — сказала она, — как я рада видеть тебя здесь!…
Мюррей остановил сестру холодным, строгим взглядом и сухо произнес:
— А я не могу порадоваться, видя вас, тем более, что из-за вашего присутствия моя мать должна была удалиться из своего дома.
— Милорд, — сказала она с достоинством, — ваша мать сама прогнала себя. Никто не может мне поставить в укор, что я тяготилась ее несносной злобой, ведь я не была ей подвластна.
— Однако было бы лучше, если бы вы руководствовались указаниями такой опытной, хотя и строгой женщины. Вообще ваше поведение мало соответствует вашему нынешнему положению, прежде всего требуется скромность по отношению к тем лицам, которые призваны распоряжаться вашей судьбой.
— Что вам угодно от меня, милорд? — резко спросила Мария.
— Удалите отсюда своих дам, ваше величество, тогда вы это узнаете! — ответил Мюррей.
Королева принимала Мюррея и его спутников в присутствии приближенных фрейлин; немного подумав, она сделала дамам знак удалиться, и дамы вышли из комнаты.
— Можете теперь говорить, — обратилась Мария к брату.
— Вам, вероятно, известно, ваше величество, — начал Мюррей, — что вследствие вашего отказа от престола на шотландский престол вступил ваш сын и до его совершеннолетия я назначаюсь регентом, но я могу исполнять свои новые обязанности лишь тогда, когда услышу от вас, что вы добровольно отрекаетесь от престола.
— Добровольно отрекаюсь от престола? — изумилась Мария.
— Выслушайте меня, ваше величество, — продолжал Мюррей, — ваше управление государством привело Шотландию к гибели.
— В этом виноваты крамольники, неверные вассалы, а не я! — возразила Мария.
— Погодите, ваше величество!… Позвольте вам напомнить, что вы, едва вступив на шотландский престол, повели себя самым недостойным образом, — Мюррей резко прервал Марию. — Вы пожелали уничтожить господствующую религию и заменить ее бреднями папистов, вы растратили средства страны, пустились в такие авантюры, от которых отвернулась бы всякая порядочная женщина, вы допустили коварное убийство мужа и отдали свою руку убийце; в довершение всего вы попрали права и свободу шотландского народа.
Во время обвинительной речи брата Мария стояла как окаменелая.
— Господи Боже! — вдруг расплакалась она. — Такие вещи позволяет себе говорить мой брат, мой первый верноподданный! Лорд Этол, я знаю вас как честного человека, — обратилась она к одному из свиты Мюррея, — защитите же меня от этих оскорблений!… Вы обвиняете меня, милорды, но если даже все обстоит так, как здесь говорилось, то не нужно забывать, что моим советчиком был Джэмс Стюарт, ныне граф Мюррей. Может быть, вы желаете, чтобы я повторила то, что вы мне советовали, лорд Мюррей?
— Это совершенно необязательно! Все то, что произошло с вами, — естественный результат вашего поведения, — ответил Мюррей.
— Милорды, вы видели, что и я умею быть строгой, положите же предел дерзости этого господина. Помните, что я — ваша королева! — величественным тоном заметила Мария.
— Нет, вы не королева, а преступная женщина, которая должна будет ответить перед судом, если не согласится принять надлежащие условия! — жестко возразил Мюррей.
— Вы неизбежно погибнете, если вздумаете бороться с нами.
Мария с таким ужасом глянула на брата, точно увидела перед собой страшный призрак.
— Чего хотят от меня? — спросила она почти беззвучно.
— Ваша жизнь висит на волоске! Стоит только кому-нибудь из ваших приверженцев пойти против законных требований короля — и вы будете убиты! — продолжал Мюррей.
— Разве я не могу сделать какое-нибудь распоряжение, запретить что-нибудь в этом строгом заключении? — в отчаянии воскликнула королева.
Если хоть один из шотландцев выкажет неповиновение королю по вашей милости, если вы попытаетесь призвать для своей защиты французское или английское войска, если вы сохраните свою позорную страсть к Босвелу, то вы погибнете! — твердил свои угрозы Мюррей.
Мария смолчала и опять расплакалась.
— Измените свой образ жизни и подчинитесь тем людям, которые желают вам добра! — продолжал Мюррей. — Тогда ваша честь и жизнь будут спасены, и вы будете жить в подобающих вашему сану условиях. Итак, вы добровольно отказываетесь от престола? Не правда ли?
— Да, да… конечно! — со стоном произнесла Мария и, разрыдавшись, упала в кресло.
Мюррей, очевидно, вел эту недостойную игру с целью оправдать себя в глазах общества. Однако результат получился совершенно противоположный. История навсегда осудила его неоправданную, бесполезную жестокость по отношению к Марии Стюарт. Хитрый Мюррей нарочно остался подольше в Лохлевине и проводил почти целые дни в обществе Марии, прикидываясь нежным братом, для того чтобы убедить всех, что отречение ее от престола не носило ни малейшего насильственного характера.
Но эти дни были очень тяжелы для Марии, она совершенно упала духом и нужны были особенные условия, чтобы заставить ее приободриться и снова поднять голову. По-видимому, друзья Марии Стюарт поняли это и приняли свои меры.
III
На третий день пребывания Мюррея в Лохлевине в замке вдруг появился мальчик-негритенок, привезший лорду Вильяму Дугласу письмо от его жены. Лорд Дуглас сидел за столом со своими высокопоставленными гостями, когда лакей доложил, что мальчик желает передать письмо прямо в руки лорда, не доверяя его никому другому. С разрешения королевы, которую как бы в насмешку окружали знаками почтения, негритенка ввели в столовую. Мария сначала скользнула безразличным взглядом по маленькой фигурке мальчика и его курчавой голове, но вдруг вздрогнула, узнав знакомое лицо, появления которого тайно ждала; и самые смелые надежды зашевелились в душе измученной Марии. Так как все уставились на негритенка, то никто не заметил минутного смущения королевы.
Мальчик остановился у порога, держа в руке письмо и ожидая знака лорда Дугласа, чтобы подойти поближе. Хозяин дома подозвал его; тогда он опустился на колено и положил письмо на свою голову, как только лорд Дуглас взял его, негритенок отошел снова к двери. Старый лорд разорвал конверт и прочел послание.
— Пишут про семейные дела, — наконец проговорил он, слегка ворчливым тоном. — Жена просит, чтобы я простил внуку его глупую выходку и снова принял его к себе.
Мария слегка покраснела при этих словах.
— Речь идет, вероятно, о Георге? — спросил Мюррей.
— Да, о нем! — ответил старик.
— Ну, дядя, простите его, я тоже прошу вас. Ведь большой проступок он не мог совершить! — сказал Мюррей.
Очевидно, Вильям Дуглас никому не сказал о том, что его внук сделал попытку освободить шотландскую королеву. При последних словах Мюррея лицо старика приняло строгое выражение, но он счел неудобным открыть теперь ту тайну, о которой так долго молчал.
— Да, я прощаю ему и позволю приехать сюда! — проговорил лорд Дуглас, обращаясь к негритенку.
Тот молча поклонился и вышел из комнаты.
На молчаливость мальчика никто из присутствующих не обратил внимания, так как в то время в знатных английских домах прислуживали негры, от которых требовались рабская покорность и исполнительность. Черные слуга никогда не дерзали говорить в присутствии господ.
Для Марии же появление мальчика имело большое значение: ясно было, что ее друзья знали о том, что происходит в Лохлевине, и, судя по содержанию письма, вероятно, в недалеком будущем решили сделать что-нибудь для того, чтобы освободить свою королеву.
Наконец обед закончился, и Мария прошла к себе. В своей комнате она нашла Джэн Сейтон, которая ждала ее с раскрасневшимися щеками на возбужденном лице. Не говоря ни слова, молодая девушка протянула королеве маленький конверт. Мария быстро открыла его и прочла то, что было написано на клочке бумаги.
«Будьте готовы к следующему новолунию».
— Кто дал тебе эту записку? — спросила королева.
— Какой-то негритенок, ваше величество!
— И ты не узнала его? — улыбнулась Мария.
— Нет, ваше величество! — озадаченно ответил Джэн.
Королева улыбнулась, ей было приятно сознавать, что она оказалась наблюдательнее своей фрейлины. Но тут же она вспомнила про возбужденный вид молодой девушки и спросила:
— Что с тобой? Ты чем-то взволнована?
— Ваше величество, — пробормотала смущенно Джэн. — Милорд Сэррей находится где-то вблизи нас!
— Ах, я предчувствовала это! — обрадовалась Мария. — Слава Боту! У меня теперь есть надежда на спасение. Я покину это ужасное место и восторжествую над своими противниками. Только держи все в строжайшей тайне, милая Джэн.
— Я умею молчать, ваше величество! — решительно ответила фрейлина.
Однако радостное настроение у Марии Стюарт продержалось недолго. Лорду Дугласу было приказано лишить несчастную королеву даже скромной доли удобств и свободы. Лохлевин был оцеплен значительными отрядами войск, чтобы помешать возможности бегства Марии и ее сношениям с соратниками.
Прошло много дней с того момента, когда негритенок принес Марии обрадовавшую ее записку, а ничего благоприятного для нее не случилось. Георг Дуглас тоже не появлялся в замке. Наступила суровая пора с дождями и снегом.
Но именно тогда вдруг и пришел желанный момент.
В старом лохлевинском замке существовало обыкновение, чтобы господа и слуги обедали и ужинали вместе.
Этим моментом в один заранее выбранный день и воспользовались друзья Марии Стюарт, похитив все ключи от Лохлевина.
Старый Дуглас сидел со своей семьей и верными слугами в обширной столовой, не подозревая об этом, а тем временем Мария Стюарт, переодевшаяся горничной, благополучно переправилась через озеро. На берегу ее ждал Георг Дуглас, который передал ее лордам Гамильтону и Сэйтону.
— Филли, Сэррей! — радостно воскликнула Мария, увидев двух преданных ей друзей.
Но не было времени вступать в разговоры, необходимо было спешить в Дэмбертон.
«Ах, если бы Босвел был здесь!» — с тоской подумала королева, чувствуя себя в безопасности среди своих приверженцев.
Бегство Марии Стюарт возбудило много волнений и толков.

Глава тридцатая
ПОХОЖДЕНИЯ БОСВЕЛА

I
 Босвел очень скоро узнал о трагическом конце своего посланца и обо всех событиях, происшедших с королевой. Он считал невозможным оставаться дольше в Дэнбаре и потому решил бежать к своему родственнику, епископу Мюррею, который предложил ему временный приют.
Но и туда за ним последовал неутомимый лорд де Гранж.
Босвел бежал дальше, набрав на четыре судна своих приверженцев. Потерпев поражение в одной из морских битв и загнанный бурей, он очутился в Ирландии, где его судьба приняла еще худший оборот.
Небо над городом Белфастом и окружающими его горами было обложено тяжелыми тучами, предвестницами сильной бури. Еще накануне вечером темно-серые облака нависли над горизонтом, как бы образуя гигантскую непроницаемую стену, а наутро эта темная масса сгустилась еще сильнее. Не успело солнце скрыться за горами, как сверкнула молния, разрывая облака, и оглушительный удар грома прокатился над землей и заставил всех задрожать. Началась неистовая гроза. Точно огненные змеи извивались голубовато-синие полосы молний, со всех сторон гремел гром, со свистом завывал ветер, и хлестали шумные потоки дождя. Казалось, что наступил конец света.
По-видимому, жители Белфаста, его предместий и маленького городка Граве заранее приготовились к грозе, и потому все улицы были совершенно пусты. Только иногда метались фигуры прохожих, застигнутых бурей, которые торопились спрятаться от непогоды.
При первом ударе грома к набережной в Граве причалила лодка. Молодой человек, выскочив на землю и привязав ее, торопливо направился в восточную часть города. Едва успел он добежать до жалкой, ветхой избушки, как разразилась эта сильнейшая гроза. Захлопнув наружную дверь, молодой человек вошел в комнату, тускло освещенную маленькой лампой. К завыванию ветра и ударам грома снаружи здесь примешивались глубокие, тяжелые стоны, доносившиеся из угла комнаты, где стояла убогая кровать, на которой корчился от жестоких страданий какой-то старик. Блеск молнии на мгновение осветил через незанавешенное окно его жалкую фигуру.
Вошедший глянул на него, но не торопился подойти к страдающему. На мрачном лице молодого человека отражалось неудовольствие из-за разыгравшейся непогоды, но не было и следа участия к больному. Молодой человек был высокий, стройный, с красивым, бледным лицом, обрамленным черными волосами. На нем была круглая шляпа, короткая куртка и полотняные шаровары, которые носили все матросы той местности.
На какое-то мгновение он неподвижно остановился на пороге. Гроза усиливалась, раскаты грома повторялись все чаще и чаще, и все громче и громче стонал больной, точно гроза увеличивала его страдания.
— Джон, сын мой, ты здесь? — слабым голосом спросил больной. — Если бы еще немного, ты уже не застал бы меня в живых. Отчего ты не приходил так долго и оставил меня здесь без всякой помощи?
При первых словах больного хмурая тень пробежала по бледному лицу Джона.
— Я постоянно при вас, — недовольным тоном отозвался он, — отлучился лишь ненадолго и только потому, что вы сами отпустили меня в гавань, где у меня было дело.
— Правда, правда, — прохрипел больной, — но я не думал, что мой конец так близок. Перестанем ссориться! Мне нужно поговорить с тобой. Сядь возле меня и слушай со вниманием, что я скажу тебе.
Молодой человек взял соломенный стул и поставил его около кровати. По-прежнему на его мрачном лице не было выражения участия, желания чем-нибудь облегчить страдания старика.
С непрерывным стоном больной слегка поднялся на подушках, но от полного изнеможения его голова опустилась.
Джон не попытался поддержать голову отца. Лицо его сохраняло прежнее безучастное выражение, хотя по форме губ, по благородным нежным чертам можно было предположить, что у него доброе, отзывчивое сердце.
Совершенно противоположное впечатление производил отец. Ни страдание, ни страх смерти не могли заслонить на лице больного выражение хитрости, жадности и бессильной злобы — все характерные черты низменной натуры.
— Джон, — простонал старик после некоторой паузы, — я воспитал тебя, научил делу, которое может прокормить тебя, через несколько часов я умру, и ты получишь от меня наследство и даже немалое. Понимаешь ты меня?
— Понимаю! — пробормотал безучастно Джон.
Его отец бросил пытливый взгляд на сидевшего сына и продолжал прерывающимся голосом:
— Я воспитывал тебя строго, очень строго, но ты был диким, упрямым мальчиком, непослушным сыном.
Джон открыл было рот, чтобы что-то ответить старику, но раздумал и только пристально посмотрел прямо в глаза отцу.
— Впрочем, я в этом отчасти сам виноват, — продолжал больной, — и должен был раньше обратить внимание на то, что ты — человек, ни к чему не пригодный.
— Но я не преступник! — резко заметил Джон.
— Ты еще будешь им, сын мой, — насмешливо ответил больной, — будешь непременно, это — тоже часть моего наследства!
Громовой удар, более сильный, чем все предыдущие, потряс стены ветхого домишки.
Джон резко вскочил со стула, но только грозно глянул на старика и отвернулся.
— Слушай дальше! — продолжал отец, морщась от боли. — Обрати внимание прежде всего на то, как должен умирать преступник, такой, как я, и каким скоро будешь ты. Я знаю, что чувство страха незнакомо тебе, но настоящим пробным камнем храбрости я признаю смертный час, кончину в полном сознании и с нечистой совестью. Я умираю, понимая это, но не боюсь ни чертей, ни ада. Я так мало думаю о них, что даже в последнюю минуту жизни мечтаю о мести и хочу отомстить тебе за то, что ты был непослушным сыном, отомстить за твои угрозы, которыми ты в последнее время преследовал меня. Слушай же хорошенько! Ты — мой наследник, но не мой сын!
При последних словах старика лицо молодого человека прояснилось.
— Это — правда, я — не ваш сын? — переспросил он, разволновавшись.
— Да, правда! — подтвердил больной. — Ты, которого все называют Джон Гавиа, — не сын перевозчика Гавиа.
Тяжелый вздох вырвался из груди Джона, но на его лице выразилась такая радость, точно совершенно неожиданно исполнилось одно из самых его задушевных желаний. Вдруг он повернулся к двери, как бы собираясь немедленно покинуть комнату.
— Ты хочешь уйти? Ну и уходи! — прохрипел старик. — Оставайся всю жизнь нищим! Если же ты не покинешь меня в последние минуты, то будешь знатным, богатым господином, для которого даже дочь Спитты окажется недостойной. Тебе придется снизойти до нее, чтобы признать ее равной себе.
Джон дошел уже до двери, но упоминание о дочери Спитты заставило его одним прыжком подскочить к кровати больного. Молодой человек ничего не говорил, но в его глазах и в каждой черте его лица сквозило нетерпеливое ожидание, выражался немой вопрос.
— Так-то лучше, мой мальчик, — одобрил старик, — тебе ведь необходимо узнать, кто ты такой? Садись! Нельзя было выбрать лучший момент для нашего объяснения, чем сейчас. Ты не забудешь ни этого часа, ни того, что я скажу тебе. Я сделаю из тебя того, кого желаю, поверь мне!…
Джон судорожно схватился за спинку стула, плотно сжал губы и не мог ни слова выговорить от изумления и негодования. Он часто задумывался над низостью души человека, которого так долго считал своим отцом, но никогда еще тот не казался ему таким отвратительным, как теперь.
Грудь Гавиа продолжала подниматься и опускаться с тем же хрипением, но он перестал стонать. Он готовился исполнить свое давнишнее желание, и это, по-видимому, заглушало его физические страдания. Неприятная гримаса еще сильнее исказила его безобразное лицо.
— Моя месть не коснулась бы тебя, если бы ты был послушным мне, — начал старик, — но этого не случилось, а потому мой гнев перешел и на тебя. Ты уже знаешь, что я по происхождению британец. С юных лет я попал в Ирландию в качестве слуги одного важного господина. Этим господином был лорд и пэр и пользовался большой властью в стране. Однажды ему вздумалось наказать меня за какой- то проступок. И вот ирландский пэр осмелился привязать меня, англичанина, к козлам и высечь палками по спине. Запомни, друг Джон, что англичанин — не то, что какой- нибудь ирландец.
Лоб старика нахмурился, и в глазах запылала ненависть. Джон почуял что-то ужасное и отвернулся от больного.
— Само собой разумеется, что после этой истории мой господин прогнал меня, — продолжал Гавиа, с трудом переводя дыхание. — Первой моей мыслью было тут же заколоть могущественного пэра, но потом я раздумал. В то время положение людей менялось часто и быстро. И всемогущий пэр попал в немилость, и над ним был назначен суд. Меня вызвали свидетелем, и на основании того, что было сказано мной, моего бывшего господина и его брата обвинили в государственной измене и казнили. Нечего, я думаю, упоминать, что мои наговоры и клятвы были очень далеки от правды, это тебе, должно быть, хорошо известно и без того.
Джон стоял неподвижно, точно мраморное изваяние, олицетворяющее собой беспредельный ужас.
Не переставал греметь гром, сверкала непрерывно молния, но ни Джон, ни больной не обращали внимания на грозу. Открытие гнусного преступления заставило молодого человека содрогнуться; на старика же, наоборот, эти ужасные воспоминания подействовали подкрепляющим образом.
— Я совершил это преступление только из мести, — продолжал старик, — без всякого вознаграждения, но один из родственников казненного предложил мне еще больше отомстить моему врагу — и я согласился. Родственник был беден как церковная мышь и с вожделением мечтал об имуществе казненного, которое никак не мог получить ввиду того, что у моего бывшего господина остались жена и ребенок. Тогда я за большую сумму денег подал родственнику благой совет: нужно было, чтобы вдову казненного пэра и ее сына нашли в один прекрасный день мертвыми.
— Изверг! — не выдержал Джон, и холодная дрожь пронизала его тело.
— Нет, Джон, я не убил их, — поспешил успокоить Гавиа, — я был слишком хитер и знал, что смогу лучше воспользоваться обстоятельствами, если оставлю их в живых. Я был знаком с расположением комнат и порядками старого замка и потому для меня не представляло большого труда похитить фамильные бумаги и увезти из замка вдову пэра и ее сына, которому был тогда всего один год. Я не виноват, что вдова вскоре умерла от страха и лишений. Для меня ее смерть была даже несчастьем, так как помешала моим расчетам, чтобы получить от сына ту выгоду, которую я потерял вследствие смерти его матери, и я оставил мальчика при себе.
Джон затаил дыхание, крупные капли пота покрыли его лоб.
— Продолжайте! — беззвучно прошептал он.
— Затем я приехал с мальчиком сюда, — рассказывал больной, — но он оказался непокорным и часто мешал мне в моих планах. Тем не менее я был для него как родной отец: я воспитал его, научил ремеслу, которое может прокормить человека, и теперь оставлю ему в наследство свое имущество и имущество его родителей. Как видишь, этот мальчик — ты!
Хотя Джон сразу понял, чем закончит свою речь ненавистный старик, но не хотел верить этому до последней минуты. Страшный крик вырвался из его груди, перекрыв раскаты грома. Джон бросился к извергу, который был убийцей его родителей, в течение долгих лет тиранил его и даже теперь, на смертном одре, издевался над ним! Не помня себя от гнева, молодой человек схватил больного за горло.
Несмотря на слабость, Гавиа пытался сопротивляться.
— Ты меня хо… чешь… за… душить! — хрипел он, — Твое и… мя…
Джон ничего не слышал. Он все сильнее и сильнее сдавливал горло старика.
— Твое имя… — силился проговорить умирающий, — твое и… мя… там… тем… на… я… шка… ту… лоч… ка… бума… ги…
Джон ничего не сознавал. Вдруг тело старика судорожно забилось с такой силой, что руки молодого человека невольно разжались. Умирающий собрал последние силы, широко открыл рот и прохрипел:
— Те… перь ты то… же пре… ступ… ник!
Бешенство Джона перешло в ужас. Новый пронзительный крик его огласил комнату. А на дворе все так же гремел гром, сверкающие молнии озаряли убогую хижину, потоки дождя струились по окну. Джон стоял неподвижно, не сводя испуганных глаз с лица Гавиа, находившегося в агонии. Если бы не насилие, старик мог бы просуществовать еще несколько часов. Таким образом, Джон чувствовал себя действительно преступником.
Босвел очень скоро узнал о трагическом конце своего посланца и обо всех событиях, происшедших с королевой. Он считал невозможным оставаться дольше в Дэнбаре и потому решил бежать к своему родственнику, епископу Мюррею, который предложил ему временный приют.
Но и туда за ним последовал неутомимый лорд де Гранж.
Босвел бежал дальше, набрав на четыре судна своих приверженцев. Потерпев поражение в одной из морских битв и загнанный бурей, он очутился в Ирландии, где его судьба приняла еще худший оборот.
Небо над городом Белфастом и окружающими его горами было обложено тяжелыми тучами, предвестницами сильной бури. Еще накануне вечером темно-серые облака нависли над горизонтом, как бы образуя гигантскую непроницаемую стену, а наутро эта темная масса сгустилась еще сильнее. Не успело солнце скрыться за горами, как сверкнула молния, разрывая облака, и оглушительный удар грома прокатился над землей и заставил всех задрожать. Началась неистовая гроза. Точно огненные змеи извивались голубовато-синие полосы молний, со всех сторон гремел гром, со свистом завывал ветер, и хлестали шумные потоки дождя. Казалось, что наступил конец света.
По-видимому, жители Белфаста, его предместий и маленького городка Граве заранее приготовились к грозе, и потому все улицы были совершенно пусты. Только иногда метались фигуры прохожих, застигнутых бурей, которые торопились спрятаться от непогоды.
При первом ударе грома к набережной в Граве причалила лодка. Молодой человек, выскочив на землю и привязав ее, торопливо направился в восточную часть города. Едва успел он добежать до жалкой, ветхой избушки, как разразилась эта сильнейшая гроза. Захлопнув наружную дверь, молодой человек вошел в комнату, тускло освещенную маленькой лампой. К завыванию ветра и ударам грома снаружи здесь примешивались глубокие, тяжелые стоны, доносившиеся из угла комнаты, где стояла убогая кровать, на которой корчился от жестоких страданий какой-то старик. Блеск молнии на мгновение осветил через незанавешенное окно его жалкую фигуру.
Вошедший глянул на него, но не торопился подойти к страдающему. На мрачном лице молодого человека отражалось неудовольствие из-за разыгравшейся непогоды, но не было и следа участия к больному. Молодой человек был высокий, стройный, с красивым, бледным лицом, обрамленным черными волосами. На нем была круглая шляпа, короткая куртка и полотняные шаровары, которые носили все матросы той местности.
На какое-то мгновение он неподвижно остановился на пороге. Гроза усиливалась, раскаты грома повторялись все чаще и чаще, и все громче и громче стонал больной, точно гроза увеличивала его страдания.
— Джон, сын мой, ты здесь? — слабым голосом спросил больной. — Если бы еще немного, ты уже не застал бы меня в живых. Отчего ты не приходил так долго и оставил меня здесь без всякой помощи?
При первых словах больного хмурая тень пробежала по бледному лицу Джона.
— Я постоянно при вас, — недовольным тоном отозвался он, — отлучился лишь ненадолго и только потому, что вы сами отпустили меня в гавань, где у меня было дело.
— Правда, правда, — прохрипел больной, — но я не думал, что мой конец так близок. Перестанем ссориться! Мне нужно поговорить с тобой. Сядь возле меня и слушай со вниманием, что я скажу тебе.
Молодой человек взял соломенный стул и поставил его около кровати. По-прежнему на его мрачном лице не было выражения участия, желания чем-нибудь облегчить страдания старика.
С непрерывным стоном больной слегка поднялся на подушках, но от полного изнеможения его голова опустилась.
Джон не попытался поддержать голову отца. Лицо его сохраняло прежнее безучастное выражение, хотя по форме губ, по благородным нежным чертам можно было предположить, что у него доброе, отзывчивое сердце.
Совершенно противоположное впечатление производил отец. Ни страдание, ни страх смерти не могли заслонить на лице больного выражение хитрости, жадности и бессильной злобы — все характерные черты низменной натуры.
— Джон, — простонал старик после некоторой паузы, — я воспитал тебя, научил делу, которое может прокормить тебя, через несколько часов я умру, и ты получишь от меня наследство и даже немалое. Понимаешь ты меня?
— Понимаю! — пробормотал безучастно Джон.
Его отец бросил пытливый взгляд на сидевшего сына и продолжал прерывающимся голосом:
— Я воспитывал тебя строго, очень строго, но ты был диким, упрямым мальчиком, непослушным сыном.
Джон открыл было рот, чтобы что-то ответить старику, но раздумал и только пристально посмотрел прямо в глаза отцу.
— Впрочем, я в этом отчасти сам виноват, — продолжал больной, — и должен был раньше обратить внимание на то, что ты — человек, ни к чему не пригодный.
— Но я не преступник! — резко заметил Джон.
— Ты еще будешь им, сын мой, — насмешливо ответил больной, — будешь непременно, это — тоже часть моего наследства!
Громовой удар, более сильный, чем все предыдущие, потряс стены ветхого домишки.
Джон резко вскочил со стула, но только грозно глянул на старика и отвернулся.
— Слушай дальше! — продолжал отец, морщась от боли. — Обрати внимание прежде всего на то, как должен умирать преступник, такой, как я, и каким скоро будешь ты. Я знаю, что чувство страха незнакомо тебе, но настоящим пробным камнем храбрости я признаю смертный час, кончину в полном сознании и с нечистой совестью. Я умираю, понимая это, но не боюсь ни чертей, ни ада. Я так мало думаю о них, что даже в последнюю минуту жизни мечтаю о мести и хочу отомстить тебе за то, что ты был непослушным сыном, отомстить за твои угрозы, которыми ты в последнее время преследовал меня. Слушай же хорошенько! Ты — мой наследник, но не мой сын!
При последних словах старика лицо молодого человека прояснилось.
— Это — правда, я — не ваш сын? — переспросил он, разволновавшись.
— Да, правда! — подтвердил больной. — Ты, которого все называют Джон Гавиа, — не сын перевозчика Гавиа.
Тяжелый вздох вырвался из груди Джона, но на его лице выразилась такая радость, точно совершенно неожиданно исполнилось одно из самых его задушевных желаний. Вдруг он повернулся к двери, как бы собираясь немедленно покинуть комнату.
— Ты хочешь уйти? Ну и уходи! — прохрипел старик. — Оставайся всю жизнь нищим! Если же ты не покинешь меня в последние минуты, то будешь знатным, богатым господином, для которого даже дочь Спитты окажется недостойной. Тебе придется снизойти до нее, чтобы признать ее равной себе.
Джон дошел уже до двери, но упоминание о дочери Спитты заставило его одним прыжком подскочить к кровати больного. Молодой человек ничего не говорил, но в его глазах и в каждой черте его лица сквозило нетерпеливое ожидание, выражался немой вопрос.
— Так-то лучше, мой мальчик, — одобрил старик, — тебе ведь необходимо узнать, кто ты такой? Садись! Нельзя было выбрать лучший момент для нашего объяснения, чем сейчас. Ты не забудешь ни этого часа, ни того, что я скажу тебе. Я сделаю из тебя того, кого желаю, поверь мне!…
Джон судорожно схватился за спинку стула, плотно сжал губы и не мог ни слова выговорить от изумления и негодования. Он часто задумывался над низостью души человека, которого так долго считал своим отцом, но никогда еще тот не казался ему таким отвратительным, как теперь.
Грудь Гавиа продолжала подниматься и опускаться с тем же хрипением, но он перестал стонать. Он готовился исполнить свое давнишнее желание, и это, по-видимому, заглушало его физические страдания. Неприятная гримаса еще сильнее исказила его безобразное лицо.
— Моя месть не коснулась бы тебя, если бы ты был послушным мне, — начал старик, — но этого не случилось, а потому мой гнев перешел и на тебя. Ты уже знаешь, что я по происхождению британец. С юных лет я попал в Ирландию в качестве слуги одного важного господина. Этим господином был лорд и пэр и пользовался большой властью в стране. Однажды ему вздумалось наказать меня за какой- то проступок. И вот ирландский пэр осмелился привязать меня, англичанина, к козлам и высечь палками по спине. Запомни, друг Джон, что англичанин — не то, что какой- нибудь ирландец.
Лоб старика нахмурился, и в глазах запылала ненависть. Джон почуял что-то ужасное и отвернулся от больного.
— Само собой разумеется, что после этой истории мой господин прогнал меня, — продолжал Гавиа, с трудом переводя дыхание. — Первой моей мыслью было тут же заколоть могущественного пэра, но потом я раздумал. В то время положение людей менялось часто и быстро. И всемогущий пэр попал в немилость, и над ним был назначен суд. Меня вызвали свидетелем, и на основании того, что было сказано мной, моего бывшего господина и его брата обвинили в государственной измене и казнили. Нечего, я думаю, упоминать, что мои наговоры и клятвы были очень далеки от правды, это тебе, должно быть, хорошо известно и без того.
Джон стоял неподвижно, точно мраморное изваяние, олицетворяющее собой беспредельный ужас.
Не переставал греметь гром, сверкала непрерывно молния, но ни Джон, ни больной не обращали внимания на грозу. Открытие гнусного преступления заставило молодого человека содрогнуться; на старика же, наоборот, эти ужасные воспоминания подействовали подкрепляющим образом.
— Я совершил это преступление только из мести, — продолжал старик, — без всякого вознаграждения, но один из родственников казненного предложил мне еще больше отомстить моему врагу — и я согласился. Родственник был беден как церковная мышь и с вожделением мечтал об имуществе казненного, которое никак не мог получить ввиду того, что у моего бывшего господина остались жена и ребенок. Тогда я за большую сумму денег подал родственнику благой совет: нужно было, чтобы вдову казненного пэра и ее сына нашли в один прекрасный день мертвыми.
— Изверг! — не выдержал Джон, и холодная дрожь пронизала его тело.
— Нет, Джон, я не убил их, — поспешил успокоить Гавиа, — я был слишком хитер и знал, что смогу лучше воспользоваться обстоятельствами, если оставлю их в живых. Я был знаком с расположением комнат и порядками старого замка и потому для меня не представляло большого труда похитить фамильные бумаги и увезти из замка вдову пэра и ее сына, которому был тогда всего один год. Я не виноват, что вдова вскоре умерла от страха и лишений. Для меня ее смерть была даже несчастьем, так как помешала моим расчетам, чтобы получить от сына ту выгоду, которую я потерял вследствие смерти его матери, и я оставил мальчика при себе.
Джон затаил дыхание, крупные капли пота покрыли его лоб.
— Продолжайте! — беззвучно прошептал он.
— Затем я приехал с мальчиком сюда, — рассказывал больной, — но он оказался непокорным и часто мешал мне в моих планах. Тем не менее я был для него как родной отец: я воспитал его, научил ремеслу, которое может прокормить человека, и теперь оставлю ему в наследство свое имущество и имущество его родителей. Как видишь, этот мальчик — ты!
Хотя Джон сразу понял, чем закончит свою речь ненавистный старик, но не хотел верить этому до последней минуты. Страшный крик вырвался из его груди, перекрыв раскаты грома. Джон бросился к извергу, который был убийцей его родителей, в течение долгих лет тиранил его и даже теперь, на смертном одре, издевался над ним! Не помня себя от гнева, молодой человек схватил больного за горло.
Несмотря на слабость, Гавиа пытался сопротивляться.
— Ты меня хо… чешь… за… душить! — хрипел он, — Твое и… мя…
Джон ничего не слышал. Он все сильнее и сильнее сдавливал горло старика.
— Твое имя… — силился проговорить умирающий, — твое и… мя… там… тем… на… я… шка… ту… лоч… ка… бума… ги…
Джон ничего не сознавал. Вдруг тело старика судорожно забилось с такой силой, что руки молодого человека невольно разжались. Умирающий собрал последние силы, широко открыл рот и прохрипел:
— Те… перь ты то… же пре… ступ… ник!
Бешенство Джона перешло в ужас. Новый пронзительный крик его огласил комнату. А на дворе все так же гремел гром, сверкающие молнии озаряли убогую хижину, потоки дождя струились по окну. Джон стоял неподвижно, не сводя испуганных глаз с лица Гавиа, находившегося в агонии. Если бы не насилие, старик мог бы просуществовать еще несколько часов. Таким образом, Джон чувствовал себя действительно преступником.
II
Ужасный старик достиг своей цели, упомянув имя дочери сэра Спитты, которая произвела большое впечатление на молодого человека. Если бы Гавиа не вспомнил о Спитте, Джон ушел бы из дома и не услышал бы тех ужасов, которые привели его к преступлению.
Спитта был очень важным лицом не только в Белфасте, но и во всей Ирландии. Прежде всего он был англичанином по рождению, что в Ирландии считалось преимуществом и сулило большие выгоды. Спитта был лордомЛондодэри и обладал большим богатством, он имел поместья и земли в Ирландии. Кроме того, Спитта занимал пост гражданского губернатора в Анфраме, что давало ему большое содержание и не требовало никаких обязанностей. В счастливой Ирландии существовало всегда много подобных синекур.
Спитта жил со своей семьей, состоявшей из жены и дочери, в Белфасте, на главной улице города. Огромный дворец лорда поражал своей роскошью всех, кто имел счастье видеть его, а те, кому не суждено было войти в дом Спитты, рассказывали понаслышке чудеса о сказочном великолепии этого дворца. Целая толпа богато одетых лакеев бросалась исполнять желание важного сэра Спитты по одному мановению его руки.
В течение последних недель слуги лорда проявляли необыкновенную деятельность. Великолепные залы наполнялись новым убранством, оранжереи заготовляли большое количество цветов, одним словом, по всему было видно, что дворец Спитты готовится к большому торжеству. Вскоре стало известно, что лорд выдает замуж свою единственную дочь, красавицу Эсфирь, за лорда Лургана, который был молод, красив и богат, как и его невеста. Кроме этого лорд Лурган имел уже служебные заслуги и считался очень полезным человеком в государстве.
Правда, слухи о характере жениха были не вполне благоприятны для него, товарищи по службе утверждали, что он был очень заносчив и позволял себе необыкновенные дерзости по отношению к лицам, стоявшим ниже его по общественному положению, а в своей семье отличался деспотизмом и доходил иногда до совершенно диких выходок.
Спитта или не знал об этих свойствах характера своего будущего зятя, или не придавал им большого значения, тем более, что необузданный нрав был обыкновенным явлением среди богатых и благородных кавалеров Ирландии. Спитта очень благосклонно смотрел на ухаживания Лургана за его дочерью, и, как только молодой человек сделал предложение Эстер, сейчас же получил согласие лорда.
Вслед за предложением последовала и помолвка, а свадьба должна была состояться через четыре месяца после этого. Было решено, что венчание произойдет в церкви вечером в присутствии только нескольких свидетелей, а затем новобрачные вернутся во дворец сэра Спитты, где начнется такое пиршество, которого еще ни разу не было в летописях Белфаста.
К несчастью, как раз в день свадьбы разразилась страшная гроза.
Когда накануне этого торжественного дня свинцовые тучи покрыли небо, никому не приходила в голову мысль, что погода может помешать свадьбе. Утром надеялись, что к обеду тучи разойдутся, а в полдень трудно было определить, что будет вечером.
Час венчания приближался. Все уже было готово для того, чтобы ехать в церковь, но в такую непогоду никто не решался выйти из дома.
В одной из комнат замка уединились сэр Спитта со своим будущим зятем.
Спитте было около пятидесяти лет; он был высок и строен, в его осанке и манерах было много аристократического, выдающего в нем знатного господина, кавалера старого закала. Искусство в туалете скрывало некоторые недочеты в наружности лорда, которые наложили годы. Благодаря тщательному уходу за своей особой Спитта казался по крайней мере лет на десять моложе, чем был в действительности.
Лурган не нуждался еще ни в каких ухищрениях модного искусства: молодость и здоровье били в нем ключом, хотя он старался принять вид несколько разочарованного, пресыщенного, утомленного жизнью человека, что было в моде во Франции и считалось признаком хорошего тона.
В то время как Спитта ходил взад и вперед по комнате, проклиная погоду, Лурган стоял у окна и наблюдал за облаками, которые настолько сгустились, что в комнате стало темно и пришлось зажечь свечи.
Лорд подошел к будущему зятю и сказал:
— Нужно на что-нибудь решиться, — возможно, что будет сильная гроза. Как вы думаете?
— Весьма возможно, — ответил жених, — хотя тучи висят уже так давно, что могут пробыть в таком положении еще и час, и два.
— Если даже сейчас грозы и не будет, она может настигнуть нас, когда мы будем в церкви! — высказал предположение Спитта.
— Что за беда?
— Это было бы очень неприятно для нас, мой друг, — возразил лорд, — народ объяснил бы себе это явление Божьим гневом.
— Какое нам дело до глупой толпы? — пренебрежительно пожал плечами Лурган.
— Большое, мой милый! Народное суеверие — это такая сила, с которой необходимо считаться. Я убедился в этом по собственному опыту!
— Я давно собирался сделать вам одно предложение, — начал Лурган после некоторого молчания, — попросите дам несколько поторопиться со своими туалетами и поедемте в церковь пораньше.
— Это совершенно невозможно, мой друг, — возразил Спитта, — сократить часть времени, предназначенного женщиной для нарядов, это то же, что потребовать от горы, чтобы она сдвинулась с места. У меня имеется другое предложение.
— В таком случае приказывайте! — вежливо поклонился Лурган.
Я прошу вас отказаться от поездки в церковь, — проговорил Спитта, — лучше пригласим священника к нам в дом, и пусть он здесь совершит обряд бракосочетания. Ничего другого нельзя придумать.
— Вполне согласен! — ответил Лурган.
— Вот и прекрасно! — радостно воскликнул хозяин дома и позвонил.
Вошедший слуга выслушал приказания лорда и поспешно вышел из комнаты, чтобы как можно быстрее выполнить их.
После принятия этого решения настроение у обоих мужчин стало несколько лучше, они говорили о том, что надо предупредить дам о приезде священника, но только Спитта собрался сделать это, как вдруг раздался страшный шум в замке. В двери громко постучали, послышались встревоженные голоса, даже крики, по коридору забегали люди.
— Воры, разбойники, убийцы! — наконец можно было разобрать отдельные слова среди всеобщего шума и крика.
Спитта и Лурган несколько секунд молча смотрели друг на друга, не понимая, в чем дел, затем хозяин подошел к звонку и сильно позвонил, но на его зов никто не явился.
— Черт возьми, что там такое? — возмутился лорд. — Не хотите ли, милорд, пойти вместе со мной? — обратился он к Лургану. И они оба вышли из комнаты.
У самого входа во дворец им представилась неожиданная картина. Почти все слуги замка окружили какого-то постороннего человека, который храбро отбивался от этого нападения.
— Повалите его! — кричали озлобленные голоса. — Он — разбойник, убийца! Держите его крепче!… Он хотел убить и ограбить, а затем поджечь дом!
Преследуемый с видом молодого Геркулеса, не говоря ни слова, работал кулаками, причем обнаруживал помимо силы и необыкновенную ловкость.
Он раздавал удары направо и налево, причем стоны пострадавших еще больше увеличивали шум и суматоху.
Спитта точно так же, как и его спутник, не сразу дал себе отчет в том, что происходит.
— Подождите, тише! — приказал наконец Спитта, но ему пришлось несколько раз повторить это приказание и даже собственноручно оттолкнуть кое-кого из слуг, стоявших возле него.
— Лорд! — раздался шепот, и все расступились перед своим господином.
Спитта и незнакомец смотрели молча друг на друга.
Лорд разглядывал молодого человека, у которого были правильные черты загорелого лица, выражавшего решимость, и темные глаза, в которых светилась отвага.
— Кто вы такой? — спросил Спитта, обращаясь к незнакомцу.
На вопрос не последовало ответа.
— Отвечайте, — продолжал лорд, — зачем вы пришли в мой дом? Что вам здесь нужно?
Незнакомец молчал.
— Вы не хотите отвечать? — сердито проговорил Спитта. — В таком случае я буду считать вас преступником и представлю в суд для наказания.
И эта угроза не подействовала на молодого человека.
— Кто этот человек? — обратился лорд к своим слугам.
Один из лакеев, выступив вперед, ответил:
— Я вошел в будуар леди по ее поручению и увидел этого человека, он спрятался за ширмы, которые стоят у стены.
— Этот человек был в будуаре моей жены? — переспросил Спитта.
— Да, я хотел схватить его, но он оттолкнул меня и бросился бежать. Я уцепился за него и стал звать на помощь, остальное вы видели! — закончил лакей.
Лорд несколько секунд стоял неподвижно. Бог знает, что происходило в это время в его душе!
— Свяжите этого дерзкого мальчишку! — сердито приказал он.
Слуги с опаской подошли к незнакомцу, некоторые из них уже познакомились с силой его кулаков и потому не решались прикоснуться к молодому человеку, хотя тот на этот раз, по-видимому, и не думал сопротивляться.
Вдруг одна из дверей открылась, и молодая девушка в белом платье бросилась на грудь незнакомца, не обращая внимания на присутствие посторонних.
— Возлюбленный мой, что они с тобой сделали! — тихо говорила она, но все услышали это обращение.
Вслед за молодой девушкой вышла дама средних лет и со встревоженным видом подошла к ней.
— Эстер! — крикнула она пронзительным голосом.
Невозможно описать удивление свидетелей этой сцены.
И в этот миг все озарил какой-то зеленоватый свет, за которым последовал такой грохот, словно настало светопреставление.
III
По поводу семейной жизни сэра Спитты в Белфасте не знали ничего или почти ничего, хотя он и прожил в этом городе почти десять лет. Единственное, что в последнее время стало известным в городе, — это то, что леди Спитта не была согласна с намерениями мужа относительно замужества Эсфири и та в течение долгого времени сопротивлялась отцу и не хотела отдать свою руку лорду Лургану. Однако, не обращая на это внимания, строгий отец семейства заставил дочь и ее мать повиноваться.
В день бракосочетания в обеденное время леди вошла в будуар своей дочери, чтобы в последний раз поговорить с ней без свидетелей относительно предполагаемого решительного акта и чтобы ободрить и утешить ее.
Маркиза была пышной женщиной, лицо ее еще хранило отпечаток былой красоты. Она была много моложе своего мужа.
— Милая, — сказала она с выражением участия, входя к Эстер в комнату, — наступает решительный момент твоей жизни. Вооружись мужеством и заставь себя послушаться отца. Возьми пример с меня, я ведь тоже когда-то была вынуждена взять себе в мужья нелюбимого.
— Дорогая мама! — воскликнула Эстер, кидаясь на грудь матери. — Это так тяжело! Я в полном отчаянии! — и девушка разразилась рыданиями.
— Ты успокоишься, как успокоилась и я когда-то, — ответила мать, — ты утешишься, как я утешилась. Поэтому я и сделала тебя, Эстер, поверенной своих тайн. Ведь нам ничего больше не остается, как хитростью обманывать бдительность наших тиранов. Но они и не заслуживают ничего лучшего!
Девушка, слушая мать, попыталась сдержать горькие слезы.
— Во всяком случае ты можешь всецело рассчитывать на меня, — продолжала маркиза, — я всегда буду готова стать тебе опорой и помощницей!
Эстер подняла свое заплаканное личико, и взгляд ее больших темных глаз впился в мать.
— Но к чему я должна повиноваться желаниям человека, которого ничто не связывает со мной? — спросила она.
— Дитя мое, — испуганно вскрикнула мать, — разве ты забыла?.. Да что стало бы с тобой, что стало бы со мной, если бы лорд мог хотя бы только заподозрить нас?
— Это правда, мама… Я не хочу упрекать вас, но не могу не сказать, что мне приходится жестоко платить за ваш грех.
— Ты не права, моя девочка! Ведь тебе приходится просто испытать на себе ту же участь, которая когда-то была моим уделом. Наша любовь направлена на слишком ничтожных людей, и как Марона не мог выступить открыто соперником сэра Спитты, так и Джон Гавиа не может тягаться с лордом Лурганом. Но если лорд Лурган и будет твоим супругом, то верный Джон все-таки останется твоим любовником!
— Мама, мама! — с упреком в голосе сказала Эстер. — Та мораль, которую вы проповедовали мне когда-то прежде, звучит совсем иначе, чем то, что вы говорите мне теперь!
— Дитя мое, неужели же ты хотела бы, чтобы я заставила твое сердце подчиниться насилию?
— Конечно, нет! Но я хотела бы отречься от лорда, пусть и он тоже оттолкнет меня от себя, и тогда я буду иметь право последовать за Джоном в его хижину!…
— И обречь мать на стыд и позор!… Не так ли, глупая мечтательница?
— Ни за что на свете, мама!
— Конечно, до известной степени твое уважение ко мне несколько уменьшилось по моей же вине, но потерпи только немного и ты по-прежнему будешь уважать меня.
— Я была очень напугана, мама, но так или иначе, а я — ваша дочь и, несмотря ни на что, должна уважать в вас свою мать, а сердечное доверие, которым вы меня почтили, заставляет забыть любую вашу ошибку.
— Благодарю тебя, дитя мое!
— Но и вы совершенно забываете, до какой степени Джон необуздан в своей страсти! Он, чего доброго, способен…
— Успокойся! Я только что имела длинный разговор с Джоном Гавиа. Он — очень разумный человек и будет тебе верным другом под видом слуги. С этой стороны тебе нечего бояться. Ты будешь даже счастливее меня в этом отношении.
— Значит, Джон доволен?
— Нет, он не доволен, но достаточно рассудителен, чтобы понять, что возможно и что невозможно.
— Бедный Джон!
— Бедная Эстер!
Молодая девушка вздохнула.
Маркиза склонилась к уху дочери и прошептала:
— Если ты, Эстер, будешь послушной, то я дам тебе возможность провести часочек с твоим возлюбленным в моем будуаре перед тем, как ты отправишься со своим супругом в его дом.
Лицо девушки покрылось темным румянцем. Мать пошла к двери и на пороге снова обернулась, игриво погрозив дочери пальцем.
Эстер позвонила горничной и приказала приступить к подвенечному туалету. Та первым делом взялась причесывать ее пышные волосы.
Снаряжение к венцу продолжалось без перерыва от двух до шести часов пополудни. Наконец все было готово, не хватало только миртового венка, который должна была прикрепить сама мать.
— Оставьте меня, — сказала невеста служанкам, — и попросите маму, чтобы она пришла ко мне.
Горничные, на болтовню и возгласы восхищения которых Эстер за все время не обмолвилась ни словом, удалились.
Но прошло много времени, а мать все не шла.
Вдруг в замке послышался шум, о котором уже говорилось, и в тот же момент маркиза буквально ворвалась в комнату дочери.
— Эстер! — закричала она, ломая руки. — Спаси меня, себя и его.
— Что случилось, мама?
— Капитан здесь… Его узнали…
— Несчастный!
— Я в отчаянии… Эстер, спаси своего отца! Наверное, он явился для того, чтобы незаметно присутствовать при твоем обручении.
— Неужели? — простонала девушка.
Беспомощность матери, казалось, заразила и ее. Шум снаружи становился все сильнее, пока он внезапно не прекратился и послышался голос лорда.
Эстер вдруг воспрянула духом, она, по-видимому, быстро пришла к какому-то решению.
— Да! — сказала она. — Я спасу вас, его и себя, мама! Я не надену тяжелых оков, а останусь свободной, не скомпрометировав вас!
Девушка торопливо вышла из комнаты, еще более перепуганная мать последовала за нею.
И слова Эстер, обращенные к нарушителю спокойствия, ошеломили всех.
А неистовство стихии только на миг могло остановить взрыв разбушевавшихся страстей.
— Возлюбленный? — крикнул лорд Лурган.
— Возлюбленный? — зарычал Спитта, покрывая голосом грохот грома. — Прочь отсюда все! Вам здесь нечего делать! Вон!
Лакеи, сбежавшиеся на крик, быстро исчезли с глаз долой.
— Я здесь тоже лишний, сэр! — возмутился Лурган.
— Останьтесь, милорд! — ответил Спитта. — Если не для того, чтобы повести к алтарю невесту, так чтобы отомстить за оскорбление, которое в большей степени нанесено вам, чем мне. Леди, уберите вашу дочь! — крикнул Спитта маркизе, а затем обратился к ворвавшемуся человеку: — Теперь я еще раз спрашиваю вас: кто вы такой?
Маркиза замялась, ее дочь, дрожа, оставалась в объятиях незнакомца, который поднял голосу и властным голосом сказал:
— Тише! Во всем этом виноват только я один. Но вы сами понимаете, что после того, как эта девушка высказала свои истинные чувства, не может быть больше и речи о ее свадьбе вот с этим человеком! — указал он на Лургана.
— Не может быть и речи? — злобно переспросил Спитта.
— Разумеется, нет! — крикнул лорд Лурган.
— Увы, это — правда, — согласился с ним Спитта и снова набросился на незнакомца. — Но кто вы такой?
Незнакомец многозначительно глянул на Спитту и с достоинством ответил:
— Капитан Марона Босвел!
Лорд вскрикнул от изумления и уставился на леди.
— Господь говорит голосом бури, — произнес чей-то сильный голос. — Да оставит грешный человек все свои помыслы, направит свои мысли к Нему и помолится Ему, дабы Он охранил и защитил его!
Это священник, не обратив внимания на непогоду, появился в замке.
Человек, назвавшийся капитаном Мароной Босвелом, подвел Эстер к матери и громко сказал:
— Мы еще увидимся!
Затем быстро спустился по лестнице и покинул замок.
Лорд Лурган какое-то время оставался в полной нерешительности. Наконец, даже не попрощавшись с семейством Спитты, последовал за капитаном.
Спитта, наконец, придя в себя, открыл одну из дверей, с поклоном попросил священника войти туда и сам последовал за ним.
Тесно прильнув друг к другу, маркиза с дочерью вернулись в будуар Эстер.
Из комнаты, куда уединились лорд со священником, послышался звонок.
Когда появился слуга, то ему был отдан приказ сообщать всем прибывающим приглашенным, что в силу непредвиденных обстоятельств венчание молодой хозяйки с лордом Лурганом сегодня не может состояться, причем слуги должны были обойти всех с этой вестью, как только буря несколько затихнет.
Казалось, словно само небо услыхало и вняло мольбам Эстер.
Когда горничные вошли в будуар девушки, то застали там и мать, и дочь в глубоком обмороке.

Глава тридцать первая
ТАЙНА ЛОРДА СПИТТЫ

I
 Джон все еще продолжал стоять недвижно, с диким отчаянием всматриваясь в давно скончавшегося бандита, которого он так недавно называл своим отцом.
«Я убил его! — с отчаянием подумал он. — Я преступник! Но если этим я и повредил кому, так больше всего самому себе: я так и не узнал фамилии моей семьи!… — Джон еще раз взглянул на умершего и вспомнил: — Но он говорил о каком-то ящике! Шкатулка! Она должна быть спрятана у него под подушкой!»
Джон машинально сделал несколько шагов по направлению к мертвому, но потом снова остановился в ужасе. Однако желая придать себе храбрости, он прикрикнул сам на себя:
— Он заслужил того, чтобы умереть от моей руки. Он получил то, что ему причиталось…
Джон решительно шагнул к убогому ложу и сунул руку под подушку, с которой на него словно с угрозой смотрело неподвижное, мертвенно-бледное лицо скончавшегося старика.
Джон не ошибся в своих расчетах, и вытащил маленькую шкатулку из старого, потемневшего дуба. Эта шкатулка была так тяжела, что чуть не выскочила из рук, но Джон крепко ухватил ее и торопливо поднес к столу, где горела коптящая лампа.
Шкатулка была заперта, и Джон снова обернулся к умершему. Он знал, что старик носил ключ от шкатулки на шее, но ему было противно прикасаться к телу старика, и, взяв шкатулку обеими руками, он с силой ударил ею об угол стола.
Замок отскочил, и на землю попадало много бумаг и денежных свертков. Некоторые свертки лопнули, и по полу покатились сверкающие золотые монеты.
Джон не обратил никакого внимания на деньги. Он бережно подобрал все бумаги, расправил их и поднес к свету, пытаясь прочесть. Но содержание бумаг не принесло ему ничего приятного.
Глаза Джона затуманились и с тупой неподвижностью уставились в пространство, руки дрожали. Из его груди вырвался протяжный, полный отчаяния стон. Затем он повернулся, и по его лицу можно было видеть, что не убей он раньше старого негодяя, он неминуемо сделал бы это теперь.
— Еще и это! — хриплым голосом пробормотал молодой человек. — А негодяй все знал…
Он мельком проглядел все остальные бумаги, но ни одна не остановила его внимания, и с выражением дикой решимости он подошел к стене, где висело всевозможное оружие, выбрал нож, торчавший в ножнах, прикрепленных к кожаному поясу. Надев этот пояс и прихватив шляпу, Джон торопливо вышел из комнаты и тем же путем отправился к оставленной на берегу залива лодке.
Добравшись до лодки, Джон на минуту остановился в раздумье, глядя на воды, все еще кипевшие ключом. Но дорога, огибавшая залив, была слишком долгой. Поэтому он вскочил в лодку, наполовину заполненную водой, но не стал вычерпывать ее, а прямо пустился по бушевавшим волнам.
Джон мощными руками держал весла и с силой греб; лодка плясала на седых гребнях валов, но упрямо направлялась не к гавани Белфаста, а к деревне Бельмонт.
У подошвы утеса, где стояла церковь, Джон причалил и выскочил на берег.
Весь вид молодого человека выражал холодную, спокойную решимость. Не прибавляя шага, он спокойно направился к порталу маленькой церкви. Она оказалась незапертой, и молодой человек вошел в нее.
Еще на паперти ему повстречался католический священник, собравшийся уходить.
— Ах, Джо, это ты? — сказал священник. — Да благословит тебя Господь!
Джон глубоко поклонился патеру, как привык это делать с давних пор, и тихо сказал:
— Я страстно хочу облегчить свое сердце и получить отпущение грехов. Не соблаговолите ли вы исповедать меня, достопочтенный отец?
Священник бросил пытливый взгляд на молодого человека и повернул в церковь. Там он поднялся по ступеням алтаря и встал за престолом.
Джон опустился на каменные ступени алтаря.
— Говори, сын мой, — сказал священник, — что угнетает твою душу?
— Достопочтенный отец, — начал Джон слегка вздрагивающим голосом, — я совершил преступление, но я был вне себя и совершил постыдное деяние в состоянии сильного гнева. Когда я вернулся сегодня с залива домой, то застал человека, которого до сих пор считал своим отцом, при смерти. Он сообщил мне, что он мне не отец и что из мести погубил моих родителей. Он стал вдобавок издеваться надо мной, и я пришел в такую ярость, что удавил его, умиравшего!
— Ты самым глупым образом дал гневу увлечь себя, сын мой. Но если ты сказал правду, то этот приступ бешенства легко объяснить, и твое преступление не принадлежит к числу тех, которые не прощаются ни на земле, ни на небесах. Раскаиваешься ли ты, по крайней мере, в своем поступке?
— Да, раскаиваюсь. К тому же он был совершенно бесполезен, и я прошу вас наложить на меня епитимью и отпустить мне грехи. Но я собираюсь совершить еще и другое преступление.
Священник, казавшийся до сих пор кротким, вдруг выпрямился, в его глазах засветилась угроза.
— Несчастный! — загремел он, и его мощный, глубокий голос отдавался под сводом храма многократным эхом. — И с такими намерениями ты осмеливаешься приближаться к святилищу? Ты осмеливаешься переступать порог церкви, держа при себе оружие, заготовленное для мерзкого преступления?
Джон задрожал всем телом, словно в лихорадке, но его решение оставалось непоколебимым.
— Человек, которого до сих пор я называл своим отцом, — запинаясь, сказал он, — был только оружием в руках других людей, которые замыслили погубить мой род и ввергнуть меня в пучину бедствий. Эти люди, и в особенности один из них, отняли у меня имя, положение и состояние. Главный злодей мой должен умереть!
— Ты не вправе убивать! — возразил священник. — Мирское правосудие даст тебе требуемое удовлетворение и вознаградит тебя за все перенесенное. Обратись к нему!
— Это совершенно бесполезно! Этот человек стоит слишком высоко, а у меня не хватит доказательств для полного торжества… Он должен умереть!
— Значит, ты не хочешь отказаться от своих намерений?
— Нет!
— В таком случае, — повысил голос священник, — церковь отталкивает тебя, как отщепенца, и пусть поразит тебя ее проклятие так же, как после твоей кончины поразит тебя осуждение на муку вечную!
Священник отвернулся, спустился с алтаря и пошел из церкви.
Некоторое время Джон недвижно пролежал на полу, а когда поднялся, его глаза, блуждая, искали священника, наконец он вскочил, словно безумный, и стремглав бросился вон из церкви.
Джон все еще продолжал стоять недвижно, с диким отчаянием всматриваясь в давно скончавшегося бандита, которого он так недавно называл своим отцом.
«Я убил его! — с отчаянием подумал он. — Я преступник! Но если этим я и повредил кому, так больше всего самому себе: я так и не узнал фамилии моей семьи!… — Джон еще раз взглянул на умершего и вспомнил: — Но он говорил о каком-то ящике! Шкатулка! Она должна быть спрятана у него под подушкой!»
Джон машинально сделал несколько шагов по направлению к мертвому, но потом снова остановился в ужасе. Однако желая придать себе храбрости, он прикрикнул сам на себя:
— Он заслужил того, чтобы умереть от моей руки. Он получил то, что ему причиталось…
Джон решительно шагнул к убогому ложу и сунул руку под подушку, с которой на него словно с угрозой смотрело неподвижное, мертвенно-бледное лицо скончавшегося старика.
Джон не ошибся в своих расчетах, и вытащил маленькую шкатулку из старого, потемневшего дуба. Эта шкатулка была так тяжела, что чуть не выскочила из рук, но Джон крепко ухватил ее и торопливо поднес к столу, где горела коптящая лампа.
Шкатулка была заперта, и Джон снова обернулся к умершему. Он знал, что старик носил ключ от шкатулки на шее, но ему было противно прикасаться к телу старика, и, взяв шкатулку обеими руками, он с силой ударил ею об угол стола.
Замок отскочил, и на землю попадало много бумаг и денежных свертков. Некоторые свертки лопнули, и по полу покатились сверкающие золотые монеты.
Джон не обратил никакого внимания на деньги. Он бережно подобрал все бумаги, расправил их и поднес к свету, пытаясь прочесть. Но содержание бумаг не принесло ему ничего приятного.
Глаза Джона затуманились и с тупой неподвижностью уставились в пространство, руки дрожали. Из его груди вырвался протяжный, полный отчаяния стон. Затем он повернулся, и по его лицу можно было видеть, что не убей он раньше старого негодяя, он неминуемо сделал бы это теперь.
— Еще и это! — хриплым голосом пробормотал молодой человек. — А негодяй все знал…
Он мельком проглядел все остальные бумаги, но ни одна не остановила его внимания, и с выражением дикой решимости он подошел к стене, где висело всевозможное оружие, выбрал нож, торчавший в ножнах, прикрепленных к кожаному поясу. Надев этот пояс и прихватив шляпу, Джон торопливо вышел из комнаты и тем же путем отправился к оставленной на берегу залива лодке.
Добравшись до лодки, Джон на минуту остановился в раздумье, глядя на воды, все еще кипевшие ключом. Но дорога, огибавшая залив, была слишком долгой. Поэтому он вскочил в лодку, наполовину заполненную водой, но не стал вычерпывать ее, а прямо пустился по бушевавшим волнам.
Джон мощными руками держал весла и с силой греб; лодка плясала на седых гребнях валов, но упрямо направлялась не к гавани Белфаста, а к деревне Бельмонт.
У подошвы утеса, где стояла церковь, Джон причалил и выскочил на берег.
Весь вид молодого человека выражал холодную, спокойную решимость. Не прибавляя шага, он спокойно направился к порталу маленькой церкви. Она оказалась незапертой, и молодой человек вошел в нее.
Еще на паперти ему повстречался католический священник, собравшийся уходить.
— Ах, Джо, это ты? — сказал священник. — Да благословит тебя Господь!
Джон глубоко поклонился патеру, как привык это делать с давних пор, и тихо сказал:
— Я страстно хочу облегчить свое сердце и получить отпущение грехов. Не соблаговолите ли вы исповедать меня, достопочтенный отец?
Священник бросил пытливый взгляд на молодого человека и повернул в церковь. Там он поднялся по ступеням алтаря и встал за престолом.
Джон опустился на каменные ступени алтаря.
— Говори, сын мой, — сказал священник, — что угнетает твою душу?
— Достопочтенный отец, — начал Джон слегка вздрагивающим голосом, — я совершил преступление, но я был вне себя и совершил постыдное деяние в состоянии сильного гнева. Когда я вернулся сегодня с залива домой, то застал человека, которого до сих пор считал своим отцом, при смерти. Он сообщил мне, что он мне не отец и что из мести погубил моих родителей. Он стал вдобавок издеваться надо мной, и я пришел в такую ярость, что удавил его, умиравшего!
— Ты самым глупым образом дал гневу увлечь себя, сын мой. Но если ты сказал правду, то этот приступ бешенства легко объяснить, и твое преступление не принадлежит к числу тех, которые не прощаются ни на земле, ни на небесах. Раскаиваешься ли ты, по крайней мере, в своем поступке?
— Да, раскаиваюсь. К тому же он был совершенно бесполезен, и я прошу вас наложить на меня епитимью и отпустить мне грехи. Но я собираюсь совершить еще и другое преступление.
Священник, казавшийся до сих пор кротким, вдруг выпрямился, в его глазах засветилась угроза.
— Несчастный! — загремел он, и его мощный, глубокий голос отдавался под сводом храма многократным эхом. — И с такими намерениями ты осмеливаешься приближаться к святилищу? Ты осмеливаешься переступать порог церкви, держа при себе оружие, заготовленное для мерзкого преступления?
Джон задрожал всем телом, словно в лихорадке, но его решение оставалось непоколебимым.
— Человек, которого до сих пор я называл своим отцом, — запинаясь, сказал он, — был только оружием в руках других людей, которые замыслили погубить мой род и ввергнуть меня в пучину бедствий. Эти люди, и в особенности один из них, отняли у меня имя, положение и состояние. Главный злодей мой должен умереть!
— Ты не вправе убивать! — возразил священник. — Мирское правосудие даст тебе требуемое удовлетворение и вознаградит тебя за все перенесенное. Обратись к нему!
— Это совершенно бесполезно! Этот человек стоит слишком высоко, а у меня не хватит доказательств для полного торжества… Он должен умереть!
— Значит, ты не хочешь отказаться от своих намерений?
— Нет!
— В таком случае, — повысил голос священник, — церковь отталкивает тебя, как отщепенца, и пусть поразит тебя ее проклятие так же, как после твоей кончины поразит тебя осуждение на муку вечную!
Священник отвернулся, спустился с алтаря и пошел из церкви.
Некоторое время Джон недвижно пролежал на полу, а когда поднялся, его глаза, блуждая, искали священника, наконец он вскочил, словно безумный, и стремглав бросился вон из церкви.
II
В то время когда Джон покинул дом, который долго считал местом своего рождения, и даже не обернулся, чтобы окинуть его последним прощальным взглядом, какой-то человек, пошатываясь и напевая диким голосом, приближался под раскаты грома к жилищу Гавиа.
По внешнему виду в этом человеке легко было отгадать моряка, а порывистость и неуверенность движений ясно говорили о том, что он отведал портера больше чем достаточно. Его пение старинного патриотического гимна выдавала в нем англичанина.
У самого дома Гавиа матрос остановился и, заметив открытые двери, пробурчал:
— Черт возьми! Ураган все еще бушует, и хорошо бы встать на якорь! — Что подразумевал матрос под словами «ураган все еще бушует», совершенно неизвестно и могло быть объяснено двояко, потому что его платье было промочено насквозь и, кроме того, все запачкано в грязи. А это могло означать, что он уже получил трепку от грубой руки, вышвырнувшей его на улицу в такую непогоду.
Пошатываясь, матрос вошел в дом и остановился на пороге комнаты, которая незадолго до этого была ареной отвратительной сцены.
Как он ни был пьян, но открывшаяся перед ним картина произвела на него впечатление — на лице матроса появилось выражение ужаса. Но это выражение быстро сменилось на другое, когда его взгляд случайно скользнул по столу.
С радостным недоумением он доковылял до стола и сделал попытку поднять один из сверкающих золотых. Но тут он заметил свертки золота и жадно схватил один из них.
От восторга матрос с такой силой потянул воздух через зубы, что в комнате раздался громкий свист, а затем неверными движениями стал хватать один сверток за другим. Он не сомневался, что в каждом было золото, и торопился прятать доставшееся ему сокровище. Тут взгляд матроса упал на разбросанные бумаги, и он, с трудом выпрямившись, сказал:
— Пусть черт возьмет мою душу!… Так вот какие дела! Ну а я, Том, не такой парень, чтобы упустить свое счастье!
Он набил свои пустые карманы деньгами, а в боковой карман сунул бумаги.
Хотя Том и плохо спьяну сознавал, но инстинкт подсказывал ему, что нехорошо дольше копаться здесь, поэтому, не обращая внимания на рассыпанные золотые монеты, он, пошатываясь, вышел из комнаты и заковылял вдоль берега залива.
Дорога, по которой отправился матрос, вела в Бельмонт. Между Граве и Бельмонтом находилось несколько домов и лачуг, разбросанных по всем сторонам. В лачугах ютились по преимуществу рыбаки и промысловые люди низшего ранга, а в домах помещались самые низкопробные кабаки, главным образом рассчитанные на матросов с останавливавшихся в заливе кораблей.
В один из этих кабачков и забрался вороватый Том и первым делом потребовал себе водки.
Тесное помещение кабачка было переполнено людьми, так как непогода загнала под крышу также и тот класс ирландских горожан, которые обыкновенно предпочитают пребывать под открытым небом и которые никогда не составляли особой чести Зеленого Эрина. Сейчас в кабачке матросов было мало, шесть-семь человек, все остальные посетители были рваным сбродом подозрительной внешности. На требование англичанина хозяин указал ему столик, из-за которого без всяких околичностей согнал сидевшего там субъекта.
В ответ на такую предупредительность Том только оскалился и, спокойно усевшись, пренебрежительно швырнул на стол золотой.
Хозяин, подав водку, равнодушно взял монету, положил перед матросом сдачу и отошел за стойку. Для него, очевидно, не было ничего необыкновенного в том, что матрос швырялся золотыми, но зато добрая часть гостей уставилась на него.
Том сначала с наслаждением отхлебнул из стаканчика и затем испытующим взглядом окинул комнату. Один из присутствующих медленно сделал два шага к нему и жадно глядел на стакан, опорожненный матросом только наполовину.
Этот человек был долговязым, широкоплечим и, вероятно, страшно худым, в громадном плаще, очень разорванном, кое-где еще покрытом вышивками. На голове у него была старая скомканная войлочная шляпа неопределенного цвета, на которой красовалось перо, когда-то имевшее некоторую ценность. Но и кроме этого пера многое другое выдавало в нем большого франта, а именно: сильно нафабренные и лихо торчащие кончиками кверху усы, подчерненные брови и множество томпаковых колец на почти чистых руках. Если не считать какой-то неприятной подвижности черт, лицо этого человека не производило отталкивающего впечатления, в особенности хороши были большие черные глаза. И огонь этих глаз вместе с орлиным изгибом носа придавал незнакомцу выражение властного достоинства.
Том в конце концов заметил взгляд незнакомца и обратил внимание, с каким почтением остальные посетители расступились перед ним. Он кивнул незнакомцу, движением руки пригласил его присесть за свой столик и приказал дать еще водки.
Долговязый субъект в плаще очень изящно и вежливо поклонился в ответ и присел к матросу, который подвинул к нему один из поданных хозяином стаканов.
— Только без глупостей! — шепнул хозяин незнакомцу по-ирландски. — Это матрос с английского корабля, который стал на якорь у скалы.
— Хорошо! — кивнул тот.
— Плачу за все! — выговорил матрос, заподозрив, что разговор между кабатчиком и незнакомцем касается именно этого щекотливого вопроса. — Пей, друг!
Новые друзья чокнулись и выпили. Хозяин с равнодушным видом вернулся за свою стойку.
— Ладно! — сказал матрос, кивнув головой. — Ну, умеешь ли ты читать, друг? — обратился он к своему новому приятелю.
— Умею ли я читать? — переспросил тот с выражением горделивого самосознания. — Ну, конечно!…
— Я кое-что нашел — бумажонки какие-то, вот ты мне и разъясни, что в них говорится… А кстати, как зовут тебя?
— Персон! — коротко ответил незнакомец.
— Ладно!… Так вот, погляди, сделай милость!
С этими словами матрос вытащил украденные бумаги и положил их на стол перед Персоном.
Тот широко распахнул плащ, так что обе его руки стали свободными. При этом он успел незаметно провести левой рукой по карману, где Том припрятал украденные свертки золота, и пронзил его жарким взглядом. Развернув одну из сложенных бумаг, Персон осмотрел ее и стал читать:
«Мы, нижеподписавшиеся, члены причта церкви во имя Пресвятой Девы Марии в Вэлло, настоящим свидетельствуем, что родившейся десятого апреля тысяча пятьсот сорок пятого года от его светлости лорда Спитты, герцога Лондондэри, и законной жены его, герцогини Анны, урожденной леди Валмаро, сын крещен пятнадцатого апреля того же года причтом упомянутой церкви и во святом крещении получил имя Джона-Марии-Адриана. Свидетелями совершения святого обряда были: герцог…»
— Да, черт возьми совсем! — крикнул Том. — Что мне все эти имена? Видите, что это — бесполезная вещь, ну и читайте другие.
Ирландец взял следующую бумагу и принялся читать ее, но чем далее читал, тем больше расширялись его глаза, в конце концов он откинулся на спинку стула и задумчиво уставился в потолок.
— Ну? — нетерпеливо крикнул Том. — А здесь в чем дело?
— Это — завещание, — сказал он. — Твой отец завещает тебе в нем две тысячи золотых крон, дом, лодку и кучу разных хороших вещей.
— Мой отец? — смущенно спросил Том. — Ах, так! Гм!… Ну, давай-ка эту бумагу сюда, она, кажется, может пригодиться…
— Так, значит Джон Гавиа — сын герцога? — пробормотал Персон. — Кто бы мог подумать это! А старый Гавиа просто обокрал Джона!
— Что ты бормочешь там? — спросил Том, не понимавший по-ирландски.
— Ничего! — ответил Персон, подавая ему бумаги, а затем вдруг словно пришел к какому-то внезапному решению.
Притворяясь равнодушным, он просмотрел остальные бумаги и вкратце изложил их содержание, сказав, что они не представляют никакой ценности.
Если бы на месте пьяного Тома был кто-нибудь другой, то он давно бы заметил, каких усилий стоило Персону подавить все усиливавшееся возбуждение и удивление, которые вызвал в нем дальнейший просмотр бумаг.
В конце концов Персон отдал все бумаги матросу и спросил: — Ты нашел все это?
— Ну да, друг, конечно, нашел… А что скажешь? Разве это — не знатная находка!
— Ты, конечно, вернешь все это законному владельцу?
Матрос смущенно замялся.
— Ну да… конечно… — наконец ответил он, — если бы только я знал, кто этот самый «законный владелец»…
— Положим, это — правда, — пробормотал Персон.
Несмотря на все свое опьянение, англичанин теперь отлично понял, какую глупость он сделал. Очевидно, он захотел исправить дело, поэтому и вытащил один из золотых свертков, достал оттуда золотой и сунул его Персону в руку.
Это обстоятельство только подтвердило ирландцу справедливость его подозрений. Он, разумеется, взял монету, но весь его вид явно говорил, что он далеко не удовлетворен.
Том сунул сверток обратно в карман и, бросив второй золотой на стол, крикнул:
— Водки!
Хозяин принес заказ, но видно было, насколько он смущен.
Персон и Том выпили. Англичанин совершенно опьянел. Посетители один за другим стали покидать кабачок. И в конце концов в нем остались только Персон и Том.
Тогда к ним подсел и хозяин, бросавший мрачные взгляды. Оба собутыльника говорили одновременно, не слушая друг друга.
— Эй ты! — крикнул Персон на языке древних кельтов хозяину. — Смотри, мы делимся!
Том как раз рассказывал об одном из фантастических приключений во время его поездки по Ледовитому океану.
— Ну уж нет! — ответил на том же языке хозяин. — У меня с тобой нет ничего общего!
А все-таки придется!… Сбегай-ка к дому Гавиа и посмотри там, что случилось. Этот субъект обокрал старика, а может случиться, что и убил… Таким образом, ты можешь заработать полицейскую премию за поимку убийцы. Но только говорю тебе — мы делимся!
— А, таким образом? Ну, пожалуй! — ответил хозяин и поспешно вышел из кабачка.
Том продолжал свои рассказы и был в полной уверенности, что его слушатель полон восхищения от его находчивости и храбрости.
Через полчаса кабатчик вернулся.
— Дверь дома стоит раскрытой настежь, старик мертв! — доложил он. — Но только по всем признакам он не убит, а умер собственной смертью. На столе я нашел маленькую шкатулку, разбитую вдребезги, на полу разбросано золото, которое я подобрал. Ну, что же нам делать теперь?
Том продолжал свои рассказы.
— Выведи этого парня на дорогу, — сказал Персон, вставая с места, — а там мы уже обсудим дальнейшее!
Тому было не по душе, что его собутыльник собирался кончить попойку, но Персон не внял никаким уговорам и спокойно ушел.
Через некоторое время англичанин, пошатываясь, шел по дороге под руку с хозяином, кругом стояла глубокая ночь.
Дорога вела вдоль каменистых ущелий. В одном из самых диких мест ее в течение нескольких минут слышался шум краткой, но ожесточенной борьбы, затем все стихло. Вдруг в тишине ночи послышался всплеск воды, словно в море бросили что-то тяжелое, и опять все стихло…
Через полчаса после того, как. Персон вышел из кабака, он снова вернулся туда в сопровождении хозяина. Персон шел гордой поступью с высоко поднятой головой, а весь вид кабатчика говорил о страхе и подавленности.
Персон вытащил из карманов плаща свертки золота, украденные матросом из дома Гавиа. Он прикинул их вес на руках и принялся распределять на две равные части, после чего пододвинул дрожавшему хозяину его долю.
Хозяин пошел к стойке налить еще по стаканчику водки, а тем временем Персон вытащил из кармана сверток бумаг и внимательно перечитал их, потом с удовлетворением кивнул головой и снова спрятал.
— Ну-с, старик, — сказал он, принимая поданный ему стакан, — теперь мы больше не знакомы друг с другом!
Кабатчик утвердительно кивнул головой.
Персон выпил и вышел из кабака, даже не попрощавшись с хозяином.
— Ну, а теперь, лорд Спитта, — пробормотал он, кидая взгляд по направлению к Белфасту, — вам придется иметь дело со мной!
III
Буря рассеялась, настал дивный, хотя и краткий вечер, и улицы Белфаста наполнились гуляющими.
Во дворце Спитты с внешней стороны все как будто пришло в обычный порядок. Швейцар стоял на своем посту, как и всегда, но только уж не был одет в парадный мундир. Лакеи покончили с возложенной на них обязанностью спроваживать приглашенных гостей, и теперь могли на досуге предаваться болтовне.
Но вот у главного портала показался гость, который ни в коем случае не принадлежал к числу приглашенных. Это был Джон Гавиа.
Вид Джона говорил о полном душевном смятении, его волосы были растрепаны и висели по плечам беспорядочными прядями, лицо было бледным.
Но швейцар как будто и не заметил расстройства молодого человека. Он улыбнулся Джону и протянул ему руку, когда тот, считавшийся как бы в числе дворцовой челяди, поздоровался с ним.
— Ты, кажется, собираешься поздравлять, милый Джон? — сказал он. — Только не с чем поздравлять — из свадьбы ничего не вышло, да, мне думается, никогда и не выйдет.
Джон остановился, словно пораженный.
— Ничего не может выйти! — переспросил он. — Как это надо понимать?
— А дело очень просто, милый Джон, наша маленькая мисс взяла да и объявила, что любит другого, и сумела дать наглядные доказательства правоты своих слов… Вот милорду Лургану и пришлось пойти на попятный, чтобы не нарушать чужого счастья или по крайней мере не лишиться своего собственного!
Джона пронизала лихорадочная дрожь.
— Я должен немедленно переговорить с сэром Спиттой, — быстро сказал он, — да, немедленно, у меня чрезвычайно важное дело.
— Так ступай к камердинеру, — произнес швейцар, — быть может, он и доложит о тебе, если только ему не запрещено докладывать о ком бы то ни было, что по теперешним обстоятельствам очень возможно.
Джон поспешил к камердинеру лорда Спитты, так как камердинер не получал приказаний, запрещавших доступ к лорду в данное время, то не усмотрел никаких препятствий к тому, чтобы удовлетворить желание молодого лодочника.
Гражданский губернатор был, разумеется, очень удивлен домогательством столь ничтожного человека быть допущенным к нему, но тем не менее снизошел, при заступничестве присутствующего священника, принять Гавиа.
— Джон вошел, глубоко склонился перед важной особой лорда и поцеловал руку отцу Антону, своему другу и учителю. Оба нетерпеливо смотрели на него, ожидая, что он скажет о цели своего посещения.
— Ты хотел говорить со мной, — сказал лорд, — так, пожалуйста, говори поскорее и покороче, если твое дело так важно.
— Мое дело очень большой важности, — ответил Джон, — но только почтительнейше прошу вас выслушать меня наедине.
Лорд с удивлением глянул на смельчака, да и священник не мог скрыть своего изумления. Лорд уже хотел осадить дерзкого слугу, но священник пришел на помощь Джону.
— Я пойду к дамам, милорд, — сказал он, — мне кажется, что у молодого человека имеется действительно очень важное дело.
Джон и лорд остались наедине.
— Ну, говори! — грубо сказал лорд.
— Сэр! — начал молодой человек. — Я только что узнал, что свадьба мисс Эстер с лордом Лурганом не состоится?
— А, черт возьми! Да тебе-то какое дело? — загремел лорд.
— Милорд, я тот самый человек, которого любит Эстер. Поэтому я прошу, даже если я сам вполне безразличен вам, не мешать счастью вашей дочери!
Невозможно описать выражение лица лорда при этих словах. Но вдруг он расхохотался. Бывают вещи, которые не способны рассердить даже и самого вспыльчивого человека.
— Да неужели же все вокруг меня сошли с ума? — крикнул он, вскакивая с места. — Бедный парень, ты помешался. Может, вблизи тебя молния ударила в землю?
— Сэр, — продолжал Джон, — я не искусен в разговоре, и потому и начал с того, чем должен был бы кончить. Я должен начать с начала. Руки вашей дочери домогается не лодочник Джон, сын лодочника Гавиа, а человек, равный вам по рангу и состоянию!
Губернатор уставился на молодого человека.
— Так оно и есть! — пробормотал он, убеждаясь, что предположение об общем сумасшествии оказывается справедливым.
— Да, сэр, — продолжал тем временем Джон, — я такой же дворянин, как и вы, но только люди путем подлой измены и обмана обокрали меня и вытолкнули в мрачную ночь беспросветного нищенского существования! Мой отец, герцог, из-за предательства и клятвопреступления других умер на эшафоте, двоюродный брат отца приказал убить мою мать, да и меня самого тоже было приказано устранить, чтобы подлый негодяй — брат покойного — мог вступить во владение наследством на основании законного права. Поняли ли вы меня?
Эти слова произвели потрясающее впечатление на лорда.
— Негодяй, — продолжал Джон, — который помог тому, чтобы мой отец кончил жизнь позорной смертью, стал впоследствии орудием в руках тех, кто хотел уничтожить оставшихся в живых наследников. Но, сознавая собственную выгоду, он оставил ребенка, то есть меня, в живых, чтобы держать наготове в качестве оружия против тех, кому было выгодно стереть с лица земли всех законных мстителей за смерть отца. Впоследствии он собрал еще и ряд других доказательств, которые хранились у него. Этот человек, живший здесь под именем Гавиа и воспитавший меня, только сегодня вечером рассказал мне обо всем этом. Понимаете ли вы меня наконец, сэр?
Лорд понял: словно уличенный преступник, стоял он перед Джоном. Как ни давно забыты были все его злодеяния, но теперь они воскресли и с угрозой встали над его душой.
— Гавиа умер, он скончался сегодня вечером, — продолжал Джон, — но еще жив я, наследник его тайны, сын и законный наследник герцога Спитты. Перед вами стоит Джон Спитта, сэр, и требует у вас отчета… Слышите ли вы меня, сэр?
Лорд тяжело вздохнул, но быстро взял себя в руки. Джон слишком далеко зашел в своем натиске на этого человека. Удар, который он нанес преступнику, был очень силен и попал метко, но по мере того, как лорд приходил в себя, он все более и более отдавал себе отчет в преимуществе своей позиции.
Раз старый Гавиа умер, его показаний нечего было больше бояться, а ведь только онимогли бы нанести вред этому мужественному высокопоставленному человеку. Подобные показания, подкрепленные соответствующими документами, могли бы еще иметь значение. Но даже и уличающие документы не имели никакой цены, если находились в руках какого-то холопа, ко всему их можно было просто обезвредить соответствующими мерами.
Взгляд лорда принял смелое выражение, он вздохнул еще раз и крикнул:
— Нахал! Ты должен получить ту награду, которой заслуживает твоя наглость.
При этом Спитта сделал вид, словно собирался выйти из комнаты.
— Стой! — загремел Джон. — На одно мгновение я подумал, что наше дело можно будет покончить добром, но я ошибся. И мне остается только исполнить долг мести. Эта месть требует твоей крови, вор и убийца! Ну так получай же то, что ты заслужил!
Джон кинулся к лорду. Тот стал отступать, пока не оказался припертым к стене. Джон вытащил из-за пояса нож и высоко занес его над лордом, а при последних словах направил его в грудь Спитты.
Однако чья-то рука легла на его плечо, и удар не попал в намеченную цель. Это привлеченный громкими голосами священник вошел в комнату, и его вмешательству лорд Спитта был обязан тем, что нож Джона попал не в грудь, а в плечо.
Кровь так и хлынула из раны.
— Отец Антон! — в отчаянии простонал Джон, чувствуя себя уничтоженным.
— Помогите! — крикнул раненый. — Помогите!
На этот крик первой появилась Эстер, ей достаточно было только взглянуть, чтобы понять, что здесь произошло.
— Джон! — вырвалось у нее, и с этим криком она бросилась на грудь Джону, как незадолго перед тем сделала это с совершенно незнакомым ей человеком.
Появилась и мать, а затем испуганные слуги.
— Свяжите этого субъекта! — крикнул лорд. — Скрутите как следует и немедленно отправьте в тюрьму!
— Вы ранены, сэр! — сказал священник.
— Да что это, в самом деле? Моя дочь стала блудницей? — орал лорд, вне себя от ярости и боли. — Прочь с моих глаз! Вон из дома! И пусть твоим наследством станет мое проклятие!
Отец Антон дал пришедшей в полное отчаяние леди знак — и она вместе с несколькими слугами подошла к лорду, остальные схватили Джона. Он не оказал им ни малейшего сопротивления. Отец Антон взял Эстер за руку и повел ее из комнаты.
Джон дал себя увести, он был глух и нем, словно совершенно потерял способность чувствовать и откликаться на происходящее вокруг.
— Вы отвечаете мне за него своей головой, — крикнул слугам лорд.
Только теперь он согласился, чтобы его раздели, осмотрели рану и приняли меры, чтобы унять кровь. Когда он несколько успокоился, то немедленно приказал собрать вещи Эстер и отправить ее в монастырь.
IV
Когда лорд Лурган вышел из дворца Спитты, то при вспышке молний он видел впереди на улице человека, отбившего у него невесту. Лорд пошел за ним следом, чтобы посмотреть, куда тот пойдет. Незнакомец шел как раз в том направлении, где находился дом Лургана. И, подходя к своему дому, Лурган подозвал привратника.
— Что прикажете, милорд? — спросил тот.
— Иди-ка сюда, — вытащил он его на улицу. — Видишь этого человека?
— Да, милорд.
— Иди за ним следом, посмотри, где он остановился и дай мне весточку.
— Слушаюсь, милорд.
— Я предполагаю, что это — капитан одного из вставших на рейд судов. К себе на борт он сейчас вряд ли вернется, а если же это произойдет, узнай название судна.
— Слушаюсь, милорд!
— Ну так живей!
Привратник побежал за незнакомцем.
Лурган поднялся по лестнице, вошел к себе в кабинет и позвонил.
На звонок появился длинный, неуклюжий, очень флегматичный ирландец с абсолютно ничего не выражающей физиономией.
— Мак-Келли, — сказал ему лорд, — выбери трех слуг и дай им хорошее оружие. Будьте наготове в любой момент последовать за мной!
— Слушаюсь, милорд! — ответил ирландец и вышел.
Затем Лурган подошел к письменному столу, на котором белело письмо.
Вскрыв конверт, Лурган прочитал письмо и разразился громким смехом. «Ей Богу же, все это называется попасть пальцем в небо, — рассуждал он про себя. — Но, милорд Бэллингем, я все-таки появлюсь на следующий день после моей свадьбы… Я убежден, что ваша дочь Вероника написала мне это приглашение, а это показывает, как мало внимания обращает она на то, что я обманул ее надежды… о, я вижу, что при всей твоей гордости возможность для меня получить твою руку не потеряна, и я добьюсь ее! Ведь мои деньги при запутанности дел твоей семьи — великая сила…»
Лорд снова расхохотался.
«Спитта мне совершенно не нужен, — продолжал он размышлять. — Я могу обойтись без его богатства, его дочь еще легкомысленнее, чем я думал, а его власть сильно поколеблена».
Сзади послышался шум шагов, лорд быстро обернулся.
Появился слуга и монотонно доложил:
— Там пришел мальчик, он хочет поговорить с вами, милорд!
— Прикажи оседлать двух лошадей для нас обоих, — ответил ему лорд, — через час или два мы отправимся верхом на прогулку, ночь стоит дивная! Подожди меня с остальными у портала. А теперь позови мальчишку.
Мак-Келли вышел из комнаты, и сейчас же в комнате появился маленький оборванец, вид которого говорил, что он перенес всю непогоду под открытым небом.
— Ну? — коротко спросил его лорд.
— Гостиница «Фламинго», — ответил юнец.
Лорд бросил мальчишке монету, тот поймал ее на лету и быстро исчез.
Лурган прицепил шпагу, вышел из комнаты, спустился по лестнице, не говоря ни слова своим слугам, вышел на улицу и молча пошел по направлению к городским воротам.
Мак-Келли и трое других слуг, вооруженные ружьями, следовали за ним на расстоянии двадцати шагов.
Дорога, по которой шел лорд Лурган, вела мимо сигнальной горы к другому предместью Белфаста.
Наконец лорд остановился перед многоэтажным особняком, большие окна нижнего этажа были ярко освещены и, так как они не были занавешены шторами, можно было отлично видеть внутреннее убранство салона.
К лорду подошел привратник.
— Ладно! — сказал Лурган, — Можешь идти, а вы там, подойдите поближе!
Привратник ушел, а слуги подошли к Лургану.
— Видите вы там человека? — спросил лорд. — Хорошо! Так запомните его получше. Его надо пристрелить, как только он выйдет из дома, встаньте так, чтобы он не мог ускользнуть от вас!
Слуги отошли назад и рассредоточились на улице, а Лурган принялся расхаживать по ней взад и вперед.
Через некоторое время к набережной пристала лодка, оттуда вышел человек и направился к гостинице «Фламинго».
Лорд остановился под окнами. Он видел с улицы, как новоприбывший подошел к объекту его наблюдений и стал, видимо, что-то докладывать ему. Их разговор скоро был окончен, новоприбывший откланялся и ушел, выйдя из подъезда, он направился к своей лодке, в которой и уплыл.
Становилось все темнее и темнее, скоро стало почти невозможно различить силуэты людей, находившихся на улице, но лорд все продолжал ходить под окнами.
— Нет, мой план не годится, и я должен изменить его! — пробормотал он наконец, после чего подошел к Мак-Келли, занимавшему один из самых близких к гостинице постов, и сказал ему: — Пошли ко мне Оуэна, а сам с остальными отодвинься назад. Если понадобится, то моментально являйся к нам на помощь.
Мак-Келли молча повиновался, и не прошло и нескольких секунд, как перед лордом появился позванный слуга.
— Этот субъект ускользает от нас, — сказал Лурган Оуэну. Вот тот, самый высокий. Прицелься вернее и пристрели его отсюда, а потом немедленно беги туда, где спрятаны в засаде остальные трое.
Оуэн кивнул головой, и лорд скрылся под воротами ближайшего дома.
Прошло минут пять-шесть, вдруг раздался звук выстрела, за которым последовал звон разбитых окон, и из салона на улицу понеслись крики о помощи. Оуэн моментально выскочил из освещенного места и скрылся во мраке ночи. Одно за другим в соседних домах стали открываться окна и высовываться головы.
Теперь с улицы уже не было видно высокого человека, по комнате же бегали несколько человек с озабоченными лицами; одни подбежали к окнам, другие выбежали за дверь, все быстро говорили что-то и оживленно жестикулировали, но никто не пустился преследовать убийцу, бесследно скрывшегося в ночной темени.
Через пять минут улица снова погрузилась в полнейшую тишину и мрак. Опущенные шторы завесили теперь окна салона, а из гостиницы поспешно выбежал маленький мальчуган, очевидно, посланный за врачом.
Лурган заметил все это смятение и пробормотал:
— Ладно! Оуэн попал, а как он умеет попадать — это я хорошо знаю! Прекрасная Эстер, завтра вам, пожалуй, придется одеться в траур, если сэр Спитта примирится с подобной экстравагантной страстью!
Лорд покинул свой наблюдательный пост и спокойно пошел по улице.
Вернувшись к себе домой, он на скорую руку переоделся в охотничий костюм, затем немедленно вскочил в седло приготовленной для него лошади и в сопровождении слуги отправился в город.
А в это время в гостинице «Фламинго» вызванный врач перевязывал раны капитана Босвела.
Когда-то заброшенный случаем в Ирландию, Босвел познакомился с молоденькой девушкой, которая сразу влюбилась в него. Босвел завязал с ней интрижку и завел ее достаточно далеко, но все время смотрел на это как на забаву, и когда по принуждению родителей любимая девушка должна была выйти замуж за ненавистного человека, который даже не подозревал, что обманут молодой супруг, то Босвел покинул ее. Впрочем, Босвел видался с ней и после ее брака, а теперь появился в тот момент, когда мнимый отец Эстер задумал выдать ее замуж.
Заподозрил ли в нем супруга шотландской королевы лорд Лурган, обративший внимание на имя Босвел, наверняка сказать нельзя, во всяком случае в доме губернатора в этом не возникло ни малейших подозрений. Но ранение Босвела вскоре привело к открытию его истинного звания и к многим важным последствиям.

Глава тридцать вторая
ПИРАТ КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ

I
 Главное имение лорда Бэллинэгема было расположено в двух часах пути от реки Ларгана и, несмотря на огромную задолженность владельца, имело еще очень внушительный вид.
Господский дом был в два этажа с верандой и двумя балконами, по обеим сторонам дома расположены обширные постройки, а за ними находилась жалкая деревушка; вдали, слева от парка, окружавшего поместье, на самой равнине виднелось несколько хижин. Когда-то Бэллинэгемы были очень богаты и вели свой род от королей. Но расточительная жизнь теперешнего главы рода, которому в этом помогала и его супруга, привела их к большим долгам, и вся семья зависела всецело от милости кредиторов.
Лорд Лурган прекрасно знал это, но его все же тянуло в семью Бэллинэгемов. Центром притяжения была прекрасная Вероника, овладевшая его сердцем. Он давно заинтересовался ею, и лишь богатство Спитты побудило его домогаться руки Эстер. Но теперь, после всей истории с неудачным бракосочетанием с ней, он решил вернуться к предмету своей любви, утешая себя тем, что Вероника может стать прекрасной представительницей его дома, а он, войдя в эту семью, сумеет поправить ее состояние и будет играть в ней роль избавителя из затруднительного положения.
После грозовой ночи настало дивное утро. В имении рано началось движение слуг, которые занялись исполнением своих обязанностей. По этой суете сразу можно было заметить, что в замке ожидали гостей.
За суетой слуг во дворе наблюдал, отдавая приказания, высокий, статный, красивый молодой человек.
— Бастиан! — раздался вдруг из дома голос, оторвавший молодого человека от занятий.
— Что угодно, ваша милость? — воскликнул он и поспешил к дому и через несколько минут уже стоял перед владельцем имения, главой семьи Бэллинэгем.
Лорд был высоким, худым человеком, почти лысым, причем уцелевшие волосы были совершенно седыми.
— Все ли готово к охоте? — спросил он.
— Все. Вам, милорд, стоит только приказать, и можно будет начать в любой момент. Вы, конечно, позволите взять арендаторов для загона?
— Арендаторов? Ну конечно! Так, в десять часов мы выезжаем из дома. Сходи сейчас же к леди и узнай, как она изволила почивать.
Лорд отвернулся. Бастиан же глубоко склонился перед ним и с двусмысленной усмешкой вышел из комнаты.
Молодой человек был управляющим имением, первым слугой дома, но в то же время являлся фактотумом всех членов семьи.
Согласно полученному приказанию Бастиан отправился к супруге своего господина.
Когда-то леди, может быть, и была красивой, но теперь она отличалась такими внушительными размерами, что о красоте не могло быть и речи. Из-за своей полноты она вынуждена была больше сидеть, так как единственная часть тела, которой она еще владела совершенно свободно, был язык.
Разговор ее с управляющим опять-таки вертелся вокруг гостей, охоты и наконец коснулся лошади, на которой должна была ехать леди Бэллинэгем. Она засыпала Бастиана вопросами, и лишь его многократные уверения в полнейшей незлобивости и миролюбии выбранного для нее животного успокоили ее.
Поклонившись, Бастиан отправился к сыну лорда Бэллинэгема. Родриго, как звали этого отпрыска старинного рода, был молодым человеком двадцати двух лет. Это был грубый, совершенно невежественный, гордый до глупости и властный дурак. К нему Бастиан подошел с выражениями несравненно большего почтения, чем к отцу.
Не обращая внимания на льстивый поклон управляющего, Родриго спросил:
— Бембо вернулся?
— Да! Он исполнил возложенное на него поручение.
— Ты будешь сопровождать меня сегодня вечером. Ты составил себе какой-нибудь план относительно этой девчонки?
— Да, я только что получил разрешение использовать арендаторов для загона, таким образом все взрослые мужчины будут удалены из дома, и вам станет очень легко увезти девушку так, что на первых порах никто даже и не догадается, куда она делась. Для этого я уже нашел двух дельных парней.
— Это хорошо!
Когда разговор с Родриго был кончен, Бастиан направился к его сестре и попросил доложить о себе. Его немедленно пустили.
Мы уже знаем, как звали дочь хозяина дома.
Вероника была настоящей красавицей; если Родриго и приходил в ярость от неминуемой бедности, к которой быстро шла семья, то Веронику это окончательно изводило и заставляло постоянно проливать слезы. Этим и объяснялись ее бледность, худоба и скорбные складки рта и лба.
Она приняла управляющего несравненно ласковее, чем все остальные члены семьи, и ответила на его приветствие.
Бастиан приблизился к ней и передал ей письмо.
Вероника быстро схватила письмо, знаком приказала Бастиану удалиться, и когда тот ушел, вскрыла конверт и вполголоса прочла следующее:
«Дорогая моя, жизнь моя! Не жди меня! Я не имею возможности воспользоваться предстоящей охотой, чтобы повидать тебя после столь долгой разлуки. Мои средства не позволяют принять участие в охоте, и я нахожусь в таком положении, что даже не имею возможности показаться днем на улице. Придумай другой способ осуществить наше свидание. Я охотно отправляюсь пешком в одно из владений твоего отца, так как сгораю желанием увидеться с тобой. Навеки твой Персон».
Вероника глубоко вздохнула и поникла головой. Письмо выпало из рук, и несколько слезинок украдкой скатились по ее щекам. Трудно было сказать, что происходило в ее душе. Но во всяком случае слезы свидетельствовали о том, что она небезразлично относилась к судьбе человека, написавшего ей это письмо.
Девушка долго сидела в таком положении, пока в замок не стали съезжаться гости. Хозяин принимал их всех на веранде, а в восемь часов пригласил в столовую к завтраку.
Главное имение лорда Бэллинэгема было расположено в двух часах пути от реки Ларгана и, несмотря на огромную задолженность владельца, имело еще очень внушительный вид.
Господский дом был в два этажа с верандой и двумя балконами, по обеим сторонам дома расположены обширные постройки, а за ними находилась жалкая деревушка; вдали, слева от парка, окружавшего поместье, на самой равнине виднелось несколько хижин. Когда-то Бэллинэгемы были очень богаты и вели свой род от королей. Но расточительная жизнь теперешнего главы рода, которому в этом помогала и его супруга, привела их к большим долгам, и вся семья зависела всецело от милости кредиторов.
Лорд Лурган прекрасно знал это, но его все же тянуло в семью Бэллинэгемов. Центром притяжения была прекрасная Вероника, овладевшая его сердцем. Он давно заинтересовался ею, и лишь богатство Спитты побудило его домогаться руки Эстер. Но теперь, после всей истории с неудачным бракосочетанием с ней, он решил вернуться к предмету своей любви, утешая себя тем, что Вероника может стать прекрасной представительницей его дома, а он, войдя в эту семью, сумеет поправить ее состояние и будет играть в ней роль избавителя из затруднительного положения.
После грозовой ночи настало дивное утро. В имении рано началось движение слуг, которые занялись исполнением своих обязанностей. По этой суете сразу можно было заметить, что в замке ожидали гостей.
За суетой слуг во дворе наблюдал, отдавая приказания, высокий, статный, красивый молодой человек.
— Бастиан! — раздался вдруг из дома голос, оторвавший молодого человека от занятий.
— Что угодно, ваша милость? — воскликнул он и поспешил к дому и через несколько минут уже стоял перед владельцем имения, главой семьи Бэллинэгем.
Лорд был высоким, худым человеком, почти лысым, причем уцелевшие волосы были совершенно седыми.
— Все ли готово к охоте? — спросил он.
— Все. Вам, милорд, стоит только приказать, и можно будет начать в любой момент. Вы, конечно, позволите взять арендаторов для загона?
— Арендаторов? Ну конечно! Так, в десять часов мы выезжаем из дома. Сходи сейчас же к леди и узнай, как она изволила почивать.
Лорд отвернулся. Бастиан же глубоко склонился перед ним и с двусмысленной усмешкой вышел из комнаты.
Молодой человек был управляющим имением, первым слугой дома, но в то же время являлся фактотумом всех членов семьи.
Согласно полученному приказанию Бастиан отправился к супруге своего господина.
Когда-то леди, может быть, и была красивой, но теперь она отличалась такими внушительными размерами, что о красоте не могло быть и речи. Из-за своей полноты она вынуждена была больше сидеть, так как единственная часть тела, которой она еще владела совершенно свободно, был язык.
Разговор ее с управляющим опять-таки вертелся вокруг гостей, охоты и наконец коснулся лошади, на которой должна была ехать леди Бэллинэгем. Она засыпала Бастиана вопросами, и лишь его многократные уверения в полнейшей незлобивости и миролюбии выбранного для нее животного успокоили ее.
Поклонившись, Бастиан отправился к сыну лорда Бэллинэгема. Родриго, как звали этого отпрыска старинного рода, был молодым человеком двадцати двух лет. Это был грубый, совершенно невежественный, гордый до глупости и властный дурак. К нему Бастиан подошел с выражениями несравненно большего почтения, чем к отцу.
Не обращая внимания на льстивый поклон управляющего, Родриго спросил:
— Бембо вернулся?
— Да! Он исполнил возложенное на него поручение.
— Ты будешь сопровождать меня сегодня вечером. Ты составил себе какой-нибудь план относительно этой девчонки?
— Да, я только что получил разрешение использовать арендаторов для загона, таким образом все взрослые мужчины будут удалены из дома, и вам станет очень легко увезти девушку так, что на первых порах никто даже и не догадается, куда она делась. Для этого я уже нашел двух дельных парней.
— Это хорошо!
Когда разговор с Родриго был кончен, Бастиан направился к его сестре и попросил доложить о себе. Его немедленно пустили.
Мы уже знаем, как звали дочь хозяина дома.
Вероника была настоящей красавицей; если Родриго и приходил в ярость от неминуемой бедности, к которой быстро шла семья, то Веронику это окончательно изводило и заставляло постоянно проливать слезы. Этим и объяснялись ее бледность, худоба и скорбные складки рта и лба.
Она приняла управляющего несравненно ласковее, чем все остальные члены семьи, и ответила на его приветствие.
Бастиан приблизился к ней и передал ей письмо.
Вероника быстро схватила письмо, знаком приказала Бастиану удалиться, и когда тот ушел, вскрыла конверт и вполголоса прочла следующее:
«Дорогая моя, жизнь моя! Не жди меня! Я не имею возможности воспользоваться предстоящей охотой, чтобы повидать тебя после столь долгой разлуки. Мои средства не позволяют принять участие в охоте, и я нахожусь в таком положении, что даже не имею возможности показаться днем на улице. Придумай другой способ осуществить наше свидание. Я охотно отправляюсь пешком в одно из владений твоего отца, так как сгораю желанием увидеться с тобой. Навеки твой Персон».
Вероника глубоко вздохнула и поникла головой. Письмо выпало из рук, и несколько слезинок украдкой скатились по ее щекам. Трудно было сказать, что происходило в ее душе. Но во всяком случае слезы свидетельствовали о том, что она небезразлично относилась к судьбе человека, написавшего ей это письмо.
Девушка долго сидела в таком положении, пока в замок не стали съезжаться гости. Хозяин принимал их всех на веранде, а в восемь часов пригласил в столовую к завтраку.
II
Небольшой ручеек, протекавший через парк Бэллинэгема, извивался по краю луга, направляясь к незначительной возвышенности. Там он круто сворачивал под прямым углом. На этом повороте ручья была расположена вторая деревня, принадлежавшая имению.
Самым высоким строением там была мельница. Это здание не отличалось красотой, но все же могло считаться лучшим во всей деревне, так как все остальные можно было назвать не более как хижинами. Между некоторыми из них стояли крытые навесы.
В это утро все взрослые обитатели деревни, запасшись разного рода инструментами и собираясь на работу, сошлись на площади и обменивались впечатлениями о прошумевшей грозе. Вскоре перед зданием мельницы появился рослый пожилой человек в сопровождении нескольких молодых людей, и все они, казалось, хотели присоединиться к собравшимся. Но вдруг пожилой — мельник по имени Бруф — смутился: он увидел человека, поспешно направлявшегося к деревне по берегу ручья.
— Управляющий! — пробормотал мельник.
— Бастиан! — воскликнули другие. — Чего этому дьяволу здесь нужно?
— Послушайте, Бруф, — крикнул Бастиан, — плохой порядок у вас, я вижу, мне придется сменить вас!
— Я делаю, что могу, сэр, сомневаюсь, чтобы кто-либо другой на моем месте действовал бы успешнее меня! — ответил старик, сняв шляпу.
— Что значит это сборище? — резко крикнул Бастиан.
— Мы собирались приступить к полевым работам после вчерашнего дождя.
— Никаких работ не будет! Милорд сегодня охотится, а вы должны сгонять дичь из леса к реке Ларгане.
— А как же полевые работы? Ведь две недели была засуха, и мы ничего не делали!… Мы потеряем лучший день и принесем ущерб и себе, и лорду, поля-то останутся невозделанными.
— Никаких возражений! Соберите всех, от мала до велика, площадь выгона должна быть обширная, поняли вы?
— Да, сэр! — ответил мельник.
Во время этих переговоров из дома при мельнице вышла молодая девушка и направилась к навесу.
Девушка была очень красива. По ее сходству с мельником сразу было видно, что она — его дочь.
При ее появлении Бастиан повернулся к ней со странной улыбкой и, подойдя к ней ближе, заговорил:
— А, мисс Анна! Драгоценный перл среди булыжников, ангелочек, приветствую тебя!
Анна покраснела до корней волос и ускорила шаги.
Но управляющий загородил ей дорогу и взял девушку за подбородок.
Мельник замер, его лицо также густо покраснело. Один из молодых людей под навесом сделал порывистое движение в сторону Анны.
А она не решилась уклониться от любезностей Бастиана, и он обнял ее левой рукой за талию и хотел было поцеловать ее розовые губки. Но в это время возбуждение молодого человека дошло до крайнего предела, он одним прыжком очутился перед нахалом и с такой силой толкнул его в грудь, что тот отшатнулся.
Собачья душа! — крикнул он. — Я много могу снести, но этого не потерплю!
— Черт возьми! — воскликнул управляющий, торопливо подхватывая упавшую плетку.
Анна с криком бросилась в дом. Старик-мельник нерешительно приблизился к управляющему, все же остальные свидетели происшедшего онемели от ужаса и удивления перед мужеством парня, восставшего против гнета и унижения всего общества.
Управляющий поднял плетку — эмблему своей силы — и хотел было броситься на дерзкого и ударить его, но опомнился, оглядевшись вокруг. Он был один, и его наглость могла бы раздразнить даже таких забитых людей, какими были несчастные арендаторы земель лорда Бэллинэгема.
— Ступай, Вилль! — проговорил наконец старик молодому человеку, заступившемуся за его дочь.
Но в тот же момент Бастиан крикнул:
— Стой! Связать молодца и доставить в замок. Ты, Бруф, отвечаешь за него своей головой. Ну, а теперь к делу. Если вы не скоро соберетесь в путь, то вам придется почувствовать на себе властную руку милорда.
С этими словам Бастиан удалился.
— Вилль, я должен отправить тебя в господский дом, — сказал Бруф, — но я поговорю с леди Вероникой, быть может, она заступится. Не хочу ни в чем упрекать тебя, но помни, сопротивление не приведет ни к чему.
Билль пробормотал со вздохом:
— Сопротивление — приведет, но один в поле — не воин.
Никто не возразил, хотя все слышали его слова. Арендаторы постепенно разошлись по хижинам, чтобы вооружиться и захватить немного съестных припасов. Не прошло и пяти минут, как все снарядились в путь к лесу.
Женщины, собравшись в кучку, некоторое время с любопытством следили за сборами мужского населения, оживленно беседуя между собой, а затем разошлись по своим делам; только дети, собаки да свиньи продолжали свою возню на улице.
Прошло часа два, как вдруг вся детвора, испуганно и громко крича, разбежалась по домам. Поводом к этому послужило появление двух молодцов, которые вброд переправились через ручей и затем появились в деревне. Оба они принадлежали несомненно к разбойникам. Подойдя к дому мельника, они остановились и после краткого совещания вошли в дом, где находились жена Бруфа и его две дочери.
Один из молодцов, войдя, прямо направился к Анне, схватил ее и потащил из дома, между тем как его спутник старался удержать других женщин. Но вскоре и он последовал за своим товарищем, и они поспешно скрылись из деревни, таща за собою кричавшую девушку.
Сбежались женщины и дети и по требованию мельничихи хотели даже броситься в погоню за разбойниками, но им пришлось отступить, так как один из них взял Анну на руки, а другой стал грозно наступать на преследовавших.
Не прошло и пяти минут, как разбойники скрылись со своей добычей по ту сторону возвышенности, оставив мельничиху и остальных жителей деревни в слезах и смятении.
III
У лорда Бэллинэгема были две причины устроить пышный охотничий праздник. Первой была та, что он хотел утешиться от неприятности, из-за несостоявшегося брака его дочери с Лурганом, на что Бэллинэгем очень рассчитывал. Редко бывая в Белфасте, он о крушении своей надежды узнал, лишь получив приглашение на свадьбу Лургана с Эстер Спитта. Второй причиной было желание показать, что его дела вовсе не так плохи, как все предполагали, и он разослал массу приглашений. Правда, из Белфаста никто не приехал, но из соседей собрались очень многие.
К приехавшим рано утром гостям присоединились новые, и по данному знаку все собрались в зале замка. Общество было пестрое, еще пестрее были наряды гостей.
Лорд с умыслом решил устроить именно охотничий праздник: гости на нем могли чувствовать себя совершенно свободно, да и сам он оставаясь любезным хозяином дома, под своей непринужденностью мог скрывать многое, что беспокоило его. Несколько иначе вели себя его жена и дочь, но на это за общим оживлением обращали мало внимания.
Общество провело за завтраком около часа, как вдруг послышался конский топот.
Первым движением присутствующих было выглянуть в окно, но уже послышались возгласы удивления и упоминание имени Лургана. Несколько мгновений спустя Лурган появился в комнате и направился к Бэллинэгему, чтобы приветствовать его.
Хозяин принял его несколько холодно и сдержанно, но все же чрезвычайно вежливо. Поздоровавшись со всеми членами семьи, Лурган обратился к гостям, осыпавшим его вопросами о женитьбе.
Господа, я мог бы вам сказать, что воспользовался приглашением почтенного лорда Бэллинэгема, несмотря на то, что вчера состоялось мое бракосочетание, но это была бы неправда, я еще холост.
— Что это означает? Расскажите!
Да, я одумался, — заявил Лурган. — Я увлекся блеском Спитты, но, когда опомнился, понял, что счастье брака составляет не богатство, не блеск, а истинная, чистая любовь… Да, да, господа! Дело в том, что вместе с богатой супругой и ее предстоящим наследством мне пришлось бы принять и друга семьи, который годится мне в отцы.
И Лурган рассказал историю своей неудачной свадьбы и свою месть за нее.
Все нашли это вполне естественным, и никто не выразил своего неодобрения.
Во время рассказа Лургана Бэллинэгем не раз взглядывал на дочь, и его лицо прояснилось, когда же Лурган кончил, он демонстративно поблагодарил его за приезд.
Появление Бастиана прервало беседу. Управляющий доложил, что все готово для начала охоты, и между прочим заявил о строптивости одного парня, причем добавил, что он арестовал его в ожидании наказания, которое ему присудит его господин.
— Об этом после! — ответил лорд. — Господа, мы можем отправляться в путь.
Все общество прибыло к месту начала охоты, и Бастиан занялся распределением оружия. Вооружались копьями, охотничьими ножами, пистолетами. По сигналу, данному управляющим, все тронулись в путь. Более усердные охотники помчались впереди, те же, которые находили больше удовольствия быть зрителями, следовали медленно. К последним принадлежали большинство дам и кавалеры, желавшие сопровождать их. Излишним было бы упоминать, что Лурган старался быть поближе к Веронике. Прежде лорд никогда не высказывался определенно, но на этот раз он воспользовался удобным случаем и объяснился ей в любви, прося ее вступить с ним в брак. Вероника ответила уклончиво, почти отказала ему.
— Вы вправе наказать меня, — сказал он, — но снизойдите ко мне, я действительно был ослеплен.
— Кто может поручиться, что и теперешнее свое настроение вы не сочтете за ослепление? — заметила Вероника.
— Клянусь, миледи!
Вдруг Вероника вскрикнула от изумления. Мимо них проскакал рослый, статный всадник и на одно мгновение устремил на Веронику взгляд своих больших сверкающих глаз.
— Кто это? — спросил лорд.
— Я не знаю этого господина, — ответила Вероника, вся побледнев. — Пожалуйста, догоните его и спросите, кто он, по-видимому, он не принадлежит к числу наших гостей.
— Вы приказываете, миледи?
— Да, да! — испуганно подтвердила Вероника и задержала своего коня.
Лурган бешено помчался вперед. Но в последний момент, обращаясь к Веронике, он не заметил, что незнакомец круто повернул своего коня в сторону, поэтому он помчался прямо, устремляя свой взор вперед, Вероника же свернула на тот путь, по которому направился незнакомец и скрылся в небольшом кустарнике.
Не прошло и двух минут, как девушка нагнала всадника, ехавшего уже медленным шагом, и прошептала:
— Персон!
— Моя дорогая Вероника, — произнес всадник, — я все же нашел возможность явиться сюда.
Молодой человек схватил руку Вероники, и они помчались по направлению к лесу.
Между тем охотники, гоняясь за дичью, проехали довольно значительное расстояние. Затравленные животные пытались вернуться обратно в лес или устремились к берегу реки, но лишь немногие решались пуститься вплавь, большинство же из них принуждено было возвращаться обратно, и охотники подстрелили много дичи.
Бастиан вдруг объявил, что напал на следы волка. По его сигналу наиболее отважные охотники приблизились к густым зарослям, где терялся след. Собак было немного, и все они рассеялись в разные стороны, когда же удалось созвать свору, то ее никак нельзя было заставить проникнуть в кусты.
Стали стрелять из ружей и пистолетов наугад, и действительно удалось спугнуть волка, но он тотчас же спрятался в новое убежище, и охотники, пустившиеся было за ним с громкими криками, вынужденно топтались все на одном месте. Так повторялось более десяти раз. Наконец, когда волк выскочил, чтобы отыскать себе очередное убежище, некоторые из наиболее страстных охотников попытались загородить ему дорогу. Среди них находился и лорд Бэллинэгем. Зверь был уже ранен, а следовательно разъярен, он озирался, отыскивая, куда бы проскользнуть, но, не найдя выхода, сделал отчаянный прыжок и кинулся на всадников.
В один момент волк очутился возле лошади старого лорда, конь поднялся на дыбы, раздался отчаянный крик лорда, послышались еще возгласы, но все были парализованы от страха и не двинулись с места.
Только один старый мельник Бруф не потерял присутствия духа, пришпорил своего коня и метким, ловким ударом своей сучковатой палки размозжил голову волка с такой силой, что мозг брызнул в разные стороны, а вслед затем с громким стоном рухнул на землю хищный зверь.
Если бы не Бруф, волк перегрыз бы горло лорду, теперь же тот остался цел и невредим.
— Благодарю вас, — сказал мельнику лорд, бледный как смерть, — я вам этого никогда не забуду.
— Сейчас или никогда! — пробормотал Бруф и затем произнес громко: — Милорд, мой племянник провинился, оказал сопротивление, я прошу вас, избавьте его от наказания!
Лорд было согласился, но Бастиан поспешил заметить:
— Он поднял руку на меня!
— Это — дело другое, — воскликнул лорд, — это не может остаться безнаказанным.
Дальнейший разбор этого дела был прерван новым, более важным событием, отвлекшим внимание охотников.
Внезапно прискакал лорд Лурган, причем вид у него был чрезвычайно возбужденный.
— Леди Вероника здесь? — спросил он, сдерживая своего коня и озираясь по сторонам.
Вероники не оказалось.
— Следовательно, ее похитил какой-то незнакомец, — продолжал Лурган, — в последний раз ее видели в лесу в его сопровождении.
— Черт возьми! — послышались возгласы.
— Предстоит новая охота, — бешено закричал Родриго, — кто следует за мной?
Откликнулись только три человека: Лурган, его слуга и управляющий Бастиан.
Из объяснений некоторых загонщиков они узнали, по какому направлению похититель скрылся со своей добычей. Следуя указаниям и найденным наконец следам, преследователи прибыли к берегу реки Ларганы.
— Этот путь ведет в Белфаст! — сказал Родриго.
Лурган только заскрежетал зубами от злости. Ему положительно не везло в сватовстве.
Помчались далее и наконец увидели беглецов, но настигнуть их не удалось, так как они скрылись за воротами города.
Родриго резким движением остановил своего коня и сказал недовольным тоном, обращаясь к Лургану:
— В Белфасте мне нечего делать. Вам, лорд, придется одному взять на себя задачу разыскать мою сестру и освободить ее. Вернемся, Бастиан!
Лурган ничего не ответил и помчался далее со своим слугою, а Родриго и Бастиан вернулись.
Между тем в Белфасте произошло событие, о котором жители города не могли бы и подумать. Поутру разнесся слух, что в городе находится король шотландский. Ирландия, как известно, всегда находилась во вражде с Англией, ирландцы — настолько же ревностные католики, насколько англичане и шотландцы — ярые приверженцы пресвитерианской церкви. Поэтому Мария Шотландская пользовалась симпатией в Ирландии, и на ее супруга распространялись те же чувства.
Босвел рано утром явился к ратуше. Множество людей высадилось на берег и смешалось с толпой. В городе становилось все неспокойнее. Раздавались крики: «Король Босвел здесь!», но также слышались возгласы: «Пираты явились в гавань!» Наконец ратушу взяли приступом. Из тюрьмы, находившейся тут же, в ратуше, выпустили всех заключенных, с ними и Джона Гавиа, который неожиданно узнал очень скоро об отношении Босвела к семейству губернатора. Он отправился к Босвелу, сделал ему некоторые сообщения, и тот договорился с Джоном силой освободить Эстер.
А между тем волнение приняло широкие размеры, и городские власти не были в состоянии усмирить его. Как раз в этот момент лорд Лурган появился в Белфасте, стремясь настигнуть Веронику и ее похитителя.

Глава тридцать третья
МЕСТЬ

I
 Родриго и его спутник держали путь на юго-запад в продолжение нескольких часов. Они приблизились к одному из хуторов, принадлежавших Бэллинэгему. Навстречу к ним вышел старик.
— Ну, Кинно, — крикнул Родриго, — все в порядке?
— Все! — ответил старик с дьявольской усмешкой.
Родриго и Бастиан сошли с коней, старик отвел их в свой дом.
— Останься здесь! — сказал Родриго своему спутнику, когда они очутились в передней.
Бастиан остался, а Родриго вошел в следующую комнату и едва успел закрыть за собой дверь, как Бастиан услышал слабый крик женщины. Бастиан прислушался и насмешливо улыбнулся. Крик повторился несколько раз, и Бастиану показался как будто знакомым. Через некоторое время он услышал, как за дверью борются. Он вскочил было с места, но так как его не звали, то он снова сел на лавку.
Прошло с полчаса, наконец дверь распахнулась, и оттуда вышел Родриго.
Молодой человек был бледен и возбужден, мутными глазами обвел он Бастиана и вошедшего Кинно.
— Коня мне скорее, Кинно! — приказал Родриго. — А ты, Бастиан, позаботься о той женщине! — И выбежал со стариком из дома.
Управляющий вошел в соседнюю комнату. Там стояла кровать, а на ней лежала девушка, едва прикрытая одеждой.
И вдруг, широко раскрыв глаза, Бастиан крикнул почти нечеловеческим голосом, упал близ постели, схватил руку безжизненной девушки и стал кричать:
— Кэт! Кот! Ты слышишь меня?
Девушка не шевелилась.
— Кэт, очнись!
Девушка оставалась по-прежнему неподвижна.
Бастиан приподнял ее голову.
— Мертва! — произнес он беззвучно. — Она мертва!
Бастиан стал бледен как смерть и как будто лишился сознания.
В таком состоянии застал его Кинно, сам ужаснувшись такой картине.
— Черт возьми, Бастиан, что это? — спросил он.
Это — дело рук Бембо, — зарычал управляющий, выходя из оцепенения. — Это сделал негодяй Бембо, а ты помог ему!
Бастиан вскочил и бросился на Кинно, пытаясь схватить его за горло.
Старик не ожидал такого нападения и стал отбиваться от напавшего, спрашивая дрожащим голосом:
— Что случилось? Что случилось?
Но Бастиан едва ли слышал вопросы Кинно, не помня себя от прилива горькой злобы, он изо всех сил ударил старика по голове.
Удар тяжелого кулака был меткий, голова Кинно повисла, и кровь хлынула у него изо рта и носа. Но Бастиан продолжал наносить удары, пока не заметил, что его жертва лежит неподвижно.
Тогда он, дико озираясь, отошел от старика и после некоторого размышления положил руку девушки на грудь и произнес клятву мести. Слов нельзя было расслышать, но, очевидно, клятва была ужасна, так как гневный взор Бастиана метал искры.
Наконец Бастиан оторвался от своей Кэт, некогда, очевидно, любимой им больше всего на свете, вышел поспешными шагами из дома и направился к конюшне, куда поставили его лошадь. Вскочив в седло, он поскакал по направлению к замку, однако, доехав до него, повернул к деревне, предварительно бросив беглый взгляд во двор замка.
Перед одной из хижин Бастиан остановил свою лошадь и спрыгнул с седла. В дверях показался мужчина большого роста, телосложением похожий на слона.
— Бембо! — сказал Бастиан, бросив поводья подскочившему подростку. — Мне надо с тобой поговорить!
Бембо оскалил зубы и устремил на посетителя испытующий взгляд. Самообладание Бастиана не выдавало его волнения. Бембо позвал его в свое жилище и усадил напротив себя.
— Скажи, Бембо, — спросил управляющий, — все ли господа покинули замок?
— Не все… но большая часть.
— А давно ли сэр Родриго вернулся обратно?
— Нет, недавно… он казался чем-то недовольным.
Бастиан вздохнул.
— Вероятно, ты сегодня вечером будешь снова сопровождать лорда Родриго? — с живостью спросил великан, когда гость придвинулся к нему ближе.
— Я готов просить, чтобы ты заменил меня на этот раз, — ответил тот.
Весьма охотно, если лорд изволит приказать! — подхватил Бембо.
— Так отправляйся впереди него, да прямо в преисподнюю! — внезапно крикнул Бастиан.
Бембо издал вопль, откинулся назад и с бульканьем в горле скатился со стула на пол, так как Бастиан троекратно вонзил ему в грудь свой нож.
— Один готов, — пробормотал мститель, — теперь посмотрим, хватит ли у того негодяя мужества спасти честь своей возлюбленной.
Вилль был связан по приказанию Бастиана, когда его привезли в поместье, да вдобавок его привязали еще к столбу сарая, служившего для хранения горючих материалов.
В этом дощатом здании без окон стало уже темно, когда Бастиан отворил дверь, вошел и снова запер ее за собой.
Если вид Бастиана вообще мог в данных обстоятельствах возмутить кровь, то теперешнее выражение его лица должно было удвоить это волнение. Бастиан дышал злобой, Вилль вполне сознательно принял это на свой счет.
— Мошенник… будь я свободен! — пробормотал он, стиснув зубы.
— Вот так ты говоришь, ладно! — с расстановкой произнес Бастиан. — Таким ты мне нравишься, любезный. О, мы с тобой столкуемся!
Вилль не обратил особого внимания на эти слова, которые звучали для него насмешкой, отчего его глаза запылали еще большей ненавистью.
— Прежде всего успокойся, мой друг! — продолжал Бастиан. И перестань видеть во мне врага. Я пришел сейчас к тебе скорее в качестве друга, по крайней мере, в качестве союзника и предлагаю тебе свободу и возможность отомстить… на известных условиях, конечно!
Вилль насторожился. Дикая злоба уступила место недоверчивой пытливости.
— Ты даешь мне свободу? — с удивлением спросил он. — Ты называешь меня своим другом?
Бастиан присел на деревянную колоду.
— Давай потолкуем разумно! — с расстановкой сказал он. — Ты — невольник, я — тоже, свободны здесь только владельцы этой земли. Но между тем мы, невольники, составляем большинство и могли бы сами играть роль господ. Давай попробуем сделать это с тобой вдвоем.
— И я это слышу от тебя? — воскликнул удивленный Билль, заподозрив западню в речах управляющего.
— Ты услышишь от меня еще не то! — с возрастающим жаром подхватил Бастиан. — Я верно служил моим господам, не задумываясь над тем, хороши или дурны были мои поступки. Но вот понадобилось мне найти заместителя, когда я вздумал покинуть моих хозяев, и этим заместителем я избрал Бембо. Он меня ненавидел и воспользовался первым поручением, которое исполнял для распутного Родриго, чтобы нанести мне чувствительный удар. Он отдал в объятия лорда любимую мною девушку. Еще несколько часов назад я сам охранял это чудовище — Родриго, — не подозревая, что ему в жертву была выдана моя Кэт.
Вилль даже вскрикнул, подумав об Анне, о том, что и она не ограждена от похотливых посягательств этого гнусного человека.
— Но, — продолжал, повысив голос, Бастиан, — думаешь, что я оставлю это без расплаты?
— Разумеется, нет! — подхватил Вилль.
Бастиан несколько минут молча смотрел в пространство, после чего встал и принялся отвязывать пленника.
— Так вот, — сказал он, — Бембо поплатился уже за свою подлость, мой нож поразил его в сердце. Но Анна Бруф была уведена во время охоты с той же целью, что и моя Кэт.
Вилль был наконец отвязан.
— Анна! — вскрикнул он. — Анна, говоришь ты?
Анну Бруф отвели в Гора, и сегодня ночью ее посетит наш сэр Родриго. Это не близко отсюда, однако если ты поторопишься, то успеешь вовремя спасти свою невесту!
Вилль прижал руки к глазам, он почти не помнил себя.
— Ах, ты способен только проливать слезы? — сказал с усмешкой Бастиан. — Значит, я в тебе ошибся. Давай, я снова привяжу тебя к столбу, ты будешь отодран плетьми, тогда как Анну…
— Прочь! — крикнул Вилль. — Ты говоришь, что ее отвели в Гора?
— Да, мало того, я сам поеду провожать Родриго, и если ты промахнешься, то я попаду метко. Неужели и теперь ты не веришь, что я перестал быть твоим врагом?
— Верю! — прохрипел Вилль. — Спасибо тебе!
— Ну, так не мешкай… Пройди осторожно парком!… Мы еще свидимся.
Вилль выскользнул из сарая и в несколько шагов достиг парка никем не замеченный. Пошел по течению ручья и скоро очутился в своей деревне. Твердо решив не отступать ни перед чем, он зашел в сарай при мельнице, взял топор и, осторожно обогнув деревню, благополучно миновал ее. То ползком, то согнувшись вдвое, он осмотрительно подвигался вперед и, лишь оставив далеко за собою деревенские жилища, вскинул топор на плечо и пустился бежать во всю прыть.
За два часа Вилль совершил пешком путь, который обыкновенно требовал вдвое большего времени. Обливаясь потом и хрипя от бега, он наконец приблизился к уединенному двору крестьянской усадьбы.
Из нее вышел мужчина в сопровождении женщины.
— Где она у вас? — спросил их разгоряченный пришелец.
— Кто вам нужен? — грубо спросил хозяин.
— Анна Бруф! — взревел он.
— Вилль! — послышался пронзительный крик из комнаты.
— Пропустите! — крикнул молодой человек.
— Назад! — загремел его противник.
Но Вилль уже взмахнул топором, принесенным с собою. Голос Анны, который он узнал, усилил его бешенство, вдобавок нельзя было терять ни минуты. Топор тяжело обрушился на череп крестьянина, тот с глухим стоном рухнул у порога. Женщина с воплем кинулась опрометью от хижины, и Вилль свободно вошел в комнату.
— Анна! — крикнул он, бросаясь к молодой девушке.
— Вилль! — отозвалась она, рванувшись ему навстречу.
Они заключили друг друга в объятия, но силы оставили Анну, так что Виллю пришлось поддержать ее.
— Поспешим! — поторопил он девушку и потянул к выходу.
Тут до их слуха донесся близкий топот скачущих галопом лошадей; всадники остановились у крыльца, кто-то стал кричать во все горло.
— Слишком поздно! — прошептал Вилль, крепче сжав руками топор.
Его лицо было смертельно бледно, глаза метали молнии, но через минуту он справился с собой. Он не сомневался насчет того, чей приезд вызвал такой переполох, вспомнил и обещание Бастиана.
— Пойдем! — решился Вилль и потащил Анну из комнаты, а потом из дома.
Когда Родриго спрыгивал с седла, Вилль вышел с Анной на крыльцо.
— Черт возьми! — воскликнул Родриго. — Что это значит? Откуда ты взялся?
— Пришел пешком! — закричал Вилль, угрожая топором.
— Ведь этого пса посадили под замок? — крикнул Родриго управляющему.
— Должно быть, он сбежал! — отозвался Бастиан.
Родриго стал судорожно шарить под покрышкой седла. В это время Вилль подступил к нему ближе. Обомлевшая Анна прислонилась к дверному косяку.
— Как ты смеешь? — зарычал лорд.
— Негодяй, разбойник! — крикнул Вилль, замахиваясь для удара.
Однако Родриго опередил его — раздался выстрел. Вилль отшатнулся и через секунду рухнул наземь с глухим стоном. Анна вскрикнула. Гнусный развратник разразился грубым хохотом.
Но грянул второй выстрел, лошадь Родриго отпрянула в сторону и свалила его наземь.
— Бастиан… предатель! — простонал сраженный лорд, катаясь по земле.
Анна упала в обморок. А Бастиан повернул свою лошадь иускакал. Он держал путь к Белфасту, которого и достиг в полночь. Еще издали над городом виднелось багровое зарево пожара и оттуда доносилась ружейная пальба. Бастиан попал прямо в уличную схватку и был подхвачен ею. Вдруг он услышал, что его кто-то позвал по имени. Оглядевшись, он узнал лорда Лургана.
— Хватай его! — крикнул лорд.
Бастиан увидел господина в роскошном костюме, а рядом с ним даму. То были Персон и Вероника.
Бастиан остановился в нерешительности, его уже давно стащили с лошади, вокруг него кричали вооруженные матросы и городская чернь. Бастиан затруднятся, чью сторону взять.
— Ко мне, Бастиан! — раздался голос Персона. — Дело идет о спасении твоей госпожи.
И Бастиан решился наконец последовать этому зову, насколько позволяла давка.
Родриго и его спутник держали путь на юго-запад в продолжение нескольких часов. Они приблизились к одному из хуторов, принадлежавших Бэллинэгему. Навстречу к ним вышел старик.
— Ну, Кинно, — крикнул Родриго, — все в порядке?
— Все! — ответил старик с дьявольской усмешкой.
Родриго и Бастиан сошли с коней, старик отвел их в свой дом.
— Останься здесь! — сказал Родриго своему спутнику, когда они очутились в передней.
Бастиан остался, а Родриго вошел в следующую комнату и едва успел закрыть за собой дверь, как Бастиан услышал слабый крик женщины. Бастиан прислушался и насмешливо улыбнулся. Крик повторился несколько раз, и Бастиану показался как будто знакомым. Через некоторое время он услышал, как за дверью борются. Он вскочил было с места, но так как его не звали, то он снова сел на лавку.
Прошло с полчаса, наконец дверь распахнулась, и оттуда вышел Родриго.
Молодой человек был бледен и возбужден, мутными глазами обвел он Бастиана и вошедшего Кинно.
— Коня мне скорее, Кинно! — приказал Родриго. — А ты, Бастиан, позаботься о той женщине! — И выбежал со стариком из дома.
Управляющий вошел в соседнюю комнату. Там стояла кровать, а на ней лежала девушка, едва прикрытая одеждой.
И вдруг, широко раскрыв глаза, Бастиан крикнул почти нечеловеческим голосом, упал близ постели, схватил руку безжизненной девушки и стал кричать:
— Кэт! Кот! Ты слышишь меня?
Девушка не шевелилась.
— Кэт, очнись!
Девушка оставалась по-прежнему неподвижна.
Бастиан приподнял ее голову.
— Мертва! — произнес он беззвучно. — Она мертва!
Бастиан стал бледен как смерть и как будто лишился сознания.
В таком состоянии застал его Кинно, сам ужаснувшись такой картине.
— Черт возьми, Бастиан, что это? — спросил он.
Это — дело рук Бембо, — зарычал управляющий, выходя из оцепенения. — Это сделал негодяй Бембо, а ты помог ему!
Бастиан вскочил и бросился на Кинно, пытаясь схватить его за горло.
Старик не ожидал такого нападения и стал отбиваться от напавшего, спрашивая дрожащим голосом:
— Что случилось? Что случилось?
Но Бастиан едва ли слышал вопросы Кинно, не помня себя от прилива горькой злобы, он изо всех сил ударил старика по голове.
Удар тяжелого кулака был меткий, голова Кинно повисла, и кровь хлынула у него изо рта и носа. Но Бастиан продолжал наносить удары, пока не заметил, что его жертва лежит неподвижно.
Тогда он, дико озираясь, отошел от старика и после некоторого размышления положил руку девушки на грудь и произнес клятву мести. Слов нельзя было расслышать, но, очевидно, клятва была ужасна, так как гневный взор Бастиана метал искры.
Наконец Бастиан оторвался от своей Кэт, некогда, очевидно, любимой им больше всего на свете, вышел поспешными шагами из дома и направился к конюшне, куда поставили его лошадь. Вскочив в седло, он поскакал по направлению к замку, однако, доехав до него, повернул к деревне, предварительно бросив беглый взгляд во двор замка.
Перед одной из хижин Бастиан остановил свою лошадь и спрыгнул с седла. В дверях показался мужчина большого роста, телосложением похожий на слона.
— Бембо! — сказал Бастиан, бросив поводья подскочившему подростку. — Мне надо с тобой поговорить!
Бембо оскалил зубы и устремил на посетителя испытующий взгляд. Самообладание Бастиана не выдавало его волнения. Бембо позвал его в свое жилище и усадил напротив себя.
— Скажи, Бембо, — спросил управляющий, — все ли господа покинули замок?
— Не все… но большая часть.
— А давно ли сэр Родриго вернулся обратно?
— Нет, недавно… он казался чем-то недовольным.
Бастиан вздохнул.
— Вероятно, ты сегодня вечером будешь снова сопровождать лорда Родриго? — с живостью спросил великан, когда гость придвинулся к нему ближе.
— Я готов просить, чтобы ты заменил меня на этот раз, — ответил тот.
Весьма охотно, если лорд изволит приказать! — подхватил Бембо.
— Так отправляйся впереди него, да прямо в преисподнюю! — внезапно крикнул Бастиан.
Бембо издал вопль, откинулся назад и с бульканьем в горле скатился со стула на пол, так как Бастиан троекратно вонзил ему в грудь свой нож.
— Один готов, — пробормотал мститель, — теперь посмотрим, хватит ли у того негодяя мужества спасти честь своей возлюбленной.
Вилль был связан по приказанию Бастиана, когда его привезли в поместье, да вдобавок его привязали еще к столбу сарая, служившего для хранения горючих материалов.
В этом дощатом здании без окон стало уже темно, когда Бастиан отворил дверь, вошел и снова запер ее за собой.
Если вид Бастиана вообще мог в данных обстоятельствах возмутить кровь, то теперешнее выражение его лица должно было удвоить это волнение. Бастиан дышал злобой, Вилль вполне сознательно принял это на свой счет.
— Мошенник… будь я свободен! — пробормотал он, стиснув зубы.
— Вот так ты говоришь, ладно! — с расстановкой произнес Бастиан. — Таким ты мне нравишься, любезный. О, мы с тобой столкуемся!
Вилль не обратил особого внимания на эти слова, которые звучали для него насмешкой, отчего его глаза запылали еще большей ненавистью.
— Прежде всего успокойся, мой друг! — продолжал Бастиан. И перестань видеть во мне врага. Я пришел сейчас к тебе скорее в качестве друга, по крайней мере, в качестве союзника и предлагаю тебе свободу и возможность отомстить… на известных условиях, конечно!
Вилль насторожился. Дикая злоба уступила место недоверчивой пытливости.
— Ты даешь мне свободу? — с удивлением спросил он. — Ты называешь меня своим другом?
Бастиан присел на деревянную колоду.
— Давай потолкуем разумно! — с расстановкой сказал он. — Ты — невольник, я — тоже, свободны здесь только владельцы этой земли. Но между тем мы, невольники, составляем большинство и могли бы сами играть роль господ. Давай попробуем сделать это с тобой вдвоем.
— И я это слышу от тебя? — воскликнул удивленный Билль, заподозрив западню в речах управляющего.
— Ты услышишь от меня еще не то! — с возрастающим жаром подхватил Бастиан. — Я верно служил моим господам, не задумываясь над тем, хороши или дурны были мои поступки. Но вот понадобилось мне найти заместителя, когда я вздумал покинуть моих хозяев, и этим заместителем я избрал Бембо. Он меня ненавидел и воспользовался первым поручением, которое исполнял для распутного Родриго, чтобы нанести мне чувствительный удар. Он отдал в объятия лорда любимую мною девушку. Еще несколько часов назад я сам охранял это чудовище — Родриго, — не подозревая, что ему в жертву была выдана моя Кэт.
Вилль даже вскрикнул, подумав об Анне, о том, что и она не ограждена от похотливых посягательств этого гнусного человека.
— Но, — продолжал, повысив голос, Бастиан, — думаешь, что я оставлю это без расплаты?
— Разумеется, нет! — подхватил Вилль.
Бастиан несколько минут молча смотрел в пространство, после чего встал и принялся отвязывать пленника.
— Так вот, — сказал он, — Бембо поплатился уже за свою подлость, мой нож поразил его в сердце. Но Анна Бруф была уведена во время охоты с той же целью, что и моя Кэт.
Вилль был наконец отвязан.
— Анна! — вскрикнул он. — Анна, говоришь ты?
Анну Бруф отвели в Гора, и сегодня ночью ее посетит наш сэр Родриго. Это не близко отсюда, однако если ты поторопишься, то успеешь вовремя спасти свою невесту!
Вилль прижал руки к глазам, он почти не помнил себя.
— Ах, ты способен только проливать слезы? — сказал с усмешкой Бастиан. — Значит, я в тебе ошибся. Давай, я снова привяжу тебя к столбу, ты будешь отодран плетьми, тогда как Анну…
— Прочь! — крикнул Вилль. — Ты говоришь, что ее отвели в Гора?
— Да, мало того, я сам поеду провожать Родриго, и если ты промахнешься, то я попаду метко. Неужели и теперь ты не веришь, что я перестал быть твоим врагом?
— Верю! — прохрипел Вилль. — Спасибо тебе!
— Ну, так не мешкай… Пройди осторожно парком!… Мы еще свидимся.
Вилль выскользнул из сарая и в несколько шагов достиг парка никем не замеченный. Пошел по течению ручья и скоро очутился в своей деревне. Твердо решив не отступать ни перед чем, он зашел в сарай при мельнице, взял топор и, осторожно обогнув деревню, благополучно миновал ее. То ползком, то согнувшись вдвое, он осмотрительно подвигался вперед и, лишь оставив далеко за собою деревенские жилища, вскинул топор на плечо и пустился бежать во всю прыть.
За два часа Вилль совершил пешком путь, который обыкновенно требовал вдвое большего времени. Обливаясь потом и хрипя от бега, он наконец приблизился к уединенному двору крестьянской усадьбы.
Из нее вышел мужчина в сопровождении женщины.
— Где она у вас? — спросил их разгоряченный пришелец.
— Кто вам нужен? — грубо спросил хозяин.
— Анна Бруф! — взревел он.
— Вилль! — послышался пронзительный крик из комнаты.
— Пропустите! — крикнул молодой человек.
— Назад! — загремел его противник.
Но Вилль уже взмахнул топором, принесенным с собою. Голос Анны, который он узнал, усилил его бешенство, вдобавок нельзя было терять ни минуты. Топор тяжело обрушился на череп крестьянина, тот с глухим стоном рухнул у порога. Женщина с воплем кинулась опрометью от хижины, и Вилль свободно вошел в комнату.
— Анна! — крикнул он, бросаясь к молодой девушке.
— Вилль! — отозвалась она, рванувшись ему навстречу.
Они заключили друг друга в объятия, но силы оставили Анну, так что Виллю пришлось поддержать ее.
— Поспешим! — поторопил он девушку и потянул к выходу.
Тут до их слуха донесся близкий топот скачущих галопом лошадей; всадники остановились у крыльца, кто-то стал кричать во все горло.
— Слишком поздно! — прошептал Вилль, крепче сжав руками топор.
Его лицо было смертельно бледно, глаза метали молнии, но через минуту он справился с собой. Он не сомневался насчет того, чей приезд вызвал такой переполох, вспомнил и обещание Бастиана.
— Пойдем! — решился Вилль и потащил Анну из комнаты, а потом из дома.
Когда Родриго спрыгивал с седла, Вилль вышел с Анной на крыльцо.
— Черт возьми! — воскликнул Родриго. — Что это значит? Откуда ты взялся?
— Пришел пешком! — закричал Вилль, угрожая топором.
— Ведь этого пса посадили под замок? — крикнул Родриго управляющему.
— Должно быть, он сбежал! — отозвался Бастиан.
Родриго стал судорожно шарить под покрышкой седла. В это время Вилль подступил к нему ближе. Обомлевшая Анна прислонилась к дверному косяку.
— Как ты смеешь? — зарычал лорд.
— Негодяй, разбойник! — крикнул Вилль, замахиваясь для удара.
Однако Родриго опередил его — раздался выстрел. Вилль отшатнулся и через секунду рухнул наземь с глухим стоном. Анна вскрикнула. Гнусный развратник разразился грубым хохотом.
Но грянул второй выстрел, лошадь Родриго отпрянула в сторону и свалила его наземь.
— Бастиан… предатель! — простонал сраженный лорд, катаясь по земле.
Анна упала в обморок. А Бастиан повернул свою лошадь иускакал. Он держал путь к Белфасту, которого и достиг в полночь. Еще издали над городом виднелось багровое зарево пожара и оттуда доносилась ружейная пальба. Бастиан попал прямо в уличную схватку и был подхвачен ею. Вдруг он услышал, что его кто-то позвал по имени. Оглядевшись, он узнал лорда Лургана.
— Хватай его! — крикнул лорд.
Бастиан увидел господина в роскошном костюме, а рядом с ним даму. То были Персон и Вероника.
Бастиан остановился в нерешительности, его уже давно стащили с лошади, вокруг него кричали вооруженные матросы и городская чернь. Бастиан затруднятся, чью сторону взять.
— Ко мне, Бастиан! — раздался голос Персона. — Дело идет о спасении твоей госпожи.
И Бастиан решился наконец последовать этому зову, насколько позволяла давка.
II
Накануне вечером Персон направился к так называемому Старому Форту. Здесь, после обычного опроса, его беспрепятственно впустили во внутрь укрепления, где он вошел в одну из комнат казармы, убранство которой отличалось крайней простотой. Там за столом сидел старик, седой как лунь, в мундире служащего портовой полиции.
— Персон, — воскликнул старик, — никак ты раздобыл ужин?
— Нет, старина, — возразил гость, — но кое-что получше.
— Только одно было бы лучше ужина, а именно деньги, мой друг!
— Ты прав, Мотор, и я разжился ими!
— Тогда добро пожаловать, сын мой!
— Спасибо! Сколько ты хочешь за платье, которое я проиграл тебе недавно. Я хочу получить его обратно.
— Ты знаешь, что я взял его за десять крон и сохранил его собственно для тебя, за пятнадцать крон я готов возвратить его тебе.
— Ладно, давай костюм!
— Давай деньги!
— Возьми, — Персон вытащил из кармана горсть червонцев и отсчитал из них пятнадцать своему приятелю. Тот радостно кинулся к сундуку, поднял крышку, осторожно вынул оттуда полный костюм щеголя тогдашнего времени и бережно развесил по стульям.
Персон тотчас схватил украшенные вышивкой и блестками штаны, надел их на себя и взялся за красивые сапоги из оленьей кожи, каблуки которых были снабжены массивными серебряными шпорами.
Мотор в это время снова подошел к столу и стал взвешивать на руке свои червонцы. Наконец он обратился к гостю:
— Ты собираешься куда-то?
— Да, старина, я должен идти! — ответил Персон. — Вот уже четыре месяца, как я не бывал на той стороне залива, а у меня есть там дело.
— Так, так!… А ты пропадешь надолго?
— Персон взял со стула черную бархатную куртку с массивными серебряными пуговицами и, проводя по ней рукою, с улыбкой произнес:
— Да, любезнейший, и ты дашь мне отпуск на четыре дня.
— На четыре дня? — подхватил с удивлением старик. — Неужели мне придется так долго лишать себя удовольствия удить рыбу?
Персон повязал желтый шелковый платок на свою сухопарую, но мускулистую шею и спокойно возразил:
— Ты не один и можешь всегда уйти из этой старой кучи камня, чтобы лентяйничать с удочкой в руках, кроме того, наша разлука продлится только три дня.
— Насмешник! Так, значит, всего три дня?
— Да, Мотор, но в случае надобности ты должен засвидетельствовать, что я получил отпуск еще сегодня поутру и был на той стороне залива.
Персон приглаживал свои красивые волосы и бороду с помощью не совсем опрятной щетки, а Мотор в это время пытливо смотрел на него и скалил белые зубы.
— Понимаю, — пробормотал он наконец. — Ты знаешь, как ты мне дорог, милейший Персон!
— Я знаю себе цену! — ответил тот, надевая шляпу с перьями.
— Значит, четыре дня; по одной кроне за каждый день, это составит пять крон для круглого счета!
Персон подошел к своему плащу, лежавшему на стуле, и повернувшись спиной к старику опорожнил карманы и спрятал их содержимое в карманы своей куртки, жилета и брюк.
— Ты бессовестный, Мотор, — сказал он, — наша разлука продлится всего три дня.
— Она покажется мне целой вечностью, и моя память легко может пострадать в это время.
Персон запрятал подальше захваченную при убийстве и ограблении матроса Тома добычу, особенно тщательно спрятал похищенные бумаги, после чего бросил старику деньги.
— Прощай, Мотор! — сказал он и скрылся за дверью.
Покинув форт, Персон направился к Граве. Он поспешно проходил по безлюдным улицам, держа свой путь к южной оконечности города, и далее, к устью Ларгана, впадающего в бухту. Наконец он остановился на одной улице близ городских укреплений перед домом с ярко освещенными окнами нижнего этажа.
Большая занавеска над входной дверью, увенчанная государственным гербом, указывала на то, что здесь помещалась гостиница.
Персон вошел в открытый для посетителей трактир внизу и приказал встреченному им в сенях слуге позвать хозяина.
Тот явился, несколько подозрительно посмотрел на нового гостя, должно быть мысленно оценил его и, поклонившись с большой почтительностью, сказал с фальшивой улыбкой:
— Милорд, какое счастье!… Наконец-то вы явились… Ваше отсутствие внушало мне уже неприятнейшие опасения…
— Могу себе представить, Мак-Феда, — равнодушно ответил Персон. — Отведите мне комнату с кабинетом и следуйте за мной.
После этого он быстро и уверенно поднялся вверх по лестнице, что служило лишним доказательством, что здесь ему все было хорошо знакомо.
Хозяин последовал за ним и отпер одну из комнат. Когда они оба вошли туда, Мак-Феда позвонил и приказал вошедшему лакею принести свечи. Комната вскоре ярко осветилась.
— Слушайте, Мак-Феда, — сказал Персон, плюхнувшись на стул, тогда как дородный хозяин остался стоять перед ним, — я немного тороплюсь, и потому исполните поскорее те поручения, которые я вам дам!
Мак-Феда поклонился.
— Но ради порядка покончим сначала с нашими старыми делами. После последнего вашего приветливого поклона мой счет достиг двухсот крон?
— Совершенно верно, сэр, как раз столько.
— Вот получите! — произнес Персон, с изумительным проворством отсчитывая деньги. — Велите принести мне мой мундир и оружие.
Мак-Феда стал еще учтивее, получив тяжелые червонцы.
— Эту комнату, — продолжал Персон, — я желаю нанять на два месяца, устройте ее для двоих лиц и по возможности удобно, считайте за мной это помещение еще с первого числа настоящего месяца. Понимаете? Вот сорок крон квартирной платы!
— Весьма милостиво! — пробормотал хозяин, пряча деньги.
— Пошлите кого-нибудь к банкиру Мауране, передайте ему, что мне нужно поговорить с ним и что через час я буду у него. Другого человека отправьте к старому Ягенсу с приказанием доставить мне сюда через два часа свою лучшую лошадь с седлом и уздечкой. После того пришлите мне ужин и мадеры, а прежде всего позаботьтесь о принадлежностях для письма и бумаге!… Ну, теперь ступайте.
Персон отвернулся, и хозяин вышел.
Новый постоялец задумчиво смотрел в пространство, не вставая со стула до возвращения Мак-Феда. Хозяин внес военную форму, шпагу и пистолеты, вероятно, эти вещи оставались залогом за уплаченный сегодня долг. Кроме того, Мак-Феда захватил с собой потребованный письменный прибор и бумагу. Так как Персон ничего не говорил, по-прежнему погруженный в свои раздумья, то хозяин снова удалился.
Едва Мак-Феда скрылся, Персон проворно вскочил со стула, снял с себя шляпу и шарф и вынул бумаги, отнятые у матроса Тома.
Сев к столу, Персон начал переписывать все документы с такой быстротой, которая показывала, что он стоял много выше большинства своих современников, живших в непримиримой вражде к искусству письма.
Пока Персон занимался бумагами, вошел слуга с докладам, что банкир Маурана ожидает его через час. Явившийся вслед затем другой слуга доложил, что заказанная лошадь будет подана к назначенному времени. Третий слуга принес ужин.
Персон отпускал всех этих людей молчаливым кивком головы, не прерывая своей работы, пока она не была совершенно окончена. Тогда он сделал два пакета из оригиналов и копий, спрятал их к себе в карманы и принялся за еду.
Персон ел неторопливо и, выпив половину поданного ему вина, оделся и без особенной поспешности вышел из дома, предварительно передав хозяину ключ от своей комнаты.
III
Дом, перед которым он остановился, пройдя по многим улицам, можно было смело назвать барским особняком. На звонок посетителя распахнулась входная дверь, и, когда он вошел, его встретил прилично одетый привратник, который, глянув на вошедшего, указал рукой на двери кабинета, сказав с иностранным акцентом:
— Хозяин ожидает вас.
Гость постучался.
Послышался внятный, несколько резкий возглас: «Войдите!», и Персон, отворив дверь, вошел в ярко освещенную контору. При его появлении находившаяся у банкира молодая особа вышла из комнаты. Персон проводил ее взглядом, после чего поклонился хозяину. Мужчина средних лет, жгучий брюнет более или менее чистой мавританской крови, приветствовал посетителя:
— Сэр Персон, вы давно не показывались у меня… Прошу садиться!… Чем могу служить?
Персон, опускаясь на стул, ответил:
— Говоря по правде, я не мог показаться вам на глаза и даже высунуть нос на улицу.
— Вы знаете, что в подобных случаях мой кошелек до известных пределов к вашим услугам.
— Мне приятно слышать это, — слегка краснея, сказал Персон. — Однако простите, я пришел сюда, чтобы потолковать с вами насчет сэра Спитты.
Я уже осведомлен обо всем, что случилось.
— Осведомлены? — с удивлением, почти с испугом воскликнул Персон.
— Я полагаю, что так, сэр. Дочь сэра Спитты должна была сегодня вступить в супружество с лордом Лурганом, между тем во дворце сэра Спитты нашли человека, которого она назвала своим возлюбленным. Жених удалился, свадьба расстроилась. Лурган немедленно уехал на реку Ларган, однако еще до его отъезда в гостинице «Фламинго» был ранен один корабельный капитан. Тем временем Джон Гавиа также покушался на жизнь сэра Спитты и угодил в тюрьму. Леди Эстер попала в монастырь. Может быть, вам известно еще более того?
Персон сидел онемевший и неподвижный. Наконец он тяжело вздохнул, однако его глаза тотчас ярко вспыхнули, и он, задорно вскинув голову, сказал:
— Да, мне известно более того!
— Тогда сообщите мне, если это возможно.
— А вы все еще не оставили своего намерения отомстить лорду Спитте?
— Я никогда не намеревался делать этого, нет, я хочу окончательно низвергнуть его, чтобы он не мог больше вредить.
— Все равно у меня с вами одинаковая цель, которая сделала нас союзниками, как бы ни называли мы наши стремления. Словом, вы твердо держитесь принятого решения?
— Я никогда не отступал от него.
— Отлично!… Но сначала я отправлюсь еще сегодня же ночью на Ларган и приму там участие в охоте.
— Мне-то что?
— Я похищу леди Веронику, если она вообще согласится на это.
— Вот глупость!
— А вы дадите мне письменное обязательство на годичный срок щадить ее отца, не притесняя его требованиями о возврате тех сумм, которые он взял у вас в долг.
— Не дам!
— Далее вы откроете ему кредит на две тысячи крон и вручите мне чек, удостоверяющий его право на эту сумму.
— Ни за что! — снова отрывисто и холодно ответил мавр.
Персон засмеялся, после чего произнес:
— Я докажу вам, что ваши твердые «нет» могут быть отменены.
Маурана пожал плечами, точно хотел показать, как недоверчиво он относится к болтовне гостя.
Персон не спеша вынул из кармана один из своих кошельков и, отсчитав некоторую сумму денег, положил ее на письменный стол. Лицо банкира осталось бесстрастным, он спокойно следил за пальцами клиента, после чего подошел к своей конторке и начал писать. Персон потихоньку смеялся.
Маурана вернулся с исписанной бумагой и подал ее посетителю.
— Итак, чек я получил! — сказал Персон. — Скоро же вы отступились от своего решения!
— Я не изменял никакого решения, вы вольны распоряжаться своими средствами, это меня нисколько не касается.
— А вы согласны теперь дать мне письменное доказательство, о котором я просил?
— Нет!
— Причина?
— Вы знаете ее!
— Что за дело нам обоим до этих жалких невольников?
— Каждая угнетенная личность, — возразил Маурана, — каждая угнетенная национальность может рассчитывать на мое участие и помощь, как и вы.
Персон покраснел.
— Но какой прок из того, если невольники переменят только своего господина?
Тут впервые улыбнулся сам банкир.
— Я составил план, теперь от меня зависит назначить будущего владельца Бэллинэгема, и если бы, например, им сделались вы, то я предписал бы вам отдавать землю в свободное распоряжение крестьянам, разумеется, за арендную плату, в короткое время Бэллинэгем превратился бы в образцовое имение, а вы сделались бы первым богачом в Ирландии.
— Между тем я никогда не буду владельцем этого имения, а год отсрочки не изменит ничего в вашем плане.
— В нем и не должно быть никакой перемены, но вы могли бы сделаться владельцем тех земель, если бы только…
— Довольно! Я не могу — и конец.
— Ваша воля!
— Прочтите вот это! — Персон вынул украденные бумаги и подал их банкиру.
Маурана взял их и прочел.
В его чертах не произошло ни малейшей перемены во время этого чтения, но его глаза метали искры и пламя, наконец он положил руку на прочитанные документы и, откинувшись на спинку кресла, резко спросил:
— Откуда у вас эти бумаги?
— Это — моя тайна! — ответил Персон.
— Вы знаете Джона Гавиа… или же…
— Допустим, что знаю…
— Он передал вам эти документы?
— Допустим, что так. И вдобавок, из-за того, что чувствует себя слишком слабым, чтобы распорядиться этими бумагами по своему усмотрению, передал для того, чтобы я выступил под видом Джона Гавиа, или лорда Спитты. Так что, я полагаю, мы доберемся до губернатора, ненавистного вам лорда Спитты.
Маурана пристально смотрел на говорившего.
— Персон, Персон! — произнес он тоном предостережения. — Однако я не скажу больше ничего и не хочу больше ни о чем слышать.
— Клянусь вам, что этих бумаг я не вырвал силою и не выманил хитростью ни у старика Гавиа, ни у его сына Джона. Вы поверите мне, что Гавиа умер?
— Умер? — несколько опешив, спросил банкир. — Это дело — дрянь.
— Конечно!… Но вы дадите мне теперь письменное обязательство?
Маурана снова бросил зоркий взгляд на просителя и задумался.
— Персон, — с расстановкой сказал он наконец, — я выдам расписку, но меня побуждает к этому лишь то обстоятельство, что мы хотим сломить могущество Спитты. Так как он мог или даже должен был пойти мне наперекор, то я до настоящего времени не принимал более энергичных мер против лорда Бэллинэгема.
Маурана подсел к своей конторке и стал писать, когда он кончил, то молча передал бумагу Персону.
— Благодарю вас, — сказал тот. — Будьте добры еще принять на хранение мои бумаги, а также эти деньги, расписки мне не требуется, обозначьте только эти кошельки как мою собственность.
Персон положил свои сокровища на стол и поднялся с места. Маурана убрал их молча, не обнаружив никакого удивления.
— Когда мы увидимся с вами? — спросил банкир.
— Я полагаю, завтра вечером. Всякого благополучия.
— Благодарю вас!
Персон покинул комнату и вышел из дома.
Едва дверь за ним захлопнулась, как в кабинет вошла красивая девушка и шепнула Мауране, молча сидевшему за столом:
— Ты ничего не скажешь мне, отец?
— Ничего, Саида!
Девушка с плачем прильнула к груди мавра, а он, лаская ее голову, произнес:
— Не плачь, дитя, еще не все надежды потеряны. Как он ни испорчен, но все же стоит сотни здешних дворян, взятых вместе. Пойди к маме! — Девушка поцеловала руку отца, а он, подумав немного, добавил: — Он должен сделать это!
Вернувшись к себе в гостиницу, Персон нашел там оседланную лошадь и при ней старика, который сильно смахивал на мошенника.
— Пойдем со мною, — небрежно сказал Персон, и тот последовал за ним в его комнату.
Там Персон расспросил его о лошади и отпустил с деньгами. Засунув за пояс пистолеты, он вышел из гостиницы, сел на лошадь и двинулся в путь в том же направлении, что и лорд Лурган, выехавший из Белфаста ранее его.
IV
Было далеко за полночь, когда Персон перевалил через гребень гор и поскакал далее к западу. Без сомнения, он был храбрее лорда, если пустился без провожатого по дороге, которая вела на Ларган.
Персон хорошо знал местность и, вероятно, поддерживал какие-то связи в Бэллинэгеме, кроме того, Вероника, должно быть, уведомила его со своей стороны о том, где должна состояться охота. При значительном числе охотников он мог легко присоединиться незамеченным к обществу, как ни бросалась в глаза его видная фигура. Может быть, он даже вовсе не был бы замечен, если бы не помешал ухаживанию лорда Лургана за Вероникой.
Персон и Вероника, обменявшись первыми словами при свидании, некоторое время молчали. Внимание влюбленных было устремлено на то, не преследует ли их Лурган. Поэтому они не останавливали своих лошадей, скакавших резвым галопом.
Их свидание и удаление от охоты было замечено лишь несколькими загонщиками, однако те отнеслись к этому совершенно равнодушно.
Шум и гам охоты вскоре остались далеко позади, в ближайших окрестностях царила тишина, нарушаемая только топотом их собственных коней.
Персон придержал свою лошадь, и лошадь Вероники сама по себе замедлила свой быстрый аллюр. Взоры наездника и наездницы, полные любви и взаимного понимания, встретились.
— Благодарю тебя! — прошептала молодая девушка. — Ты возвращаешь меня к жизни. Когда я получила сегодня твою записку, то была близка к отчаянию.
— Я знал это заранее, — ответил Персон, — потому и решился на все. И счастье благоприятствовало мне.
— Спасибо этому счастью, мой дорогой!… Оно вовремя привело тебя ко мне. Ты узнал лорда Лургана?
— Еще бы! Его присутствие здесь, тотчас после разрыва с дочерью лорда Спитты, показалось мне не лишенным значения.
— Ты угадал; он объяснился мне сегодня в любви и будет снова свататься ко мне, а тогда…
— Проклятие! Пусть только попробует! — запальчиво воскликнул Персон, дико вращая своими большими глазами.
Вероника вздохнула.
— Пораскинем, однако, умом! — продолжал более спокойным тоном ее поклонник. — Мне надо предложить тебе кое-что. Знаешь ли ты, по какой причине расстроилась свадьба Лургана?
— Он сам сообщил нам.
— Ну, тогда ты узнала о происшедшем из наиболее достоверного источника. Как приняли лорда твой отец и Родриго?
— Отец сначала оказал ему холодный прием, но узнав, в чем дело, стал значительно приветливее. За Родриго же я не наблюдала. Однако, если бы сватовство Лургана могло снова дать ему возможность отправиться в Дублин, то мой брат, который изнывает от нашей монотонной жизни в Бэллинэгеме, охотно содействовал бы нашему сближению.
— Да и намерения твоего отца такие, я полагаю?
— К сожалению, так. Они желали этого, когда он и не думал еще свататься.
— Единственное средство освободить тебя — это как- нибудь убрать Лургана.
— Ты вторично пугаешь меня, Персон, а между тем…
— Договаривай…
— Я не вижу другого исхода.
— Вот это мне приятно слышать от тебя. Лургану произнесен приговор. Между тем, это еще не приводит нас к цели. Твоего отца и брата нужно расположить ко мне, а для этого тебе придется кое-чем рискнуть, дорогая!
— Что должна я сделать, милый?
— Сопровождать меня в Белфаст.
— Мне… сопровождать тебя?
— Да, Вероника… Однако поедем шагом, я не слышу больше никаких отголосков охоты, теперь мы, кажется, в безопасности.
Лошадей остановили, и Персон прислушался и зорко посмотрел во все стороны.
— Ничего не слышно, ничего не видно, — сказал он, успокоенный, — обсудим же мое предложение.
Разрумяненные быстрой ездой щеки Вероники внезапно побелели.
— Персон, — тихо и с расстановкой промолвила она, — ты забываешь о положении моего семейства… я, конечно, не заставила бы тебя изнывать от любви, если бы не…
— О, я не забываю ни о чем, моя дорогая! Но для меня наступила пора отплатить за то, что сделала ты для меня. Я внезапно разбогател, Вероника, и надеюсь сделаться еще богаче.
— Ты… разбогател?
— Судьба бедняка может легко перемениться, — ответил Персон. — Для тебя в Белфасте готова квартира и положены деньги на твое имя. Значит, твое первое опасение устранено, ты будешь лучше обеспечена мной, чем была бы после получения наследства от своей матери.
— Я не понимаю тебя, мой друг! — сказала Вероника, все еще сомневаясь и думая, что Персон шутит. — Но если серьезно вникнуть в твое предложение, то кем же должна я быть в Белфасте?
— Ты должна быть моей женой, дорогая Вероника, супругой, которой ты уже стала на самом деле.
— Значит, ты говоришь о настоящей женитьбе?
— Самой настоящей, моя дорогая! Я имею в виду брачный союз с благословением священника в церкви.
— И ты получил разрешение командира?
— Это неважно. Итак, ты должна поехать со мной и сделаться моей женой!
— Но как отнесутся к этому мои родители и мой брат?
— Мы убедим их, моя дорогая. Итак, решено: священник повенчает нас. Я не могу допустить, чтобы ты оставалась предметом низкой спекуляции! — горячо проговорил Персон. — Если лорду Лургану вздумается позволить себе что-нибудь по отношению к моей жене, то у меня будет законное право защищать ее имя и честь. Ему придется передо мной отступить, несмотря на то, что он — богатый лорд.
Вероника задумалась.
— А как мы убедим отца? — нерешительно произнесла она.
— Я приду к твоему отцу в качестве мужа его дочери, — ответил Персон, — и преподнесу ему чек на две тысячи крон. Думаю, что это произведет на него приятное впечатление.
— Несомненно! — улыбнулась Вероника. — А ты забыл про Родриго?
— Если Родриго окажется добрым, хорошим братом, то я приму его с распростертыми объятиями, если же он выразит желание делать нам неприятности, то у меня имеются шпага и пистолет при себе.
— Я не понимаю, откуда ты… — начала было Вероника.
Но Персон прервал ее:
— Не будем теперь говорить об этом, ты после узнаешь обо всем. Итак, ты принимаешь мое предложение?
— Да, да! — согласилась она.
Персон крикнул от радости и, прижав к сердцу Веронику, крепко поцеловал ее.
— Ну а теперь едем! Поездка, конечно, утомит тебя, но зато после будет достаточно времени для отдыха, — проговорил Персон.
Они быстро поскакали дальше.
Дорога, по которой ехали всадники, была неровная и твердая. Мягкая почва от жарких лучей солнца настолько затвердела, что даже сильный дождь в недавнюю бурю не смог размягчить ее. Поэтому копыта лошадей стучали так, точно ударяли по булыжной мостовой.
Вскоре чуткое ухо Персона уловило звук отдаленного топота лошадей, он тревожно обернулся и крикнул:
— Черт возьми!… Вероника, ты вытерпишь более быструю езду?
— Я могу вынести все, что хочешь, мой милый! — ответила молодая женщина.
— За нами погоня! — крикнул Персон, хватаясь за пистолет. — Скорее вперед!
И они помчались во весь дух. Персон часто оглядывался назад, погоня отставала все больше и больше, очевидно, лошади преследователей были сильнее утомлены, чем скакуны Персона и Вероники. Молодые люди благополучно достигли Белфаста, но там их ожидали еще более серьезные опасности. В городе было возмущение толпы, и потому они не могли добраться до той гостиницы, в которой должна была остановиться Вероника. Персон решил ждать до полуночи, надеясь, что волнение утихнет. Но когда въехал в город со своей невестой, понял, что ошибся в расчетах. Они попали в самый разгар бунта. Босвел только что разрушил дом губернатора, убив при этом собственноручно лорда Спитту, и увел с собой его супругу, свою бывшую любовницу. Затем осадил монастырь, и Джону удалось вызволить оттуда свою Эстер.
Лорд Лурган вооружил между тем своих людей и пустился на поиски Вероники и ее спутника. В конце концов он натолкнулся на них. Вместе с Бастианом Лурган бросился на Персона, но тот выхватил меч и сильным ударом сбросил лорда на землю, где его сейчас же затоптала толпа, устремившаяся на набережную. Толпа увлекла за собой Бастиана, Персона и Веронику, и они, помимо своей воли, очутились в большой лодке; она быстро отчалила от берега и направилась к кораблю Босвела. Матросы поспешно подняли всех на борт, и корабль торопливо вышел из гавани. Ни Персон, ни Вероника, ни Бастиан ничего не могли сделать против этого насильственного увода. Таким образом, вышло, что Персон совершенно напрасно совершил преступление и все его расчеты рассеялись как дым. Босвел, муж Марии Стюарт, королевы шотландской, поступил просто как морской разбойник.

Глава тридцать четвертая
В РАТГОФ-КАСТЛЕ

I
 Население Лондона находилось в большом волнении: в одну неделю скончались две дамы, хорошо известные как самому высшему, так и низшему обществу. Эти дамы были — леди Бэтси Килдар и Маргарита Морус.
К числу лиц, особенно огорченных этой потерей, принадлежала и графиня Гертфорд, бывшая Екатерина Блоуэр, мать Филли и возлюбленная сэра Брая.
В судьбе графини многое изменилось после ее заточения. Друзья и приятельницы отдалились от нее, высшее общество, к которому одно время принадлежала она, не допускало ее больше в свой круг. Только Бэтси Килдар и Маргарита Морус удостаивали графиню Гертфорд своим знакомством, за что та была чрезвычайно благодарна им. Смерть двух благодетельниц страшно поразила Екатерину Блоуэр, и она почувствовала себя совершенно одинокой. Слухи о том, что произошло с Филли, дошли до нее и усилили ее подавленное настроение, к которому примешивался еще и страх, что в один прекрасный день к ней может явиться Брай. Предчувствие не обмануло Екатерину.
Брай, несмотря на отсутствие средств, нашел возможность довольно быстро приехать в Лондон. Прежде всего он позаботился о приличном костюме, а затем отправился к графине Гертфорд. Можно было думать, что Кэт, так долго ждавшая и боявшаяся Брая, успеет подготовиться к свиданию с ним, но это оказалось не так. Когда ей доложили о приходе ее бывшего возлюбленного, она смертельно побледнела, но не решилась отказать ему в приеме.
Кэт ждала самого худшего для себя, тем не менее она встала и сделала несколько шагов навстречу Браю.
— Не беспокойтесь, миледи, оставайтесь на своем месте, резким тоном остановил он ее, — наше последнее свидание слишком памятно для меня, и потому у меня нет никакого желания быть с вами на более близком расстоянии.
Графиня вздрогнула и остановилась как вкопанная в ожидании того, что будет дальше.
— Нечего, я думаю, и говорить, — продолжал Брай, — что только самые важные причины заставили меня явиться сюда. Ведь материнские обязанности по отношению к своему же ребенку вы предоставили мне. И не только не старались облегчить мне этот труд, а напротив изыскивали всевозможные меры для того, чтобы ставить мне препятствия на каждом шагу.
— Я глубоко раскаялась в этом, — ответила Кэт, дрожа всем телом. — Я сознаю, что была неправа. Если бы возможно было вернуть старое…
— Оставим это, — прервал ее Брай, — вы заметили совершенно верно — старое вернуть нельзя! Поговорим о том, что привело меня сегодня к вам. Это дело настолько важное, что можно позабыть обо всем другом. Вы знаете, что случилось с вашей дочерью?
— Одни говорят, что она вышла замуж за графа Лейстера, другие же утверждают, что этого брака никогда не было. Во всяком случае Филли находится в каких-то отношениях с лордом Лейстером! — ответила графиня.
— И это все? — снова спросил Брай.
— Нет, не все, но дальнейшие слухи так маловероятны, что им трудно верить. Говорят, что королева Елизавета приказала произвести расследование об отношениях лорда Дэдлея и Филли, и в связи с этим над графом Лейстером и лордом Сэрреем назначено следствие. Я не понимаю, причем тут лорд Сэррей и с какой целью королева могла бы отдать подобное распоряжение?
Брай внимательно выслушал Кэт и наконец сказал:
— А я прекрасно понимаю, в чем тут дело! Но почему же вы не навели более точных справок? Я думаю, что при вашем знакомстве это нетрудно было сделать.
— Нет, с того злополучного случая я стала отверженной, — возразила Кэт.
— Вы наказаны по заслугам, — заметил Брай. — Но оставим прошлое! Скажите лучше, можете ли вы ответить мне совершенно искренне и честно на мой вопрос?
— О да, спрашивайте! — согласилась графиня.
— Любите ли вы свою дочь как настоящая мать? Можете ли вы принять участие в ее судьбе и в состоянии ли что-нибудь сделать для ее блага?
— Если бы вы знали, сколько мне пришлось пережить и перестрадать из-за моего ребенка, вы избавили бы меня от этого вопроса! — ответила Кэт. — Я готова всем пожертвовать для Филли, но думаю, что при нынешнем моем положении она не нуждается в моей помощи.
— Вы ошибаетесь! Ваша дочь очень нуждается в помощи и защите!… Знайте же: она действительно обвенчана с графом Лейстером, у меня имеется в руках доказательство этого. Но, по-видимому, у графа Лейстера имеются серьезные причины для того, чтобы отрицать свой брак, а при характере графа подобное обстоятельство может грозить большой опасностью для Филли. Ввиду этого нам необходимо защитить ее и прежде всего, конечно, отыскать ее.
— А вы не знаете, где она? — спросила Кэт.
— Я знаю, что Лейстер спрятал ее где-то, но где именно, я не могу определенно сказать. Может быть, вы могли бы разузнать это?
— Каким образом?
— Поезжайте к лорду Лейстеру, назовите себя и потребуйте свидания с дочерью. Я не думаю, чтобы при существующих обстоятельствах он уклонился от исполнения вашего требования. Во всяком случае постарайтесь выведать у него, где находится ваша дочь. Это главное, что мне нужно.
Графиня была очень встревожена и испугана советом Брая.
— Это очень тяжелая задача! — произнесла она наконец.
— Тем не менее она должна быть исполнена! — решительно заявил Брай.
Хорошо, я попробую!
— Но это необходимо сделать сегодня же, сию минуту! — настаивал Брай. — Вы поезжайте, а я подожду вас здесь. Только ни слова о том, что я в Лондоне и что вы вообще знаете что-нибудь обо мне. Если же у вас явится желание предать меня, то берегитесь, Кэт Блоуэр!… Подумайте о своем будущем!
Графиня поспешила одеться и направилась во дворец графа Лейстера.
Брай подождал, пока Кэт уйдет из дома, и скрылся. Хотя он был почти уверен, что графиня не выдаст его, тем не менее он был слишком осторожен для того, чтобы вполне положиться на ее слово. Он решил издали следить за тем, что произойдет дальше.
Население Лондона находилось в большом волнении: в одну неделю скончались две дамы, хорошо известные как самому высшему, так и низшему обществу. Эти дамы были — леди Бэтси Килдар и Маргарита Морус.
К числу лиц, особенно огорченных этой потерей, принадлежала и графиня Гертфорд, бывшая Екатерина Блоуэр, мать Филли и возлюбленная сэра Брая.
В судьбе графини многое изменилось после ее заточения. Друзья и приятельницы отдалились от нее, высшее общество, к которому одно время принадлежала она, не допускало ее больше в свой круг. Только Бэтси Килдар и Маргарита Морус удостаивали графиню Гертфорд своим знакомством, за что та была чрезвычайно благодарна им. Смерть двух благодетельниц страшно поразила Екатерину Блоуэр, и она почувствовала себя совершенно одинокой. Слухи о том, что произошло с Филли, дошли до нее и усилили ее подавленное настроение, к которому примешивался еще и страх, что в один прекрасный день к ней может явиться Брай. Предчувствие не обмануло Екатерину.
Брай, несмотря на отсутствие средств, нашел возможность довольно быстро приехать в Лондон. Прежде всего он позаботился о приличном костюме, а затем отправился к графине Гертфорд. Можно было думать, что Кэт, так долго ждавшая и боявшаяся Брая, успеет подготовиться к свиданию с ним, но это оказалось не так. Когда ей доложили о приходе ее бывшего возлюбленного, она смертельно побледнела, но не решилась отказать ему в приеме.
Кэт ждала самого худшего для себя, тем не менее она встала и сделала несколько шагов навстречу Браю.
— Не беспокойтесь, миледи, оставайтесь на своем месте, резким тоном остановил он ее, — наше последнее свидание слишком памятно для меня, и потому у меня нет никакого желания быть с вами на более близком расстоянии.
Графиня вздрогнула и остановилась как вкопанная в ожидании того, что будет дальше.
— Нечего, я думаю, и говорить, — продолжал Брай, — что только самые важные причины заставили меня явиться сюда. Ведь материнские обязанности по отношению к своему же ребенку вы предоставили мне. И не только не старались облегчить мне этот труд, а напротив изыскивали всевозможные меры для того, чтобы ставить мне препятствия на каждом шагу.
— Я глубоко раскаялась в этом, — ответила Кэт, дрожа всем телом. — Я сознаю, что была неправа. Если бы возможно было вернуть старое…
— Оставим это, — прервал ее Брай, — вы заметили совершенно верно — старое вернуть нельзя! Поговорим о том, что привело меня сегодня к вам. Это дело настолько важное, что можно позабыть обо всем другом. Вы знаете, что случилось с вашей дочерью?
— Одни говорят, что она вышла замуж за графа Лейстера, другие же утверждают, что этого брака никогда не было. Во всяком случае Филли находится в каких-то отношениях с лордом Лейстером! — ответила графиня.
— И это все? — снова спросил Брай.
— Нет, не все, но дальнейшие слухи так маловероятны, что им трудно верить. Говорят, что королева Елизавета приказала произвести расследование об отношениях лорда Дэдлея и Филли, и в связи с этим над графом Лейстером и лордом Сэрреем назначено следствие. Я не понимаю, причем тут лорд Сэррей и с какой целью королева могла бы отдать подобное распоряжение?
Брай внимательно выслушал Кэт и наконец сказал:
— А я прекрасно понимаю, в чем тут дело! Но почему же вы не навели более точных справок? Я думаю, что при вашем знакомстве это нетрудно было сделать.
— Нет, с того злополучного случая я стала отверженной, — возразила Кэт.
— Вы наказаны по заслугам, — заметил Брай. — Но оставим прошлое! Скажите лучше, можете ли вы ответить мне совершенно искренне и честно на мой вопрос?
— О да, спрашивайте! — согласилась графиня.
— Любите ли вы свою дочь как настоящая мать? Можете ли вы принять участие в ее судьбе и в состоянии ли что-нибудь сделать для ее блага?
— Если бы вы знали, сколько мне пришлось пережить и перестрадать из-за моего ребенка, вы избавили бы меня от этого вопроса! — ответила Кэт. — Я готова всем пожертвовать для Филли, но думаю, что при нынешнем моем положении она не нуждается в моей помощи.
— Вы ошибаетесь! Ваша дочь очень нуждается в помощи и защите!… Знайте же: она действительно обвенчана с графом Лейстером, у меня имеется в руках доказательство этого. Но, по-видимому, у графа Лейстера имеются серьезные причины для того, чтобы отрицать свой брак, а при характере графа подобное обстоятельство может грозить большой опасностью для Филли. Ввиду этого нам необходимо защитить ее и прежде всего, конечно, отыскать ее.
— А вы не знаете, где она? — спросила Кэт.
— Я знаю, что Лейстер спрятал ее где-то, но где именно, я не могу определенно сказать. Может быть, вы могли бы разузнать это?
— Каким образом?
— Поезжайте к лорду Лейстеру, назовите себя и потребуйте свидания с дочерью. Я не думаю, чтобы при существующих обстоятельствах он уклонился от исполнения вашего требования. Во всяком случае постарайтесь выведать у него, где находится ваша дочь. Это главное, что мне нужно.
Графиня была очень встревожена и испугана советом Брая.
— Это очень тяжелая задача! — произнесла она наконец.
— Тем не менее она должна быть исполнена! — решительно заявил Брай.
Хорошо, я попробую!
— Но это необходимо сделать сегодня же, сию минуту! — настаивал Брай. — Вы поезжайте, а я подожду вас здесь. Только ни слова о том, что я в Лондоне и что вы вообще знаете что-нибудь обо мне. Если же у вас явится желание предать меня, то берегитесь, Кэт Блоуэр!… Подумайте о своем будущем!
Графиня поспешила одеться и направилась во дворец графа Лейстера.
Брай подождал, пока Кэт уйдет из дома, и скрылся. Хотя он был почти уверен, что графиня не выдаст его, тем не менее он был слишком осторожен для того, чтобы вполне положиться на ее слово. Он решил издали следить за тем, что произойдет дальше.
II
Лорд Лейстер был очень поражен, когда ему доложили о прибытии графини Гертфорд. Первым его побуждением было отказать в приеме, но, вспомнив, что графиня была заклятым врагом человека, наиболее неприятного для него в данный момент, он подумал, что может приобрести в лице графини союзника, и потому решил быть с ней любезным.
— Чем могу служить вам, миледи? — спросил он, подвигая кресло своей гостье.
— Я не осмелилась бы беспокоить вас, — начала графиня, — если бы не была убеждена, что мы с вами в родстве.
Это вступление очень встревожило Лейстера, но он быстро овладел собой и не выказал ни малейшего смущения.
— Я не вполне понимаю вас, может быть, вы потрудитесь объяснить мне ваши слова? — обратился он к графине.
— Говорят, что вы женились на моей дочери, ваша светлость! — пояснила Кэт.
— Право, миледи, говорят вообще так много вздора, что никаким слухам нельзя придавать значение. Я защитил Филли от преследования некоторых лиц, вот и все!
— Странно, а между тем я узнала об этом из самого достоверного источника!
— Я понимаю, откуда идут эти слухи, — спокойно заметил Лейстер. — Их распространяют враги Филли и мои. Убедившись, что они не могут захватить своей властью молодую девушку, они решили скомпрометировать меня и заставить таким образом отказаться от защиты этого несчастного существа. Конечно, они ни силой, ни хитростью не добьются своей цели.
После разговора с Браем графине нетрудно было убедиться, что Лейстер играет комедию, желая обмануть ее. Однако она сделала вид, будто вполне поверила его словам.
— Огорченная и встревоженная мать благодарит вас за вашу доброту к бедной девушке, — проговорила она. — Надо мной и моей дочерью тяготеет злой рок. Может быть, ее преследуют те же люди, которые причинили зло мне и вам?
— Кажется, что так! — улыбаясь, ответил Лейстер. — Но, к счастью, я еще в состоянии защитить от каких бы то ни было врагов как Филли, так и ее мать.
— Я именно и хотела просить вас об этом, — скромно произнесла графиня. — Могу ли я рассчитывать, что мне удастся повидаться с дочерью?
— Конечно, миледи! — уверенно ответил Лейстер.
— Где же находится теперь моя Филли?
— Она будет скоро… — начал было Лейстер и вдруг остановился.
Он хотел было сказать, что Филли скоро будет в Лондоне и тогда графиня может повидаться с ней, но вовремя вспомнил, что это вряд ли будет в его интересах. Свидание матери с дочерью только тогда не принесло бы ему вреда, если бы у него было время предупредить Филли и научить ее, как говорить с матерью. Но ему собственно незачем было скрывать, что Филли находится в Ратгоф-Кастле. Все равно туда должен был скоро приехать Ралейг в сопровождении Кингтона, а слуга несомненно сумеет заранее подготовить Филли к встрече с матерью должным образом.
— Или вы хотите поехать к своей дочери? — спросил Лейстер. — Но это очень далеко, миледи!
— Для страдающей матери самая длинная и трудная дорога нипочем.
— В таком случае я не стану препятствовать вашему свиданию, — сказал Лейстер, — и с удовольствием дам вам письмо к своему управляющему для свободного пропуска.
Графиня поблагодарила, а Лейстер написал приказ, чтобы, при соблюдении известных условий, графиня Гертфорд была допущена к своей дочери.
— Филли находится в замке Ратгоф-Кастл, — сказал Лейстер, подавая графине письмо, — это на границе Шотландии.
Взяв бумагу и горячо поблагодарив лорда, графиня Гертфорд отправилась домой.
Брай поджидал возвращения Кэт неподалеку от ее дома. Он не последовал за ней тотчас же, присматриваясь, нет ли чего-нибудь подозрительного, и, убедившись в безопасности, решился наконец пойти к ней.
— Слава Богу, что вы пришли! — обрадовалась Кэт, увидев Брая. — Я не могла понять ваше внезапное исчезновение и уже начала беспокоиться.
— Я принял меры предосторожности против вас, графиня, — холодно ответил Брай. — Скажите, узнали вы что-нибудь?
Кэт рассказала все то, что говорил ей Лейстер, и показала письмо, адресованное управляющему замка Раттоф-Кастл.
Брай слушал графиню с мрачным видом.
— Прочтите это, — подал он ей брачное свидетельство, полученное им от Пельдрама.
— Значит, они все-таки обвенчаны! — расстроилась Кэт, возвращая свидетельство Браю.
— Вот видите, миледи, с каким негодяем нам приходится иметь дело!… Я убежден, что Филли уже нет в указанном месте, но так как нет и другого пути, чтобы отыскать ее, то нужно ехать в Ратгоф-Кастл.
— Я хочу сопровождать вас, — сказала графиня. — Не препятствуйте мне, пожалуйста!… Без меня вам труднее будет проникнуть в замок. Сколько слуг нам нужно взять с собой? Я сейчас сделаю нужные распоряжения!
— Я думаю, достаточно будет и одного, — ответил Брай.
Через два часа все было готово к отъезду, графиня и Брай, в сопровождении лишь одного слуги, выехали из ворот Лондона и направились на север.
Брай предупредил свою спутницу, что ехать им придется, почти не отдыхая, но графиня согласилась даже на такие тяжелые условия. Они ехали до тех пор, пока измученные лошади уже начали спотыкаться от усталости, и лишь тогда остановились в какой-то маленькой деревушке, где провели ночь в жалкой харчевне. Так в сравнительно короткий промежуток времени путешественники добрались до Ратгоф-Кастла.
III
Управляющим замка был в то время некто Джонстон. Он принадлежал к числу людей — между прочим очень, распространенных тогда в Шотландии, — которые не делали большой разницы между своим и чужим и больше всего поклонялись деньгам. Холопская душа Кингтона, переполненная в то время корыстолюбием и сознанием своей силы, была чужда какого-нибудь благородства. Он проникся большим уважением к собственному уму и наблюдательности и потому так же ошибся в характере Джонстона, как и в Пельдраме.
Джонстон с иронической улыбкой смотрел на Лейстера и Кингтона, когда они уезжали. Запоминая те инструкции, которые были даны ему, он подумал, что при известных условиях Ратгоф-Кастл может быть так же недоступен и для самого владельца замка, как и для посторонних. Для хитрого Джонстона сразу стало ясно, что намерения относительно вверенных ему женщин у господина были одни, а у его слуги, Кингтона, совершенно другие.
Филли и Тони чувствовали себя очень неуютно в старом, мрачном замке. Как только они остались одни, Тони потеряла все свое мужество и разразилась рыданиями. Филли держалась бодрее, но тоже не могла отделаться от какого-то тревожного состояния, тем не менее она старалась успокоить Тони.
Вскоре появился Джонстон. Странные взгляды, которые он бросал на своих пленниц, не могли внушить им к нему большого доверия.
На другое утро Тони и Филли были в несколько лучшем расположении духа. При ярком солнечном освещении замок Ратгоф-Кастл казался много приветливее, чем в сумерках. Джонстон был чрезвычайно внимателен к дамам, и потому они уже с меньшим недоверием смотрели на него.
Потянулся ряд скучных, однообразных дней для Филли и ее спутницы. Обе они все еще надеялись, что Ламберт приедет, и с нетерпением ожидали его появления. Иногда они совершали небольшие прогулки верхом, и Филли пользовалась ими, чтобы ознакомиться с окружающей местностью. Она убедилась, что, если ей когда-нибудь вздумается покинуть замок, это нетрудно будет сделать, тем более, что Джонстон часто в течение нескольких часов отсутствовал, охотясь за дичью, и в это время охрана замка была слабой.
Филли продолжала думать, что все строгие меры, принятые ее супругом, вызваны необходимостью — он должен был защитить ее от преследований своих бывших друзей, а потому молодая женщина негодовала на Сэррея и Брая.
Тони иногда спрашивала Джонстона о своем отце, но на это управляющий замка всегда отвечал, что ему ничего на этот счет неизвестно. Эти расспросы привели к тому, что Джонстон решил довериться ей. И однажды, увидев Тони на кухне, заговорил с ней по-дружески.
— Мисс Тони, есть ли у вас время и желание искренне ответить мне на вопрос, которой я позволю себе предложить вам?
Молодая девушка бросила на него тревожный взгляд. Это предисловие было так необыкновенно, что Тони боялась, как бы он не сказал ей чего-нибудь такого, что могло бы оскорбить ее девическое чувство.
Шотландец, по-видимому, понял, что происходило в душе девушки, и поспешил успокоить Тони.
— Не бойтесь меня! Я никогда не позволю себе оскорбить ни вас, ни вашу госпожу, вы можете смело положиться на меня. Скажите только, действительно ли ваша госпожа нема и законная ли она супруга лорда Лейстера?
— Первое не требует доказательств, — недовольным тоном ответила молодая девушка, — а что касается второго, то я была свидетельницей при венчании графа с моей госпожой.
— Не сердитесь на меня, мисс Тони, за мой вопрос, — извинился Джонстон. — Мне кажется, что я уже видел когда-то графиню Лейстер, но при совершенно других обстоятельствах. Скажите, ваша госпожа была когда-нибудь при дворе шотландской королевы?
— Конечно, сэр! — подтвердила Тони.
— Да, да, тогда все понятно, — пробормотал Джонстон.
— Не могу скрыть от вас, что супруг графини — величайший мошенник, точно так же, как и его доверенный слуга Кингтон. Если я исполню то, что они от меня требуют, я буду таким же негодяем, как и они оба.
— О чем вы говорите? — испуганно спросила Тони.
— Сэр Кингтон поручил мне отделаться во что бы то ни стало от графини, задушить ее, убить, — словом, стереть с лица земли! Не думаю, чтобы Кингтон решился отдать такой приказ без ведома самого графа.
Тони громко вскрикнула от ужаса.
— Не пугайтесь, у меня нет ни малейшего желания исполнить этот приказ, — продолжал Джонстон. — Хотя я обязан Кингстону своим пребыванием здесь, но нахожу, что плата, которой он требует от меня за это, слишком велика. Я очень жалею леди Лейстер и, может быть, в состоянии буду оказать ей услугу, если она согласится принять ее.
— Она будет очень благодарна вам, — ответила Тони.
— Тогда передайте ей мои слова. Повторяю еще раз, что лорд Лейстер — большой мошенник, точно так же, как и его слуга. Если не сейчас, то по прошествии некоторого времени леди умрет насильственной смертью. У Лейстера есть причины желать ее гибели, — закончил Джонстон.
Тони поспешила к своей госпоже и сообщила ей ужасное известие. Филли сначала испугалась, затем начала сомневаться и в заключение решила, что слова Джонстона — чистейшая ложь и клевета. Тем не менее Тони склонила ее позвать управляющего замком и лично расспросить его.
Джонстон повторил то же, что сказал раньше, и привел некоторые доказательства, подтверждавшие его слова. Филли не могла не признать их основательности.
Молодая женщина письменно поручила Тони спросить у Джонстона, что он посоветует ей делать.
— Прежде всего позвольте узнать, известно ли вам то, что происходит теперь в Шотландии? — спросил Джонстон.
Филли отрицательно покачала головой.
Тогда Джонстон рассказал ей о всех событиях, бывших в Шотландии с того времени, как Филли была увезена, и до заключения королевы Марии Стюарт в Лохлевине.
Филли внимательно слушала Джонстона, и слезы невольно покатились по ее щекам, так как она была очень предана несчастной королеве. Но когда Джонстон окончил свой рассказ, она перестала плакать и ее опечаленное лицо приняло решительное выражение. Она не сомневалась, что Джонстон принадлежит к числу приверженцев королевы, и поэтому написала ему, что Мария Стюарт должна быть освобождена.
— Совершенно верно! Но как это сделать? — спросил Джонстон.
«Я хочу поехать к королеве!» — написалаФилли.
— Я об этом уже думал, — ответил Джонстон. — Теперь я могу ответить на ваш вопрос, что вам посоветовать относительно вашей личной безопасности. Видите ли, этот замок крепок, но он недолго будет недоступен для врагов лорда. Вам грозит опасность; пока никто посторонний не может проникнуть в Ратгоф-Кастл, поэтому вам и следует немедленно удалиться отсюда. Время покажет, основательны ли были мои опасения или нет. Если я ошибся, то вы можете в любой момент вернуться обратно. В Шотландии же вы будете в полной безопасности.
«Я подумаю о вашем совете!» — написала Филли.
Джонстон удалился, а Филли и Тони начали обдумывать, что им следует предпринять в самом ближайшем будущем. Наконец Филли решила покинуть Ратгоф-Кастл и отправиться к Марии Стюарт на помощь. Она велела позвать Джонстона и поручила ему сделать все нужные приготовления для путешествия. Дело осложнялось тем, что ни у леди Лейстер, ни у Тони не было денег. Но Филли собрала все свои драгоценности и передала их Джонстону, который был очень опытным лицом в финансовых предприятиях. Он отлучился ненадолго из замка и на следующий день вернулся с деньгами и всем нужным для путешествия.
Филли написала до отъезда письмо мужу, в котором сообщила, что трагическое положение несчастной королевы Марии заставляет ее временно покинуть Ратгоф-Кастл и поехать в Шотландию, и ни одним словом не обмолвилась о своем недоверии к нему.
Джонстон приказал оставшимся людям говорить всем, кто будет спрашивать об обитательницах Ратгоф-Кастла, что они уехали в Шотландию.
В одно прекрасное утро старый замок снова опустел.
IV
Приблизившись к Ратгоф-Кастлу, Брай счел нужным навести сначала предварительные справки, а затем лишь отправиться в замок. Вскоре он узнал, что дамы, жившие в замке, уехали на север. Но недоверчивый шотландец не допускал, что этот отъезд произошел по доброй воле Филли, и подозревал какие-то новые козни против нее. Он отправился в замок вместе с графиней Гертфорд, и ему пришлось убедиться, что Филли действительно покинула замок по собственному желанию.
— Что же теперь делать? — спросил он Кэт.
— Ведь мы знаем, что Филли уехала в Шотландию, так последуем за ней.
— Да, это верно, — согласился. Брай. — У меня вообще нет цели, кроме желания найти Филли. Вы можете воспользоваться случаем и повидаться в Шотландии со своим супругом.
— Я никогда больше не встречусь с ним! — сказала Кэт.
— Может быть, вам следовало бы еще посчитаться с ним! — насмешливо заметил Брай. — Впрочем, это — ваше дело! Итак, едем.
Графиня последовала за шотландцем, и они двинулись дальше, на север.
В тот же самый день, к вечеру, в Ратгоф-Кастле показалась другая кавалькада. Это были Вальтер Ралейг со своими слугами и лорд Сэррей.
Вместо управляющего замком приезжих встретила какая-то старуха. — Что вам угодно будет приказать?
— Это — Ратгоф-Кастл, поместье лорда Лейстера? — спросил Сэррей.
— Точно так, милорд! — подтвердила старуха.
— Живет здесь в замке одна дама… супруга лорда Лейстера? — продолжал свой допрос Сэррей.
— Да, она жила здесь, но теперь уехала в Шотландию к королеве Марии, а управляющий замком поехал провожать ее… Миледи покинула нас четыре дня тому назад и оставила письмо для своего супруга. Вот все, что мне известно, — закончила старуха.
По-видимому, она не была расположена оказывать гостеприимство такому количеству приезжих, но люди, утомленные долгой ездой, сами позаботились о себе и своих лошадях, они расположились во дворе замка, и старухе волей-неволей пришлось провести господ в дом.
— Вот непредвиденный случай! — сетовал Сэррей, обращаясь к своему спутнику. — Я никак не ожидал, что лорд Лейстер поступит так легкомысленно.
— Я думаю, что он не виноват в отъезде своей супруги, — возразил Вальтер Ралейг. — Если только правда, что она уехала в Шотландию.
— Что же вы намерены теперь делать? — спросил Сэррей.
— Я допрошу здешних слуг, обыщу замок, возьму письмо, которое леди оставила для Лейстера. А затем мы вернемся обратно. Я выполню, таким образом, данное мне поручение.
Сэррей промолчал.
При расспросе все служащие замка показали одно и то же. Они сообщили, в какой день Филли приехала в Ратгоф — Кастл и когда покинула его.
— А никто не приезжал к миледи, пока она была в замке? — спросил Сэррей.
— После отъезда графини сюда приезжали господин с дамой и очень удивились, узнав, что миледи уже нет больше в Ратгоф-Кастле! — ответила старуха.
По описанию посетителей Сэррей догадался, что мужчина был не кто иной как Брай.
— А куда поехали эти господа? — снова спросил он.
— На север, по направлению к Шотландии! — ответили слуги.
Обыск в замке тоже не дал никаких положительных результатов.
На другой день Ралейг повторил свое желание вернуться в Лондон, Сэррей должен был бы сопровождать его, но объявил, что желает раньше найти Филли. Оба долго спорили по этому поводу и наконец пришли к соглашению, Сэррей дал честное слово, что немедленно вернется в Лондон, как только отыщет Филли или если потеряет всякую надежду найти ее. Ралейг поверил ему на слово. Они простились, и Ралейг со своими людьми направился в Лондон, а Сэррей в сопровождении лишь одного слуги поехал в Шотландию.

Глава тридцать пятая
КОНЕЦ БОСВЕЛА

I
 Как уже было сказано раньше, графиня Гертфорд не имела никакого желания встречаться со своим мужем. Тем не менее ей не удалось избежать свидания с ним.
На другой день по отъезде из Ратгоф-Кастла, к вечеру Кэт и ее спутника застала в дороге сильнейшая непогода. Вблизи не было никакого жилья, где можно было бы укрыться.
Брай, прекрасно знавший эту местность, вдруг вспомнил, что невдалеке располагалось поместье тех Дугласов, которые приютили у себя лорда Бэклея.
— Нам придется просить гостеприимства у Дугласов, — обратился он к графине, — хотя должен предупредить вас, что если Бэклей не умер, то мы наверное увидим его там.
— Неужели нет никакого другого места?
— К сожалению, нет! — ответил Брай.
— В таком случае нечего делать! — с глубоким вздохом согласилась графиня.
С трудом борясь с ветром, они добрались до замка Дугласа и попросили разрешения войти в дом.
Дуглас вышел в зал, чтобы встретить гостей, и был поражен, увидев Вальтера Брая.
— Я, кажется, знаком с вами, сэр, — сказал он. — Милости просим, господа!
Леди Гертфорд молча поклонилась.
— Мы очень благодарны вам, милорд, — проговорил Брай. — Конечно, вы знаете меня, мое имя — Вальтер Брай. Мне уже приходилось раньше просить вашего гостеприимства.
— Да, я вспомнил, — ответил Дуглас, протягивая руку Вальтеру, — пожалуйте, мой дом к вашим услугам.
Хозяин замка позвал слуг, которые провели гостей в отведенные для них комнаты.
— Когда немного отдохнете от дороги, прошу вас пожаловать сюда и поужинать вместе с нами! — радушно пригласил приезжих Дуглас.
Вероятно, Брай умышленно не назвал имя своей спутницы.
Когда путешественники привели в порядок свои туалеты, они спустились в гостиную, где уже собрались все члены семьи Дугласа, а также и муж Кэт, лорд Бэклей.
Очевидно, хозяин дома сообщил фамилию гостя, так как старый грешник, греясь у камина, с насмешливым любопытством поглядывал на дверь. Гости вошли, и Дуглас с семьей поднялись им навстречу.
Вдруг раздался громкий дикий вопль. Лорд Бэклей вскочил с кресла, и безграничный ужас выразился на его лице.
— Привидение, спасите! — вскрикнул он и, как сноп, повалился на землю.
Это произвело большой переполох в семье Дугласа. Все бросились приводить в чувство Бэклея, но ничего не помогло, так как это был не обморок, а удар.
— Я не думал, что он так боится вас, — обратился Дуглас к Вальтеру.
— Не я напугал его, а вот эта дама, — уточнил Вальтер.
— Вы видите перед собой графиню Гертфорд, супругу лорда Бэклея.
— Вам не следовало так поступать, — заметил Дуглас, наморщив лоб, — можно было потребовать объяснений от больного, не прибегая к таким мерам.
— Мы и не желали вступать с ним в объяснения, — ответил Брай, — наоборот, графиня ни за что не хотела видеть своего мужа. Очевидно, его убила нечистая совесть.
— Пожалуй, это верно, — пробормотал Дуглас. — Унесите отсюда покойника, — приказал он слугам. — Мы во всяком случае освободились от тяжелой обузы.
Леди Гертфорд оставалась холодно-равнодушной во время всей сцены, и это, казалось, никого не удивило.
Разговор за ужином не клеился, все рано разошлись по своим комнатам.
Ради приличия графиня Гертфорд осталась в замке до дня похорон мужа, но, как только предали земле тело человека, сделавшего так много зла Кэт и Вальтеру Браю, путешественники двинулись дальше по берегу озера Лохлевин, где они надеялись найти свою дочь.
Как уже было сказано раньше, графиня Гертфорд не имела никакого желания встречаться со своим мужем. Тем не менее ей не удалось избежать свидания с ним.
На другой день по отъезде из Ратгоф-Кастла, к вечеру Кэт и ее спутника застала в дороге сильнейшая непогода. Вблизи не было никакого жилья, где можно было бы укрыться.
Брай, прекрасно знавший эту местность, вдруг вспомнил, что невдалеке располагалось поместье тех Дугласов, которые приютили у себя лорда Бэклея.
— Нам придется просить гостеприимства у Дугласов, — обратился он к графине, — хотя должен предупредить вас, что если Бэклей не умер, то мы наверное увидим его там.
— Неужели нет никакого другого места?
— К сожалению, нет! — ответил Брай.
— В таком случае нечего делать! — с глубоким вздохом согласилась графиня.
С трудом борясь с ветром, они добрались до замка Дугласа и попросили разрешения войти в дом.
Дуглас вышел в зал, чтобы встретить гостей, и был поражен, увидев Вальтера Брая.
— Я, кажется, знаком с вами, сэр, — сказал он. — Милости просим, господа!
Леди Гертфорд молча поклонилась.
— Мы очень благодарны вам, милорд, — проговорил Брай. — Конечно, вы знаете меня, мое имя — Вальтер Брай. Мне уже приходилось раньше просить вашего гостеприимства.
— Да, я вспомнил, — ответил Дуглас, протягивая руку Вальтеру, — пожалуйте, мой дом к вашим услугам.
Хозяин замка позвал слуг, которые провели гостей в отведенные для них комнаты.
— Когда немного отдохнете от дороги, прошу вас пожаловать сюда и поужинать вместе с нами! — радушно пригласил приезжих Дуглас.
Вероятно, Брай умышленно не назвал имя своей спутницы.
Когда путешественники привели в порядок свои туалеты, они спустились в гостиную, где уже собрались все члены семьи Дугласа, а также и муж Кэт, лорд Бэклей.
Очевидно, хозяин дома сообщил фамилию гостя, так как старый грешник, греясь у камина, с насмешливым любопытством поглядывал на дверь. Гости вошли, и Дуглас с семьей поднялись им навстречу.
Вдруг раздался громкий дикий вопль. Лорд Бэклей вскочил с кресла, и безграничный ужас выразился на его лице.
— Привидение, спасите! — вскрикнул он и, как сноп, повалился на землю.
Это произвело большой переполох в семье Дугласа. Все бросились приводить в чувство Бэклея, но ничего не помогло, так как это был не обморок, а удар.
— Я не думал, что он так боится вас, — обратился Дуглас к Вальтеру.
— Не я напугал его, а вот эта дама, — уточнил Вальтер.
— Вы видите перед собой графиню Гертфорд, супругу лорда Бэклея.
— Вам не следовало так поступать, — заметил Дуглас, наморщив лоб, — можно было потребовать объяснений от больного, не прибегая к таким мерам.
— Мы и не желали вступать с ним в объяснения, — ответил Брай, — наоборот, графиня ни за что не хотела видеть своего мужа. Очевидно, его убила нечистая совесть.
— Пожалуй, это верно, — пробормотал Дуглас. — Унесите отсюда покойника, — приказал он слугам. — Мы во всяком случае освободились от тяжелой обузы.
Леди Гертфорд оставалась холодно-равнодушной во время всей сцены, и это, казалось, никого не удивило.
Разговор за ужином не клеился, все рано разошлись по своим комнатам.
Ради приличия графиня Гертфорд осталась в замке до дня похорон мужа, но, как только предали земле тело человека, сделавшего так много зла Кэт и Вальтеру Браю, путешественники двинулись дальше по берегу озера Лохлевин, где они надеялись найти свою дочь.
II
Филли приехала в Лохлевин как раз в то время, когда не удался побег королевы. Случайно она поселилась в Кин росе и там узнала обо всем происшедшем.
Переезд Филли и Тони был совершен вполне благополучно. Обе они переоделись в мужские костюмы, которые приобрел для них Джонстон, от него же Филли узнала о неудачной попытке Георга Дугласа. По поручению графини Лейстер Джонстон познакомился поближе с молодым Дугласом и передал ему желание Филли поступить в качестве пажа к кому-нибудь из лиц, имеющих доступ в Лохлевинский замок. Георг Дуглас пришел в восторг от этой мысли и обещал исполнить желание молодой женщины.
Тем временем в Кинрос приехала графиня Гертфорд с Вальтером Браем. Она поселилась в больших аппартаментах и оставила при себе Брая в виде шталмейстера. Вальтер тщетно разыскивал Филли и уже начал приходить к заключению, что граф Лейстер или убил, или куда-нибудь далеко запрятал свою молодую жену.
Однажды Брай шел, глубоко задумавшись, по берегу озера и вдруг услышал, как чей-то знакомый голос назвал его по имени. Он быстро поднял голову и увидел перед собой графа Сэррея.
— Я очень рад, что встретил вас, — обрадовался граф. — Но прежде всего должен сделать вам выговор. Своим бегством вы чрезвычайно затруднили то дело, за которое мы с вами так горячо взялись.
— Я тоже чрезвычайно рад видеть вас, милорд, — ответил Брай, — но совершенно не понимаю, в чем вы меня обвиняете. Будьте так добры, объясните мне, что произошло со времени нашего последнего свидания.
— Пойдемте со мной, — предложил Сэррей, — и у меня дома поговорим.
Брай с большим вниманием слушал своего друга и, когда тот кончил рассказ, показал ему свидетельство о браке Филли с Лейстером.
— Ах, если бы нам только удалось найти теперь Филли, — облегченно вздохнул Сэррей.
— Да, если бы удалось, — грустно повторил Брай. — А вы не сделаете визита графине Гертфорд? — спросил он затем.
— Пожалуй, — ответил Сэррей после некоторого раздумья, — я пойду с вами, хотя должен сознаться, что мне было бы приятнее, если бы она не приезжала сюда.
Приятели собирались уже уходить, когда Сэррею доложили, что его желает видеть какой-то паж. Вошедший был молод и красив. Взглянув внимательно на обоих мужчин, он уверенно обратился к Сэррею, точно раньше знал его.
— Некто, желающий сделать вам сюрприз, просит вас последовать за мной.
— Сегодня у меня нет времени, — ответил граф, — приходи завтра, тогда я пойду с тобой.
Паж поклонился и молча вышел, а Сэррей вместе с Браем отправились к графине Гертфорд. Визит продолжался недолго, и через час Сэррей вернулся к себе. Тут его ожидал прежний паж, который объяснил ему, что пришел снова по поручению Филли, желающей видеть графа. Сэррей узнал, что мнимый паж — не кто иной, как Тони Ламберт, и поспешил пойти с ней к молодой графине Лейстер.
Это свидание вполне убедило Филли, что ее муж — недостойный человек и без зазрения совести принесет ее в жертву своим честолюбивым планам. Тем не менее она отказалась ехать в Лондон и выступить обвинительницей Лейстера. Она написала, что ей ничего не нужно от этого человека и она не желает больше никогда в жизни встречаться с ним.
Сэррей и не настаивал на ее поездке в Лондон. Ему, главное, нужно было знать, что Филли находится в безопасности.
Когда он сообщил молодой женщине, что ее мать и Брай приехали в Кинрос, она сначала не хотела видеть графиню Гертфорд, но затем склонилась на уговоры Сэррея и пригласила к себе графиню вместе с Браем.
Филли не могла любить свою мать, а Вальтер Брай внушал ей какой-то страх, поэтому первые минуты их встречи прошли несколько натянуто, но Сэррею удалось очень скоро сблизить между собой маленькое общество, и разговор сделался непринужденным.
Заговорили, конечно, о королеве шотландской, и все согласились, что необходимо содействовать ее освобождению. Джонстон сообщил об обещании Георга Дугласа, которого Сэррей видел в Дэмбертоне среди приверженцев Марии Стюарт, дать возможность Филли проникнуть в Лохлевинский замок, и это именно он придумал, чтобы она явилась к старику Дугласу в виде негритенка.
III
Когда Мария переехала через Лохлевинское озеро и направилась в Гамильтон, за ней последовали и ее друзья. В Гамильтоне удалось поставить на ноги часть войска, пожелавшего сражаться за шотландский трон в пользу Марии Стюарт. Судьба королевы вошла в новую стадию, и, может быть, недоставало лишь немного, чтобы дело приняло благоприятный оборот для несчастной Марии Стюарт.
Большая часть дворянства, свыше четырех тысяч человек, перешла на сторону королевы, по-видимому, Мюррею не особенно доверяли, боялись его жестокости. Но в лагере королевы тоже не было полного согласия. Ее приверженцы собирались требовать для нее трона лишь при соблюдении определенных условий, и все это произошло из-за Босвела. Как раз в то время, когда судьба Марии Стюарт начала принимать благоприятный оборот, в Шотландии узнали об ирландских похождениях Босвела, и ни у кого не было желания видеть рядом с шотландской королевой какого-то искателя приключений. Поэтому Марии Стюарт было поставлено условие окончательно разойтись с Босвелом и выйти замуж за другого. Королева не соглашалась на это требование, вследствие чего между ее приверженцами возникали бесконечные споры и неудовольствия. Между тем, главный предмет раздора в лагере королевы, то есть злополучный Босвел, после своего похождения в Белфасте был захвачен в плен датчанами вместе со всеми своими судами и людьми.
Однажды по северной части шотландского полуострова, принадлежавшего Дании и представлявшего собой ровное песчаное место, лишенное всякой растительности, ехали два всадника. Несмотря на то, что лето было в полном разгаре, нигде не видно было ни одного цветка, не слышно было ни голосов птиц, ни жужжания насекомых. Палящая жара гнетуще действовала на изнемогающих от жажды всадников и их лошадей.
— Я думаю, что мы едем по ложному следу, — прервал наконец долгое молчание слуга. — Если адмирал узнает об этом, то не похвалит нас.
— Мой отец всегда доволен тем, что я делаю!
— Вам-то он ничего не скажет, капитан, — заметил слуга, а мне так достанется, что и жить пропадет охота, если он узнает, куда мы едем.
— Не беспокойся, старина, никто ничего не узнает, а если что — я возьму вину на себя. Однако наши лошади погибают от жары. Выкупаем их в море.
Оба всадника подъехали к воде. Вдруг слуга крикнул:
— Господи милосердный, там плывет какое-то тело!
Капитан глянул в ту сторону, куда слуга указывал рукой, и действительно увидел плывущий труп.
Молодой кинулся к нему и, собрав все силы, вытащил мертвое тело на берег.
Утопленник был совершенно раздет, и на его шее резко виднелась синяя полоса.
— Великий Боже, — вдруг вскрикнул слуга, — да ведь это ваш дядя Мартин. Его задушили, а потом бросили в воду.
— Возьми тело на свою лошадь и поезжай в Лоймиг, — приказал капитан. — Жди там, пока адмирал не вернется, и расскажи ему, где мы нашли труп.
Слуга повиновался и медленно поехал назад, а капитан, несмотря на томительную жару, быстро помчался вперед.
Прискакав к гавани, капитан передал лошадь стоявшему у пристани мальчику и, сев в лодку, направился к стоявшему на якоре фрегату, на котором он был командиром.
Молодой капитан был сыном датского адмирала Торденскильда и племянником его брата, тоже адмирала, которого очевидно убили и бросили в море пираты.
Капитан Торденскильд решил догнать морских разбойников, которые не могли уплыть далеко, и отомстить им за смерть своего дяди. Ему действительно скоро удалось догнать подозрительное судно, которое оказалось фрегатом Босвела.
Накануне у Босвела действительно произошла стычка с Мартином Торденскильдом, бывшим командиром сторожевого корабля. Хотя тот и погиб, но Босвелу пришлось потерять много людей, и теперь он не мог устоять против нового нападения. Капитан Торденскильд взял в плен Босвела вместе со всеми его людьми и привез его в Копенгаген, где над ним назначен был суд. Дальнейшая судьба злополучного супруга Марии Стюарт не вполне известна. Утверждают, что его приговорили к смертной казни, а затем помиловали, и в тюрьме он сошел с ума и умер через несколько лет всеми забытый.
Несогласие между Марией Стюарт и большей частью ее приверженцев не могло дать хороших для нее результатов. Королева во главе своего войска хотела двинуться в Эдинбург, но регент, собравший в течение десяти дней значительную армию, объявил Марии Стюарт, что в Шотландии имеется лишь один законный повелитель — ее сын король Иаков Шестой.
Мария Стюарт вынуждена была вернуться в Дэмбертон, где командиром был лорд Флеминг, и должна была оказаться там в осаде. Но шотландские лорды, приверженцы Марии Стюарт, и слышать не хотели об оборонительном положении, они настаивали на наступлении и двинулись вперед, навстречу Мюррею.
13 марта 1568 года состоялась битва, после которой у Марии Стюарт не осталось никакой надежды вернуть шотландский трон. Ее приверженцы сражались храбро, но были крайне неосторожны. Две тысячи человек попали в лощину и были совершенно уничтожены мушкетерами регента. Сражение длилось всего три-четыре часа и заставило уцелевшую часть людей королевы обратиться в бегство. Мюррей, увидев победу, приказал щадить жизнь побежденных и обращаться вежливо с пленными.
Окруженная небольшим количеством слуг, Мария Стюарт отправилась сначала на юг Шотландии и, достигнув бухты Солвэя, остановилась в нерешительности — повернуть ли ей во Францию или в Англию. Во Франции ее во всяком случае ожидал прием, но Англия была ближе. Мария Стюарт, усталая и измученная, склонялась бежать в Англию, хотя большинство ее свиты советовало предпочесть Францию. Лорд Геррьес бросился на колени перед королевой, умоляя ее не ездить в Англию. Он говорил ей о непостоянстве Елизаветы, ее ненависти к Стюартам, но его просьбы остались тщетны, и Мария послала именно его просить для нее разрешения вступить на английскую землю. Разрешение она получила, но, не дождавшись его и боясь попасть в руки врагов, в сопровождении лишь двадцати человек, выехала 16 мая в Кумберлэнд.
Из лиц, сопровождавших несчастную королеву, остались в Шотландии Джонстон, Брай, Филли, Тони и Георг Дуглас, в Англию же поехали Сэррей, графиня Гертфорд и сестры Сэйтон: Мария и Джэн.
Мюррей потребовал от Англии выдачи своей сестры, тогда Мария Стюарт написала письмо Елизавете, прося ее защиты.

Глава тридцать шестая
КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

I
 В период царствования королевы Елизаветы главнейшую в государстве роль играли Бэрлей и Лейстер, но невольно бросается в глаза, что лорд Сесил Бэрлей был настолько же великим государственным человеком, насколько Дэдлей — ничтожным. Но именно это-то соотношение и обусловливало собою прочность положения каждого из них. Если бы Бэрлей захотел, то он мог бы в любой момент устроить грандиозное падение фаворита королевы. Но если бы Лейстер пал, то Елизавета могла бы направить свои симпатии на другого, который оказался бы, может быть, далеко не таким ничтожным, как Дэдлей, и стал бы оспаривать влияние и власть первого министра. Возможно, что тогда Елизавета даже склонилась бы к мысли о замужестве. Поэтому Бэрлею было выгоднее, чтобы около королевы находился льстивый и любезный, но совершенно ему не опасный Лейстер.
Когда Бэрлей получил первые донесения Вальтера Ралейга, сообщавшего о мерах, принятых им для расследования тайн, связанных с браком графа Лейстера, то он принял их более, чем хладнокровно. Он спокойно продолжал заниматься текущими делами и только покончив с ними, крикнул дежурного курьера и приказал ему немедленно отправиться к лорду Лейстеру, чтобы пригласить его для разговора о весьма важном деле.
Курьер прибыл к Лейстеру в такой ранний час, когда тот по привычке еще почивал, но инстинктивно почувствовал, что дело неладно, поэтому поспешил к премьер-министру.
Бэрлей имел привычку вести все свои дела с абсолютным спокойствием, поэтому не упустил ни одной из формальных тонкостей церемонии приема и только потом приступил к беседе.
— Милорд! — сухим голосом начал он. — Я получил рапорт сэра Вальтера Ралейга, тем не менее считаю нужным сначала поговорить с вами, прежде чем представлю этот рапорт на благоусмотрение ее величества.
Лейстер изменился в лице, но попытался казаться совершенно равнодушным.
— Это очень любезно с вашей стороны, милорд, — ответил он. — Надеюсь, что рапорт сэра Ралейга вполне подтвердил мои показания?
— Нет, этого я не могу сказать, наоборот, из рапорта совершенно ясно видно, что ваш Кинггон является еще гораздо более отъявленным негодяем, чем, быть может, даже вы это предполагаете, и это обстоятельство кажется единственным, которое говорит в вашу пользу.
Неожиданность подобного оборота дел вызвала Лейстера на страшную неосторожность.
— Неужели Кингтон выдал меня — спросил он.
— Прежде — да, — ответил Бэрлей. — Но теперь он выдал с головой только самого себя. Однако будьте любезны лично просмотреть все бумаги, а потом мы уже поговорим с вами.
Бэрлей занялся другим делом, а Лейстер погрузился в чтение поданных ему министром бумаг.
— Дело приняло такой оборот, которого я никак не ожидал! — сказал он наконец.
Бэрлей встал с кресла и, подойдя к нему, произнес:
— Это — естественное следствие доверия, оказываемого преступникам, милорд! Теперь будет очень трудно отвратить дурные последствия происшедшего.
— Да, да, конечно! Но я вижу, что вы полны участия ко мне и готовы оказать мне свою помощь…
— В этом вы, пожалуй, правы. Тем не менее, я руководствуюсь желанием избавить ее величество королеву от лишнего и очень глубокого огорчения… Таким образом, если я и готов помочь вам, то только ради нее…
— Ах, я отлично понимаю вас!… Разумеется, я даже и не смею рассчитывать на такую снисходительность, потому что слишком провинился перед ней… Но, несмотря на все это, поверьте мне, милорд, что если кто обманут во всем этом деле, так только я один!
— Я только что сказал то же самое, милорд.
— Так, значит сэр Брай овладел документом и бежал! — произнес Лейстер. — О, это — очень опасный человек. Для меня он опаснее даже лорда Сэррея!… Быть может, он уже в Лондоне? Или только направляется сюда?
— Возможно, если он имеет основание предполагать, что особа, которой он настойчиво интересуется, находится здесь.
— Так, так… Должно быть, это так, потому что и ее мать несколько дней тому назад явилась ко мне и потребовала у меня свидания с дочерью… Я разрешил…
Бэрлей улыбнулся и произнес:
— Станем с самого начала на правильную точку зрения. Раз мы говорим об этой даме, то для меня и вас она теперь должна быть совершенно посторонней личностью…
— Ну да… Я понимаю вас, милорд… Но не следовало ли нам арестовать графиню Гертфорд и сэра Брая? Быть может, они спелись теперь друг с другом?
— Это очень возможно! Но ваше предложение совершенно неприемлемо. В настоящее время нам остается только предоставить события их естественному ходу. Подождите, пока прибудут арестованные, тогда и видно будет, что нам предпринять. Да и вообще, пока сэр Ралейг вернется, у нас много времени, а мало ли что еще может случиться за это время? Пока вы будете следить за тем, чтобы никто из замешанных в это дело не мог пробраться к ее величеству королеве, и в этом будет состоять ваша специальная задача. Нужно позаботиться, чтобы к ней не проникло ни какое-либо известие, ни какое-либо лицо. Ну, а сделать это вам легче, чем кому бы то ни было!
— Это правда, — пробормотал Лейстер. — Милорд, примите уверения в моей неизменной готовности быть всегда к вашим услугам!
— Я рассчитываю на это, — холодно ответил Бэрлей.
С этим они расстались.
В период царствования королевы Елизаветы главнейшую в государстве роль играли Бэрлей и Лейстер, но невольно бросается в глаза, что лорд Сесил Бэрлей был настолько же великим государственным человеком, насколько Дэдлей — ничтожным. Но именно это-то соотношение и обусловливало собою прочность положения каждого из них. Если бы Бэрлей захотел, то он мог бы в любой момент устроить грандиозное падение фаворита королевы. Но если бы Лейстер пал, то Елизавета могла бы направить свои симпатии на другого, который оказался бы, может быть, далеко не таким ничтожным, как Дэдлей, и стал бы оспаривать влияние и власть первого министра. Возможно, что тогда Елизавета даже склонилась бы к мысли о замужестве. Поэтому Бэрлею было выгоднее, чтобы около королевы находился льстивый и любезный, но совершенно ему не опасный Лейстер.
Когда Бэрлей получил первые донесения Вальтера Ралейга, сообщавшего о мерах, принятых им для расследования тайн, связанных с браком графа Лейстера, то он принял их более, чем хладнокровно. Он спокойно продолжал заниматься текущими делами и только покончив с ними, крикнул дежурного курьера и приказал ему немедленно отправиться к лорду Лейстеру, чтобы пригласить его для разговора о весьма важном деле.
Курьер прибыл к Лейстеру в такой ранний час, когда тот по привычке еще почивал, но инстинктивно почувствовал, что дело неладно, поэтому поспешил к премьер-министру.
Бэрлей имел привычку вести все свои дела с абсолютным спокойствием, поэтому не упустил ни одной из формальных тонкостей церемонии приема и только потом приступил к беседе.
— Милорд! — сухим голосом начал он. — Я получил рапорт сэра Вальтера Ралейга, тем не менее считаю нужным сначала поговорить с вами, прежде чем представлю этот рапорт на благоусмотрение ее величества.
Лейстер изменился в лице, но попытался казаться совершенно равнодушным.
— Это очень любезно с вашей стороны, милорд, — ответил он. — Надеюсь, что рапорт сэра Ралейга вполне подтвердил мои показания?
— Нет, этого я не могу сказать, наоборот, из рапорта совершенно ясно видно, что ваш Кинггон является еще гораздо более отъявленным негодяем, чем, быть может, даже вы это предполагаете, и это обстоятельство кажется единственным, которое говорит в вашу пользу.
Неожиданность подобного оборота дел вызвала Лейстера на страшную неосторожность.
— Неужели Кингтон выдал меня — спросил он.
— Прежде — да, — ответил Бэрлей. — Но теперь он выдал с головой только самого себя. Однако будьте любезны лично просмотреть все бумаги, а потом мы уже поговорим с вами.
Бэрлей занялся другим делом, а Лейстер погрузился в чтение поданных ему министром бумаг.
— Дело приняло такой оборот, которого я никак не ожидал! — сказал он наконец.
Бэрлей встал с кресла и, подойдя к нему, произнес:
— Это — естественное следствие доверия, оказываемого преступникам, милорд! Теперь будет очень трудно отвратить дурные последствия происшедшего.
— Да, да, конечно! Но я вижу, что вы полны участия ко мне и готовы оказать мне свою помощь…
— В этом вы, пожалуй, правы. Тем не менее, я руководствуюсь желанием избавить ее величество королеву от лишнего и очень глубокого огорчения… Таким образом, если я и готов помочь вам, то только ради нее…
— Ах, я отлично понимаю вас!… Разумеется, я даже и не смею рассчитывать на такую снисходительность, потому что слишком провинился перед ней… Но, несмотря на все это, поверьте мне, милорд, что если кто обманут во всем этом деле, так только я один!
— Я только что сказал то же самое, милорд.
— Так, значит сэр Брай овладел документом и бежал! — произнес Лейстер. — О, это — очень опасный человек. Для меня он опаснее даже лорда Сэррея!… Быть может, он уже в Лондоне? Или только направляется сюда?
— Возможно, если он имеет основание предполагать, что особа, которой он настойчиво интересуется, находится здесь.
— Так, так… Должно быть, это так, потому что и ее мать несколько дней тому назад явилась ко мне и потребовала у меня свидания с дочерью… Я разрешил…
Бэрлей улыбнулся и произнес:
— Станем с самого начала на правильную точку зрения. Раз мы говорим об этой даме, то для меня и вас она теперь должна быть совершенно посторонней личностью…
— Ну да… Я понимаю вас, милорд… Но не следовало ли нам арестовать графиню Гертфорд и сэра Брая? Быть может, они спелись теперь друг с другом?
— Это очень возможно! Но ваше предложение совершенно неприемлемо. В настоящее время нам остается только предоставить события их естественному ходу. Подождите, пока прибудут арестованные, тогда и видно будет, что нам предпринять. Да и вообще, пока сэр Ралейг вернется, у нас много времени, а мало ли что еще может случиться за это время? Пока вы будете следить за тем, чтобы никто из замешанных в это дело не мог пробраться к ее величеству королеве, и в этом будет состоять ваша специальная задача. Нужно позаботиться, чтобы к ней не проникло ни какое-либо известие, ни какое-либо лицо. Ну, а сделать это вам легче, чем кому бы то ни было!
— Это правда, — пробормотал Лейстер. — Милорд, примите уверения в моей неизменной готовности быть всегда к вашим услугам!
— Я рассчитываю на это, — холодно ответил Бэрлей.
С этим они расстались.
II
С того времени, как предъявленное Лейстеру обвинение с особенной силой пробудило в королеве ревнивые сомнения, ее отношения к фавориту резко изменились. Она не допускала его дальше порога своих внутренних покоев и на каждом шагу показывала полное безразличие к нему. Но это касалось только их внутренней; интимной, скрытой от глаз придворных жизни, С внешней же стороны все как будто шло по-старому, и придворные не сомневались, что Лейстер находится в полной силе своего значения и влияния.
Весьма понятно, что подобное положение требовало от лорда двойной бдительности, и его шпионы были рассеяны по всем уголкам дворца. Однако это было отлично известно лорду Бэрлею, и потому-то он и сказал, что Дэдлею легче, чем кому бы то ни было, предупредить вторжение враждебных элементов. И на самом деле это было нетрудно сделать: без ведома Лейстера никто не мог быть допущен к королеве.
В скором времени трое арестованных Ралейгом в Кэнмор-Кастле были доставлены в Лондон и по приказанию Бэрлея были временно заключены в Тауэр.
Бэрлей немедленно известил Лейстера, что арестованные прибыли, и тот поспешил навестить канцлера. Они имели продолжительный разговор, и последующие действия Дэдлея явились результатом этого собеседования.
На третью ночь после прибытия Кингтона в Тауэр дверь его камеры открылась в непривычное время. Сначала появился тюремщик с фонарем, за ним вошел какой-то человек, укрытый длинным, широким плащом. Тем не менее Кингтон сразу догадался, кто этот человек.
— Оставьте нас, — сказал пришедший тюремщику, — и не возвращайтесь, пока я не кликну вас.
Тот поставил фонарь на пол и вышел из камеры.
— Мне приходится встретить вас в довольно-таки странном виде, — начал посетитель, — а это не говорит в пользу прославленного ума сэра Кингтона!
— Да, милорд! — согласился Кингтон.
— Не называйте меня так, это ни к чему.
— Хорошо!… Но ведь я сам был обманут и только благодаря этому все мои расчеты потерпели позорное крушение!
— А заодно вы решили обмануть и меня? Не могу не заметить вам, что вы выказали себя вдвойне негодяем!
— Я не заслужил этого от вас! Я имел самые лучшие намерения, и все, что было сделано мной, основывалось на старании направить всю историю к вашей пользе. Но — увы! — результаты получились не те, каких я ждал, и я же первый пострадал от этого.
— Да, Кингтон. Но пока потеряны далеко не все надежды, и я все еще достаточно могуществен, чтобы позаботиться о твоей судьбе, если ты и в дальнейшем выкажешь себя преданным слугой, — произнес Лейстер.
— Не сомневайтесь в этом! Я был и буду предан вам всем телом и душой, даже если мне и придется поплатиться жизнью за то, что я ошибся в своих расчетах.
— Хорошо, Кингтон. Ты, наверное, уже много думал над своим, точнее сказать, нашим положением. Так как же, по-твоему, можно изменить его к лучшему?
— Для вас это легче легкого. Останьтесь при своих прежних показаниях, свалите всю вину на меня. Скажите, что в церкви я, переодевшись в ваши одежды, играл вашу особу, и это должна будет подтвердить также и сама леди, ваша супруга. Тут она, кроме того, потребует, чтобы старый Ламберт и Тони дали такие же показания. И тогда ваше дело будет в порядке, ведь с Пельдрамом никто не будет считаться.
Лейстер почувствовал всю затруднительность своего положения, он никак не мог решиться поступить так с Филли, которую все еще любил.
— Да, но ведь остаются еще Сэррей и Брай, главное, Брай, в руках которого находится документ! — вполголоса сказал он.
— Но раз свидетели дадут те показания, о которых я только что говорил, то документ теряет всю свою силу. Кроме того, я могу показать, что для совершения обряда я воспользовался не настоящим, а тоже переодетым священником. Для того же, чтобы стать законным мужем вашей супруги, я выкажу готовность обвенчаться с ней по всей форме, тогда пусть со мной поступят, как повелевает строгость законов. Ваша супруга станет моей вдовой, и оба вы будете совершенно свободны.
— Тьфу, черт! — воскликнул Лейстер. — Какой позорный план, не говоря уж о том, что приходится уговаривать слишком много действующих лиц, чтобы он мог удасться!…
— Да, но такой план спасет вас, а вы достаточно могущественны, чтобы заставить всех действующих лиц играть назначенные вами роли!
— Я никогда даже не попытаюсь сделать это.
— Так неужели же Сэррей и Брай должны восторжествовать? Неужели вы, человек, который мог быть первым в Англии, станете последним? А позор?..
— Довольно, молчи. Я еще подумаю о твоем плане, — произнес Лейстер. — Во всяком случае я хочу дать тебе маленькую надежду. Мне кажется, что я сумею найти возможность вывести тебя из Тауэра. Кстати, как ты думаешь, не лучше ли устроить исчезновение Ламберта и Пельдрама?
— Да, но чтобы они исчезли окончательно и навсегда. Ну а что с Браем?
— До сих пор ничего неизвестно.
— Вам следует обратить на него особенное внимание, это самый опасный противник.
— Я это и сам понимаю, но пока ничего невозможно поделать. Ну, прощай. Быть может, мы скоро увидимся.
Лейстер оставил своего слугу в Тауэре в самом неопределенном состоянии духа.
III
Бэрлей счел совершенно неразумным немедленно докладывать королеве о прибытии арестованных. Кроме того, предоставляя графу Лейстеру полную свободу действия, он надеялся еще заставить королеву забыть о всей этой истории. А тут еще и политические события — главным образом шотландские дела — целиком поглощали внимание Елизаветы.
Наконец в Лондон прибыл и сам Ралейг. Он явился к Бэрлею, представил ему обстоятельный доклад, и, разумеется, Бэрлей сразу увидал в нем выгоды для Лейстера.
— Хорошо, сэр, очень хорошо! — ответил он Ралейгу. — Вы выполнили ваше поручение именно так, как и надо было ожидать от вас. Однако мы мало чего добьемся, если на основании данных вашего следствия возбудим судебное преследование. Подумайте только, стоит ли в сущности все это дело тех неприятностей, которые оно может вызвать?
— Я и сам такого же мнения! — ответил Ралейг.
— В таком случае в данный момент королеве можно сообщить только то, что известная особа скрылась, причем надо заметить, что за ней последовали Сэррей и Брай. Что же касается преступлений, совершенных арестованными вами лицами, то они не касаются непосредственно лорда Лейстера и могут быть рассмотрены в обычном судебном порядке без личного вмешательства ее величества.
— Вашей светлости это виднее, — ответил Ралейг. — Я же, со своей стороны, буду ожидать приказания королевы явиться к ней с докладом.
Бэрлей отпустил Ралейга и тотчас же призвал Лейстера. Последний явился немедленно. В кратких словах министр сообщил ему обо всем. В первый момент Дэдлей насмерть перепугался, но вскоре понял, какие выгоды давал ему такой оборот дела и каким образом он мог бы лучше всего использовать создавшееся положение.
При первом представившемся случае Бэрлей доложил королеве о прибытии Ралейга и о результатах следствия.
Елизавета молча выслушала его, а затем промолвила:
— Значит, у нас все-таки нет никаких доказательств? В таком случае будем ждать, пока вернется сюда Сэррей.
Елизавета даже не выказала желания сейчас же поговорить с Ралейгом, а когда позднее он появился при дворе, то она ни словом ни обмолвилась об этом деле, что дало пищу самым различным предположениям. С одной стороны, Елизавета могла уже простить графу Лейстеру. С другой стороны, все это могло означать, что королева просто ждет, пока улики и доказательства будут налицо, чтобы тогда обрушить на голову Дэдлея всю кару.
По врожденному легкомыслию Лейстер склонялся к первой мысли и, наверное, попытался бы снова приблизиться к королеве, если бы Бэрлей не предостерег его от этого.
Тем временем Бэрлей разрешил ему освободить Кингтона из Тауэра и временно спрятать где-нибудь в своих владениях. Зато Пельдрам и Ламберт были приговорены шерифом к нескольким годам заключения в тюрьме. Все это дело казалось преданным забвению навсегда, тем более, что из Шотландии доносились такие слухи о тамошнем положении дел, что трудно было допустить, чтобы Филли и Сэррей вернулись обратно.
Однако, несмотря на все это, Сэррей вдруг появился в Лондоне.
Прибытие Сэррея привело в немалое замешательство не только самого Лейстера, но также и Бэрлея и Ралейга.
Сейчас же по приезде в Лондон Сэррей явился к Ралейгу, но убедился, что тот далеко не расположен действовать в его пользу. Тогда он отправился к Бэрлею, но и тут встретил совершенно такое же отношение. Тем не менее министр обещал ему исходатайствовать аудиенцию у королевы: ведь Сэррей кинул обвинение Лейстеру в присутствии всего двора, поэтому как следствие, так и объявление приговора тоже должны были произойти в такой же обстановке.
Сэррей явился на эту аудиенцию одетый в парадное платье. Придворные пугливо избегали его, граф Лейстер снова высоко держал голову, а королева бросала на Сэррея грозные взгляды. Она спросила:
— Вы, кажется, прибыли из Шотландии, сэр?
— Да, ваше величество, и именно затем, чтобы выкупить оставленное в залог слово.
— Ну, вы с этим не очень-то торопились, как я вижу. Тем не менее ваше обвинение против лорда Лейстера, кажется, окончательно провалилось. Где та женщина, которой вы так особенно интересовались?
Леди Лейстер в Шотландии, ваше величество. Она поняла всю недостойность поведения супруга и решила навсегда покинуть его. Так как она в безопасности и не желает больше иметь ничего общего с лордом Лейстером, то всякое дальнейшее расследование предъявленного мною обвинения излишне.
— И вы являетесь сюда только для того, чтобы сказать это? — возмутилась королева. — Ну это слишком, лорд Сэррей!
— Я ручался своим словом, ваше величество. Я — ваш верноподданный и должен подчиниться вашему приговору. Но для того, чтобы доказать, что я возбудил обвинение не по злобе или легкомыслию, я позволю себе представить вам вот этот документ. Лорд Лейстер отрицает, что он женат, эта же бумага говорит совсем обратное.
Сэррей достал доверенный ему Браем документ и протянул его королеве. По ее знаку Бэрлей взял у него из рук бумагу и вслух прочел ее содержание.
Королева бросила на Лейстера строгий, испытующий взгляд. Дэдлей бросился на колени и воскликнул:
— Ваше величество! Я имел честь только что объяснить вам… Мой слуга Кингтон…
— Ах, да, да, знаю, — поспешно перебила его Елизавета, — и совершенно не имею желания выслушивать все это во второй раз. Вообще я смотрю на все это дело как на законченное. Документ, представленный вами, лорд Сэррей, подложен, а ваше обвинение несправедливо, хотя я и готова признать, что вы сами были введены в заблуждение.
Сэррей стоял, словно пораженный громом, и не в силах был проронить ни единого слова.
— Объявляю вас, лорд Лейстер, свободным от предъявленного вам обвинения, — продолжала королева. — А вы, лорд Сэррей, сэр Брай, равно как та женщина, из-за которой загорелось все это дело, и Кингтон, служащий у графа Лейстера, — все изгоняетесь из пределов нашего государства. Вы, лорд Сэррей, будете находиться в изгнании, пока мне не заблагорассудится изменить свой указ об этом, а остальные изгоняются навсегда. Ступайте, лорд Сэррей! Вас, наверно, заждались в Шотландии.
Сэррей вышел из зала, а королева дала знак, что официальная аудиенция окончена. В сопровождении придворных дам и Лейстера она отправилась в свои апартаменты. Бэрлей, которому надо было еще переговорить о разных делах с королевой, остался тем не менее в зале, как бы желая дать Лейстеру возможность окончательно оправдаться перед королевой наедине.
IV
Эпилог всей этой истории вызвал массу разговоров и удивлений. Но Елизавета имела достаточно времени, чтобы на досуге пораздумать над всем этим делом и прийти к верному способу поддержать свое достоинство. Однако ей удалось сделать все это только внешне, потому что внутренне она чувствовала себя более несчастной, чем когда бы то ни было, и проклинала, как никогда, блеск, пышность и власть, за которые ей приходилось расплачиваться такой дорогой ценой. Однако она убедилась в том, что по крайней мере ей хоть удалось обмануть окружающих, а в сущности именно это и было ее целью.
Прибыв в свои апартаменты, Елизавета отпустила придворных дам и осталась наедине с Лейстером.
— Ваше величество!… Высокая милость… — остановившись на пороге дверей, льстивым голосом начал было Дэдлей.
— Молчите, Дэдлей! — перебила ею Елизавета. — Только из-за великой милости я поступила так… Но если эта милость и не была заслужена вами, то обстоятельства требовали от меня такого отношения. Что же касается вас самого, то вы действовали самым бессовестным образом.
— Я признался в своей вине!
— Да, признались… А признались ли вы в том, что тайно помогли скрыться своему слуге, что заставили исчезать свидетелей его или — вернее — ваших проделок? Короче говоря, вы пытались обмануть меня. Но на этот раз вы поступили так, как только я сама могла желать!… Зато мой прекрасный сон кончился… Вы останетесь в прежней должности, граф Лейстер, вы по-прежнему будете близко стоять ко мне, но берегитесь! Больше думайте теперь над тем, что вы собираетесь делать!… Только при этом условии мы попытаемся простить вас, а может быть, и забыть происшедшее!
Сказав это, королева отвернулась от своего фаворита и сделала рукой движение, которое означало приказание удалиться.
Лейстер встал с колен и, словно побитая собака, выскользнул из комнаты.
В зале он встретил Бэрлея и шепотом сказал ему.
— Королева знает все!
— Все? — в изумлении переспросил Бэрлей.
— Да, милорд, но она не сердится на нас, она рада, что история наконец кончилась.
— Мы можем поздравить себя с этим. Но все-таки, милорд, замечу, что у ее величества имеются еще какие-то посторонние глаза и уши, кроме нас с вами! Нам нужно быть начеку. Поэтому постарайтесь как можно скорее спровадить Кингтона.
— Это будет сделано!… Ну а документ у вас?
— Вот он, передаю его вам в качестве сувенира!
Говоря это, лорд Бэрлей улыбнулся, но Лейстер, не обратив внимания на этот насмешливый тон, поспешно схватил документ.
— Благодарю вас! — почти простонал он и бросился вон из дворца.
Бэрлей приказал доложить о себе королеве и был немедленно принят Елизаветой. Он застал свою повелительницу в состоянии высшего возбуждения. До сих пор она находила в себе силы владеть собою, но с того момента, когда Лейстер ушел от нее, она уже не могла больше притворяться.
— Милорд Бэрлей! — сказала она ему. — Вы видите перед собой разбитое сердце. Но этот урок был необходим, чтобы сделать меня тем, чем я стала. Благодарю вас за разумное направление дела, но не будем больше никогда говорить о нем. Клянусь вам, что впредь я и думать не буду о замужестве и что меня так и опустят в могилу девственной королевой… Ну, что у вас?
Во время этих слов Бэрлей несколько раз поклонился королеве с выражением глубокого сочувствия на лице. Когда она кончила, он подал ей папку с бумагами и произнес:
— Ваше величество, слухи о поражении партии королевы Марии Стюарт подтверждаются. Шотландская королева снова бежала и испрашивает защиты и покровительства у вас. Ваше величество, по всей вероятности, в настоящее время она уже находится на английской территории.
Елизавета гордо вскинула голову.
— Мария явилась сюда? — вырвалось у нее. — Ну что же, она найдет в Англии защиту. Дайте ей знать об этом!
По мере того, как Елизавета читала письмо несчастной Марии Стюарт, выражение торжествующей радости все ярче отражалось на ее лице. В этом письме Мария почтительно и скорбно испрашивала английского заступничества, она упоминала, что взбунтовавшиеся подданные сначала продержали ее в тюремном заключении, а потом и вовсе выгнали из государства. Теперь она нашла приют у лорда Геррьеса, но ее состояние самое плачевное, она не успела ничего взять с собой не только из драгоценностей, но даже из платья, к тому же ей пришлось еще проделать более шестнадцати миль пешком. Мария заканчивала письмо признанием, что после Бога ей не на кого больше надеяться, как на Елизавету.
— Смотрите, милорд, — сказала Елизавета с холодной горделивой радостью, — вот какая судьба ждет королеву, если она забывает, что не имеет права быть женщиной. Пошлите курьера к шотландской королеве, пусть он отвезет ей разрешение пребывать в пределах моего государства, а на вечер созовите совет министров.
На состоявшемся вечером совете главным образом обсуждался вопрос, как быть с Марией Стюарт.
Елизавета могла поддержать Марию, помочь ей снова вернуть трон. Англия могла предоставить Марии временное убежище, чтобы потом переправить ее во Францию.
Елизавета могла стать судьей между Марией и ее восставшими подданными.
Наконец, английское правительство могло перейти на сторону восставших шотландских лордов и посмотреть на Марию как на пленницу.
Каждый из этих вариантов подвергся тщательному обсуждению и критике. Но было очевидно, что Елизавета внутренне уже приняла определенное решение, она распустила совет, не высказав, к чему именно склонилась сама.

Путь на эшафот

Глава первая
МОНАРШЕЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

 Вся жизнь несчастной шотландской королевы Марии Стюарт представляла собой цепь необыкновеннейших приключений, которые нередко встречаются в действительной жизни, Но последняя часть ее жизни, со времени ее вынужденного отказа от престола, превратилась в сплошную драму, и весь ее ужас только подчеркивался той медленностью развития, с которой шел к своему трагическому концу этот один из самых печальных эпизодов истории вообще, и в особенности — хроники царствующих особ и государей.
Мария Стюарт, потерпев поражение в попытке вернуть престол, покинула свою страну и вступила на английскую территорию у Виркингтона в Кумберлэнде; навстречу ей явился губернатор Карлейля, доставивший ее в свой город со всеми приличествующими ее сану почестями.
В то время губернатором Карлейля был лорд Лаутер. Он поспешил послать своей государыне донесение обо всем происшедшем, а пока окружил шотландскую королеву подобающими почестями. Но не успел еще он получить ответ на свое донесение, как к Марии прибыл гонец, вручивший ей письмо от английской королевы, в этом письме Елизавета высказала ей свое участие и дала разрешение оставаться в Англии.
Это было для Марии последним обманчивым сиянием, последним миражом того, будто ее прежний ранг еще вызывал в Европе какое-либо уважение.
Действительно, вскоре лорд Лаутер получил выговор за прием, устроенный Марии, а вслед за этим появились лорд Скруп, начальник западных провинций, и Фрэнсис Кнолисс, вице-канцлер Елизаветы, с инструкциями, касавшимися шотландской королевы, Им было поручено предупредить всех шерифов и мировых судей Кумберлэнда, чтобы они ни в коем случае не допускали бегства Марии, они привезли ей новое письмо Елизаветы, содержание которого в существенных чертах было таким же, как и первое, но с особенным прибавлением словесного поручения.
29 мая 1556 года Скруп и Кноллис были приняты Марией, передали ей письмо своей королевы и прибавили на словах, что Елизавета сожалеет о невозможности принять ее у себя, пока она не оправдается в подозрении, будто принимала участие в убийстве своего супруга.
Мария Стюарт разразилась слезами, в ее сердце зашевелилось подозрение о том, чего ей ожидать здесь в будущем.
— Господи Боже! — сетовала она. — Неужели это — ответ несчастной женщине, которая явилась с просьбой о помощи?
В тот же день прибыл отряд в пятьдесят солдат, которые должны были сторожить королеву; от нее удалили всех дам и слуг; в качестве компаньонки и смотрительницы к ней была приставлена леди Скруп. Мария уже не могла сомневаться, что попала в плен, но, все более убеждаясь в этом, не теряла головы, а наоборот — проникалась мужеством и истинно королевским достоинством, чего не могли отрицать в ней даже ее враги.
Она послала в Лондон лордов Геррьеса и Флеминга, чтобы они постарались там сделать что-нибудь для нее, кроме того, Флеминг должен был отправиться во Францию, чтобы испросить там заступничества и помощи.
А тем временем к английской королеве обратился регент Шотландии, лорд Мюррей, и это обращение дало Елизавете возможность пойти намеченным заранее путем.
После долгого ожидания посланцы Марии получили аудиенцию у английской королевы и передали ей мольбы и пожелания своей повелительницы.
— Я от всего сердца жалею мою царственную сестру, — ответила Елизавета с притворным сочувствием, — но ее честь, так же как и моя, требует строжайшего расследования слухов, касающихся ее поведения.
— Ну а если, ваше величество, — обратился к королеве лорд Геррьес, — обстоятельства — упаси Бог! — сложатся против шотландской королевы?
— Тогда я попытаюсь дать делу правильный ход.
— В таком случае моя повелительница желала бы, чтобы ей дали возможность переправиться на материк Европы, или же в крайнем случае позволили вернуться в Шотландию в том же челноке, в котором она приехала в Англию.
— Я лучше знаю, чего требуют интересы моей царственной кузины, — возразила Елизавета.
Посланцы уехали из Лондона ни с чем.
В это же время начался живой обмен письмами между английским правительством и графом Мюрреем, от которого в конце концов потребовали, чтобы он представил доказательства обвинений, предъявленных им королеве.
Теперь одну за другой стали принимать меры, направленные против Марии Стюарт. 13 июня 1556 года к несчастной королеве прибыл посол Елизаветы, лорд Миюльмор, в сопровождении Скрупа и Кноллиса. Марию ждало новое унижение, так как от нее потребовали, чтобы она подчинилась всем перипетиям правильного судебного процесса. Мария рассердилась и сама написала Елизавете письмо.
Марию стали содержать несравненно хуже, чем в первое время по приезде. Это вызвало протесты французского и испанского посланников; однако Елизавета не приняла их.
Прошло еще два месяца в переговорах, и Мария наконец сдалась. Она согласилась, чтобы ее дело было рассмотрено специальной комиссией, состоявшей из назначенных Елизаветой комиссаров. С этой целью ее перевезли из Карлейля в замок Болтон в графстве Йорк. Тем временем в Шотландии воцарился мир, и Мария снова стала надеяться на благополучный исход.
Комиссия, назначенная Елизаветой, состояла из герцога Норфолка, графа Суссекса и сэра Садлера, канцлера Ланкастера.
В качестве представителей мятежников явились сам Мюррей, граф Монтон, архиепископ Оркнейский, Питкэрн, лорды Линдсей, Макгильд, Голхил, Майтлэнд и Бенанан. Защитниками Марии были епископ Росский, лорды Льюингстон, Бойд, Геррьес, Гамильтон, Гордон Лочинфэр и Яков Коксбэрн.
Прения членов комиссии, которые велись с обеих сторон с одинаковой страстностью и непорядочностью, не имели другого результата, кроме того что Марию Стюарт 26 января 1559 года перевезли из Болтона и Тэтбюри, где она была подвергнута еще более строгому заключению под надзором лорда Шрисбюри. В общем, весь этот процесс превращался в какой-то грандиозный скандал, и Мария уже не могла сомневаться в истинных намерениях Елизаветы, После окончания работы комиссии беспорядки в Шотландии вспыхнули с новой силой.
Леди Скруп, сестра герцога Норфолка, бывшая в течение первого времени компаньонкой и надзирательницей Марии, поддерживала самую оживленную переписку с братом и неоднократно писала ему про красоту и образованность шотландской королевы, Эго заинтересовало герцога, так как он и ранее слышал такие же восторженные отзывы от Сэррея, которого укрывал у себя в первое время после изгнания.
Норфолк был очень честолюбив, владел громадными богатствами и состоял в родстве с первыми родами страны. После своего восшествия на престол Елизавета назначила его членом Тайного совета, и герцог играл блестящую роль в столичном обществе.
Норфолка преследовало странное несчастье в браке. Тридцати двух лет, он уже был в третий раз вдовцом и думал вступить в новый брак, когда Елизавета назначила его председателем комиссии, которой поручено было разобраться в деле Марии Стюарт. Шотландская королева особенно рассчитывала на его помощь, так как знала от его сестры, что герцог весьма участливо относился к ее судьбе. Это побудило Марию обратиться к Норфолку с письмом, и тот, в свою очередь, ответил ей. Эта переписка стала оживленной и регулярной, и у герцога мелькнула мысль просить руки пленной королевы.
Регент Шотландии граф Мюррей отлично видел, какое могло бы создаться положение, если раздуть дело Марии Стюарт в том направлении, в каком желало английское правительство. Однако такого конца он совершенно не хотел, а потому с радостью готов был найти какой-нибудь выход из создавшегося положения, Он не особенно доверял Елизавете и хотел только мира для своего измученного отечества, Мюррей сразу догадался о симпатии герцога Норфолка к Марии и принялся осторожно зондировать почву, чтобы узнать, что можно сделать ему относительно судьбы шотландской королевы.
В этом отношении регента поддерживал секретарь Лэтингтон. Этот человек был соучастником в убийстве Дарнлея, но, будучи более искусным и ловким, чем остальные заговорщики, сумел добыть копии переписки Босвела с Марией. Поэтому его боялся сам регент и старалась подкупить Елизавета.
Норфолк скоро разгадал Лэтингтона и сумел перетянуть его на свою сторону. Посвященный в планы и скрытые намерения Мюррея, Лэтингтон устроил свидание обоих важных для него людей. Разговор между Норфолком и Мюрреем начался с того, что первый пытался представить Шотландию ленным владением Англии, Мюррей же доказал ему, что Шотландия никогда еще не была ничьим леном. Затем Норфолк стал соболезновать о сложившемся положении Марии Стюарт, и Мюррей выказал готовность содействовать улучшению этого положения, если бы для него самого и для Шотландии можно было ожидать какую-нибудь выгоду.
Оба отлично столковались по поводу этого вопроса, и Мюррей, прежний обвинитель Марии, теперь стал выказывать абсолютно пассивное отношение в представлении улик и доказательств обвинения, так что казалось, что Елизавете придется попасть в дурацкое положение.
Но недаром говорил Бэрлей о существовании у Елизаветы каких-то незримых ушей, это пришлось испытать на себе и герцогу Норфолку, Елизавета вызвала его к себе и высказала ему прямо в лицо, что знает о его намерении освободить Марию и жениться на ней.
Из осторожности Норфолку пришлось самыми страшными клятвами отрицать предъявленное ему обвинение. Но Елизавета не поверила. Она перенесла заседание комиссии в Вестминстер и назначила в нее еще новых членов, а именно: Бэкона, Арунделя, Лейстера и секретаря Сесила. Таким образом, Норфолк был связан по рукам и ногам, а Мюррей, убедившись, что Норфолк не может ничего сделать для него, пошел на попятную.
Так Норфолк и Мюррей стали смертельными врагами. Видя, что все пропало, Норфолк решил поднять знамя восстания против своей государыни, стал вербовать приверженцев, и на первых порах это увенчалось успехом, Первыми к нему примкнули графы Арундель и Пемброк, Вестморлэнд, Нортумберленд и лорд Лэмблей Графы Кумберлэнд, Бедфорд, Суссекс, Дэрби и даже Лейстер ответили, что они тоже не прочь поддержать заговорщиков, и это доказывало, насколько Елизавета оттолкнула от себя своим обращением всех пэров государства и какую опасную соперницу она приобрела в лице Марии Стюарт. Нечего и говорить что это еще более раздуло ненависть к ней Елизаветы.
Но если недовольных было так много, что их трудно было счесть, если посланники большинства государств намекали на то, что на их правительства можно вполне рассчитывать, то такая голова, как Бэрлей, стоила всех их вместе взятых.
О том, что против Елизаветы составляется заговор, распространившийся не только в Англии и Шотландии, но и почти по всей Европе, быстро догадались как сама Елизавета, так и Бэрлей. Но в первое время в их руках не было никаких данных, и вот для того, чтобы получить их, Бэрлей учредил свою «Звездную палату». В те времена уже во всех государствах существовала тайная полиция, но не везде она работала так энергично, как эта — в Англии.
По требованию Бэрлея к нему был командирован один из самых смелых и ловких агентов.
— Как вас зовут? — спросил министр.
— Пельдрам.
— Пельдрам? — пробормотал Бэрлей. — Я уже слышал когда-то это имя. Почему вы поступили на службу в «Звездную палату»?
— Мне нужно свести счеты с одним субъектом.
— В данном случае у нас есть дело поважнее. До меня дошли слухи, что затевается заговор, к которому примкнуло много высокопоставленных лиц. Я желаю узнать имена заговорщиков.
— Мы знаем их, милорд!
— Как? — даже вскочил с места Бэрлей. — Вы знаете? Так почему же до сих пор против этих лиц не возбуждено преследование?
— Нам не хватало улик.
— Тогда их надо добыть.
— Вы приказываете, и это будет сделано!
С этими словами наш старый знакомый Пельдрам оставил министра и немедленно отправился исполнять возложенное на него поручение.
Его план добыть улики отличался простотой. Он поскакал в город Линн, где помещался замок Норфолка, явился туда и, вызвав управляющего, заявил, будто до властей дошли слухи, что в замке незаконно томится узник. В тот же момент к замку подскакал еще человек, назвавшийся тоже уполномоченным расследовать дело о незаконном задержании неизвестного узника в замке. Управляющему ничего не оставалось, как допустить их к обыску и тут агентам удалось найти целую кипу компрометирующих Норфолка бумаг. Захватив их, они бешеным галопом понеслись обратно в Лондон. Но и управляющий тоже не зевал, он дал знать заговорщикам о происшедшем, и еще ранее того, как Бэрлей получил улики, заговорщики успели бежать на север.
Восстание все же разразилось, но благодаря тому, что весь план попал в руки властей, его удалось подавить в самом начале. Норфолк и некоторые другие заговорщики были под страхом смертной казни вытребованы на суд Тайного совета и, как только явились в Лондон, были схвачены и немедленно посажены в Тауэр. Только графы Суссекс, и Нортумберленд продолжали активную борьбу с английским правительством. Но эта борьба окончилась для них поражением, им пришлось бежать в Шотландию, где они и были арестованы вместе с многими своими приверженцами.
Таким образом восстание свелось на нет и дало только Елизавете большие выгоды; она не удовольствовалась своей победой, а приказало назначить строгий суд над мятежниками, благодаря чему ей удалось избавиться от многих нежелательных лиц; в одном только Дургэме было казнено более трехсот человек.
Во время этой гражданской войны в Англии продолжалась борьба в Шотландии приверженцев королевы Марии против регента. В этой борьбе погиб самый жестокий враг и преследователь Марии — ее брат Джэмс Стюарт, лорд Мюррей; он был убит 23 января 1570 года лордом Джэмсом Гамильтоном Босвелом.
Смерть регента настолько ослабила партию короля Иакова Шестого, что на некоторое время приверженцы Марии одержали верх.
Но тогда Елизавета приказала своим войскам, стоявшим на северной границе, двинуться в Шотландию, и они выступили на защиту партии Иакова Шестого. Разгорелся короткий, но ожесточенный бой, партия Марии была окончательно разгромлена в стране был заключен мир, а победительницей стала Елизавета.
Вся жизнь несчастной шотландской королевы Марии Стюарт представляла собой цепь необыкновеннейших приключений, которые нередко встречаются в действительной жизни, Но последняя часть ее жизни, со времени ее вынужденного отказа от престола, превратилась в сплошную драму, и весь ее ужас только подчеркивался той медленностью развития, с которой шел к своему трагическому концу этот один из самых печальных эпизодов истории вообще, и в особенности — хроники царствующих особ и государей.
Мария Стюарт, потерпев поражение в попытке вернуть престол, покинула свою страну и вступила на английскую территорию у Виркингтона в Кумберлэнде; навстречу ей явился губернатор Карлейля, доставивший ее в свой город со всеми приличествующими ее сану почестями.
В то время губернатором Карлейля был лорд Лаутер. Он поспешил послать своей государыне донесение обо всем происшедшем, а пока окружил шотландскую королеву подобающими почестями. Но не успел еще он получить ответ на свое донесение, как к Марии прибыл гонец, вручивший ей письмо от английской королевы, в этом письме Елизавета высказала ей свое участие и дала разрешение оставаться в Англии.
Это было для Марии последним обманчивым сиянием, последним миражом того, будто ее прежний ранг еще вызывал в Европе какое-либо уважение.
Действительно, вскоре лорд Лаутер получил выговор за прием, устроенный Марии, а вслед за этим появились лорд Скруп, начальник западных провинций, и Фрэнсис Кнолисс, вице-канцлер Елизаветы, с инструкциями, касавшимися шотландской королевы, Им было поручено предупредить всех шерифов и мировых судей Кумберлэнда, чтобы они ни в коем случае не допускали бегства Марии, они привезли ей новое письмо Елизаветы, содержание которого в существенных чертах было таким же, как и первое, но с особенным прибавлением словесного поручения.
29 мая 1556 года Скруп и Кноллис были приняты Марией, передали ей письмо своей королевы и прибавили на словах, что Елизавета сожалеет о невозможности принять ее у себя, пока она не оправдается в подозрении, будто принимала участие в убийстве своего супруга.
Мария Стюарт разразилась слезами, в ее сердце зашевелилось подозрение о том, чего ей ожидать здесь в будущем.
— Господи Боже! — сетовала она. — Неужели это — ответ несчастной женщине, которая явилась с просьбой о помощи?
В тот же день прибыл отряд в пятьдесят солдат, которые должны были сторожить королеву; от нее удалили всех дам и слуг; в качестве компаньонки и смотрительницы к ней была приставлена леди Скруп. Мария уже не могла сомневаться, что попала в плен, но, все более убеждаясь в этом, не теряла головы, а наоборот — проникалась мужеством и истинно королевским достоинством, чего не могли отрицать в ней даже ее враги.
Она послала в Лондон лордов Геррьеса и Флеминга, чтобы они постарались там сделать что-нибудь для нее, кроме того, Флеминг должен был отправиться во Францию, чтобы испросить там заступничества и помощи.
А тем временем к английской королеве обратился регент Шотландии, лорд Мюррей, и это обращение дало Елизавете возможность пойти намеченным заранее путем.
После долгого ожидания посланцы Марии получили аудиенцию у английской королевы и передали ей мольбы и пожелания своей повелительницы.
— Я от всего сердца жалею мою царственную сестру, — ответила Елизавета с притворным сочувствием, — но ее честь, так же как и моя, требует строжайшего расследования слухов, касающихся ее поведения.
— Ну а если, ваше величество, — обратился к королеве лорд Геррьес, — обстоятельства — упаси Бог! — сложатся против шотландской королевы?
— Тогда я попытаюсь дать делу правильный ход.
— В таком случае моя повелительница желала бы, чтобы ей дали возможность переправиться на материк Европы, или же в крайнем случае позволили вернуться в Шотландию в том же челноке, в котором она приехала в Англию.
— Я лучше знаю, чего требуют интересы моей царственной кузины, — возразила Елизавета.
Посланцы уехали из Лондона ни с чем.
В это же время начался живой обмен письмами между английским правительством и графом Мюрреем, от которого в конце концов потребовали, чтобы он представил доказательства обвинений, предъявленных им королеве.
Теперь одну за другой стали принимать меры, направленные против Марии Стюарт. 13 июня 1556 года к несчастной королеве прибыл посол Елизаветы, лорд Миюльмор, в сопровождении Скрупа и Кноллиса. Марию ждало новое унижение, так как от нее потребовали, чтобы она подчинилась всем перипетиям правильного судебного процесса. Мария рассердилась и сама написала Елизавете письмо.
Марию стали содержать несравненно хуже, чем в первое время по приезде. Это вызвало протесты французского и испанского посланников; однако Елизавета не приняла их.
Прошло еще два месяца в переговорах, и Мария наконец сдалась. Она согласилась, чтобы ее дело было рассмотрено специальной комиссией, состоявшей из назначенных Елизаветой комиссаров. С этой целью ее перевезли из Карлейля в замок Болтон в графстве Йорк. Тем временем в Шотландии воцарился мир, и Мария снова стала надеяться на благополучный исход.
Комиссия, назначенная Елизаветой, состояла из герцога Норфолка, графа Суссекса и сэра Садлера, канцлера Ланкастера.
В качестве представителей мятежников явились сам Мюррей, граф Монтон, архиепископ Оркнейский, Питкэрн, лорды Линдсей, Макгильд, Голхил, Майтлэнд и Бенанан. Защитниками Марии были епископ Росский, лорды Льюингстон, Бойд, Геррьес, Гамильтон, Гордон Лочинфэр и Яков Коксбэрн.
Прения членов комиссии, которые велись с обеих сторон с одинаковой страстностью и непорядочностью, не имели другого результата, кроме того что Марию Стюарт 26 января 1559 года перевезли из Болтона и Тэтбюри, где она была подвергнута еще более строгому заключению под надзором лорда Шрисбюри. В общем, весь этот процесс превращался в какой-то грандиозный скандал, и Мария уже не могла сомневаться в истинных намерениях Елизаветы, После окончания работы комиссии беспорядки в Шотландии вспыхнули с новой силой.
Леди Скруп, сестра герцога Норфолка, бывшая в течение первого времени компаньонкой и надзирательницей Марии, поддерживала самую оживленную переписку с братом и неоднократно писала ему про красоту и образованность шотландской королевы, Эго заинтересовало герцога, так как он и ранее слышал такие же восторженные отзывы от Сэррея, которого укрывал у себя в первое время после изгнания.
Норфолк был очень честолюбив, владел громадными богатствами и состоял в родстве с первыми родами страны. После своего восшествия на престол Елизавета назначила его членом Тайного совета, и герцог играл блестящую роль в столичном обществе.
Норфолка преследовало странное несчастье в браке. Тридцати двух лет, он уже был в третий раз вдовцом и думал вступить в новый брак, когда Елизавета назначила его председателем комиссии, которой поручено было разобраться в деле Марии Стюарт. Шотландская королева особенно рассчитывала на его помощь, так как знала от его сестры, что герцог весьма участливо относился к ее судьбе. Это побудило Марию обратиться к Норфолку с письмом, и тот, в свою очередь, ответил ей. Эта переписка стала оживленной и регулярной, и у герцога мелькнула мысль просить руки пленной королевы.
Регент Шотландии граф Мюррей отлично видел, какое могло бы создаться положение, если раздуть дело Марии Стюарт в том направлении, в каком желало английское правительство. Однако такого конца он совершенно не хотел, а потому с радостью готов был найти какой-нибудь выход из создавшегося положения, Он не особенно доверял Елизавете и хотел только мира для своего измученного отечества, Мюррей сразу догадался о симпатии герцога Норфолка к Марии и принялся осторожно зондировать почву, чтобы узнать, что можно сделать ему относительно судьбы шотландской королевы.
В этом отношении регента поддерживал секретарь Лэтингтон. Этот человек был соучастником в убийстве Дарнлея, но, будучи более искусным и ловким, чем остальные заговорщики, сумел добыть копии переписки Босвела с Марией. Поэтому его боялся сам регент и старалась подкупить Елизавета.
Норфолк скоро разгадал Лэтингтона и сумел перетянуть его на свою сторону. Посвященный в планы и скрытые намерения Мюррея, Лэтингтон устроил свидание обоих важных для него людей. Разговор между Норфолком и Мюрреем начался с того, что первый пытался представить Шотландию ленным владением Англии, Мюррей же доказал ему, что Шотландия никогда еще не была ничьим леном. Затем Норфолк стал соболезновать о сложившемся положении Марии Стюарт, и Мюррей выказал готовность содействовать улучшению этого положения, если бы для него самого и для Шотландии можно было ожидать какую-нибудь выгоду.
Оба отлично столковались по поводу этого вопроса, и Мюррей, прежний обвинитель Марии, теперь стал выказывать абсолютно пассивное отношение в представлении улик и доказательств обвинения, так что казалось, что Елизавете придется попасть в дурацкое положение.
Но недаром говорил Бэрлей о существовании у Елизаветы каких-то незримых ушей, это пришлось испытать на себе и герцогу Норфолку, Елизавета вызвала его к себе и высказала ему прямо в лицо, что знает о его намерении освободить Марию и жениться на ней.
Из осторожности Норфолку пришлось самыми страшными клятвами отрицать предъявленное ему обвинение. Но Елизавета не поверила. Она перенесла заседание комиссии в Вестминстер и назначила в нее еще новых членов, а именно: Бэкона, Арунделя, Лейстера и секретаря Сесила. Таким образом, Норфолк был связан по рукам и ногам, а Мюррей, убедившись, что Норфолк не может ничего сделать для него, пошел на попятную.
Так Норфолк и Мюррей стали смертельными врагами. Видя, что все пропало, Норфолк решил поднять знамя восстания против своей государыни, стал вербовать приверженцев, и на первых порах это увенчалось успехом, Первыми к нему примкнули графы Арундель и Пемброк, Вестморлэнд, Нортумберленд и лорд Лэмблей Графы Кумберлэнд, Бедфорд, Суссекс, Дэрби и даже Лейстер ответили, что они тоже не прочь поддержать заговорщиков, и это доказывало, насколько Елизавета оттолкнула от себя своим обращением всех пэров государства и какую опасную соперницу она приобрела в лице Марии Стюарт. Нечего и говорить что это еще более раздуло ненависть к ней Елизаветы.
Но если недовольных было так много, что их трудно было счесть, если посланники большинства государств намекали на то, что на их правительства можно вполне рассчитывать, то такая голова, как Бэрлей, стоила всех их вместе взятых.
О том, что против Елизаветы составляется заговор, распространившийся не только в Англии и Шотландии, но и почти по всей Европе, быстро догадались как сама Елизавета, так и Бэрлей. Но в первое время в их руках не было никаких данных, и вот для того, чтобы получить их, Бэрлей учредил свою «Звездную палату». В те времена уже во всех государствах существовала тайная полиция, но не везде она работала так энергично, как эта — в Англии.
По требованию Бэрлея к нему был командирован один из самых смелых и ловких агентов.
— Как вас зовут? — спросил министр.
— Пельдрам.
— Пельдрам? — пробормотал Бэрлей. — Я уже слышал когда-то это имя. Почему вы поступили на службу в «Звездную палату»?
— Мне нужно свести счеты с одним субъектом.
— В данном случае у нас есть дело поважнее. До меня дошли слухи, что затевается заговор, к которому примкнуло много высокопоставленных лиц. Я желаю узнать имена заговорщиков.
— Мы знаем их, милорд!
— Как? — даже вскочил с места Бэрлей. — Вы знаете? Так почему же до сих пор против этих лиц не возбуждено преследование?
— Нам не хватало улик.
— Тогда их надо добыть.
— Вы приказываете, и это будет сделано!
С этими словами наш старый знакомый Пельдрам оставил министра и немедленно отправился исполнять возложенное на него поручение.
Его план добыть улики отличался простотой. Он поскакал в город Линн, где помещался замок Норфолка, явился туда и, вызвав управляющего, заявил, будто до властей дошли слухи, что в замке незаконно томится узник. В тот же момент к замку подскакал еще человек, назвавшийся тоже уполномоченным расследовать дело о незаконном задержании неизвестного узника в замке. Управляющему ничего не оставалось, как допустить их к обыску и тут агентам удалось найти целую кипу компрометирующих Норфолка бумаг. Захватив их, они бешеным галопом понеслись обратно в Лондон. Но и управляющий тоже не зевал, он дал знать заговорщикам о происшедшем, и еще ранее того, как Бэрлей получил улики, заговорщики успели бежать на север.
Восстание все же разразилось, но благодаря тому, что весь план попал в руки властей, его удалось подавить в самом начале. Норфолк и некоторые другие заговорщики были под страхом смертной казни вытребованы на суд Тайного совета и, как только явились в Лондон, были схвачены и немедленно посажены в Тауэр. Только графы Суссекс, и Нортумберленд продолжали активную борьбу с английским правительством. Но эта борьба окончилась для них поражением, им пришлось бежать в Шотландию, где они и были арестованы вместе с многими своими приверженцами.
Таким образом восстание свелось на нет и дало только Елизавете большие выгоды; она не удовольствовалась своей победой, а приказало назначить строгий суд над мятежниками, благодаря чему ей удалось избавиться от многих нежелательных лиц; в одном только Дургэме было казнено более трехсот человек.
Во время этой гражданской войны в Англии продолжалась борьба в Шотландии приверженцев королевы Марии против регента. В этой борьбе погиб самый жестокий враг и преследователь Марии — ее брат Джэмс Стюарт, лорд Мюррей; он был убит 23 января 1570 года лордом Джэмсом Гамильтоном Босвелом.
Смерть регента настолько ослабила партию короля Иакова Шестого, что на некоторое время приверженцы Марии одержали верх.
Но тогда Елизавета приказала своим войскам, стоявшим на северной границе, двинуться в Шотландию, и они выступили на защиту партии Иакова Шестого. Разгорелся короткий, но ожесточенный бой, партия Марии была окончательно разгромлена в стране был заключен мир, а победительницей стала Елизавета.

Глава вторая
ЧЭТСУОРТ

 В 1570 году Марию Стюарт перевезли из Тэтбюри в Чэтсуорт в графстве Дэрби.
В это время в Лондоне разразилась чума, которая проникла также и в Тауэр, где томился в заключении Норфолк. Он и Мария ухитрялись и из тюрьмы продолжать начатую еще ранее переписку. Когда Мария Стюарт увидела, что Франция отказалась помогать ей, то она обратилась с просьбой о помощи к Филиппу Второму Испанскому, и Норфолк знал об этом.
Но об этой переписке знала и Елизавета, Она приказала из-за чумы выпустить Норфолка из Тауэра, но сослала его в замок Линн, где он должен был жить безвыездно под надзором двух агентов «Звездной палаты». Перед отъездом из Лондона он вынужден был обещать, что не станет впредь поддерживать с Марией Стюарт никаких отношений, он поклялся в этом своим честным словом и дал подписку с приложением своей печати, но в душе был полон твердого намерения нарушить обещание.
В один из пасмурных мартовских дней четверо всадников переезжали границу графства Дэрби, направляясь к Чэтсуорту. Они не торопились, хотя дождь и лил как из ведра.
По внешнему виду этих всадников можно было принять за купцов или торговцев, которые в то время постоянно колесили с дорожным мешком за спиной по всей Англии. Но в эти одежды вырядились Сэррей, Брай, Филли и Джонстон.
С тех пор, как Филли убедилась в подлости Лейстера, в ней произошел громадный внутренний перелом. Как когда- то прежде она была готова на все из-за любви к Лейстеру, так теперь из благодарности к Сэррею и Браю способна была пожертвовать чем угодно. Ведь она знала, какую жертву принесли ей они и сумела оценить ее.
Сэррей, отправившийся после изгнания в Шотландию, нашел случай примириться с Георгом Сэйтоном и получил от него разрешение посвататься к Джэн. Теперь же, вопреки запрещению королевы Елизаветы, он опять возвращался в Англию, чтобы попытаться сделать все, что в его силах, для шотландской королевы и — в случае возможности — также для своего родственника герцога Норфолка.
Что касается Брая, то у него было много оснований, чтобы последовать за Филли и Сэрреем. Джонстон рад был новому приключению.
Все четверо прибыли в Чэтсуорт к вечеру, когда почти совершенно стемнело. Там они остановились в харчевне сомнительного вида.
Марию Стюарт стерегли очень строго, она была лишена многих насущнейших удобств, но жестокость в отношении к ней не простиралась настолько далеко, чтобы лишить возможности общаться с кем ей захочется. В то время относительно этого еще не было отдано специальных распоряжений, а ее стражи чувствовали к ней достаточно уважения, чтобы не принимать более строгих мер, чем те, которые были предписаны. Поэтому, когда Филли знаками стала предлагать лицам свиты и придворным дамам разные безделушки для продажи, ее окружили покупатели и любопытные, среди которых, разумеется, были и стражники.
У них под носом Филли удалось передать Джэн Сэйтон три письма, из которых одно было к королеве от Сэррея, а остальные — ей самой, от Сэррея и ее брата.
Как только Филли ушла, Джэн Сэйтон поспешила к королеве. Нельзя описать радость Марии, когда она узнала, какие лица опять оказались вблизи от нее с готовностью оказать ей помощь. Она ответила на письмо Сэррея той же ночью, кроме того, написала письма епископу Росскому и герцогу Норфолку, оба шифрованные; эти письма Джэн должна была ухитриться передать Филли.
В то время как Мария Стюарт писала письма, возбужденная радостной надеждой, Джэн была задумчива и грустна, но в конце концов и она тоже написала свое письмо Сэррею, и когда Филли появилась на следующий день, то ей было вручено четыре письма.
Королева благодарила Сэррея за предложение своих услуг и верность, просила отвезти зашифрованные письма и выражала согласие принять к себе в услужение Тони Ламберт, как это предлагал Сэррей.
Джэн написала, что предаст свою сестру, если примет предложение Сэррея вступить с ним в брак, почему и вынуждена самым решительным образом отклонить его предложение.
Прочитав ее письмо, Сэррей закрыл лицо руками и долго молчал, но потом, тяжело вздохнув, взял себя в руки.
— Сэр Брай, — спокойно сказал он, — мы оба поедем с вами ночью дальше, а Филли и Джонстон останутся здесь, как только Тони прибудет сюда, Филли поведет ее к королеве и вообще постарается поддерживать постоянное сообщение с замком.
После ужина Сэррей и Брай сели на лошадей и, оставив Чэтсуорт, поскакали в Лондон.
В Лондоне Сэррею сказали, что герцог Норфолк выпущен из Тауэра. Поэтому он отправился в городской дом Норфолка, где секретарь герцога, некий Баркер, узнав Сэррея, поведал ему о том, что Норфолк отправлен в Линн. По счастливой случайности секретарь упомянул имя Пельдрама, который сторожит графа, И хотя Сэррей не мог твердо знать, тот ли это Пельдрам, который служил Лейстеру, но все же решил не ездить в Линн, а передать письмо королевы Норфолку через Баркера.
Герцог был страшно доволен, получив письмо. Он поблагодарил Баркера, приказал ему отдохнуть, пока будет готов ответ, а сам позвал своего старшего секретаря Гайфорда, которому и приказал расшифровать письмо Марии.
Она сообщала о предпринятых ею шагах. Послала письмо испанскому королю, так как считала его помощь безусловно необходимой. Просила Норфолка дать слово перейти в католичество, поскольку только при этом условии можно рассчитывать на поддержку английской аристократии. Спрашивала герцога, какое количество вооруженных людей ему необходимо для поддержки. Обо всем этом герцог должен был сообщить ей и епископу Росскому.
Норфолк сейчас же приказал Гайфорду написать требуемые письма. Он выразил согласие на переход в католичество и полную уверенность в поддержке большинства представителей английской знати, так как все они придерживаются католической религии. Сообщил, сколько войска мог бы выставить сам и сколько ему нужно для поддержки солдат и денег!
Приказав сжечь полученное письмо, герцог позвал Баркера и вручил ему оба своих ответных письма.
Брай тоже был не менее осторожен, чем Сэррей. Он отправился во дворец к графине Гертфорд и попросил ее съездить к епископу Росскому, жившему в Лондоне в качестве представителя интересов Марии, и испросить для него аудиенцию. Графиня согласилась и вскоре явилась с ответом, что епископ ожидает Брая.
Епископ принял Брая очень любезно, высказал полную готовность пойти навстречу желаниям королевы Марии и попросил Брая еще раз наведаться к нему.
Как только Брай ушел, епископ вышел из своего дома и направился в Сити; здесь он вошел в один из домов, который судя по вывеске, был банкирской конторой.
Банкир Ридольфи, директор итальянской промышленной компании в Лондоне, флорентинец по рождению и родственник Медичи, был очень богатым человеком, Его главная деятельность заключалась в защите интересов папы, тайным агентом которого он был. Ридольфи был кредитором многих важных особ и таким образом держал их в руках. Он был тоже замешан в заговоре против королевы Елизаветы и долгое время просидел в тюрьме, откуда его выпустили под залог в тысячу фунтов.
Для беседы епископ был приглашен в потайной кабинет Ридольфи.
Необходимо отправить в Испанию верного человека, — предложил епископ, — и я выбрал для этого вас!
— Я готов отправиться, — согласился итальянец.
От банкира епископ проследовал к испанскому посланнику дону Джеральдо Эспалю, чтобы получить для своего посланца необходимый паспорт и рекомендации. Он получил все требуемое, и теперь все дело было за письмом, которое Ридольфи должен был передать испанскому королю Филиппу Второму.
Баркер вернулся в Лондон и отыскал Сэррея в гостинице, где тот остановился.
— Милорд, — сказал он, — герцог Норфолк кланяется вам и благодарит вас. Мне, разумеется, не надо рекомендовать вам осторожность при выполнении всего этого предприятия?
— Разумеется, — ответил Сэррей. — Ну а что вы привезли?
— Два письма, которые вы должны доставить.
Сэррей взял письма, простился с секретарем и отправился к епископу Росскому.
Тот очень любезно принял графа, поблагодарил за содействие и обещал быстро и надежно передать письма по назначению.
Сэррей послал Брая с письмом к королеве Марии, а епископ поспешил отправить итальянца с важным документом из Лондона.
В 1570 году Марию Стюарт перевезли из Тэтбюри в Чэтсуорт в графстве Дэрби.
В это время в Лондоне разразилась чума, которая проникла также и в Тауэр, где томился в заключении Норфолк. Он и Мария ухитрялись и из тюрьмы продолжать начатую еще ранее переписку. Когда Мария Стюарт увидела, что Франция отказалась помогать ей, то она обратилась с просьбой о помощи к Филиппу Второму Испанскому, и Норфолк знал об этом.
Но об этой переписке знала и Елизавета, Она приказала из-за чумы выпустить Норфолка из Тауэра, но сослала его в замок Линн, где он должен был жить безвыездно под надзором двух агентов «Звездной палаты». Перед отъездом из Лондона он вынужден был обещать, что не станет впредь поддерживать с Марией Стюарт никаких отношений, он поклялся в этом своим честным словом и дал подписку с приложением своей печати, но в душе был полон твердого намерения нарушить обещание.
В один из пасмурных мартовских дней четверо всадников переезжали границу графства Дэрби, направляясь к Чэтсуорту. Они не торопились, хотя дождь и лил как из ведра.
По внешнему виду этих всадников можно было принять за купцов или торговцев, которые в то время постоянно колесили с дорожным мешком за спиной по всей Англии. Но в эти одежды вырядились Сэррей, Брай, Филли и Джонстон.
С тех пор, как Филли убедилась в подлости Лейстера, в ней произошел громадный внутренний перелом. Как когда- то прежде она была готова на все из-за любви к Лейстеру, так теперь из благодарности к Сэррею и Браю способна была пожертвовать чем угодно. Ведь она знала, какую жертву принесли ей они и сумела оценить ее.
Сэррей, отправившийся после изгнания в Шотландию, нашел случай примириться с Георгом Сэйтоном и получил от него разрешение посвататься к Джэн. Теперь же, вопреки запрещению королевы Елизаветы, он опять возвращался в Англию, чтобы попытаться сделать все, что в его силах, для шотландской королевы и — в случае возможности — также для своего родственника герцога Норфолка.
Что касается Брая, то у него было много оснований, чтобы последовать за Филли и Сэрреем. Джонстон рад был новому приключению.
Все четверо прибыли в Чэтсуорт к вечеру, когда почти совершенно стемнело. Там они остановились в харчевне сомнительного вида.
Марию Стюарт стерегли очень строго, она была лишена многих насущнейших удобств, но жестокость в отношении к ней не простиралась настолько далеко, чтобы лишить возможности общаться с кем ей захочется. В то время относительно этого еще не было отдано специальных распоряжений, а ее стражи чувствовали к ней достаточно уважения, чтобы не принимать более строгих мер, чем те, которые были предписаны. Поэтому, когда Филли знаками стала предлагать лицам свиты и придворным дамам разные безделушки для продажи, ее окружили покупатели и любопытные, среди которых, разумеется, были и стражники.
У них под носом Филли удалось передать Джэн Сэйтон три письма, из которых одно было к королеве от Сэррея, а остальные — ей самой, от Сэррея и ее брата.
Как только Филли ушла, Джэн Сэйтон поспешила к королеве. Нельзя описать радость Марии, когда она узнала, какие лица опять оказались вблизи от нее с готовностью оказать ей помощь. Она ответила на письмо Сэррея той же ночью, кроме того, написала письма епископу Росскому и герцогу Норфолку, оба шифрованные; эти письма Джэн должна была ухитриться передать Филли.
В то время как Мария Стюарт писала письма, возбужденная радостной надеждой, Джэн была задумчива и грустна, но в конце концов и она тоже написала свое письмо Сэррею, и когда Филли появилась на следующий день, то ей было вручено четыре письма.
Королева благодарила Сэррея за предложение своих услуг и верность, просила отвезти зашифрованные письма и выражала согласие принять к себе в услужение Тони Ламберт, как это предлагал Сэррей.
Джэн написала, что предаст свою сестру, если примет предложение Сэррея вступить с ним в брак, почему и вынуждена самым решительным образом отклонить его предложение.
Прочитав ее письмо, Сэррей закрыл лицо руками и долго молчал, но потом, тяжело вздохнув, взял себя в руки.
— Сэр Брай, — спокойно сказал он, — мы оба поедем с вами ночью дальше, а Филли и Джонстон останутся здесь, как только Тони прибудет сюда, Филли поведет ее к королеве и вообще постарается поддерживать постоянное сообщение с замком.
После ужина Сэррей и Брай сели на лошадей и, оставив Чэтсуорт, поскакали в Лондон.
В Лондоне Сэррею сказали, что герцог Норфолк выпущен из Тауэра. Поэтому он отправился в городской дом Норфолка, где секретарь герцога, некий Баркер, узнав Сэррея, поведал ему о том, что Норфолк отправлен в Линн. По счастливой случайности секретарь упомянул имя Пельдрама, который сторожит графа, И хотя Сэррей не мог твердо знать, тот ли это Пельдрам, который служил Лейстеру, но все же решил не ездить в Линн, а передать письмо королевы Норфолку через Баркера.
Герцог был страшно доволен, получив письмо. Он поблагодарил Баркера, приказал ему отдохнуть, пока будет готов ответ, а сам позвал своего старшего секретаря Гайфорда, которому и приказал расшифровать письмо Марии.
Она сообщала о предпринятых ею шагах. Послала письмо испанскому королю, так как считала его помощь безусловно необходимой. Просила Норфолка дать слово перейти в католичество, поскольку только при этом условии можно рассчитывать на поддержку английской аристократии. Спрашивала герцога, какое количество вооруженных людей ему необходимо для поддержки. Обо всем этом герцог должен был сообщить ей и епископу Росскому.
Норфолк сейчас же приказал Гайфорду написать требуемые письма. Он выразил согласие на переход в католичество и полную уверенность в поддержке большинства представителей английской знати, так как все они придерживаются католической религии. Сообщил, сколько войска мог бы выставить сам и сколько ему нужно для поддержки солдат и денег!
Приказав сжечь полученное письмо, герцог позвал Баркера и вручил ему оба своих ответных письма.
Брай тоже был не менее осторожен, чем Сэррей. Он отправился во дворец к графине Гертфорд и попросил ее съездить к епископу Росскому, жившему в Лондоне в качестве представителя интересов Марии, и испросить для него аудиенцию. Графиня согласилась и вскоре явилась с ответом, что епископ ожидает Брая.
Епископ принял Брая очень любезно, высказал полную готовность пойти навстречу желаниям королевы Марии и попросил Брая еще раз наведаться к нему.
Как только Брай ушел, епископ вышел из своего дома и направился в Сити; здесь он вошел в один из домов, который судя по вывеске, был банкирской конторой.
Банкир Ридольфи, директор итальянской промышленной компании в Лондоне, флорентинец по рождению и родственник Медичи, был очень богатым человеком, Его главная деятельность заключалась в защите интересов папы, тайным агентом которого он был. Ридольфи был кредитором многих важных особ и таким образом держал их в руках. Он был тоже замешан в заговоре против королевы Елизаветы и долгое время просидел в тюрьме, откуда его выпустили под залог в тысячу фунтов.
Для беседы епископ был приглашен в потайной кабинет Ридольфи.
Необходимо отправить в Испанию верного человека, — предложил епископ, — и я выбрал для этого вас!
— Я готов отправиться, — согласился итальянец.
От банкира епископ проследовал к испанскому посланнику дону Джеральдо Эспалю, чтобы получить для своего посланца необходимый паспорт и рекомендации. Он получил все требуемое, и теперь все дело было за письмом, которое Ридольфи должен был передать испанскому королю Филиппу Второму.
Баркер вернулся в Лондон и отыскал Сэррея в гостинице, где тот остановился.
— Милорд, — сказал он, — герцог Норфолк кланяется вам и благодарит вас. Мне, разумеется, не надо рекомендовать вам осторожность при выполнении всего этого предприятия?
— Разумеется, — ответил Сэррей. — Ну а что вы привезли?
— Два письма, которые вы должны доставить.
Сэррей взял письма, простился с секретарем и отправился к епископу Росскому.
Тот очень любезно принял графа, поблагодарил за содействие и обещал быстро и надежно передать письма по назначению.
Сэррей послал Брая с письмом к королеве Марии, а епископ поспешил отправить итальянца с важным документом из Лондона.

Глава третья
ВЫСШАЯ ПОЛИТИКА

 Внезапный отказ Франции поддерживать Марию Стюарт, мог бы показаться странным, если бы не было веских причин, таившихся в закулисной дипломатической борьбе. Дело в том, что до этого Франция снова завязала переговоры с Бэрлеем относительно возможности замужества Елизаветы с одним из французских принцев графом Анжуйским, Пока эти переговоры велись на словах и неофициально, так как Бэрлей считал момент неподходящим для такого политического брака. Но канцлер также понимал, что в последнее время Англия сильно обеднела, чума и голод последних лет ослабили ее силы. Поэтому считал необходимым дать французскому посланнику надежду на скорое и благоприятное разрешение этого вопроса, потребовав взамен, чтобы Франция отказалась от активного заступничества за Марию Стюарт.
Бэрлей помнил клятву, данную в его присутствии Елизаветой, — клятву в том, что она никогда не выйдет замуж, и не думал, что она нарушит ее. Нарушение этой клятвы не входило в его планы. Как хитрый дипломат, он просто хотел использовать все благоприятное значение момента.
Он отправился к графу Лейстеру, высказал ему, в каком затруднительном положении находится сейчас страна, и потом рассказал о предложении французского посланника, графа д’ Обиспена, заключить вечный и нерушимый мир с Францией. Так как подобные миры заключались неоднократно, но обыкновенно вскоре нарушались, то залогом прочности данного мира должен был быть брак королевы Елизаветы с графом Анжуйским. По иронии судьбы Бэрлей предложил именно Лейстеру поговорить об этом браке с Елизаветой.
Как ни неприятно было подобное поручение Лейстеру, он должен был взяться за него. Он понимал, конечно, что в его устах подобное предложение должно показаться Елизавете особенно оскорбительным. Но надеялся, вызвав в ней вспышку гнева, перевести ее в приступ былой нежности. Тогда или все прошлое будет окончательно забыто, или Елизавета все-таки склонится к мысли о браке с ним, Лейстером. Он уже не в силах был оставаться в таком положении, в котором очутился после раскрытия его истории с Филли. Хотя внешне он вроде сохранил полную власть и влияние, но на самом деле Елизавета обращалась с ним теперь презрительно и высокомерно, и, когда они оставались наедине, он даже не осмеливался приблизиться к ней. Если же сватовство рассердит королеву, то ему легко будет указать, что это Бэрлей попросил его заговорить с ней о данном деле, а он, Лейстер, как лицо, стоящее к ней ближе всех, не счел себя вправе выдвигать личные чувства и забывать ради них выгоду государства.
С этими мыслями Лейстер отправился во дворец, чтобы присутствовать на утренней аудиенции, по окончании ее он последовал за королевой в ее апартаменты и остановился там в молчаливом ожидании на пороге.
Вскоре ему представилась возможность заговорить с Елизаветой, отвечая на брошенное ею замечание по поводу чумы. С этого замечания Лейстер перешел на внутреннее положение Англии и в конце концов коснулся вопроса о возможности вечного мира с Францией и высказал, каким образом этот мир мог бы быть осуществлен.
Услышав, что Лейстер предлагает ей замужество с французским принцем, Елизавета вскочила как ужаленная. Ее глаза метнули молнии, лицо запылало гневом, руки судорожно сжимались в кулаки, Это был опасный момент, и Лейстер хорошо сознавал это.
— Милорд, — сказала королева, — вот уже два раза вы рисковали на такие вещи, которые заставляли меня предполагать, что вы смотрите на свои отношения ко мне, как на легкомысленную интрижку с распутной девкой. Теперь вы, кажется, в третий раз решаетесь на это?
— Ваше величество, я думаю, меня трудно в этом заподозрить! Если я рискнул передать вам это предложение, которое исходит от милорда Бэрлея, то только потому, что он хотел сначала видеть, какое впечатление может произвести это на ваше величество, а уже потом сделать вам официальный доклад.
Елизавета несколько успокоилась, а в глазах, обращенных на графа Лейстера, теперь виднелась только глубокая скорбь.
— Вы обсуждали с Бэрлеем этот вопрос? — спросила она.
— Да, ваше величество.
— И что вы сказали по этому поводу?
— Я высказал, что вечный и нерушимый мир с Францией настолько неизмеримо важнее моих личных чувств, что о последних и речи быть не может…
— Ах, Дэдлей, и вы, вы…
Лейстер преклонил колено, схватил руку королевы и страстно поцеловал.
Но, словно ужаленная, Елизавета вырвала руку.
— Довольно! — холодно сказала. — Между нами не должно быть больше подобных глупостей! Ступайте! Я подумаю на досуге об этом деле.
Когда Лейстер рассказал Бэрлею о происшедшей сцене, тот, улыбнувшись, поблагодарил Лейстера и отправился к французскому послу с заявлением, что теперь может принять официальное представление об интересующем Францию предмете.
На следующий день лорд имел продолжительный разговор с Елизаветой. Он доказывал ей, что согласие в сущности ни к чему не обязывает, что переговоры можно будет затянуть года на два, а за это время Англия оправится и не будет уже нуждаться в помощи Франции. Иначе же их положение может стать затруднительным. Со стороны Испании надвигается гроза, и уже теперь надо готовить флот, способный дать ей отпор. Если под предлогом заступничества за Марию Стюарт в дело вмешается еще и Франция, то Англии придется слишком трудно. А пока переговоры о браке будут вестись, Франция будет вынуждена держаться строгого нейтралитета. В конце концов Елизавета согласилась с этими доводами, и было решено передать французскому посланнику, что его предложение встречено королевой очень милостиво.
Таким образом, благодаря тонкому политическому шагу Бэрлея Мария Стюарт потеряла надежду на поддержку с той стороны, с которой могла ожидать ее больше всего.
Внезапный отказ Франции поддерживать Марию Стюарт, мог бы показаться странным, если бы не было веских причин, таившихся в закулисной дипломатической борьбе. Дело в том, что до этого Франция снова завязала переговоры с Бэрлеем относительно возможности замужества Елизаветы с одним из французских принцев графом Анжуйским, Пока эти переговоры велись на словах и неофициально, так как Бэрлей считал момент неподходящим для такого политического брака. Но канцлер также понимал, что в последнее время Англия сильно обеднела, чума и голод последних лет ослабили ее силы. Поэтому считал необходимым дать французскому посланнику надежду на скорое и благоприятное разрешение этого вопроса, потребовав взамен, чтобы Франция отказалась от активного заступничества за Марию Стюарт.
Бэрлей помнил клятву, данную в его присутствии Елизаветой, — клятву в том, что она никогда не выйдет замуж, и не думал, что она нарушит ее. Нарушение этой клятвы не входило в его планы. Как хитрый дипломат, он просто хотел использовать все благоприятное значение момента.
Он отправился к графу Лейстеру, высказал ему, в каком затруднительном положении находится сейчас страна, и потом рассказал о предложении французского посланника, графа д’ Обиспена, заключить вечный и нерушимый мир с Францией. Так как подобные миры заключались неоднократно, но обыкновенно вскоре нарушались, то залогом прочности данного мира должен был быть брак королевы Елизаветы с графом Анжуйским. По иронии судьбы Бэрлей предложил именно Лейстеру поговорить об этом браке с Елизаветой.
Как ни неприятно было подобное поручение Лейстеру, он должен был взяться за него. Он понимал, конечно, что в его устах подобное предложение должно показаться Елизавете особенно оскорбительным. Но надеялся, вызвав в ней вспышку гнева, перевести ее в приступ былой нежности. Тогда или все прошлое будет окончательно забыто, или Елизавета все-таки склонится к мысли о браке с ним, Лейстером. Он уже не в силах был оставаться в таком положении, в котором очутился после раскрытия его истории с Филли. Хотя внешне он вроде сохранил полную власть и влияние, но на самом деле Елизавета обращалась с ним теперь презрительно и высокомерно, и, когда они оставались наедине, он даже не осмеливался приблизиться к ней. Если же сватовство рассердит королеву, то ему легко будет указать, что это Бэрлей попросил его заговорить с ней о данном деле, а он, Лейстер, как лицо, стоящее к ней ближе всех, не счел себя вправе выдвигать личные чувства и забывать ради них выгоду государства.
С этими мыслями Лейстер отправился во дворец, чтобы присутствовать на утренней аудиенции, по окончании ее он последовал за королевой в ее апартаменты и остановился там в молчаливом ожидании на пороге.
Вскоре ему представилась возможность заговорить с Елизаветой, отвечая на брошенное ею замечание по поводу чумы. С этого замечания Лейстер перешел на внутреннее положение Англии и в конце концов коснулся вопроса о возможности вечного мира с Францией и высказал, каким образом этот мир мог бы быть осуществлен.
Услышав, что Лейстер предлагает ей замужество с французским принцем, Елизавета вскочила как ужаленная. Ее глаза метнули молнии, лицо запылало гневом, руки судорожно сжимались в кулаки, Это был опасный момент, и Лейстер хорошо сознавал это.
— Милорд, — сказала королева, — вот уже два раза вы рисковали на такие вещи, которые заставляли меня предполагать, что вы смотрите на свои отношения ко мне, как на легкомысленную интрижку с распутной девкой. Теперь вы, кажется, в третий раз решаетесь на это?
— Ваше величество, я думаю, меня трудно в этом заподозрить! Если я рискнул передать вам это предложение, которое исходит от милорда Бэрлея, то только потому, что он хотел сначала видеть, какое впечатление может произвести это на ваше величество, а уже потом сделать вам официальный доклад.
Елизавета несколько успокоилась, а в глазах, обращенных на графа Лейстера, теперь виднелась только глубокая скорбь.
— Вы обсуждали с Бэрлеем этот вопрос? — спросила она.
— Да, ваше величество.
— И что вы сказали по этому поводу?
— Я высказал, что вечный и нерушимый мир с Францией настолько неизмеримо важнее моих личных чувств, что о последних и речи быть не может…
— Ах, Дэдлей, и вы, вы…
Лейстер преклонил колено, схватил руку королевы и страстно поцеловал.
Но, словно ужаленная, Елизавета вырвала руку.
— Довольно! — холодно сказала. — Между нами не должно быть больше подобных глупостей! Ступайте! Я подумаю на досуге об этом деле.
Когда Лейстер рассказал Бэрлею о происшедшей сцене, тот, улыбнувшись, поблагодарил Лейстера и отправился к французскому послу с заявлением, что теперь может принять официальное представление об интересующем Францию предмете.
На следующий день лорд имел продолжительный разговор с Елизаветой. Он доказывал ей, что согласие в сущности ни к чему не обязывает, что переговоры можно будет затянуть года на два, а за это время Англия оправится и не будет уже нуждаться в помощи Франции. Иначе же их положение может стать затруднительным. Со стороны Испании надвигается гроза, и уже теперь надо готовить флот, способный дать ей отпор. Если под предлогом заступничества за Марию Стюарт в дело вмешается еще и Франция, то Англии придется слишком трудно. А пока переговоры о браке будут вестись, Франция будет вынуждена держаться строгого нейтралитета. В конце концов Елизавета согласилась с этими доводами, и было решено передать французскому посланнику, что его предложение встречено королевой очень милостиво.
Таким образом, благодаря тонкому политическому шагу Бэрлея Мария Стюарт потеряла надежду на поддержку с той стороны, с которой могла ожидать ее больше всего.

Глава четвертая
СОВЕЩАНИЕ В ЭСКУРИАЛЕ

 Совещание о судьбе Марии Стюарт происходило как раз в Эскуриале в гигантской усыпальнице испанских королей, выстроенной Филиппом II, и это можно было бы счесть за дурное предзнаменование. Банкир Ридольфи, посланец заговорщиков, прибыл в Мадрид, и 5 июля 1571 года Филипп II дал ему тайную аудиенцию, На ней присутствовал лишь один министр, который просмотрел верительные грамоты и рекомендательные письма итальянца: от испанского посланника в Лондоне, дона Джеральде Эспаль, от герцога Альбы, который писал, что Ридольфи можно смело довериться, и, наконец, от римского папы Пия Пятого.
«Наш возлюбленный сын, Роберт Ридольфи, — писал папа, — представит Вам, Ваше Величество, с Божьей помощью суждения о некоторых делах, которые могут значительно помочь делу христианства и послужить во славу Божию.
Мы просим Вас, Ваше Величество, в этом отношении подарить Ридольфи полнейшее доверие и заклинаем Вас, памятуя о Вашем выдающемся рвении к интересам церкви, принять участие в его предложениях и сделать в этом отношении все, что покажется возможным Вам.
Мы просим Вас, Ваше Величество, подвергнуть все это дело зрелому размышлению и молимся Спасителю о ниспослании удачи всем Вашим делам и начинаниям».
Ридольфи передал также письмо герцога Норфолка и различные словесные поручения заговорщиков, согласно тому, что сообщил ему епископ Росский.
Через день было назначено совещание. Король предложил собравшимся просмотреть все документы, относящиеся к данному делу, и высказать свое мнение.
Просмотр документов не вызвал ни у кого особых замечаний, Только по поводу писем папы и герцога Норфолка Филипп II отметил, что в настоящее время его королевская сокровищница пуста, так что этим он служить не может.
В своем письме Мария Стюарт просила;
«Пусть Тайный совет испанского короля, защитника и опоры католической церкви, не откажет в своей помощи, если не ради меня, то дабы поставить весь остров (Англию) под покров и защиту высокого повелителя и короля».
Испанский посланник при папском дворе Дон-Жуан Цунига доносил, что счел себя обязанным представить папе все затруднения, связанные с данным делом, и предостеречь его от излишнего доверия к посреднику переговоров.
В письме Альбы к герцогу Фериа было коротко и определенно сказано, что предприятие слишком трудно и не может удасться хотя бы потому, что оно вверено дураку и болтуну, каким он считает Ридольфи.
Серьезное значение имело состоящее из двадцати страниц письмо герцога Альбы из Нидерландов к самому королю Филиппу, в котором, в частности, говорилось:
«Сострадание и интерес, которые должно внушить Вам, Ваше Величество, недостойное обращение с королевой шотландской и ее сторонниками, возлагаемая на Вас Богом обязанность содействовать по возможности победе и восстановлению католицизма в Англии, оскорбления, нанесенные в различных видах королевой английской Вам, Ваше Величество, и Вашим подданным, не оставляющие никакой надежды на улучшение отношений при ее царствовании, — все эти причины заставляют меня признать план королевы шотландской и герцога Норфолка, при его удачном исполнении, наиболее пригодным для отвращения зла».
Далее Альба разъяснял трудности выполнения плана и учитывал последствия его преждевременного раскрытия.
«Вследствие этого, — продолжал Альба, — никто не может посоветовать Вам, Ваше Величество, дать свое согласие на требуемое содействие в указываемой форме. Но, если бы королева английская умерла естественной или другой смертью, или если бы ее захватили без Вашего влияния, я ничего не имел бы против этого. Переговоры между королевой английской и герцогом Анжуйским прекратились бы, французы менее боялись бы Ваших замыслов завладеть Англией, а немцы стали бы менее подозрительны, видя, что Вы, Ваше Величество, не имеете другой цели, как только поддержать королеву шотландскую в ее правах на английский престол против других претендентов. Тогда справиться с последними было бы легко еще до вмешательства других коронованных особ…»
Герцог Альба, этот палач Нидерландов, как видно из письма, лишь осторожно намекал на возможность «другой» смерти для королевы английской, кроме естественной, словно он совсем не был посвящен в эту часть плана заговорщиков.
Из протокола совещания с Ридольфи понятно, что у заговорщиков было три пути для достижения цели, а именно: возбуждение восстания, поддержка этого восстания Филиппом II и, по возможности, честный бой; или захват королевы английской, восстание, бой или, наконец, убийство Елизаветы, уничтожение ее партии. В результате благополучного исхода дела можно было бы возвести Марию Стюарт на трон трех соединенных государств — Англии, Шотландии и Ирландии. Кроме того, в своих разъяснениях Ридольфи повторил обещания Марии, а также Норфолка и других заговорщиков.
Когда совет ознакомился с делом, король, предложив Ридольфи выйти, попросил советников высказать свое мнение. Большинство высказалось против оказания помощи заговорщикам.
После долгого молчания Филипп II велел позвать Ридольфи и объявил ему, чтобы он написал Марии Стюарт, Норфолку и епископу Росскому: король даст необходимые приказания. А за спиной Ридольфи остерег испанского посла в Лондоне не входить в слишком близкие отношения с заговорщиками.
Герцогу же Альбе король написал:
«Так как Вы твердо убеждены, что нам нет расчета принимать слишком близкое участие в этом деле, пока союзники не выступят в должной силе, и так как мне известна Ваша мудрая заботливость, то я полагаюсь всецело на Вас, дабы Вы, после зрелого обсуждения, служа Богу и мне, поступили как находите лучшим. Я же уверен, что Вы поведете это большое предприятие с усердием, стойкостью и мудростью».
Ридольфи под благовидным предлогом задержали в Испании, чтобы тайные письма успели дойти раньше его прибытия в Брюссель для встречи с Альбой. И когда Ридольфи встретился с ним, тот осторожно обещал послать подкрепления только в том случае, если в Англии разыграется настоящее дело. Ридольфи оказался в очень трудном положении: его доверители побуждали его действовать, Альба же не обнаруживал никакой уступчивости.
Наконец епископ Росский потребовал определенных донесений через одно доверенное лицо. Ридольфи изложил свой отчет шифрами и, кроме того, передал указанному лицу письма к Марии Стюарт, Норфолку, графу Лэмлею и дону Эспалю.
Фламандец, взявшийся за передачу писем, назывался Карлом Балльи. В Брюсселе он достал для епископа Росского шифрованную азбуку, которая должна была служить союзникам при их письменных сношениях.
Балльи выехал из Голландии и прибыл в гавань Дувр. Когда причаливали к берегу, он позвал своего лакея, а так как тот не являлся, пошел искать его и нашел этого молодца пьяным. Балльи велел ему подняться наверх, взять сундук и следовать за ним.
— Вот еще! — воскликнул лакей. — Мне следовать за вами! Мне нести ваш сундук! Несите его сами и убирайтесь к черту! Я — англичанин и значу больше, чем вы! Ну, что вам еще нужно?
Балльи не мог сдержать себя и ударил лакея. Тот ответил ему, началась бешеная потасовка, послужившая большим развлечением для матросов и пассажиров, Они признали в Балльи иностранца — и на него посыпались угрозы, заставившие его искать защиты. Полиция задержала Балльи и препроводила в адмиралтейство, где жил губернатор пяти портовых городов — лорд Кобам.
Совершенно незначительное это происшествие приняло более серьезный характер, когда лорд пожелал выслушать Балльи и его лакея.
Первым дал свои объяснения Балльи.
— Прекрасно, — возразил лакей, — этот человек — шпион, изменник, бунтовщик, ведущий преступные переговоры с палачом Альба в Нидерландах.
Балльи испугался.
— А кто вы? — спросил лорд Кобам лакея.
— Меня зовут Кингтоном, — ответил лакей. — Милорд Лейстер знает меня и удостоверит мою личность, если вы найдете нужным сообщить ему обо мне. А этот человек, указал он на Балльи, — имеет при себе важные бумаги, прикажите обыскать его. Сундук Балльи был осмотрен, пакет с депешами найден, а так как шифрованное письмо показалось подозрительным, то Балльи и Кингтон были арестованы.
Лорд Кобам послал об этом донесение в Лондон.
Между тем епископ Росский, с нетерпением ожидавший своего агента, поехал ему навстречу в Дувр. Он узнал о задержании Балльи и отправился к Кобаму, с которым случайно был знаком.
— Милорд, — сказал он после первого приветствия, — вы арестовали человека, который находится у меня на службе.
— И не думал, сэр, — ответил Кобам.
Да, вы арестовали фламандца Балльи, у него находятся мои вещи. И я прошу вас вернуть их мне, если его не отпустят на свободу.
— Не отпустят, так как против него есть обвинение.
— А мои вещи?
— Они будут вам возвращены. Вон там стоит сундук. Отыщите свои вещи сами.
Губернатор либо был слишком занят, либо питал слишком много доверия к епископу, или — что самое вероятное — состоял в заговоре с ним, так как тот спокойно взял свой пакет с письмами и удалился.
По приказу из Лондона Балльи и Кингтон вскоре были отправлены в Тауэр. К несчастью, у Балльи нашли записку от епископа Росского, в которой тот уведомлял его, что письма получил и предостерегал не изменять общему делу.
Это было серьезным козырем для Бэрлея, и он велел под пыткой допросить заключенного.
Балльи открыл все, что знал о переписке епископа Росского с Ридольфи и его отношениях с герцогом Альба.
Этого было достаточно, чтобы арестовать епископа и произвести у него домашний обыск. Хитрый епископ сумел устроить так, что у него ничего не нашли. Тем не менее было решено подвергнуть его допросу, и его объяснения должны были выслушать четыре члена государственного совета.
— Я не признаю этого суда, — гордо объявил епископ, — так как обязан отчетом только моей повелительнице, королеве шотландской. Я нахожусь в Лондоне и призван ее послом. Мое задержание считаю беззаконным.
Это было справедливо, и потому от допроса отказались.
Бэрлей знал теперь о существовании заговора, но не открыл еще его цели и имен заговорщиков. Он долго думал об этом деле и вдруг вспомнил о Пельдраме, уже однажды оказавшем ему подобную услугу Поэтому тотчас послал ему в Линн приказ явиться в Лондон. Четыре дня спустя Пельдрам был в приемной лорда Бэрлея, ожидая его распоряжений.
Совещание о судьбе Марии Стюарт происходило как раз в Эскуриале в гигантской усыпальнице испанских королей, выстроенной Филиппом II, и это можно было бы счесть за дурное предзнаменование. Банкир Ридольфи, посланец заговорщиков, прибыл в Мадрид, и 5 июля 1571 года Филипп II дал ему тайную аудиенцию, На ней присутствовал лишь один министр, который просмотрел верительные грамоты и рекомендательные письма итальянца: от испанского посланника в Лондоне, дона Джеральде Эспаль, от герцога Альбы, который писал, что Ридольфи можно смело довериться, и, наконец, от римского папы Пия Пятого.
«Наш возлюбленный сын, Роберт Ридольфи, — писал папа, — представит Вам, Ваше Величество, с Божьей помощью суждения о некоторых делах, которые могут значительно помочь делу христианства и послужить во славу Божию.
Мы просим Вас, Ваше Величество, в этом отношении подарить Ридольфи полнейшее доверие и заклинаем Вас, памятуя о Вашем выдающемся рвении к интересам церкви, принять участие в его предложениях и сделать в этом отношении все, что покажется возможным Вам.
Мы просим Вас, Ваше Величество, подвергнуть все это дело зрелому размышлению и молимся Спасителю о ниспослании удачи всем Вашим делам и начинаниям».
Ридольфи передал также письмо герцога Норфолка и различные словесные поручения заговорщиков, согласно тому, что сообщил ему епископ Росский.
Через день было назначено совещание. Король предложил собравшимся просмотреть все документы, относящиеся к данному делу, и высказать свое мнение.
Просмотр документов не вызвал ни у кого особых замечаний, Только по поводу писем папы и герцога Норфолка Филипп II отметил, что в настоящее время его королевская сокровищница пуста, так что этим он служить не может.
В своем письме Мария Стюарт просила;
«Пусть Тайный совет испанского короля, защитника и опоры католической церкви, не откажет в своей помощи, если не ради меня, то дабы поставить весь остров (Англию) под покров и защиту высокого повелителя и короля».
Испанский посланник при папском дворе Дон-Жуан Цунига доносил, что счел себя обязанным представить папе все затруднения, связанные с данным делом, и предостеречь его от излишнего доверия к посреднику переговоров.
В письме Альбы к герцогу Фериа было коротко и определенно сказано, что предприятие слишком трудно и не может удасться хотя бы потому, что оно вверено дураку и болтуну, каким он считает Ридольфи.
Серьезное значение имело состоящее из двадцати страниц письмо герцога Альбы из Нидерландов к самому королю Филиппу, в котором, в частности, говорилось:
«Сострадание и интерес, которые должно внушить Вам, Ваше Величество, недостойное обращение с королевой шотландской и ее сторонниками, возлагаемая на Вас Богом обязанность содействовать по возможности победе и восстановлению католицизма в Англии, оскорбления, нанесенные в различных видах королевой английской Вам, Ваше Величество, и Вашим подданным, не оставляющие никакой надежды на улучшение отношений при ее царствовании, — все эти причины заставляют меня признать план королевы шотландской и герцога Норфолка, при его удачном исполнении, наиболее пригодным для отвращения зла».
Далее Альба разъяснял трудности выполнения плана и учитывал последствия его преждевременного раскрытия.
«Вследствие этого, — продолжал Альба, — никто не может посоветовать Вам, Ваше Величество, дать свое согласие на требуемое содействие в указываемой форме. Но, если бы королева английская умерла естественной или другой смертью, или если бы ее захватили без Вашего влияния, я ничего не имел бы против этого. Переговоры между королевой английской и герцогом Анжуйским прекратились бы, французы менее боялись бы Ваших замыслов завладеть Англией, а немцы стали бы менее подозрительны, видя, что Вы, Ваше Величество, не имеете другой цели, как только поддержать королеву шотландскую в ее правах на английский престол против других претендентов. Тогда справиться с последними было бы легко еще до вмешательства других коронованных особ…»
Герцог Альба, этот палач Нидерландов, как видно из письма, лишь осторожно намекал на возможность «другой» смерти для королевы английской, кроме естественной, словно он совсем не был посвящен в эту часть плана заговорщиков.
Из протокола совещания с Ридольфи понятно, что у заговорщиков было три пути для достижения цели, а именно: возбуждение восстания, поддержка этого восстания Филиппом II и, по возможности, честный бой; или захват королевы английской, восстание, бой или, наконец, убийство Елизаветы, уничтожение ее партии. В результате благополучного исхода дела можно было бы возвести Марию Стюарт на трон трех соединенных государств — Англии, Шотландии и Ирландии. Кроме того, в своих разъяснениях Ридольфи повторил обещания Марии, а также Норфолка и других заговорщиков.
Когда совет ознакомился с делом, король, предложив Ридольфи выйти, попросил советников высказать свое мнение. Большинство высказалось против оказания помощи заговорщикам.
После долгого молчания Филипп II велел позвать Ридольфи и объявил ему, чтобы он написал Марии Стюарт, Норфолку и епископу Росскому: король даст необходимые приказания. А за спиной Ридольфи остерег испанского посла в Лондоне не входить в слишком близкие отношения с заговорщиками.
Герцогу же Альбе король написал:
«Так как Вы твердо убеждены, что нам нет расчета принимать слишком близкое участие в этом деле, пока союзники не выступят в должной силе, и так как мне известна Ваша мудрая заботливость, то я полагаюсь всецело на Вас, дабы Вы, после зрелого обсуждения, служа Богу и мне, поступили как находите лучшим. Я же уверен, что Вы поведете это большое предприятие с усердием, стойкостью и мудростью».
Ридольфи под благовидным предлогом задержали в Испании, чтобы тайные письма успели дойти раньше его прибытия в Брюссель для встречи с Альбой. И когда Ридольфи встретился с ним, тот осторожно обещал послать подкрепления только в том случае, если в Англии разыграется настоящее дело. Ридольфи оказался в очень трудном положении: его доверители побуждали его действовать, Альба же не обнаруживал никакой уступчивости.
Наконец епископ Росский потребовал определенных донесений через одно доверенное лицо. Ридольфи изложил свой отчет шифрами и, кроме того, передал указанному лицу письма к Марии Стюарт, Норфолку, графу Лэмлею и дону Эспалю.
Фламандец, взявшийся за передачу писем, назывался Карлом Балльи. В Брюсселе он достал для епископа Росского шифрованную азбуку, которая должна была служить союзникам при их письменных сношениях.
Балльи выехал из Голландии и прибыл в гавань Дувр. Когда причаливали к берегу, он позвал своего лакея, а так как тот не являлся, пошел искать его и нашел этого молодца пьяным. Балльи велел ему подняться наверх, взять сундук и следовать за ним.
— Вот еще! — воскликнул лакей. — Мне следовать за вами! Мне нести ваш сундук! Несите его сами и убирайтесь к черту! Я — англичанин и значу больше, чем вы! Ну, что вам еще нужно?
Балльи не мог сдержать себя и ударил лакея. Тот ответил ему, началась бешеная потасовка, послужившая большим развлечением для матросов и пассажиров, Они признали в Балльи иностранца — и на него посыпались угрозы, заставившие его искать защиты. Полиция задержала Балльи и препроводила в адмиралтейство, где жил губернатор пяти портовых городов — лорд Кобам.
Совершенно незначительное это происшествие приняло более серьезный характер, когда лорд пожелал выслушать Балльи и его лакея.
Первым дал свои объяснения Балльи.
— Прекрасно, — возразил лакей, — этот человек — шпион, изменник, бунтовщик, ведущий преступные переговоры с палачом Альба в Нидерландах.
Балльи испугался.
— А кто вы? — спросил лорд Кобам лакея.
— Меня зовут Кингтоном, — ответил лакей. — Милорд Лейстер знает меня и удостоверит мою личность, если вы найдете нужным сообщить ему обо мне. А этот человек, указал он на Балльи, — имеет при себе важные бумаги, прикажите обыскать его. Сундук Балльи был осмотрен, пакет с депешами найден, а так как шифрованное письмо показалось подозрительным, то Балльи и Кингтон были арестованы.
Лорд Кобам послал об этом донесение в Лондон.
Между тем епископ Росский, с нетерпением ожидавший своего агента, поехал ему навстречу в Дувр. Он узнал о задержании Балльи и отправился к Кобаму, с которым случайно был знаком.
— Милорд, — сказал он после первого приветствия, — вы арестовали человека, который находится у меня на службе.
— И не думал, сэр, — ответил Кобам.
Да, вы арестовали фламандца Балльи, у него находятся мои вещи. И я прошу вас вернуть их мне, если его не отпустят на свободу.
— Не отпустят, так как против него есть обвинение.
— А мои вещи?
— Они будут вам возвращены. Вон там стоит сундук. Отыщите свои вещи сами.
Губернатор либо был слишком занят, либо питал слишком много доверия к епископу, или — что самое вероятное — состоял в заговоре с ним, так как тот спокойно взял свой пакет с письмами и удалился.
По приказу из Лондона Балльи и Кингтон вскоре были отправлены в Тауэр. К несчастью, у Балльи нашли записку от епископа Росского, в которой тот уведомлял его, что письма получил и предостерегал не изменять общему делу.
Это было серьезным козырем для Бэрлея, и он велел под пыткой допросить заключенного.
Балльи открыл все, что знал о переписке епископа Росского с Ридольфи и его отношениях с герцогом Альба.
Этого было достаточно, чтобы арестовать епископа и произвести у него домашний обыск. Хитрый епископ сумел устроить так, что у него ничего не нашли. Тем не менее было решено подвергнуть его допросу, и его объяснения должны были выслушать четыре члена государственного совета.
— Я не признаю этого суда, — гордо объявил епископ, — так как обязан отчетом только моей повелительнице, королеве шотландской. Я нахожусь в Лондоне и призван ее послом. Мое задержание считаю беззаконным.
Это было справедливо, и потому от допроса отказались.
Бэрлей знал теперь о существовании заговора, но не открыл еще его цели и имен заговорщиков. Он долго думал об этом деле и вдруг вспомнил о Пельдраме, уже однажды оказавшем ему подобную услугу Поэтому тотчас послал ему в Линн приказ явиться в Лондон. Четыре дня спустя Пельдрам был в приемной лорда Бэрлея, ожидая его распоряжений.

Глава пятая
ОТКРЫТИЕ

 Как только первому министру Елизаветы доложили, что в приемной его ожидает некий Пельдрам, тот быстро вскочил и велел впустить ожидавшего. Пельдрам вошел, Бэрлей приказал присутствовавшему в комнате секретарю удалиться, а сам стал перед вошедшим и устремил на него пытливый взор. Пельдрам храбро выдержал этот взгляд и спокойно ждал, что министр скажет.
— Сэр Пельдрам, — наконец начал Бэрлей, — как вам живется в замке Линн?
— Очень спокойно, — ответил Пельдрам. — Мне редко приходилось вести столь мирную жизнь.
— А что делает герцог?
— О нем нельзя сказать ничего особенного: он гуляет, ездит верхом, катается, охотится, разговаривает со своими слугами.
— Принимает ли он посторонних?
— Никогда.
— Ведет ли он корреспонденцию?
— Несомненно?
— Кому поручаются для отправки его письма?
— Его лакеям. Но ведь был определенный приказ не мешать им ни в чем.
— Я знаю это, но ловкий человек должен понимать двойственность всякого приказа.
— А-а! Ну, я сомневаюсь, чтобы лакеи были посвящены в тайны герцога.
— Но можно было бы узнать адреса писем, отправляемых герцогом.
— Их я знаю, милорд.
— Значит, вы все же проявили зоркость. Ну, потом назовете мне имена адресатов, а теперь скажите; как вы отнесетесь к известию, что ваш друг Кингтон посажен мной в тюрьму?
— Слава Богу, милорд! Я думаю, что он не должен выйти из нее иначе, чем на виселицу.
— Дело обстоит приблизительно так. Но слушайте дальше! Кингтон был лакеем у некоего Балльи, везшего секретные письма к епископу Росскому. Господин и слуга были задержаны, а их бумаги конфискованы, но исчезли необъяснимым образом. Епископ, получивший эти бумаги, арестован, но у него ничего не нашли. Балльи сознался, что епископ через итальянца Ридольфи состоит в отношениях с герцогом Альба. Это что-нибудь да означает. Очевидно, есть заговор, и вы должны выяснить мне это.
— Задача нелегкая!
— Вы правы, но я выдам вам Кинггона, а вы мне взамен — заговорщиков.
— За голову Кинггона стоит постараться.
— Меня очень удивило бы, если бы герцог не был замешан в деле; назовите мне людей, которым он адресует свои письма.
— Большей частью своему секретарю Баркеру, живущему здесь, в Лондоне, затем Лэмлею, Соустэмитону и Перси.
— Так, так! Было бы хорошо, если бы вы послали верного человека в Чэтсуорт, так как настоящего главаря заговора, несомненно, надо искать там.
— Я буду наблюдать за этим уголком.
— Хорошо!… Я вскоре буду ожидать ваших сообщений. Теперь идите!…
Пельдрам раскланялся и вышел из комнаты. В глубоком раздумье он покинул дом и направился по улице и через какое-то время остановился напротив дома французского посла.
В этот момент из дома вышел секретарь Норфолка Баркер, осмотрелся кругом и поспешно удалился.
Это обстоятельствоимело очень важное значение для Пельдрама, без долгих рассуждений он отправился ко дворцу Норфолка и, став поблизости, стал наблюдать. Уже через полчаса он увидел этого секретаря, отъезжавшего верхом.
Пельдрам поспешил в свою квартиру, велел оседлать лошадь и последовал за Баркером, который, судя по его расчетам, мог ехать только к своему господину. Но, прежде чем он оставил Лондон, ему неожиданно попался навстречу Брай, который, казалось, его не заметил.
У Пельдрама не было ни времени, ни охоты преследовать Брая, он преследовал Баркера. Секретарь явно смутился, когда Пельдрам объявил, что намерен совершить путь до замка Линн в его обществе. Отклонить компанию нежелательного спутника не было никакой возможности, и оба продолжали путь. Пельдрам ни на секунду не спускал взгляда со своего попутчика, так как его чутье подсказывало ему, что он напал на верный след.
Путешественники прибыли в замок Линн, и пока Пельдрам делал вид, что собирается позаботиться об отдыхе, Баркер отправился к своему господину.
— Деньги уплачены? — спросил Норфолк секретаря.
— Да, милорд, — ответил тот.
В кабинете графа находился и секретарь Гайфорд, которому Норфолк сказал:
— Расшифруйте присланное мне письмо.
Гайфорд принялся за работу и вскоре сообщил:
— Ваша светлость! Вас просят переслать верным путем переданные суммы лордам шотландской королевы в Эдинбург.
— Хорошо, это будет исполнено. Но кого пошлешь?
— Гайфорд, вы сами должны отправиться туда.
— Слушаю, милорд, — ответил секретарь.
О каких деньгах шла речь?
Несмотря на видимое уничтожение партии Марии Стюарт, война в Ирландии вспыхнула вновь. 2 сентября 1571 года графу Ленноксу, регенту Шотландии, назначенному Елизаветой вместо убитого Мюррея, удалось взять Дэмбертон. Среди пленных находился дядя Гамильтона, убившего Мюррея. Леннокс объявил его виновным в этом убийстве и приказал повесить. Это вызвало ярость в партии Марии, и ее члены попросили необходимые средства для продолжения войны у Франции, которая и выделила деньги.
Оба секретаря Норфолка покинули кабинет графа. Один из них отправился отдохнуть, другой — приготовиться к дороге. Они слышали впереди себя поспешно удаляющиеся шаги, но не придали этому значения. А между тем это Пельдрам подслушал весь разговор заговорщиков и быстро направился в комнаты, занимаемые им вместе с его агентом.
— Гекки, — приказал он, — надень оружие, пойди к герцогу, объяви ему, что он не смеет выходить из своей комнаты, и сторожи его хорошенько. Я думаю, что его голова представляет большую ценность для нас.
Гекки ответил пошловатым смехом, взял свое оружие и пошел исполнять приказание.
Герцог взглянул на него удивленными глазами.
— Что вам угодно?
— Я хочу составить вам компанию, милорд, — спокойно ответил охранник, — вы — мой пленник.
— По чьему приказанию?
— По приказанию сэра Пельдрама.
— Пельдрам не имеет никакого права вводить какие- либо ограничения моей свободы.
— Это — его дело. Мне же придется заставить вас повиноваться.
— Мы еще поговорим об этом, — сказал Норфолк как можно спокойнее, хотя заподозрил неладное.
Пельдрам отправился к коменданту замка и сказал ему твердым тоном:
— Выставьте караульных во дворе замка, велите часовым никого не пропускать в замок и не выпускать оттуда, приготовьте караульную комнату для приема пленников и дайте мне верного человека, который мог бы спешно доставить мой рапорт лорду Бэрлею.
Офицер не выразил не малейшего протеста, так как имя Сесила Бэрлея действовало магическим образом во всей Англии. Все требования Пельдрама были выполнены.
Пельдрам потребовал еще четырех стрелков в провожатые себе и вместе с ними тотчас же отправился к Гайфорду.
Тот был удивлен не менее, чем его господин при появлении стрелков.
— Отдайте письма, которые вы сейчас вынесли из комнаты герцога! — приказал Пельдрам.
Гайфорд отказался повиноваться.
Тогда Пельдрам подошел к нему, обыскал его, насильно отнял пакет и приказал солдатам:
— Свяжите его!
Его приказ был исполнен.
— Один из вас пусть отведет этого человека в караульную комнату и передаст его коменданту.
Гайфорда увели.
После этого Пельдрам отправился к старому кастеляну и также арестовал его. Баркера постигла та же участь.
Покончив с этим, Пельдрам поставил еще двух часовых перед помещением герцога, а затем написал Бэрлею свой рапорт и отослал его вместе с отобранными бумагами. В Чэтсуорт он отправил своего сотоварища Гекки для наблюдения за Марией. Стюарт.
Ничто не могло сравниться с радостью Бэрлея при известии об этом неожиданном раскрытии заговора. Тотчас же для следствия над арестованными в Линн была отправлена комиссия, и уже после первого допроса Гайфорд был отвезен в Лондон, где его заключили в Тауэр.
В тюрьме его снова допрашивали и подвергли пытке. Страх перед степенями пыток заставил его сознаться во всем и указать, где в замке Линн были спрятаны письма Марии Стюарт, епископа Росского и других к Норфолку. Письма были найдены и отправлены в Лондон вместе с Баркером и кастеляном. Их обоих пытали подобно Гайфорду, и они подтвердили показания своего единомышленника.
Был допрошен и епископ Росский. Он снова пробовал ссылаться на преимущества своего положения как посла, но ему дали понять, что своей изменой он утратил эти преимущества и точно так же может подвергнуться пытке, если еще долее будет упорствовать в своем молчании. Это подействовало, епископ сознался во всем, как и остальные заключенные.
По полученному приказу Пельдрам доставил в Лондон также и герцога Норфолка, который, как и другие, был посажен в Тауэр, а затем вскоре был также допрошен. Герцог написал королеве Елизавете письмо, полное раскаяния и просил о снисхождении и прощении. Но для такой просьбы время было слишком неблагоприятное, а события слишком осложнены.
Пельдрам окончил свою задачу в деле Норфолка и получил приказ ехать в Чэтсуорт для наблюдения за Марией Стюарт, а быть может, еще больше для того, чтобы добыть новые доказательства против обвиняемых или выискать новых заговорщиков.
Когда Гекки прибыл в Чэтсуорт, там еще ничего не знали о том, что произошло в Лондоне и Линне, и все вели себя по-прежнему свободно, так что Гекки мог беспрепятственно наблюдать за всеми. Вскоре он убедился, что тут находится какое-то лицо, при помощи которого Мария Стюарт сообщается с внешним миром, но долгое время никак не мог решить, кто был этим человеком, так как Филли и ее спутники выглядели простыми безобидными купцами, ради наживы посещающими замок.
В этот промежуток времени Сэррей пришел к решению освободить из заключения Марию Стюарт, не дожидаясь результатов заговора. С этой целью он несколько раз советовался с епископом Росским, сочувствовавшим его плану. И в то время, когда Пельдрам встретился с Браем, заговорщики были заняты приготовлениями к бегству Марии. Ради этого Брай был послан подготовить подходы к берегу моря и в маленьком городке — судно, на котором Мария Стюарт могла бы переправиться из Англии во Францию.
Арест епископа Росского, конечно, очень напугал заговорщиков, но они увидели, что арест не повлек за собой никаких серьезных последствий. Тем не менее Сэррей находил отсутствие епископа очень неприятным, так как союзники лишились главного действующего лица для связей, ставших со времени ареста епископа случайными и ненадежными. Поэтому легко себе представить весь ужас Сэррея, когда распространилась весть о раскрытии заговора, Он быстро вскочил на свою лошадь и помчался в Чэтсуорт спасти хоть что-то, что еще было возможно спасти.
Мария Стюарт со своей женской свитой жила спокойно в Чэтсуорте и искусно поддерживала отношения с внешним миром при помощи Тони Ламберт.
Так обстояло дело, когда Гекки наконец стал подозревать торговцев, постоянно посещающих замок, и постарался поближе познакомиться с ними. Это случилось, когда Брай вернулся, окончив порученное ему дело. Во время своей поездки он посетил Лондон и привез письма от Сэррея к Марии Стюарт. Гекки на правах земляка пытался сблизиться с Браем, но тот резко отвернулся от него, что и послужило для Гекки подтверждением его подозрения. Он сообщил об этом Пельдраму — и тот выехал в Чэтсуорт.
Сэррей прибыл раньше Пельдрама и тотчас же созвал своих товарищей.
— Друзья, — начал он, — я привез дурные вести: заговор раскрыт, самые важные его члены задержаны, наше пребывание здесь опасно. Филли, бегите в замок, сообщите там, что я сказал, и пусть уничтожат все письма и документы. Бегите скорей, скорей! А мы займемся приготовлением к отъезду.
Филли была теперь так известна в замке, что без особенного труда пробралась к Тони. Исполнив поручение, она хотела покинуть замок, но как раз в это время были усилены караульные посты и никого из замка не выпускали. Филли оказалась в плену вместе с другими.
Легко сообразить, от кого исходили эти строгости. Вскоре после Сэррея в Чэтсуорт прибыл Пельдрам. Когда он, как уже опытный полицейский, распорядился насчет главного, то пожелал повидать тех, кто был на подозрении.
А в это время Джонстон был на дворе, седлал лошадей. Брай отправился к хозяину уплатить по счету, а Сэррей беспокойно ходил взад и вперед по своей комнате. Приблизившись к окну, он бросил взгляд на улицу и отскочил от окна, схватившись за меч.
— Так и есть! Эта проклятая ищейка напала на наш след! — промолвил Сэррей и, спешно выбежав во двор, сказал Джонстону: — Поторопитесь, нас выследили.
Брай, покончивший расчеты с хозяином, вышел как раз в этот миг на лестницу.
— Вальтер, Вальтер! — позвал его Сэррей пониженным голосом. — Оглянитесь!
Пельдрам, стоявший со своими товарищами перед окном, увидел Сэррея и, тотчас узнав его, воскликнул:
— А!… Он самый! Это хорошо, Гекки, нам решительно повезло. Пойдем, но имей в виду, что нам придется здесь иметь дело с настоящими мужчинами.
Брай услышал предостерегающий голос Сэррея и тотчас узнал Пельдрама.
— Берегись! — обнажив меч, крикнул он, бросившись на Пельдрама, и страшный удар по голове сбросил того окровавленным на землю.
— Вперед, Гекки! — успел крикнуть Пельдрам, падая обессиленным.
— Ты — Гекки? — воскликнул Брай, парируя удар второго врага. — А, черт побери, с тобой-то и хотелось мне встретиться! Получи это за графа Нортумберленда.
Брай имел в виду то, что когда-то Гекки продал этого графа, попавшего в его руки.
Удар Вальтера был так меток и силен, что голова разбойника оказалась почти отрубленной, и он с предсмертным хрипом упал на землю.
— Что случилось? — воскликнул хозяин, выбегая во двор.
Все обитатели дома столпились у места происшествия.
— Разбойники хотели ограбить нас, — ответил Брай. — Нам нет надобности торопиться, друзья.
В это время появился солдат из замка и направился к Сэррею.
— Вы должны спешить, — тихо сказал он, — а молодая дама в безопасности.
— Задержите этих людей! — простонал Пельдрам.
— Кто вы? — спросил его солдат.
— Я…
— Пойдемте, Брай, нам лучше уйти! — сказал Сэррей…
Лошади были готовы, Джонстон, Брай и Сэррей вскочили в седла и выехали через открытые ворота на улицу, где уже собралась толпа. Когда трое смельчаков оставили далеко за собой Чэтсуорт, Брай спросил;
— А Филли?
— Она в безопасности, — ответил Сэррей.
— Куда мы направим свой путь?
— Я сам еще не знаю толком.
От ударов Брая сраженный Гекки скоро испустил дух, но Пельдрам все же пришел в себя. К его полномочиям относилось ужесточение мер, касавшихся заключения Марии Стюарт. Королеве были оставлены только две комнаты. Она была разлучена со своей свитой, ей прислуживала всего одна женщина. Случайно выбор пал на Тони.
При обыске в замке в прежних комнатах Марии и в принадлежащих ей вещах ничего не нашли.
Присутствия Филли в замке тоже, казалось, никто не замечал. Конечно, она держалась, по возможности, в тени. Незнакомые считали ее служанкой леди Джэн Сэйтон. К тому же она так изменила свою внешность, что и знакомые не могли ее узнать.
Как только первому министру Елизаветы доложили, что в приемной его ожидает некий Пельдрам, тот быстро вскочил и велел впустить ожидавшего. Пельдрам вошел, Бэрлей приказал присутствовавшему в комнате секретарю удалиться, а сам стал перед вошедшим и устремил на него пытливый взор. Пельдрам храбро выдержал этот взгляд и спокойно ждал, что министр скажет.
— Сэр Пельдрам, — наконец начал Бэрлей, — как вам живется в замке Линн?
— Очень спокойно, — ответил Пельдрам. — Мне редко приходилось вести столь мирную жизнь.
— А что делает герцог?
— О нем нельзя сказать ничего особенного: он гуляет, ездит верхом, катается, охотится, разговаривает со своими слугами.
— Принимает ли он посторонних?
— Никогда.
— Ведет ли он корреспонденцию?
— Несомненно?
— Кому поручаются для отправки его письма?
— Его лакеям. Но ведь был определенный приказ не мешать им ни в чем.
— Я знаю это, но ловкий человек должен понимать двойственность всякого приказа.
— А-а! Ну, я сомневаюсь, чтобы лакеи были посвящены в тайны герцога.
— Но можно было бы узнать адреса писем, отправляемых герцогом.
— Их я знаю, милорд.
— Значит, вы все же проявили зоркость. Ну, потом назовете мне имена адресатов, а теперь скажите; как вы отнесетесь к известию, что ваш друг Кингтон посажен мной в тюрьму?
— Слава Богу, милорд! Я думаю, что он не должен выйти из нее иначе, чем на виселицу.
— Дело обстоит приблизительно так. Но слушайте дальше! Кингтон был лакеем у некоего Балльи, везшего секретные письма к епископу Росскому. Господин и слуга были задержаны, а их бумаги конфискованы, но исчезли необъяснимым образом. Епископ, получивший эти бумаги, арестован, но у него ничего не нашли. Балльи сознался, что епископ через итальянца Ридольфи состоит в отношениях с герцогом Альба. Это что-нибудь да означает. Очевидно, есть заговор, и вы должны выяснить мне это.
— Задача нелегкая!
— Вы правы, но я выдам вам Кинггона, а вы мне взамен — заговорщиков.
— За голову Кинггона стоит постараться.
— Меня очень удивило бы, если бы герцог не был замешан в деле; назовите мне людей, которым он адресует свои письма.
— Большей частью своему секретарю Баркеру, живущему здесь, в Лондоне, затем Лэмлею, Соустэмитону и Перси.
— Так, так! Было бы хорошо, если бы вы послали верного человека в Чэтсуорт, так как настоящего главаря заговора, несомненно, надо искать там.
— Я буду наблюдать за этим уголком.
— Хорошо!… Я вскоре буду ожидать ваших сообщений. Теперь идите!…
Пельдрам раскланялся и вышел из комнаты. В глубоком раздумье он покинул дом и направился по улице и через какое-то время остановился напротив дома французского посла.
В этот момент из дома вышел секретарь Норфолка Баркер, осмотрелся кругом и поспешно удалился.
Это обстоятельствоимело очень важное значение для Пельдрама, без долгих рассуждений он отправился ко дворцу Норфолка и, став поблизости, стал наблюдать. Уже через полчаса он увидел этого секретаря, отъезжавшего верхом.
Пельдрам поспешил в свою квартиру, велел оседлать лошадь и последовал за Баркером, который, судя по его расчетам, мог ехать только к своему господину. Но, прежде чем он оставил Лондон, ему неожиданно попался навстречу Брай, который, казалось, его не заметил.
У Пельдрама не было ни времени, ни охоты преследовать Брая, он преследовал Баркера. Секретарь явно смутился, когда Пельдрам объявил, что намерен совершить путь до замка Линн в его обществе. Отклонить компанию нежелательного спутника не было никакой возможности, и оба продолжали путь. Пельдрам ни на секунду не спускал взгляда со своего попутчика, так как его чутье подсказывало ему, что он напал на верный след.
Путешественники прибыли в замок Линн, и пока Пельдрам делал вид, что собирается позаботиться об отдыхе, Баркер отправился к своему господину.
— Деньги уплачены? — спросил Норфолк секретаря.
— Да, милорд, — ответил тот.
В кабинете графа находился и секретарь Гайфорд, которому Норфолк сказал:
— Расшифруйте присланное мне письмо.
Гайфорд принялся за работу и вскоре сообщил:
— Ваша светлость! Вас просят переслать верным путем переданные суммы лордам шотландской королевы в Эдинбург.
— Хорошо, это будет исполнено. Но кого пошлешь?
— Гайфорд, вы сами должны отправиться туда.
— Слушаю, милорд, — ответил секретарь.
О каких деньгах шла речь?
Несмотря на видимое уничтожение партии Марии Стюарт, война в Ирландии вспыхнула вновь. 2 сентября 1571 года графу Ленноксу, регенту Шотландии, назначенному Елизаветой вместо убитого Мюррея, удалось взять Дэмбертон. Среди пленных находился дядя Гамильтона, убившего Мюррея. Леннокс объявил его виновным в этом убийстве и приказал повесить. Это вызвало ярость в партии Марии, и ее члены попросили необходимые средства для продолжения войны у Франции, которая и выделила деньги.
Оба секретаря Норфолка покинули кабинет графа. Один из них отправился отдохнуть, другой — приготовиться к дороге. Они слышали впереди себя поспешно удаляющиеся шаги, но не придали этому значения. А между тем это Пельдрам подслушал весь разговор заговорщиков и быстро направился в комнаты, занимаемые им вместе с его агентом.
— Гекки, — приказал он, — надень оружие, пойди к герцогу, объяви ему, что он не смеет выходить из своей комнаты, и сторожи его хорошенько. Я думаю, что его голова представляет большую ценность для нас.
Гекки ответил пошловатым смехом, взял свое оружие и пошел исполнять приказание.
Герцог взглянул на него удивленными глазами.
— Что вам угодно?
— Я хочу составить вам компанию, милорд, — спокойно ответил охранник, — вы — мой пленник.
— По чьему приказанию?
— По приказанию сэра Пельдрама.
— Пельдрам не имеет никакого права вводить какие- либо ограничения моей свободы.
— Это — его дело. Мне же придется заставить вас повиноваться.
— Мы еще поговорим об этом, — сказал Норфолк как можно спокойнее, хотя заподозрил неладное.
Пельдрам отправился к коменданту замка и сказал ему твердым тоном:
— Выставьте караульных во дворе замка, велите часовым никого не пропускать в замок и не выпускать оттуда, приготовьте караульную комнату для приема пленников и дайте мне верного человека, который мог бы спешно доставить мой рапорт лорду Бэрлею.
Офицер не выразил не малейшего протеста, так как имя Сесила Бэрлея действовало магическим образом во всей Англии. Все требования Пельдрама были выполнены.
Пельдрам потребовал еще четырех стрелков в провожатые себе и вместе с ними тотчас же отправился к Гайфорду.
Тот был удивлен не менее, чем его господин при появлении стрелков.
— Отдайте письма, которые вы сейчас вынесли из комнаты герцога! — приказал Пельдрам.
Гайфорд отказался повиноваться.
Тогда Пельдрам подошел к нему, обыскал его, насильно отнял пакет и приказал солдатам:
— Свяжите его!
Его приказ был исполнен.
— Один из вас пусть отведет этого человека в караульную комнату и передаст его коменданту.
Гайфорда увели.
После этого Пельдрам отправился к старому кастеляну и также арестовал его. Баркера постигла та же участь.
Покончив с этим, Пельдрам поставил еще двух часовых перед помещением герцога, а затем написал Бэрлею свой рапорт и отослал его вместе с отобранными бумагами. В Чэтсуорт он отправил своего сотоварища Гекки для наблюдения за Марией. Стюарт.
Ничто не могло сравниться с радостью Бэрлея при известии об этом неожиданном раскрытии заговора. Тотчас же для следствия над арестованными в Линн была отправлена комиссия, и уже после первого допроса Гайфорд был отвезен в Лондон, где его заключили в Тауэр.
В тюрьме его снова допрашивали и подвергли пытке. Страх перед степенями пыток заставил его сознаться во всем и указать, где в замке Линн были спрятаны письма Марии Стюарт, епископа Росского и других к Норфолку. Письма были найдены и отправлены в Лондон вместе с Баркером и кастеляном. Их обоих пытали подобно Гайфорду, и они подтвердили показания своего единомышленника.
Был допрошен и епископ Росский. Он снова пробовал ссылаться на преимущества своего положения как посла, но ему дали понять, что своей изменой он утратил эти преимущества и точно так же может подвергнуться пытке, если еще долее будет упорствовать в своем молчании. Это подействовало, епископ сознался во всем, как и остальные заключенные.
По полученному приказу Пельдрам доставил в Лондон также и герцога Норфолка, который, как и другие, был посажен в Тауэр, а затем вскоре был также допрошен. Герцог написал королеве Елизавете письмо, полное раскаяния и просил о снисхождении и прощении. Но для такой просьбы время было слишком неблагоприятное, а события слишком осложнены.
Пельдрам окончил свою задачу в деле Норфолка и получил приказ ехать в Чэтсуорт для наблюдения за Марией Стюарт, а быть может, еще больше для того, чтобы добыть новые доказательства против обвиняемых или выискать новых заговорщиков.
Когда Гекки прибыл в Чэтсуорт, там еще ничего не знали о том, что произошло в Лондоне и Линне, и все вели себя по-прежнему свободно, так что Гекки мог беспрепятственно наблюдать за всеми. Вскоре он убедился, что тут находится какое-то лицо, при помощи которого Мария Стюарт сообщается с внешним миром, но долгое время никак не мог решить, кто был этим человеком, так как Филли и ее спутники выглядели простыми безобидными купцами, ради наживы посещающими замок.
В этот промежуток времени Сэррей пришел к решению освободить из заключения Марию Стюарт, не дожидаясь результатов заговора. С этой целью он несколько раз советовался с епископом Росским, сочувствовавшим его плану. И в то время, когда Пельдрам встретился с Браем, заговорщики были заняты приготовлениями к бегству Марии. Ради этого Брай был послан подготовить подходы к берегу моря и в маленьком городке — судно, на котором Мария Стюарт могла бы переправиться из Англии во Францию.
Арест епископа Росского, конечно, очень напугал заговорщиков, но они увидели, что арест не повлек за собой никаких серьезных последствий. Тем не менее Сэррей находил отсутствие епископа очень неприятным, так как союзники лишились главного действующего лица для связей, ставших со времени ареста епископа случайными и ненадежными. Поэтому легко себе представить весь ужас Сэррея, когда распространилась весть о раскрытии заговора, Он быстро вскочил на свою лошадь и помчался в Чэтсуорт спасти хоть что-то, что еще было возможно спасти.
Мария Стюарт со своей женской свитой жила спокойно в Чэтсуорте и искусно поддерживала отношения с внешним миром при помощи Тони Ламберт.
Так обстояло дело, когда Гекки наконец стал подозревать торговцев, постоянно посещающих замок, и постарался поближе познакомиться с ними. Это случилось, когда Брай вернулся, окончив порученное ему дело. Во время своей поездки он посетил Лондон и привез письма от Сэррея к Марии Стюарт. Гекки на правах земляка пытался сблизиться с Браем, но тот резко отвернулся от него, что и послужило для Гекки подтверждением его подозрения. Он сообщил об этом Пельдраму — и тот выехал в Чэтсуорт.
Сэррей прибыл раньше Пельдрама и тотчас же созвал своих товарищей.
— Друзья, — начал он, — я привез дурные вести: заговор раскрыт, самые важные его члены задержаны, наше пребывание здесь опасно. Филли, бегите в замок, сообщите там, что я сказал, и пусть уничтожат все письма и документы. Бегите скорей, скорей! А мы займемся приготовлением к отъезду.
Филли была теперь так известна в замке, что без особенного труда пробралась к Тони. Исполнив поручение, она хотела покинуть замок, но как раз в это время были усилены караульные посты и никого из замка не выпускали. Филли оказалась в плену вместе с другими.
Легко сообразить, от кого исходили эти строгости. Вскоре после Сэррея в Чэтсуорт прибыл Пельдрам. Когда он, как уже опытный полицейский, распорядился насчет главного, то пожелал повидать тех, кто был на подозрении.
А в это время Джонстон был на дворе, седлал лошадей. Брай отправился к хозяину уплатить по счету, а Сэррей беспокойно ходил взад и вперед по своей комнате. Приблизившись к окну, он бросил взгляд на улицу и отскочил от окна, схватившись за меч.
— Так и есть! Эта проклятая ищейка напала на наш след! — промолвил Сэррей и, спешно выбежав во двор, сказал Джонстону: — Поторопитесь, нас выследили.
Брай, покончивший расчеты с хозяином, вышел как раз в этот миг на лестницу.
— Вальтер, Вальтер! — позвал его Сэррей пониженным голосом. — Оглянитесь!
Пельдрам, стоявший со своими товарищами перед окном, увидел Сэррея и, тотчас узнав его, воскликнул:
— А!… Он самый! Это хорошо, Гекки, нам решительно повезло. Пойдем, но имей в виду, что нам придется здесь иметь дело с настоящими мужчинами.
Брай услышал предостерегающий голос Сэррея и тотчас узнал Пельдрама.
— Берегись! — обнажив меч, крикнул он, бросившись на Пельдрама, и страшный удар по голове сбросил того окровавленным на землю.
— Вперед, Гекки! — успел крикнуть Пельдрам, падая обессиленным.
— Ты — Гекки? — воскликнул Брай, парируя удар второго врага. — А, черт побери, с тобой-то и хотелось мне встретиться! Получи это за графа Нортумберленда.
Брай имел в виду то, что когда-то Гекки продал этого графа, попавшего в его руки.
Удар Вальтера был так меток и силен, что голова разбойника оказалась почти отрубленной, и он с предсмертным хрипом упал на землю.
— Что случилось? — воскликнул хозяин, выбегая во двор.
Все обитатели дома столпились у места происшествия.
— Разбойники хотели ограбить нас, — ответил Брай. — Нам нет надобности торопиться, друзья.
В это время появился солдат из замка и направился к Сэррею.
— Вы должны спешить, — тихо сказал он, — а молодая дама в безопасности.
— Задержите этих людей! — простонал Пельдрам.
— Кто вы? — спросил его солдат.
— Я…
— Пойдемте, Брай, нам лучше уйти! — сказал Сэррей…
Лошади были готовы, Джонстон, Брай и Сэррей вскочили в седла и выехали через открытые ворота на улицу, где уже собралась толпа. Когда трое смельчаков оставили далеко за собой Чэтсуорт, Брай спросил;
— А Филли?
— Она в безопасности, — ответил Сэррей.
— Куда мы направим свой путь?
— Я сам еще не знаю толком.
От ударов Брая сраженный Гекки скоро испустил дух, но Пельдрам все же пришел в себя. К его полномочиям относилось ужесточение мер, касавшихся заключения Марии Стюарт. Королеве были оставлены только две комнаты. Она была разлучена со своей свитой, ей прислуживала всего одна женщина. Случайно выбор пал на Тони.
При обыске в замке в прежних комнатах Марии и в принадлежащих ей вещах ничего не нашли.
Присутствия Филли в замке тоже, казалось, никто не замечал. Конечно, она держалась, по возможности, в тени. Незнакомые считали ее служанкой леди Джэн Сэйтон. К тому же она так изменила свою внешность, что и знакомые не могли ее узнать.

Глава шестая
ЦЕННАЯ ГОЛОВА

 Следствие по делу Норфолка длилось до января 1572 года. Наконец двадцать четвертого числа этого месяца состоялся суд в большом Вестминстерском зале. Норфолка обвиняли в намерении лишить королеву Елизавету престола и жизни, в желании вступить в брак с Марией Стюарт, к которой он, как судья над ней, должен был бы относиться как к нарушительнице супружеской верности и мужеубийце, а также в преступных сношениях с папой римским и испанским королем.
После предъявления доказательств герцогу дано было право защищать себя, что он и исполнил в общем с ловкостью, умом и убедительностью. Одно лишь было позорно с его стороны — он с презрением говорил о браке с Марией Стюарт. Но его защитительная речь не увенчалась успехом. После долгого совещания члены суда единогласно приговорили его к смерти. Приговор был объявлен герцогу, и он выслушал его спокойно.
— Милорды, — сказал он в ответ, — я умираю верным моей королеве, насколько это только возможно. Вы вытолкнули меня из своего круга, но я надеюсь вскоре быть в лучшем кругу. Я не прошу никого из вас ходатайствовать за мою жизнь. Для меня все кончено. Но я лишь прошу быть моими заступниками у ее величества, чтобы она не лишила своей доброты моих бедных осиротелых детей, уплатила мои долги и не оставила в нищете моих бедных слуг.
Норфолк перед смертью написал письмо Елизавете, в котором выражал свое раскаяние, молил о милости и в особенности просил монархиню позаботиться о его детях.
Совершенно иначе поступила Мария по отношению к нему. Услышав о смертном приговоре Норфолку, Мария плакала день и ночь и объявила, что смерть Норфолка принесет ей более огорчения, чем кончина ее первого супруга Франциска II, которого она все же бесконечно любила.
В эти часы ее скорби Филли удалось пробраться к ней и посоветовать обратиться лично к Елизавете с просьбой о помиловании Норфолка. Мария ухватилась за эту мысль и написала трогательное письмо, которое Филли взялась передать.
Храбрая женщина с вверенным ей письмом покинула Чэтсуорт и отправилась в Лондон, прежде всего к своей матери.
Графиня Гертфорд, следившая со вниманием и не без сердечного волнения за текущими событиями, приняла ее с радостью.
Филли решила передать с матерью письмо Марии Стюарт и свое послание Лейстеру.
«Милорд, мой господин и повелитель! — писала она мужу. — Вы, быть может, рассердились на меня за то, что я без Вашего разрешения покинула указанное Вами мне местопребывание, и, быть может, думаете, что вследствие пережитых Вами обстоятельств я изменилась к Вам в своих чувствах. Это было бы заблуждением с Вашей стороны. Я ушла с намерением быть Вам полезной, и мне было больно, что Вы не выказали мне доверия, которым наградили дурных, вероломных людей. Моя любовь к Вам осталась неизменной, я готова быть Вам служанкой — всем, чем хотите, как это уж и было. Никогда не бойтесь, что я предъявлю к Вам какие-нибудь требования или претензии. Но я решила обратиться к Вам, ради другой особы, страдания которой так же велики, как незаслуженны. С чувством удовлетворения и радости узнала, что Вы не играли никакой деятельной роли во враждебной ей партии. Эта причина дает мне смелость просить Вас передать прилагаемое письмо несчастной королевы Марии Стюарт в руки королевы английской. В этом письме королева просит о помиловании Норфолка. Ведь герцог был также и Вашим другом. Итак, я по-прежнему близка Вам. Прикажите только — и с Вами сейчас же будет Ваша Филли».
Когда лорду Лейстеру доложили о графине Гертфорд, он колебался, принять ли ее, но благоразумно согласился. Правда, Лейстер принял графиню холодно, до известной степени настроенным против всяких ее требований и упреков. Взяв письмо, он вскрыл его, глазами пробежал несколько строк и испугался, но, дочитав до конца, глубоко вздохнул и долгое время оставался в раздумье, а затем произнес:
— Я постараюсь исполнить желание леди, на скажу прямо — надежды на успех очень мало.
Графиня поклонилась.
— Я также желал бы повидать вашу дочь, — продолжал он, — сегодня вечером я навещу ее.
Графиня снова поклонилась и вышла от лорда, чтобы поспешить к дочери и рассказать ей о своем посещении.
Филли была чрезвычайно рада сообщению своей матери.
Лейстер сдержал слово относительно письма Марии. Правда, он передал его королеве Елизавете не сам, так как это было для него слишком опасно.
Как и следовало ожидать, письмо не привело ни к чему. Мария Стюарт была самой неподходящей заступницей для герцога Норфолка.
Свидание Лейстера с Филли состоялось в тот же вечер, Филли была все так же красива, как и прежде, И при виде ее прежняя страсть снова возгорелась в сердце лорда, и он провел счастливый вечер в доме графини. Но не ограничился этим. Он объявил, что не желает более отпускать от себя Филли, и было решено сообща, что она вместе с матерью переселится в его замок Кенилворот. Действительно, уже на другой день обе отправились в путь.
Елизавета долго медлила подписать смертный приговор Норфолку. Не было недостатка в людях, просивших о помиловании и смягчении. Но ее сопротивление поддерживалось строгим неумолимым лордом Бэрлеем.
Наконец 31 мая 1572 года Елизавета подписала вынесенный Норфлоку смертный приговор, а 2 июня 1572 года Лондон снова сделался свидетелем зрелища, которое видел так часто в прежние времена и которое ему предстояло нередко видеть и в будущем. Ровно в восемь часов утра двери Тауэра для Норфолка отворились. На Тауэр-Гилле был воздвигнут для него эшафот. Он вступил на роковой помост спокойно и с достоинством.
По старинному обычаю, в Англии преступнику позволялось держать речь перед казнью, и у врат вечности говорилось много замечательного как невинно, так и справедливо осужденными. Норфолк воспользовался этим правом и долго говорил к народу, после чего обратился с молитвой к Богу и положил голову на плаху, не позволив завязать себе глаза. Секира палача сверкнула в воздухе — и великому заговору герцога пришел конец.
Во время этих событий Мария Стюарт была переведена из Чэтсуорта в Шеффилд, где содержалась под строгим надзором Шрисбери. Остальные участники заговора были наказаны различным образом, хотя не поплатились жизнью: большинство из них ждало изгнание и конфискация имущества. Епископ Росский также очутился в числе изгнанников, причем ему пригрозили жестокой карой, если он посмеет вернуться обратно. Балльи был схвачен и выдворен за границу.
Зато Кинггону повезло. По ошибке Бэрлею было доложено о смерти Пельдрама, как и Гекки. Это была значительная потеря для министра. Но так как теперь он освободился от обещания, данного Пельдраму, то подумал заменить его Кингтоном. И вот после переговоров с министром смелый злодей исчез из Тауэра. Когда же Пельдрам снова объявился, то от него отделались, сказав, что его враг бежал по недосмотру сторожей.
Следствие по делу Норфолка длилось до января 1572 года. Наконец двадцать четвертого числа этого месяца состоялся суд в большом Вестминстерском зале. Норфолка обвиняли в намерении лишить королеву Елизавету престола и жизни, в желании вступить в брак с Марией Стюарт, к которой он, как судья над ней, должен был бы относиться как к нарушительнице супружеской верности и мужеубийце, а также в преступных сношениях с папой римским и испанским королем.
После предъявления доказательств герцогу дано было право защищать себя, что он и исполнил в общем с ловкостью, умом и убедительностью. Одно лишь было позорно с его стороны — он с презрением говорил о браке с Марией Стюарт. Но его защитительная речь не увенчалась успехом. После долгого совещания члены суда единогласно приговорили его к смерти. Приговор был объявлен герцогу, и он выслушал его спокойно.
— Милорды, — сказал он в ответ, — я умираю верным моей королеве, насколько это только возможно. Вы вытолкнули меня из своего круга, но я надеюсь вскоре быть в лучшем кругу. Я не прошу никого из вас ходатайствовать за мою жизнь. Для меня все кончено. Но я лишь прошу быть моими заступниками у ее величества, чтобы она не лишила своей доброты моих бедных осиротелых детей, уплатила мои долги и не оставила в нищете моих бедных слуг.
Норфолк перед смертью написал письмо Елизавете, в котором выражал свое раскаяние, молил о милости и в особенности просил монархиню позаботиться о его детях.
Совершенно иначе поступила Мария по отношению к нему. Услышав о смертном приговоре Норфолку, Мария плакала день и ночь и объявила, что смерть Норфолка принесет ей более огорчения, чем кончина ее первого супруга Франциска II, которого она все же бесконечно любила.
В эти часы ее скорби Филли удалось пробраться к ней и посоветовать обратиться лично к Елизавете с просьбой о помиловании Норфолка. Мария ухватилась за эту мысль и написала трогательное письмо, которое Филли взялась передать.
Храбрая женщина с вверенным ей письмом покинула Чэтсуорт и отправилась в Лондон, прежде всего к своей матери.
Графиня Гертфорд, следившая со вниманием и не без сердечного волнения за текущими событиями, приняла ее с радостью.
Филли решила передать с матерью письмо Марии Стюарт и свое послание Лейстеру.
«Милорд, мой господин и повелитель! — писала она мужу. — Вы, быть может, рассердились на меня за то, что я без Вашего разрешения покинула указанное Вами мне местопребывание, и, быть может, думаете, что вследствие пережитых Вами обстоятельств я изменилась к Вам в своих чувствах. Это было бы заблуждением с Вашей стороны. Я ушла с намерением быть Вам полезной, и мне было больно, что Вы не выказали мне доверия, которым наградили дурных, вероломных людей. Моя любовь к Вам осталась неизменной, я готова быть Вам служанкой — всем, чем хотите, как это уж и было. Никогда не бойтесь, что я предъявлю к Вам какие-нибудь требования или претензии. Но я решила обратиться к Вам, ради другой особы, страдания которой так же велики, как незаслуженны. С чувством удовлетворения и радости узнала, что Вы не играли никакой деятельной роли во враждебной ей партии. Эта причина дает мне смелость просить Вас передать прилагаемое письмо несчастной королевы Марии Стюарт в руки королевы английской. В этом письме королева просит о помиловании Норфолка. Ведь герцог был также и Вашим другом. Итак, я по-прежнему близка Вам. Прикажите только — и с Вами сейчас же будет Ваша Филли».
Когда лорду Лейстеру доложили о графине Гертфорд, он колебался, принять ли ее, но благоразумно согласился. Правда, Лейстер принял графиню холодно, до известной степени настроенным против всяких ее требований и упреков. Взяв письмо, он вскрыл его, глазами пробежал несколько строк и испугался, но, дочитав до конца, глубоко вздохнул и долгое время оставался в раздумье, а затем произнес:
— Я постараюсь исполнить желание леди, на скажу прямо — надежды на успех очень мало.
Графиня поклонилась.
— Я также желал бы повидать вашу дочь, — продолжал он, — сегодня вечером я навещу ее.
Графиня снова поклонилась и вышла от лорда, чтобы поспешить к дочери и рассказать ей о своем посещении.
Филли была чрезвычайно рада сообщению своей матери.
Лейстер сдержал слово относительно письма Марии. Правда, он передал его королеве Елизавете не сам, так как это было для него слишком опасно.
Как и следовало ожидать, письмо не привело ни к чему. Мария Стюарт была самой неподходящей заступницей для герцога Норфолка.
Свидание Лейстера с Филли состоялось в тот же вечер, Филли была все так же красива, как и прежде, И при виде ее прежняя страсть снова возгорелась в сердце лорда, и он провел счастливый вечер в доме графини. Но не ограничился этим. Он объявил, что не желает более отпускать от себя Филли, и было решено сообща, что она вместе с матерью переселится в его замок Кенилворот. Действительно, уже на другой день обе отправились в путь.
Елизавета долго медлила подписать смертный приговор Норфолку. Не было недостатка в людях, просивших о помиловании и смягчении. Но ее сопротивление поддерживалось строгим неумолимым лордом Бэрлеем.
Наконец 31 мая 1572 года Елизавета подписала вынесенный Норфлоку смертный приговор, а 2 июня 1572 года Лондон снова сделался свидетелем зрелища, которое видел так часто в прежние времена и которое ему предстояло нередко видеть и в будущем. Ровно в восемь часов утра двери Тауэра для Норфолка отворились. На Тауэр-Гилле был воздвигнут для него эшафот. Он вступил на роковой помост спокойно и с достоинством.
По старинному обычаю, в Англии преступнику позволялось держать речь перед казнью, и у врат вечности говорилось много замечательного как невинно, так и справедливо осужденными. Норфолк воспользовался этим правом и долго говорил к народу, после чего обратился с молитвой к Богу и положил голову на плаху, не позволив завязать себе глаза. Секира палача сверкнула в воздухе — и великому заговору герцога пришел конец.
Во время этих событий Мария Стюарт была переведена из Чэтсуорта в Шеффилд, где содержалась под строгим надзором Шрисбери. Остальные участники заговора были наказаны различным образом, хотя не поплатились жизнью: большинство из них ждало изгнание и конфискация имущества. Епископ Росский также очутился в числе изгнанников, причем ему пригрозили жестокой карой, если он посмеет вернуться обратно. Балльи был схвачен и выдворен за границу.
Зато Кинггону повезло. По ошибке Бэрлею было доложено о смерти Пельдрама, как и Гекки. Это была значительная потеря для министра. Но так как теперь он освободился от обещания, данного Пельдраму, то подумал заменить его Кингтоном. И вот после переговоров с министром смелый злодей исчез из Тауэра. Когда же Пельдрам снова объявился, то от него отделались, сказав, что его враг бежал по недосмотру сторожей.

Глава седьмая
ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ

 Неудача заговора герцога Норфолка охладила пыл не только Шотландии и Англии, но и почти всех европейских стран. Некоторое время никто не помышлял о способах освобождения из неволи Марии Стюарт и восстановления ее прав. У нее была отнята малейшая возможность затеять новые политические интриги, тогда как у ее приверженцев как будто пропала к тому всякая охота. Между тем политические дела Европы шли своим чередом.
Елизавета подавила восстание на севере своего королевства; заговор против нее герцога Норфолка провалился. Ее политике удалось разъединить две враждебные ей великие державы на европейском континенте. Елизавета воспользовалась заключенным ею миром с Францией, равно как проектом брачного союза между ней и герцогом Анжуйским, чтобы домогаться союза с французским королем Карлом IX. Путем заключения позднее договора об этом Англия заручилась поддержкой Франции в случае испанского нашествия.
Счастье было на стороне Елизаветы и в Шотландии. Мария Стюарт все еще имела там сильную партию. С тех пор, как снова начались военные действия между лордами верными королеве и лордами верными королю, графа Леннокса постигла участь его предшественника Мюррея: он также был убит. Вследствие этого знатнейшие лорды короля были арестованы. На следующий день регентом был избран граф Марр, состоявший воспитателем при молодом короле.
Несмотря на занятие Дэмбертона и поддержку королевы Елизаветы, партия короля не могла вполне подорвать партию приверженцев королевы Марии Стюарт, которые заняли кроме Эдинбурга замки Нидри, Ливингстон и Блекнесс. Они победоносно сражались как на севере, так и на востоке Шотландии.
Елизавета решила заставить эту партию добровольно сложить оружие и потому устроила между враждующими партиями перемирие, состоявшееся 20 июля 1572 года. За услуги, которые Елизавета оказала этим Иакову VI, она добилась выдачи графа Нортумберленда, который и был казнен в Йорке 25 августа.
Однако в тот момент, когда Елизавета воображала себя в полной безопасности, пришло известие о Варфоломеевской ночи в Париже. Вопль ужаса пронесся по всему королевству, Елизавета созвала свой Тайный совет.
Много дней заставила она прождать аудиенции французского посланника Ла-Мот-Фенелона в Оксфорде, куда он прибыл, чтобы оправдать эту кровопролитную резню мнимым открытием заговора протестантов. Когда королева приняла его наконец, она сама, как и члены ее государственного совета и знатнейшие дамы, была облачена во все черное, а ее кабинет походил на погребальный склеп. Ла-Мот-Фенелон прошел мимо безмолвных присутствующих и приблизился к Елизавете. Она приняла его с необычайно строгим видом, снова высказала свое отвращение к подобному злодейству и решительно не поверила объяснениям Фенелона. Она отнеслась с удивлением и порицанием к поступку французского короля Карла IX, а на уверения, которые возобновил посланник, возразила, что сильно опасается, как бы те, которые склонили французского короля пожертвовать своими наследственными подданными, не заставили его пожертвовать потом королевой.
Елизавета думала, что ее предали, и ей казалось, что протестантству грозит большой заговор, сигналом которого послужила резня в Париже. По этой причине она заключила союз с Германией, велела вербовать там солдат, укрепила Портсмут, Дувр и остров Уайт, снарядила десять больших кораблей для крейсирования в Ла-Манше, оказала поддержку протестантам во Франции, строже прежнего следила за католиками в своем королевстве и строила самые пагубные планы относительно королевы Марии Стюарт, на которую возлагались надежды католической партии как в Англии, так и в Шотландии.
После раскрытия заговора герцога Норфолка Елизавета официально заявила, что не могла бы прожить спокойно ни единого часа, если бы Мария Стюарт снова вступила на престол, и что теперь она приняла твердое решение никогда больше не возвращать ей свободы. Протестантское духовенство считало, что смертная казнь шотландской королевы была бы справедлива, законоведы, со своей стороны, доказывали ее законность. Обе палаты парламента хотели предать Марию Стюарт суду. Однако Елизавета воспротивилась этому. Чтобы избавить царственную пленницу от преследований подобного рода, парламент был распущен и правительство удовольствовалось тем, что решило запугать шотландскую королеву лишь подобием обвинения.
Марию Стюарт подвергли допросу. Она отвечала осторожно, утверждая, что не питала никаких враждебных намерений против Елизаветы, когда задумала вступить в брак с Норфолком, а посылая Ридольфи к папе Пию V и Филиппу II, имела в виду только освобождение Шотландии. Елизавета, которая нашла ее объяснения неудовлетворительными, не хотела затевать судебный процесс. Но после кровопролития Варфоломеевской ночи стала все же помышлять о том, как бы избавиться от Марии. План, начертанный ею с этой целью при помощи Бэрлея и Лейстера, должен был осуществиться в Шотландии, и выполнять его доверили одному из самых ловких агентов. В Шотландию отправился Генрих Киллегрю, зять Бэрлея, с двумя поручениями, одно из которых было явным, а другое тайным, Первое заключалось в том, чтобы привести к окончательному примирению враждующие политические партии, второе — чтобы договориться с графом Мортоном относительно смерти Марии Стюарт.
Киллегрю должен был дать понять союзникам Елизаветы, что ради общей безопасности Мария Стюарт не может оставаться в живых, но что ее неудобно судить в Англии, а лучше — в Шотландии. С этой целью шотландцы должны были бы потребовать к себе пленную Марию, которая и будет выдана им Елизаветой.
Киллегрю встретил в Шотландии также крайнее волнение по поводу Варфоломеевской ночи. Престарелый Нокс, удалившийся в Сент-Эндрю, снова вернулся в Эдинбург. Хотя вследствие апоплексического удара у него отнялась половина тела, он все же приказал внести себя на кафедру и, будучи терзаем страданиями и разгорячен гневом, громил убийц его протестантских братьев во Франции. Нокс со своими учениками много способствовал тому, что союз Шотландии с Францией стал делаться все популярнее.
Киллегрю воспользовался этим для своих целей; ему удалось убедить графа Мортона в необходимости казни Марии Стюарт, но регента Марра не так легко было убедить в этом.
Киллегрю при поддержке Нокса все более и более восстанавливал народ против католиков и имел многократные совещания с Марром и Мортоном о «великом деле». Оба графа согласились наконец устранить предмет несогласий, то есть Марию Стюарт, и даже было оговорено время для ее гибели — не позже четырех часов после выдачи ее шотландцам. Условием этого они поставили следующее: чтобы Елизавета объявила себя защитницей молодого короля Иакова VI, чтобы права последнего не были умалены смертью матери, чтобы между обоими королевствами был заключен оборонительный союз, чтобы три тысячи человек из английского войска присутствовали при казни (это была военная сила, которая, соединившись с войском молодого короля, должна была взять приступом крепость Эдинбурга) и, наконец, чтобы эта крепость была уступлена регенту и Англия заплатила бы шотландскому войску недополученное им жалованье.
Елизавета, по своей скупости, нашла такие условия неприемлемыми. Она очень желала погубить Марию Стюарт, но не имела никакой охоты платить убийцам и выставлять себя соучастницей этого злодейства.
Внезапная смерть регента графа Марра, умершего 28 октября 1573 года в Стирлинге (как полагают, отравленного), задержала эти постыдные переговоры, но они продолжались до 1574 года.
Бэрлей предложил королеве избавиться от Марии Стюарт в Англии. Елизавета не решилась последовать его совету, но склонила на свою сторону и совершенно подавила партию Марии Стюарт в Шотландии. Мортон был назначен регентом после умершего графа Марра; в тот самый день, когда он принял бразды правления, скончался Нокс. Этот непреклонный деятель реформации, так много способствовавший своими поучениями религиозному и политическому перевороту в Шотландии, умер, хотя и больной телом, но крепкий духом, в возрасте шестидесятисеми лет.
Партия королевы Марии после пятилетней бесплодной борьбы значительно обессилела. В ее руках оставалась теперь лишь крепость Эдинбург. Киркэльди ла Гранж и Летингтон держались в эдинбургской цитадели, где ожидали помощи, обещанной французским двором. Тогда как прочие приверженцы Марии Стюарт, с Гамильтонами и Гордонами во главе, пошли на соглашение, предложенное им Мортоном, эти двое храбрых защитников Эдинбурга имея в своем распоряжении всего двести солдат, решили сопротивляться до конца. Они не хотели слышать о сдаче, полагаясь на неприступность своей твердыни и ожидаемую помощь французов.
Однако союзники не пришли им на выручку. Против крепости повели осаду. За недостатком средств обороны она не могла оказать продолжительного сопротивления, и вскоре ее мужественные защитники принуждены были сдаться. Летингтон умер в тюрьме, а Киркэльди ла Гранж был повешен мстительным регентом Мортоном на Крестовой площади Эдинбурга.
С их смертью партия Марии Стюарт в Шотландии окончательно погибла. Королева страшно горевала, часто впадая в уныние. Однако суровость ее заточения насколько смягчили, да и сама она изменила теперь свое поведение и речи. Она старалась кротостью добиваться свободы, которой ей не удалось достичь силой. Вооружась терпением, Мария, прежде высокомерная, красноречивая, беспокойная и смелая, превратилась в почти смиренную женщину. Она избегала всего, что могло возбудить подозрительность Елизаветы, и ограничивалась в своих письмах к ней только тем, что относилось к управлению ее вдовьей частью во Франции. Из-за сырости тюремных стен Мария заболела ревматизмом, который мучил ее вместе с хронической болезнью печени. По ее просьбе ей было разрешено пользоваться минеральными ваннами в Шеффилде.
Вместо того, чтобы затевать заговоры в Англии, в Шотландии и на континенте, Мария Стюарт рассеивала скуку неволи, забавляясь птицами и собаками, или же занималась шитьем. Она поручала покупать для нее шелк, атлас, ленты для изящных дамских рукоделий, которые подносила потом, через посредство Ла-Мот-Фенелона, королеве Елизавете. При первом известии о том, что та благосклонно приняла ее подношения, Мария написала ей, что была обрадована такой милостью и готова во всем угождать и повиноваться Елизавете. Движимая этим желанием, она часто просила епископа. Глазгоуского выписывать ей из Франции то одно, то другое, что можно было поднести в дар Елизавете, какие- нибудь браслеты, зеркала или модные новости. Она радовалась, что эти подарки всегда принимались благосклонно. Вот до чего дошла несчастная Мария Стюарт!
Вместе с тем она старалась задобрить также и наиболее важных советников Елизаветы; она просила принца, своего родственника, передавать от нее подарки и изъявления благодарности графу Лейстеру, который обещал действовать в ее пользу; Бэрлею она писала самые дружеские письма; льстила даже беспокойному Валингэму, сделавшемуся статс-секретарем после назначения Бэрлея государственным казначеем. Она опасалась беспокойной фантазии этого министра, который, заведуя полицией, заботился теперь о безопасности Елизаветы.
После смерти Карла IX на французский престол вступил Генрих III. До этого он славился мудростью и твердостью, но, сделавшись королем, недолго обнаруживал эти достоинства. Мария Стюарт полагалась на него более всех прочих деверей, которых у нее было трое. Поначалу она думала, что он вступится за нее энергичнее Карла IX, просила не признавать ее сына королем Шотландии. Она хотела, чтобы Генрих III заключил с ней тайный союз и помог ей восстановить свои права, а прежде всего, чтобы он не возобновлял договора, заключенного в апреле 1572 года между Карлом IX и Елизаветой.
Однако Мария лишилась своей главной опоры при французском дворе в лице кардинала Лотарингского, которому была искренне предана, больше, чем всем родственникам, и к которому питала, наибольшее доверие. С его смертью у нее рухнула последняя надежда на поддержку со стороны Генриха III, потому что он под руководством своей матери следовал политике, сделавшей все правление Карла IX тревожным и кровавым. Эта политика лукавства соответствовала наклонностям Екатерины Медичи.
Генрих III возобновил заключенный в 1572 году союз с Англией; тогда Мария Стюарт снова обратилась к Филиппу II и папе через посредство епископа Росского, которого она снова аккредитовала при римском дворе после его освобождения. Папа Григорий XIII, следовавший планам своего предшественника Пия V и поддерживавший восстание в Ирландии, пытался уговорить Филиппа II снарядить экспедицию против Англии под началом дона Хуана Австрийского и предлагал, кроме того, устроить брачный союз между Марией Стюарт и этим молодым принцем. Однако Филипп II остался равнодушен к этим планам, несмотря на часто повторяемые просьбы Марии Стюарт передать ему своего сына как залог католичества. Она даже хотела лишить наследства своего ребенка и перенести его права на могущественного защитника католической веры в Европе.
Частые приступы ее болезней, окружавшие ее в неволе опасности и возможные последствия затеваемых ею заговоров принудили Марию Стюарт составить завещание. Оно было весьма обширно. И в нем она прежде всего заявляла, что оставит свой престол сыну лишь при том условии, если он отречется от учения Кальвина, принятого им по внушению приближенных, и пожелает вернуться в лоно католической церкви.
Тем временем никакого проблеска надежды на лучшее будущее для Марии Стюарт не было, и она уже не рассчитывала больше ни на чью поддержку и участие, за исключением не особенно могущественных Гизов, которые много обещали, но были бессильны сдержать свои обещания.
В продолжение пяти лет своего регентства Мортон поддерживал мир в Шотландии, в течение этого времени в ней не возникали новые политические партии и не возобновлялись старые раздоры. При таких благоприятных условиях росло благосостояние страны. Городская промышленность развивалась, флот прибавлялся, народное благополучие увеличивалось. Столь счастливая перемена в Шотландии возбуждала удивление и почти зависть посланников Елизаветы. Однако оставаться долгое время в спокойствии и подчинении было не в духе шотландского дворянства, ему надоело повиноваться Мортону, ненасытная скупость и крайнее высокомерие которого способствовали возникновению новых заговоров.
Александр Эрскин, гувернер короля, и Бэченан, один из королевских опекунов, заключили между собой союз с целью ниспровергнуть Мортона. К этому союзу примкнули многие из значительнейших представителей старой партии; с общего согласия они отрешили Мортона от регентства в 1578 году и утвердили Иакова VI, не достигшего еще одиннадцатилетнего возраста, в королевских правах, пользование которыми союзники разделили между собой. Мортон внешне спокойно подчинился своему отрешению и после того, как сам провозгласил в Эдинбурге непосредственное управление короля, добровольно удалился в замок Далькейт, оставив, по-видимому, всякие честолюбивые помыслы, и предался мирным занятиям. Но втайне он подготавливал ниспровержение тех, которые низложили его.
Не прошло и двух месяцев, как этот хитрый и предприимчивый вельможа снова ринулся в борьбу с редкой смелостью и полнейшим успехом. При поддержке своих союзников он овладел замком Стирлинг и спорной особой юного короля. От восстановления регентства Мортон отказался, но от имени парламента, который под его руководством и влиянием собрался в замке Стирлинга, он составил государственный совет для ведения общественных дел; высшее руководство советом было передано ему, тогда как на словах авторитет Иакова VI оставался в прежней силе. Снова облеченный королевской властью, хотя и в иной форме, Мортон отчасти поладил и со своими врагами.
Тем не менее против него подготовлялись более решительные действия. Это было делом рук двоих молодых шотландцев, которые, незадолго перед тем прибыв с континента, сумели приобрести доверие Иакова VI и сделались его любимцами.
Эсм Стюарт, известный под именем Д’Обиньи кавалер привлекательной наружности и пленительного ума, утонченных и мягких привычек, покинул французский двор, где он был воспитан, появился в 1579 году при шотландском дворе с тайным поручением от герцога Гиза. Он был католиком, и ему предстояло заменить герцога Этола в качестве главы политической партии, которая осталась верна старинной религии страны и ее королевскому роду. Иаков VI, приходившийся двоюродным братом Эсму Стюарту, принял его чрезвычайно приветливо, привязался к нему, назначил его своим камергером и дал ему титул графа Леннокса. Такое внезапное повышение Эсма Стюарта встревожило Мортона и Елизавету. Они провидели намерения нового любимца; он подвергался нападкам партии ревностных просвитериан как католик, а в то же время английская партия обвиняла его в том, что он замышляет овладеть королем, чтобы увезти его в Джэбертон, а оттуда за границу. Это подозрение было небезосновательно, так как в 1579 и 1580 годах Мария Стюарт только и думала о том, чтобы вывезти своего сына из Шотландии. Однако Елизавета, предупрежденная Мортоном, приняла свои меры.
Эсма Стюарта поддерживал другой шотландец, превосходивший его смелостью и ловкостью. Это был лорд Джэмс Очильтрен. Он в качестве искателя приключений участвовал в войнах на континенте, а после своего возвращения в Шотландию был сделан капитаном королевской гвардии. Любимый своим повелителем и действовавший заодно с дворянской партией, враждебной Мортону, капитан Очильтрен обвинил бывшего регента в соучастии в убийстве Дарнлея и приказал арестовать его прямо в собрании государственного совета и в присутствии самого короля. Этот крайне смелый шаг увенчался успехом и возвестил предстоящее падение английской партии в Шотландии.
Елизавета была в сильнейшей степени поражена случившимся, она сделала, казалось, все, чтобы спасти Мортона, но просчиталась. Арестованный в декабре 1580 года Мортон был приговорен и 2 июня 1581 года обезглавлен за участие в заговоре против отца короля. Он показал, что знал о готовившемся покушении на Дарнлея, однако не принимал в нем участия; выдать заговорщиков он не посмел не мог, потому что все, по его словам, происходило с согласия и под руководством королевы Марии.
Мортон был казнен. Партия его была ниспровергнута, а большая часть его родственников и друзей была приговорена к смерти или тяжким наказаниям, более счастливые из них успели бежать. Иаков VI обвинителя Очильтрена сделал графом Аррапским, отдал графство Мортон католику Максвелу, графство Оркней — графу Марчу, а лорда Рутвена сделал графом Говрином.
При известии о смерти Мортона Мария Стюарт почувствовала, что ее жажда мщения удовлетворена, и у нее мелькнула надежда на благоприятный поворот в ее собственной судьбе. С Ленноксом, которому королева прежде не доверяла, она вошла теперь в сношения. Мария долгое время не соглашалась признавать королевский титул за своим сыном и предлагала католическим державам сделать то же самое. Но тут она приняла наконец проект совместного управления страной, по которому ее сын, в силу ее нового — на этот раз добровольного — решения, должен был принять королевский сан и править вместе с ней. Мария Стюарт уполномочила герцога Гиза устроить и завершить это соглашение, Но кроме названного плана, который не было уже надобности скрывать, назревал другой, безусловно тайный. Этот план, набросанный иезуитами, одобренный папой, принятый Ленноксом и получивший согласие шотландского короля, а также обеспеченный содействием лотарингского дома и военной помощью короля Испании, заключался в том, чтобы сделать Шотландию снова католической страной, а Марию Стюарт освободить и возвести вновь на трон.
Возникновение этого плана прервало временное затишье в деятельности Марии Стюарт, тот период ее бессилия, безнадежности и нравственного угнетения. Мария вновь воспряла духом и в короткое время развила деятельность, которую можно назвать грандиозной и которая вновь грозила прежними опасностями ее противнице Елизавете.
Неудача заговора герцога Норфолка охладила пыл не только Шотландии и Англии, но и почти всех европейских стран. Некоторое время никто не помышлял о способах освобождения из неволи Марии Стюарт и восстановления ее прав. У нее была отнята малейшая возможность затеять новые политические интриги, тогда как у ее приверженцев как будто пропала к тому всякая охота. Между тем политические дела Европы шли своим чередом.
Елизавета подавила восстание на севере своего королевства; заговор против нее герцога Норфолка провалился. Ее политике удалось разъединить две враждебные ей великие державы на европейском континенте. Елизавета воспользовалась заключенным ею миром с Францией, равно как проектом брачного союза между ней и герцогом Анжуйским, чтобы домогаться союза с французским королем Карлом IX. Путем заключения позднее договора об этом Англия заручилась поддержкой Франции в случае испанского нашествия.
Счастье было на стороне Елизаветы и в Шотландии. Мария Стюарт все еще имела там сильную партию. С тех пор, как снова начались военные действия между лордами верными королеве и лордами верными королю, графа Леннокса постигла участь его предшественника Мюррея: он также был убит. Вследствие этого знатнейшие лорды короля были арестованы. На следующий день регентом был избран граф Марр, состоявший воспитателем при молодом короле.
Несмотря на занятие Дэмбертона и поддержку королевы Елизаветы, партия короля не могла вполне подорвать партию приверженцев королевы Марии Стюарт, которые заняли кроме Эдинбурга замки Нидри, Ливингстон и Блекнесс. Они победоносно сражались как на севере, так и на востоке Шотландии.
Елизавета решила заставить эту партию добровольно сложить оружие и потому устроила между враждующими партиями перемирие, состоявшееся 20 июля 1572 года. За услуги, которые Елизавета оказала этим Иакову VI, она добилась выдачи графа Нортумберленда, который и был казнен в Йорке 25 августа.
Однако в тот момент, когда Елизавета воображала себя в полной безопасности, пришло известие о Варфоломеевской ночи в Париже. Вопль ужаса пронесся по всему королевству, Елизавета созвала свой Тайный совет.
Много дней заставила она прождать аудиенции французского посланника Ла-Мот-Фенелона в Оксфорде, куда он прибыл, чтобы оправдать эту кровопролитную резню мнимым открытием заговора протестантов. Когда королева приняла его наконец, она сама, как и члены ее государственного совета и знатнейшие дамы, была облачена во все черное, а ее кабинет походил на погребальный склеп. Ла-Мот-Фенелон прошел мимо безмолвных присутствующих и приблизился к Елизавете. Она приняла его с необычайно строгим видом, снова высказала свое отвращение к подобному злодейству и решительно не поверила объяснениям Фенелона. Она отнеслась с удивлением и порицанием к поступку французского короля Карла IX, а на уверения, которые возобновил посланник, возразила, что сильно опасается, как бы те, которые склонили французского короля пожертвовать своими наследственными подданными, не заставили его пожертвовать потом королевой.
Елизавета думала, что ее предали, и ей казалось, что протестантству грозит большой заговор, сигналом которого послужила резня в Париже. По этой причине она заключила союз с Германией, велела вербовать там солдат, укрепила Портсмут, Дувр и остров Уайт, снарядила десять больших кораблей для крейсирования в Ла-Манше, оказала поддержку протестантам во Франции, строже прежнего следила за католиками в своем королевстве и строила самые пагубные планы относительно королевы Марии Стюарт, на которую возлагались надежды католической партии как в Англии, так и в Шотландии.
После раскрытия заговора герцога Норфолка Елизавета официально заявила, что не могла бы прожить спокойно ни единого часа, если бы Мария Стюарт снова вступила на престол, и что теперь она приняла твердое решение никогда больше не возвращать ей свободы. Протестантское духовенство считало, что смертная казнь шотландской королевы была бы справедлива, законоведы, со своей стороны, доказывали ее законность. Обе палаты парламента хотели предать Марию Стюарт суду. Однако Елизавета воспротивилась этому. Чтобы избавить царственную пленницу от преследований подобного рода, парламент был распущен и правительство удовольствовалось тем, что решило запугать шотландскую королеву лишь подобием обвинения.
Марию Стюарт подвергли допросу. Она отвечала осторожно, утверждая, что не питала никаких враждебных намерений против Елизаветы, когда задумала вступить в брак с Норфолком, а посылая Ридольфи к папе Пию V и Филиппу II, имела в виду только освобождение Шотландии. Елизавета, которая нашла ее объяснения неудовлетворительными, не хотела затевать судебный процесс. Но после кровопролития Варфоломеевской ночи стала все же помышлять о том, как бы избавиться от Марии. План, начертанный ею с этой целью при помощи Бэрлея и Лейстера, должен был осуществиться в Шотландии, и выполнять его доверили одному из самых ловких агентов. В Шотландию отправился Генрих Киллегрю, зять Бэрлея, с двумя поручениями, одно из которых было явным, а другое тайным, Первое заключалось в том, чтобы привести к окончательному примирению враждующие политические партии, второе — чтобы договориться с графом Мортоном относительно смерти Марии Стюарт.
Киллегрю должен был дать понять союзникам Елизаветы, что ради общей безопасности Мария Стюарт не может оставаться в живых, но что ее неудобно судить в Англии, а лучше — в Шотландии. С этой целью шотландцы должны были бы потребовать к себе пленную Марию, которая и будет выдана им Елизаветой.
Киллегрю встретил в Шотландии также крайнее волнение по поводу Варфоломеевской ночи. Престарелый Нокс, удалившийся в Сент-Эндрю, снова вернулся в Эдинбург. Хотя вследствие апоплексического удара у него отнялась половина тела, он все же приказал внести себя на кафедру и, будучи терзаем страданиями и разгорячен гневом, громил убийц его протестантских братьев во Франции. Нокс со своими учениками много способствовал тому, что союз Шотландии с Францией стал делаться все популярнее.
Киллегрю воспользовался этим для своих целей; ему удалось убедить графа Мортона в необходимости казни Марии Стюарт, но регента Марра не так легко было убедить в этом.
Киллегрю при поддержке Нокса все более и более восстанавливал народ против католиков и имел многократные совещания с Марром и Мортоном о «великом деле». Оба графа согласились наконец устранить предмет несогласий, то есть Марию Стюарт, и даже было оговорено время для ее гибели — не позже четырех часов после выдачи ее шотландцам. Условием этого они поставили следующее: чтобы Елизавета объявила себя защитницей молодого короля Иакова VI, чтобы права последнего не были умалены смертью матери, чтобы между обоими королевствами был заключен оборонительный союз, чтобы три тысячи человек из английского войска присутствовали при казни (это была военная сила, которая, соединившись с войском молодого короля, должна была взять приступом крепость Эдинбурга) и, наконец, чтобы эта крепость была уступлена регенту и Англия заплатила бы шотландскому войску недополученное им жалованье.
Елизавета, по своей скупости, нашла такие условия неприемлемыми. Она очень желала погубить Марию Стюарт, но не имела никакой охоты платить убийцам и выставлять себя соучастницей этого злодейства.
Внезапная смерть регента графа Марра, умершего 28 октября 1573 года в Стирлинге (как полагают, отравленного), задержала эти постыдные переговоры, но они продолжались до 1574 года.
Бэрлей предложил королеве избавиться от Марии Стюарт в Англии. Елизавета не решилась последовать его совету, но склонила на свою сторону и совершенно подавила партию Марии Стюарт в Шотландии. Мортон был назначен регентом после умершего графа Марра; в тот самый день, когда он принял бразды правления, скончался Нокс. Этот непреклонный деятель реформации, так много способствовавший своими поучениями религиозному и политическому перевороту в Шотландии, умер, хотя и больной телом, но крепкий духом, в возрасте шестидесятисеми лет.
Партия королевы Марии после пятилетней бесплодной борьбы значительно обессилела. В ее руках оставалась теперь лишь крепость Эдинбург. Киркэльди ла Гранж и Летингтон держались в эдинбургской цитадели, где ожидали помощи, обещанной французским двором. Тогда как прочие приверженцы Марии Стюарт, с Гамильтонами и Гордонами во главе, пошли на соглашение, предложенное им Мортоном, эти двое храбрых защитников Эдинбурга имея в своем распоряжении всего двести солдат, решили сопротивляться до конца. Они не хотели слышать о сдаче, полагаясь на неприступность своей твердыни и ожидаемую помощь французов.
Однако союзники не пришли им на выручку. Против крепости повели осаду. За недостатком средств обороны она не могла оказать продолжительного сопротивления, и вскоре ее мужественные защитники принуждены были сдаться. Летингтон умер в тюрьме, а Киркэльди ла Гранж был повешен мстительным регентом Мортоном на Крестовой площади Эдинбурга.
С их смертью партия Марии Стюарт в Шотландии окончательно погибла. Королева страшно горевала, часто впадая в уныние. Однако суровость ее заточения насколько смягчили, да и сама она изменила теперь свое поведение и речи. Она старалась кротостью добиваться свободы, которой ей не удалось достичь силой. Вооружась терпением, Мария, прежде высокомерная, красноречивая, беспокойная и смелая, превратилась в почти смиренную женщину. Она избегала всего, что могло возбудить подозрительность Елизаветы, и ограничивалась в своих письмах к ней только тем, что относилось к управлению ее вдовьей частью во Франции. Из-за сырости тюремных стен Мария заболела ревматизмом, который мучил ее вместе с хронической болезнью печени. По ее просьбе ей было разрешено пользоваться минеральными ваннами в Шеффилде.
Вместо того, чтобы затевать заговоры в Англии, в Шотландии и на континенте, Мария Стюарт рассеивала скуку неволи, забавляясь птицами и собаками, или же занималась шитьем. Она поручала покупать для нее шелк, атлас, ленты для изящных дамских рукоделий, которые подносила потом, через посредство Ла-Мот-Фенелона, королеве Елизавете. При первом известии о том, что та благосклонно приняла ее подношения, Мария написала ей, что была обрадована такой милостью и готова во всем угождать и повиноваться Елизавете. Движимая этим желанием, она часто просила епископа. Глазгоуского выписывать ей из Франции то одно, то другое, что можно было поднести в дар Елизавете, какие- нибудь браслеты, зеркала или модные новости. Она радовалась, что эти подарки всегда принимались благосклонно. Вот до чего дошла несчастная Мария Стюарт!
Вместе с тем она старалась задобрить также и наиболее важных советников Елизаветы; она просила принца, своего родственника, передавать от нее подарки и изъявления благодарности графу Лейстеру, который обещал действовать в ее пользу; Бэрлею она писала самые дружеские письма; льстила даже беспокойному Валингэму, сделавшемуся статс-секретарем после назначения Бэрлея государственным казначеем. Она опасалась беспокойной фантазии этого министра, который, заведуя полицией, заботился теперь о безопасности Елизаветы.
После смерти Карла IX на французский престол вступил Генрих III. До этого он славился мудростью и твердостью, но, сделавшись королем, недолго обнаруживал эти достоинства. Мария Стюарт полагалась на него более всех прочих деверей, которых у нее было трое. Поначалу она думала, что он вступится за нее энергичнее Карла IX, просила не признавать ее сына королем Шотландии. Она хотела, чтобы Генрих III заключил с ней тайный союз и помог ей восстановить свои права, а прежде всего, чтобы он не возобновлял договора, заключенного в апреле 1572 года между Карлом IX и Елизаветой.
Однако Мария лишилась своей главной опоры при французском дворе в лице кардинала Лотарингского, которому была искренне предана, больше, чем всем родственникам, и к которому питала, наибольшее доверие. С его смертью у нее рухнула последняя надежда на поддержку со стороны Генриха III, потому что он под руководством своей матери следовал политике, сделавшей все правление Карла IX тревожным и кровавым. Эта политика лукавства соответствовала наклонностям Екатерины Медичи.
Генрих III возобновил заключенный в 1572 году союз с Англией; тогда Мария Стюарт снова обратилась к Филиппу II и папе через посредство епископа Росского, которого она снова аккредитовала при римском дворе после его освобождения. Папа Григорий XIII, следовавший планам своего предшественника Пия V и поддерживавший восстание в Ирландии, пытался уговорить Филиппа II снарядить экспедицию против Англии под началом дона Хуана Австрийского и предлагал, кроме того, устроить брачный союз между Марией Стюарт и этим молодым принцем. Однако Филипп II остался равнодушен к этим планам, несмотря на часто повторяемые просьбы Марии Стюарт передать ему своего сына как залог католичества. Она даже хотела лишить наследства своего ребенка и перенести его права на могущественного защитника католической веры в Европе.
Частые приступы ее болезней, окружавшие ее в неволе опасности и возможные последствия затеваемых ею заговоров принудили Марию Стюарт составить завещание. Оно было весьма обширно. И в нем она прежде всего заявляла, что оставит свой престол сыну лишь при том условии, если он отречется от учения Кальвина, принятого им по внушению приближенных, и пожелает вернуться в лоно католической церкви.
Тем временем никакого проблеска надежды на лучшее будущее для Марии Стюарт не было, и она уже не рассчитывала больше ни на чью поддержку и участие, за исключением не особенно могущественных Гизов, которые много обещали, но были бессильны сдержать свои обещания.
В продолжение пяти лет своего регентства Мортон поддерживал мир в Шотландии, в течение этого времени в ней не возникали новые политические партии и не возобновлялись старые раздоры. При таких благоприятных условиях росло благосостояние страны. Городская промышленность развивалась, флот прибавлялся, народное благополучие увеличивалось. Столь счастливая перемена в Шотландии возбуждала удивление и почти зависть посланников Елизаветы. Однако оставаться долгое время в спокойствии и подчинении было не в духе шотландского дворянства, ему надоело повиноваться Мортону, ненасытная скупость и крайнее высокомерие которого способствовали возникновению новых заговоров.
Александр Эрскин, гувернер короля, и Бэченан, один из королевских опекунов, заключили между собой союз с целью ниспровергнуть Мортона. К этому союзу примкнули многие из значительнейших представителей старой партии; с общего согласия они отрешили Мортона от регентства в 1578 году и утвердили Иакова VI, не достигшего еще одиннадцатилетнего возраста, в королевских правах, пользование которыми союзники разделили между собой. Мортон внешне спокойно подчинился своему отрешению и после того, как сам провозгласил в Эдинбурге непосредственное управление короля, добровольно удалился в замок Далькейт, оставив, по-видимому, всякие честолюбивые помыслы, и предался мирным занятиям. Но втайне он подготавливал ниспровержение тех, которые низложили его.
Не прошло и двух месяцев, как этот хитрый и предприимчивый вельможа снова ринулся в борьбу с редкой смелостью и полнейшим успехом. При поддержке своих союзников он овладел замком Стирлинг и спорной особой юного короля. От восстановления регентства Мортон отказался, но от имени парламента, который под его руководством и влиянием собрался в замке Стирлинга, он составил государственный совет для ведения общественных дел; высшее руководство советом было передано ему, тогда как на словах авторитет Иакова VI оставался в прежней силе. Снова облеченный королевской властью, хотя и в иной форме, Мортон отчасти поладил и со своими врагами.
Тем не менее против него подготовлялись более решительные действия. Это было делом рук двоих молодых шотландцев, которые, незадолго перед тем прибыв с континента, сумели приобрести доверие Иакова VI и сделались его любимцами.
Эсм Стюарт, известный под именем Д’Обиньи кавалер привлекательной наружности и пленительного ума, утонченных и мягких привычек, покинул французский двор, где он был воспитан, появился в 1579 году при шотландском дворе с тайным поручением от герцога Гиза. Он был католиком, и ему предстояло заменить герцога Этола в качестве главы политической партии, которая осталась верна старинной религии страны и ее королевскому роду. Иаков VI, приходившийся двоюродным братом Эсму Стюарту, принял его чрезвычайно приветливо, привязался к нему, назначил его своим камергером и дал ему титул графа Леннокса. Такое внезапное повышение Эсма Стюарта встревожило Мортона и Елизавету. Они провидели намерения нового любимца; он подвергался нападкам партии ревностных просвитериан как католик, а в то же время английская партия обвиняла его в том, что он замышляет овладеть королем, чтобы увезти его в Джэбертон, а оттуда за границу. Это подозрение было небезосновательно, так как в 1579 и 1580 годах Мария Стюарт только и думала о том, чтобы вывезти своего сына из Шотландии. Однако Елизавета, предупрежденная Мортоном, приняла свои меры.
Эсма Стюарта поддерживал другой шотландец, превосходивший его смелостью и ловкостью. Это был лорд Джэмс Очильтрен. Он в качестве искателя приключений участвовал в войнах на континенте, а после своего возвращения в Шотландию был сделан капитаном королевской гвардии. Любимый своим повелителем и действовавший заодно с дворянской партией, враждебной Мортону, капитан Очильтрен обвинил бывшего регента в соучастии в убийстве Дарнлея и приказал арестовать его прямо в собрании государственного совета и в присутствии самого короля. Этот крайне смелый шаг увенчался успехом и возвестил предстоящее падение английской партии в Шотландии.
Елизавета была в сильнейшей степени поражена случившимся, она сделала, казалось, все, чтобы спасти Мортона, но просчиталась. Арестованный в декабре 1580 года Мортон был приговорен и 2 июня 1581 года обезглавлен за участие в заговоре против отца короля. Он показал, что знал о готовившемся покушении на Дарнлея, однако не принимал в нем участия; выдать заговорщиков он не посмел не мог, потому что все, по его словам, происходило с согласия и под руководством королевы Марии.
Мортон был казнен. Партия его была ниспровергнута, а большая часть его родственников и друзей была приговорена к смерти или тяжким наказаниям, более счастливые из них успели бежать. Иаков VI обвинителя Очильтрена сделал графом Аррапским, отдал графство Мортон католику Максвелу, графство Оркней — графу Марчу, а лорда Рутвена сделал графом Говрином.
При известии о смерти Мортона Мария Стюарт почувствовала, что ее жажда мщения удовлетворена, и у нее мелькнула надежда на благоприятный поворот в ее собственной судьбе. С Ленноксом, которому королева прежде не доверяла, она вошла теперь в сношения. Мария долгое время не соглашалась признавать королевский титул за своим сыном и предлагала католическим державам сделать то же самое. Но тут она приняла наконец проект совместного управления страной, по которому ее сын, в силу ее нового — на этот раз добровольного — решения, должен был принять королевский сан и править вместе с ней. Мария Стюарт уполномочила герцога Гиза устроить и завершить это соглашение, Но кроме названного плана, который не было уже надобности скрывать, назревал другой, безусловно тайный. Этот план, набросанный иезуитами, одобренный папой, принятый Ленноксом и получивший согласие шотландского короля, а также обеспеченный содействием лотарингского дома и военной помощью короля Испании, заключался в том, чтобы сделать Шотландию снова католической страной, а Марию Стюарт освободить и возвести вновь на трон.
Возникновение этого плана прервало временное затишье в деятельности Марии Стюарт, тот период ее бессилия, безнадежности и нравственного угнетения. Мария вновь воспряла духом и в короткое время развила деятельность, которую можно назвать грандиозной и которая вновь грозила прежними опасностями ее противнице Елизавете.

Глава восьмая
ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ ВАЛИНГЭМА

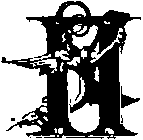 По некоторым причинам Бэрлей, назначенный государственным казначеем, не считал возможным доверять парламенту. Вероятно, тот не вполне согласовывался с его волей в процессе против сообщников Норфолка. Вдобавок Бэрлею было слишком трудно сверх основных занятий руководить еще и полицией. Поэтому он почувствовал необходимость передать должность главного начальника полиции надежному человеку. Он нашел вполне подходящего заместителя в лице своего зятя Валингэма, который успел возвыситься тем временем до звания статс-секретаря. Бэрлей дал ему приказ завести собственную полицию, причем рекомендовал для услуг вне пределов Англии сэра Кингтона.
Валингэм принялся исполнять полученное поручение с большим рвением и удовольствием, а Кингтон отправился во Францию, откуда долго переписывался со своим патроном, пока нашел необходимым потолковать с ним лично. Валингэм назначил своему агенту свидание осенью 1582 года.
Кингтон явился скоро и был приведен к статс-секретарю.
По наружности Кингтон смахивал теперь на честного зажиточного горожанина, и Валингэм невольно рассмеялся над простецким видом своего подчиненного, которому, впрочем, не особенно доверял. Он предложил Кингтону представить отчет о своей деятельности.
— Я должен начать издалека, милорд, — сказал Кингтон. — Мои прежние сообщения нужно дополнить, чтобы сделать понятным дальнейшее.
— К делу! — поторопил его Валингэм.
Кингтон сообщил, в каком положении находится дело заговора о новом вступлении Марии Стюарт на трон. Во главе этого заговора стали иезуиты, причем ими посланы в Англию и Шотландию специальные эмиссары, главными из которых были Роберт Пэрсонс и Эдмунд Кэмпиан. Они, заботясь о расширении папской власти, состояли в связи с Гизами и имели обещание Филиппа II Испанского на выдачу денег, необходимых для освобождения Марии Стюарт. К герцогу Ленноксу посланы иезуиты Крейтон и Гольт для того, чтобы условиться, как привести в исполнение задуманное дело.
Валингэм, услышав это, поблагодарил Кингтона за сообщение и спросил, как можно было бы помешать этому заговору.
— Для этого прежде всего необходимо изловить иезуитов и под пыткой добиться у них признания, — ответил Клинтон.
— Но где же их найти?
— Кэмпиан находится в Шеффилде, вблизи Марии Стюарт, и потому нужно особенно внимательно наблюдать за ней. Далее следует занять войсками шотландскую границу и предложить лорду Бэрлею помощь.
— Это ловко придумано, и, по-моему, вы правы! — одобрил Валингэм.
Кингтон, улыбнувшись, произнес:
— Милорд, могу ли я позволить себе один вопрос?
— Разумеется.
— Милорды Бэрлей иЛейстер в данную минуту как будто не особенно ладят между собой?
— Ах… это обстоятельство…
— В высшей степени интересует меня, милорд, — подхватил Кингтон. — Между Лейстером и мной также не все еще выяснено: я не могу забыть, что во время процесса Норфолка он не помог мне выкарабкаться из беды, и если я разузнаю все, а самое главное, если получу позволение лорда Бэрлея, то могу сыграть с ним такую шутку, что все мы останемся вполне довольны.
— Не стану отрицать, сэр, между этими двумя сановниками действительно замечается некоторая холодность…
— … проистекающая из того, что ваша повелительница до такой степени благоволит к лорду Лейстеру, что он позволяет себе возноситься… Не правда ли?
— Вы, должно быть, состоите в союзе с сатаной?
— Я — тайный агент вашей светлости. И хотел бы попросить, чтобы меня тайно допустили к королеве.
— Но… ведь вы изгнаны из страны… Приказ о вашем изгнании не отменен.
— Дайте мне только письменное удостоверение, что я состою на вашей службе и принес на своем посту значительную пользу. С этим удостоверением в руках я предстану перед королевой.
— Это кажется мне рискованным… Подобный шаг опасен как для вас, так и для меня.
Кингтон улыбнулся.
— Тем не менее вы велели мне явиться и приняли меня. Конечно, вы полагали, что можете пожертвовать мной. Но это только навредило бы вам. Между тем мы можем договориться. Выдайте мне удостоверение, а я дам вам письменный документ, не лишенный ценности.
— Вы торгуетесь? Но ведь вам платят за ваши услуги.
— Все это прекрасно, однако определять границы этих услуг предоставлено мне самому Я достаточно сделал за полученные мной деньги, а за этот письменный документ желаю получить от вас свидетельство.
Кингтон показал министру письмо.
— Оно важно? — спросил тот.
— Да, — кивнул Кингтон и прочитал: — «Ваш король и папа, судя по тому, что говорил иезуит, кажется, желают воспользоваться моими услугами, чтобы осуществить задуманный ими план относительно восстановления католичества в Шотландии и освобождения шотландской королевы».
— Кто это пишет? — резко спросил Валингэм.
— Герцог Леннокс.
Кингтон отдал листок статс-секретарю, и тот прочитал его до конца. Агент посматривал на него с довольной улыбкой.
— Это весьма ценно! — сказал Валингэм.
— Да, милорд. Пожалуйте же мне свидетельство!
Министр подсел к столу и написал требуемый документ; за неимением казенной печати он воспользовался своим перстнем с гербом и передал листок Кингтону.
Тот принял его с поклоном и произнес:
— У меня еще есть к вам просьба! Не может ли лорд Бэрлей провести меня к королеве без предварительного доклада о том, кто я таков!
— Но я не могу тут ничего решить.
— Вот это второе письмо может помочь решению, — подал Кингтон министру новый документ.
— Ага, — воскликнул тот, — от Леннокса к королеве Марии… весь план заговорщиков. Вы — очень полезный человек!
— Таким я был всегда… — сказал Кингтон, — меня только не умели ценить.
— Этот упрек не должен относиться ко мне, сэр, — сказал министр. — Я уважу вашу просьбу, приходите ко мне завтра вечером, мы еще с вами потолкуем.
Кингтон поклонился и вышел из конспиративной квартиры.
Вскоре после него покинул ее и Валингэм в сопровождении своего слуги. За ними обоими последовал украдкой человек до самого дома Валингэма, он несомненно наблюдал за домом, где происходило тайное свидание.
— Пусть меня повесят, — пробормотал этот шпион, — если статс-секретарь не совещался здесь с отчаянным малым Кингтоном.
Этим шпионом был Пельдрам. Полиция парламента в Англии следила за полицией государственного казначея, и наоборот.
На следующий вечер Кингтон, как ему было приказано, явился к своему начальнику, и тот велел ему следовать за собой.
Во дворце Кингтона привели в комнаты королевы, и он предстал перед ней в том самом кабинете, где Елизавета так часто принимала его бывшего господина, графа Лейстера. Кингтон немедленно бросился на колени.
По весьма понятным причинам, королева держалась от него в отдалении, но комната была так ярко освещена множеством свечей, что она вспомнила лицо посетителя.
— Ваши черты как будто знакомы мне, — сказала она. — Должно быть, я видела вас раньше.
— Человек подвержен перемене времени, и я не избег этого закона, — ответил Кингтон, — но последние двенадцать лет не коснулись моей высокой повелительницы. Вы, ваше величество, именно столько времени тому назад подарили меня милостивым взглядом.
Кингтон затронул тщеславие женщины такой с виду грубой, но на самом деле тонко обдуманной лестью. Однако Елизавета как будто пропустила ее мимо ушей.
— Кто же вы такой? — задала она вопрос.
— Верный слуга вашего величества! Позвольте пока остаться при этом определении.
— Ах, кажется, вы хотите здесь повелевать?!
— И не думаю… но мне, я полагаю, позволительно надеяться, что ваши министры уже успели сообщить вам, ваше величество, о замыслах ваших врагов, открытых благодаря мне.
— Эти сообщения вообще рекомендуют вас, — поспешно сказала королева. — Вы желаете дополнить их?
— Не соблаговолите ли вы, ваше величество, принять и просмотреть вот эти два документа.
Елизавета колебалась некоторое время, но вид и обращение незнакомца не вызывали никаких опасений. Она подошла к нему ближе и взяла оба письма, после чего снова удалилась, чтобы приняться за чтение.
Вдруг с ней произошла резкая перемена, и это было совершенно понятно. Одна из бумаг представляла собой письмо Марии Стюарт к Мендозе. Другая была ответом ей этого посланника Филиппа II при английском дворе. Оба письма касались затеянного заговора.
— Я обязана вас благодарить, — сказала она Кингтону. — Встаньте!… Кто вы такой?
— Ваше величество, предварительно еще одно слово, — сказал Кингтон. — Священник Кэмпиан, переодетый зубным врачом, служит посредником для передачи писем между Марией Стюарт и послом Мендозой. За зеркалом в комнате последнего спрятана переписка заговорщиков.
— Благодарю… благодарю вас!… Ваша верность должно быть награждена. Ну, а теперь ваше имя!
— Оно находится в этом документе, — ответил Кингтон, подавая королеве бумагу, написанную Валингэмом.
Елизавета бросила на нее беглый взгляд.
— Кингтон? — удивилась она с совершенно особенным выражением внутренней борьбы.
— Да, я — Кингтон. Я — ваш всеподданнейший слуга и прошу только об одной милости! Дозвольте мне служить и дальше вам, ваше величество, так как я рассчитываю в скором времени предать Кэмпиана в руки правосудия.
Хитрец ловко вел свою игру. Елизавета, пожалуй, успела уже сообразить, что Бэрлей неспроста прислал ей этого человека.
— Что же, — решила королева, — ваши прежние проступки должны быть забыты ради услуг, которые вы оказали нам. Не рассчитывайте однако на награду за них… Встаньте!…
— Я уже награжден вашей милостью! — не вставая с колен, возразил Кингтон. — Но у меня есть, еще одна просьба к вам, ваше величество.
— Я согласна выслушать ее, — ответила Елизавета.
— То, что я сделал раньше для лорда Лейстера, было ради его спасения; я принес жертву, которую он принял, но за которую я не удостоился его признательности. Ведь он действительно вступил в брак с леди Филли Бэклей.
Королева на минуту задумалась, а затем сказала:
— Я поняла вас. Но самопожертвованию в пользу вашего господина равнялась ваша дерзость против вашей королевы. Вы не заслужили награды.
— А может быть, я удостоюсь ее, когда доложу, что супруга графа Лейстера вот уже десять лет живет в его замке Кенилворт, принимает там его у себя и вообще пользуется всеми своими правами.
— Правда ли это? — опешила Елизавета.
— Да, ваше величество, — подтвердил Кингтон. — Вы сами могли бы убедиться в справедливости моих слов, если бы в той местности случайно устроилась охота. А до тех пор я буду наблюдать за охотничьим замком, чтобы не допустить удаления этой особы.
— Это вы из мести предаете Лейстера?
— Я не предаю лорда, ваше величество, а только доношу по долгу верноподданного вам, моей повелительнице. Кто неверен в одном, тому нетрудно при случае дойти до измены и в другом.
Елизавета размышляла некоторое время.
«Правда, — думала она, — моя слабость навлекла на себя жестокую кару». И вслух произнесла:
— Молчите о своих сообщениях, наблюдайте за Кенилвортским замком и доносите мне! Но это не самое главное. Первым долгом заботьтесь об исполнении приказов лордов Бэрлея и Валингэма. Можете идти.
Кингтон покинул королеву, и вскоре пустился в путь, направляясь в Шеффилд.
А тем временем лорду Лейстеру доложили о приходе агента парламентской полиции.
Название тайного судилища для политических и уголовных преступлений звучало грозно даже для высших сановников государства. Поэтому Лейстер немедленно принял посетителя и, к своему удивлению, тотчас узнал его. Перед ним стоял Пельдрам.
— Как вы осмелились? — с досадой воскликнул Лейстер.
— Милорд, мое теперешнее звание должно было бы послужить вам достаточным ответом, — сказал Пельдрам.
— Но я пришел не по долгу службы, а в ваших интересах.
— Как… в моих интересах?
— Именно так, милорд… Это побудило меня еще много лет назад попытаться уничтожить змею, которую вы пригрели на своей груди и которая замышляла вашу гибель.
— Вы намекаете на Кингтона?
— Разумеется, милорд. Не скрою, я действовал небескорыстно, потому что хотел поступить на его место, но я служил бы вам верой и правдой, на что готов еще и теперь.
— Допустим, что я поверил бы вам, в чем же заключается услуга, которую вы намерены оказать мне?
— Прежде всего в сообщении, что Кингтон принадлежит к полиции Валингэма и попал на службу при содействии лорда Бэрлея.
— Неужели?
— Да, милорд… Затем скажу вам еще, что в настоящее время Кингтон наблюдает за Кенилвортским замком, а это немаловажно.
— Боже мой! — воскликнул Лейстер.
— Тот человек — мой заклятый враг, отомстить ему — цель моей жизни. Но в настоящее время он мне недоступен. Я знаю, что происходит в замке, и догадываюсь, по чьему приказу находится там Кингтон. Может быть, вы еще в состоянии помешать замыслам ваших врагов?
Лейстер вздрогнул.
— Благодарю вас, Пельдрам, — сказал он, — мы еще увидимся с вами. Надеюсь, что мне удастся все уладить. Но пока я остаюсь вашим должником.
Пельдрам поклонился и вышел.
Лейстер сел к письменному столу и поспешно написал письмо, которое тотчас отправил с верховым гонцом. Сам же он переоделся и поехал в Вестминстер. Он надеялся получить на некоторое время отпуск, чтобы посмотреть самому, как поступить для сокрытия связи, которая так долго оставалась необнаруженной, что он почти перестал опасаться ее разоблачения.
По некоторым причинам Бэрлей, назначенный государственным казначеем, не считал возможным доверять парламенту. Вероятно, тот не вполне согласовывался с его волей в процессе против сообщников Норфолка. Вдобавок Бэрлею было слишком трудно сверх основных занятий руководить еще и полицией. Поэтому он почувствовал необходимость передать должность главного начальника полиции надежному человеку. Он нашел вполне подходящего заместителя в лице своего зятя Валингэма, который успел возвыситься тем временем до звания статс-секретаря. Бэрлей дал ему приказ завести собственную полицию, причем рекомендовал для услуг вне пределов Англии сэра Кингтона.
Валингэм принялся исполнять полученное поручение с большим рвением и удовольствием, а Кингтон отправился во Францию, откуда долго переписывался со своим патроном, пока нашел необходимым потолковать с ним лично. Валингэм назначил своему агенту свидание осенью 1582 года.
Кингтон явился скоро и был приведен к статс-секретарю.
По наружности Кингтон смахивал теперь на честного зажиточного горожанина, и Валингэм невольно рассмеялся над простецким видом своего подчиненного, которому, впрочем, не особенно доверял. Он предложил Кингтону представить отчет о своей деятельности.
— Я должен начать издалека, милорд, — сказал Кингтон. — Мои прежние сообщения нужно дополнить, чтобы сделать понятным дальнейшее.
— К делу! — поторопил его Валингэм.
Кингтон сообщил, в каком положении находится дело заговора о новом вступлении Марии Стюарт на трон. Во главе этого заговора стали иезуиты, причем ими посланы в Англию и Шотландию специальные эмиссары, главными из которых были Роберт Пэрсонс и Эдмунд Кэмпиан. Они, заботясь о расширении папской власти, состояли в связи с Гизами и имели обещание Филиппа II Испанского на выдачу денег, необходимых для освобождения Марии Стюарт. К герцогу Ленноксу посланы иезуиты Крейтон и Гольт для того, чтобы условиться, как привести в исполнение задуманное дело.
Валингэм, услышав это, поблагодарил Кингтона за сообщение и спросил, как можно было бы помешать этому заговору.
— Для этого прежде всего необходимо изловить иезуитов и под пыткой добиться у них признания, — ответил Клинтон.
— Но где же их найти?
— Кэмпиан находится в Шеффилде, вблизи Марии Стюарт, и потому нужно особенно внимательно наблюдать за ней. Далее следует занять войсками шотландскую границу и предложить лорду Бэрлею помощь.
— Это ловко придумано, и, по-моему, вы правы! — одобрил Валингэм.
Кингтон, улыбнувшись, произнес:
— Милорд, могу ли я позволить себе один вопрос?
— Разумеется.
— Милорды Бэрлей иЛейстер в данную минуту как будто не особенно ладят между собой?
— Ах… это обстоятельство…
— В высшей степени интересует меня, милорд, — подхватил Кингтон. — Между Лейстером и мной также не все еще выяснено: я не могу забыть, что во время процесса Норфолка он не помог мне выкарабкаться из беды, и если я разузнаю все, а самое главное, если получу позволение лорда Бэрлея, то могу сыграть с ним такую шутку, что все мы останемся вполне довольны.
— Не стану отрицать, сэр, между этими двумя сановниками действительно замечается некоторая холодность…
— … проистекающая из того, что ваша повелительница до такой степени благоволит к лорду Лейстеру, что он позволяет себе возноситься… Не правда ли?
— Вы, должно быть, состоите в союзе с сатаной?
— Я — тайный агент вашей светлости. И хотел бы попросить, чтобы меня тайно допустили к королеве.
— Но… ведь вы изгнаны из страны… Приказ о вашем изгнании не отменен.
— Дайте мне только письменное удостоверение, что я состою на вашей службе и принес на своем посту значительную пользу. С этим удостоверением в руках я предстану перед королевой.
— Это кажется мне рискованным… Подобный шаг опасен как для вас, так и для меня.
Кингтон улыбнулся.
— Тем не менее вы велели мне явиться и приняли меня. Конечно, вы полагали, что можете пожертвовать мной. Но это только навредило бы вам. Между тем мы можем договориться. Выдайте мне удостоверение, а я дам вам письменный документ, не лишенный ценности.
— Вы торгуетесь? Но ведь вам платят за ваши услуги.
— Все это прекрасно, однако определять границы этих услуг предоставлено мне самому Я достаточно сделал за полученные мной деньги, а за этот письменный документ желаю получить от вас свидетельство.
Кингтон показал министру письмо.
— Оно важно? — спросил тот.
— Да, — кивнул Кингтон и прочитал: — «Ваш король и папа, судя по тому, что говорил иезуит, кажется, желают воспользоваться моими услугами, чтобы осуществить задуманный ими план относительно восстановления католичества в Шотландии и освобождения шотландской королевы».
— Кто это пишет? — резко спросил Валингэм.
— Герцог Леннокс.
Кингтон отдал листок статс-секретарю, и тот прочитал его до конца. Агент посматривал на него с довольной улыбкой.
— Это весьма ценно! — сказал Валингэм.
— Да, милорд. Пожалуйте же мне свидетельство!
Министр подсел к столу и написал требуемый документ; за неимением казенной печати он воспользовался своим перстнем с гербом и передал листок Кингтону.
Тот принял его с поклоном и произнес:
— У меня еще есть к вам просьба! Не может ли лорд Бэрлей провести меня к королеве без предварительного доклада о том, кто я таков!
— Но я не могу тут ничего решить.
— Вот это второе письмо может помочь решению, — подал Кингтон министру новый документ.
— Ага, — воскликнул тот, — от Леннокса к королеве Марии… весь план заговорщиков. Вы — очень полезный человек!
— Таким я был всегда… — сказал Кингтон, — меня только не умели ценить.
— Этот упрек не должен относиться ко мне, сэр, — сказал министр. — Я уважу вашу просьбу, приходите ко мне завтра вечером, мы еще с вами потолкуем.
Кингтон поклонился и вышел из конспиративной квартиры.
Вскоре после него покинул ее и Валингэм в сопровождении своего слуги. За ними обоими последовал украдкой человек до самого дома Валингэма, он несомненно наблюдал за домом, где происходило тайное свидание.
— Пусть меня повесят, — пробормотал этот шпион, — если статс-секретарь не совещался здесь с отчаянным малым Кингтоном.
Этим шпионом был Пельдрам. Полиция парламента в Англии следила за полицией государственного казначея, и наоборот.
На следующий вечер Кингтон, как ему было приказано, явился к своему начальнику, и тот велел ему следовать за собой.
Во дворце Кингтона привели в комнаты королевы, и он предстал перед ней в том самом кабинете, где Елизавета так часто принимала его бывшего господина, графа Лейстера. Кингтон немедленно бросился на колени.
По весьма понятным причинам, королева держалась от него в отдалении, но комната была так ярко освещена множеством свечей, что она вспомнила лицо посетителя.
— Ваши черты как будто знакомы мне, — сказала она. — Должно быть, я видела вас раньше.
— Человек подвержен перемене времени, и я не избег этого закона, — ответил Кингтон, — но последние двенадцать лет не коснулись моей высокой повелительницы. Вы, ваше величество, именно столько времени тому назад подарили меня милостивым взглядом.
Кингтон затронул тщеславие женщины такой с виду грубой, но на самом деле тонко обдуманной лестью. Однако Елизавета как будто пропустила ее мимо ушей.
— Кто же вы такой? — задала она вопрос.
— Верный слуга вашего величества! Позвольте пока остаться при этом определении.
— Ах, кажется, вы хотите здесь повелевать?!
— И не думаю… но мне, я полагаю, позволительно надеяться, что ваши министры уже успели сообщить вам, ваше величество, о замыслах ваших врагов, открытых благодаря мне.
— Эти сообщения вообще рекомендуют вас, — поспешно сказала королева. — Вы желаете дополнить их?
— Не соблаговолите ли вы, ваше величество, принять и просмотреть вот эти два документа.
Елизавета колебалась некоторое время, но вид и обращение незнакомца не вызывали никаких опасений. Она подошла к нему ближе и взяла оба письма, после чего снова удалилась, чтобы приняться за чтение.
Вдруг с ней произошла резкая перемена, и это было совершенно понятно. Одна из бумаг представляла собой письмо Марии Стюарт к Мендозе. Другая была ответом ей этого посланника Филиппа II при английском дворе. Оба письма касались затеянного заговора.
— Я обязана вас благодарить, — сказала она Кингтону. — Встаньте!… Кто вы такой?
— Ваше величество, предварительно еще одно слово, — сказал Кингтон. — Священник Кэмпиан, переодетый зубным врачом, служит посредником для передачи писем между Марией Стюарт и послом Мендозой. За зеркалом в комнате последнего спрятана переписка заговорщиков.
— Благодарю… благодарю вас!… Ваша верность должно быть награждена. Ну, а теперь ваше имя!
— Оно находится в этом документе, — ответил Кингтон, подавая королеве бумагу, написанную Валингэмом.
Елизавета бросила на нее беглый взгляд.
— Кингтон? — удивилась она с совершенно особенным выражением внутренней борьбы.
— Да, я — Кингтон. Я — ваш всеподданнейший слуга и прошу только об одной милости! Дозвольте мне служить и дальше вам, ваше величество, так как я рассчитываю в скором времени предать Кэмпиана в руки правосудия.
Хитрец ловко вел свою игру. Елизавета, пожалуй, успела уже сообразить, что Бэрлей неспроста прислал ей этого человека.
— Что же, — решила королева, — ваши прежние проступки должны быть забыты ради услуг, которые вы оказали нам. Не рассчитывайте однако на награду за них… Встаньте!…
— Я уже награжден вашей милостью! — не вставая с колен, возразил Кингтон. — Но у меня есть, еще одна просьба к вам, ваше величество.
— Я согласна выслушать ее, — ответила Елизавета.
— То, что я сделал раньше для лорда Лейстера, было ради его спасения; я принес жертву, которую он принял, но за которую я не удостоился его признательности. Ведь он действительно вступил в брак с леди Филли Бэклей.
Королева на минуту задумалась, а затем сказала:
— Я поняла вас. Но самопожертвованию в пользу вашего господина равнялась ваша дерзость против вашей королевы. Вы не заслужили награды.
— А может быть, я удостоюсь ее, когда доложу, что супруга графа Лейстера вот уже десять лет живет в его замке Кенилворт, принимает там его у себя и вообще пользуется всеми своими правами.
— Правда ли это? — опешила Елизавета.
— Да, ваше величество, — подтвердил Кингтон. — Вы сами могли бы убедиться в справедливости моих слов, если бы в той местности случайно устроилась охота. А до тех пор я буду наблюдать за охотничьим замком, чтобы не допустить удаления этой особы.
— Это вы из мести предаете Лейстера?
— Я не предаю лорда, ваше величество, а только доношу по долгу верноподданного вам, моей повелительнице. Кто неверен в одном, тому нетрудно при случае дойти до измены и в другом.
Елизавета размышляла некоторое время.
«Правда, — думала она, — моя слабость навлекла на себя жестокую кару». И вслух произнесла:
— Молчите о своих сообщениях, наблюдайте за Кенилвортским замком и доносите мне! Но это не самое главное. Первым долгом заботьтесь об исполнении приказов лордов Бэрлея и Валингэма. Можете идти.
Кингтон покинул королеву, и вскоре пустился в путь, направляясь в Шеффилд.
А тем временем лорду Лейстеру доложили о приходе агента парламентской полиции.
Название тайного судилища для политических и уголовных преступлений звучало грозно даже для высших сановников государства. Поэтому Лейстер немедленно принял посетителя и, к своему удивлению, тотчас узнал его. Перед ним стоял Пельдрам.
— Как вы осмелились? — с досадой воскликнул Лейстер.
— Милорд, мое теперешнее звание должно было бы послужить вам достаточным ответом, — сказал Пельдрам.
— Но я пришел не по долгу службы, а в ваших интересах.
— Как… в моих интересах?
— Именно так, милорд… Это побудило меня еще много лет назад попытаться уничтожить змею, которую вы пригрели на своей груди и которая замышляла вашу гибель.
— Вы намекаете на Кингтона?
— Разумеется, милорд. Не скрою, я действовал небескорыстно, потому что хотел поступить на его место, но я служил бы вам верой и правдой, на что готов еще и теперь.
— Допустим, что я поверил бы вам, в чем же заключается услуга, которую вы намерены оказать мне?
— Прежде всего в сообщении, что Кингтон принадлежит к полиции Валингэма и попал на службу при содействии лорда Бэрлея.
— Неужели?
— Да, милорд… Затем скажу вам еще, что в настоящее время Кингтон наблюдает за Кенилвортским замком, а это немаловажно.
— Боже мой! — воскликнул Лейстер.
— Тот человек — мой заклятый враг, отомстить ему — цель моей жизни. Но в настоящее время он мне недоступен. Я знаю, что происходит в замке, и догадываюсь, по чьему приказу находится там Кингтон. Может быть, вы еще в состоянии помешать замыслам ваших врагов?
Лейстер вздрогнул.
— Благодарю вас, Пельдрам, — сказал он, — мы еще увидимся с вами. Надеюсь, что мне удастся все уладить. Но пока я остаюсь вашим должником.
Пельдрам поклонился и вышел.
Лейстер сел к письменному столу и поспешно написал письмо, которое тотчас отправил с верховым гонцом. Сам же он переоделся и поехал в Вестминстер. Он надеялся получить на некоторое время отпуск, чтобы посмотреть самому, как поступить для сокрытия связи, которая так долго оставалась необнаруженной, что он почти перестал опасаться ее разоблачения.

Глава девятая
НАСИЛИЕ

 Несмотря на то, что арест, процесс и казнь Кэмпиана были крупной неудачей для заговорщиков. однако, когда им стало известно, что он никого не выдал, они успокоились. Кроме того, Пэрсонс благополучно вернулся из Англии, чтобы сообщить о настроении народа. Приверженцы Марии Стюарт решительно не догадывались, насколько посвящены в заговор их противники. Пэрсон уехал в Шотландию с деньгами, собранными на общее дело, а в то же время Гизы все энергичнее вели дело заговора к его осуществлению.
Между тем Валингэм имел повсюду своих шпионов. Секретарь французского посланника был подкуплен; посланник Иакова VI предал сам своего повелителя; один из слуг Леннокса был предателем.
Был создан еще один более ограниченный союз с целью убийства Елизаветы. В состав его входили лорды Арден и Соммервиль, а также священник Галл. Союзникам много содействовал в Англии сэр Фрэнсис Трогмортон, сын бывшего посланника Елизаветы при дворе Марии Стюарт, он был арестован первым. За ним — граф Нортумберленд с сыном, граф Эрондэль, его жена, дядя и брат. Лорду Пэджету и Чарльзу Эрондэлю удалось бежать. Трогмортона трижды подвергали пытке, но он не сознался ни в чем до самой смерти, которую принял на эшафоте. Крейтон и прочие арестованные священники также были казнены.
До этого времени распространилась молва о любовных похождениях Елизаветы и ее безнравственных поступках, что жестоко возмутило королеву.
Конечно, этот заговор только ухудшил положение Марии Стюарт, и, несмотря на ее жалобные письма к Елизавете, та приказала перевести ее в замок Уитфилд, а затем в еще более мрачный замок Тильбэри.
В разгар всех этих событий случилось то, что Лейстер совершил или приказал совершить деяние, которое заклеймило навсегда этого любимца Елизаветы.
Филли занимала по праву положение супруги Лейстера и в течение нескольких лет подарила ему двоих детей. Мать находилась при ней, и вся маленькая семья жила тихо и спокойно в отдаленном охотничьем замке Кенилворт, где уединение обитателей нарушалась только редкими посещениями Лейстера.
Сэррей и Брай наконец нашли Филли, но когда она заявила, что желает всецело посвятить свою жизнь супругу, то они в сопровождении Джонстона покинули Британию вообще, чтобы поступить на военную службу за границей. Однако слухи о замышляемой казни Марии Стюарт, уже тогда носившиеся в Европе, впоследствии вернули их обратно.
К этому времени мать Филли умерла и была погребена и оплакана дочерью и внуками.
Когда Пельдрам предостерег Лейстера о нависшей над ним опасности, тот вообразил, что имеет дело лишь с Бэрлеем и Валингэмом, и надеялся, что в силах вступить в борьбу с ними. Поэтому, отправившись в Вестминстер, Лейстер обошелся с Бэрлеем довольно резко. Неучтиво обошелся он и с Валингэмом.
На аудиенции у королевы в тот день не произошло поначалу ничего особенного; только в заключение Бэрлей подал Елизавете депеши, которые считались тайными, так как их содержание не обсуждалось на государственном совете.
Когда Елизавета удалилась в свои апартаменты, лорд Лейстер, по обыкновению, последовал за ней. Королева сначала прочла депеши, а когда наконец взглянула на графа, то ее глаза были полны гнева.
— Ваше величество, — сказал Лейстер, — я принужден; просить о кратком отпуске.
— Вот как? — промолвила Елизавета. — Разве вы опять больны? Насколько я заметила, вы заболеваете через правильные промежутки времени. Ах, если бы я могла также ссылаться на болезни!…
— На этот раз неотложные дела призывают меня в мои поместья.
— А куда именно собираетесь вы ехать?
— В мои владения в восточной части графства, ваше величество.
— Кажется, у вас там обширные, прекрасные леса?
— Молва часто бывает обманчива!
— В этих лесах есть красивые охотничьи замки?
— Замки, да, но не из красивых, ваше величество.
— Как вы думаете, не вправе ли я воспользоваться отдыхом при таком множестве занятий и среди стольких треволнений?
Лейстер насторожился и уклончиво ответил:
— Никто не может помешать в том вам, ваше величество!
— А мой долг? — возразила королева. — Но я хочу попробовать, не удастся ли мне успокоить свою совесть. Право, я сделаю так! Когда собираетесь вы ехать?
— Завтра же утром.
— Не можете ли вы подождать до послезавтра?
— Если вам, ваше величество, угодно…
— Прошу вас, Дэдлей!
— Я повинуюсь.
— Ну, тогда я напрошусь к вам на неделю в гости. Чтобы воспользоваться удовольствием охоты, мы можем поселиться… ну, хотя бы в Кенилворте. Послезавтра мы выедем из Лондона.
Лейстер был отпущен жестом руки и не посмел прекословить, Ему казалось, будто его ударили по голове, — до такой степени был он ошеломлен.
Вернувшись домой, граф тотчас же послал за Пельдрамом и, когда тот пришел, объявил ему, что желает знать, каким образом наблюдают за Кенилвортом и той местностью, где расположен замок.
— Я буду там с достаточным количеством людей, — сказал агент, — но боюсь, что мне не удастся сделать многое, так как нам могут помешать люди королевы.
Вскоре стало известно, что королева покидает на неделю свою столицу, для чего поспешно приступили к сборам и приготовлениям. Особенно усердно принимались меры безопасности, и в назначенное время королевский двор покинул Лондон.
Лейстеру эта поездка далась кровью. Каждый его шаг подвергался строжайшему контролю, точно он был пленником. Вместо того чтобы ехать прямо в Кенилворт, Елизавета расположилась на ночлег в деревне, недалеко от замка. На место прибыли только на другой день, к завтраку.
Напрасно пытался Лейстер тайно снестись со своими людьми — этого не допустили. После завтрака Елизавета потребовала, чтобы ей показали внутреннее убранство замка, который уже сильно обветшал. Лейстер должен был водить ее повсюду сам.
Пройдя анфиладу комнат, царственная гостья дошла до запертой двери, которую Лейстер хотел миновать.
— Куда ведет эта дверь? — спросила Елизавета.
Я и сам толком не знаю, что там. Какие-то жуткие заброшенные комнаты, куда редко кто входил и до меня…
Королева окинула взглядом высокие своды дверей, массивные дубовые доски и, покачав головой, промолвила:
— Я мало верю сказкам про старинные замки, поэтому прикажите отворить эту дверь; мне интересно знать, что скрывается за ней…
Лейстер побелел как смерть, однако велел позвать дворецкого и приказал ему отворить дверь. Тот, поискав дрожащими руками ключ, отпер дверь, трясясь как лист.
Когда ключ еще только начал поворачиваться в замке, раздался оглушительный треск, от которого дрогнули и пол, и каменные стены. Почти все охнули от неожиданности. Смотритель толкнул одну половинку дверей и отскочил назад.
С первого взгляда можно было убедиться, что за этой дверью скрывалась внутренность одной из башен, но в этом помещении не было ни пола, ни потолка; вверху виднелись башенные зубцы, внизу зияла темная, мрачная пропасть, откуда доносился глухой шум. Королева стояла окаменев от ужаса, как и все ее провожатые.
— Покинем этот замок, — воскликнула наконец Елизавета, бросив зоркий взгляд на побледневшего графа, — я не смогу ни секунды чувствовать себя здесь в безопасности!
Королева ушла, за нею последовала ее свита, а позади всех неверными, дрожащими шагами шел Лейстер.
Из охоты ничего не вышло, все возвратились в Лондон, и Елизавета никогда, ни единым словом не напоминала Лейстеру о случившемся. Она, вероятно, думала, что он жестоко наказан, так же, как и она жестоко отомщена соперницей, которая, несмотря на свое убожество, бедность и низкое происхождение, одержала победу над богатой, красивой, знатной королевой.
С того момента Филли совершенно исчезла. Можно было бы предположить, что Лейстер укрыл ее и детей в более надежном месте. Но продолжительная болезнь, которой он страдал после этого случая с неудачной охотой, заставляет предполагать худшее.
Кенилворт был, во всяком случае, одним из ужаснейших сооружений седой старины. Будучи первоначально итальянским изобретением, оно затем быстро распространилось во всей Европе и служило для бесследного исчезновения людей. Возможно, что Лейстер отдал приказание, в случае обнаружения убежища его семьи в башне, погубить их всех Возможно также, что Филли мужественно решила лучше погубить себя и детей, нежели еще раз поставить своего возлюбленного супруга в затруднительное положение из-за нее. Однако достоверных сведений не было, а Кенилвортская башня продолжала наводить ужас на население страны.
Удивленный столь быстрым отъездом двора, Кингтон навел в замке справки. Результаты, по-видимому, мало соответствовали его желаниям, так как он велел своим людям немедленно отправиться в Лондон, сам поехал отдельно. Он ехал, глубоко задумавшись. Вдруг на пути ему встретились трое, и от неожиданности их появления Кингтон на миг даже испугался.
— Черт возьми! — воскликнул один из всадников. — Это он!
— Брай! — вырвалось из уст Кингтона.
— Да, негодяй, это — я! — воскликнул тот.
Все стремительно обнажили свои мечи.
— Именем королевы, вы арестованы! — крикнул Кингтон.
— Попробуй арестовать! — пригрозил Брай, двинувшись на Кингтона.
Тот быстро сообразил, что ему следует заманить их поближе к своим людям и тогда уже с их помощью принудить к сдаче. Поэтому он повернул своего коня обратно и поскакал, надеясь, что Брай и его спутники бросятся за ним — и тогда попадут в западню.
Всадники скакали сначала по открытой местности, а потом попали в большой лес.
— Стой! — раздался окрик за деревьями.
Кингтон, бывший впереди, растерялся и придержал коня, в тот же момент ожил весь лес, со всех сторон подлетели более пятидесяти всадников и окружили как преследуемого, так и преследующих.
— Стой! — послышался вторично тот же голос. — Именем закона…
— Пельдрам! — простонал пораженный Кингтон.
— Совершенно верно! Мы знаем друг друга. Ваше оружие, господа!
— Проклятие! — воскликнул Брай. — Как поступить, милорд Сэррей?
— Все равно, — сказал граф. — Мы не можем вступить в борьбу с таким отрядом.
— Ну и к черту! — крикнул старый забияка, бросая свое оружие. — Я довольно уже пожил!
Пельдрам принял оружие от Брая, Сэррея и Джонстона Когда же он потребовал его и от Кингтона, тот заявил.
— Я состою на государственной службе!
— Это после выяснится! — отрезал Пельдрам.
Он хотел доставить себе удовольствие арестовать и под конвоем отвезти в Лондон столь ненавистного ему человека. Отряд вместе с пленниками направился в столицу.
У Пельдрама были свои счеты с Сэрреем и Браем. Но Брай был его земляком, а шотландец всегда питает слабость к другому шотландцу, даже если они и готовы перервать друг другу глотки. Поэтому Пельдрам подумал, что за двойное поражение будет достаточной местью, если он сдаст Брая с Сэрреем в ближайшем местечке. Так он и сделал, оставив Джонстона на свободе, так как совершенно забыл, кто это такой. Но Пельдрам не мог отказать себе в удовольствии доставить Кингтона в Лондон и сдать его там в Тауэр.
Разумеется, Пельдрам не мог рискнуть на убийство Кингтона, но хотел наказать его всеми неудобствами хождения по этапу, надеясь оправдаться потом, что просто не узнал его.
Конечно, Кингтона очень скоро выпустили из Тауэра, но он счел за лучшее признать, что в данном деле произошло простое недоразумение, и не стал ни в чем обвинять Пельдрама или выводить на свет Божий их старые счеты. Потому Бэрлей и Валингэм не узнали о проступке Пельдрама, направленном против их общих интересов.
Вражда Бэрлея и Лейстера со времени катастрофы в Кенилворте достигла значительной силы и королеве Елизавете не раз приходилась быть посредницей между ними, причем она часто становилась на сторону Лейстера. Жертва, которую он, как ей казалось, принес в Кенилворте, примирила ее с фаворитом, несмотря на всю преступность этого акта. Бэрлей же был достаточно умен, чтобы идти слишком далеко, и, по-видимому, примирился с утвердившимся положением Лейстера.
Оставшийся на свободе Джонстон сумел быстро вернуть свободу Сэррею и Браю, взломав их оковы.
Когда Сэррей узнал подробности событий в Кенилворте, заподозрив в преступлении Лейстера, когда увидел, что Елизавета не только оставила безнаказанным виновника столь мерзкого убийства, но даже не лишила его своего благоволения, — он окончательно и решительно перешел на сторону ее врагов.
Несмотря на то, что арест, процесс и казнь Кэмпиана были крупной неудачей для заговорщиков. однако, когда им стало известно, что он никого не выдал, они успокоились. Кроме того, Пэрсонс благополучно вернулся из Англии, чтобы сообщить о настроении народа. Приверженцы Марии Стюарт решительно не догадывались, насколько посвящены в заговор их противники. Пэрсон уехал в Шотландию с деньгами, собранными на общее дело, а в то же время Гизы все энергичнее вели дело заговора к его осуществлению.
Между тем Валингэм имел повсюду своих шпионов. Секретарь французского посланника был подкуплен; посланник Иакова VI предал сам своего повелителя; один из слуг Леннокса был предателем.
Был создан еще один более ограниченный союз с целью убийства Елизаветы. В состав его входили лорды Арден и Соммервиль, а также священник Галл. Союзникам много содействовал в Англии сэр Фрэнсис Трогмортон, сын бывшего посланника Елизаветы при дворе Марии Стюарт, он был арестован первым. За ним — граф Нортумберленд с сыном, граф Эрондэль, его жена, дядя и брат. Лорду Пэджету и Чарльзу Эрондэлю удалось бежать. Трогмортона трижды подвергали пытке, но он не сознался ни в чем до самой смерти, которую принял на эшафоте. Крейтон и прочие арестованные священники также были казнены.
До этого времени распространилась молва о любовных похождениях Елизаветы и ее безнравственных поступках, что жестоко возмутило королеву.
Конечно, этот заговор только ухудшил положение Марии Стюарт, и, несмотря на ее жалобные письма к Елизавете, та приказала перевести ее в замок Уитфилд, а затем в еще более мрачный замок Тильбэри.
В разгар всех этих событий случилось то, что Лейстер совершил или приказал совершить деяние, которое заклеймило навсегда этого любимца Елизаветы.
Филли занимала по праву положение супруги Лейстера и в течение нескольких лет подарила ему двоих детей. Мать находилась при ней, и вся маленькая семья жила тихо и спокойно в отдаленном охотничьем замке Кенилворт, где уединение обитателей нарушалась только редкими посещениями Лейстера.
Сэррей и Брай наконец нашли Филли, но когда она заявила, что желает всецело посвятить свою жизнь супругу, то они в сопровождении Джонстона покинули Британию вообще, чтобы поступить на военную службу за границей. Однако слухи о замышляемой казни Марии Стюарт, уже тогда носившиеся в Европе, впоследствии вернули их обратно.
К этому времени мать Филли умерла и была погребена и оплакана дочерью и внуками.
Когда Пельдрам предостерег Лейстера о нависшей над ним опасности, тот вообразил, что имеет дело лишь с Бэрлеем и Валингэмом, и надеялся, что в силах вступить в борьбу с ними. Поэтому, отправившись в Вестминстер, Лейстер обошелся с Бэрлеем довольно резко. Неучтиво обошелся он и с Валингэмом.
На аудиенции у королевы в тот день не произошло поначалу ничего особенного; только в заключение Бэрлей подал Елизавете депеши, которые считались тайными, так как их содержание не обсуждалось на государственном совете.
Когда Елизавета удалилась в свои апартаменты, лорд Лейстер, по обыкновению, последовал за ней. Королева сначала прочла депеши, а когда наконец взглянула на графа, то ее глаза были полны гнева.
— Ваше величество, — сказал Лейстер, — я принужден; просить о кратком отпуске.
— Вот как? — промолвила Елизавета. — Разве вы опять больны? Насколько я заметила, вы заболеваете через правильные промежутки времени. Ах, если бы я могла также ссылаться на болезни!…
— На этот раз неотложные дела призывают меня в мои поместья.
— А куда именно собираетесь вы ехать?
— В мои владения в восточной части графства, ваше величество.
— Кажется, у вас там обширные, прекрасные леса?
— Молва часто бывает обманчива!
— В этих лесах есть красивые охотничьи замки?
— Замки, да, но не из красивых, ваше величество.
— Как вы думаете, не вправе ли я воспользоваться отдыхом при таком множестве занятий и среди стольких треволнений?
Лейстер насторожился и уклончиво ответил:
— Никто не может помешать в том вам, ваше величество!
— А мой долг? — возразила королева. — Но я хочу попробовать, не удастся ли мне успокоить свою совесть. Право, я сделаю так! Когда собираетесь вы ехать?
— Завтра же утром.
— Не можете ли вы подождать до послезавтра?
— Если вам, ваше величество, угодно…
— Прошу вас, Дэдлей!
— Я повинуюсь.
— Ну, тогда я напрошусь к вам на неделю в гости. Чтобы воспользоваться удовольствием охоты, мы можем поселиться… ну, хотя бы в Кенилворте. Послезавтра мы выедем из Лондона.
Лейстер был отпущен жестом руки и не посмел прекословить, Ему казалось, будто его ударили по голове, — до такой степени был он ошеломлен.
Вернувшись домой, граф тотчас же послал за Пельдрамом и, когда тот пришел, объявил ему, что желает знать, каким образом наблюдают за Кенилвортом и той местностью, где расположен замок.
— Я буду там с достаточным количеством людей, — сказал агент, — но боюсь, что мне не удастся сделать многое, так как нам могут помешать люди королевы.
Вскоре стало известно, что королева покидает на неделю свою столицу, для чего поспешно приступили к сборам и приготовлениям. Особенно усердно принимались меры безопасности, и в назначенное время королевский двор покинул Лондон.
Лейстеру эта поездка далась кровью. Каждый его шаг подвергался строжайшему контролю, точно он был пленником. Вместо того чтобы ехать прямо в Кенилворт, Елизавета расположилась на ночлег в деревне, недалеко от замка. На место прибыли только на другой день, к завтраку.
Напрасно пытался Лейстер тайно снестись со своими людьми — этого не допустили. После завтрака Елизавета потребовала, чтобы ей показали внутреннее убранство замка, который уже сильно обветшал. Лейстер должен был водить ее повсюду сам.
Пройдя анфиладу комнат, царственная гостья дошла до запертой двери, которую Лейстер хотел миновать.
— Куда ведет эта дверь? — спросила Елизавета.
Я и сам толком не знаю, что там. Какие-то жуткие заброшенные комнаты, куда редко кто входил и до меня…
Королева окинула взглядом высокие своды дверей, массивные дубовые доски и, покачав головой, промолвила:
— Я мало верю сказкам про старинные замки, поэтому прикажите отворить эту дверь; мне интересно знать, что скрывается за ней…
Лейстер побелел как смерть, однако велел позвать дворецкого и приказал ему отворить дверь. Тот, поискав дрожащими руками ключ, отпер дверь, трясясь как лист.
Когда ключ еще только начал поворачиваться в замке, раздался оглушительный треск, от которого дрогнули и пол, и каменные стены. Почти все охнули от неожиданности. Смотритель толкнул одну половинку дверей и отскочил назад.
С первого взгляда можно было убедиться, что за этой дверью скрывалась внутренность одной из башен, но в этом помещении не было ни пола, ни потолка; вверху виднелись башенные зубцы, внизу зияла темная, мрачная пропасть, откуда доносился глухой шум. Королева стояла окаменев от ужаса, как и все ее провожатые.
— Покинем этот замок, — воскликнула наконец Елизавета, бросив зоркий взгляд на побледневшего графа, — я не смогу ни секунды чувствовать себя здесь в безопасности!
Королева ушла, за нею последовала ее свита, а позади всех неверными, дрожащими шагами шел Лейстер.
Из охоты ничего не вышло, все возвратились в Лондон, и Елизавета никогда, ни единым словом не напоминала Лейстеру о случившемся. Она, вероятно, думала, что он жестоко наказан, так же, как и она жестоко отомщена соперницей, которая, несмотря на свое убожество, бедность и низкое происхождение, одержала победу над богатой, красивой, знатной королевой.
С того момента Филли совершенно исчезла. Можно было бы предположить, что Лейстер укрыл ее и детей в более надежном месте. Но продолжительная болезнь, которой он страдал после этого случая с неудачной охотой, заставляет предполагать худшее.
Кенилворт был, во всяком случае, одним из ужаснейших сооружений седой старины. Будучи первоначально итальянским изобретением, оно затем быстро распространилось во всей Европе и служило для бесследного исчезновения людей. Возможно, что Лейстер отдал приказание, в случае обнаружения убежища его семьи в башне, погубить их всех Возможно также, что Филли мужественно решила лучше погубить себя и детей, нежели еще раз поставить своего возлюбленного супруга в затруднительное положение из-за нее. Однако достоверных сведений не было, а Кенилвортская башня продолжала наводить ужас на население страны.
Удивленный столь быстрым отъездом двора, Кингтон навел в замке справки. Результаты, по-видимому, мало соответствовали его желаниям, так как он велел своим людям немедленно отправиться в Лондон, сам поехал отдельно. Он ехал, глубоко задумавшись. Вдруг на пути ему встретились трое, и от неожиданности их появления Кингтон на миг даже испугался.
— Черт возьми! — воскликнул один из всадников. — Это он!
— Брай! — вырвалось из уст Кингтона.
— Да, негодяй, это — я! — воскликнул тот.
Все стремительно обнажили свои мечи.
— Именем королевы, вы арестованы! — крикнул Кингтон.
— Попробуй арестовать! — пригрозил Брай, двинувшись на Кингтона.
Тот быстро сообразил, что ему следует заманить их поближе к своим людям и тогда уже с их помощью принудить к сдаче. Поэтому он повернул своего коня обратно и поскакал, надеясь, что Брай и его спутники бросятся за ним — и тогда попадут в западню.
Всадники скакали сначала по открытой местности, а потом попали в большой лес.
— Стой! — раздался окрик за деревьями.
Кингтон, бывший впереди, растерялся и придержал коня, в тот же момент ожил весь лес, со всех сторон подлетели более пятидесяти всадников и окружили как преследуемого, так и преследующих.
— Стой! — послышался вторично тот же голос. — Именем закона…
— Пельдрам! — простонал пораженный Кингтон.
— Совершенно верно! Мы знаем друг друга. Ваше оружие, господа!
— Проклятие! — воскликнул Брай. — Как поступить, милорд Сэррей?
— Все равно, — сказал граф. — Мы не можем вступить в борьбу с таким отрядом.
— Ну и к черту! — крикнул старый забияка, бросая свое оружие. — Я довольно уже пожил!
Пельдрам принял оружие от Брая, Сэррея и Джонстона Когда же он потребовал его и от Кингтона, тот заявил.
— Я состою на государственной службе!
— Это после выяснится! — отрезал Пельдрам.
Он хотел доставить себе удовольствие арестовать и под конвоем отвезти в Лондон столь ненавистного ему человека. Отряд вместе с пленниками направился в столицу.
У Пельдрама были свои счеты с Сэрреем и Браем. Но Брай был его земляком, а шотландец всегда питает слабость к другому шотландцу, даже если они и готовы перервать друг другу глотки. Поэтому Пельдрам подумал, что за двойное поражение будет достаточной местью, если он сдаст Брая с Сэрреем в ближайшем местечке. Так он и сделал, оставив Джонстона на свободе, так как совершенно забыл, кто это такой. Но Пельдрам не мог отказать себе в удовольствии доставить Кингтона в Лондон и сдать его там в Тауэр.
Разумеется, Пельдрам не мог рискнуть на убийство Кингтона, но хотел наказать его всеми неудобствами хождения по этапу, надеясь оправдаться потом, что просто не узнал его.
Конечно, Кингтона очень скоро выпустили из Тауэра, но он счел за лучшее признать, что в данном деле произошло простое недоразумение, и не стал ни в чем обвинять Пельдрама или выводить на свет Божий их старые счеты. Потому Бэрлей и Валингэм не узнали о проступке Пельдрама, направленном против их общих интересов.
Вражда Бэрлея и Лейстера со времени катастрофы в Кенилворте достигла значительной силы и королеве Елизавете не раз приходилась быть посредницей между ними, причем она часто становилась на сторону Лейстера. Жертва, которую он, как ей казалось, принес в Кенилворте, примирила ее с фаворитом, несмотря на всю преступность этого акта. Бэрлей же был достаточно умен, чтобы идти слишком далеко, и, по-видимому, примирился с утвердившимся положением Лейстера.
Оставшийся на свободе Джонстон сумел быстро вернуть свободу Сэррею и Браю, взломав их оковы.
Когда Сэррей узнал подробности событий в Кенилворте, заподозрив в преступлении Лейстера, когда увидел, что Елизавета не только оставила безнаказанным виновника столь мерзкого убийства, но даже не лишила его своего благоволения, — он окончательно и решительно перешел на сторону ее врагов.

Глава десятая
ТЮРЕМЩИК

 На одной из равнин графства Стэффорд находится одинокий холм, на вершине которого в старину стоял укрепленный замок Тильбэри. Была зима. Сугробы снега покрывали землю, резкий ветер завывал вокруг старого замка и, носясь по обширной равнине, вздымал и кружил снежные вихри. С юга по равнине тянулся отряд всадников численностью около пятидесяти лошадей. Во главе отряда ехали два человека. Один из них был высокий, несколько угловатый. Его лицо носило отпечаток суровости и строгости. Звали его рыцарь Амиас Полэт. Спутником рыцаря был его помощник в делах, офицер-стрелок Друри. Он был ниже ростом и плотнее, с добродушными чертами лица. Всадники, сопровождавшие этих двух господ, были стрелками.
Надзор за Марией Стюарт в замке Тильбэри был теперь поручен таким людям, которые в ней не видели ничего, кроме узницы самого низкого сорта, женщины преступной, уличенной убийцы, словом, женщины-дьявола, за которой нужно зорко следить и поступать с ней сообразно ее проступкам. Таких надзирателей и нашли в лице Амиаса Полэта и его помощника Друри.
Полэт несколько раз поднимал голову и устремлял мрачный взгляд в пространство, чтобы сквозь метелицу разглядеть очертания видневшегося вдалеке замка. Воспользовавшись моментом, когда воздух несколько просветлел, Друри рассмотрел старый замок и невольно вздохнул.
— Вам не нравится тут? — резко спросил Полэт.
— Что? Дорога, снег или старый замок? — спросил Друри вместо ответа на вопрос.
— Ну, снег и неудобства пути не должны смущать солдата, — заметил рыцарь. — Я имел в виду тот старый замок.
— Откровенно говоря, я желал бы лучше попасть туда, куда, вероятно, желала бы переместиться и обитательница этого, с позволения сказать, замка.
— Полэт перекрестился, и черты его лица приняли выражение фанатического благочестия, делавшего и без того непривлекательное лицо Амиаса прямо отвратительным.
— Это — доброе пожелание, — сказал он елейным голосом, — и да исполнит его Господь Бог! Но уверяю вас, Друри, это место как нельзя более подходит для укрытия этой клятвопреступницы, государственной изменницы и мужеубийцы, которая под нашим надзором должна приобрести кротость агнца.
Друри испуганно взглянул на своего начальника и молча опустил голову.
— Не огорчайтесь, — продолжал рыцарь, — на мою долю выпала честь занять ответственный пост надзирающего за этой великой грешницей, а для вас такая же высокая честь быть моим помощником. Подумайте, какая награда ждет нас за эту службу, не говоря уже о той высокой награде, которую мы приобретем в загробной жизни за то, что уничтожим все коварные проделки этого чудовища!…
Полное, раскрасневшееся от ветра лицо Друри свидетельствовало о том, что он не особенно спешит заручиться небесной наградой.
— Я не сомневаюсь, — ответил он с легкой улыбкой, — что нас вознаградят хорошо, но все же нам предстоит тяжелая, беспокойная и даже опасная служба.
— Знаю, Друри, знаю отлично, но ревностное отношение к долгу службы облегчит нашу задачу, моя бдительность нелегко притупляется. Вы будете заменять меня лишь в те часы, когда слабость бренного тела потребует некоторого отдыха.
— Я готов служить, — ответил Друри, — и надеюсь, что вы останетесь довольны моей помощью.
Сильный порыв ветра заставил их умолкнуть, и дальнейший путь до самой крепости они совершали молча.
Еще далеко от замка послышались звуки сторожевого рожка, а затем оклики. Приблизившись на расстояние, когда можно уже расслышать звуки человеческого голоса, всадники дали знать о себе. Немного спустя им открыли ворота.
При въезде в крепость отряд был встречен Ральфом Садлером и его помощником. Затем Полэта и Друри пригласили в комнату, которую до тех пор занимал Садлер. Было отдано приказание разместить вновь прибывших людей, а Садлер тем временем знакомил Полэта с порядками и условиями жизни в замке.
Молча, но чрезвычайно внимательно следил рыцарь за речью Садлера и с зоркостью ястребиного ока осматривал каждый переданный ему предмет.
— А теперь я хотел бы увидеть главный пункт, которого касаются мои служебные обязанности, — сказал наконец Полэт, после того как принял все дела от Садлера.
— Быть может, вы отдохнете с дороги, — спросил тот, — и переоденетесь, чтобы представиться королеве в более соответствующем виде?
Полэт выпрямился во весь рост и, бросив на своего собеседника проницательный, уничтожающий взгляд, ответил строгим тоном:
— Я не совсем понимаю вас. Я думал, что буду иметь дело не с королевой, а с заключенной, относительно обхождения с ней у меня есть точные предписания, которые намереваюсь выполнять со свойственной мне точностью. На службе у моей королевы я позволяю себе отдыхать лишь тогда, когда могу получить ее разрешение. Проводите меня к заключенной!
— Весьма охотно, — сказал сдержанно Садлер, — это — моя последняя служебная обязанность, и я постараюсь отделаться от нее как можно скорее.
— Великолепно! В таком случае мы с вами одного мнения! — сказал Полэт.
Оба направились к покоям Марии Стюарт. Садлер велел доложить, что желал бы предстать перед ней вместе с новым комендантом замка.
— Этим докладам нужно положить конец, — пробормотал Полэт.
Мария Стюарт велела ответить, что ей в такое время неприятно принимать посетителей, но тем не менее она их примет. Полэт глухо засмеялся и последовал за Садлером в покои королевы.
Мария Стюарт занимала в убогом замке Тильбэри всего две комнаты. По стенам струилась вода, отопление было, по-видимому, очень скудным, и окна были такого устройства, какое встречается только в самых бедных хижинах. Мария стояла, опершись на комод из орехового дерева. Ее костюм был в беспорядке, вид болезненный, страдальческий, и в непричесанных волосах серебрилась седина.
Войдя в комнату, Садлер поклонился, но Полэт не счел нужным этого делать. Мария взглянула на него испытующе и с упреком, но этот взгляд оставил сурового пуританина равнодушным.
— Вы, должно быть, имеете важное сообщение, что являетесь в столь неурочный час? — обратилась Мария к Садлеру. — Быть может, моя царственная сестра Елизавета поняла наконец, какое обхождение подобает мне?
— На этот вопрос я не могу ответить вам, — ответил сэр Садлер с поклоном. — Я передал свои обязанности своему преемнику, и мне остается только представить вам его: рыцарь Амиас Полэт, новый комендант Тильбэри.
Взгляды Марии Стюарт и Полэта встретились. Ему и в голову не пришло хотя бы из приличия поклониться королеве. Садлер досадливо отвернулся, а Мария, поразмыслив, решила, что лучше не обращать внимания на грубость рыцаря.
— Сэр, — обратилась она к нему, — я надеюсь, что вы посланы королевой Англии с целью улучшить мое положение? Взгляните на эту комнату, стены, печи; это не похоже на человеческое жилище.
— Моя высокая повелительница предназначила вам это помещение, — ответил рыцарь сухим тоном, — и я прибыл сюда лишь для того, чтобы выполнять ее приказания.
— Королеве, очевидно, неизвестно, каково мое жилище и поэтому вы должны доложить ей об этом.
— Не вы отдаете здесь приказания, а я, — резко ответил пуританин. — Вам придется лишь в точности их исполнять.
— Как? — возмутилась Мария. — Я не ослышалась? Как вы смеете говорить со мной в такой форме? Вашу невежливость я еще могу понять, но грубости я не допущу!
— Не нужно лишних слов! Отныне вы будете видеться и говорить с вашей прислугой только в моем присутствии.
— Отлично, сэр! — сказала Мария насмешливым тоном.
— Выходить из комнаты вы будете лишь с моего разрешения и в моем сопровождении!
— Благодарю вас за честь!
— Ни одного письма вы не отправите, пока я предварительно не прочту его. Вне замка вы ни с кем не будете говорить даже в моем присутствии. Раздавать милостыню вам запрещено.
— Мне кажется, вы — не рыцарь, а тюремщик!
— Я сторожу преступную женщину и принимаю соответствующие меры. Пойдемте, сэр Садлер! Представьте мне слуг, чтобы я мог отобрать их по своему усмотрению.
Садлер поклонился королеве и последовал за строгим Полэтом. Мария стояла ни жива ни мертва.
Когда были улажены все дела, старый комендант стал готовиться к отъезду.
— Не желаете ли погостить у меня еще день? — спросил Полэт.
— Нет, благодарю, — ответил Садлер, — здешняя атмосфера мне всегда была противна, а теперь более, чем когда-либо.
— Ну, как вам угодно! — пробормотал фанатик, и Садлер со своим товарищем и приближенными людьми покинул замок, пустившись в дорогу по открытой снежной равнине.
Сэр Амиас стал распоряжаться в замке подобно злому духу.
Мария Стюарт переживала ужасное, тяжелое время. Полэт не отступил от своего постановления. Королева была лишена всякого сообщения с внешним миром, любая ее сторонняя деятельность была парализована, она не имела возможности переписываться со своими приверженцами. Кроме того, горе, причиненное поведением ее сына, короля Шотландии, отказавшегося от нее, угнетало ее. Состояние ее здоровья ухудшилось настолько, что даже бесчувственный железный пуританин Полэт нашел необходимым донести об этом Елизавете и выставить причиной болезни запущенность замка. Вследствие этого донесения Марию перевели в замок Чартлей, в графстве Бедфорд, где ей возвратили ее слуг и предоставили большие удобства. Переезд состоялся в конце декабря 1585 года. Однако Полэт остался, по-прежнему, ее охранником, и его бдительность нимало не уменьшилась, напротив, строгость приняла даже более злобный характер.
Однако Мария мало-помалу привыкла к своему тюремщику, а он, в свою очередь, становился все предупредительнее и вежливее. Лицемерие, за которое старый пуританин так презирал католиков, было доведено им самим до блестящего совершенства.
Так, например, он явился к Марии в один прекрасный августовский день и предложил ей принять участие в охоте, которая предпринималась в Тиксальском парке.
Мария взглянула на рыцаря с недоверием.
— Что это значит, сэр? — спросила она. — Это — проявление милости ко мне королевы Елизаветы?
— Не уверен, — ответил Полэт. — Это я прошу у вас милости!
— Не знаю, как вас понимать? Каким образом мое присутствие на охоте может оказаться милостью для вас?
— Служебный долг обязывает меня, миледи, не покидать вас. Если вы согласитесь принять участие в охоте, то, следовательно, и я могу воспользоваться ей, если же нет, то и мне пришлось бы отказаться от этого удовольствия.
— Ах, вот в чем дело! — поняла Мария. — Рыцарь Амиас просит свою пленницу об одолжении! Ну, я не хочу оказаться нелюбезной! Когда же должна состояться охота?
— Восемнадцатого числа.
— Хорошо, я согласна принять участие!
— Вы очень милостивы! — произнес лицемер, отвешивая низкий поклон.
В назначенный для охоты день Мария встала очень рано. Летнее время и более гигиеничные условия жизни немного восстановили ее здоровье, и она снова приобрела прежнюю жизнерадостность. С тех пор как ей возвратили экипаж, она совершала частые прогулки в окрестностях замка Чартлея, Правда, эти поездки были всегда обставлены чрезмерными предосторожностями. Сам Полэт с восемнадцатью конными стрелками сопровождал экипаж королевы, к которому никто, даже ни один нищий, не смел приблизиться.
Хотя Полэт не подавал Марии никакого основания предполагать, что этот выезд на охоту можно считать уступкой со стороны королевы Англии, но, кто знаком с ощущениями человека заключенного, тот поймет, как охотно тот цепляется за самую слабую надежду и желает видеть в этом надежду на скорое освобождение. Такими мыслями была занята и Мария. Несомненно, что и развлечение предстоящей охотой имело известную прелесть для лишенной свободы королевы.
Она много шутила со своими дамами, пока совершала туалет, а затем позавтракала с большим аппетитом.
Немного спустя подъехал экипаж, запряженный четверкой лошадей, появился обычный эскорт, и Полэт проводил Марию из ее комнаты к экипажу. Она была настолько хорошо настроена, что сказала несколько любезных слов старому лицемеру и позволила ему помочь ей сесть в экипаж. Затем рыцарь сел на лошадь, и все тронулись в путь. Полэт держался у самой дверцы экипажа.
Приблизительно на полдороге от Чартлея к Тиксалю Мария вдруг заметила всадника с конвоем.
— Это — тоже участник охоты? — спросила она своего спутника.
— Возможно, — ответил Амиас, — сейчас узнаем!
Подъехали ближе. Часто случалось, что во время выездов королевы попадались на пути люди, побуждаемые любопытством взглянуть на узницу. Это были или приверженцы английской королевы, которые со злорадством смотрели на узницу; или иностранцы, которые с большим или меньшим интересом следили за судьбой Марии; или, наконец, люди из партии Марии Стюарт, которые искали случая выразить ей свое почтение. Само собой разумеется, что последняя категория была наименьшая по численности, так как проявление преданности не всегда было безопасно для них и самой заключенной.
Мария уже привыкла быть постоянным предметом любопытства и потому отворачивалась, когда к ее экипажу приближались злобствующие зеваки, и, наоборот, приветливо кланялась сочувствующим.
Однако человека, которого она увидела тут, нельзя было отнести ни к одной из перечисленных категорий, в этом королева очень скоро убедилась, и ею овладело беспокойство.
«Боже мой, кто бы это мог быть?» — подумала она.
Полэт подскакал к всаднику и стал почтительно докладывать ему о чем-то.
Когда экипаж приблизился, незнакомец приказал кучерам остановиться, а сам направил своего коня к дверце экипажа.
— Меня зовут Томас Джордж, — заговорил он, — и я встречаю вас по поручению королевы Англии, этого вам достаточно, чтобы подчиниться моим требованиям, в случае же сопротивления с вашей стороны я уполномочен прибегнуть к силе.
— Боже мой! — испугалась Мария. — Что это значит?
— Я имею приказание препроводить вас в Тиксаль.
— Значит, мое местожительство снова меняется?
— Да, но лишь на короткое время.
— По какой причине?
— Для того, чтобы произвести обыск в замке Чартлей!
Мария побледнела.
— Для чего нужен обыск в замке? — спросила она дрожащим голосом.
— Чтобы найти письма и документы, свидетельствующие против вас и ваших сообщников.
— Это гнусно! — крикнула королева. — Я хочу вернуться тотчас же!
— Вы, по-видимому, забыли то, что я только. что сказал.
— На помощь! — крикнула Мария. — На помощь, слуги мои! Защищайте свою королеву! Это переходит всякие границы, я попала в руки разбойников с большой дороги… Помогите, освободите меня!
Мария пришла в исступление, а в это время по приказу Джорджа ее обоих секретарей Кэрлея и Ноэ под конвоем отправили в Лондон.
— Успокойтесь! — сказал Томас Джордж, перекрывая крик Марии, — успокойтесь! Я надеюсь, что вы поутихните, если я назову вам одно только имя — Бабингтон!
Мария опешила.
— Все открыто, — продолжал Джордж, — и вас может спасти лишь уступчивость. Примите это к сведению!
— Я погибла! — прошептала Мария.
Королеву привезли в замок Тиксаль, принадлежавший Вальтеру Астону, и там она в продолжение семнадцати дней была в одиночном заключении.
В это время в замке Чартлей производили тщательный обыск, обыскали все углы, а найденные письма, драгоценности и деньги были освидетельствованы и отправлены в Лондон.
Когда дело было окончено, Марию снова перевезли в Чартлей в сопровождении, можно бы сказать, почетной свиты, если бы она не была вместе с тем и стражей.
Сто сорок дворян сопровождали королеву от одного замка до другого. Впереди ехал Амиас Полэт.
На одной из равнин графства Стэффорд находится одинокий холм, на вершине которого в старину стоял укрепленный замок Тильбэри. Была зима. Сугробы снега покрывали землю, резкий ветер завывал вокруг старого замка и, носясь по обширной равнине, вздымал и кружил снежные вихри. С юга по равнине тянулся отряд всадников численностью около пятидесяти лошадей. Во главе отряда ехали два человека. Один из них был высокий, несколько угловатый. Его лицо носило отпечаток суровости и строгости. Звали его рыцарь Амиас Полэт. Спутником рыцаря был его помощник в делах, офицер-стрелок Друри. Он был ниже ростом и плотнее, с добродушными чертами лица. Всадники, сопровождавшие этих двух господ, были стрелками.
Надзор за Марией Стюарт в замке Тильбэри был теперь поручен таким людям, которые в ней не видели ничего, кроме узницы самого низкого сорта, женщины преступной, уличенной убийцы, словом, женщины-дьявола, за которой нужно зорко следить и поступать с ней сообразно ее проступкам. Таких надзирателей и нашли в лице Амиаса Полэта и его помощника Друри.
Полэт несколько раз поднимал голову и устремлял мрачный взгляд в пространство, чтобы сквозь метелицу разглядеть очертания видневшегося вдалеке замка. Воспользовавшись моментом, когда воздух несколько просветлел, Друри рассмотрел старый замок и невольно вздохнул.
— Вам не нравится тут? — резко спросил Полэт.
— Что? Дорога, снег или старый замок? — спросил Друри вместо ответа на вопрос.
— Ну, снег и неудобства пути не должны смущать солдата, — заметил рыцарь. — Я имел в виду тот старый замок.
— Откровенно говоря, я желал бы лучше попасть туда, куда, вероятно, желала бы переместиться и обитательница этого, с позволения сказать, замка.
— Полэт перекрестился, и черты его лица приняли выражение фанатического благочестия, делавшего и без того непривлекательное лицо Амиаса прямо отвратительным.
— Это — доброе пожелание, — сказал он елейным голосом, — и да исполнит его Господь Бог! Но уверяю вас, Друри, это место как нельзя более подходит для укрытия этой клятвопреступницы, государственной изменницы и мужеубийцы, которая под нашим надзором должна приобрести кротость агнца.
Друри испуганно взглянул на своего начальника и молча опустил голову.
— Не огорчайтесь, — продолжал рыцарь, — на мою долю выпала честь занять ответственный пост надзирающего за этой великой грешницей, а для вас такая же высокая честь быть моим помощником. Подумайте, какая награда ждет нас за эту службу, не говоря уже о той высокой награде, которую мы приобретем в загробной жизни за то, что уничтожим все коварные проделки этого чудовища!…
Полное, раскрасневшееся от ветра лицо Друри свидетельствовало о том, что он не особенно спешит заручиться небесной наградой.
— Я не сомневаюсь, — ответил он с легкой улыбкой, — что нас вознаградят хорошо, но все же нам предстоит тяжелая, беспокойная и даже опасная служба.
— Знаю, Друри, знаю отлично, но ревностное отношение к долгу службы облегчит нашу задачу, моя бдительность нелегко притупляется. Вы будете заменять меня лишь в те часы, когда слабость бренного тела потребует некоторого отдыха.
— Я готов служить, — ответил Друри, — и надеюсь, что вы останетесь довольны моей помощью.
Сильный порыв ветра заставил их умолкнуть, и дальнейший путь до самой крепости они совершали молча.
Еще далеко от замка послышались звуки сторожевого рожка, а затем оклики. Приблизившись на расстояние, когда можно уже расслышать звуки человеческого голоса, всадники дали знать о себе. Немного спустя им открыли ворота.
При въезде в крепость отряд был встречен Ральфом Садлером и его помощником. Затем Полэта и Друри пригласили в комнату, которую до тех пор занимал Садлер. Было отдано приказание разместить вновь прибывших людей, а Садлер тем временем знакомил Полэта с порядками и условиями жизни в замке.
Молча, но чрезвычайно внимательно следил рыцарь за речью Садлера и с зоркостью ястребиного ока осматривал каждый переданный ему предмет.
— А теперь я хотел бы увидеть главный пункт, которого касаются мои служебные обязанности, — сказал наконец Полэт, после того как принял все дела от Садлера.
— Быть может, вы отдохнете с дороги, — спросил тот, — и переоденетесь, чтобы представиться королеве в более соответствующем виде?
Полэт выпрямился во весь рост и, бросив на своего собеседника проницательный, уничтожающий взгляд, ответил строгим тоном:
— Я не совсем понимаю вас. Я думал, что буду иметь дело не с королевой, а с заключенной, относительно обхождения с ней у меня есть точные предписания, которые намереваюсь выполнять со свойственной мне точностью. На службе у моей королевы я позволяю себе отдыхать лишь тогда, когда могу получить ее разрешение. Проводите меня к заключенной!
— Весьма охотно, — сказал сдержанно Садлер, — это — моя последняя служебная обязанность, и я постараюсь отделаться от нее как можно скорее.
— Великолепно! В таком случае мы с вами одного мнения! — сказал Полэт.
Оба направились к покоям Марии Стюарт. Садлер велел доложить, что желал бы предстать перед ней вместе с новым комендантом замка.
— Этим докладам нужно положить конец, — пробормотал Полэт.
Мария Стюарт велела ответить, что ей в такое время неприятно принимать посетителей, но тем не менее она их примет. Полэт глухо засмеялся и последовал за Садлером в покои королевы.
Мария Стюарт занимала в убогом замке Тильбэри всего две комнаты. По стенам струилась вода, отопление было, по-видимому, очень скудным, и окна были такого устройства, какое встречается только в самых бедных хижинах. Мария стояла, опершись на комод из орехового дерева. Ее костюм был в беспорядке, вид болезненный, страдальческий, и в непричесанных волосах серебрилась седина.
Войдя в комнату, Садлер поклонился, но Полэт не счел нужным этого делать. Мария взглянула на него испытующе и с упреком, но этот взгляд оставил сурового пуританина равнодушным.
— Вы, должно быть, имеете важное сообщение, что являетесь в столь неурочный час? — обратилась Мария к Садлеру. — Быть может, моя царственная сестра Елизавета поняла наконец, какое обхождение подобает мне?
— На этот вопрос я не могу ответить вам, — ответил сэр Садлер с поклоном. — Я передал свои обязанности своему преемнику, и мне остается только представить вам его: рыцарь Амиас Полэт, новый комендант Тильбэри.
Взгляды Марии Стюарт и Полэта встретились. Ему и в голову не пришло хотя бы из приличия поклониться королеве. Садлер досадливо отвернулся, а Мария, поразмыслив, решила, что лучше не обращать внимания на грубость рыцаря.
— Сэр, — обратилась она к нему, — я надеюсь, что вы посланы королевой Англии с целью улучшить мое положение? Взгляните на эту комнату, стены, печи; это не похоже на человеческое жилище.
— Моя высокая повелительница предназначила вам это помещение, — ответил рыцарь сухим тоном, — и я прибыл сюда лишь для того, чтобы выполнять ее приказания.
— Королеве, очевидно, неизвестно, каково мое жилище и поэтому вы должны доложить ей об этом.
— Не вы отдаете здесь приказания, а я, — резко ответил пуританин. — Вам придется лишь в точности их исполнять.
— Как? — возмутилась Мария. — Я не ослышалась? Как вы смеете говорить со мной в такой форме? Вашу невежливость я еще могу понять, но грубости я не допущу!
— Не нужно лишних слов! Отныне вы будете видеться и говорить с вашей прислугой только в моем присутствии.
— Отлично, сэр! — сказала Мария насмешливым тоном.
— Выходить из комнаты вы будете лишь с моего разрешения и в моем сопровождении!
— Благодарю вас за честь!
— Ни одного письма вы не отправите, пока я предварительно не прочту его. Вне замка вы ни с кем не будете говорить даже в моем присутствии. Раздавать милостыню вам запрещено.
— Мне кажется, вы — не рыцарь, а тюремщик!
— Я сторожу преступную женщину и принимаю соответствующие меры. Пойдемте, сэр Садлер! Представьте мне слуг, чтобы я мог отобрать их по своему усмотрению.
Садлер поклонился королеве и последовал за строгим Полэтом. Мария стояла ни жива ни мертва.
Когда были улажены все дела, старый комендант стал готовиться к отъезду.
— Не желаете ли погостить у меня еще день? — спросил Полэт.
— Нет, благодарю, — ответил Садлер, — здешняя атмосфера мне всегда была противна, а теперь более, чем когда-либо.
— Ну, как вам угодно! — пробормотал фанатик, и Садлер со своим товарищем и приближенными людьми покинул замок, пустившись в дорогу по открытой снежной равнине.
Сэр Амиас стал распоряжаться в замке подобно злому духу.
Мария Стюарт переживала ужасное, тяжелое время. Полэт не отступил от своего постановления. Королева была лишена всякого сообщения с внешним миром, любая ее сторонняя деятельность была парализована, она не имела возможности переписываться со своими приверженцами. Кроме того, горе, причиненное поведением ее сына, короля Шотландии, отказавшегося от нее, угнетало ее. Состояние ее здоровья ухудшилось настолько, что даже бесчувственный железный пуританин Полэт нашел необходимым донести об этом Елизавете и выставить причиной болезни запущенность замка. Вследствие этого донесения Марию перевели в замок Чартлей, в графстве Бедфорд, где ей возвратили ее слуг и предоставили большие удобства. Переезд состоялся в конце декабря 1585 года. Однако Полэт остался, по-прежнему, ее охранником, и его бдительность нимало не уменьшилась, напротив, строгость приняла даже более злобный характер.
Однако Мария мало-помалу привыкла к своему тюремщику, а он, в свою очередь, становился все предупредительнее и вежливее. Лицемерие, за которое старый пуританин так презирал католиков, было доведено им самим до блестящего совершенства.
Так, например, он явился к Марии в один прекрасный августовский день и предложил ей принять участие в охоте, которая предпринималась в Тиксальском парке.
Мария взглянула на рыцаря с недоверием.
— Что это значит, сэр? — спросила она. — Это — проявление милости ко мне королевы Елизаветы?
— Не уверен, — ответил Полэт. — Это я прошу у вас милости!
— Не знаю, как вас понимать? Каким образом мое присутствие на охоте может оказаться милостью для вас?
— Служебный долг обязывает меня, миледи, не покидать вас. Если вы согласитесь принять участие в охоте, то, следовательно, и я могу воспользоваться ей, если же нет, то и мне пришлось бы отказаться от этого удовольствия.
— Ах, вот в чем дело! — поняла Мария. — Рыцарь Амиас просит свою пленницу об одолжении! Ну, я не хочу оказаться нелюбезной! Когда же должна состояться охота?
— Восемнадцатого числа.
— Хорошо, я согласна принять участие!
— Вы очень милостивы! — произнес лицемер, отвешивая низкий поклон.
В назначенный для охоты день Мария встала очень рано. Летнее время и более гигиеничные условия жизни немного восстановили ее здоровье, и она снова приобрела прежнюю жизнерадостность. С тех пор как ей возвратили экипаж, она совершала частые прогулки в окрестностях замка Чартлея, Правда, эти поездки были всегда обставлены чрезмерными предосторожностями. Сам Полэт с восемнадцатью конными стрелками сопровождал экипаж королевы, к которому никто, даже ни один нищий, не смел приблизиться.
Хотя Полэт не подавал Марии никакого основания предполагать, что этот выезд на охоту можно считать уступкой со стороны королевы Англии, но, кто знаком с ощущениями человека заключенного, тот поймет, как охотно тот цепляется за самую слабую надежду и желает видеть в этом надежду на скорое освобождение. Такими мыслями была занята и Мария. Несомненно, что и развлечение предстоящей охотой имело известную прелесть для лишенной свободы королевы.
Она много шутила со своими дамами, пока совершала туалет, а затем позавтракала с большим аппетитом.
Немного спустя подъехал экипаж, запряженный четверкой лошадей, появился обычный эскорт, и Полэт проводил Марию из ее комнаты к экипажу. Она была настолько хорошо настроена, что сказала несколько любезных слов старому лицемеру и позволила ему помочь ей сесть в экипаж. Затем рыцарь сел на лошадь, и все тронулись в путь. Полэт держался у самой дверцы экипажа.
Приблизительно на полдороге от Чартлея к Тиксалю Мария вдруг заметила всадника с конвоем.
— Это — тоже участник охоты? — спросила она своего спутника.
— Возможно, — ответил Амиас, — сейчас узнаем!
Подъехали ближе. Часто случалось, что во время выездов королевы попадались на пути люди, побуждаемые любопытством взглянуть на узницу. Это были или приверженцы английской королевы, которые со злорадством смотрели на узницу; или иностранцы, которые с большим или меньшим интересом следили за судьбой Марии; или, наконец, люди из партии Марии Стюарт, которые искали случая выразить ей свое почтение. Само собой разумеется, что последняя категория была наименьшая по численности, так как проявление преданности не всегда было безопасно для них и самой заключенной.
Мария уже привыкла быть постоянным предметом любопытства и потому отворачивалась, когда к ее экипажу приближались злобствующие зеваки, и, наоборот, приветливо кланялась сочувствующим.
Однако человека, которого она увидела тут, нельзя было отнести ни к одной из перечисленных категорий, в этом королева очень скоро убедилась, и ею овладело беспокойство.
«Боже мой, кто бы это мог быть?» — подумала она.
Полэт подскакал к всаднику и стал почтительно докладывать ему о чем-то.
Когда экипаж приблизился, незнакомец приказал кучерам остановиться, а сам направил своего коня к дверце экипажа.
— Меня зовут Томас Джордж, — заговорил он, — и я встречаю вас по поручению королевы Англии, этого вам достаточно, чтобы подчиниться моим требованиям, в случае же сопротивления с вашей стороны я уполномочен прибегнуть к силе.
— Боже мой! — испугалась Мария. — Что это значит?
— Я имею приказание препроводить вас в Тиксаль.
— Значит, мое местожительство снова меняется?
— Да, но лишь на короткое время.
— По какой причине?
— Для того, чтобы произвести обыск в замке Чартлей!
Мария побледнела.
— Для чего нужен обыск в замке? — спросила она дрожащим голосом.
— Чтобы найти письма и документы, свидетельствующие против вас и ваших сообщников.
— Это гнусно! — крикнула королева. — Я хочу вернуться тотчас же!
— Вы, по-видимому, забыли то, что я только. что сказал.
— На помощь! — крикнула Мария. — На помощь, слуги мои! Защищайте свою королеву! Это переходит всякие границы, я попала в руки разбойников с большой дороги… Помогите, освободите меня!
Мария пришла в исступление, а в это время по приказу Джорджа ее обоих секретарей Кэрлея и Ноэ под конвоем отправили в Лондон.
— Успокойтесь! — сказал Томас Джордж, перекрывая крик Марии, — успокойтесь! Я надеюсь, что вы поутихните, если я назову вам одно только имя — Бабингтон!
Мария опешила.
— Все открыто, — продолжал Джордж, — и вас может спасти лишь уступчивость. Примите это к сведению!
— Я погибла! — прошептала Мария.
Королеву привезли в замок Тиксаль, принадлежавший Вальтеру Астону, и там она в продолжение семнадцати дней была в одиночном заключении.
В это время в замке Чартлей производили тщательный обыск, обыскали все углы, а найденные письма, драгоценности и деньги были освидетельствованы и отправлены в Лондон.
Когда дело было окончено, Марию снова перевезли в Чартлей в сопровождении, можно бы сказать, почетной свиты, если бы она не была вместе с тем и стражей.
Сто сорок дворян сопровождали королеву от одного замка до другого. Впереди ехал Амиас Полэт.

Глава одиннадцатая
БАБИНГТОН

 В замке Тильбэри Мария Стюарт в течение целого года была лишена возможности поддерживать отношения со своими защитниками, но они не оставались в бездеятельности. Филипп II Испанский безусловно принадлежал к ее приверженцам. У этого жестокого, хитрого и мстительного государя вообще не было никаких добрых движений души. Он хотел нанести ущерб политическому положению Англии, хотел вредить Елизавете, а это легче всего можно было сделать под видом участия к судьбе Марии Стюарт, прикрываясь оскорблением, наносимым католической религии, верховным рыцарем и заступником которой Филипп любил представляться. Но он был слишком недоверчив, чтобы быстрым и решительным выступлением нанести врагам Марии серьезный удар. Поэтому-то часто все его начинания кончались неудачей, и этим можно объяснить, почему его заступничество не принесло реальной пользы Марии Стюарт. Тем не менее он все-таки поддерживал деньгами ее приверженцев в Шотландии и выплачивал пенсии и субсидии изгнанным шотландским мятежникам в остальных частях Европы. Так, например, доктор Аллан, основавший в Реймсе семинарию, в которой воспитывались в иезуитском духе молодые люди, чтобы, став священниками, рассеяться по всей земле, работая в пользу папской власти, получал от Филиппа две тысячи золотых талеров в год, а Томас Трогмортон, попавшийся во Франции из-за какой-то проделки и заключенный за это в Бастилию, получал в тюрьме ежемесячно 40 талеров, выплачиваемых ему за счет Филиппа.
Семинария доктора Аллана помещалась в здании прежнего монастыря, которое было предоставлено папой ее основателю. К этому-то монастырю в один из дней поста 1586 года подошел какой-то офицер, внимательным и испытующим взглядом окинул местность вокруг и позвонил у входной двери.
Привратник выглянул сначала в маленькое слуховое оконце, а потом высунул голову в приоткрытую дверь и спросил офицера:
— Что вам угодно?
— Мне нужно повидать кое-кого в монастыре, если только тот, кого я ищу, находится тут, — ответил путник.
— Это — вовсе не монастырь, — сказал привратник. — Но соблаговолите все-таки назвать того, кого вы хотите повидать, чтобы я мог вам ответить, здесь ли он.
— О, мне нужны патер Гугсон и доктор Джиффорд! ответил офицер.
— А как зовут вас?
— Саваж, Джон Саваж. Вы только передайте им мой привет, а они уж сами скажут, насколько они рады повидаться со мной!
Привратник закрыл окно и скрылся.
Прошло почти четверть часа, пока он вернулся, и без всяких разговоров открыл дверь, попросив офицера войти.
В портале здания его уже ждали два духовных лица… Оба с большой радостью приветствовали Саважа, хотя в их обращении чувствовалась некоторая сдержанность, приличествующая людям их сана.
— А, вот так свиданьице, ребята! — радостно воскликнулофицер. — Ну, как видите, я остался все тем же необузданным школьником, чего о вас уж во всяком случае не скажешь, достопочтенные отцы!
Священники кротко улыбнулись, один из них, Гугсон, был маленьким и очень полным; другой, доктор Джиффорд, очень худым и высоким.
— Ты стал мирянином, к чему всегда имел ярко выраженную склонность, — ответил Гугсон. — Но мы пошли совсем другой дорогой.
— Да уж, правда! Мне-то черная ряса никогда не была по душе! Что угодно, только не это, братец!
— Стал офицером? — спросил Джиффорд. — На чьей службе состоишь?
На службе испанского короля Филиппа, или, если тебе это больше нравится, у принца Пармского в Нидерландах.
— Да благословит Господь твоего господина! — сказал Гугсон. — Однако не лучше ли нам отправиться в келью?
— Да, да, пойдемте ко мне, — пригласил Джиффорд.
Трое друзей отправились в келью доктора и вскоре уже сидели за столом, заставленным пищей и питьем.
В связи с постом кушанья, поданные гостю, отличались некоторой скудностью, но вина было в изобилии.
Бравый офицер не преминул отправить несколько бокалов в пересохшее горло, что его примирило с недостаточной изысканностью закуски.
— Ну, — сказал Джиффорд, — расскажи нам о своей мирской жизни.
— О да, — поддержал Гугсон, — послушать о том, как храбрый человек поражает врагов истинной веры, поучительно; это возвышает душу!
— Что же, послушайте, — ответил им Саваж и, еще раз промочив горло, принялся рассказывать.
Возбужденный выпитым вином, Саваж оказался на высоте призвания рассказчика. Почти три часа подряд он занимал своими повествованиями друзей своих детских лет, а они с большим вниманием слушали его, изредка обмениваясь многозначительными взглядами.
— Да, ты много пережил, — сказал Джиффорд, когда Саваж остановился, — этого отрицать нельзя!
— А все-таки твои переживания прежде всего бессмысленны и бесцельны! — заметил Гугсон.
— А чтобы черт побрал все ваши высшие цели! — воскликнул вояка. — Какое мне до них дело? Я просто живу себе!
Бравый Джон осушил еще бокальчик.
— Но нельзя же отрицать, что каждый человек должен выполнить свое предназначение! — произнес Джиффорд.
— Да, он не смеет, как лукавый раб, зарывать в землю данный ему талант! — прибавил Гугсон.
— Что-то я не понимаю, о чем вы, братцы!
— Ведь ты — англичанин, Джон?
— Ну, разумеется.
— У тебя есть законная королева?
— Есть-то есть, да она сейчас же повесила бы меня, если бы смогла достать!
— Неужели ты считаешь дочь Ваала своей законной государыней?
— Дочь Ваала? Ну, нечего сказать, славное имечко для королевы.
— Законной государыней является только Мария Стюарт!
— Мария Стюарт? — переспросил Джон, изумленный подобным утверждением.
Достопочтенные отцы помолчали, как бы предоставив Саважу время для размышления над этой новостью для него.
— Да, Мария Стюарт! — повторил наконец Джиффорд. — И если бы ты служил ей, этой мученице за правду и веру, то послужил бы также и единой святой церкви!
— Да как ей послужишь? Надо иметь твердую ночву под ногами.
— Смелый человек, вроде тебя, мог бы сделать многое. Он вручил бы Марии ее законный трон, а церкви вернул бы заблудшую в неверии Англию.
— Ты говоришь загадками, брат!
— И тому, и другому мешает только злодейка, именуемая Елизаветой!
— Черт возьми! Значит…
— Значит, тот, кто ниспровергнет ее, совершит действие, угодное небесам и миру.
— Да, говоря прямо, что ты хочешь от меня?
— Елизавета должна пасть.
— От моей руки?
— Да, от твоей, если только, разумеется;, у тебя найдется достаточно религиозного усердия!
— Словом, ты считаешь, что я мог бы и должен был бы убить Елизавету, королеву английскую?
Джиффорд замолчал, многозначительно глянув на Гугсона, сидевшего все время с молитвенно сложенными руками.
— Ты правильно понял нас, брат, — сказал Гугсон. — Все подвиги, совершенные тобой до сего времени, — ничто в сравнении с этим одним.
Джон задумчиво посмотрел на священников и потупил взгляд. Собеседники не мешали его размышлениям.
— Если подумать как следует, — прервал молчание Джон Саваж, — то это ведь, собственно говоря, такой же способ уничтожения врагов, как и всякий другой, А Елизавета — мой враг, мой самый отчаянный враг. Ведь сущее несчастие — болтаться из-за нее по всему свету, вдали от родины.
— И более того! — сказал Гугсон. — Елизавета — еретичка, узурпировала трон, принадлежащий Марии Стюарт.
— Гм! — пробормотал Саваж. — Но я один… что могу я сделать в одиночку?
— Ты найдешь друзей, поддержку и помощь, ты не будешь один, брат!
— Подумай над этим, — прибавил Гугсон. — Если ты решишься, то мы откроемся тебе во многом, что даст тебе решимость в дальнейшем. А до тех пор будь нашим гостем, брат! Решай, как знаешь, но мы во всяком случае останемся друзьями!
И Джон Саваж стал думать над этим и думал целых три недели. В течение этого времени он был объектом непрерывной нравственной пытки, так как наставлять его на путь истины взялся весь семинарский синклит во главе с самим начальником, доктором Алланом. В конце концов Саваж сдался и выразил согласие убить Елизавету.
Вскоре в семинарию прибыли Пэджэт и Морган. Саважа наделили необходимыми средствами, снабдили инструкциями и направили в Англию. Ему указали в Англии человека, который должен был руководить его деятельностью. К этому лицу по имени Бабингтон дали рекомендательное письмо.
А почти в то же время священник Джон Баллар, организовавший в Англии шпионскую сеть для партии Марии Стюарт, благополучно вернулся во Францию и поспешил в Париж, чтобы дать отчет в своих действиях.
В самом центре Парижа тогда встречались громадные пустыри и пустынные улицы, тем не менее в редких зданиях на этих пустырях жили очень знатные лица, в особенности, если у них был недостаток в средствах или если имелись особые причины жить подальше от любопытных глаз.
В старом развалившемся доме, находившемся на одной из пустынных улиц, через несколько недель после отъезда Саважа в Англию, происходило собрание представителей шотландских эмигрантов. Среди них — лорды Пэджэт и Морган. На собрании присутствовал также испанский посланник при парижском дворе дон Мендоза. Все эти господа собрались для постной вечери, однако она была роскошнее и обильнее любой праздничной пирушки большинства граждан и вполне заслуживала название политического обеда.
За столом было очень весело, присутствующие рассказывали анекдоты из интимной жизни Елизаветы, а испанский посланник со слезами на глазах от смеха все умолял рассказать еще что-нибудь такое же веселое.
Вдруг появился лакей и передал Моргану листок пергамента. Едва взглянув на него, Морган вскочил с места и воскликнул:
— Господа, теперь нам придется перейти от смеха и шуток к серьезным делам. Попроси войти!… — обратился он к лакею.
Вошел священник Джон Баллар, статный мужчина со смелым, энергичным лицом, и стал докладывать обо всем, сделанном им в Англии. После тщательных расспросов и подробных разъяснений Морган рассказал священнику, что им удалось завербовать Джона Саважа, который обещал убить английскую королеву и с этой целью уже отправился на место назначения.
— Вот это — настоящий путь, который должен привести нас к цели, — воскликнул храбрый священник, и его взгляд засверкал радостью. — Я немедленно вернусь обратно, чтобы делом и советом поддержать этого отважного человека.
Было решено, что Баллар вернется в Лондон под именем полковника Форсо.
На этом и покончили. Баллару вручили рекомендательное письмо, на адресе которого стояло: «Сэру Энтони Бабинггону».
В замке Тильбэри Мария Стюарт в течение целого года была лишена возможности поддерживать отношения со своими защитниками, но они не оставались в бездеятельности. Филипп II Испанский безусловно принадлежал к ее приверженцам. У этого жестокого, хитрого и мстительного государя вообще не было никаких добрых движений души. Он хотел нанести ущерб политическому положению Англии, хотел вредить Елизавете, а это легче всего можно было сделать под видом участия к судьбе Марии Стюарт, прикрываясь оскорблением, наносимым католической религии, верховным рыцарем и заступником которой Филипп любил представляться. Но он был слишком недоверчив, чтобы быстрым и решительным выступлением нанести врагам Марии серьезный удар. Поэтому-то часто все его начинания кончались неудачей, и этим можно объяснить, почему его заступничество не принесло реальной пользы Марии Стюарт. Тем не менее он все-таки поддерживал деньгами ее приверженцев в Шотландии и выплачивал пенсии и субсидии изгнанным шотландским мятежникам в остальных частях Европы. Так, например, доктор Аллан, основавший в Реймсе семинарию, в которой воспитывались в иезуитском духе молодые люди, чтобы, став священниками, рассеяться по всей земле, работая в пользу папской власти, получал от Филиппа две тысячи золотых талеров в год, а Томас Трогмортон, попавшийся во Франции из-за какой-то проделки и заключенный за это в Бастилию, получал в тюрьме ежемесячно 40 талеров, выплачиваемых ему за счет Филиппа.
Семинария доктора Аллана помещалась в здании прежнего монастыря, которое было предоставлено папой ее основателю. К этому-то монастырю в один из дней поста 1586 года подошел какой-то офицер, внимательным и испытующим взглядом окинул местность вокруг и позвонил у входной двери.
Привратник выглянул сначала в маленькое слуховое оконце, а потом высунул голову в приоткрытую дверь и спросил офицера:
— Что вам угодно?
— Мне нужно повидать кое-кого в монастыре, если только тот, кого я ищу, находится тут, — ответил путник.
— Это — вовсе не монастырь, — сказал привратник. — Но соблаговолите все-таки назвать того, кого вы хотите повидать, чтобы я мог вам ответить, здесь ли он.
— О, мне нужны патер Гугсон и доктор Джиффорд! ответил офицер.
— А как зовут вас?
— Саваж, Джон Саваж. Вы только передайте им мой привет, а они уж сами скажут, насколько они рады повидаться со мной!
Привратник закрыл окно и скрылся.
Прошло почти четверть часа, пока он вернулся, и без всяких разговоров открыл дверь, попросив офицера войти.
В портале здания его уже ждали два духовных лица… Оба с большой радостью приветствовали Саважа, хотя в их обращении чувствовалась некоторая сдержанность, приличествующая людям их сана.
— А, вот так свиданьице, ребята! — радостно воскликнулофицер. — Ну, как видите, я остался все тем же необузданным школьником, чего о вас уж во всяком случае не скажешь, достопочтенные отцы!
Священники кротко улыбнулись, один из них, Гугсон, был маленьким и очень полным; другой, доктор Джиффорд, очень худым и высоким.
— Ты стал мирянином, к чему всегда имел ярко выраженную склонность, — ответил Гугсон. — Но мы пошли совсем другой дорогой.
— Да уж, правда! Мне-то черная ряса никогда не была по душе! Что угодно, только не это, братец!
— Стал офицером? — спросил Джиффорд. — На чьей службе состоишь?
На службе испанского короля Филиппа, или, если тебе это больше нравится, у принца Пармского в Нидерландах.
— Да благословит Господь твоего господина! — сказал Гугсон. — Однако не лучше ли нам отправиться в келью?
— Да, да, пойдемте ко мне, — пригласил Джиффорд.
Трое друзей отправились в келью доктора и вскоре уже сидели за столом, заставленным пищей и питьем.
В связи с постом кушанья, поданные гостю, отличались некоторой скудностью, но вина было в изобилии.
Бравый офицер не преминул отправить несколько бокалов в пересохшее горло, что его примирило с недостаточной изысканностью закуски.
— Ну, — сказал Джиффорд, — расскажи нам о своей мирской жизни.
— О да, — поддержал Гугсон, — послушать о том, как храбрый человек поражает врагов истинной веры, поучительно; это возвышает душу!
— Что же, послушайте, — ответил им Саваж и, еще раз промочив горло, принялся рассказывать.
Возбужденный выпитым вином, Саваж оказался на высоте призвания рассказчика. Почти три часа подряд он занимал своими повествованиями друзей своих детских лет, а они с большим вниманием слушали его, изредка обмениваясь многозначительными взглядами.
— Да, ты много пережил, — сказал Джиффорд, когда Саваж остановился, — этого отрицать нельзя!
— А все-таки твои переживания прежде всего бессмысленны и бесцельны! — заметил Гугсон.
— А чтобы черт побрал все ваши высшие цели! — воскликнул вояка. — Какое мне до них дело? Я просто живу себе!
Бравый Джон осушил еще бокальчик.
— Но нельзя же отрицать, что каждый человек должен выполнить свое предназначение! — произнес Джиффорд.
— Да, он не смеет, как лукавый раб, зарывать в землю данный ему талант! — прибавил Гугсон.
— Что-то я не понимаю, о чем вы, братцы!
— Ведь ты — англичанин, Джон?
— Ну, разумеется.
— У тебя есть законная королева?
— Есть-то есть, да она сейчас же повесила бы меня, если бы смогла достать!
— Неужели ты считаешь дочь Ваала своей законной государыней?
— Дочь Ваала? Ну, нечего сказать, славное имечко для королевы.
— Законной государыней является только Мария Стюарт!
— Мария Стюарт? — переспросил Джон, изумленный подобным утверждением.
Достопочтенные отцы помолчали, как бы предоставив Саважу время для размышления над этой новостью для него.
— Да, Мария Стюарт! — повторил наконец Джиффорд. — И если бы ты служил ей, этой мученице за правду и веру, то послужил бы также и единой святой церкви!
— Да как ей послужишь? Надо иметь твердую ночву под ногами.
— Смелый человек, вроде тебя, мог бы сделать многое. Он вручил бы Марии ее законный трон, а церкви вернул бы заблудшую в неверии Англию.
— Ты говоришь загадками, брат!
— И тому, и другому мешает только злодейка, именуемая Елизаветой!
— Черт возьми! Значит…
— Значит, тот, кто ниспровергнет ее, совершит действие, угодное небесам и миру.
— Да, говоря прямо, что ты хочешь от меня?
— Елизавета должна пасть.
— От моей руки?
— Да, от твоей, если только, разумеется;, у тебя найдется достаточно религиозного усердия!
— Словом, ты считаешь, что я мог бы и должен был бы убить Елизавету, королеву английскую?
Джиффорд замолчал, многозначительно глянув на Гугсона, сидевшего все время с молитвенно сложенными руками.
— Ты правильно понял нас, брат, — сказал Гугсон. — Все подвиги, совершенные тобой до сего времени, — ничто в сравнении с этим одним.
Джон задумчиво посмотрел на священников и потупил взгляд. Собеседники не мешали его размышлениям.
— Если подумать как следует, — прервал молчание Джон Саваж, — то это ведь, собственно говоря, такой же способ уничтожения врагов, как и всякий другой, А Елизавета — мой враг, мой самый отчаянный враг. Ведь сущее несчастие — болтаться из-за нее по всему свету, вдали от родины.
— И более того! — сказал Гугсон. — Елизавета — еретичка, узурпировала трон, принадлежащий Марии Стюарт.
— Гм! — пробормотал Саваж. — Но я один… что могу я сделать в одиночку?
— Ты найдешь друзей, поддержку и помощь, ты не будешь один, брат!
— Подумай над этим, — прибавил Гугсон. — Если ты решишься, то мы откроемся тебе во многом, что даст тебе решимость в дальнейшем. А до тех пор будь нашим гостем, брат! Решай, как знаешь, но мы во всяком случае останемся друзьями!
И Джон Саваж стал думать над этим и думал целых три недели. В течение этого времени он был объектом непрерывной нравственной пытки, так как наставлять его на путь истины взялся весь семинарский синклит во главе с самим начальником, доктором Алланом. В конце концов Саваж сдался и выразил согласие убить Елизавету.
Вскоре в семинарию прибыли Пэджэт и Морган. Саважа наделили необходимыми средствами, снабдили инструкциями и направили в Англию. Ему указали в Англии человека, который должен был руководить его деятельностью. К этому лицу по имени Бабингтон дали рекомендательное письмо.
А почти в то же время священник Джон Баллар, организовавший в Англии шпионскую сеть для партии Марии Стюарт, благополучно вернулся во Францию и поспешил в Париж, чтобы дать отчет в своих действиях.
В самом центре Парижа тогда встречались громадные пустыри и пустынные улицы, тем не менее в редких зданиях на этих пустырях жили очень знатные лица, в особенности, если у них был недостаток в средствах или если имелись особые причины жить подальше от любопытных глаз.
В старом развалившемся доме, находившемся на одной из пустынных улиц, через несколько недель после отъезда Саважа в Англию, происходило собрание представителей шотландских эмигрантов. Среди них — лорды Пэджэт и Морган. На собрании присутствовал также испанский посланник при парижском дворе дон Мендоза. Все эти господа собрались для постной вечери, однако она была роскошнее и обильнее любой праздничной пирушки большинства граждан и вполне заслуживала название политического обеда.
За столом было очень весело, присутствующие рассказывали анекдоты из интимной жизни Елизаветы, а испанский посланник со слезами на глазах от смеха все умолял рассказать еще что-нибудь такое же веселое.
Вдруг появился лакей и передал Моргану листок пергамента. Едва взглянув на него, Морган вскочил с места и воскликнул:
— Господа, теперь нам придется перейти от смеха и шуток к серьезным делам. Попроси войти!… — обратился он к лакею.
Вошел священник Джон Баллар, статный мужчина со смелым, энергичным лицом, и стал докладывать обо всем, сделанном им в Англии. После тщательных расспросов и подробных разъяснений Морган рассказал священнику, что им удалось завербовать Джона Саважа, который обещал убить английскую королеву и с этой целью уже отправился на место назначения.
— Вот это — настоящий путь, который должен привести нас к цели, — воскликнул храбрый священник, и его взгляд засверкал радостью. — Я немедленно вернусь обратно, чтобы делом и советом поддержать этого отважного человека.
Было решено, что Баллар вернется в Лондон под именем полковника Форсо.
На этом и покончили. Баллару вручили рекомендательное письмо, на адресе которого стояло: «Сэру Энтони Бабинггону».

Глава двенадцатая
ЗАГОВОР БАБИНГТОНА

 Года за четыре до этого в Париже проживал молодой англичанин, он не принадлежал к числу изгнанников, а находился там для собственного удовольствия. Обладая большими средствами и имея рекомендательные письма к влиятельным парижанам, этот англичанин вскоре занял довольно видное положение в рядах местной знати. Но в этом положении не было ничего такого, чего пришлось бы стыдиться молодому человеку. Энтони Бабингтон хотя и был весел и жизнерадостен, но это не мешало ему оставаться нравственным и порядочным, между прочим он щедро помогал бедным соплеменникам, принужденным жить в Париже по политическим причинам. Благодаря всему этому, благодаря его симпатичной наружности и богатству многие с большой настойчивостью добивались знакомства с ним, а куда хотел проникнуть он сам — для него не бывало запрета.
Будучи ревностным католиком, Бабингтон не чувствовал особой любви к Елизавете, и равнодушие к английской королеве легко превратилось у него, вследствие ее политики, в пламенную ненависть. Как чувствительный, рыцарски настроенный человек, он искренне сожалел Марии Стюарт, и, когда попал в среду ее приверженцев, эта симпатия переросла в энтузиазм.
Когда прошло время, которое Бабингтон собирался провести в Париже, он оказался не только вполне посвященным во все планы заговорщиков, но и сам всей душой примкнул к ним. На первых порах он взял на себя роль посредника, через руки которого проходила корреспонденция Марии Стюарт с ее приверженцами в Париже. Это было нетрудно, так как его поместья были расположены недалеко от Чэтсуорта, где в то время Мария содержалась под надзором лорда Шресбюри.
Когда Марию перевели в Тильбэри, Бабинггону еще удавалось по временам помогать обмену писем, но со времени назначения надзирателем за шотландской королевой Амиса Полэта это стало невозможным. Когда же Марию перевели в Чартлэй, то Бабингтон переселился в Лондон, где вел существование джентльмена, ищущего в жизни одни только забавы и наслаждения. Там, в Лондоне, у Бабингтона были громадные связи, в различных салонах ему приходилось встречаться даже с Валингэмом и лордом Лейстером, так что он постоянно бывал в курсе придворной жизни. И скоро он убедился, что помочь Марии совершенно невозможно.
Отчасти в силу этого, а отчасти из сознания громадной опасности, которой он совершенно бесцельно подвергался, Бабингтон стал все больше и больше удаляться от кружка заговорщиков, не подозревая, что они уже наметили его для одной из главнейших ролей. Он уже подумывал, во избежание всяких случайностей, переселиться на материк и начал готовиться к эмиграции, но судьба готовила ему иное.
В мае 1586 года Бабингтон окончательно решил уехать как раз в то самое время, когда в Лондон прибыли Саваж и Баллар.
Однажды, вернувшись поздно вечером домой, Бабингтон узнал от лакея, что в его отсутствие был какой-то незнакомец, который обещал прийти на следующее утро. Бабингтон с большим неудовольствием принял это известие, он догадывался, что должно было означать это появление таинственного незнакомца, а когда справился о его внешнем виде, то подумал — уж не скрыться ли ему на рассвете из Лондона? Но посетитель явился на другое утро настолько рано, что Бабингтон еще был в постели, и ему волей-неволей пришлось принять его.
Посетителем оказался Джон Саваж. Если патер Баллар счел необходимым надеть форму солдата, чтобы не быть узнанным в Англии, то вояка, наоборот, нацепил рясу священнослужителя. Однако Бабингтон был достаточно проницателен, чтобы разгадать, что внешний вид Саважа — только личина. Поэтому довольно недружелюбно принял его и недовольно ответил на приветствия посетителя, пытливо осматривавшего того, от кого должен был получить ближайшие инструкции для столь важного дела, как цареубийство.
— Вы уже вчера были здесь, сэр? — начал Бабингтон. — Чем могу служить вам?
— Собственно ничем, — осторожно ответил Саваж, — Но, быть может, окажется, что мы оба служим кому-нибудь другому, для которого было бы очень выгодно, если бы мы объединились с вами в нашей службе.
— Я — свободный дворянин, — гордо произнес Бабингтон. — Я что-то вас не понимаю. Да и кто вы такой вообще?
— Мое имя не имеет никакого отношения к делу. Но, если хотите, меня зовут Джон Саваж, я — капитан армии герцога Пармского, католик и приверженец королевы Марии Стюарт, как и вы, если верить слухам.
— Все это располагает меня в вашу пользу, — ответил Бабингтон, — нужны доказательства.
— А вот и доказательства! — сказал Саваж, подавая принесенные с собой бумаги.
Бабингтон сначала осмотрел внешний вид поданных ему писем и только потом распечатал их. Во время чтения он несколько раз изменился в лице, и со стороны могло бы показаться, что его бросает то в жар, то в холод.
Саваж решил, что Бабингтон трусит.
«Вот каковы все эти знатные барчуки! — подумал он. — На разговор горазды, а чуть дошло до дела — так и на попятный!»
Но он сильно ошибался, делая такие умозаключения. Конечно, Бабингтон далеко не равнодушно относился к опасностям, которые ему грозили, но по существу он все-таки был не трусом. В данном же случае его волнение объяснялось отчасти некоторой неожиданностью, заключавшейся как в необходимости против воли снова выступить на арену открытой противоправительственной деятельности, так и в исключительности намеченных мер.
Кончив чтение, он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате и, вдруг остановившись перед Саважем, произнес:
— Ваших рекомендаций вполне достаточно, имена, которыми они подписаны, не оставляют желать ничего лучшего. Но тем не менее, мне ни к чему подробно обсуждать с вами содержание врученных вами писем. Однако вы сами должны понять, что осторожность необходима не только в смысле общего правила, но и в том отношении, что ни за какое дело нельзя браться, если почва для него не подготовлена.
— Поспешишь — людей насмешишь. Поэтому пока что вам придется подождать моих инструкций.
Саваж не ожидал, что Бабингтон заговорит в таком тоне. Он был удивлен и заметил, вставая с кресла:
— Я думал, что лучшим путем всегда является самый короткий.
— Наоборот, сэр, — возразил ему Бабингтон. — Если задуманное предприятие сорвется, то это может повести только к окончательной гибели того самого лица, которому мы хотим послужить. В данном деле имеется еще и другая сторона, которую непременно надо принять во внимание. Для того чтобы правильно подойти к нашему делу, необходимо выждать некоторое время.
— Время? — переспросил Саваж. — Но я здесь в большой опасности.
— О вашей безопасности я позабочусь, сэр.
Бабингтон заставил Джона снова переодеться и послал его в сопровождении слуги в свои поместья. Что именно предпринимал он в это время, так и осталось неизвестным.
Вскоре к Бабингтону явился Баллар, и благодаря этому переодетому священнику все дело приняло новый оборот.
Вообще Баллар был рожден скорее воином, чем священником. Во всей его внешности, в повадках было что-то импонирующее, и отвага, которой дышало его лицо, была действительно главной чертой его характера. А вдобавок ко всему этому он отличался еще и истинно монашеским фанатизмом!
Прибыв в первый раз к Бабингтону, он тоже вручил ему свои рекомендательные письма.
К этому времени Бабингтон несколько свыкся с мыслью о затеянном заговорщиками смелом деянии, но продолжал считать, что насильственное освобождение Марии Стюарт все-таки лучше, чем убийство Елизаветы. Поэтому Бабингтон уже не удивлялся, как при встрече с Саважем, а стал разрабатывать план, который давал всему этому безрассудному предприятию хоть какое-нибудь разумное движение. По прочтении писем он сказал Баллару:
— Лорд Морган пишет мне, что я во что бы то ни стало должен помешать вам или Саважу вступать в непосредственный контакт с шотландской королевой. Это требование очень разумно, вы должны согласиться.
— Разумеется, — ответил священник, — и не входит в мои намерения.
— Выслушайте-ка внимательно, что я вам скажу. Толкуют, как и всегда, будто на Англию готовится нападение извне. Это безусловно необходимо для осуществления нашего плана, хотя бы для отвлечения внимания. Но одновременно с нападением внутри страны должно произойти восстание. Тогда освобождение Марии и убийство Елизаветы должны произойти одновременно, так как иначе Бэрлей вырвет у нас из рук все благие последствия задуманного нами предприятия. Но, пока мы подготовим все это, наступит осень, лучшее время года для проведения намеченного плана.
— Мне предписано повиноваться вам, и я готов к этому.
— Ну, тогда вы еще получите от меня дальнейшие инструкции. Кстати, какова ваша безопасность в Лондоне?
— О ней я позабочусь сам.
— Хорошо! Теперь скажите мне, где я могу найти вас?
Баллар объяснил Бабинггону, где он будет находиться и каким образом ему можно дать знать, а затем ушел.
Баллар нашел убежище у некоего Мода, весьма загадочного человека, с которым он познакомился за границей и которому слепо доверял. У этого Мода собирались для обсуждения подробностей заговора секретарь французского посольства Поли, Артур Грегори, Филиппс и, наконец, иезуит Жильбер Джиффорд, которого ни в коем случае не надо смешивать с доктором Джиффордом из Реймса.
Все эти люди служили главным образом посредниками при обмене письмами заговорщиков, рассеянных по всей Европе, и в сущности играли только подчиненную роль.
У Бабингтона был загородный дом, куда он и поместил Джона Саважа в качестве управляющего.
Познакомившись с Балларом, Саваж несколько раз посещал собрания в доме Мода, но члены этого собрания не расположили его в свою пользу, а Джон даже находил, что все эти люди слишком легкомысленны для того, чтобы им можно было доверять.
Но Бабингтон уже не мог отступать назад. Деятельно работая по всем направлениям, он довел дело до той точки, когда оказалось существенно необходимым снестись с Марией Стюарт. Для этой цели Баллар предложил иезуита Джиффорда, и Бабингтон велел тому придти к нему.
Джиффорд произвел далеко не благоприятное впечатление на Бабингтона, но когда он вкратце описал всю свою предшествующую деятельность, то Бабингтон не мог сомневаться, что иезуит посвящен во все детали заговора. Поэтому он сообщил иезуиту о своих намерениях и спросил о том, как бы можно было их исполнить.
Тот на короткое время задумался, а затем ответил:
— Знаю!… Во время моих попыток вступить в отношения с людьми в Чартлее я заметил, что каждую неделю в определенный день туда привозят бочку пива.
— Подобные поставки делаются очень часто, но все предметы, проходящие этим путем, подвергаются тщательному досмотру.
— Конечно. Но в пиве можно переслать письмо так, что его не заметят. Разрешите мне только попробовать. Сначала произведем маленький опыт. Можно?
— Ну что же, попытайтесь!
Джиффорд направился переодетым к пивовару, который, по его сведениям, доставлял пиво, подкупил одного из рабочих и попросил, чтобы тот, доставив пиво в Чартлей, обратил внимание смотрителя винного погреба королевы на втулку, которой была закупорена бочка.
В эту втулку было вложено письмо на имя секретаря Марии Стюарт — Ноэ; в письме не было ничего особенного, но просили сообщить таким же способом, возможен ли в дальнейшем этот путь для передачи корреспонденции.
Ответ не замедлил последовать, и Джиффорд отправился с ним к Бабингтону. Тогда тот переслал Ноэ шифрованное письмо, в котором сообщал о намерениях и планах, питаемых приверженцами королевы.
И на это письмо тоже пришел ответ, так что Бабингтон не замедлил переслать новоизобретенным путем самые важные из тех писем, которые накапливались в течение этого времени для Марии Стюарт.
На последние Мария ответила лично. Хотя ее письмо и было адресовано на имя Моргана, но в сущности предназначалось для сведения всех ее приверженцев. Между прочим она написала:
«Берегитесь — очень прошу вас об этом — втягиваться в такие дела, которые позднее только увеличат подозрения против вас. Что касается меня, то в настоящий момент я имею основания не сообщать об опасности, которая грозит в случае раскрытия дела. Мой тюремщик ввел такой строгий и педантичный порядок, что я не могу ничего принять или отослать без его ведома».
Вообще все письмо было полно уговоров отступиться от задуманного.
Между прочим необходимо отметить, что с самого начала этого обмена письмами Марии была предоставлена большая свобода, а Полэт стал притворяться более приветливым. Но Мария Стюарт не могла совершенно переродиться, поэтому вновь кинулась в самый водоворот заговора. Каждую неделю вышеописанным путем письма шли в Чартлей и обратно. Мария была в курсе всего происходящего и затеваемого ее приверженцами, ей даже представилась возможность лично руководить всем делом из тюрьмы.
Одно из самых важных заседаний состоялось в первых числах июля в загородном доме Бабингтона, и тут было решено, что освобождение Марии Бабингтон возьмет на себя, с этой целью он купил имение Лихтфилд, находившееся в непосредственной близости от Чартлея.
На этом же заседании были намечены люди, обязанностью которых будет убить Елизавету. Это были: Джон Саваж, Патрик Баруэль, ирландец родом, Джон Черсик, Эдуард Абингтон, Чарльз Тильнай, Чидьок Тичбори.
Поднять знамя восстания в провинции поручалось Эдуарду Виндзору, Томасу Салисбэри, Роберту Геджу, Джону Тауерсу, Джону Томасу, Генриху Дэну. К числу этих заговорщиков принадлежал также и Сэррей.
Из высшей английской аристократии готовыми по первому знаку подняться за Марию Стюарт были: сын герцога Норфолка, граф Арундель, Томас и Вильям Говарды, граф Нортумберленд, лорд Дакр, лорды и графы Стрэндж, Дерби, Сэнлей, Монтэдж Комптон, Морлей, всего — тридцать девять человек.
Помощь, обещанная Филиппом II, тоже начинала вырисовываться, он готовился к экспедиции в Англию. Шотландские отряды тоже готовы были двинуться на Англию.
Бабингтон участвовал в заговоре против Елизаветы в общем-то по своей глупости. Но руководство заговором было очень разумным и могло бы даже обеспечить успех, если были бы сдержаны все обещания и, наконец, если бы не было измены. А предатель таился в том обществе, среди которого вращался Баллар, или полковник Форсо, как он назывался в Лондоне.
Вообще Баллар был очень странным человеком. Будучи одет в рясу и сдерживая себя строгими тисками монашеского долга, он мог легко провести кого угодно. Но в мундире, стараясь поступками и привычками подражать разнузданным нравам военных, он чувствовал себя не в своей тарелке, так что даже не особенно дальновидный Саваж мог его разоблачить. Это и заставляло Бабингтона доверять Баллару менее того, сколько нужно было для успеха дела. Так, например, Баллар был исключен из числа тех, которые собирались в загородном доме Бабингтона на совещания, и он, считая себя одной из важнейших фигур заговора, был очень обижен этим.
Мод, хозяин Баллара, был долгое время его верным товарищем в его распутных похождениях. И вот случилось так, что однажды они попали в кабачок, где приносились жертвы не только Бахусу. В этом кабачке возникла ссора, оба приятеля вмешались в нее, и когда появилась полиция, то в числе других собралась арестовать и их обоих.
То, что для всякого другого человека могло оказаться только неприятным происшествием, для наших героев должно было повлечь за собой очень дурные последствия. Поэтому они обнажили оружие и напали на полицейских, в чем их ревностно поддержал весь остальной сброд посетителей кабачка, А так как их было довольно много, то полиция потерпела поражение, и забияки поспешили разбежаться. Баллар и Мод думали, что довольно счастливо выкарабкались из этой истории и через несколько дней совершенно забыли о ней.
Но вот однажды, отправляясь в Кастэнд, загородный дом Бабингтона, Баллар встретил человека с перевязанной головой и загляделся на него. Тот обратил на это внимание и неожиданно поскользнулся. Баллар спокойно продолжал свой путь, а перевязанный последовал за ним на некотором расстоянии.
Вскоре им навстречу попался человек, одетый в мундир одного из высших полицейских чинов «Звездной палаты». Это был Пельдрам.
Перевязанный человек почтительно поздоровался с ним и указал на Баллара:
— Вот человек, который ранил меня несколько дней тому назад в кабачке.
Пельдрам мрачно посмотрел вслед Баллару и злобно пробормотал:
— По виду — это дворянчик, ну а этим господам не вменяется в особенное преступление, если они ткнут шпагой низшего служителя «Звездной палаты». Но на всякий случай проследи за ним, Том, а чтобы он не заметил этого, постарайся встретить кого-нибудь из коллег и поручи ему продолжить наблюдение. Я хочу знать, кто этот человек. Понял?
— Слушаюсь! — ответил подчиненный Пельдрама и поспешил за Балларом.
А тот все продолжал спокойно идти своей дорогой, не заметив никакого преследования. Так дошел он до окраины города, где начинались уже поля, прошел в какую-то лачугу, побыл там короткое время и затем вернулся в Лондон в свою квартиру.
Агент, которому Том поручил проследить за Балларом, дождался, когда тот через шесть часов вышел из дома, и наблюдал за ним до тех пор, пока не встретил товарища и не поручил продолжать слежку. Сам же поспешил вернуться к квартире преследуемого, чтобы навести там требуемые справки.
Он узнал, что живет здесь Баллар, и без всяких размышлений отправился в квартиру Мода.
Мод был дома и с удивлением взглянул на вошедшего полицейского. Когда же тот объяснил, что он — служащий «Звездной палаты», то от испуга у Мода кровь в жилах застыла и волосы чуть ли не встали дыбом. Полицейский потребовал, чтобы Мод назвал свое имя и род занятий.
Это было легко Моду. Чем-чем, а документами он был снабжен в достаточном количестве. Он предъявил доказательства того, что он — англичанин, состоящий на службе секретаря французского посольства.
— Хорошо, — произнес полицейский, — совсем хорошо, по крайней мере в отношении вас, хотя с другой стороны, англичане, состоящие на службе у французов, всегда подозрительны. Но у вас имеется квартирант.
— Квартирант?
— Пожалуйста, не притворяйтесь! Я знаю, что это так! Кто этот человек?
— Ах, вы про этого?.. Да это, собственно говоря, не квартирант, а, так сказать, гость…
— В таком случае я должен сказать еще, что вы принимаете у себя очень подозрительных гостей… Дело, должно быть, не чисто, раз люди с наружностью джентльмена живут в такой дыре, как ваше жилище, раз они посещают низкопробные вертепы и вступают там в драку со стражами общественной безопасности!
— Этого я уж не знаю, — дерзко ответил Мод.
— Готов вам поверить, но все-таки будьте любезны сказать мне, как попал этот человек в ваш дом?
— Мне его рекомендовали…
— Кто именно?
— Мой патрон.
— Тоже хорошая рекомендация! Как его зовут?
— Форсо.
— А чем занимается Форсо?
— Он военный, полковник, в настоящее время в отставке.
— Так, так!
Полицейский в замешательстве почесал затылок. Положение полковника в отставке сразу объясняло все, что с первого взгляда казалось подозрительным, а именно — привычку к бесшабашной жизни и неимение средств. Кроме того, полицейский из личного опыта знал, что с безработными военными шутить не приходится. Но как бы там ни было, а поручение ему было дано в самой категорической форме, и он должен был довести дознание до конца.
— Когда же вернется этот господин домой? — спросил он Мода.
— Это совершенно неопределенно.
— Так я подожду его здесь, — решительно заявил полицейский. — А пока он не вернется домой, вы тоже должны оставаться здесь.
Но Баллар не был таким неосторожным и легкомысленным, как это могло показаться, он нарочно колесил по городу, чтобы измучить преследователя. Когда же полицейский отмахал за ним два больших конца, то Баллар неожиданно исчез.
Домой Баллар решил тоже сразу не возвращаться — сначала послал мальчишку, чтобы тот прощупал почву.
Когда мальчишка прибыл на квартиру Мода, полицейский все еще оставался на своем посту. Следуя данным инструкциям, мальчик сказал Моду, что его кузен просил спросить, как его здоровье.
— Ага! — воскликнул полицейский. — Знаем мы этих кузенов! Не трудитесь отвечать, сэр Мод! Слушай-ка, мальчик, я — служащий «Звездной палаты».
Мальчишка страшно перепугался.
— Тебе меня нечего бояться, если ты будешь послушным, — продолжал полицейский. — Но берегись, если ты не сделаешь того, что я тебе сейчас прикажу!
— Я готов все сделать! — ответил мальчик.
— В таком случае ступай обратно к «кузену» и скажи ему, что сэр Мод ждет его.
Мальчик отправился, а полицейский пошел следом за ним и встал настороже у двери.
Баллар принял ответ мальчика за правду, но в последний момент лисьим нюхом почувствовал что-то неладное. Он юркнул в сторону, хотя полицейский и кинулся за ним, но не мог помешать иезуиту ускользнуть из его рук.
Надутый полицейский вернулся к своему начальнику и доложил ему обо всем происшедшем. Выслушав его, Пельдрам решил лично взяться за это дело.
Эта история затянулась. Преследование Баллара продолжалось несколько месяцев, но Пельдраму так и не удалось поймать человека, следить за которым его заставляла скорее честь сыщика, чем подозрение, что преследуемый и на самом деле — важный преступник.
Что может показаться очень странным — так это то, что соучастники заговора не имели никакого понятия об этом преследовании. Таким образом, это было каким-то состязанием на приз, происходившим только между Пельдрамом и Балларом.
За это время Бабингтон вообще редко видел иезуита. Он только что вернулся из имения, купленного им вблизи от Чартлея, и так много работал над подготовкой переворота, что даже его внешний вид совершенно изменился. Прежде он отличался некоторой полнотой, а теперь стал худым, физически и нравственно истощенным. Кроме того, лето стояло очень жаркое, и во время своих частых путешествий Бабингтон изнемогал от палящих лучей солнца. Он истосковался по отдыху, и твердо решил в течение нескольких дней сделать передышку.
Прибыв в свой городской дом, он разделся с помощью камердинера, вытянулся на софе и сказал:
— Джек, меня ни для кого нет дома сегодня!
— Слушаюсь! — ответил тот.
— Меня нет в Лондоне вообще, понимаешь?
— Понимаю.
— Я устал, Джэк, так устал, что на отдых и восстановление сил мне понадобится по крайней мере неделя.
— Совершенно верно!
— Теперь ты знаешь, значит, что нужно делать. Всем посетителям ты скажешь, что меня нет, что я в Париже, что ли.
— Я желал бы, сэр, чтобы мы действительно были там.
— И я желал бы того, ей Богу, но делать нечего, приходится оставаться здесь.
— К сожалению, — произнес слуга со вздохом и вышел из комнаты.
Бабингтон был настолько утомлен, что заснул.
Вдруг слуга снова появился с очень обеспокоенным видом и воскликнул:
— Сэр! Дорогой сэр, проснитесь!
Но так как тот не двигался, то Джэк стал будить его.
— Мне слишком скоро пришлось ослушаться вашего приказания, сэр, но я принужден сделать это, — сказал он.
— Ну, в чем дело? — недовольно спросил очнувшийся хозяин.
Пришел какой-то незнакомец.
— К черту его, я никого не хочу видеть!
— Этот человек настаивает, к тому же у него, кажется, имеются важные вести.
— Кто же он такой?
— Это — агент «Звездной палаты», состоящий у вас на жаловании.
Через две минуты в комнату вошел посетитель, находившийся, по-видимому, также в большом волнении.
— Да хранит вас Бог, сэр! — быстро проговорил он. — Какое счастье, что я застал вас в Лондоне и имею возможность говорить с вами.
— У вас, по-видимому, имеются дурные вести?
— Дурные, очень дурные, сэр!
— Что-нибудь открыто?
— Да, во всяком случае нас предали!
— Черт возьми! Кто же мог быть этим предателем?
— Вы знаете, сэр, некоего Мода?
— Конечно!
— Так вот он явился сегодня к нашему начальнику Пельдраму и заявил, что проживающий у него полковник Форсо на самом деле — священник и зовут его Баллар.
— Будь проклят этот предатель!
Затем он заявил, что после долгих стараний ему удалось заманить Баллара в свою квартиру, где он осилил его и связал, так что можно теперь взять его оттуда.
— Ох! — простонал Бабингтон. — В таком случае все погибло! Ну, что же? Взяли его?
— Это должно совершиться с минуты на минуту.
— Хорошо, благодарю вас за сообщение. Джэк, Джэк, поди сюда!
Лакей вошел, а посетитель удалился.
— Коня мне поскорее! — крикнул Бабингтон.
Слуга вышел, а Бабингтон стал одеваться, Он совсем потерял голову и думал не о том, чтобы кого-то предупредить, а лишь о бегстве и о спасении своей особы. Одевшись, он выбежал во двор, вскочил на коня и поспешил из Лондона. Некоторое время он скакал вперед без всякой определенной цели, пока наконец не стемнело. Тем временем он собрался с мыслями и понял, что его бегство не только испортит все дело, но послужит еще проявлением трусости. Наконец, известия могли быть ложны, даже в случае их достоверности еще многое можно было бы спасти. Под влиянием этих соображений он повернул обратно в Лондон, переночевав по дороге в плохонькой гостинице.
На следующее утро он отправился в Сэнт-Эгидиен, свое загородное поместье, где его встретил Саваж.
Последний проводил его в жилую комнату и спросил:
— Вы знаете, сэр, что нас выдали и что Баллар уже арестован?
— Да, знаю. А кто еще арестован?
— Больше никто! Вот письмо королевы!
Прочтя письмо, Бабингтон сказал:
— Я отвечу, но что можно предпринять, сэр Джон?
Бабингтон старался казаться таким же спокойным, каким был Саваж.
— Немедленно убить Елизавету! — ответил Саваж.
— Хорошо, возьмите это на себя.
— Завтра этой женщины не будет в живых! — сказал отважный офицер.
— Хорошо, хорошо! — сказал Бабингтон, вынимая кошелек и снимая с пальцев кольца. — Вот вам на всякий случай необходимые средства. Только ваша рука может спасти нас… Не мешкайте!
— Завтра это свершится! — подтвердил Саваж. — Вообще все эти большие приготовления были совершенно излишни.
Джон удалился, а Бабингтон принялся за письмо к Марии Стюарт. Он извещал ее о том, что случилось, но обещал употребить все средства, чтобы удалось их предприятие.
Это письмо уже не попало в руки Марии.
Насколько Бабингтон в первый момент струсил и потерял бодрость, настолько потом в нем явилась какая-то отчаянная отвага. Он решил самолично принять участие в свержении Елизаветы. Для этого он поехал в Лондон. Но Бабингтону не удалось исполнить свое намерение, поэтому он отправился в свою квартиру, где его уже ждал Саваж.
— Это невозможно, — воскликнул тот, — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в ближайшее время. Приняты все меры предосторожности, весь наш план обнаружен.
После краткого совещания оба покинули дом и отправились к Тичборну. Последний, встретив их, возбужденно спросил:
— Знаете ли вы, что Баллара подвергли пытке и он выдал всех нас?
— Будь проклят этот поп! — воскликнул Саваж. — Я это предвидел… Чего можно было ждать от него и всей его шайки!
— Необходимо бежать! — сказал Бабингтон.
Только не днем, — заметил Тичборн. — Следуйте за мной, я укажу вам убежище, где мы можем выждать ночи! — с этими словами Тичборн ввел своих посетителей в подвальное помещение с несколькими выходами.
Заговорщики все прибывали к Тичборну, и его слуга препровождал их в упомянутое убежище, Про неявившихся говорили, что они все арестованы. Тичборн распорядился, чтобы к вечеру были приготовлены лошади.
Вечером Бабингтон бежал из Лондона вместе со своими сообщниками. Достигнув Сэн-Джонского леса, они надеялись укрыться там, но их преследовали, настигли очень скоро и, арестовав, отправили в Лондон.
Так закончился заговор Бабингтона. Понятно, почему Мария Стюарт, услыхав имя Бабингтона, так побледнела и воскликнула, что все погибло. Раскрытие этого заговора послужило поводом к разыгранному Амиасом приглашению на охоту по приказанию Валингэма.
Однако разоблачению способствовал не только арест Баллара. Сыграла роковую роль и измена Кингтона.
Года за четыре до этого в Париже проживал молодой англичанин, он не принадлежал к числу изгнанников, а находился там для собственного удовольствия. Обладая большими средствами и имея рекомендательные письма к влиятельным парижанам, этот англичанин вскоре занял довольно видное положение в рядах местной знати. Но в этом положении не было ничего такого, чего пришлось бы стыдиться молодому человеку. Энтони Бабингтон хотя и был весел и жизнерадостен, но это не мешало ему оставаться нравственным и порядочным, между прочим он щедро помогал бедным соплеменникам, принужденным жить в Париже по политическим причинам. Благодаря всему этому, благодаря его симпатичной наружности и богатству многие с большой настойчивостью добивались знакомства с ним, а куда хотел проникнуть он сам — для него не бывало запрета.
Будучи ревностным католиком, Бабингтон не чувствовал особой любви к Елизавете, и равнодушие к английской королеве легко превратилось у него, вследствие ее политики, в пламенную ненависть. Как чувствительный, рыцарски настроенный человек, он искренне сожалел Марии Стюарт, и, когда попал в среду ее приверженцев, эта симпатия переросла в энтузиазм.
Когда прошло время, которое Бабингтон собирался провести в Париже, он оказался не только вполне посвященным во все планы заговорщиков, но и сам всей душой примкнул к ним. На первых порах он взял на себя роль посредника, через руки которого проходила корреспонденция Марии Стюарт с ее приверженцами в Париже. Это было нетрудно, так как его поместья были расположены недалеко от Чэтсуорта, где в то время Мария содержалась под надзором лорда Шресбюри.
Когда Марию перевели в Тильбэри, Бабинггону еще удавалось по временам помогать обмену писем, но со времени назначения надзирателем за шотландской королевой Амиса Полэта это стало невозможным. Когда же Марию перевели в Чартлэй, то Бабингтон переселился в Лондон, где вел существование джентльмена, ищущего в жизни одни только забавы и наслаждения. Там, в Лондоне, у Бабингтона были громадные связи, в различных салонах ему приходилось встречаться даже с Валингэмом и лордом Лейстером, так что он постоянно бывал в курсе придворной жизни. И скоро он убедился, что помочь Марии совершенно невозможно.
Отчасти в силу этого, а отчасти из сознания громадной опасности, которой он совершенно бесцельно подвергался, Бабингтон стал все больше и больше удаляться от кружка заговорщиков, не подозревая, что они уже наметили его для одной из главнейших ролей. Он уже подумывал, во избежание всяких случайностей, переселиться на материк и начал готовиться к эмиграции, но судьба готовила ему иное.
В мае 1586 года Бабингтон окончательно решил уехать как раз в то самое время, когда в Лондон прибыли Саваж и Баллар.
Однажды, вернувшись поздно вечером домой, Бабингтон узнал от лакея, что в его отсутствие был какой-то незнакомец, который обещал прийти на следующее утро. Бабингтон с большим неудовольствием принял это известие, он догадывался, что должно было означать это появление таинственного незнакомца, а когда справился о его внешнем виде, то подумал — уж не скрыться ли ему на рассвете из Лондона? Но посетитель явился на другое утро настолько рано, что Бабингтон еще был в постели, и ему волей-неволей пришлось принять его.
Посетителем оказался Джон Саваж. Если патер Баллар счел необходимым надеть форму солдата, чтобы не быть узнанным в Англии, то вояка, наоборот, нацепил рясу священнослужителя. Однако Бабингтон был достаточно проницателен, чтобы разгадать, что внешний вид Саважа — только личина. Поэтому довольно недружелюбно принял его и недовольно ответил на приветствия посетителя, пытливо осматривавшего того, от кого должен был получить ближайшие инструкции для столь важного дела, как цареубийство.
— Вы уже вчера были здесь, сэр? — начал Бабингтон. — Чем могу служить вам?
— Собственно ничем, — осторожно ответил Саваж, — Но, быть может, окажется, что мы оба служим кому-нибудь другому, для которого было бы очень выгодно, если бы мы объединились с вами в нашей службе.
— Я — свободный дворянин, — гордо произнес Бабингтон. — Я что-то вас не понимаю. Да и кто вы такой вообще?
— Мое имя не имеет никакого отношения к делу. Но, если хотите, меня зовут Джон Саваж, я — капитан армии герцога Пармского, католик и приверженец королевы Марии Стюарт, как и вы, если верить слухам.
— Все это располагает меня в вашу пользу, — ответил Бабингтон, — нужны доказательства.
— А вот и доказательства! — сказал Саваж, подавая принесенные с собой бумаги.
Бабингтон сначала осмотрел внешний вид поданных ему писем и только потом распечатал их. Во время чтения он несколько раз изменился в лице, и со стороны могло бы показаться, что его бросает то в жар, то в холод.
Саваж решил, что Бабингтон трусит.
«Вот каковы все эти знатные барчуки! — подумал он. — На разговор горазды, а чуть дошло до дела — так и на попятный!»
Но он сильно ошибался, делая такие умозаключения. Конечно, Бабингтон далеко не равнодушно относился к опасностям, которые ему грозили, но по существу он все-таки был не трусом. В данном же случае его волнение объяснялось отчасти некоторой неожиданностью, заключавшейся как в необходимости против воли снова выступить на арену открытой противоправительственной деятельности, так и в исключительности намеченных мер.
Кончив чтение, он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате и, вдруг остановившись перед Саважем, произнес:
— Ваших рекомендаций вполне достаточно, имена, которыми они подписаны, не оставляют желать ничего лучшего. Но тем не менее, мне ни к чему подробно обсуждать с вами содержание врученных вами писем. Однако вы сами должны понять, что осторожность необходима не только в смысле общего правила, но и в том отношении, что ни за какое дело нельзя браться, если почва для него не подготовлена.
— Поспешишь — людей насмешишь. Поэтому пока что вам придется подождать моих инструкций.
Саваж не ожидал, что Бабингтон заговорит в таком тоне. Он был удивлен и заметил, вставая с кресла:
— Я думал, что лучшим путем всегда является самый короткий.
— Наоборот, сэр, — возразил ему Бабингтон. — Если задуманное предприятие сорвется, то это может повести только к окончательной гибели того самого лица, которому мы хотим послужить. В данном деле имеется еще и другая сторона, которую непременно надо принять во внимание. Для того чтобы правильно подойти к нашему делу, необходимо выждать некоторое время.
— Время? — переспросил Саваж. — Но я здесь в большой опасности.
— О вашей безопасности я позабочусь, сэр.
Бабингтон заставил Джона снова переодеться и послал его в сопровождении слуги в свои поместья. Что именно предпринимал он в это время, так и осталось неизвестным.
Вскоре к Бабингтону явился Баллар, и благодаря этому переодетому священнику все дело приняло новый оборот.
Вообще Баллар был рожден скорее воином, чем священником. Во всей его внешности, в повадках было что-то импонирующее, и отвага, которой дышало его лицо, была действительно главной чертой его характера. А вдобавок ко всему этому он отличался еще и истинно монашеским фанатизмом!
Прибыв в первый раз к Бабингтону, он тоже вручил ему свои рекомендательные письма.
К этому времени Бабингтон несколько свыкся с мыслью о затеянном заговорщиками смелом деянии, но продолжал считать, что насильственное освобождение Марии Стюарт все-таки лучше, чем убийство Елизаветы. Поэтому Бабингтон уже не удивлялся, как при встрече с Саважем, а стал разрабатывать план, который давал всему этому безрассудному предприятию хоть какое-нибудь разумное движение. По прочтении писем он сказал Баллару:
— Лорд Морган пишет мне, что я во что бы то ни стало должен помешать вам или Саважу вступать в непосредственный контакт с шотландской королевой. Это требование очень разумно, вы должны согласиться.
— Разумеется, — ответил священник, — и не входит в мои намерения.
— Выслушайте-ка внимательно, что я вам скажу. Толкуют, как и всегда, будто на Англию готовится нападение извне. Это безусловно необходимо для осуществления нашего плана, хотя бы для отвлечения внимания. Но одновременно с нападением внутри страны должно произойти восстание. Тогда освобождение Марии и убийство Елизаветы должны произойти одновременно, так как иначе Бэрлей вырвет у нас из рук все благие последствия задуманного нами предприятия. Но, пока мы подготовим все это, наступит осень, лучшее время года для проведения намеченного плана.
— Мне предписано повиноваться вам, и я готов к этому.
— Ну, тогда вы еще получите от меня дальнейшие инструкции. Кстати, какова ваша безопасность в Лондоне?
— О ней я позабочусь сам.
— Хорошо! Теперь скажите мне, где я могу найти вас?
Баллар объяснил Бабинггону, где он будет находиться и каким образом ему можно дать знать, а затем ушел.
Баллар нашел убежище у некоего Мода, весьма загадочного человека, с которым он познакомился за границей и которому слепо доверял. У этого Мода собирались для обсуждения подробностей заговора секретарь французского посольства Поли, Артур Грегори, Филиппс и, наконец, иезуит Жильбер Джиффорд, которого ни в коем случае не надо смешивать с доктором Джиффордом из Реймса.
Все эти люди служили главным образом посредниками при обмене письмами заговорщиков, рассеянных по всей Европе, и в сущности играли только подчиненную роль.
У Бабингтона был загородный дом, куда он и поместил Джона Саважа в качестве управляющего.
Познакомившись с Балларом, Саваж несколько раз посещал собрания в доме Мода, но члены этого собрания не расположили его в свою пользу, а Джон даже находил, что все эти люди слишком легкомысленны для того, чтобы им можно было доверять.
Но Бабингтон уже не мог отступать назад. Деятельно работая по всем направлениям, он довел дело до той точки, когда оказалось существенно необходимым снестись с Марией Стюарт. Для этой цели Баллар предложил иезуита Джиффорда, и Бабингтон велел тому придти к нему.
Джиффорд произвел далеко не благоприятное впечатление на Бабингтона, но когда он вкратце описал всю свою предшествующую деятельность, то Бабингтон не мог сомневаться, что иезуит посвящен во все детали заговора. Поэтому он сообщил иезуиту о своих намерениях и спросил о том, как бы можно было их исполнить.
Тот на короткое время задумался, а затем ответил:
— Знаю!… Во время моих попыток вступить в отношения с людьми в Чартлее я заметил, что каждую неделю в определенный день туда привозят бочку пива.
— Подобные поставки делаются очень часто, но все предметы, проходящие этим путем, подвергаются тщательному досмотру.
— Конечно. Но в пиве можно переслать письмо так, что его не заметят. Разрешите мне только попробовать. Сначала произведем маленький опыт. Можно?
— Ну что же, попытайтесь!
Джиффорд направился переодетым к пивовару, который, по его сведениям, доставлял пиво, подкупил одного из рабочих и попросил, чтобы тот, доставив пиво в Чартлей, обратил внимание смотрителя винного погреба королевы на втулку, которой была закупорена бочка.
В эту втулку было вложено письмо на имя секретаря Марии Стюарт — Ноэ; в письме не было ничего особенного, но просили сообщить таким же способом, возможен ли в дальнейшем этот путь для передачи корреспонденции.
Ответ не замедлил последовать, и Джиффорд отправился с ним к Бабингтону. Тогда тот переслал Ноэ шифрованное письмо, в котором сообщал о намерениях и планах, питаемых приверженцами королевы.
И на это письмо тоже пришел ответ, так что Бабингтон не замедлил переслать новоизобретенным путем самые важные из тех писем, которые накапливались в течение этого времени для Марии Стюарт.
На последние Мария ответила лично. Хотя ее письмо и было адресовано на имя Моргана, но в сущности предназначалось для сведения всех ее приверженцев. Между прочим она написала:
«Берегитесь — очень прошу вас об этом — втягиваться в такие дела, которые позднее только увеличат подозрения против вас. Что касается меня, то в настоящий момент я имею основания не сообщать об опасности, которая грозит в случае раскрытия дела. Мой тюремщик ввел такой строгий и педантичный порядок, что я не могу ничего принять или отослать без его ведома».
Вообще все письмо было полно уговоров отступиться от задуманного.
Между прочим необходимо отметить, что с самого начала этого обмена письмами Марии была предоставлена большая свобода, а Полэт стал притворяться более приветливым. Но Мария Стюарт не могла совершенно переродиться, поэтому вновь кинулась в самый водоворот заговора. Каждую неделю вышеописанным путем письма шли в Чартлей и обратно. Мария была в курсе всего происходящего и затеваемого ее приверженцами, ей даже представилась возможность лично руководить всем делом из тюрьмы.
Одно из самых важных заседаний состоялось в первых числах июля в загородном доме Бабингтона, и тут было решено, что освобождение Марии Бабингтон возьмет на себя, с этой целью он купил имение Лихтфилд, находившееся в непосредственной близости от Чартлея.
На этом же заседании были намечены люди, обязанностью которых будет убить Елизавету. Это были: Джон Саваж, Патрик Баруэль, ирландец родом, Джон Черсик, Эдуард Абингтон, Чарльз Тильнай, Чидьок Тичбори.
Поднять знамя восстания в провинции поручалось Эдуарду Виндзору, Томасу Салисбэри, Роберту Геджу, Джону Тауерсу, Джону Томасу, Генриху Дэну. К числу этих заговорщиков принадлежал также и Сэррей.
Из высшей английской аристократии готовыми по первому знаку подняться за Марию Стюарт были: сын герцога Норфолка, граф Арундель, Томас и Вильям Говарды, граф Нортумберленд, лорд Дакр, лорды и графы Стрэндж, Дерби, Сэнлей, Монтэдж Комптон, Морлей, всего — тридцать девять человек.
Помощь, обещанная Филиппом II, тоже начинала вырисовываться, он готовился к экспедиции в Англию. Шотландские отряды тоже готовы были двинуться на Англию.
Бабингтон участвовал в заговоре против Елизаветы в общем-то по своей глупости. Но руководство заговором было очень разумным и могло бы даже обеспечить успех, если были бы сдержаны все обещания и, наконец, если бы не было измены. А предатель таился в том обществе, среди которого вращался Баллар, или полковник Форсо, как он назывался в Лондоне.
Вообще Баллар был очень странным человеком. Будучи одет в рясу и сдерживая себя строгими тисками монашеского долга, он мог легко провести кого угодно. Но в мундире, стараясь поступками и привычками подражать разнузданным нравам военных, он чувствовал себя не в своей тарелке, так что даже не особенно дальновидный Саваж мог его разоблачить. Это и заставляло Бабингтона доверять Баллару менее того, сколько нужно было для успеха дела. Так, например, Баллар был исключен из числа тех, которые собирались в загородном доме Бабингтона на совещания, и он, считая себя одной из важнейших фигур заговора, был очень обижен этим.
Мод, хозяин Баллара, был долгое время его верным товарищем в его распутных похождениях. И вот случилось так, что однажды они попали в кабачок, где приносились жертвы не только Бахусу. В этом кабачке возникла ссора, оба приятеля вмешались в нее, и когда появилась полиция, то в числе других собралась арестовать и их обоих.
То, что для всякого другого человека могло оказаться только неприятным происшествием, для наших героев должно было повлечь за собой очень дурные последствия. Поэтому они обнажили оружие и напали на полицейских, в чем их ревностно поддержал весь остальной сброд посетителей кабачка, А так как их было довольно много, то полиция потерпела поражение, и забияки поспешили разбежаться. Баллар и Мод думали, что довольно счастливо выкарабкались из этой истории и через несколько дней совершенно забыли о ней.
Но вот однажды, отправляясь в Кастэнд, загородный дом Бабингтона, Баллар встретил человека с перевязанной головой и загляделся на него. Тот обратил на это внимание и неожиданно поскользнулся. Баллар спокойно продолжал свой путь, а перевязанный последовал за ним на некотором расстоянии.
Вскоре им навстречу попался человек, одетый в мундир одного из высших полицейских чинов «Звездной палаты». Это был Пельдрам.
Перевязанный человек почтительно поздоровался с ним и указал на Баллара:
— Вот человек, который ранил меня несколько дней тому назад в кабачке.
Пельдрам мрачно посмотрел вслед Баллару и злобно пробормотал:
— По виду — это дворянчик, ну а этим господам не вменяется в особенное преступление, если они ткнут шпагой низшего служителя «Звездной палаты». Но на всякий случай проследи за ним, Том, а чтобы он не заметил этого, постарайся встретить кого-нибудь из коллег и поручи ему продолжить наблюдение. Я хочу знать, кто этот человек. Понял?
— Слушаюсь! — ответил подчиненный Пельдрама и поспешил за Балларом.
А тот все продолжал спокойно идти своей дорогой, не заметив никакого преследования. Так дошел он до окраины города, где начинались уже поля, прошел в какую-то лачугу, побыл там короткое время и затем вернулся в Лондон в свою квартиру.
Агент, которому Том поручил проследить за Балларом, дождался, когда тот через шесть часов вышел из дома, и наблюдал за ним до тех пор, пока не встретил товарища и не поручил продолжать слежку. Сам же поспешил вернуться к квартире преследуемого, чтобы навести там требуемые справки.
Он узнал, что живет здесь Баллар, и без всяких размышлений отправился в квартиру Мода.
Мод был дома и с удивлением взглянул на вошедшего полицейского. Когда же тот объяснил, что он — служащий «Звездной палаты», то от испуга у Мода кровь в жилах застыла и волосы чуть ли не встали дыбом. Полицейский потребовал, чтобы Мод назвал свое имя и род занятий.
Это было легко Моду. Чем-чем, а документами он был снабжен в достаточном количестве. Он предъявил доказательства того, что он — англичанин, состоящий на службе секретаря французского посольства.
— Хорошо, — произнес полицейский, — совсем хорошо, по крайней мере в отношении вас, хотя с другой стороны, англичане, состоящие на службе у французов, всегда подозрительны. Но у вас имеется квартирант.
— Квартирант?
— Пожалуйста, не притворяйтесь! Я знаю, что это так! Кто этот человек?
— Ах, вы про этого?.. Да это, собственно говоря, не квартирант, а, так сказать, гость…
— В таком случае я должен сказать еще, что вы принимаете у себя очень подозрительных гостей… Дело, должно быть, не чисто, раз люди с наружностью джентльмена живут в такой дыре, как ваше жилище, раз они посещают низкопробные вертепы и вступают там в драку со стражами общественной безопасности!
— Этого я уж не знаю, — дерзко ответил Мод.
— Готов вам поверить, но все-таки будьте любезны сказать мне, как попал этот человек в ваш дом?
— Мне его рекомендовали…
— Кто именно?
— Мой патрон.
— Тоже хорошая рекомендация! Как его зовут?
— Форсо.
— А чем занимается Форсо?
— Он военный, полковник, в настоящее время в отставке.
— Так, так!
Полицейский в замешательстве почесал затылок. Положение полковника в отставке сразу объясняло все, что с первого взгляда казалось подозрительным, а именно — привычку к бесшабашной жизни и неимение средств. Кроме того, полицейский из личного опыта знал, что с безработными военными шутить не приходится. Но как бы там ни было, а поручение ему было дано в самой категорической форме, и он должен был довести дознание до конца.
— Когда же вернется этот господин домой? — спросил он Мода.
— Это совершенно неопределенно.
— Так я подожду его здесь, — решительно заявил полицейский. — А пока он не вернется домой, вы тоже должны оставаться здесь.
Но Баллар не был таким неосторожным и легкомысленным, как это могло показаться, он нарочно колесил по городу, чтобы измучить преследователя. Когда же полицейский отмахал за ним два больших конца, то Баллар неожиданно исчез.
Домой Баллар решил тоже сразу не возвращаться — сначала послал мальчишку, чтобы тот прощупал почву.
Когда мальчишка прибыл на квартиру Мода, полицейский все еще оставался на своем посту. Следуя данным инструкциям, мальчик сказал Моду, что его кузен просил спросить, как его здоровье.
— Ага! — воскликнул полицейский. — Знаем мы этих кузенов! Не трудитесь отвечать, сэр Мод! Слушай-ка, мальчик, я — служащий «Звездной палаты».
Мальчишка страшно перепугался.
— Тебе меня нечего бояться, если ты будешь послушным, — продолжал полицейский. — Но берегись, если ты не сделаешь того, что я тебе сейчас прикажу!
— Я готов все сделать! — ответил мальчик.
— В таком случае ступай обратно к «кузену» и скажи ему, что сэр Мод ждет его.
Мальчик отправился, а полицейский пошел следом за ним и встал настороже у двери.
Баллар принял ответ мальчика за правду, но в последний момент лисьим нюхом почувствовал что-то неладное. Он юркнул в сторону, хотя полицейский и кинулся за ним, но не мог помешать иезуиту ускользнуть из его рук.
Надутый полицейский вернулся к своему начальнику и доложил ему обо всем происшедшем. Выслушав его, Пельдрам решил лично взяться за это дело.
Эта история затянулась. Преследование Баллара продолжалось несколько месяцев, но Пельдраму так и не удалось поймать человека, следить за которым его заставляла скорее честь сыщика, чем подозрение, что преследуемый и на самом деле — важный преступник.
Что может показаться очень странным — так это то, что соучастники заговора не имели никакого понятия об этом преследовании. Таким образом, это было каким-то состязанием на приз, происходившим только между Пельдрамом и Балларом.
За это время Бабингтон вообще редко видел иезуита. Он только что вернулся из имения, купленного им вблизи от Чартлея, и так много работал над подготовкой переворота, что даже его внешний вид совершенно изменился. Прежде он отличался некоторой полнотой, а теперь стал худым, физически и нравственно истощенным. Кроме того, лето стояло очень жаркое, и во время своих частых путешествий Бабингтон изнемогал от палящих лучей солнца. Он истосковался по отдыху, и твердо решил в течение нескольких дней сделать передышку.
Прибыв в свой городской дом, он разделся с помощью камердинера, вытянулся на софе и сказал:
— Джек, меня ни для кого нет дома сегодня!
— Слушаюсь! — ответил тот.
— Меня нет в Лондоне вообще, понимаешь?
— Понимаю.
— Я устал, Джэк, так устал, что на отдых и восстановление сил мне понадобится по крайней мере неделя.
— Совершенно верно!
— Теперь ты знаешь, значит, что нужно делать. Всем посетителям ты скажешь, что меня нет, что я в Париже, что ли.
— Я желал бы, сэр, чтобы мы действительно были там.
— И я желал бы того, ей Богу, но делать нечего, приходится оставаться здесь.
— К сожалению, — произнес слуга со вздохом и вышел из комнаты.
Бабингтон был настолько утомлен, что заснул.
Вдруг слуга снова появился с очень обеспокоенным видом и воскликнул:
— Сэр! Дорогой сэр, проснитесь!
Но так как тот не двигался, то Джэк стал будить его.
— Мне слишком скоро пришлось ослушаться вашего приказания, сэр, но я принужден сделать это, — сказал он.
— Ну, в чем дело? — недовольно спросил очнувшийся хозяин.
Пришел какой-то незнакомец.
— К черту его, я никого не хочу видеть!
— Этот человек настаивает, к тому же у него, кажется, имеются важные вести.
— Кто же он такой?
— Это — агент «Звездной палаты», состоящий у вас на жаловании.
Через две минуты в комнату вошел посетитель, находившийся, по-видимому, также в большом волнении.
— Да хранит вас Бог, сэр! — быстро проговорил он. — Какое счастье, что я застал вас в Лондоне и имею возможность говорить с вами.
— У вас, по-видимому, имеются дурные вести?
— Дурные, очень дурные, сэр!
— Что-нибудь открыто?
— Да, во всяком случае нас предали!
— Черт возьми! Кто же мог быть этим предателем?
— Вы знаете, сэр, некоего Мода?
— Конечно!
— Так вот он явился сегодня к нашему начальнику Пельдраму и заявил, что проживающий у него полковник Форсо на самом деле — священник и зовут его Баллар.
— Будь проклят этот предатель!
Затем он заявил, что после долгих стараний ему удалось заманить Баллара в свою квартиру, где он осилил его и связал, так что можно теперь взять его оттуда.
— Ох! — простонал Бабингтон. — В таком случае все погибло! Ну, что же? Взяли его?
— Это должно совершиться с минуты на минуту.
— Хорошо, благодарю вас за сообщение. Джэк, Джэк, поди сюда!
Лакей вошел, а посетитель удалился.
— Коня мне поскорее! — крикнул Бабингтон.
Слуга вышел, а Бабингтон стал одеваться, Он совсем потерял голову и думал не о том, чтобы кого-то предупредить, а лишь о бегстве и о спасении своей особы. Одевшись, он выбежал во двор, вскочил на коня и поспешил из Лондона. Некоторое время он скакал вперед без всякой определенной цели, пока наконец не стемнело. Тем временем он собрался с мыслями и понял, что его бегство не только испортит все дело, но послужит еще проявлением трусости. Наконец, известия могли быть ложны, даже в случае их достоверности еще многое можно было бы спасти. Под влиянием этих соображений он повернул обратно в Лондон, переночевав по дороге в плохонькой гостинице.
На следующее утро он отправился в Сэнт-Эгидиен, свое загородное поместье, где его встретил Саваж.
Последний проводил его в жилую комнату и спросил:
— Вы знаете, сэр, что нас выдали и что Баллар уже арестован?
— Да, знаю. А кто еще арестован?
— Больше никто! Вот письмо королевы!
Прочтя письмо, Бабингтон сказал:
— Я отвечу, но что можно предпринять, сэр Джон?
Бабингтон старался казаться таким же спокойным, каким был Саваж.
— Немедленно убить Елизавету! — ответил Саваж.
— Хорошо, возьмите это на себя.
— Завтра этой женщины не будет в живых! — сказал отважный офицер.
— Хорошо, хорошо! — сказал Бабингтон, вынимая кошелек и снимая с пальцев кольца. — Вот вам на всякий случай необходимые средства. Только ваша рука может спасти нас… Не мешкайте!
— Завтра это свершится! — подтвердил Саваж. — Вообще все эти большие приготовления были совершенно излишни.
Джон удалился, а Бабингтон принялся за письмо к Марии Стюарт. Он извещал ее о том, что случилось, но обещал употребить все средства, чтобы удалось их предприятие.
Это письмо уже не попало в руки Марии.
Насколько Бабингтон в первый момент струсил и потерял бодрость, настолько потом в нем явилась какая-то отчаянная отвага. Он решил самолично принять участие в свержении Елизаветы. Для этого он поехал в Лондон. Но Бабингтону не удалось исполнить свое намерение, поэтому он отправился в свою квартиру, где его уже ждал Саваж.
— Это невозможно, — воскликнул тот, — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в ближайшее время. Приняты все меры предосторожности, весь наш план обнаружен.
После краткого совещания оба покинули дом и отправились к Тичборну. Последний, встретив их, возбужденно спросил:
— Знаете ли вы, что Баллара подвергли пытке и он выдал всех нас?
— Будь проклят этот поп! — воскликнул Саваж. — Я это предвидел… Чего можно было ждать от него и всей его шайки!
— Необходимо бежать! — сказал Бабингтон.
Только не днем, — заметил Тичборн. — Следуйте за мной, я укажу вам убежище, где мы можем выждать ночи! — с этими словами Тичборн ввел своих посетителей в подвальное помещение с несколькими выходами.
Заговорщики все прибывали к Тичборну, и его слуга препровождал их в упомянутое убежище, Про неявившихся говорили, что они все арестованы. Тичборн распорядился, чтобы к вечеру были приготовлены лошади.
Вечером Бабингтон бежал из Лондона вместе со своими сообщниками. Достигнув Сэн-Джонского леса, они надеялись укрыться там, но их преследовали, настигли очень скоро и, арестовав, отправили в Лондон.
Так закончился заговор Бабингтона. Понятно, почему Мария Стюарт, услыхав имя Бабингтона, так побледнела и воскликнула, что все погибло. Раскрытие этого заговора послужило поводом к разыгранному Амиасом приглашению на охоту по приказанию Валингэма.
Однако разоблачению способствовал не только арест Баллара. Сыграла роковую роль и измена Кингтона.

Глава тринадцатая
ДЕЯНИЯ КИНГТОНА

 Не менее, чем Мария, была потрясена Елизавета, когда узнала о готовившемся против нее заговоре. Королева Англии узнала о нем от Бэрлея в присутствии Валингэма и Лейстера. Был при этом докладе и Кингтон. Елизавета в первый момент как бы окаменела, но затем разразилась бурным неистовством. Она плакала, кричала, яростно металась по комнате, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Когда ее возгласы стали несколько явственнее, можно было разобрать проклятия, относящиеся к Марии.
Присутствующие испуганно смотрели на нее. Бэрлей пытался несколько раз заговорить, но Елизавета не слушала его. Наконец ему удалось привлечь ее внимание.
— Ваше величество, — начал он, — вы не дали мне договорить. Неужели ваши верные слуги решились бы выступить перед вами с таким известием, если бы заранее не обезвредили ядовитого жала змеи?
Придя несколько в себя, Елизавета приказала Кингтону удалиться, а затем обратилась к присутствующим:
— Милорды, вы застигли меня врасплох. Поговорим теперь! Неужели, лорд Лейстер, вы ничего не знали о заговоре, грозящем моей жизни и всей стране?
По замешательству Лейстера видно было, что ему ничего не было известно.
— Ваше величество, — смущенно пробормотал он, — это, собственно, не входило в круг моих обязанностей.
Елизавета бросила на него уничтожающий взгляд, расположилась в кресле и предложила Бэрлею продолжать свой доклад. После Бэрлея давал отчет статс-секретарь Валингэм. Наконец позвали Кингтона. Выслушав его с полным вниманием, Елизавета сказала наконец:
— Так нужно схватить их всех!
— Простите, ваше величество, — заметил Валингэм, — эти люди, равно как и все доказательства их виновности, находятся в наших руках, но дело идет об установлении виновности еще одной особы, главной зачинщицы и злоумышленницы в этом деле. Быть может, было бы своевременно теперь положить конец всем этим козням, но я не мог решиться без позволения вашею величества.
Елизавета вздрогнула и взглянула на всех троих испытующим взором, из ее груди вырвался тяжелый вздох, а затем она медленно произнесла:
— Я даю вам на то мои полномочия, милорды, поступайте как находите необходимым; а теперь дайте мне возможность несколько отдохнуть. Вас, лорд Сесил, я желала бы видеть в скором времени.
Все четверо вышли из комнаты.
Какие же сети в этот раз были расставлены Кингтоном?
В туманное осеннее утро 1585 года в большой тюрьме одного из городов, где десять лет тому назад вспыхнуло крупное восстание, заметно было оживление. Причиной тому стало событие в тюремной жизни — арестанта выпускали на волю. Такое счастье выпало на долю некоего Андрея Полея, рабочего с мельницы. За участие в восстании он был приговорен к пятнадцатилетнему тюремному заключению, но, отбыв десять лет, нынче освобождался милостью королевы, простившей ему остальные пять лет.
Выйдя на свободу, первым делом Полей отправился в родное село, находившееся в десяти часах от города, чтобы повидаться с родными. Но каково было его удивление и разочарование, когда из его мельницы вышел навстречу совершенно чужой человек.
После некоторых расспросов Андрей Полей узнал, что в течение этих десяти лет многое изменилось. Мельник Полей со своим семейством покинул село и вероятнее всего уехал во Францию. Из односельчан, которые могли бы дать точные сведения, тоже никого не осталось.
Андрей грустно поник головой и, усталый, голодный, поплелся в ближайшую корчму, чтобы подкрепить свои силы. Там ему назвали человека из соседнего городка, который мог бы дать сведения относительно его родных.
Наутро Андрей Полей отправился в тот городок и нашел этого человека, священника иезуита Джильбера Джиффорда.
Джиффорд родился в графстве Стаффорд, его отец за религиозные убеждения был долгое время в заключении в Лондоне. Сам же он покинул Лондон двенадцати лет от роду, получив потом воспитание у иезуитов во Франции и приняв посвящение в реймской семинарии доктора Аллана.
Молодой Джиффорд снискал расположение своего начальства и проявлял участие к судьбе Марии Стюарт. На этом основании он выполнял роль посредника и наконец отправился в Лондон, где он вступил в сообщество Баллара и вызвался способствовать переписке Марии с Бабинггоном. Ему было известно о заговоре, он сообщался с наиболее видными участниками его, но сам, казалось, был склонен выдать партию и ждал только благоприятного случая.
Такой не замедлил представиться.
Во время своих частых разъездов Джиффорд однажды встретился в корчме с человеком, который заинтересовал его.
Оба они много путешествовали по Италии и Испании, оба оказались одних политических взглядов. Джиффорду так понравился новый знакомый, что он пригласил его к себе на другой день.
В назначенный час тот явился. После трапезы и приятных разговоров гость вдруг совершенно переменил тон и, вынув из кармана пистолет, сказал:
— Вы — иезуит. Вы — корреспондент Моргана и Пэджета в Париже, вы — участник заговора против нашей королевы. Я же — помощник начальника полиции Валингэма, меня зовут Кингтон. Теперь попытайтесь оправдаться, а я посмотрю, следует вас арестовать или нет.
Джиффорд, хотя и был озадачен таким оборотом дела, но сразу решил извлечь выгоду из этой встречи. Поэтому, спокойно улыбаясь, обратился к Кингтону:
— Мне очень приятно познакомиться с вами, я уже давно хотел сделать разоблачения, но не знал, куда обратиться, чтобы при этом не пострадать. Готов служить вам во всех отношениях.
После некоторых расспросов Кингтон и Джиффорд заключили союз. Джиффорд дал обязательство сообщать Кингтону о всех деяниях участников заговора и с этого момента стал вести двойную игру, причем его услуги Кинггону оплачивались, конечно, звонкой монетой.
Когда Полей явился к Джиффорду, тот как раз нуждался в надежном посыльном к Кингтону. Познакомившись с судьбой Андрея, он предложил ему поступить к нему на службу и отправил его в Лондон с письмом.
Полей явился в Лондон, Кингтон позаботилсяпристроить его на службу в полиции и сделать посредником в своей переписке с Джиффордом.
В письме, доставленном Кингтону Полеем, говорилось:
«Ваше мнение относительно Грегори и Фелиппса совершенно верно, но я полагаю, что их незачем арестовывать, а лучше склонить на свою сторону путем подкупа. Грегори обладает особым искусством вскрывать письма и снова запечатывать их, Фелиппс же умеет подобрать ключ к любому шифру. Оба могут пригодиться».
Грегори был членом сообщества Баллара и постоянным посетителем квартиры Мода. Таким образом, все нити заговора были в руках Кингтона довольно продолжительное время, а полиция могла действовать довольно успешно. Главную роль в этом играл Кингтон.
Французский посланник Шатонэф работал в кабинете вместе со своим секретарем Жереллем. Просматривая бумаги, он время от времени вздыхал. Наконец сказал:
— Я очень хотел бы избавиться от всей этой переписки! Роль посланника как-то не вяжется с ролью почтовой конторы для врагов королевы!
— Сожгите всю эту корреспонденцию, и вы избавитесь от всяких затруднений! — посоветовал ему секретарь.
— Вероятно, я так и сделаю. В течение месяца я решу этот вопрос, а пока припрячьте все это, — сказал посланник и удалился из кабинета.
Немного спустя вошел Кингтон и приветливо поздоровался с Жереллем.
— Вы пришли очень кстати, — сказал француз, — в течение месяца я сдам вам весь запас накопившихся для королевы писем.
Кингтон обрадовался и условился с Жереллем, что он познакомит его с Грегори и Фелиппсом.
Встретившись после этого со своим начальником Валингэмом, он предложил ему:
— Милорд, необходимо королеве Марии Стюарт в Чартлее предоставить возможность свободно переписываться, тогда в наших руках будут несомненные улики.
Валингэм с восторгом принял это предложение и дал свое согласие. Грегори и Фелиппс были подкуплены без всяких затруднений, вступили на службу к Валингэму, но вместе с тем продолжали общаться с заговорщиками, чтобы оставаться в курсе дела.
Амиас Полэт получил необходимые указания от Валингэма и принял деятельное участие в этом провокационном деле. Вся переписка королевы теперь шла через руки Валингэма и его приспешников, все ее планы и намерения были известны ему. Это и объяснило перемену в обращении и чрезвычайную любезность и предупредительность сэра Полэта по отношению к Марии Стюарт.
Но, расставляя сети Марии Стюарт и ее приверженцам, Кингтон через своих агентов установил строгое наблюдение за тем, что происходило в кабинетах Мадрида, Парижа, Рима и даже в немецких придворных сферах. Для этих целей ему понадобилось значительное число агентов, которые, кроме своих прямых обязанностей, должны были еще следить друг за другом. Джиффорд, Полей и Мод были отправлены им во Францию. Вербуя новых агентов, он обратил внимание на рослого, веселого, добродушного молодого человека по имени Тичборн. Имущественное положение парня находилось далеко не в блестящем состоянии и из-за легкомыслия ему пришлось вести в Лондоне довольно сомнительное существование.
Однажды в обществе, где присутствовал и Кингтон, Тичборн позволил себе отозваться несколько пренебрежительно о британцах и всех приверженцах короля Иакова. Кингтон принял это к сведению и надеялся использовать это таким же образом, как то ему удалось с Джиффордом.
По уходе гостей Кингтон под благовидным предлогом задержался с Тичборном.
— Если я не ошибаюсь, — сказал ему Кингтон, — вы — приверженец несчастной королевы Марии?
— Я — шотландец, — ответил Тичборн, — а потому это естественно. А вы?
— Что касается меня, то… Скажите, вы посвящены в подробности заговора?
— Заговора? — переспросил Тичбор, чрезвычайно удивленный.
— Да! Существует заговор освободить Марию Стюарт и возвести ее на английский престол.
— Боже мой! И вы — участник этого заговора!
— Да! Я предполагал, что и вы — наш единомышленник, я был неосторожен, но надеюсь, что имею дело с честным человеком, который не станет доносить на меня!
— Будьте покойны — поспешно заявил Тичборн. — Я вообще никогда не выдаю, а тем более приверженцев Марии, напротив, если вы ближе познакомите меня с этим делом, то убедитесь, что я с готовностью приму участие в нем и готов на самопожертвование.
Кингтон ответил не сразу, как будто раздумывая о чем- то. По всему было видно, что он ошибся в Тичборне, рассчитывая встретить в нем соучастника заговора. Впрочем, это была не беда, так как молодой человек выразил готовность вступить в партию заговорщиков.
— Вы мне не доверяете? — огорчился Тичборн.
— О нет, вы не ошибаетесь! — ответил сыщик. — Я только раздумывал, как бы лучше всего познакомить вас с подробностями дела, сейчас у меня слишком мало времени на это.
— Как вам будет угодно! — сказал Тичборн. — Я всегда к вашим услугам.
Надеюсь, мы скоро свидимся, — заключил Кингтон и распростился со своим собеседником.
Тичборн был впоследствии вовлечен в заговор, но Кингтон ошибся, предполагая встретить в нем послушное орудие для своих целей. Напротив, Тичборн очень скоро потерял к нему доверие и прервал с ним всякие отношения по причинам, которые остались невыясненными.
Кингтон был взбешен поведением молодого человека, но решил щадить его до последнего момента, чтобы не разоблачить своей роли перед заговорщиками, и выжидал до поры до времени. А Чидьок Тичборн вошел в число тех пяти молодых людей, которые позднее хотели взять на себя дело убийства Елизаветы.
Не менее, чем Мария, была потрясена Елизавета, когда узнала о готовившемся против нее заговоре. Королева Англии узнала о нем от Бэрлея в присутствии Валингэма и Лейстера. Был при этом докладе и Кингтон. Елизавета в первый момент как бы окаменела, но затем разразилась бурным неистовством. Она плакала, кричала, яростно металась по комнате, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Когда ее возгласы стали несколько явственнее, можно было разобрать проклятия, относящиеся к Марии.
Присутствующие испуганно смотрели на нее. Бэрлей пытался несколько раз заговорить, но Елизавета не слушала его. Наконец ему удалось привлечь ее внимание.
— Ваше величество, — начал он, — вы не дали мне договорить. Неужели ваши верные слуги решились бы выступить перед вами с таким известием, если бы заранее не обезвредили ядовитого жала змеи?
Придя несколько в себя, Елизавета приказала Кингтону удалиться, а затем обратилась к присутствующим:
— Милорды, вы застигли меня врасплох. Поговорим теперь! Неужели, лорд Лейстер, вы ничего не знали о заговоре, грозящем моей жизни и всей стране?
По замешательству Лейстера видно было, что ему ничего не было известно.
— Ваше величество, — смущенно пробормотал он, — это, собственно, не входило в круг моих обязанностей.
Елизавета бросила на него уничтожающий взгляд, расположилась в кресле и предложила Бэрлею продолжать свой доклад. После Бэрлея давал отчет статс-секретарь Валингэм. Наконец позвали Кингтона. Выслушав его с полным вниманием, Елизавета сказала наконец:
— Так нужно схватить их всех!
— Простите, ваше величество, — заметил Валингэм, — эти люди, равно как и все доказательства их виновности, находятся в наших руках, но дело идет об установлении виновности еще одной особы, главной зачинщицы и злоумышленницы в этом деле. Быть может, было бы своевременно теперь положить конец всем этим козням, но я не мог решиться без позволения вашею величества.
Елизавета вздрогнула и взглянула на всех троих испытующим взором, из ее груди вырвался тяжелый вздох, а затем она медленно произнесла:
— Я даю вам на то мои полномочия, милорды, поступайте как находите необходимым; а теперь дайте мне возможность несколько отдохнуть. Вас, лорд Сесил, я желала бы видеть в скором времени.
Все четверо вышли из комнаты.
Какие же сети в этот раз были расставлены Кингтоном?
В туманное осеннее утро 1585 года в большой тюрьме одного из городов, где десять лет тому назад вспыхнуло крупное восстание, заметно было оживление. Причиной тому стало событие в тюремной жизни — арестанта выпускали на волю. Такое счастье выпало на долю некоего Андрея Полея, рабочего с мельницы. За участие в восстании он был приговорен к пятнадцатилетнему тюремному заключению, но, отбыв десять лет, нынче освобождался милостью королевы, простившей ему остальные пять лет.
Выйдя на свободу, первым делом Полей отправился в родное село, находившееся в десяти часах от города, чтобы повидаться с родными. Но каково было его удивление и разочарование, когда из его мельницы вышел навстречу совершенно чужой человек.
После некоторых расспросов Андрей Полей узнал, что в течение этих десяти лет многое изменилось. Мельник Полей со своим семейством покинул село и вероятнее всего уехал во Францию. Из односельчан, которые могли бы дать точные сведения, тоже никого не осталось.
Андрей грустно поник головой и, усталый, голодный, поплелся в ближайшую корчму, чтобы подкрепить свои силы. Там ему назвали человека из соседнего городка, который мог бы дать сведения относительно его родных.
Наутро Андрей Полей отправился в тот городок и нашел этого человека, священника иезуита Джильбера Джиффорда.
Джиффорд родился в графстве Стаффорд, его отец за религиозные убеждения был долгое время в заключении в Лондоне. Сам же он покинул Лондон двенадцати лет от роду, получив потом воспитание у иезуитов во Франции и приняв посвящение в реймской семинарии доктора Аллана.
Молодой Джиффорд снискал расположение своего начальства и проявлял участие к судьбе Марии Стюарт. На этом основании он выполнял роль посредника и наконец отправился в Лондон, где он вступил в сообщество Баллара и вызвался способствовать переписке Марии с Бабинггоном. Ему было известно о заговоре, он сообщался с наиболее видными участниками его, но сам, казалось, был склонен выдать партию и ждал только благоприятного случая.
Такой не замедлил представиться.
Во время своих частых разъездов Джиффорд однажды встретился в корчме с человеком, который заинтересовал его.
Оба они много путешествовали по Италии и Испании, оба оказались одних политических взглядов. Джиффорду так понравился новый знакомый, что он пригласил его к себе на другой день.
В назначенный час тот явился. После трапезы и приятных разговоров гость вдруг совершенно переменил тон и, вынув из кармана пистолет, сказал:
— Вы — иезуит. Вы — корреспондент Моргана и Пэджета в Париже, вы — участник заговора против нашей королевы. Я же — помощник начальника полиции Валингэма, меня зовут Кингтон. Теперь попытайтесь оправдаться, а я посмотрю, следует вас арестовать или нет.
Джиффорд, хотя и был озадачен таким оборотом дела, но сразу решил извлечь выгоду из этой встречи. Поэтому, спокойно улыбаясь, обратился к Кингтону:
— Мне очень приятно познакомиться с вами, я уже давно хотел сделать разоблачения, но не знал, куда обратиться, чтобы при этом не пострадать. Готов служить вам во всех отношениях.
После некоторых расспросов Кингтон и Джиффорд заключили союз. Джиффорд дал обязательство сообщать Кингтону о всех деяниях участников заговора и с этого момента стал вести двойную игру, причем его услуги Кинггону оплачивались, конечно, звонкой монетой.
Когда Полей явился к Джиффорду, тот как раз нуждался в надежном посыльном к Кингтону. Познакомившись с судьбой Андрея, он предложил ему поступить к нему на службу и отправил его в Лондон с письмом.
Полей явился в Лондон, Кингтон позаботилсяпристроить его на службу в полиции и сделать посредником в своей переписке с Джиффордом.
В письме, доставленном Кингтону Полеем, говорилось:
«Ваше мнение относительно Грегори и Фелиппса совершенно верно, но я полагаю, что их незачем арестовывать, а лучше склонить на свою сторону путем подкупа. Грегори обладает особым искусством вскрывать письма и снова запечатывать их, Фелиппс же умеет подобрать ключ к любому шифру. Оба могут пригодиться».
Грегори был членом сообщества Баллара и постоянным посетителем квартиры Мода. Таким образом, все нити заговора были в руках Кингтона довольно продолжительное время, а полиция могла действовать довольно успешно. Главную роль в этом играл Кингтон.
Французский посланник Шатонэф работал в кабинете вместе со своим секретарем Жереллем. Просматривая бумаги, он время от времени вздыхал. Наконец сказал:
— Я очень хотел бы избавиться от всей этой переписки! Роль посланника как-то не вяжется с ролью почтовой конторы для врагов королевы!
— Сожгите всю эту корреспонденцию, и вы избавитесь от всяких затруднений! — посоветовал ему секретарь.
— Вероятно, я так и сделаю. В течение месяца я решу этот вопрос, а пока припрячьте все это, — сказал посланник и удалился из кабинета.
Немного спустя вошел Кингтон и приветливо поздоровался с Жереллем.
— Вы пришли очень кстати, — сказал француз, — в течение месяца я сдам вам весь запас накопившихся для королевы писем.
Кингтон обрадовался и условился с Жереллем, что он познакомит его с Грегори и Фелиппсом.
Встретившись после этого со своим начальником Валингэмом, он предложил ему:
— Милорд, необходимо королеве Марии Стюарт в Чартлее предоставить возможность свободно переписываться, тогда в наших руках будут несомненные улики.
Валингэм с восторгом принял это предложение и дал свое согласие. Грегори и Фелиппс были подкуплены без всяких затруднений, вступили на службу к Валингэму, но вместе с тем продолжали общаться с заговорщиками, чтобы оставаться в курсе дела.
Амиас Полэт получил необходимые указания от Валингэма и принял деятельное участие в этом провокационном деле. Вся переписка королевы теперь шла через руки Валингэма и его приспешников, все ее планы и намерения были известны ему. Это и объяснило перемену в обращении и чрезвычайную любезность и предупредительность сэра Полэта по отношению к Марии Стюарт.
Но, расставляя сети Марии Стюарт и ее приверженцам, Кингтон через своих агентов установил строгое наблюдение за тем, что происходило в кабинетах Мадрида, Парижа, Рима и даже в немецких придворных сферах. Для этих целей ему понадобилось значительное число агентов, которые, кроме своих прямых обязанностей, должны были еще следить друг за другом. Джиффорд, Полей и Мод были отправлены им во Францию. Вербуя новых агентов, он обратил внимание на рослого, веселого, добродушного молодого человека по имени Тичборн. Имущественное положение парня находилось далеко не в блестящем состоянии и из-за легкомыслия ему пришлось вести в Лондоне довольно сомнительное существование.
Однажды в обществе, где присутствовал и Кингтон, Тичборн позволил себе отозваться несколько пренебрежительно о британцах и всех приверженцах короля Иакова. Кингтон принял это к сведению и надеялся использовать это таким же образом, как то ему удалось с Джиффордом.
По уходе гостей Кингтон под благовидным предлогом задержался с Тичборном.
— Если я не ошибаюсь, — сказал ему Кингтон, — вы — приверженец несчастной королевы Марии?
— Я — шотландец, — ответил Тичборн, — а потому это естественно. А вы?
— Что касается меня, то… Скажите, вы посвящены в подробности заговора?
— Заговора? — переспросил Тичбор, чрезвычайно удивленный.
— Да! Существует заговор освободить Марию Стюарт и возвести ее на английский престол.
— Боже мой! И вы — участник этого заговора!
— Да! Я предполагал, что и вы — наш единомышленник, я был неосторожен, но надеюсь, что имею дело с честным человеком, который не станет доносить на меня!
— Будьте покойны — поспешно заявил Тичборн. — Я вообще никогда не выдаю, а тем более приверженцев Марии, напротив, если вы ближе познакомите меня с этим делом, то убедитесь, что я с готовностью приму участие в нем и готов на самопожертвование.
Кингтон ответил не сразу, как будто раздумывая о чем- то. По всему было видно, что он ошибся в Тичборне, рассчитывая встретить в нем соучастника заговора. Впрочем, это была не беда, так как молодой человек выразил готовность вступить в партию заговорщиков.
— Вы мне не доверяете? — огорчился Тичборн.
— О нет, вы не ошибаетесь! — ответил сыщик. — Я только раздумывал, как бы лучше всего познакомить вас с подробностями дела, сейчас у меня слишком мало времени на это.
— Как вам будет угодно! — сказал Тичборн. — Я всегда к вашим услугам.
Надеюсь, мы скоро свидимся, — заключил Кингтон и распростился со своим собеседником.
Тичборн был впоследствии вовлечен в заговор, но Кингтон ошибся, предполагая встретить в нем послушное орудие для своих целей. Напротив, Тичборн очень скоро потерял к нему доверие и прервал с ним всякие отношения по причинам, которые остались невыясненными.
Кингтон был взбешен поведением молодого человека, но решил щадить его до последнего момента, чтобы не разоблачить своей роли перед заговорщиками, и выжидал до поры до времени. А Чидьок Тичборн вошел в число тех пяти молодых людей, которые позднее хотели взять на себя дело убийства Елизаветы.

Глава четырнадцатая
НОВЫЙ ЧУДОВИЩНЫЙ ПРОЦЕСС

 В своих планах Елизавета предполагала смерть Марии, но чтобы ни у кого не могло зародиться и тени подозрения относительно ее участия в этом деле. Валингэм понял желание королевы и хотел, чтобы вина за опасный заговор всецело пала на Марию Стюарт. Но ни письма Марии, ни ее планы и намерения не давали достаточного повода к смертному приговору над ней. Лишь с появлением в Лондоне Баллара и Саважа и ведением заговора под руководством Бабингтона дело приняло желательный оборот, так как теперь были все данные, что Мария одобряла намерения своих приверженцев.
Чтобы удобнее было следить за всей перепиской, Фелиппса отправили в Чартлей. Там на месте он должен был дешифровать письма Марии и, кроме того, втереться к ней в доверие, воспользовавшись тем, что она знала его с давних пор.
Но Марии помог инстинкт самосохранения — она отказалась от отношений с Фелиппсом. Или, быть может, ее оттолкнула его неприглядная внешность (Фелиппс был мал ростом, тщедушен, рыж, с лицом, изрытым оспой). Но тому оказалось достаточным ее писем к Бабингтону. Фелиппс, равно как и Полэт, позаботился о доносах, результатом чего был арест заговорщиков.
Лондон, вся Англия, можно сказать, и вся Европа были поражены разоблачением этого заговора. Следствие началось с допроса Бабингтона, Саважа и Баллара. Бабингтон держал себя на допросе с достоинством. Он сознался в своих намерениях и действиях, словом, признал свою вину. Так же держали себя Саваж, Баллар и многие другие их соучастники, подтвердив, таким образом, преступность заговора. Всем угрожал смертный приговор, вопрос был только в том, какого рода смерть должна была их постигнуть.
Перед загородным домом Бабингтона в Сэнт-Эгидиене, обычным местом сходок заговорщиков, в назначенный день были сооружены подмостки. Народу собралось несметное количество не только из Лондона, но и всех отдаленных окрестностей.
На лобном месте был еще раз прочтен смертный приговор Бабингтону, Саважу, Баллару, Тичборну, Баруэлю, Тильнаю и Абингтону. А затем всем им вспороли животы.
Зрелище было настолько отвратительное и потрясающее, что многим зевакам сделалось дурно. Тысячи людей разошлись до окончания казни. В толпе слышался громкий протест, несмотря на то, что заговорщики далеко не пользовались симпатиями народа.
Из-за такого грозного настроения толпы приговор над остальными преступниками пришлось несколько смягчать. Семеро остальных были на следующий день повешены в Лондоне на обычном лобном месте. Этим закончился первый акт заключительной драмы из жизни Марии Стюарт.
Вечером этого знаменательного дня в небольшую корчму в Грэйдоне сошлись Сэррей, Брай и Джонстон.
Время наложило свою печать на этих людей. Сэррей совершенно поседел, и его лицо было изборождено глубокими морщинами, но по его уверенным движениям было заметно, что силы еще не оставили его. Брая можно было сравнить со старым дубом, потерявшим листья и сучья, но еще могучим и способным противостоять невзгодам житейских бурь. Джонстон был моложе их и меньше перенес превратностей судьбы; по наружности он казался человеком в самом расцвете лет.
Сэррей и его спутники отправились было на север по делам заговора, но, узнав о событиях в Лондоне, возвратились обратно. Они явились слишком поздно, чтобы хоть как-то помочь делу, поэтому держались поодаль от развернувшихся роковых событий. Сэррей и Брай не решались показаться в Лондоне, поэтому Джонстон один отправился на разведку и, возвратившись, стал рассказывать, что удалось узнать. Сэррей, заложив руки за спину, крупными шагами ходил по комнате. Брай слушал, сидя за столом и подперев голову руками. Когда Джонстон окончил свой рассказ о казнях, Сэррей заметил:
— Иначе и не могло быть! Дело Марии погибло теперь окончательно.
— Безвозвратно! — согласился Брай.
— А что вы слышали о несчастной королеве? — спросил Сэррей.
— Королева находится еще в Чартлее, — ответил Джонстон, — но, говорят, ее перевезут в другое место. Куда — не знаю.
— Наверное, в Тауэр? — заметил граф.
— А оттуда — на несколько ступеней выше!… — прибавил Брай.
— Да, возможно! — продолжал Джонстон. — Говорят о процессе против нее, графа Арунделя и еще нескольких господ. Впрочем, вот список имен тех лиц, которые лишаются прав состояния и имущество которых конфискуется.
Сэррей просмотрел список и молча передал его Браю. Имена их обоих значились в этом списке. Брай тоже ничего не сказал.
— Говорили вы с леди Сэйтон? — спросил Сэррей.
— Да, милорд. Леди Джэн намерена возвратиться в Шотландию. Ее брат желает этого, и она повинуется. Леди дала понять, что люди в ее и вашем возрасте не могут ни о чем больше думать, кроме как о чисто дружеских отношениях.
— Она не написала мне ни строчки?
— Нет, милорд, она посчитала, что это может повредить как вам, так и ей.
— Она права, — сказал Сэррей с глубоким вздохом. — И эта надежда утрачена, как все надежды в моей жизни. Сэр Брай, наши жизненные задачи значительно упрощаются.
— По-видимому, так, милорд.
— Я намерен довести эту игру до конца, быть может, королеве Марии можно еще помочь чем-нибудь. Если вы желаете избрать себе иной путь, я ничего не имею против этого.
— Я остаюсь с вами! — сказал Брай.
— А вы, Джонстон?
— И я также, милорд.
— В таком случае поселимся на морском 6epery, где, в случае опасности, останется для нас свободный путь к бегству.
Все трое отправились в тот же вечер на восток графства.
Перед колесницей, на которой везли осужденных в Сэнт — Эгидиен, ехал впереди Кингтон с частью своих конных стражников. Этот бывший слуга Лейстера теперь чувствовал себя прочно и мог рассчитывать на повышение и награды.
У Кингтона несомненно имелись завистники, но все они смолкли, ослепленные его взлетом. Один только человек больше всех был раззадорен его удачами и готов был ему мстить — это Пельдрам. Но по некоторым причинам все медлил проявить свою месть по отношению к столь ненавистному ему человеку. Но теперь, когда Кингтон возглавлял парадное шествие, Пельдрам обложил городские ворота своими людьми.
Заметив Пельдрама, Кингтон иронически улыбнулся, но тем не менее очень вежливо поклонился своему бывшему товарищу. Эта насмешка была последней каплей, переполнившей терпение Пельдрама.
Волнение, вызванное в народе жестокой картиной казни, в первый день доставило много забот полиции, так что Пельдрам не мог думать ни о чем другом, кроме исполнения своих обязанностей, поэтому и на второй день он вернулся домой лишь к вечеру после затянувшихся служебных дел.
Пельдрам был холостяк, как и Кингтон, но по своим средствам жил вполне прилично и удобно, имел даже слугу, с помощью которого он разделся, поужинал и затем отпустил его. Но вскоре встал и оделся сперва в кожаную рубаху, как было принято в те времена одеваться для путешествия, а сверх нее надел верхнее платье. Потом отправился на конюшню, оседлал коня, вооружился и, покинув свое жилище, направился на восток.
На одном из первых попавшихся постоялых дворов Пельдрам оставил коня и пешком вернулся в город.
Кингтон после дней, даже недель, проведенных в беспрестанной суете, тоже решил было отдохнуть.
Но вот дверь отворилась, он оглянулся и побледнел, узнав Пельдрама, сумевшего проникнуть к нему без доклада.
— Это вы, сэр? — вот все, что он нашелся сказать в первый момент.
Пельдрам окинул взглядом всю комнату.
— Честь имею кланяться, сэр! — сказал он. — Не беспокойтесь, я пришел к вам по служебному делу.
Кингтон поднялся, несмотря на неожиданность визита, он не терял присутствия духа, ясно оценивая свое положение.
— Служебное дело? — повторил он с расстановкой, зорко следя за вошедшим. — Какое же?
Пельдрам медленным шагом направился к его постели.
— Стой! — крикнул Кингтон. — Остановитесь там! Мы можем говорить с вами и на расстоянии.
— Разве вы боитесь меня?
— Во всяком случае мы не имеем основания доверять друг другу, — ответил Кингтон, — поэтому делайте, как я вам говорю.
Пельдрам остановился, как бы наслаждаясь страхом злодея.
Кингтон был всегда отважен и не раз имел случай доказать это, но Пельдрам был тоже не из робкого десятка, к тому же разница в годах была в его пользу.
— Переходите к делу! — потребовал Кингтон. — Чем скорее мы покончим, тем лучше.
— Вы правы! — сказал Пельдрам и одним прыжком очутился близ своей жертвы, в один миг он всадил кинжал в грудь Кингтона, который упал с громким криком.
Пельдрам, не произнеся ни слова, вытащил кинжал из груди своего противника, очистил его от крови, набросил одеяло на скончавшегося преступника и вышел из комнаты.
Он вернулся к тому месту, где оставил своего коня, вскочил на него и направился из Лондона к северу.
В тот вечер многие высокопоставленные лица получили письма, доставленные загадочным образом. Одним из первых получил такое письмо первый лорд «Звездной палаты». В нем говорилось следующее:
В своих планах Елизавета предполагала смерть Марии, но чтобы ни у кого не могло зародиться и тени подозрения относительно ее участия в этом деле. Валингэм понял желание королевы и хотел, чтобы вина за опасный заговор всецело пала на Марию Стюарт. Но ни письма Марии, ни ее планы и намерения не давали достаточного повода к смертному приговору над ней. Лишь с появлением в Лондоне Баллара и Саважа и ведением заговора под руководством Бабингтона дело приняло желательный оборот, так как теперь были все данные, что Мария одобряла намерения своих приверженцев.
Чтобы удобнее было следить за всей перепиской, Фелиппса отправили в Чартлей. Там на месте он должен был дешифровать письма Марии и, кроме того, втереться к ней в доверие, воспользовавшись тем, что она знала его с давних пор.
Но Марии помог инстинкт самосохранения — она отказалась от отношений с Фелиппсом. Или, быть может, ее оттолкнула его неприглядная внешность (Фелиппс был мал ростом, тщедушен, рыж, с лицом, изрытым оспой). Но тому оказалось достаточным ее писем к Бабингтону. Фелиппс, равно как и Полэт, позаботился о доносах, результатом чего был арест заговорщиков.
Лондон, вся Англия, можно сказать, и вся Европа были поражены разоблачением этого заговора. Следствие началось с допроса Бабингтона, Саважа и Баллара. Бабингтон держал себя на допросе с достоинством. Он сознался в своих намерениях и действиях, словом, признал свою вину. Так же держали себя Саваж, Баллар и многие другие их соучастники, подтвердив, таким образом, преступность заговора. Всем угрожал смертный приговор, вопрос был только в том, какого рода смерть должна была их постигнуть.
Перед загородным домом Бабингтона в Сэнт-Эгидиене, обычным местом сходок заговорщиков, в назначенный день были сооружены подмостки. Народу собралось несметное количество не только из Лондона, но и всех отдаленных окрестностей.
На лобном месте был еще раз прочтен смертный приговор Бабингтону, Саважу, Баллару, Тичборну, Баруэлю, Тильнаю и Абингтону. А затем всем им вспороли животы.
Зрелище было настолько отвратительное и потрясающее, что многим зевакам сделалось дурно. Тысячи людей разошлись до окончания казни. В толпе слышался громкий протест, несмотря на то, что заговорщики далеко не пользовались симпатиями народа.
Из-за такого грозного настроения толпы приговор над остальными преступниками пришлось несколько смягчать. Семеро остальных были на следующий день повешены в Лондоне на обычном лобном месте. Этим закончился первый акт заключительной драмы из жизни Марии Стюарт.
Вечером этого знаменательного дня в небольшую корчму в Грэйдоне сошлись Сэррей, Брай и Джонстон.
Время наложило свою печать на этих людей. Сэррей совершенно поседел, и его лицо было изборождено глубокими морщинами, но по его уверенным движениям было заметно, что силы еще не оставили его. Брая можно было сравнить со старым дубом, потерявшим листья и сучья, но еще могучим и способным противостоять невзгодам житейских бурь. Джонстон был моложе их и меньше перенес превратностей судьбы; по наружности он казался человеком в самом расцвете лет.
Сэррей и его спутники отправились было на север по делам заговора, но, узнав о событиях в Лондоне, возвратились обратно. Они явились слишком поздно, чтобы хоть как-то помочь делу, поэтому держались поодаль от развернувшихся роковых событий. Сэррей и Брай не решались показаться в Лондоне, поэтому Джонстон один отправился на разведку и, возвратившись, стал рассказывать, что удалось узнать. Сэррей, заложив руки за спину, крупными шагами ходил по комнате. Брай слушал, сидя за столом и подперев голову руками. Когда Джонстон окончил свой рассказ о казнях, Сэррей заметил:
— Иначе и не могло быть! Дело Марии погибло теперь окончательно.
— Безвозвратно! — согласился Брай.
— А что вы слышали о несчастной королеве? — спросил Сэррей.
— Королева находится еще в Чартлее, — ответил Джонстон, — но, говорят, ее перевезут в другое место. Куда — не знаю.
— Наверное, в Тауэр? — заметил граф.
— А оттуда — на несколько ступеней выше!… — прибавил Брай.
— Да, возможно! — продолжал Джонстон. — Говорят о процессе против нее, графа Арунделя и еще нескольких господ. Впрочем, вот список имен тех лиц, которые лишаются прав состояния и имущество которых конфискуется.
Сэррей просмотрел список и молча передал его Браю. Имена их обоих значились в этом списке. Брай тоже ничего не сказал.
— Говорили вы с леди Сэйтон? — спросил Сэррей.
— Да, милорд. Леди Джэн намерена возвратиться в Шотландию. Ее брат желает этого, и она повинуется. Леди дала понять, что люди в ее и вашем возрасте не могут ни о чем больше думать, кроме как о чисто дружеских отношениях.
— Она не написала мне ни строчки?
— Нет, милорд, она посчитала, что это может повредить как вам, так и ей.
— Она права, — сказал Сэррей с глубоким вздохом. — И эта надежда утрачена, как все надежды в моей жизни. Сэр Брай, наши жизненные задачи значительно упрощаются.
— По-видимому, так, милорд.
— Я намерен довести эту игру до конца, быть может, королеве Марии можно еще помочь чем-нибудь. Если вы желаете избрать себе иной путь, я ничего не имею против этого.
— Я остаюсь с вами! — сказал Брай.
— А вы, Джонстон?
— И я также, милорд.
— В таком случае поселимся на морском 6epery, где, в случае опасности, останется для нас свободный путь к бегству.
Все трое отправились в тот же вечер на восток графства.
Перед колесницей, на которой везли осужденных в Сэнт — Эгидиен, ехал впереди Кингтон с частью своих конных стражников. Этот бывший слуга Лейстера теперь чувствовал себя прочно и мог рассчитывать на повышение и награды.
У Кингтона несомненно имелись завистники, но все они смолкли, ослепленные его взлетом. Один только человек больше всех был раззадорен его удачами и готов был ему мстить — это Пельдрам. Но по некоторым причинам все медлил проявить свою месть по отношению к столь ненавистному ему человеку. Но теперь, когда Кингтон возглавлял парадное шествие, Пельдрам обложил городские ворота своими людьми.
Заметив Пельдрама, Кингтон иронически улыбнулся, но тем не менее очень вежливо поклонился своему бывшему товарищу. Эта насмешка была последней каплей, переполнившей терпение Пельдрама.
Волнение, вызванное в народе жестокой картиной казни, в первый день доставило много забот полиции, так что Пельдрам не мог думать ни о чем другом, кроме исполнения своих обязанностей, поэтому и на второй день он вернулся домой лишь к вечеру после затянувшихся служебных дел.
Пельдрам был холостяк, как и Кингтон, но по своим средствам жил вполне прилично и удобно, имел даже слугу, с помощью которого он разделся, поужинал и затем отпустил его. Но вскоре встал и оделся сперва в кожаную рубаху, как было принято в те времена одеваться для путешествия, а сверх нее надел верхнее платье. Потом отправился на конюшню, оседлал коня, вооружился и, покинув свое жилище, направился на восток.
На одном из первых попавшихся постоялых дворов Пельдрам оставил коня и пешком вернулся в город.
Кингтон после дней, даже недель, проведенных в беспрестанной суете, тоже решил было отдохнуть.
Но вот дверь отворилась, он оглянулся и побледнел, узнав Пельдрама, сумевшего проникнуть к нему без доклада.
— Это вы, сэр? — вот все, что он нашелся сказать в первый момент.
Пельдрам окинул взглядом всю комнату.
— Честь имею кланяться, сэр! — сказал он. — Не беспокойтесь, я пришел к вам по служебному делу.
Кингтон поднялся, несмотря на неожиданность визита, он не терял присутствия духа, ясно оценивая свое положение.
— Служебное дело? — повторил он с расстановкой, зорко следя за вошедшим. — Какое же?
Пельдрам медленным шагом направился к его постели.
— Стой! — крикнул Кингтон. — Остановитесь там! Мы можем говорить с вами и на расстоянии.
— Разве вы боитесь меня?
— Во всяком случае мы не имеем основания доверять друг другу, — ответил Кингтон, — поэтому делайте, как я вам говорю.
Пельдрам остановился, как бы наслаждаясь страхом злодея.
Кингтон был всегда отважен и не раз имел случай доказать это, но Пельдрам был тоже не из робкого десятка, к тому же разница в годах была в его пользу.
— Переходите к делу! — потребовал Кингтон. — Чем скорее мы покончим, тем лучше.
— Вы правы! — сказал Пельдрам и одним прыжком очутился близ своей жертвы, в один миг он всадил кинжал в грудь Кингтона, который упал с громким криком.
Пельдрам, не произнеся ни слова, вытащил кинжал из груди своего противника, очистил его от крови, набросил одеяло на скончавшегося преступника и вышел из комнаты.
Он вернулся к тому месту, где оставил своего коня, вскочил на него и направился из Лондона к северу.
В тот вечер многие высокопоставленные лица получили письма, доставленные загадочным образом. Одним из первых получил такое письмо первый лорд «Звездной палаты». В нем говорилось следующее:
«Милорд, я хорошо знал, что нужно сделать, чтобы спасти честь верховного суда, поэтому не дожидался Ваших прямых указаний. Что касается меня, то я сделал все, что мог. Надеюсь, что Вы, ваше превосходительство, окажете мне свое покровительство в том случае, если меня будут преследовать. Если бы заговорщики одержали верх, Кингтон перешел бы на их сторону, в этом я убежден. Впрочем, место моего пребывания указывает Вам, какое я предприму решение, если мои услуги окажутся неоцененными. Гэнслоу-Гайд, 1586 г. Пельдрам».
Вторым лицом, к которому обратился Пельдрам, был лорд Лейстер.
«Милорд, — говорилось в его письме, — я освободил Вас от человека, который постоянно только и думал о том, как бы погубить Вас. Вам грозила бы полная гибель, если бы ему удалось добиться еще более высоких ступеней власти, чем теперь. Так примите же участие в моей судьбе и выхлопочите мне прощение. Ответ прикажите положить у белого креста в Гэнслоу-Гайде».
Третье письмо было адресовано лорду Бэрлею.
Пельдрам резко упрекал лорда в нарушении данного слова и грозил объявить всем об отношениях, если тот не помилует его, в противном случае он клялся, что будет продолжать мстить и организует воровскую шайку, которая будет грабить и разорять Лондон и его окрестности.
Четвертое письмо получил Валингэм.
«Милорд, — написал ему Пельдрам, — место, из которого я пишу Вам эти строки, уже само говорит за себя. На мой призыв за мной последуют все те, кто служит Вам теперь, и в особенности — кто имеет основание бояться Вас. Я поступил в „Звездную палату“ только для того, чтобы выследить Кингтона, но мне пришлось найти другую дорогу для мести, так как на избранном пути я не мог добиться поставленной дели. Кингтон убит, и если Вы действительно так умны, как это говорят, то Вы не только простите меня, но и назначите на место покойного; поверьте, что я могу служить Вам так же хорошо, как и он».
Это были очень смелые требования, исходящие от беглого убийцы, и все-таки они были приняты!
Валингэм сам вернул Пельдрама в Лондон и передал ему место убитого Кингтона.
Возможно, что смерть верного помощника была более на руку Валингэму, чем это можно было думать. Теперь ему уже не надо было делиться с кем бы то ни было славой и наградой.

Глава пятнадцатая
ОБВИНЕНИЕ МАРИИ СТЮАРТ

 Бэрлей и Валингэм добились теперь своей цели. У них в руках были ясные доказательства того, что Мария Стюарт не только интриговала против государственной безопасности Англии, но и принимала участие в заговоре на жизнь королевы Елизаветы. Эти доказательства заключались в показаниях некоторых арестованных, в показаниях, которые ожидались от других арестованных, в показаниях предателей и в переписке, которая была сразу раскрыта, так что удалось снять точные копии всех писем, которыми обменивалась Мария Стюарт с заговорщиками.
Теперь Елизавета имела случай избавиться уже на законном основании от своей соперницы и навсегда обезвредить ее.
Но всех этих улик, добытых Валингэмом при раскрытии заговора, было ему недостаточно. Он хотел иметь в руках более бесспорные улики. С этой целью он с самого начала изолировал двух человек, близко стоявших к Марии, от процесса, направленного против Бабингтона и его соучастников; эти лица должны были стать главными свидетелями обвинения, направленного против Марии Стюарт. Это были оба секретаря Марии, Кэрлей и Ноэ, которых задержали и арестовали на пути из Чартлея в Тиксаль.
Во время процесса над другими заговорщиками Валингэм приказал доставить обоих секретарей к себе на дом и там держать под строжайшим арестом. Из этого видно, какую важность придавал он этим лицам.
Только тогда, когда процесс Бабингтона был закончен и приговор суда приведен в исполнение, Валингэм снова занялся судьбой арестованных. Однажды он явился к своему шурину Бэрлею обсудить с ним дальнейшую возможность их использования в деле.
— Самым простым было бы судить и казнить их вместе со всеми другими заговорщиками, — сказал первый министр Елизаветы.
— Нет, милорд, — ответил Валингэм, — я много думал об этом. Этих секретарей нельзя назвать заговорщиками, так как в их обязанность совсем не входило доносить о том, что делала их повелительница, они были подчинены только ей и исполняли данное им приказание. Поэтому, если бы они фигурировали на процессе, ныне окончившемся, то их, наверное, оправдали бы. Мы должны использовать их другим образом.
— А именно?
— Об этом-то я и хочу поговорить с вами, — ответил Валингэм. — Для нас совершенно безразлично, умрут эти люди или останутся в живых, ведь они были безвольным орудием в чужих руках. Но мы могли бы их так запугать, что получили бы от них показания, направленные против бывшей шотландской королевы.
— В этом есть свой резон, — задумчиво сказал Бэрлей.
— Так вы все еще стараетесь вести намеченную вами линию?
— Пока я не вижу оснований отступать от нее, — ответил Валингэм, — пожалуй, больше и не представится такой счастливой возможности стряхнуть кошмар, угнетающий столько времени Англию. Когда у меня в руках будут показания Кэрлея и Ноэ, я представлю на обсуждение государственного совета предложение учинить формальный процесс против настоящей виновницы всех этих злодеяний.
— Да, да! — оживленно воскликнул Бэрлей. — Это действительно — самый верный путь.
Валингэм с благодарной улыбкой поклонился ему и вышел.
Вернувшись домой, он послал за Пельдрамом.
Лорд-президент «Звездной палаты», Бэрлей и Лейстер приняли Пельдрама после его возвращения в Лондон достаточно прохладно, но он все-таки убедился, что они не питают к нему дурных чувств. Бэрлей даже добился для него полного прощения королевы. Между прочим, Елизавета помянула убитого Кингтона — человека, который сделал так много для ее безопасности, лишь одной фразой:
— Жаль! Это был полезный человек.
Только один Валингэм не захотел встретиться с Пельдрамом, а просто выслал ему с лакеем патент на новую должность.
Такое отношение насторожило шотландца. И теперь, когда ему передали приказание государственного секретаря немедленно явиться, Пельдрам не мог отделаться от чувства некоторого беспокойства. Тем не менее он поспешил одеться и отправиться по вызову, сознавая, что от этого свидания, быть может, зависит вся его будущность.
Когда он вошел в кабинет Валингэма, тот с ног до головы окинул его пытливым взглядом. Поклонившись, Пельдрам ждал, пока с ним заговорят.
— Знаете ли вы, — начал государственный секретарь, — кто и что вы в сущности такое?
— Кажется, знаю, — ответил Пельдрам. — Я — орудие в ваших руках, вещь, которой пользуются, пока она нужна, и которую выбросят вон, когда в ней отпадет необходимость.
— Подобный ответ избавляет вас от нагоняя, — улыбаясь, ответил Валингэм. — Вы, очевидно, нашли, что из Кингтона я уже извлек всю возможную пользу?
— Да, милорд.
— И думаете, что можете заменить мне его?
— Вполне, милорд!
— Вы слишком много берете на себя. Кингтон отличался умом, храбростью и знанием обстоятельств момента.
— Я, разумеется, не могу знать многое так, как знал он, но я тоже храбр и неглуп. Кроме того, я — верный слуга, что никак нельзя сказать про Кингтона.
— В этом отношении я не могу пожаловаться на него.
— Возможно, ведь его подлость хорошо оплачивалась на вашей службе!
Валингэм закусил губы и отвернулся от Пельдрама.
— Может быть, и так, — произнес он после паузы. — Ну-с, посмотрим, как вы замените его. Правда, я не рассчитываю, что нам в ближайшем будущем снова предстоят такие истории, как в последнее время, но необходимо позаботиться о том, чтобы они не могли повториться. Не знакомы ли вы с секретарями Марии Стюарт?
— Я знаю их только по именам, не более.
— Ну да это неважно. Вы должны втереться к ним в доверие и постараться напугать их возможностью следствия и суда.
— Слушаю-с, милорд.
— При этом вы должны вселить в них надежду, что имеется возможность вылезть сухими из воды.
— А какова эта возможность?
— Если они дадут показания против их прежней госпожи.
— Я настрою их как следует!
— В настоящий момент они находятся здесь, во дворце; вы отправите их в Тауэр, это поможет вам поближе сойтись с ними, так как в Тауэре они останутся под вашим специальным надзором.
— Великолепно, милорд!
Валингэм отпустил Пельдрама, и тот немедленно принялся за исполнение возложенного на него поручения. Было ли оно ему по душе — неизвестно, но к Марии Стюарт он никогда не чувствовал особенной симпатии, поэтому ему не приходилось употреблять насилие над собой, чтобы выполнить все, что от него требовалось.
Кэрлей и Ноэ были допрошены сейчас же после ареста, но не признали справедливости возведенного на них обвинения, а относительно того, что касалось Марии Стюарт, отговорились полнейшим неведением.
Их беспокойство отчасти улеглось, когда из Тауэра их переправили в дом Валингэма, но вскоре перед ними явились новые заботы, Будучи изолированы от всех, не имея ни малейшего представления о том, что делалось в то время на свете, они терзались неизвестностью, которая была для них тем тяжелее, что совесть их была нечиста. Их арест не отличался особенной строгостью, и условия жизни были неплохи. Но лакеи Валингэма отличались полнейшей непроницаемостью, и арестованным не удавалось выпытать у них ни единого слова. Тем не менее оба подозревали, что происходит что-то очень важное, в чем им уготована определенная роль.
В таком состоянии духа секретарей и застал Пельдрам, когда вошел к ним и резким тоном заявил, что их снова переводят в Тауэр, а на приготовления дают два часа. После этого заявления он ушел, чтобы позаботиться о конной страже, которая должна была конвоировать арестантов, а испуганные секретари Марии приготовились к самому худшему.
Когда Пельдрам явился снова, он застал их в страшно угнетенном состоянии духа и решил притвориться, будто тронут их судьбой.
— Только носов не вешать, друзья! — сказал он. — Если бы с вами хотели поступить, как с остальными заговорщиками, ваша песенка уже давно была бы спета!
— Чья песенка? — испуганно спросил Кэрлей.
— Черт возьми! Да вы ничего не знаете? — удивился Пельдрам.
— Мы изолированы от всего света, — ответил Ноэ. — Пожалуйста, расскажите, что произошло!
— Да, если дело обстоит так, то я сам ничего не знаю, — ответил Пельдрам.
— О, пожалуйста, расскажите! — взмолился Ноэ. — Вы не можете представить, как мучит нас эта неизвестность!
— Ну что же, в конце концов это ничему повредить не может! — согласился Пельдрам. — Так слушайте: все сообщество заговорщиков казнено, за исключением вас и тех, которые успели сбежать.
— Ну а королева? — вырвалось у Кэрлея.
Ноэ бросил на товарища укоризненный взгляд.
Пельдрам насторожился.
— О вашей королеве я не буду говорить, — ответил он.
— Могу лишь добавить, что с вами собираются поступить так же, как с ними. Выяснилось, что вы… Впрочем, это меня не касается.
— Что вас не касается?
— Выяснилось, что вы принимали близкое участие в замыслах Марии Стюарт; таким образом, вам не избежать наказания, если только вы что-либо умолчите в своих показаниях.
— Да мы ничего не знаем о делах королевы! — поспешил возразить Ноэ.
— Королева не замышляла ничего дурного! — прибавил Кэрлей.
— Меня это, господа, нисколько не касается, — с притворным равнодушием махнул рукой Пельдрам. — Ну, вы готовы?
— Мы к вашим услугам.
Оба секретаря последовали за Пельдрамом и под сильным конвоем были отправлены в Тауэр, где их приняли в свои объятия мрачные подземелья, на страже которых стояли сумрачные тюремщики.
Как могло казаться на первый взгляд, Пельдрам принялся за выполнение возложенного на него поручения довольно-таки неуклюжим образом, но на самом деле это был совершенно правильный путь, и разлученные между собой арестанты на все лады день и ночь повторяли про себя его слова. Каждому из них становилось совершенно ясно, что более всего может выиграть тот, кто первый принесет повинную.
Пельдрам неоднократно посещал их в камерах, не упуская случая внушать им каждый раз то же самое. Хотя никто из них не сделал признаний, но по истечении некоторого времени Пельдрам почувствовал, что почва достаточно подготовлена, и доложил об этом Валингэму.
Государственный секретарь только и ждал этого.
Чтобы выслушать показания обоих секретарей, была назначена целая комиссия под председательством его самого, разумеется, остальные члены этой комиссии сидели там только для вида.
В день допроса перед комиссией привели сначала одного Ноэ, и Валингэм обратился к нему необыкновенно ласково.
— Сэр, — сказал он, обращаясь к Ноэ, — ваша повелительница очень глубоко провинилась перед законом, и весьма возможно, что все ее соучастники вместе с ней должны будут предстать перед судом. Но соучастниками могли быть только лица, которые вели ее корреспонденцию, то есть секретари — вы и Кэрлей!
— Милорд, — после некоторого раздумья ответил допрашиваемый, — мне неизвестно никакой вины за королевой Марией, а тем менее могу быть виновным в чем-либо я сам.
— Вы хотите, может быть, сказать этим, что Мария Стюарт сама вела всю корреспонденцию?
— Да, она сама вела всю свою корреспонденцию, но то, что я видел, — была самая невинная переписка. Впрочем, отправкой корреспонденции заведовал не я, а Кэрлей.
Валингэм приказал увести Ноэ и привести Кэрлея.
Первые ответы Кэрлея были в общих чертах похожи на ответы Ноэ, но, когда ему предъявили показания Ноэ, что отправкой корреспонденции заведовал он, Кэрлей испугался и показал, что Мария Стюарт диктовала Ноэ все письма, и Ноэ потом исправлял ошибки и правил слог. Вновь вызванному Ноэ был предъявлен этот оговор, и он был принужден признаться, что это так и было. Но он добавил, что Кэрлей шифровал все письма и заботился о доставлении их по адресатам. Кэрлею пришлось признаться в этом, и, когда их обоих уличили в отрицании или, по крайней мере, в сокрытии важных показаний, им стали грозить пыткой. Напуганный этим, Ноэ признался, что письмо к Бабингтону, перехваченное властями и касавшееся планов бегства и деталей заговора, Мария Стюарт написала совершенно самостоятельно. Кэрлей должен был сознаться, что и это письмо он тоже шифровал. В конце концов оба секретаря сдались под угрозами и показали, что Мария Стюарт была отлично осведомлена о ходе заговора и замыслах заговорщиков.
На этом допрос был закончен. Теперь власти имели в руках все доказательства участия Марии Стюарт в заговоре.
Валингэм спешно принялся за доклад государственному совету, в этом докладе он объединил все показания и улики, что должно было послужить фундаментом для обвинения Марии Стюарт.
Между прочим, когда заговор был открыт, симпатии народных масс оказались на стороне Елизаветы, что доказывало, насколько в воображении заговорщиков были преувеличены любовь и сочувствие населения к Марии Стюарт. Очень часто на площадях и на народных собраниях раздавались голоса, проклинавшие Марию и ругавшие ее бранными словами, порочащими ее репутацию и честь. Но в то же время и жестокость расправы Елизаветы с заговорщиками вызывала порицания толпы.
Валингэм, разумеется, часто и подолгу совещался с Бэрлеем о ходе следствия против Марии, представил ему полный доклад, и, когда наконец увидал, что может предъявить шотландской королеве веское обвинение, то заставил шурина пойти на решительный шаг.
Но для этого прежде всего надо было получить согласие Елизаветы. Из всего образа действий английской королевы довольно ярко проступает ее характер; при все своей энергии она прежде всего оставалась женщиной, боящейся последнего, решительного шага. Поэтому каждый раз, когда Бэрлей заговаривал с ней о судьбе Марии Стюарт, Елизавета впадала в нерешительность и не могла побороть свои колебания. В конце концов это так надоело Бэрлею, что он заявил Валингэму о необходимости прекратить все это дело.
— Милорд, — ответил Валингэм, — я понимаю вас. Но будьте так добры, возьмите меня как-нибудь с собой, когда вы отправитесь на совещание с королевой.
Так и было сделано. И Валингэм напомнил королеве обо всем, что замышляли заговорщики. Он указал, что в стране не может наступить успокоение, пока существует причина волнений — Мария Стюарт. Сослался на то, что короли могут прощать личные обиды, но не имеют права подвергать страну вечной опасности, а до тех пор, пока не будет покончено с Марией Стюарт, Англии будет грозить постоянная опасность и извне, и изнутри.
Елизавета была бы очень рада, если бы ее уговорили, но она именно не хотела, чтобы все дело получило окраску личной мести с ее стороны.
Но Валингэм был наготове и тут.
— Ваше величество, — ответил он — народ требует от вас справедливости. Пусть сам народ, в лице своих представителей — первых пэров государства, решит судьбу виновницы вечных беспорядков. Пусть специально вами назначенная комиссия выслушает мой доклад и вынесет свое решение.
— Допустим, что это так и будет, — сказала королева, — но ведь короли и государи всей земли ревностно отнесутся к приговору коронованной особе, и все они станут моими врагами, если этот приговор будет чересчур суров.
— Быть может, вы, ваше величество, соблаговолите ответить мне, — возразил Валингэм, — какой, собственно, страны государыней является Мария Стюарт?
Елизавета замялась.
— Выгнанная собственными подданными и преследуемая за преступления, — продолжал государственный секретарь, — она в течение девятнадцати лет только и занимается тем, что сеет раздоры и мятеж в стране, которая приняла ее, дала ей кров и защиту. Мария Стюарт уже давно извергнута из сонма коронованных лиц.
Елизавета не могла не согласиться с этим, так как отлично видела всю свою выгоду в такой постановке вопроса. Но она была умна и изворотлива. Поэтому не взяла на себя ответственность выносить приговор Марии Стюарт, а, как советовал Валингэм, передала дело решению совета пэров государства.
Как только была сделана такая уступка королевы, сейчас же был созван Тайный совет, которому и предъявили все улики и доказательства виновности Марии Стюарт. Пэры, принимавшие участие в этом совещании, высказывались за то, чтобы Мария была подвергнута еще более строгому заключению, чем до сих пор, большинство высказалось за смертный приговор, а Лейстер, как говорят, даже сделал предложение просто отравить ее. Но Валингэм, заранее уверенный в исходе затеваемого дела, все-таки настаивал, чтобы всему делу был придан вид официального судебного процесса, и это предложение было принято.
В конце концов совет пэров выделил из своего состава сорок шесть человек для участия в судебном заседании, которое должно было выяснить виновность Марии Стюарт. Председательство в этом суде совет предоставил канцлеру Бромлею, о чем был издан 5 октября 1586 года особый указ, привлекший к суду Марию Стюарт, С юридической стороны совет основывался на особом законе, изданном при Эдуарде III и касавшемся государственных предателей, бунтовщиков и зачинщиков смут.
Членам суда было предписано немедленно отправиться в Фосрингай, присутствовать там в судебных прениях и потом вынести приговор, И вскоре мир стал свидетелем такой драмы, подобной которой еще никогда не было.
Бэрлей и Валингэм добились теперь своей цели. У них в руках были ясные доказательства того, что Мария Стюарт не только интриговала против государственной безопасности Англии, но и принимала участие в заговоре на жизнь королевы Елизаветы. Эти доказательства заключались в показаниях некоторых арестованных, в показаниях, которые ожидались от других арестованных, в показаниях предателей и в переписке, которая была сразу раскрыта, так что удалось снять точные копии всех писем, которыми обменивалась Мария Стюарт с заговорщиками.
Теперь Елизавета имела случай избавиться уже на законном основании от своей соперницы и навсегда обезвредить ее.
Но всех этих улик, добытых Валингэмом при раскрытии заговора, было ему недостаточно. Он хотел иметь в руках более бесспорные улики. С этой целью он с самого начала изолировал двух человек, близко стоявших к Марии, от процесса, направленного против Бабингтона и его соучастников; эти лица должны были стать главными свидетелями обвинения, направленного против Марии Стюарт. Это были оба секретаря Марии, Кэрлей и Ноэ, которых задержали и арестовали на пути из Чартлея в Тиксаль.
Во время процесса над другими заговорщиками Валингэм приказал доставить обоих секретарей к себе на дом и там держать под строжайшим арестом. Из этого видно, какую важность придавал он этим лицам.
Только тогда, когда процесс Бабингтона был закончен и приговор суда приведен в исполнение, Валингэм снова занялся судьбой арестованных. Однажды он явился к своему шурину Бэрлею обсудить с ним дальнейшую возможность их использования в деле.
— Самым простым было бы судить и казнить их вместе со всеми другими заговорщиками, — сказал первый министр Елизаветы.
— Нет, милорд, — ответил Валингэм, — я много думал об этом. Этих секретарей нельзя назвать заговорщиками, так как в их обязанность совсем не входило доносить о том, что делала их повелительница, они были подчинены только ей и исполняли данное им приказание. Поэтому, если бы они фигурировали на процессе, ныне окончившемся, то их, наверное, оправдали бы. Мы должны использовать их другим образом.
— А именно?
— Об этом-то я и хочу поговорить с вами, — ответил Валингэм. — Для нас совершенно безразлично, умрут эти люди или останутся в живых, ведь они были безвольным орудием в чужих руках. Но мы могли бы их так запугать, что получили бы от них показания, направленные против бывшей шотландской королевы.
— В этом есть свой резон, — задумчиво сказал Бэрлей.
— Так вы все еще стараетесь вести намеченную вами линию?
— Пока я не вижу оснований отступать от нее, — ответил Валингэм, — пожалуй, больше и не представится такой счастливой возможности стряхнуть кошмар, угнетающий столько времени Англию. Когда у меня в руках будут показания Кэрлея и Ноэ, я представлю на обсуждение государственного совета предложение учинить формальный процесс против настоящей виновницы всех этих злодеяний.
— Да, да! — оживленно воскликнул Бэрлей. — Это действительно — самый верный путь.
Валингэм с благодарной улыбкой поклонился ему и вышел.
Вернувшись домой, он послал за Пельдрамом.
Лорд-президент «Звездной палаты», Бэрлей и Лейстер приняли Пельдрама после его возвращения в Лондон достаточно прохладно, но он все-таки убедился, что они не питают к нему дурных чувств. Бэрлей даже добился для него полного прощения королевы. Между прочим, Елизавета помянула убитого Кингтона — человека, который сделал так много для ее безопасности, лишь одной фразой:
— Жаль! Это был полезный человек.
Только один Валингэм не захотел встретиться с Пельдрамом, а просто выслал ему с лакеем патент на новую должность.
Такое отношение насторожило шотландца. И теперь, когда ему передали приказание государственного секретаря немедленно явиться, Пельдрам не мог отделаться от чувства некоторого беспокойства. Тем не менее он поспешил одеться и отправиться по вызову, сознавая, что от этого свидания, быть может, зависит вся его будущность.
Когда он вошел в кабинет Валингэма, тот с ног до головы окинул его пытливым взглядом. Поклонившись, Пельдрам ждал, пока с ним заговорят.
— Знаете ли вы, — начал государственный секретарь, — кто и что вы в сущности такое?
— Кажется, знаю, — ответил Пельдрам. — Я — орудие в ваших руках, вещь, которой пользуются, пока она нужна, и которую выбросят вон, когда в ней отпадет необходимость.
— Подобный ответ избавляет вас от нагоняя, — улыбаясь, ответил Валингэм. — Вы, очевидно, нашли, что из Кингтона я уже извлек всю возможную пользу?
— Да, милорд.
— И думаете, что можете заменить мне его?
— Вполне, милорд!
— Вы слишком много берете на себя. Кингтон отличался умом, храбростью и знанием обстоятельств момента.
— Я, разумеется, не могу знать многое так, как знал он, но я тоже храбр и неглуп. Кроме того, я — верный слуга, что никак нельзя сказать про Кингтона.
— В этом отношении я не могу пожаловаться на него.
— Возможно, ведь его подлость хорошо оплачивалась на вашей службе!
Валингэм закусил губы и отвернулся от Пельдрама.
— Может быть, и так, — произнес он после паузы. — Ну-с, посмотрим, как вы замените его. Правда, я не рассчитываю, что нам в ближайшем будущем снова предстоят такие истории, как в последнее время, но необходимо позаботиться о том, чтобы они не могли повториться. Не знакомы ли вы с секретарями Марии Стюарт?
— Я знаю их только по именам, не более.
— Ну да это неважно. Вы должны втереться к ним в доверие и постараться напугать их возможностью следствия и суда.
— Слушаю-с, милорд.
— При этом вы должны вселить в них надежду, что имеется возможность вылезть сухими из воды.
— А какова эта возможность?
— Если они дадут показания против их прежней госпожи.
— Я настрою их как следует!
— В настоящий момент они находятся здесь, во дворце; вы отправите их в Тауэр, это поможет вам поближе сойтись с ними, так как в Тауэре они останутся под вашим специальным надзором.
— Великолепно, милорд!
Валингэм отпустил Пельдрама, и тот немедленно принялся за исполнение возложенного на него поручения. Было ли оно ему по душе — неизвестно, но к Марии Стюарт он никогда не чувствовал особенной симпатии, поэтому ему не приходилось употреблять насилие над собой, чтобы выполнить все, что от него требовалось.
Кэрлей и Ноэ были допрошены сейчас же после ареста, но не признали справедливости возведенного на них обвинения, а относительно того, что касалось Марии Стюарт, отговорились полнейшим неведением.
Их беспокойство отчасти улеглось, когда из Тауэра их переправили в дом Валингэма, но вскоре перед ними явились новые заботы, Будучи изолированы от всех, не имея ни малейшего представления о том, что делалось в то время на свете, они терзались неизвестностью, которая была для них тем тяжелее, что совесть их была нечиста. Их арест не отличался особенной строгостью, и условия жизни были неплохи. Но лакеи Валингэма отличались полнейшей непроницаемостью, и арестованным не удавалось выпытать у них ни единого слова. Тем не менее оба подозревали, что происходит что-то очень важное, в чем им уготована определенная роль.
В таком состоянии духа секретарей и застал Пельдрам, когда вошел к ним и резким тоном заявил, что их снова переводят в Тауэр, а на приготовления дают два часа. После этого заявления он ушел, чтобы позаботиться о конной страже, которая должна была конвоировать арестантов, а испуганные секретари Марии приготовились к самому худшему.
Когда Пельдрам явился снова, он застал их в страшно угнетенном состоянии духа и решил притвориться, будто тронут их судьбой.
— Только носов не вешать, друзья! — сказал он. — Если бы с вами хотели поступить, как с остальными заговорщиками, ваша песенка уже давно была бы спета!
— Чья песенка? — испуганно спросил Кэрлей.
— Черт возьми! Да вы ничего не знаете? — удивился Пельдрам.
— Мы изолированы от всего света, — ответил Ноэ. — Пожалуйста, расскажите, что произошло!
— Да, если дело обстоит так, то я сам ничего не знаю, — ответил Пельдрам.
— О, пожалуйста, расскажите! — взмолился Ноэ. — Вы не можете представить, как мучит нас эта неизвестность!
— Ну что же, в конце концов это ничему повредить не может! — согласился Пельдрам. — Так слушайте: все сообщество заговорщиков казнено, за исключением вас и тех, которые успели сбежать.
— Ну а королева? — вырвалось у Кэрлея.
Ноэ бросил на товарища укоризненный взгляд.
Пельдрам насторожился.
— О вашей королеве я не буду говорить, — ответил он.
— Могу лишь добавить, что с вами собираются поступить так же, как с ними. Выяснилось, что вы… Впрочем, это меня не касается.
— Что вас не касается?
— Выяснилось, что вы принимали близкое участие в замыслах Марии Стюарт; таким образом, вам не избежать наказания, если только вы что-либо умолчите в своих показаниях.
— Да мы ничего не знаем о делах королевы! — поспешил возразить Ноэ.
— Королева не замышляла ничего дурного! — прибавил Кэрлей.
— Меня это, господа, нисколько не касается, — с притворным равнодушием махнул рукой Пельдрам. — Ну, вы готовы?
— Мы к вашим услугам.
Оба секретаря последовали за Пельдрамом и под сильным конвоем были отправлены в Тауэр, где их приняли в свои объятия мрачные подземелья, на страже которых стояли сумрачные тюремщики.
Как могло казаться на первый взгляд, Пельдрам принялся за выполнение возложенного на него поручения довольно-таки неуклюжим образом, но на самом деле это был совершенно правильный путь, и разлученные между собой арестанты на все лады день и ночь повторяли про себя его слова. Каждому из них становилось совершенно ясно, что более всего может выиграть тот, кто первый принесет повинную.
Пельдрам неоднократно посещал их в камерах, не упуская случая внушать им каждый раз то же самое. Хотя никто из них не сделал признаний, но по истечении некоторого времени Пельдрам почувствовал, что почва достаточно подготовлена, и доложил об этом Валингэму.
Государственный секретарь только и ждал этого.
Чтобы выслушать показания обоих секретарей, была назначена целая комиссия под председательством его самого, разумеется, остальные члены этой комиссии сидели там только для вида.
В день допроса перед комиссией привели сначала одного Ноэ, и Валингэм обратился к нему необыкновенно ласково.
— Сэр, — сказал он, обращаясь к Ноэ, — ваша повелительница очень глубоко провинилась перед законом, и весьма возможно, что все ее соучастники вместе с ней должны будут предстать перед судом. Но соучастниками могли быть только лица, которые вели ее корреспонденцию, то есть секретари — вы и Кэрлей!
— Милорд, — после некоторого раздумья ответил допрашиваемый, — мне неизвестно никакой вины за королевой Марией, а тем менее могу быть виновным в чем-либо я сам.
— Вы хотите, может быть, сказать этим, что Мария Стюарт сама вела всю корреспонденцию?
— Да, она сама вела всю свою корреспонденцию, но то, что я видел, — была самая невинная переписка. Впрочем, отправкой корреспонденции заведовал не я, а Кэрлей.
Валингэм приказал увести Ноэ и привести Кэрлея.
Первые ответы Кэрлея были в общих чертах похожи на ответы Ноэ, но, когда ему предъявили показания Ноэ, что отправкой корреспонденции заведовал он, Кэрлей испугался и показал, что Мария Стюарт диктовала Ноэ все письма, и Ноэ потом исправлял ошибки и правил слог. Вновь вызванному Ноэ был предъявлен этот оговор, и он был принужден признаться, что это так и было. Но он добавил, что Кэрлей шифровал все письма и заботился о доставлении их по адресатам. Кэрлею пришлось признаться в этом, и, когда их обоих уличили в отрицании или, по крайней мере, в сокрытии важных показаний, им стали грозить пыткой. Напуганный этим, Ноэ признался, что письмо к Бабингтону, перехваченное властями и касавшееся планов бегства и деталей заговора, Мария Стюарт написала совершенно самостоятельно. Кэрлей должен был сознаться, что и это письмо он тоже шифровал. В конце концов оба секретаря сдались под угрозами и показали, что Мария Стюарт была отлично осведомлена о ходе заговора и замыслах заговорщиков.
На этом допрос был закончен. Теперь власти имели в руках все доказательства участия Марии Стюарт в заговоре.
Валингэм спешно принялся за доклад государственному совету, в этом докладе он объединил все показания и улики, что должно было послужить фундаментом для обвинения Марии Стюарт.
Между прочим, когда заговор был открыт, симпатии народных масс оказались на стороне Елизаветы, что доказывало, насколько в воображении заговорщиков были преувеличены любовь и сочувствие населения к Марии Стюарт. Очень часто на площадях и на народных собраниях раздавались голоса, проклинавшие Марию и ругавшие ее бранными словами, порочащими ее репутацию и честь. Но в то же время и жестокость расправы Елизаветы с заговорщиками вызывала порицания толпы.
Валингэм, разумеется, часто и подолгу совещался с Бэрлеем о ходе следствия против Марии, представил ему полный доклад, и, когда наконец увидал, что может предъявить шотландской королеве веское обвинение, то заставил шурина пойти на решительный шаг.
Но для этого прежде всего надо было получить согласие Елизаветы. Из всего образа действий английской королевы довольно ярко проступает ее характер; при все своей энергии она прежде всего оставалась женщиной, боящейся последнего, решительного шага. Поэтому каждый раз, когда Бэрлей заговаривал с ней о судьбе Марии Стюарт, Елизавета впадала в нерешительность и не могла побороть свои колебания. В конце концов это так надоело Бэрлею, что он заявил Валингэму о необходимости прекратить все это дело.
— Милорд, — ответил Валингэм, — я понимаю вас. Но будьте так добры, возьмите меня как-нибудь с собой, когда вы отправитесь на совещание с королевой.
Так и было сделано. И Валингэм напомнил королеве обо всем, что замышляли заговорщики. Он указал, что в стране не может наступить успокоение, пока существует причина волнений — Мария Стюарт. Сослался на то, что короли могут прощать личные обиды, но не имеют права подвергать страну вечной опасности, а до тех пор, пока не будет покончено с Марией Стюарт, Англии будет грозить постоянная опасность и извне, и изнутри.
Елизавета была бы очень рада, если бы ее уговорили, но она именно не хотела, чтобы все дело получило окраску личной мести с ее стороны.
Но Валингэм был наготове и тут.
— Ваше величество, — ответил он — народ требует от вас справедливости. Пусть сам народ, в лице своих представителей — первых пэров государства, решит судьбу виновницы вечных беспорядков. Пусть специально вами назначенная комиссия выслушает мой доклад и вынесет свое решение.
— Допустим, что это так и будет, — сказала королева, — но ведь короли и государи всей земли ревностно отнесутся к приговору коронованной особе, и все они станут моими врагами, если этот приговор будет чересчур суров.
— Быть может, вы, ваше величество, соблаговолите ответить мне, — возразил Валингэм, — какой, собственно, страны государыней является Мария Стюарт?
Елизавета замялась.
— Выгнанная собственными подданными и преследуемая за преступления, — продолжал государственный секретарь, — она в течение девятнадцати лет только и занимается тем, что сеет раздоры и мятеж в стране, которая приняла ее, дала ей кров и защиту. Мария Стюарт уже давно извергнута из сонма коронованных лиц.
Елизавета не могла не согласиться с этим, так как отлично видела всю свою выгоду в такой постановке вопроса. Но она была умна и изворотлива. Поэтому не взяла на себя ответственность выносить приговор Марии Стюарт, а, как советовал Валингэм, передала дело решению совета пэров государства.
Как только была сделана такая уступка королевы, сейчас же был созван Тайный совет, которому и предъявили все улики и доказательства виновности Марии Стюарт. Пэры, принимавшие участие в этом совещании, высказывались за то, чтобы Мария была подвергнута еще более строгому заключению, чем до сих пор, большинство высказалось за смертный приговор, а Лейстер, как говорят, даже сделал предложение просто отравить ее. Но Валингэм, заранее уверенный в исходе затеваемого дела, все-таки настаивал, чтобы всему делу был придан вид официального судебного процесса, и это предложение было принято.
В конце концов совет пэров выделил из своего состава сорок шесть человек для участия в судебном заседании, которое должно было выяснить виновность Марии Стюарт. Председательство в этом суде совет предоставил канцлеру Бромлею, о чем был издан 5 октября 1586 года особый указ, привлекший к суду Марию Стюарт, С юридической стороны совет основывался на особом законе, изданном при Эдуарде III и касавшемся государственных предателей, бунтовщиков и зачинщиков смут.
Членам суда было предписано немедленно отправиться в Фосрингай, присутствовать там в судебных прениях и потом вынести приговор, И вскоре мир стал свидетелем такой драмы, подобной которой еще никогда не было.

Глава шестнадцатая
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 Сорок четыре года Марии Стюарт исполнилось 8 декабря 1586 года. Восемнадцать из них она провела в изоляции, переходя из более суровых условия в менее суровые и наоборот, Причем последние четыре года прошли в самых тяжких условиях среди мятежных смут и непрестанной опасности, Мария была одной из красивейших женщин своего времени. Но в последние годы жизни ее уж никак нельзя было назвать красивой. В 1580–1586 годы она превратилась в невзрачную матрону с седеющими волосами. Ревматические страдания исказили ее былую пластичность, болезнь печени изменила фигуру, и только ее лицо сравнительно мало изменилось, причем, ее большие черные глаза по-прежнему сверкали горячим огнем.
Последние события особенно тяжело отразились на Марии, и вполне ясно, что изысканная жестокость, с которой ее сторожа сообщили ей о судьбе ее приверженцев, должна была усугубить силу ее страданий.
Благочестивый Амиас Полэт особенно в этом постарался. После того как предательски затеянная им ловушка с успехом сделала свое дело, он опять стал относиться к пленнице строго и грубо.
5 октября 1586 года в день, когда был издан злополучный указ совета пэров, перед замком Чартлей остановился отряд всадников. Полэт вышел к воротам и приветствовал прибывших, это были тайный советник Вальтер Мидлмэй и нотариус Баркер со свитой.
— Ну-с, сэр Амиас, — сказал первый, — получили ли вы последние распоряжения?
— Да, сэр! — ответил тот.
— И приняли нужные меры?
— Разумеется, сэр.
— И объявили этой женщине то, что решено насчет ее судьбы?
— Нет, сэр! Да с этим нечего особенно торопиться. Я думаю, что после такой скачки вы с удовольствием позавтракаете, а я позабочусь обо всем остальном.
— Ну что же, хорошо, сэр, — ответил тайный советник.
— Давайте примем это приглашение, сэр Баркер?
Полэт и Друри отлично посидели за завтраком, и только после этого Полэт, послав Друри позаботиться о приготовлениях к отъезду, отправился к Марии Стюарт, чтобы объявить ей о перемене места ее заключения.
По приказанию Друри, к воротам подъехал крытый экипаж. Его окружили пятьдесят всадников, к конвою присоединилась также и свита приезжих.
Мария Стюарт была больна и уже несколько дней не покидала постели. Из слуг у нее остались лишь бывшая кормилица и еще одна женщина. Кормилица Кеннеди хотела помешать Полэту проникнуть в спальню, но тот резко оттолкнул ее в сторону, прикрикнув:
— Что вы себе позволяете? Быть может, вы затеваете здесь еще заговор, а потому и не хотите пропустить меня?
— Королеве сегодня очень плохо, — ответила кормилица.
— Больна она или нет, — воскликнул Полэт, — а меня она должна выслушивать в любое время. Ступайте обе вон!
Служанки не сразу повиновались, глядя вопросительно на королеву.
— Ступайте! — сказала им Мария. — Что вам нужно здесь, сэр?
— Чтобы вы немедленно встали! — строго ответил Полэт.
— Для чего? — спросила королева.
— Чтобы отправиться отсюда в Фосрингай.
Мария вздохнула, ничего не ответив. Она с трудом встала, оделась и приготовилась пуститься в путь. Вскоре экипаж под прикрытием конвоя двинулся из Чартлея. Быть может, в этот момент Мария инстинктивно почувствовала близость развязки…
Поздно ночью она прибыла в место своего нового заточения. Служанки, которых ей разрешили оставить себе, прибыли позднее.
6 октября Амиас Полэт, Мидлмэй и Баркер явились к королеве, которая только проснулась. Без всяких околичностей Мидлмэй передал Марии Стюарт письмо Елизаветы. Мария молча взяла его, вскрыла и прочла.
В этом письме Елизавета в самых строгих выражениях укоряла Марию Стюарт в том, что она принимала участие в заговоре, направленном против Англии и самой Елизаветы, и потребовала от Марии, чтобы она согласилась подчиниться судебному следствию, которое должно выяснить степень ее вины.
Прочитав письмо, Мария помолчала некоторое время и, гордо глянув на посетителей, сказала:
— Моя сестра Елизавета, с одной стороны, плохо осведомлена, с другой — забывает о своем и моем положении. Я не подданная ей, и ее суд не вправе судить меня.
— И тем не менее наша государыня держится того взгляда, что вы должны будете подчиниться решению суда, — ответил Мидлмэй.
— Что?! — воскликнула Мария. — Неужели она могла забыть, что я — прирожденная королева?
— А между тем вам было бы лучше подчиниться ей, — сказал Баркер.
Никогда в жизни! Я не опозорю до такой степени моего положения, пола и сана! — воскликнула Мария. — Передайте этот ответ своей государыне.
— Так и будет сделано, — холодно произнес Мидлмэй.
Оставив Марию, прибывшие вернулись обратно в Лондон.
Тем временем в Фосрингай прибыли члены назначенного суда, а с ними — Бэрлей и Валингэм.
Самым важным вопросом была компетентность суда, потому что раз Мария не соглашалась признать его, то трудно было подыскать для него юридическое основание. Очевидно, слишком легкомысленно с самого начала понадеялись, что Мария быстро и добровольно согласится подчиниться суду.
При этих обстоятельствах Елизавета приказала продолжать расследование, но только пока не доводить его до приговора. Она написала Марии Стюарт еще письмо, которое было настолько же заискивающим, насколько предыдущее — строгим. В этом письме она уверяла, что назначила суд только для того, чтобы Мария имела возможность оправдаться как женщина, государыня и гостья Англии. И она будет виновата сама, если добрые намерения Елизаветы останутся безрезультатными. Но, с другой стороны, — было указано в письме, — Мария имеет равное право предъявить свои обвинения против Елизаветы, и назначенный состав суда уполномочен рассмотреть их и вынести свой приговор.
Таким образом, все дело представили Марии в совершенно другом виде. Правда, и теперь она все еще колебалась, но камергер Гаттон взялся уговорить ее согласиться. Он явился к ней под видом искреннего друга, и ему удалось убедить Марию предстать перед судом. И как только она выразила согласие, было назначено заседание на 14 октября.
Для зала судебного заседания воспользовались большой комнатой замка Фосрингай, куда и ввели Марию Стюарт под конвоем нескольких алебардистов. При этом она опиралась на Мелвила и на домашнего врача Буркэна, потому что чувствовала себя настолько нездоровой, что не могла идти одна без посторонней помощи.
Кроме судей, в зал заседания были допущены в качестве зрителей также и посторонние лица.
При входе в зал Мария Стюарт с достоинством поклонилась всем присутствующим, и ее попросили занять место на приготовленном для нее сиденье, обитом бархатом.
Мария села.
Сейчас же после этого поднялся канцлер Бромлэй, который произнес длинную речь. В ней он излагал все основания, побудившие Елизавету потребовать Марию Стюарт к суду и следствию. Затем секретарь суда прочел указ, на основании которого был созван настоящий состав суда.
После этого заговорила Мария. Она рассказала историю своего появления в Англии, сообщила о том, как с ней стали обращаться, как ей пришлось страдать. Затем она выразила протест против всякого ущерба, который мог бы быть нанесен ей вследствие данного судебного заседания, причем ссылалась на свой сан и положение иностранки, находящейся на английской территории.
На это ей ответил Бэрлей, он заявил, что каждый, находящийся на английской территории, обязан подчиняться английским законам.
По его требованию поднялся государственный прокурор, который доложил суду историю заговора Бабингтона. Он обвинял Марию Стюарт в соучастии и подстрекательстве к этому заговору, приводя в подтверждение обвинения улики и доказательства.
Мария отрицала свое участие в заговоре, оспаривала действительность улик и доброкачественность доказательств и потребовала, чтобы Ноэ и Кэрлей были вызваны на очную ставку с ней. В общем, защита Марии отличалась мудростью иубедительностью, она проявила недюжинный дар слова.
После этого начались судебные прения, которые по своему характеру никоим образом не могли послужить к чести достопочтенных судей. В этих прениях принимали участие Бэрлей и Валингэм. В конце концов Мария обвинила последнего в обмане и подлоге. Государственный секретарь ответил ей резкостью, и на этом закончилось заседание этого дня.
На следующий день Мария Стюарт категорически отказалась признать компетенцию суда и снова уверяла в своей невиновности. В дальнейших дебатах она потребовала, чтобы был назначен для нее защитник, и отказалась присутствовать на дальнейших заседаниях суда и давать какие-либо показания. Поэтому суд прервал заседание, 25 октября он должен был снова открыться, но уже в Лондоне. Это заседание было последним — прения пришли к концу, и суд единогласно вынес Марии Стюарт смертный приговор. Через несколько дней на заседании парламента приговор суда был утвержден.
Конечно, все это было сплошной комедией. Могущественная королева Елизавета заставила назначенных ею же судей приговорить к смерти ненавистную соперницу, а продажные живодеры выбивались из сил, чтобы оскорбить и побольнее обидеть одинокую, слабую, больную женщину!
Но даже и теперь, кода, казалось, все было кончено, когда были приговор суда, решение парламента, а следовательно и народа, английская королева все еще не была у желанной цели. Опять всплыли прежние опасения и страхи, она не решалась привести приговор в исполнение, как ни старались советники подействовать на ее волю. Особенно старался Валингэм, который неустанно твердил королеве Елизавете о необходимости решиться, причем делал это так дерзко, что при других обстоятельствах неминуемо вызвало бы немилость королевы.
Марии Стюарт 10 ноября объявили приговор, который она выслушала с полным спокойствием, лишь снова выразив протест против действий английской королевы.
Пэры государства, судьи, парламент, народ — все требовали казни женщины, которая в течение ряда лет служила источником непрерывных смут и беспорядков в стране. Но через месяц после приговора и из-за границы послышались голоса, протестовавшие против решения суда. Эти протесты сыпались со всех сторон, хотя им и придавали очень мягкую форму.
Государи, выражавшие протест, думали, что Елизавета никогда не решится утвердить приговор, что она просто не хочет брать это на себя и ждет именно протестов, чтобы на основании их отменить решение суда.
Прежде всего из числа коронованных особ за Марию заступился ее сын, Иаков VI, который и предпринял ряд шагов в ее защиту. Кроме голоса крови, он имел и другие основания для этого.
Приняла свои меры и троица верных слуг Марии Стюарт.
Сэррей, Брай и Джонстон скрылись в маленькой гавани графства Кент от преследований. Когда сыск закончился, они решили вместе отправиться в Лондон, поменявшись для конспирации ролями… Джонстон теперь разыгрывал барина, а Сэррей и Брай — его слуг.
У Сэррея было в Лондоне достаточно верных друзей, при помощи которых он скоро мог узнать, какие намерения питают теперь по отношению к судьбе Марии Стюарт, и, получив требуемые сведения, отправился со своими спутниками в Чартлей, а потом и в Фосрингай, где оставался до тех пор, пока не закончились заседания судебной комиссии. За ней троица вернулась в Лондон. Там Сэррей сейчас же после произнесения приговора над Марией принялся серьезно обсуждать со своими друзьями вопрос, чем могли бы они теперь помочь несчастной королеве.
К сожалению, они были бессильны сделать что-либо самостоятельно, и в горе Сэррей решил отправиться к королю Иакову, чтобы убедить его заступиться за мать. Товарищи Сэррея согласились с этим решением и без долгих сборов последовали к цели.
Сама Мария тоже не оставалась бездеятельной, она обратилась с письмом к папе Сиксту Пятому, испанскому королю Филиппу Второму, королю Франции Генриху Третьему, герцогу Гизу и многим другим. Хотя во всех этих письмах она и писала, что не дорожит своей жизнью, но требовала помощи во имя принципа справедливости. Благодаря всему этому дело Марии Стюарт должно было вступить в новую стадию, и Европа с лихорадочным возбуждением следила за его исходом.
Сорок четыре года Марии Стюарт исполнилось 8 декабря 1586 года. Восемнадцать из них она провела в изоляции, переходя из более суровых условия в менее суровые и наоборот, Причем последние четыре года прошли в самых тяжких условиях среди мятежных смут и непрестанной опасности, Мария была одной из красивейших женщин своего времени. Но в последние годы жизни ее уж никак нельзя было назвать красивой. В 1580–1586 годы она превратилась в невзрачную матрону с седеющими волосами. Ревматические страдания исказили ее былую пластичность, болезнь печени изменила фигуру, и только ее лицо сравнительно мало изменилось, причем, ее большие черные глаза по-прежнему сверкали горячим огнем.
Последние события особенно тяжело отразились на Марии, и вполне ясно, что изысканная жестокость, с которой ее сторожа сообщили ей о судьбе ее приверженцев, должна была усугубить силу ее страданий.
Благочестивый Амиас Полэт особенно в этом постарался. После того как предательски затеянная им ловушка с успехом сделала свое дело, он опять стал относиться к пленнице строго и грубо.
5 октября 1586 года в день, когда был издан злополучный указ совета пэров, перед замком Чартлей остановился отряд всадников. Полэт вышел к воротам и приветствовал прибывших, это были тайный советник Вальтер Мидлмэй и нотариус Баркер со свитой.
— Ну-с, сэр Амиас, — сказал первый, — получили ли вы последние распоряжения?
— Да, сэр! — ответил тот.
— И приняли нужные меры?
— Разумеется, сэр.
— И объявили этой женщине то, что решено насчет ее судьбы?
— Нет, сэр! Да с этим нечего особенно торопиться. Я думаю, что после такой скачки вы с удовольствием позавтракаете, а я позабочусь обо всем остальном.
— Ну что же, хорошо, сэр, — ответил тайный советник.
— Давайте примем это приглашение, сэр Баркер?
Полэт и Друри отлично посидели за завтраком, и только после этого Полэт, послав Друри позаботиться о приготовлениях к отъезду, отправился к Марии Стюарт, чтобы объявить ей о перемене места ее заключения.
По приказанию Друри, к воротам подъехал крытый экипаж. Его окружили пятьдесят всадников, к конвою присоединилась также и свита приезжих.
Мария Стюарт была больна и уже несколько дней не покидала постели. Из слуг у нее остались лишь бывшая кормилица и еще одна женщина. Кормилица Кеннеди хотела помешать Полэту проникнуть в спальню, но тот резко оттолкнул ее в сторону, прикрикнув:
— Что вы себе позволяете? Быть может, вы затеваете здесь еще заговор, а потому и не хотите пропустить меня?
— Королеве сегодня очень плохо, — ответила кормилица.
— Больна она или нет, — воскликнул Полэт, — а меня она должна выслушивать в любое время. Ступайте обе вон!
Служанки не сразу повиновались, глядя вопросительно на королеву.
— Ступайте! — сказала им Мария. — Что вам нужно здесь, сэр?
— Чтобы вы немедленно встали! — строго ответил Полэт.
— Для чего? — спросила королева.
— Чтобы отправиться отсюда в Фосрингай.
Мария вздохнула, ничего не ответив. Она с трудом встала, оделась и приготовилась пуститься в путь. Вскоре экипаж под прикрытием конвоя двинулся из Чартлея. Быть может, в этот момент Мария инстинктивно почувствовала близость развязки…
Поздно ночью она прибыла в место своего нового заточения. Служанки, которых ей разрешили оставить себе, прибыли позднее.
6 октября Амиас Полэт, Мидлмэй и Баркер явились к королеве, которая только проснулась. Без всяких околичностей Мидлмэй передал Марии Стюарт письмо Елизаветы. Мария молча взяла его, вскрыла и прочла.
В этом письме Елизавета в самых строгих выражениях укоряла Марию Стюарт в том, что она принимала участие в заговоре, направленном против Англии и самой Елизаветы, и потребовала от Марии, чтобы она согласилась подчиниться судебному следствию, которое должно выяснить степень ее вины.
Прочитав письмо, Мария помолчала некоторое время и, гордо глянув на посетителей, сказала:
— Моя сестра Елизавета, с одной стороны, плохо осведомлена, с другой — забывает о своем и моем положении. Я не подданная ей, и ее суд не вправе судить меня.
— И тем не менее наша государыня держится того взгляда, что вы должны будете подчиниться решению суда, — ответил Мидлмэй.
— Что?! — воскликнула Мария. — Неужели она могла забыть, что я — прирожденная королева?
— А между тем вам было бы лучше подчиниться ей, — сказал Баркер.
Никогда в жизни! Я не опозорю до такой степени моего положения, пола и сана! — воскликнула Мария. — Передайте этот ответ своей государыне.
— Так и будет сделано, — холодно произнес Мидлмэй.
Оставив Марию, прибывшие вернулись обратно в Лондон.
Тем временем в Фосрингай прибыли члены назначенного суда, а с ними — Бэрлей и Валингэм.
Самым важным вопросом была компетентность суда, потому что раз Мария не соглашалась признать его, то трудно было подыскать для него юридическое основание. Очевидно, слишком легкомысленно с самого начала понадеялись, что Мария быстро и добровольно согласится подчиниться суду.
При этих обстоятельствах Елизавета приказала продолжать расследование, но только пока не доводить его до приговора. Она написала Марии Стюарт еще письмо, которое было настолько же заискивающим, насколько предыдущее — строгим. В этом письме она уверяла, что назначила суд только для того, чтобы Мария имела возможность оправдаться как женщина, государыня и гостья Англии. И она будет виновата сама, если добрые намерения Елизаветы останутся безрезультатными. Но, с другой стороны, — было указано в письме, — Мария имеет равное право предъявить свои обвинения против Елизаветы, и назначенный состав суда уполномочен рассмотреть их и вынести свой приговор.
Таким образом, все дело представили Марии в совершенно другом виде. Правда, и теперь она все еще колебалась, но камергер Гаттон взялся уговорить ее согласиться. Он явился к ней под видом искреннего друга, и ему удалось убедить Марию предстать перед судом. И как только она выразила согласие, было назначено заседание на 14 октября.
Для зала судебного заседания воспользовались большой комнатой замка Фосрингай, куда и ввели Марию Стюарт под конвоем нескольких алебардистов. При этом она опиралась на Мелвила и на домашнего врача Буркэна, потому что чувствовала себя настолько нездоровой, что не могла идти одна без посторонней помощи.
Кроме судей, в зал заседания были допущены в качестве зрителей также и посторонние лица.
При входе в зал Мария Стюарт с достоинством поклонилась всем присутствующим, и ее попросили занять место на приготовленном для нее сиденье, обитом бархатом.
Мария села.
Сейчас же после этого поднялся канцлер Бромлэй, который произнес длинную речь. В ней он излагал все основания, побудившие Елизавету потребовать Марию Стюарт к суду и следствию. Затем секретарь суда прочел указ, на основании которого был созван настоящий состав суда.
После этого заговорила Мария. Она рассказала историю своего появления в Англии, сообщила о том, как с ней стали обращаться, как ей пришлось страдать. Затем она выразила протест против всякого ущерба, который мог бы быть нанесен ей вследствие данного судебного заседания, причем ссылалась на свой сан и положение иностранки, находящейся на английской территории.
На это ей ответил Бэрлей, он заявил, что каждый, находящийся на английской территории, обязан подчиняться английским законам.
По его требованию поднялся государственный прокурор, который доложил суду историю заговора Бабингтона. Он обвинял Марию Стюарт в соучастии и подстрекательстве к этому заговору, приводя в подтверждение обвинения улики и доказательства.
Мария отрицала свое участие в заговоре, оспаривала действительность улик и доброкачественность доказательств и потребовала, чтобы Ноэ и Кэрлей были вызваны на очную ставку с ней. В общем, защита Марии отличалась мудростью иубедительностью, она проявила недюжинный дар слова.
После этого начались судебные прения, которые по своему характеру никоим образом не могли послужить к чести достопочтенных судей. В этих прениях принимали участие Бэрлей и Валингэм. В конце концов Мария обвинила последнего в обмане и подлоге. Государственный секретарь ответил ей резкостью, и на этом закончилось заседание этого дня.
На следующий день Мария Стюарт категорически отказалась признать компетенцию суда и снова уверяла в своей невиновности. В дальнейших дебатах она потребовала, чтобы был назначен для нее защитник, и отказалась присутствовать на дальнейших заседаниях суда и давать какие-либо показания. Поэтому суд прервал заседание, 25 октября он должен был снова открыться, но уже в Лондоне. Это заседание было последним — прения пришли к концу, и суд единогласно вынес Марии Стюарт смертный приговор. Через несколько дней на заседании парламента приговор суда был утвержден.
Конечно, все это было сплошной комедией. Могущественная королева Елизавета заставила назначенных ею же судей приговорить к смерти ненавистную соперницу, а продажные живодеры выбивались из сил, чтобы оскорбить и побольнее обидеть одинокую, слабую, больную женщину!
Но даже и теперь, кода, казалось, все было кончено, когда были приговор суда, решение парламента, а следовательно и народа, английская королева все еще не была у желанной цели. Опять всплыли прежние опасения и страхи, она не решалась привести приговор в исполнение, как ни старались советники подействовать на ее волю. Особенно старался Валингэм, который неустанно твердил королеве Елизавете о необходимости решиться, причем делал это так дерзко, что при других обстоятельствах неминуемо вызвало бы немилость королевы.
Марии Стюарт 10 ноября объявили приговор, который она выслушала с полным спокойствием, лишь снова выразив протест против действий английской королевы.
Пэры государства, судьи, парламент, народ — все требовали казни женщины, которая в течение ряда лет служила источником непрерывных смут и беспорядков в стране. Но через месяц после приговора и из-за границы послышались голоса, протестовавшие против решения суда. Эти протесты сыпались со всех сторон, хотя им и придавали очень мягкую форму.
Государи, выражавшие протест, думали, что Елизавета никогда не решится утвердить приговор, что она просто не хочет брать это на себя и ждет именно протестов, чтобы на основании их отменить решение суда.
Прежде всего из числа коронованных особ за Марию заступился ее сын, Иаков VI, который и предпринял ряд шагов в ее защиту. Кроме голоса крови, он имел и другие основания для этого.
Приняла свои меры и троица верных слуг Марии Стюарт.
Сэррей, Брай и Джонстон скрылись в маленькой гавани графства Кент от преследований. Когда сыск закончился, они решили вместе отправиться в Лондон, поменявшись для конспирации ролями… Джонстон теперь разыгрывал барина, а Сэррей и Брай — его слуг.
У Сэррея было в Лондоне достаточно верных друзей, при помощи которых он скоро мог узнать, какие намерения питают теперь по отношению к судьбе Марии Стюарт, и, получив требуемые сведения, отправился со своими спутниками в Чартлей, а потом и в Фосрингай, где оставался до тех пор, пока не закончились заседания судебной комиссии. За ней троица вернулась в Лондон. Там Сэррей сейчас же после произнесения приговора над Марией принялся серьезно обсуждать со своими друзьями вопрос, чем могли бы они теперь помочь несчастной королеве.
К сожалению, они были бессильны сделать что-либо самостоятельно, и в горе Сэррей решил отправиться к королю Иакову, чтобы убедить его заступиться за мать. Товарищи Сэррея согласились с этим решением и без долгих сборов последовали к цели.
Сама Мария тоже не оставалась бездеятельной, она обратилась с письмом к папе Сиксту Пятому, испанскому королю Филиппу Второму, королю Франции Генриху Третьему, герцогу Гизу и многим другим. Хотя во всех этих письмах она и писала, что не дорожит своей жизнью, но требовала помощи во имя принципа справедливости. Благодаря всему этому дело Марии Стюарт должно было вступить в новую стадию, и Европа с лихорадочным возбуждением следила за его исходом.

Глава семнадцатая
ПОПЫТКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА

 Самый серьезный и содержательный протест был сделан королем Франции Генрихом III. Его посланник Шатонэф подал протест против приговора, еще не дожидаясь специальных полномочий своего монарха. Поэтому Елизавета отправила в Париж Ваттона с точными копиями всех фигурировавших в процессе документов и протоколов судебных заседаний, чтобы доказать фактами Генриху III, насколько действительно провинилась Мария.
Генрих сейчас же ответил на представления этого посланника Елизаветы. Он соглашался, что Мария действительно провинилась, но причину всех этих преступных действий он видел в несправедливом и суровом заключении, которому она была бесправно подвергнута; при этом он выдвигал на первый план положение, что государь не подлежит ответственности перед трибуналом из неравных ему по сану лиц. По понятиям того времени, это положение было совершенно бесспорно. В качестве «лучшего друга» Генрих III советовал Елизавете отказаться от строгого наказания и явить акт милосердия. В этом отношении французский король действовал настолько разумно, насколько это возможно. Вслед за этим ответным посланием он командировал в Лондон специального полномочного посла де Бельевра, который прибыл к английскому двору 1 декабря 1587 года и немедленно попросил аудиенции.
27 декабря Елизавета собрала на совещание своих ближайших советников, чтобы до приема посла обсудить с ними положение дел.
— Вы видите, милорды, — начала она, — что мои опасения были более, чем справедливы. Мой народ и я согласны в необходимости сделать решительный шаг, но вся Европа — заметьте себе: вся Европа — горой стоит за эту женщину, и нам придется вступить во вражду со всеми европейскими государями.
— Пусть вся Европа выступает против нас хотя бы с оружием в руках, — ответил Бэрлей, — она натолкнется на несокрушимое могущество Англии.
— Да, но подобная война может привести мое государство к окончательному разорению и гибели! — воскликнула королева.
— Ваше величество, — настаивал Бэрлей. — Эта война только явит в настоящем свете все величие Англии и ее повелительницы!
В этом отношении Бэрлей оказался пророком.
— Вам-то хорошо говорить, — ответила ему Елизавета, — на вас падает самая ничтожная часть ответственности, я же должна буду вынести ее в полной мере!
— Ваше величество, моя голова в вашей власти, пусть она падет, если я дал вам дурной совет, вас же никто не может привлечь к ответственности!
— Но подумайте, вся Европа против нас!
— Только католическая Европа, и у нас тоже найдутся друзья.
— Эти друзья придут на помощь слишком поздно или попытаются выторговать что-нибудь для себя, воспользовавшись нашим тяжелым положением.
— Наше войско, наш флот достаточно сильны, чтобы защитить страну, а отсутствие единодушия и взаимное недоверие наших врагов являются тоже нашими могущественными союзниками.
Елизавета задумалась.
— Итак, значит вы категорически рекомендуете мне отклонить просьбу о помиловании осужденной? — сказала она наконец.
— О нет, ваше величество, в этом отношении вам ни к чему давать какой-либо категорический ответ. Приговор над так называемой «шотландской королевой» состоялся — это никто не станет, да и не захочет отрицать. Но что касается дальнейшего — тут не о чем говорить. Помилование составляет прерогативу английской государыни, этой прерогативой вы можете воспользоваться вплоть до последней минуты перед приведением приговора в исполнение. Но никто не имеет права настаивать на том, чтобы вы пользовались ею, равно как никто не смеет требовать от вас категорических заявлений и обещаний поступить так или иначе. Это — дело вашего собственного усмотрения, и только.
— Но ведь французский посол потребует определенного ответа?
— Тогда путь подождет, пока совершившийся факт ответит ему вместо всяких слов.
Елизавета задумалась.
— Ну что же, — ответила она, — пусть войдет посол!
Елизавета предпочла принять де Бельевра в присутствии немногих близких лиц.
Посол вошел в комнату с вежливостью и изысканностью манер истинного француза, но и с уверенностью храброго франка. Он в изысканных выражениях приветствовал Елизавету от имени своего государя.
Когда ему было разрешено говорить, он произнес длинную, содержательную речь, которая должна была произвести несомненное впечатление. Бельевр осветил дело Марии Стюарт с точки зрения исторической науки. Он сослался на все примеры суда и казни над коронованными особами. Все эти прецеденты он разбил на две категории — на случаи, когда подобная судьба коронованной особы юридически оправдывалась, и когда она не могла быть оправдана таким образом. Случай Марии Стюарт он отнес сначала к первой категории и после ряда доказательств сделал вывод, что приговор над ней противоречит исторической логике. Таким образом, осуждение Марии Стюарт могло быть отнесено только ко второй категории — к категории случаев незаконного суда над государями. Затем посол перешел к политической стороне события в отношении настоящего и будущего и намекнул на бесконечное количество мстителей, появление которых вызовет за границей казнь Марии Стюарт. После этого де Бельевр перешел к Англии и английскому народу. С неотразимой логикой он доказал, что тот самый народ, который теперь требует казни Марии Стюарт, потом будет проклинать виновницу этой смерти. В конце концов он постарался доказать, что казнь Марии будет только на руку всем внешним и внутренним врагам Елизаветы, что они только и ждут этого, так как в суровости этой меры надеются найти оправдание их действий и намерений.
Елизавета и ее советники никак не ожидали встретить во французском после такого оратора.
Бэрлей и Валингэм в первое время чувствовали себя разбитыми по всем пунктам, Елизавета вначале испугалась, но именно потому, что стрелы посла попали в цель, ее гордость зашевелилась и вызвала у нее необдуманный припадок ярости, Не чувствуя себя в состоянии сейчас же ответить что-нибудь на положения, выставленные Бельевром, она принялась попросту поносить Марию на чем свет стоит. Она забылась до такой степени, что представила себя и Марию врагами не на жизнь, а на смерть.
— Только смерть одной из нас, — сказала она, — могла бы обеспечить спокойную жизнь другой.
Она потребовала от Бельевра чтобы он указал ей какой- нибудь выход, который гарантировал бы страну от бунтовщических посягательств Марии, тогда она с удовольствием не только помилует ее, но и отпустит на все четыре стороны.
Бельевр ухватился за это и просил, чтобы ему было разрешено развить в дальнейшем эту мысль, но для этого он должен сначала испросить специальных инструкций у своего государя. Это было ему разрешено, и посол удалился.
Когда он ушел, Елизавета и ее советники тяжело вздохнули. Бельевр нарисовал им такие перспективы последствий казни Марии, о которых до сих пор они даже и не думали.
— Я жила под вечной угрозой, пока Мария Стюарт оставалась на свободе, — сказала Елизавета, — я продолжала жить под угрозой, когда она попала в мои руки, и такое же положение вещей ожидает меня и после ее смерти. Я — несчастная королева!
— Вы напрасно изволите беспокоиться, ваше величество! — пытался утешить ее Валингэм. — Ваша особа находится в полной безопасности.
— Но как мне теперь быть с этими переговорами? Как отклонить вмешательство Франции?
— Вам нужно для отдыха переменить резиденцию, — ответил Бзрлей, — а ведение дальнейших переговоров возложить на меня.
— А мне поручить, — вставил Валингэм, — дать этому господину, равно как и всем любителям совать нос в чужие дела, подобающий ответ.
— Что же вы собираетесь предпринять? — спросила Елизавета.
— Заставить ответить население Лондона, всей Англии! — ответил государственный секретарь.
— Это не повредило бы! — заметил Бэрлей.
— Хорошо, я согласна на это. Принимаю ваше предложение, милорды. За каждое облегчение, которое вы сделаете мне в этом трудном деле, я щедро награжу вас.
Одновременно с переговорами с Францией происходили также переговоры с шотландским королем Иаковом.
Когда известие о процессе, начатом против Марии Стюарт, дошло до Шотландии, там в душах всех вспыхнуло возмущение против этого. Часть дворянства выразила его в письмах к Елизавете и Валингэму. В них содержались угрозы, заслуживавшие внимания.
Лишь сын несчастной Марии, король Иаков VI, казалось, не сочувствовал страданиям и мрачному будущему своей матери и ясно выразил это перед французским посланником.
— Ваше величество, — проговорил посланник, — обращение английской королевы с вашей матерью должно было бы возмутить вас до последней степени.
— Вы забываете, что я — король и что для меня важнее всего спокойствие моего государства! — возразил Иаков VI.
— Но ведь подданные вашего величества ничего не имеют против Марии Стюарт как матери своего короля! — заметил посланник.
— Нет, нет, не говорите мне ничего о бывшей королеве, — нетерпеливо ответил король. — Моя мать пожинает лишь то, что она посеяла.
Шотландский же парламент высказал иное мнение на этот счет и предложил Иакову VI объявить войну Англии.
Король ограничился тем, что написал письмо Елизавете, в котором просил английскую королеву держать Марию Стюарт еще в более строгом заточении, чем это было до сих пор.
Многие шотландские лорды, среди которых был и Георг Сэйтон, продолжали горячо убеждать короля заступиться за свою мать, но он относился очень холодно к их просьбам и решительно заявлял, что предпочтет видеть Марию Стюарт мертвой, чем решится поссориться с Елизаветой и лишиться, таким образом, надежды унаследовать от нее английский престол.
В это-то время в Шотландию и приехал граф Сэррей со своими спутниками. Он прежде всего отправился к Георгу Дугласу, который принял его с распростертыми объятиями. Сэррей рассказал, с какой целью он явился в Шотландию, и просил сообщить ему, какое настроение господствует при дворе и среди народа. Дуглас предупредил преданного друга Марии Стюарт, что трудно рассчитывать на успех его дела, и познакомил его со всем тем, что происходило в последнее время в Шотландии. Между прочим он упомянул и о том, что семья Сэйтонов совершенно удалена от двора.
— Мне нужно видеть сейчас же Георга Сэйтона, — сказал Сэррей.
— Поедемте к нему, — предложил Дуглас, — я буду сопровождать вас.
Сэйтоны были непоколебимы в своей привязанности к Марии Стюарт. Но глава семьи, Георг Сэйтон, несмотря на все старания, ничего не мог сделать для улучшения судьбы бывшей шотландской королевы: его сестры тоже оказались бессильными. Мария Сэйтон уже давно была больна: горе, всевозможные волнения, страдания за королеву и свою судьбу окончательно подорвали ее здоровье. Даже, остававшаяся дольше всех при Марии Стюарт, была всецело поглощена мыслью о ней и не переставала оплакивать несчастную королеву. В замке Сэйтонов царила грусть, которая еще усиливалась от зимней непогоды и замкнутой, уединенной жизни.
Вся семья была очень удивлена когда однажды вечером слуга доложил, что в замок приехали гости.
Георг Сэйтон велел просить неожиданных посетителей и был искренне обрадован при виде Дугласа и графа Сэррея. Сестры смутились, отвечая на поклон графа. Мария побледнела, а Джэн, наоборот, вспыхнула, как молоденькая девушка. Сэррей тоже не мог побороть свое волнение.
— Что привело вас снова в Шотландию? — спросил Сэйтон после первых взаимных приветствий. — Я думал, что вы вынесли уже достаточно много страданий в нашей несчастной стране и не захотите больше приезжать сюда.
— Правда, мне пришлось пережить много грустных минут в Шотландии, — ответил Сэррей, — но тут же я испытал и счастливейшие часы в моей жизни. Теперь же я приехал в Шотландию для того, чтобы сообщить Иакову Шестому, как дурно обращаются с его матерью.
— Он это знает! — мрачным голосом заметил Сэйтон.
— Да, но он слышал об этом от лиц, не видевших, как оскорбляют Марию Стюарт, а я сам — очевидец недостойного поведения Елизаветы. Я надеюсь, что мне удастся убедить короля спасти свою мать! — сказал Сэррей.
— Ах, если бы вы могли сделать это! — с тяжелым вздохом произнесла Джэн.
— Граф Сэррей может многое сделать! — колко заметила Мария Сэйтон.
— Благодарю вас за такое доверие ко мне, — поклонился Сэррей, — оно для меня тем более ценно, что я редко видел его с вашей стороны.
— Господи, — нетерпеливо воскликнул Георг Сэйтон, — я думаю, что вы уже настолько помудрели с возрастом, что можете говорить о серьезных вещах без всяких колкостей и шуток.
— Я и не шучу, милорд, — возразил Сэррей. — Однако скажите, каким образом я могу видеть короля? Говорят, что он живет очень замкнуто и доступ к нему труден.
— Обратитесь к любимцу Иакова, лорду Грэю, — насмешливо ответил Сэйтон, — если вам удастся попасть к нему в милость, то и король отнесется к вам благосклонно.
— Вы смеетесь, — заметил Сэррей, — но я действительно обращусь к нему.
— Это ни к чему не приведет! — пробормотал Дуглас.
— Я знаю, — продолжал Сэррей, что Грэй — враг Марии Стюарт и оказывает самое пагубное влияние на ее сына; тем не менее я надеюсь достигнуть через него того, чего желаю.
— Дай Бог! — недоверчиво пожал плечами Сэйтон.
После ужина, за которым присутствовали Мария и Джэн, гости разошлись по своим комнатам.
На другое утро Сэррей встал пораньше и вышел в столовую, надеясь увидеть Джэн и поговорить с ней наедине. Его надежды оправдались. Младшая леди Сэйтон, очевидно, тоже была не прочь повидаться со своим поклонником, и когда Сэррей вошел в комнату, то застал там предмет своей неизменной любви.
— Вы, вероятно, не думали, миледи, встретиться со мной после нашего последнего свидания и моего прощального письма? — обратился Сэррей к Джэн.
— Сознаюсь, милорд, что не рассчитывала видеть вас! — ответила Джэн.
— Ваш ответ заставляет меня спросить вас, довольны ли вы, что ваш расчет не оправдался, или жалеете об этом? — продолжал Сэррей.
— Не расспрашивайте меня, граф, — проговорила Джэн, — вам прекрасно известно, что именно заставляет нас всех страдать! Вы сами знаете, что я ничего не могу иметь лично против вас.
— Благодарю вас, миледи, за эти слова, — сказал Сэррей. — Поверьте, что только беспокойство за участь королевы принудило меня явиться к вам; ведь я знаю, что вы и не желаете встречаться со мной.
— Я очень признательна вам, граф, за вашу преданность королеве, — заметила Джэн. — Впрочем, я никогда не сомневалась, что до последней минуты своей жизни вы готовы служить ей.
— Вы думаете, что только королеве, миледи? — нежно спросил Сэррей.
— Эта служба так велика, что всякие другие интересы бледнеют перед ней! — уклончиво ответила Джэн.
— Но, оставаясь верным королеве до самой кончины, я все же надеюсь и на свое личное счастье. Скажите, Джэн, могу ли я рассчитывать на это счастье? — горячо спросил Сэррей, сжимая руку смущенной леди Сэйтон.
Джэн молчала, потупившись.
— Граф Сэррей, — начала она наконец почти торжественным тоном, — я не буду говорить о том, что брак в нашем возрасте вызовет всеобщий смех, мы можем не обращать на это внимания. Но существует другое препятствие для нашего союза: я не могу быть счастливой в то время, когда моей обожаемой королеве грозит опасность. Устраните это препятствие, освободите королеву, и тогда я ваша.
— Вы смеетесь надо мной, Джэн! — с горькой улыбкой воскликнул Сэррей. — Как можете вы требовать от жалкого изгнанника того, что не в состоянии сделать короли и целые государства?
— Я ничего не требую от вас, граф, — возразила Джэн. — Вы предложили мне вопрос, и я откровенно на него отвечаю вам.
— Вы забыли, Джэн, что я принес в жертву Марии Стюарт свое состояние и положение в обществе! — напомнил Сэррей.
— Я ничего не забыла, Роберт, — возразила Джэн, — я ценю вас за это, преклоняюсь перед вами! Скажу без всякого стеснения, что среди всех мужчин, которых я встречала в жизни, вы — единственный человек, которому я могла бы отдать свою руку.
— Я целую эту руку, ваши слова придают мне новую силу и энергию. Я, конечно, не в состоянии один спасти королеву, но могу повлиять на других. Измените несколько свои условия, скажите, что вы будете моей, если мне удастся склонить короля Иакова на свою сторону. Я думаю, что союз между Шотландией, Францией и Испанией может оказаться настолько опасным королеве Елизавете, что она решится освободить Марию Стюарт. Итак, вы согласны?
— Не мучьте меня, граф Сэррей! — взмолилась Джэн.
— А мои мучения? Как можете вы, Джэн, такая добрая и отзывчивая, быть жестокой со мной? — проговорил Сэррей. — Умоляю вас, не заглушайте в себе тех чувств, которые хранятся в вашем сердце. Ведь ваша жестокость ко мне не спасет королевы. Не приводите меня в отчаяние. Если я буду сознавать, что могу надеяться на личное счастье, во мне оживут юношеские силы, которые в соединении со зрелым опытом могут сделать многое.
Джэн ничего не ответила.
— Что означает ваше молчание? — спросил Сэррей. — Я принимаю его за согласие на предложенное условие. Итак: если король Иаков Шестой предпримет что-нибудь серьезное для спасения своей матери, вы обещаете быть моей женой! Да?
— Да! — прошептала Джэн. — Поговорите с моим братом.
Сэррей заключил Джэн в свои объятия, и легкая грусть охватила обоих. Сэррей поцеловал руки своей невесты и отправился к Георгу Сэйтону. Но тот довольно холодно принял его предложение. Узнав, на каких условиях Джэн согласилась быть женой графа Сэррея, Сэйтон согласился на этот брак, хотя и не мог вполне подавить свое неудовольствие.
В тот же день вечером Сэррей и Дуглас покинули замок Сэйтонов. Дуглас отравился в свое поместье, а Сэррей с двумя спутниками поехал в Эдинбург.
Случайно или умышленно, но воспитание короля Иакова велось крайне небрежно. В юности он подпадал под совершенно противоположные влияния, которые не могли не отразиться на его характере. Он был в одно и то же время добродушно бесхарактерным и страшно жестоким. Вид обнаженного меча приводил его в трепет, а вместе с тем он был способен на безумно смелый поступок. Отличаясь большой скупостью, Иаков VI все же тратил большие деньги на подарки своим любимцам, которые менялись очень часто, пока король не приблизил к себе Патрика Грэя.
Главной страстью Иакова VI или, вернее, главной его слабостью была охота. Всякий, кто хотел попасть в милость к королю, должен был интересоваться охотой или по крайней мере делать вид, что интересуется ею. Большую часть своего времени король проводил на охоте, в обществе Грэя.
Когда Сэррей приехал в Эдинбург, Иаков VI тоже охотился в горах вместе со своим фаворитом.
Сэррей словно помолодел с тех пор, как Джэн Сэйтон обещала быть его женой. Даже Брай заметил перемену в своем друге. Узнав, в чем дело, он только глубоко вздохнул над напрасно потраченными годами и своей разбитой жизнью.
Сэррей нанял квартиру и начал нетерпеливо ожидать возвращения короля. Сначала он думал поехать вслед за ним на охоту, но потом решил, что для дела будет полезнее, если он переговорит с Иаковым VI в Эдинбурге.
На этот раз король охотился недолго. Как только Сэррей узнал о его приезде, он отправился к всесильному Патрику Грэю.
Фаворит Иакова VI принял Сэррея с некоторым удивлением.
— Граф Сэррей? — переспросил он, задумавшись. — Мне кажется, что я вас знаю, милорд. Где мы с вами встречались?
— В Париже, в Англии и здесь, — ответил Сэррей, — но вам, вероятно, более знакомо мое имя, чем я сам.
— Совершенно верно! — смеясь, воскликнул Грэй. — Я очень рад видеть вас и думаю, что какие-нибудь особенные обстоятельства привели вас ко мне. Садитесь, милорд, и расскажите, в чем дело.
— Я хотел просить вас доставить мне аудиенцию у короля! — проговорил Сэррей.
Грэй принял важный вид. Просьба Сэррея польстила его самолюбию.
— Ах, вы просите аудиенции, — улыбаясь, сказал Грэй, — только аудиенции? Моего ходатайства вам не нужно?
— Напротив, о нем я особенно прошу вас! — возразил Сэрррей.
— Скажите же мне, чего вы хотите. Ввиду того, что вы не шотландец, я не моту предугадать, в чем дело.
— Как вам, может быть, известно, — проговорил Сэррей, — я изгнан из Англии, хотя и оставался там до сих пор.
— Я этого не знал! — заметил несколько смущенно Грэй.
— Мои поместья в Англии не конфискованы, но все же на них наложен запрет, — начал Сэррей.
— Вы хотите получить их обратно? — перебил Грэй.
— Не совсем так. Я намереваюсь вступить в брак с шотландкой и перейти в подданство короля Иакова VI…
— Я думаю, что король ничего не будет иметь против этого.
— Я уверен, что после вашей милостивой просьбы его величество не откажет мне в этой просьбе. Но, помимо этого, я хочу просить короля ходатайствовать перед Англией, чтобы мне была выплачена деньгами стоимость моих имений.
— Ах, так вот в чем вся суть! — воскликнул Грэй.
— В знак признательности к вам за милостивое содействие я прошу вас, сэр, принять от меня эту бумагу.
Сэррей вынул из кармана сложенный лист и передал его Грэю, который с удивлением развернул его.
Это была дарственная запись на имя Патрика Грэя. По ней половина английских поместий лорда Сэррея переходила во владение фаворита короля Иакова VI.
Грэй с изумлением смотрел на человека, так просто предлагавшего ему огромный подарок. К числу недостатков Грэя можно было отнести и страшное корыстолюбие.
— Милорд, — весело воскликнул он, — я обещаю вам и аудиенцию, и свое ходатайство, и все, все, что вы захотите.
Легкая улыбка скользнула по губам Сэррея и тотчас же исчезла. Он знал, что его щедрый подарок ничего не стоит, но, конечно, умолчал об этом.
— Когда я могу иметь счастье представиться его величеству? — спросил Сэррей.
— Когда хотите, милорд, хоть сегодня! — ответил Грэй.
— Чем скорее, тем лучше! — заметил Сэррей.
— Тогда скажите мне, где вас найти, и я пошлю за вами, как только будет можно! — проговорил Грэй.
Сэррей оставил свой адрес и распростился с могущественным любимцем Иакова VI. Он не сомневался, что получит аудиенцию, так как Грэй сам был заинтересован в том, чтобы Англия заплатила за поместья Сэррея.
Придя домой, Сэррей сел за письменный стол и очень долго писал длинное письмо. Затем он запечатал его и надписал за нем имя своей невесты.
Отложив письмо в сторону, Сэррей осмотрел имевшееся у него оружие: меч, кинжал и маленький пистолет, который легко было спрятать. Убедившись в исправности оружия, он позвал к себе Брая и Джонстона и заявил им:
— Друзья мои, в скором времени я должен буду отправиться к королю Иакову. Вы знаете, с какой целью я домогался этого свидания?
Брай утвердительно кивнул головой, а Джонстон весело ответил:
— Да, мы знаем, и от всей души желаем вам успеха!
— Я решил, — продолжал Сэррей, — во что бы то ни стало достигнуть своей цели. Все меры будут пущены для этого в ход, весьма возможно, что придется погубить себя, и в таком случае вы больше никогда не увидите меня.
Брай равнодушно выслушал это сообщение, а Джонстон с удивлением посмотрел на графа.
— Если я к вам больше не вернусь, — заговорил снова Сэррей после некоторого молчания, — то вы оба останетесь моими наследниками. Разделите мое имущество по равной части между собой. Я прошу вас только, сэр Брай, передать это письмо лично леди Джэн Сэйтон.
— Все будет исполнено, как вы приказываете, — ответил Брай. — Во всяком случае знайте, что за вашу смерть жестоко отомстят. Я беру на себя это дело.
— Я присоединяюсь к вам! — поддержал клятву и Джонстон.
— Благодарю вас, друзья мои, за вашу верность и привязанность ко мне, — проговорил он, подавая им руку. — Я все надеялся, что в состоянии буду вознаградить вас за ваши труды, но, кажется, моим надеждам не суждено сбыться. Прощайте и будьте счастливы!
По уходе Сэррея Патрик Грэй оделся и отправился во дворец. Дар Сэррея был так заманчив, что любимец короля решил действовать безотлагательно.
У Иакова VI был сонный и скучающий вид, когда Грэй вошел в комнату. При виде своего любимца король оживился.
— Ты уже встал, Патрик? — спросил он. — А я все ломал себе голову над вопросом, — приказать ли разбудить тебя, или ждать, пока ты сам проснешься! Как поживают наши собаки, Патрик?
— У меня еще не было времени справиться о них, Иаков, — шутливо ответил Грэй, — приличие требовало, чтобы я прежде всего навестил их хозяина. Как я вижу, ты дьявольски хорошо чувствуешь себя, Иаков!
— Именно дьявольски! — недовольным тоном ответил король. — Я провел скверную ночь, теперь мне хочется спать, все раздражает, одним словом, я готов подраться с чертями.
— Ты в дурном настроении, король! В таком случае позвольте откланяться, ваше величество! — шутливо поклонился Грэй.
— Не дурачься, Патрик! Садись и постарайся развлечь меня.
— Попробую. Мне сегодня с утра пришлось иметь дело с весело настроенными людьми…
— Ах, у тебя есть какая-то новость? — перебил Грэя король. — Говори скорее.
— Ну хорошо. Скажи мне, Иаков, ты любишь своих верных друзей? — спросил Патрик.
— Что ты хочешь этим сказать? Я знаю, что все друзья — очень дорогая мебель; черт бы их побрал.
— Да, я думаю, что они тебе дорого обходятся, — подтвердил Грэй, — ты осыпаешь их благодеяниями, твоя щедрость не имеет границ!
— Я не понимаю тебя, Патрик, ты точно смеешься, а между тем нет еще и недели, как я подарил тебе французскую борзую.
— Черт бы побрал всех собак вместе с твоими друзьями! — засмеялся Грэй. — А знаешь ли ты, Иаков, что простой английский лорд перещеголял в щедрости шотландского короля?
— Что ты выдумываешь! — махнул рукой Иаков.
— Уверяю тебя, что говорю серьезно! Вот посмотри-ка, какой подарок я получил сегодня утром..
Грэй протянул королю дарственную запись, полученную от Сэррея.
— Это недурно! — воскликнул Иаков. — Скажи, пожалуйста, не тот ли это Сэррей, который слишком интересовался ее величеством, моей матерью?
— Я думаю, что тот самый! — ответил Грэй.
— Тот самый, у которого вышла история с Лейстером? — снова спросил король.
— Да!
— Он теперь здесь? Интересно знать, любит ли охотиться этот малый! — задумчиво произнес Иаков.
— Не малый, а старик! — поправил Грэй. — Я думаю, что он — прекрасный охотник!
— Ах да, я и забыл, что Сэррей не может быть молодым. Отчего же он не представился нам? — спросил король. — Я хотел бы видеть его.
— А он — тебя! — засмеялся Грэй. — Дело устраивается в лучшем виде.
— К твоей выгоде, Патрик? — мрачно заметил Иаков.
— Никоим образом, — серьезно возразил Грэй, — для меня совершенно безразлично, примешь ли ты Сэррея, или нет. Вероятно, он хочет исполнить просто долг вежливости, желая представиться тебе, а может быть, попросить, чтобы ты принял его к себе на службу. Говорят, что он — храбрый воин.
— Мне кажется, что его выслали из Англии, — вспомнил Иаков, — пожалуй, кузина Елизавета рассердится на меня, если я приму его.
— В таком случае я предложу ему поскорее уехать из Шотландии, — сказал Грэй.
— Нет, нет, я хочу поговорить с ним! — капризно заявил король.
— Тогда, быть может, позвать его сегодня? — предложил Патрик. — Ты скучаешь, а лорд Сэррей — старый холостяк, жил долго при французском дворе и может рассказать кое-что очень веселое про парижские нравы.
— Пошли за ним! — распорядился Иаков.
— Ваше величество изволит приказывать — и верному рабу приходится повиноваться! — шутливо раскланялся Грэй и вышел из комнаты.
— Повеса! — крикнул ему вслед король.
Лакей, посланный Грэем, застал Сэррея дома, и граф немедленно явился во дворец короля, где его принял сначала Грэй.
— Я ничего не сказал королю относительно вашего дела, — предупредил Патрик Сэррея, — говорите с ним смело, сами.
Он ввел Роберта Сэррея в приемную короля и затем удалился под каким-то предлогом, оставив Иакова VI наедине с лордом Сэрреем, который внимательно осматривал все выходы из комнаты, думая, что ему, может быть, придется тайно скрыться из дворца.
Король предложил Сэррею сесть и начал говорить с ним сначала о делах Англии и о судьбе самого Сэррея, который рассказал о том деле, ради которого будто бы приехал в Шотландию.
Иаков не дал определенного ответа, он обещал подумать, это означало, что хотел посоветоваться со своим фаворитом. И Сэррей перевел разговор на то, для чего действительно явился к королю.
Иаков сейчас же понял главную цель Сэррея и с непостижимым упрямством заявил, что не намерен ничего больше делать для своей матери.
Однако Сэррей не отступал. Он постарался осветить с самой благоприятной стороны этот вопрос в чисто политическом отношении. Был уже такой момент, когда король начал видимо склоняться на его сторону, как вдруг опомнился и пошел на попятный:
— Нет, нет, не говорите мне больше ничего о моей матери! Она получает по заслугам.
Сэррей хотел затронуть сердце короля, но оно было покрыто непроницаемой броней. Он так грубо отвечал на просьбы Сэррея, что граф вышел из себя и решил пустить в ход последнее средство. Он обнажил свой меч и бросился к Иакову VI, который смертельно побледнел, задрожал и закрыл глаза от страха.
— Вы хотите убить меня? — закричал король. — Спрячьте свой меч!
— Выслушайте меня, ваше величество, — угрожающим тоном проговорил Сэррей, — обнаженный меч так испугал вашу мать, что эта боязнь перешла и на вас. Этот же меч закончит вашу жизнь, если вы не согласитесь исполнить мое требование.
— Спрячьте свой меч, я сделаю все, что вы хотите! — простонал Иаков.
— Прежде всего дайте мне слово, что вы никого не позовете на помощь и никому не расскажете о том, что сейчас происходит между нами! — потребовал Сэррей.
— Даю вам слово! — весь дрожа, ответил король.
— Затем вы должны согласиться на все мои условия и дать мне в этом письменное доказательство, подписанное вашим именем.
— Хорошо, хорошо, я на все согласен, только спрячьте свой меч! — твердил Иаков.
Сэррей вложил меч в ножны и проговорил, не спуская с короля взгляда:
— Мое условие заключается в следующем: вы сейчас же отправите своего посла к Елизавете Английской и потребуете, чтобы она немедленно освободила Марию Стюарт и дала ей возможность уехать, куда та пожелает.
— Я сделаю это, хотя убежден в бесполезности моего требования, — ответил король.
— Вы объявите английской королеве, что в случае ее отказа исполнить ваше требование вам придется воевать с ней, и начнете действительно готовиться к войне.
— Хорошо, я уже дал вам свое слово и теперь не могу отказаться от него! — тоскливо пробормотал Иаков.
— Вы предложите Франции и Испании войти в союз с вами для освобождения Марии Стюарт и пошлете меня в качестве своего посланника к представителям этих двух держав.
— Хорошо, хорошо!
— Теперь я попрошу вас, ваше величество, дать мне письменное удостоверение в том, что вы согласны на все мои условия.
Иаков VI подошел с тяжелым вздохом к письменному столу и написал Сэррею требуемый документ.
Тот внимательно прочел и, пряча его в карман, сказал:
— Спешное дело заставляет меня уехать на несколько дней. Этого времени будет достаточно для того, чтобы отправить кого-нибудь к королеве Елизавете и приготовить для меня полномочия как для вашего посланника во Франции и Испании. Торопитесь, ваше величество!… Если вы промедлите, я должен буду рассказать всем о том, что тут произошло, и опубликовать ваше письменное обязательство. Предупреждаю вас, что всякое покушение на мою жизнь будет поставлено вам в вину и найдутся люди, которые жестоко отомстят вам за мою смерть.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты, не ожидая никаких возражений со стороны короля.
Грэй ожидал Сэррея в следующей приемной и спросил его, доволен ли он результатами аудиенции. Граф ответил, что очень доволен разговором с королем. Тогда Грэй многозначительно улыбнулся и поспешно направился в кабинет Иакова VI.
Король находился еще всецело под впечатлением только что пережитой сцены, когда к нему вошел Грэй. Несмотря на свою ограниченность, Иаков понял, что не следует рассказывать своему фавориту о том, что произошло между ним и Сэрреем.
— Странного человека ты посадил мне на шею, Патрик! — притворно спокойным тоном обратился король к Грэю, — он хочет, чтобы Англия заплатила ему деньга за его поместья и просит моего ходатайства. Но не в этом дело. Он рассказал мне кое-что о жизни моей матери в Англии, и я пришел к заключению, что должен серьезно позаботиться о ее участи. Я хочу послать доверенное лицо к Елизавете и пригрозить ей войной, если она не освободит моей матери. Как ты думаешь, кого можно послать в Лондон?
— Я должен раньше знать подробно весь план действия и только тогда могу предложить кого-нибудь! — ответил Грэй.
Иаков сообщил ему о своих намерениях таким тоном, точно сам придумал весь план. Грэй спросил, разрешается ли этому послу позаботиться также и о поместьях Сэррея, и когда получил утвердительный ответ, то предложил себя в качестве посланца к Елизавете Английской. Король неохотно согласился на это предложение, но Грэй сумел так обставить дело, что Иаков на другой же день отправил его в Лондон.
Сейчас же по приезде Грэй попросил аудиенции у королевы, на что и получил немедленное разрешение. Елизавета прекрасно помнила его. Письмо Иакова VI чрезвычайно удивило и рассердило ее, и в порыве гнева она объявила, что король Шотландии ни под каким видом не унаследует от нее английского престола.
Когда французские послы узнали, что Грэй приехал в Лондон и уже два раза был принят королевой, они тоже явились к ней. Это было 15 декабря 1586 года.
Королева Елизавета очень сетовала при встрече с ними на Генриха III, но опять уклонилась от прямого ответа относительно своих дальнейших намерений и отослала французов к лорду Бэрлею для переговоров. Чтобы избежать участия в совещании по поводу Марии Стюарт, она на другой же день покинула Лондон, оставив широкие полномочия как лорду Бэрлею, так и Валингэму. Она поручила главному сыщику привести в исполнение задуманный им план — организовать народную демонстрацию против Марии Стюарт.
Самый серьезный и содержательный протест был сделан королем Франции Генрихом III. Его посланник Шатонэф подал протест против приговора, еще не дожидаясь специальных полномочий своего монарха. Поэтому Елизавета отправила в Париж Ваттона с точными копиями всех фигурировавших в процессе документов и протоколов судебных заседаний, чтобы доказать фактами Генриху III, насколько действительно провинилась Мария.
Генрих сейчас же ответил на представления этого посланника Елизаветы. Он соглашался, что Мария действительно провинилась, но причину всех этих преступных действий он видел в несправедливом и суровом заключении, которому она была бесправно подвергнута; при этом он выдвигал на первый план положение, что государь не подлежит ответственности перед трибуналом из неравных ему по сану лиц. По понятиям того времени, это положение было совершенно бесспорно. В качестве «лучшего друга» Генрих III советовал Елизавете отказаться от строгого наказания и явить акт милосердия. В этом отношении французский король действовал настолько разумно, насколько это возможно. Вслед за этим ответным посланием он командировал в Лондон специального полномочного посла де Бельевра, который прибыл к английскому двору 1 декабря 1587 года и немедленно попросил аудиенции.
27 декабря Елизавета собрала на совещание своих ближайших советников, чтобы до приема посла обсудить с ними положение дел.
— Вы видите, милорды, — начала она, — что мои опасения были более, чем справедливы. Мой народ и я согласны в необходимости сделать решительный шаг, но вся Европа — заметьте себе: вся Европа — горой стоит за эту женщину, и нам придется вступить во вражду со всеми европейскими государями.
— Пусть вся Европа выступает против нас хотя бы с оружием в руках, — ответил Бэрлей, — она натолкнется на несокрушимое могущество Англии.
— Да, но подобная война может привести мое государство к окончательному разорению и гибели! — воскликнула королева.
— Ваше величество, — настаивал Бэрлей. — Эта война только явит в настоящем свете все величие Англии и ее повелительницы!
В этом отношении Бэрлей оказался пророком.
— Вам-то хорошо говорить, — ответила ему Елизавета, — на вас падает самая ничтожная часть ответственности, я же должна буду вынести ее в полной мере!
— Ваше величество, моя голова в вашей власти, пусть она падет, если я дал вам дурной совет, вас же никто не может привлечь к ответственности!
— Но подумайте, вся Европа против нас!
— Только католическая Европа, и у нас тоже найдутся друзья.
— Эти друзья придут на помощь слишком поздно или попытаются выторговать что-нибудь для себя, воспользовавшись нашим тяжелым положением.
— Наше войско, наш флот достаточно сильны, чтобы защитить страну, а отсутствие единодушия и взаимное недоверие наших врагов являются тоже нашими могущественными союзниками.
Елизавета задумалась.
— Итак, значит вы категорически рекомендуете мне отклонить просьбу о помиловании осужденной? — сказала она наконец.
— О нет, ваше величество, в этом отношении вам ни к чему давать какой-либо категорический ответ. Приговор над так называемой «шотландской королевой» состоялся — это никто не станет, да и не захочет отрицать. Но что касается дальнейшего — тут не о чем говорить. Помилование составляет прерогативу английской государыни, этой прерогативой вы можете воспользоваться вплоть до последней минуты перед приведением приговора в исполнение. Но никто не имеет права настаивать на том, чтобы вы пользовались ею, равно как никто не смеет требовать от вас категорических заявлений и обещаний поступить так или иначе. Это — дело вашего собственного усмотрения, и только.
— Но ведь французский посол потребует определенного ответа?
— Тогда путь подождет, пока совершившийся факт ответит ему вместо всяких слов.
Елизавета задумалась.
— Ну что же, — ответила она, — пусть войдет посол!
Елизавета предпочла принять де Бельевра в присутствии немногих близких лиц.
Посол вошел в комнату с вежливостью и изысканностью манер истинного француза, но и с уверенностью храброго франка. Он в изысканных выражениях приветствовал Елизавету от имени своего государя.
Когда ему было разрешено говорить, он произнес длинную, содержательную речь, которая должна была произвести несомненное впечатление. Бельевр осветил дело Марии Стюарт с точки зрения исторической науки. Он сослался на все примеры суда и казни над коронованными особами. Все эти прецеденты он разбил на две категории — на случаи, когда подобная судьба коронованной особы юридически оправдывалась, и когда она не могла быть оправдана таким образом. Случай Марии Стюарт он отнес сначала к первой категории и после ряда доказательств сделал вывод, что приговор над ней противоречит исторической логике. Таким образом, осуждение Марии Стюарт могло быть отнесено только ко второй категории — к категории случаев незаконного суда над государями. Затем посол перешел к политической стороне события в отношении настоящего и будущего и намекнул на бесконечное количество мстителей, появление которых вызовет за границей казнь Марии Стюарт. После этого де Бельевр перешел к Англии и английскому народу. С неотразимой логикой он доказал, что тот самый народ, который теперь требует казни Марии Стюарт, потом будет проклинать виновницу этой смерти. В конце концов он постарался доказать, что казнь Марии будет только на руку всем внешним и внутренним врагам Елизаветы, что они только и ждут этого, так как в суровости этой меры надеются найти оправдание их действий и намерений.
Елизавета и ее советники никак не ожидали встретить во французском после такого оратора.
Бэрлей и Валингэм в первое время чувствовали себя разбитыми по всем пунктам, Елизавета вначале испугалась, но именно потому, что стрелы посла попали в цель, ее гордость зашевелилась и вызвала у нее необдуманный припадок ярости, Не чувствуя себя в состоянии сейчас же ответить что-нибудь на положения, выставленные Бельевром, она принялась попросту поносить Марию на чем свет стоит. Она забылась до такой степени, что представила себя и Марию врагами не на жизнь, а на смерть.
— Только смерть одной из нас, — сказала она, — могла бы обеспечить спокойную жизнь другой.
Она потребовала от Бельевра чтобы он указал ей какой- нибудь выход, который гарантировал бы страну от бунтовщических посягательств Марии, тогда она с удовольствием не только помилует ее, но и отпустит на все четыре стороны.
Бельевр ухватился за это и просил, чтобы ему было разрешено развить в дальнейшем эту мысль, но для этого он должен сначала испросить специальных инструкций у своего государя. Это было ему разрешено, и посол удалился.
Когда он ушел, Елизавета и ее советники тяжело вздохнули. Бельевр нарисовал им такие перспективы последствий казни Марии, о которых до сих пор они даже и не думали.
— Я жила под вечной угрозой, пока Мария Стюарт оставалась на свободе, — сказала Елизавета, — я продолжала жить под угрозой, когда она попала в мои руки, и такое же положение вещей ожидает меня и после ее смерти. Я — несчастная королева!
— Вы напрасно изволите беспокоиться, ваше величество! — пытался утешить ее Валингэм. — Ваша особа находится в полной безопасности.
— Но как мне теперь быть с этими переговорами? Как отклонить вмешательство Франции?
— Вам нужно для отдыха переменить резиденцию, — ответил Бзрлей, — а ведение дальнейших переговоров возложить на меня.
— А мне поручить, — вставил Валингэм, — дать этому господину, равно как и всем любителям совать нос в чужие дела, подобающий ответ.
— Что же вы собираетесь предпринять? — спросила Елизавета.
— Заставить ответить население Лондона, всей Англии! — ответил государственный секретарь.
— Это не повредило бы! — заметил Бэрлей.
— Хорошо, я согласна на это. Принимаю ваше предложение, милорды. За каждое облегчение, которое вы сделаете мне в этом трудном деле, я щедро награжу вас.
Одновременно с переговорами с Францией происходили также переговоры с шотландским королем Иаковом.
Когда известие о процессе, начатом против Марии Стюарт, дошло до Шотландии, там в душах всех вспыхнуло возмущение против этого. Часть дворянства выразила его в письмах к Елизавете и Валингэму. В них содержались угрозы, заслуживавшие внимания.
Лишь сын несчастной Марии, король Иаков VI, казалось, не сочувствовал страданиям и мрачному будущему своей матери и ясно выразил это перед французским посланником.
— Ваше величество, — проговорил посланник, — обращение английской королевы с вашей матерью должно было бы возмутить вас до последней степени.
— Вы забываете, что я — король и что для меня важнее всего спокойствие моего государства! — возразил Иаков VI.
— Но ведь подданные вашего величества ничего не имеют против Марии Стюарт как матери своего короля! — заметил посланник.
— Нет, нет, не говорите мне ничего о бывшей королеве, — нетерпеливо ответил король. — Моя мать пожинает лишь то, что она посеяла.
Шотландский же парламент высказал иное мнение на этот счет и предложил Иакову VI объявить войну Англии.
Король ограничился тем, что написал письмо Елизавете, в котором просил английскую королеву держать Марию Стюарт еще в более строгом заточении, чем это было до сих пор.
Многие шотландские лорды, среди которых был и Георг Сэйтон, продолжали горячо убеждать короля заступиться за свою мать, но он относился очень холодно к их просьбам и решительно заявлял, что предпочтет видеть Марию Стюарт мертвой, чем решится поссориться с Елизаветой и лишиться, таким образом, надежды унаследовать от нее английский престол.
В это-то время в Шотландию и приехал граф Сэррей со своими спутниками. Он прежде всего отправился к Георгу Дугласу, который принял его с распростертыми объятиями. Сэррей рассказал, с какой целью он явился в Шотландию, и просил сообщить ему, какое настроение господствует при дворе и среди народа. Дуглас предупредил преданного друга Марии Стюарт, что трудно рассчитывать на успех его дела, и познакомил его со всем тем, что происходило в последнее время в Шотландии. Между прочим он упомянул и о том, что семья Сэйтонов совершенно удалена от двора.
— Мне нужно видеть сейчас же Георга Сэйтона, — сказал Сэррей.
— Поедемте к нему, — предложил Дуглас, — я буду сопровождать вас.
Сэйтоны были непоколебимы в своей привязанности к Марии Стюарт. Но глава семьи, Георг Сэйтон, несмотря на все старания, ничего не мог сделать для улучшения судьбы бывшей шотландской королевы: его сестры тоже оказались бессильными. Мария Сэйтон уже давно была больна: горе, всевозможные волнения, страдания за королеву и свою судьбу окончательно подорвали ее здоровье. Даже, остававшаяся дольше всех при Марии Стюарт, была всецело поглощена мыслью о ней и не переставала оплакивать несчастную королеву. В замке Сэйтонов царила грусть, которая еще усиливалась от зимней непогоды и замкнутой, уединенной жизни.
Вся семья была очень удивлена когда однажды вечером слуга доложил, что в замок приехали гости.
Георг Сэйтон велел просить неожиданных посетителей и был искренне обрадован при виде Дугласа и графа Сэррея. Сестры смутились, отвечая на поклон графа. Мария побледнела, а Джэн, наоборот, вспыхнула, как молоденькая девушка. Сэррей тоже не мог побороть свое волнение.
— Что привело вас снова в Шотландию? — спросил Сэйтон после первых взаимных приветствий. — Я думал, что вы вынесли уже достаточно много страданий в нашей несчастной стране и не захотите больше приезжать сюда.
— Правда, мне пришлось пережить много грустных минут в Шотландии, — ответил Сэррей, — но тут же я испытал и счастливейшие часы в моей жизни. Теперь же я приехал в Шотландию для того, чтобы сообщить Иакову Шестому, как дурно обращаются с его матерью.
— Он это знает! — мрачным голосом заметил Сэйтон.
— Да, но он слышал об этом от лиц, не видевших, как оскорбляют Марию Стюарт, а я сам — очевидец недостойного поведения Елизаветы. Я надеюсь, что мне удастся убедить короля спасти свою мать! — сказал Сэррей.
— Ах, если бы вы могли сделать это! — с тяжелым вздохом произнесла Джэн.
— Граф Сэррей может многое сделать! — колко заметила Мария Сэйтон.
— Благодарю вас за такое доверие ко мне, — поклонился Сэррей, — оно для меня тем более ценно, что я редко видел его с вашей стороны.
— Господи, — нетерпеливо воскликнул Георг Сэйтон, — я думаю, что вы уже настолько помудрели с возрастом, что можете говорить о серьезных вещах без всяких колкостей и шуток.
— Я и не шучу, милорд, — возразил Сэррей. — Однако скажите, каким образом я могу видеть короля? Говорят, что он живет очень замкнуто и доступ к нему труден.
— Обратитесь к любимцу Иакова, лорду Грэю, — насмешливо ответил Сэйтон, — если вам удастся попасть к нему в милость, то и король отнесется к вам благосклонно.
— Вы смеетесь, — заметил Сэррей, — но я действительно обращусь к нему.
— Это ни к чему не приведет! — пробормотал Дуглас.
— Я знаю, — продолжал Сэррей, что Грэй — враг Марии Стюарт и оказывает самое пагубное влияние на ее сына; тем не менее я надеюсь достигнуть через него того, чего желаю.
— Дай Бог! — недоверчиво пожал плечами Сэйтон.
После ужина, за которым присутствовали Мария и Джэн, гости разошлись по своим комнатам.
На другое утро Сэррей встал пораньше и вышел в столовую, надеясь увидеть Джэн и поговорить с ней наедине. Его надежды оправдались. Младшая леди Сэйтон, очевидно, тоже была не прочь повидаться со своим поклонником, и когда Сэррей вошел в комнату, то застал там предмет своей неизменной любви.
— Вы, вероятно, не думали, миледи, встретиться со мной после нашего последнего свидания и моего прощального письма? — обратился Сэррей к Джэн.
— Сознаюсь, милорд, что не рассчитывала видеть вас! — ответила Джэн.
— Ваш ответ заставляет меня спросить вас, довольны ли вы, что ваш расчет не оправдался, или жалеете об этом? — продолжал Сэррей.
— Не расспрашивайте меня, граф, — проговорила Джэн, — вам прекрасно известно, что именно заставляет нас всех страдать! Вы сами знаете, что я ничего не могу иметь лично против вас.
— Благодарю вас, миледи, за эти слова, — сказал Сэррей. — Поверьте, что только беспокойство за участь королевы принудило меня явиться к вам; ведь я знаю, что вы и не желаете встречаться со мной.
— Я очень признательна вам, граф, за вашу преданность королеве, — заметила Джэн. — Впрочем, я никогда не сомневалась, что до последней минуты своей жизни вы готовы служить ей.
— Вы думаете, что только королеве, миледи? — нежно спросил Сэррей.
— Эта служба так велика, что всякие другие интересы бледнеют перед ней! — уклончиво ответила Джэн.
— Но, оставаясь верным королеве до самой кончины, я все же надеюсь и на свое личное счастье. Скажите, Джэн, могу ли я рассчитывать на это счастье? — горячо спросил Сэррей, сжимая руку смущенной леди Сэйтон.
Джэн молчала, потупившись.
— Граф Сэррей, — начала она наконец почти торжественным тоном, — я не буду говорить о том, что брак в нашем возрасте вызовет всеобщий смех, мы можем не обращать на это внимания. Но существует другое препятствие для нашего союза: я не могу быть счастливой в то время, когда моей обожаемой королеве грозит опасность. Устраните это препятствие, освободите королеву, и тогда я ваша.
— Вы смеетесь надо мной, Джэн! — с горькой улыбкой воскликнул Сэррей. — Как можете вы требовать от жалкого изгнанника того, что не в состоянии сделать короли и целые государства?
— Я ничего не требую от вас, граф, — возразила Джэн. — Вы предложили мне вопрос, и я откровенно на него отвечаю вам.
— Вы забыли, Джэн, что я принес в жертву Марии Стюарт свое состояние и положение в обществе! — напомнил Сэррей.
— Я ничего не забыла, Роберт, — возразила Джэн, — я ценю вас за это, преклоняюсь перед вами! Скажу без всякого стеснения, что среди всех мужчин, которых я встречала в жизни, вы — единственный человек, которому я могла бы отдать свою руку.
— Я целую эту руку, ваши слова придают мне новую силу и энергию. Я, конечно, не в состоянии один спасти королеву, но могу повлиять на других. Измените несколько свои условия, скажите, что вы будете моей, если мне удастся склонить короля Иакова на свою сторону. Я думаю, что союз между Шотландией, Францией и Испанией может оказаться настолько опасным королеве Елизавете, что она решится освободить Марию Стюарт. Итак, вы согласны?
— Не мучьте меня, граф Сэррей! — взмолилась Джэн.
— А мои мучения? Как можете вы, Джэн, такая добрая и отзывчивая, быть жестокой со мной? — проговорил Сэррей. — Умоляю вас, не заглушайте в себе тех чувств, которые хранятся в вашем сердце. Ведь ваша жестокость ко мне не спасет королевы. Не приводите меня в отчаяние. Если я буду сознавать, что могу надеяться на личное счастье, во мне оживут юношеские силы, которые в соединении со зрелым опытом могут сделать многое.
Джэн ничего не ответила.
— Что означает ваше молчание? — спросил Сэррей. — Я принимаю его за согласие на предложенное условие. Итак: если король Иаков Шестой предпримет что-нибудь серьезное для спасения своей матери, вы обещаете быть моей женой! Да?
— Да! — прошептала Джэн. — Поговорите с моим братом.
Сэррей заключил Джэн в свои объятия, и легкая грусть охватила обоих. Сэррей поцеловал руки своей невесты и отправился к Георгу Сэйтону. Но тот довольно холодно принял его предложение. Узнав, на каких условиях Джэн согласилась быть женой графа Сэррея, Сэйтон согласился на этот брак, хотя и не мог вполне подавить свое неудовольствие.
В тот же день вечером Сэррей и Дуглас покинули замок Сэйтонов. Дуглас отравился в свое поместье, а Сэррей с двумя спутниками поехал в Эдинбург.
Случайно или умышленно, но воспитание короля Иакова велось крайне небрежно. В юности он подпадал под совершенно противоположные влияния, которые не могли не отразиться на его характере. Он был в одно и то же время добродушно бесхарактерным и страшно жестоким. Вид обнаженного меча приводил его в трепет, а вместе с тем он был способен на безумно смелый поступок. Отличаясь большой скупостью, Иаков VI все же тратил большие деньги на подарки своим любимцам, которые менялись очень часто, пока король не приблизил к себе Патрика Грэя.
Главной страстью Иакова VI или, вернее, главной его слабостью была охота. Всякий, кто хотел попасть в милость к королю, должен был интересоваться охотой или по крайней мере делать вид, что интересуется ею. Большую часть своего времени король проводил на охоте, в обществе Грэя.
Когда Сэррей приехал в Эдинбург, Иаков VI тоже охотился в горах вместе со своим фаворитом.
Сэррей словно помолодел с тех пор, как Джэн Сэйтон обещала быть его женой. Даже Брай заметил перемену в своем друге. Узнав, в чем дело, он только глубоко вздохнул над напрасно потраченными годами и своей разбитой жизнью.
Сэррей нанял квартиру и начал нетерпеливо ожидать возвращения короля. Сначала он думал поехать вслед за ним на охоту, но потом решил, что для дела будет полезнее, если он переговорит с Иаковым VI в Эдинбурге.
На этот раз король охотился недолго. Как только Сэррей узнал о его приезде, он отправился к всесильному Патрику Грэю.
Фаворит Иакова VI принял Сэррея с некоторым удивлением.
— Граф Сэррей? — переспросил он, задумавшись. — Мне кажется, что я вас знаю, милорд. Где мы с вами встречались?
— В Париже, в Англии и здесь, — ответил Сэррей, — но вам, вероятно, более знакомо мое имя, чем я сам.
— Совершенно верно! — смеясь, воскликнул Грэй. — Я очень рад видеть вас и думаю, что какие-нибудь особенные обстоятельства привели вас ко мне. Садитесь, милорд, и расскажите, в чем дело.
— Я хотел просить вас доставить мне аудиенцию у короля! — проговорил Сэррей.
Грэй принял важный вид. Просьба Сэррея польстила его самолюбию.
— Ах, вы просите аудиенции, — улыбаясь, сказал Грэй, — только аудиенции? Моего ходатайства вам не нужно?
— Напротив, о нем я особенно прошу вас! — возразил Сэрррей.
— Скажите же мне, чего вы хотите. Ввиду того, что вы не шотландец, я не моту предугадать, в чем дело.
— Как вам, может быть, известно, — проговорил Сэррей, — я изгнан из Англии, хотя и оставался там до сих пор.
— Я этого не знал! — заметил несколько смущенно Грэй.
— Мои поместья в Англии не конфискованы, но все же на них наложен запрет, — начал Сэррей.
— Вы хотите получить их обратно? — перебил Грэй.
— Не совсем так. Я намереваюсь вступить в брак с шотландкой и перейти в подданство короля Иакова VI…
— Я думаю, что король ничего не будет иметь против этого.
— Я уверен, что после вашей милостивой просьбы его величество не откажет мне в этой просьбе. Но, помимо этого, я хочу просить короля ходатайствовать перед Англией, чтобы мне была выплачена деньгами стоимость моих имений.
— Ах, так вот в чем вся суть! — воскликнул Грэй.
— В знак признательности к вам за милостивое содействие я прошу вас, сэр, принять от меня эту бумагу.
Сэррей вынул из кармана сложенный лист и передал его Грэю, который с удивлением развернул его.
Это была дарственная запись на имя Патрика Грэя. По ней половина английских поместий лорда Сэррея переходила во владение фаворита короля Иакова VI.
Грэй с изумлением смотрел на человека, так просто предлагавшего ему огромный подарок. К числу недостатков Грэя можно было отнести и страшное корыстолюбие.
— Милорд, — весело воскликнул он, — я обещаю вам и аудиенцию, и свое ходатайство, и все, все, что вы захотите.
Легкая улыбка скользнула по губам Сэррея и тотчас же исчезла. Он знал, что его щедрый подарок ничего не стоит, но, конечно, умолчал об этом.
— Когда я могу иметь счастье представиться его величеству? — спросил Сэррей.
— Когда хотите, милорд, хоть сегодня! — ответил Грэй.
— Чем скорее, тем лучше! — заметил Сэррей.
— Тогда скажите мне, где вас найти, и я пошлю за вами, как только будет можно! — проговорил Грэй.
Сэррей оставил свой адрес и распростился с могущественным любимцем Иакова VI. Он не сомневался, что получит аудиенцию, так как Грэй сам был заинтересован в том, чтобы Англия заплатила за поместья Сэррея.
Придя домой, Сэррей сел за письменный стол и очень долго писал длинное письмо. Затем он запечатал его и надписал за нем имя своей невесты.
Отложив письмо в сторону, Сэррей осмотрел имевшееся у него оружие: меч, кинжал и маленький пистолет, который легко было спрятать. Убедившись в исправности оружия, он позвал к себе Брая и Джонстона и заявил им:
— Друзья мои, в скором времени я должен буду отправиться к королю Иакову. Вы знаете, с какой целью я домогался этого свидания?
Брай утвердительно кивнул головой, а Джонстон весело ответил:
— Да, мы знаем, и от всей души желаем вам успеха!
— Я решил, — продолжал Сэррей, — во что бы то ни стало достигнуть своей цели. Все меры будут пущены для этого в ход, весьма возможно, что придется погубить себя, и в таком случае вы больше никогда не увидите меня.
Брай равнодушно выслушал это сообщение, а Джонстон с удивлением посмотрел на графа.
— Если я к вам больше не вернусь, — заговорил снова Сэррей после некоторого молчания, — то вы оба останетесь моими наследниками. Разделите мое имущество по равной части между собой. Я прошу вас только, сэр Брай, передать это письмо лично леди Джэн Сэйтон.
— Все будет исполнено, как вы приказываете, — ответил Брай. — Во всяком случае знайте, что за вашу смерть жестоко отомстят. Я беру на себя это дело.
— Я присоединяюсь к вам! — поддержал клятву и Джонстон.
— Благодарю вас, друзья мои, за вашу верность и привязанность ко мне, — проговорил он, подавая им руку. — Я все надеялся, что в состоянии буду вознаградить вас за ваши труды, но, кажется, моим надеждам не суждено сбыться. Прощайте и будьте счастливы!
По уходе Сэррея Патрик Грэй оделся и отправился во дворец. Дар Сэррея был так заманчив, что любимец короля решил действовать безотлагательно.
У Иакова VI был сонный и скучающий вид, когда Грэй вошел в комнату. При виде своего любимца король оживился.
— Ты уже встал, Патрик? — спросил он. — А я все ломал себе голову над вопросом, — приказать ли разбудить тебя, или ждать, пока ты сам проснешься! Как поживают наши собаки, Патрик?
— У меня еще не было времени справиться о них, Иаков, — шутливо ответил Грэй, — приличие требовало, чтобы я прежде всего навестил их хозяина. Как я вижу, ты дьявольски хорошо чувствуешь себя, Иаков!
— Именно дьявольски! — недовольным тоном ответил король. — Я провел скверную ночь, теперь мне хочется спать, все раздражает, одним словом, я готов подраться с чертями.
— Ты в дурном настроении, король! В таком случае позвольте откланяться, ваше величество! — шутливо поклонился Грэй.
— Не дурачься, Патрик! Садись и постарайся развлечь меня.
— Попробую. Мне сегодня с утра пришлось иметь дело с весело настроенными людьми…
— Ах, у тебя есть какая-то новость? — перебил Грэя король. — Говори скорее.
— Ну хорошо. Скажи мне, Иаков, ты любишь своих верных друзей? — спросил Патрик.
— Что ты хочешь этим сказать? Я знаю, что все друзья — очень дорогая мебель; черт бы их побрал.
— Да, я думаю, что они тебе дорого обходятся, — подтвердил Грэй, — ты осыпаешь их благодеяниями, твоя щедрость не имеет границ!
— Я не понимаю тебя, Патрик, ты точно смеешься, а между тем нет еще и недели, как я подарил тебе французскую борзую.
— Черт бы побрал всех собак вместе с твоими друзьями! — засмеялся Грэй. — А знаешь ли ты, Иаков, что простой английский лорд перещеголял в щедрости шотландского короля?
— Что ты выдумываешь! — махнул рукой Иаков.
— Уверяю тебя, что говорю серьезно! Вот посмотри-ка, какой подарок я получил сегодня утром..
Грэй протянул королю дарственную запись, полученную от Сэррея.
— Это недурно! — воскликнул Иаков. — Скажи, пожалуйста, не тот ли это Сэррей, который слишком интересовался ее величеством, моей матерью?
— Я думаю, что тот самый! — ответил Грэй.
— Тот самый, у которого вышла история с Лейстером? — снова спросил король.
— Да!
— Он теперь здесь? Интересно знать, любит ли охотиться этот малый! — задумчиво произнес Иаков.
— Не малый, а старик! — поправил Грэй. — Я думаю, что он — прекрасный охотник!
— Ах да, я и забыл, что Сэррей не может быть молодым. Отчего же он не представился нам? — спросил король. — Я хотел бы видеть его.
— А он — тебя! — засмеялся Грэй. — Дело устраивается в лучшем виде.
— К твоей выгоде, Патрик? — мрачно заметил Иаков.
— Никоим образом, — серьезно возразил Грэй, — для меня совершенно безразлично, примешь ли ты Сэррея, или нет. Вероятно, он хочет исполнить просто долг вежливости, желая представиться тебе, а может быть, попросить, чтобы ты принял его к себе на службу. Говорят, что он — храбрый воин.
— Мне кажется, что его выслали из Англии, — вспомнил Иаков, — пожалуй, кузина Елизавета рассердится на меня, если я приму его.
— В таком случае я предложу ему поскорее уехать из Шотландии, — сказал Грэй.
— Нет, нет, я хочу поговорить с ним! — капризно заявил король.
— Тогда, быть может, позвать его сегодня? — предложил Патрик. — Ты скучаешь, а лорд Сэррей — старый холостяк, жил долго при французском дворе и может рассказать кое-что очень веселое про парижские нравы.
— Пошли за ним! — распорядился Иаков.
— Ваше величество изволит приказывать — и верному рабу приходится повиноваться! — шутливо раскланялся Грэй и вышел из комнаты.
— Повеса! — крикнул ему вслед король.
Лакей, посланный Грэем, застал Сэррея дома, и граф немедленно явился во дворец короля, где его принял сначала Грэй.
— Я ничего не сказал королю относительно вашего дела, — предупредил Патрик Сэррея, — говорите с ним смело, сами.
Он ввел Роберта Сэррея в приемную короля и затем удалился под каким-то предлогом, оставив Иакова VI наедине с лордом Сэрреем, который внимательно осматривал все выходы из комнаты, думая, что ему, может быть, придется тайно скрыться из дворца.
Король предложил Сэррею сесть и начал говорить с ним сначала о делах Англии и о судьбе самого Сэррея, который рассказал о том деле, ради которого будто бы приехал в Шотландию.
Иаков не дал определенного ответа, он обещал подумать, это означало, что хотел посоветоваться со своим фаворитом. И Сэррей перевел разговор на то, для чего действительно явился к королю.
Иаков сейчас же понял главную цель Сэррея и с непостижимым упрямством заявил, что не намерен ничего больше делать для своей матери.
Однако Сэррей не отступал. Он постарался осветить с самой благоприятной стороны этот вопрос в чисто политическом отношении. Был уже такой момент, когда король начал видимо склоняться на его сторону, как вдруг опомнился и пошел на попятный:
— Нет, нет, не говорите мне больше ничего о моей матери! Она получает по заслугам.
Сэррей хотел затронуть сердце короля, но оно было покрыто непроницаемой броней. Он так грубо отвечал на просьбы Сэррея, что граф вышел из себя и решил пустить в ход последнее средство. Он обнажил свой меч и бросился к Иакову VI, который смертельно побледнел, задрожал и закрыл глаза от страха.
— Вы хотите убить меня? — закричал король. — Спрячьте свой меч!
— Выслушайте меня, ваше величество, — угрожающим тоном проговорил Сэррей, — обнаженный меч так испугал вашу мать, что эта боязнь перешла и на вас. Этот же меч закончит вашу жизнь, если вы не согласитесь исполнить мое требование.
— Спрячьте свой меч, я сделаю все, что вы хотите! — простонал Иаков.
— Прежде всего дайте мне слово, что вы никого не позовете на помощь и никому не расскажете о том, что сейчас происходит между нами! — потребовал Сэррей.
— Даю вам слово! — весь дрожа, ответил король.
— Затем вы должны согласиться на все мои условия и дать мне в этом письменное доказательство, подписанное вашим именем.
— Хорошо, хорошо, я на все согласен, только спрячьте свой меч! — твердил Иаков.
Сэррей вложил меч в ножны и проговорил, не спуская с короля взгляда:
— Мое условие заключается в следующем: вы сейчас же отправите своего посла к Елизавете Английской и потребуете, чтобы она немедленно освободила Марию Стюарт и дала ей возможность уехать, куда та пожелает.
— Я сделаю это, хотя убежден в бесполезности моего требования, — ответил король.
— Вы объявите английской королеве, что в случае ее отказа исполнить ваше требование вам придется воевать с ней, и начнете действительно готовиться к войне.
— Хорошо, я уже дал вам свое слово и теперь не могу отказаться от него! — тоскливо пробормотал Иаков.
— Вы предложите Франции и Испании войти в союз с вами для освобождения Марии Стюарт и пошлете меня в качестве своего посланника к представителям этих двух держав.
— Хорошо, хорошо!
— Теперь я попрошу вас, ваше величество, дать мне письменное удостоверение в том, что вы согласны на все мои условия.
Иаков VI подошел с тяжелым вздохом к письменному столу и написал Сэррею требуемый документ.
Тот внимательно прочел и, пряча его в карман, сказал:
— Спешное дело заставляет меня уехать на несколько дней. Этого времени будет достаточно для того, чтобы отправить кого-нибудь к королеве Елизавете и приготовить для меня полномочия как для вашего посланника во Франции и Испании. Торопитесь, ваше величество!… Если вы промедлите, я должен буду рассказать всем о том, что тут произошло, и опубликовать ваше письменное обязательство. Предупреждаю вас, что всякое покушение на мою жизнь будет поставлено вам в вину и найдутся люди, которые жестоко отомстят вам за мою смерть.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты, не ожидая никаких возражений со стороны короля.
Грэй ожидал Сэррея в следующей приемной и спросил его, доволен ли он результатами аудиенции. Граф ответил, что очень доволен разговором с королем. Тогда Грэй многозначительно улыбнулся и поспешно направился в кабинет Иакова VI.
Король находился еще всецело под впечатлением только что пережитой сцены, когда к нему вошел Грэй. Несмотря на свою ограниченность, Иаков понял, что не следует рассказывать своему фавориту о том, что произошло между ним и Сэрреем.
— Странного человека ты посадил мне на шею, Патрик! — притворно спокойным тоном обратился король к Грэю, — он хочет, чтобы Англия заплатила ему деньга за его поместья и просит моего ходатайства. Но не в этом дело. Он рассказал мне кое-что о жизни моей матери в Англии, и я пришел к заключению, что должен серьезно позаботиться о ее участи. Я хочу послать доверенное лицо к Елизавете и пригрозить ей войной, если она не освободит моей матери. Как ты думаешь, кого можно послать в Лондон?
— Я должен раньше знать подробно весь план действия и только тогда могу предложить кого-нибудь! — ответил Грэй.
Иаков сообщил ему о своих намерениях таким тоном, точно сам придумал весь план. Грэй спросил, разрешается ли этому послу позаботиться также и о поместьях Сэррея, и когда получил утвердительный ответ, то предложил себя в качестве посланца к Елизавете Английской. Король неохотно согласился на это предложение, но Грэй сумел так обставить дело, что Иаков на другой же день отправил его в Лондон.
Сейчас же по приезде Грэй попросил аудиенции у королевы, на что и получил немедленное разрешение. Елизавета прекрасно помнила его. Письмо Иакова VI чрезвычайно удивило и рассердило ее, и в порыве гнева она объявила, что король Шотландии ни под каким видом не унаследует от нее английского престола.
Когда французские послы узнали, что Грэй приехал в Лондон и уже два раза был принят королевой, они тоже явились к ней. Это было 15 декабря 1586 года.
Королева Елизавета очень сетовала при встрече с ними на Генриха III, но опять уклонилась от прямого ответа относительно своих дальнейших намерений и отослала французов к лорду Бэрлею для переговоров. Чтобы избежать участия в совещании по поводу Марии Стюарт, она на другой же день покинула Лондон, оставив широкие полномочия как лорду Бэрлею, так и Валингэму. Она поручила главному сыщику привести в исполнение задуманный им план — организовать народную демонстрацию против Марии Стюарт.

Глава восемнадцатая
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВАЛИНГЭМА

 Статс-секретарь Валингэм 7 декабря 1586 года предложил созвать английский народ и сделал его судьей между королевой Елизаветой и Марией Стюарт. Делая это предложение, Валингэм, очевидно, не уяснил себе хорошо, что представляет собой народ. В то время народные массы во всей Европе были измучены тяжелыми войнами, бедны и лишены всякого политического развития. План Валингэма ясно доказывает, что он не был настоящим государственным деятелем. Согласие Бэрлея на этот проект кладет тень и на прозорливость главного советника королевы; а поведение самой королевы Елизаветы в этом деле несомненно убеждает, что она не знала, что и для абсолютизма существуют известные границы.
На другой же день после своего предложения Валингэм позвал к себе начальника тайной полиции Пельдрама.
— По-видимому, вы чувствуете себя прекрасно, — обратился статс-секретарь к своему подчиненному, — почиваете на лаврах и свое место превратили в синекуру! Великолепно устроились, нечего сказать!
— В чем вы упрекаете меня, ваша светлость? — улыбаясь, возразил Пельдрам. — Я могу сказать, что действительно считаю себя виновником настоящего спокойного состояния Англии. От души желаю ей и в будущем такого же мира и тишины!
— Это хорошо сказано, но вы упускаете из виду одно обстоятельство, — заметил Валингэм. — Полиция так же должна ждать преступлений, как солдат — войны. Без этих условий полицейский и военный становятся бесполезными людьми.
— Нечто подобное испытываю я сам, но войну ведут не ради удовольствия, и преступления — не самоцель, хотя это, как я полагаю, было правилом моего предшественника.
Валингэм опешил, может быть, он почувствовал себя задетым лично, но быстро пришел в себя.
— У вас, ей-Богу, есть здравый смысл! — сказал он. — Ну мы скоро подвергнем его испытанию!
— Вы весьма лестного мнения обо мне!
— Не совсем так, сэр Пельдрам. Каково общее настроение народа в Лондоне?
— Благоприятное, милорд.
— Я подразумеваю отношение к королеве и правительству?
— Благоприятное, милорд.
— Ну а по отношению к так называемой королеве шотландской?
— Плохое, милорд.
— В каком смысле?
— Королеву осуждают, как сделали это и ее судьи.
— Значит, ее смертный приговор встречен с одобрением?
— Да, милорд.
— Народ требует его исполнения?
— Вот уж не знаю, милорд!
— Но народ должен потребовать этого!…
— Вот как? — сухо сказал Пельдрам. — Если бы народу сказали о том, он обрадовался бы.
— Вы — глупец, сэр! — сердито воскликнул Валингэм.
Трезвый, ясный рассудок Пельдрама, вероятно, вполне схватывал значение этого дела. Ведь так часто бывает, что совершенно простые люди мыслят и судят правильнее, чем мудрейшие из мудрецов, когда вопрос касается только человеческих постановлений и действий. Резкое замечание министра как будто совсем не оскорбило агента.
— Ну, — спокойно ответил он на его брань, — колпак дурака впору чуть ли не всякой человеческой голове. Болезнь эта всеобщая.
Статс-секретарь порывисто обернулся и бросил на говорившего зоркий взгляд, после чего однако громко расхохотался.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Мне кажется, мы с вами поладим. Да, да, должность научит уму-разуму! Я почти готов подумать, что вы уже поняли меня.
— Позволю себе объяснить точнее. Судьи высказались, парламент тоже; королева, наша всемилостивейшая повелительница, осталась довольна ихречами, но теперь ей угодно, чтобы и народ, объяснявшийся до сих пор молча, возвысил свой голос.
— Превосходно, сэр. Именно так. Население Лондона, население Англии должно возвысить голос, должно одобрить произнесенный приговор и потребовать его исполнения. Лондон при этом пойдет впереди, народ последует за ним. Вы же с вашими людьми обязаны стараться вызвать чудовищную овацию.
— Дайте мне более точные указания, и я посмотрю, что можно будет сделать.
— Предстоит публичное торжественное объявление приговора Марии Стюарт, и этот день должен сделаться праздником для столицы Англии. Ради того вам поручается огласка предстоящего события, и до наступления знаменательного дня вы будете воодушевлять народ к громким манифестациям.
— Слушаюсь, милорд!
— Хорошо, значит, мы столковались, — воскликнул Валингэм. — Принимайтесь за дело.
И Пельдрам принялся.
Конечно, редко бывало, чтобы шайке сыщиков давалось поручение подобного свойства. Пожалуй, нечто похожее происходило во времена римских императоров в эпоху упадка Рима.
Подчиненные Валингэма, под руководством Пельдрама, сновали по всему городу, появлялись везде. В семейных домах, в трактирах, а также на улицах возвещали они о новом празднике, жители Лондона, радостно настроенные близостью рождественских праздников, жадно бросились на приманку.
Странный подарок к Рождеству готовила Елизавета своим подданным.
День публичного объявления приговора наконец наступил. Предстоящая казнь шотландской королевы была обнародована посредством плакатов, вывешенных на улицах, и словесных объявлений через глашатаев. Кроме этого, круглые сутки трезвонили все лондонские колокола. Жители города день и ночь бродили по улицам. То там, то здесь гремело громкое ликованье. Потешные огни взвивались к ночному небу. Весь Лондон словно спятил с ума.
Когда рассеялся угар, одурманивший английскую столицу и нашедший некоторый отклик в стране, были собраны донесения лиц, поставленных наблюдать за народом, и Елизавете отправили бумагу, в которой излагалось ясно выраженное желание народа.
Однако вместе с тем Бельевр написал королеве, увещевая ее не уступать принуждению и твердо держаться данного слова.
Елизавета ответила ему, что даст еще двенадцатидневную отсрочку. Бельевр тотчас отправил с этим ответом виконта Жанлиса к Генриху III, чтобы ускорить присылку новых инструкций, а затем, по прошествии праздников, явился сам к Елизавете, которая, покинув Лондон, жила в замке Гриниче, где проводила Рождество.
Бельевр удостоился приема, но Елизавета встретила его неблагосклонно.
— Милостивый государь, — сказала она, — я вовсе не желаю больше вмешиваться лично в это злополучное дело; поступок, на который вы решились, перешел границы смелости и заслуживает уже иного названия.
Однако Елизавета ошиблась, рассчитывая запугать этого человека.
— Ваше величество, — сказал он, — вы должны быть благодарны каждому, кто осмелится поступить таким образом, чтобы не дать запятнать вам свой сан и имя.
— Как вы смеете говорить это? — возмутилась Елизавета. — Я одна знаю, что подобает мне делать и что предписывает мне долг по отношению к себе самой! Но прежде всего позвольте спросить: говорите ли вы от имени вашего государя?
— Да, ваше величество!
— Удалитесь! — обратилась королева к своей свите и, оставшись с посланником наедине, холодно спросила: — Значит, до вас уже дошли инструкции короля?
— Не те, которые вы подразумеваете, ваше величество! Инструкции, которым я следую, получены мною уже давно и на крайний случай.
— Тогда говорите, но взвешивайте свои слова и не забывайте, что вы стоите перед королевой, которая обязана отчетом в своих действиях только Господу Богу.
— Богу и человечеству! — возразил Бельевр. — Кроме того, вы ответственны также перед международным правом, если дело дойдет до угроз моей личности, главное правило каждого повелителя — по возможности избегать крови. Кровь вопиет о крови, и этот призыв никогда не остается без последствий.
— Как, вы угрожаете?
— Я уполномочен на это, ваше величество.
— Письменным документом?
— Вот он!
Бельевр подал Елизавете бумаги; королева была озадачена.
— Мой брат, французский король, берет на себя слишком много! — сказала наконец она.
— Не мне судить о том, ваше величество, — возразил Бельевр, — но выслушайте еще одно: вы воображаете, что вам грозят наемные убийцы, подосланные королевой Марией Стюарт. Вы ошибаетесь, потому что если бы она захотела посягнуть на вашу особу таким образом, то ей было бы легко найти человека, который мог бы появиться перед вами под тем же видом, как и я. Откажитесь от этого призрака — и тогда вы посмотрите на дело иными глазами.
Елизавета побледнела, она поднялась с места, ей было трудно скрыть свой страх и принять внушительную осанку.
— Я отправлю своего посланника к королю Генриху! — с усилием произнесла она. — А вы можете возвратиться во Францию.
Бельевр покинул Гринич и Англию. Елизавета написала Генриху пространное письмо, полное обвинений, упреков и угроз.
В своем благородном негодовании Бельевр совершил еще больший промах, который принес весьма прискорбные плоды.
Вскоре после него отбыл и шотландец Грэй, после чего Мария могла уже считаться погибшей.
Статс-секретарь Валингэм 7 декабря 1586 года предложил созвать английский народ и сделал его судьей между королевой Елизаветой и Марией Стюарт. Делая это предложение, Валингэм, очевидно, не уяснил себе хорошо, что представляет собой народ. В то время народные массы во всей Европе были измучены тяжелыми войнами, бедны и лишены всякого политического развития. План Валингэма ясно доказывает, что он не был настоящим государственным деятелем. Согласие Бэрлея на этот проект кладет тень и на прозорливость главного советника королевы; а поведение самой королевы Елизаветы в этом деле несомненно убеждает, что она не знала, что и для абсолютизма существуют известные границы.
На другой же день после своего предложения Валингэм позвал к себе начальника тайной полиции Пельдрама.
— По-видимому, вы чувствуете себя прекрасно, — обратился статс-секретарь к своему подчиненному, — почиваете на лаврах и свое место превратили в синекуру! Великолепно устроились, нечего сказать!
— В чем вы упрекаете меня, ваша светлость? — улыбаясь, возразил Пельдрам. — Я могу сказать, что действительно считаю себя виновником настоящего спокойного состояния Англии. От души желаю ей и в будущем такого же мира и тишины!
— Это хорошо сказано, но вы упускаете из виду одно обстоятельство, — заметил Валингэм. — Полиция так же должна ждать преступлений, как солдат — войны. Без этих условий полицейский и военный становятся бесполезными людьми.
— Нечто подобное испытываю я сам, но войну ведут не ради удовольствия, и преступления — не самоцель, хотя это, как я полагаю, было правилом моего предшественника.
Валингэм опешил, может быть, он почувствовал себя задетым лично, но быстро пришел в себя.
— У вас, ей-Богу, есть здравый смысл! — сказал он. — Ну мы скоро подвергнем его испытанию!
— Вы весьма лестного мнения обо мне!
— Не совсем так, сэр Пельдрам. Каково общее настроение народа в Лондоне?
— Благоприятное, милорд.
— Я подразумеваю отношение к королеве и правительству?
— Благоприятное, милорд.
— Ну а по отношению к так называемой королеве шотландской?
— Плохое, милорд.
— В каком смысле?
— Королеву осуждают, как сделали это и ее судьи.
— Значит, ее смертный приговор встречен с одобрением?
— Да, милорд.
— Народ требует его исполнения?
— Вот уж не знаю, милорд!
— Но народ должен потребовать этого!…
— Вот как? — сухо сказал Пельдрам. — Если бы народу сказали о том, он обрадовался бы.
— Вы — глупец, сэр! — сердито воскликнул Валингэм.
Трезвый, ясный рассудок Пельдрама, вероятно, вполне схватывал значение этого дела. Ведь так часто бывает, что совершенно простые люди мыслят и судят правильнее, чем мудрейшие из мудрецов, когда вопрос касается только человеческих постановлений и действий. Резкое замечание министра как будто совсем не оскорбило агента.
— Ну, — спокойно ответил он на его брань, — колпак дурака впору чуть ли не всякой человеческой голове. Болезнь эта всеобщая.
Статс-секретарь порывисто обернулся и бросил на говорившего зоркий взгляд, после чего однако громко расхохотался.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Мне кажется, мы с вами поладим. Да, да, должность научит уму-разуму! Я почти готов подумать, что вы уже поняли меня.
— Позволю себе объяснить точнее. Судьи высказались, парламент тоже; королева, наша всемилостивейшая повелительница, осталась довольна ихречами, но теперь ей угодно, чтобы и народ, объяснявшийся до сих пор молча, возвысил свой голос.
— Превосходно, сэр. Именно так. Население Лондона, население Англии должно возвысить голос, должно одобрить произнесенный приговор и потребовать его исполнения. Лондон при этом пойдет впереди, народ последует за ним. Вы же с вашими людьми обязаны стараться вызвать чудовищную овацию.
— Дайте мне более точные указания, и я посмотрю, что можно будет сделать.
— Предстоит публичное торжественное объявление приговора Марии Стюарт, и этот день должен сделаться праздником для столицы Англии. Ради того вам поручается огласка предстоящего события, и до наступления знаменательного дня вы будете воодушевлять народ к громким манифестациям.
— Слушаюсь, милорд!
— Хорошо, значит, мы столковались, — воскликнул Валингэм. — Принимайтесь за дело.
И Пельдрам принялся.
Конечно, редко бывало, чтобы шайке сыщиков давалось поручение подобного свойства. Пожалуй, нечто похожее происходило во времена римских императоров в эпоху упадка Рима.
Подчиненные Валингэма, под руководством Пельдрама, сновали по всему городу, появлялись везде. В семейных домах, в трактирах, а также на улицах возвещали они о новом празднике, жители Лондона, радостно настроенные близостью рождественских праздников, жадно бросились на приманку.
Странный подарок к Рождеству готовила Елизавета своим подданным.
День публичного объявления приговора наконец наступил. Предстоящая казнь шотландской королевы была обнародована посредством плакатов, вывешенных на улицах, и словесных объявлений через глашатаев. Кроме этого, круглые сутки трезвонили все лондонские колокола. Жители города день и ночь бродили по улицам. То там, то здесь гремело громкое ликованье. Потешные огни взвивались к ночному небу. Весь Лондон словно спятил с ума.
Когда рассеялся угар, одурманивший английскую столицу и нашедший некоторый отклик в стране, были собраны донесения лиц, поставленных наблюдать за народом, и Елизавете отправили бумагу, в которой излагалось ясно выраженное желание народа.
Однако вместе с тем Бельевр написал королеве, увещевая ее не уступать принуждению и твердо держаться данного слова.
Елизавета ответила ему, что даст еще двенадцатидневную отсрочку. Бельевр тотчас отправил с этим ответом виконта Жанлиса к Генриху III, чтобы ускорить присылку новых инструкций, а затем, по прошествии праздников, явился сам к Елизавете, которая, покинув Лондон, жила в замке Гриниче, где проводила Рождество.
Бельевр удостоился приема, но Елизавета встретила его неблагосклонно.
— Милостивый государь, — сказала она, — я вовсе не желаю больше вмешиваться лично в это злополучное дело; поступок, на который вы решились, перешел границы смелости и заслуживает уже иного названия.
Однако Елизавета ошиблась, рассчитывая запугать этого человека.
— Ваше величество, — сказал он, — вы должны быть благодарны каждому, кто осмелится поступить таким образом, чтобы не дать запятнать вам свой сан и имя.
— Как вы смеете говорить это? — возмутилась Елизавета. — Я одна знаю, что подобает мне делать и что предписывает мне долг по отношению к себе самой! Но прежде всего позвольте спросить: говорите ли вы от имени вашего государя?
— Да, ваше величество!
— Удалитесь! — обратилась королева к своей свите и, оставшись с посланником наедине, холодно спросила: — Значит, до вас уже дошли инструкции короля?
— Не те, которые вы подразумеваете, ваше величество! Инструкции, которым я следую, получены мною уже давно и на крайний случай.
— Тогда говорите, но взвешивайте свои слова и не забывайте, что вы стоите перед королевой, которая обязана отчетом в своих действиях только Господу Богу.
— Богу и человечеству! — возразил Бельевр. — Кроме того, вы ответственны также перед международным правом, если дело дойдет до угроз моей личности, главное правило каждого повелителя — по возможности избегать крови. Кровь вопиет о крови, и этот призыв никогда не остается без последствий.
— Как, вы угрожаете?
— Я уполномочен на это, ваше величество.
— Письменным документом?
— Вот он!
Бельевр подал Елизавете бумаги; королева была озадачена.
— Мой брат, французский король, берет на себя слишком много! — сказала наконец она.
— Не мне судить о том, ваше величество, — возразил Бельевр, — но выслушайте еще одно: вы воображаете, что вам грозят наемные убийцы, подосланные королевой Марией Стюарт. Вы ошибаетесь, потому что если бы она захотела посягнуть на вашу особу таким образом, то ей было бы легко найти человека, который мог бы появиться перед вами под тем же видом, как и я. Откажитесь от этого призрака — и тогда вы посмотрите на дело иными глазами.
Елизавета побледнела, она поднялась с места, ей было трудно скрыть свой страх и принять внушительную осанку.
— Я отправлю своего посланника к королю Генриху! — с усилием произнесла она. — А вы можете возвратиться во Францию.
Бельевр покинул Гринич и Англию. Елизавета написала Генриху пространное письмо, полное обвинений, упреков и угроз.
В своем благородном негодовании Бельевр совершил еще больший промах, который принес весьма прискорбные плоды.
Вскоре после него отбыл и шотландец Грэй, после чего Мария могла уже считаться погибшей.

Глава девятнадцатая
ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ

 Сэррей достиг одной из намеченных им целей, а это помогло ему приблизиться и к другой. Теперь как будто ничто не препятствовало больше его женитьбе на Джэн Сэйтон. Замок Сэйтон стоял среди пустынной, дикой местности в горах; была зима, и погода приняла крайне суровый характер. Бурный ветер то и дело поднимал снежную метель, а жестокая стужа удерживала людей в их жилищах.
Между тем зимнее ненастье не пугало Сэррея, который спешил верхом в замок Сэйтон. Разгоревшийся снова сердечный пыл делал его менее чувствительным к холоду, мешал ему замечать жестокую снежную вьюгу. Его манила вперед сладкая надежда: он рассчитывал в скором времени достичь цели своих желаний.
Обитатели замка не ожидали возвращения Сэррея в такой короткий срок. Поэтому при виде приближающегося гостя они были удивлены, а Георг даже мрачно нахмурился. Тем не менее он радушно приветствовал графа и первым долгом распорядился, чтобы домашние позаботились о его удобствах.
Несмотря на железную волю, Сэррею понадобилось несколько часов, чтобы восстановить свои силы, и лишь после надлежащего отдыха он появился в гостиной замка, где его ожидали трое людей с самыми разнородными чувствами.
Взаимные приветствия опять возобновились.
— Ваше скорое возвращение, — начал Георг, — избавляет меня от необходимости задать вам один вопрос.
— В том-то и дело! — с улыбкой сказал гость. — Между тем было бы лучше, если бы вы задали мне его.
— Вот как? — произнес Сэйтон. — Значит, у вас были известные намерения?
— Разумеется, были, и вы можете быть уверены, что я их не забыл!
— Следовательно, вы сделали попытку, граф?
— Да, и она увенчалась успехом.
— Да? — изумился Георг, а сестры посмотрели на Сэррея широко раскрытыми глазами.
— Я так и знала! — шепотом промолвила Мария. — Да, графу Сэррею доступно очень многое.
Гость поклонился и взглянул украдкой на Джэн. Та покраснела и потупила голову.
— Вы, должно быть, искусны в колдовстве, — воскликнул Георг, — или же произошло чудо.
— Да, нечто подобное, — ответил граф. — Добром, конечно, мне не удалось бы заставить короля Иакова изменить его намерения. Вообще он — человек бесчувственный, просто бессердечный!
— Я давно знал это! — тихо произнес Сэйтон. — Значит, вы прибегли к силе?
Я угрожал обнаженным мечом, и… ну, ведь вы знаете малодушие короля!
— Значит, вы провинились в оскорблении величества, граф?
— Несомненно и даже потребовал удостоверения в том.
Трое слушателей графа посмотрели на него во все глаза. Между тем он вытащил бумагу, написанную королем Иаковом, и подал ее Георгу Сэйтону. Тот взял документ, прочел и передал сестрам.
Пока они читали, Георг мрачно смотрел в пол. Мария тяжело вздохнула, а Джэн бросило в дрожь, когда она вернула документ Сэррею.
— И после такого происшествия вы рискуете еще оставаться в пределах Шотландии и даже путешествовать? — спросил Георг.
— Да, и совершенно один! — улыбаясь, подтвердил Сэррей. — И, как вы видите, без малейшей опасности.
— Вы не знаете короля Иакова.
— Я знаю его и в дополнение составленной им бумага упомянул еще о том, что его посланник к Елизавете, должно быть, теперь уже находится в дороге.
— Хорошо, если бы так! Но каковы однако ваши дальнейшие намерения?
— Я отправляюсь в качестве посланника короля Иакова во Францию и Испанию.
— Вот это — дело. Я полагаю, вы уедете скоро?
— Как только привезу свои полномочия из замка Голируд.
— Значит, вы собираетесь вернуться в Эдинбург?
— Через несколько дней.
— На вашем месте я не стал бы делать этого.
— Я должен, согласно условию. Кроме того, мне надо убедиться, точно ли посланник короля Иакова отбыл в Лондон. Между тем и здесь, как известно вам, моим любезным хозяевам, мне предстоит устроить одно дело.
Сестры и брат примолкли.
— Леди Джэн, — с новой улыбкой начал Сэррей, — я сдержал свое слово.
— Да, граф! — прошептала девушка.
— Ну а вы, леди, сдержите свое?
— Я еще раньше просила вас обратиться к моему брату, он — глава семьи, граф.
— А вы что скажете, лорд Георг? — спросил Сэррей. — Ведь вы также давали мне слово!
Георг продолжал мрачно и молча смотреть в пространство.
— Да, я дал вам слово, — с расстановкой произнес он, немного помолчав, — а для меня мое слово священно.
— Благодарю вас обоих! — с живостью сказал Сэррей. — Но вы знаете, что времени у меня в обрез, и потому свадьба должна быть тихая и на скорую руку.
— Согласен с вами, — ответил Сэйтон, — но, в свою очередь, попрошу вас обратиться с этим к сестрам.
— А вы что скажете, Джэн? — спросил Сэррей, взяв руку молодой девушки.
— Роберт, — ответила она, — у меня нет более собственной воли. Время принадлежит вам и вашей цели, потому что, как вам известно, мое решение было принято лишь с тем, чтобы содействовать ей.
По лицу Сэррея скользнуло страдальческое выражение, но он вскоре преодолел себя и сказал:
— В таком случае можно ли в пятидневный срок справиться со всеми необходимыми приготовлениями?
— Да, — ответил Георг, — в воскресенье может состояться ваша свадьба.
Сэррей по очереди пожал руки брату и обеим сестрам Сэйтон.
Наступила продолжительная пауза, после которой переговоры возобновились опять. Дело в том, что хотя свадьба затевалась тихая, но это значило только, что на нее не будут приглашены гости издалека. К людям своего клана это не относилось, их было необходимо пригласить и угощать на свадебном пиру; в подобных случаях это было их правом и посягнуть на него значило подстрекать их к неповиновению и упорству.
Жених не принимал участия в этих переговорах между домашними, а лишь извинялся, что причинил столько хлопот; но делать было нечего.
На другой день из замка потянулись люди и подводы за съестными припасами, снаряжались гонцы, чтобы оповестить людей клана, и вскоре замок Сэйтон принял иной вид, оживился и повеселел. Действительно, его комнаты мало-помалу наполнились гостями, которые только и знали, что угощались с утра до вечера или поднимали шумные споры, когда виски ударяло им в голову. Между тем подвозили все новые запасы съестного, чтобы доставлять дальнейшую работу желудкам приглашенных, и те приятно проводили время, насколько позволяли обстоятельства и суровая погода.
Так настал знаменательный день, и священник уже совершил поутру богослужение, на котором присутствовали все гости, прибывшие в замок.
После полудня должно было состояться само бракосочетание, и ввиду близости важного момента Сэррей, а также и его невеста чувствовали себя в торжественном настроении. Сэррей пожелал еще переговорить с Джэн наедине, прежде чем предстать с ней перед алтарем, и молодая девушка согласилась исполнить его желание.
Однако не успел он начать разговор, как Мария подала Сэррею записку, сильно озадачившую его. Он дважды пробежал ее глазами, и удивленная Джэн тотчас заметила в нем тревогу, вызванную этим посланием.
— Что с вами, Роберт? — спросила невеста. — Кажется, вы получили неприятные известия?
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Важные и безотлагательные? — переспросила девушка. — Тогда сначала переговорите с ним, Роберт.
— А вы разрешаете это?
— Что за вопрос, Роберт! Кто может знать, как много зависит от того, что вы повидаете присланного гонца?
— Ваша правда, тем более, что писавший эти строки может сообщить только важное.
— Так ступайте, Роберт!
— Кто принес эту записку, Мария? — спросил Сэррей старшую Сэйтон.
— Этот человек ждет во дворе!
— Тогда прошу извинения! — сказал граф, поклонился и поспешно вышел.
В коридоре Сэррей столкнулся с незнакомым человеком, который сообщил, что ему поручено проводить графа к тому, кто желает переговорить с ним.
— Кто послал вас? — спросил граф.
— Сэр Брай и сэр Джонстон, — ответил тот.
— А где они находятся?
— В Эдинбурге, — последовал ответ. — Но со мной прибыл человек, который хочет с вами переговорить по их поручению.
— Где же он?
— За воротами замка.
— Пойдемте! — сказал Сэррей, и они вдвоем покинули замок.
Кто-то из прислуги замка слышал происходивший между ними разговор и был свидетелем ухода Сэррея.
Так как стояли короткие зимние дни, то и при ясной погоде около трех часов пополудни начинало уже темнеть, а в тот день при непрекращавшейся снежной метели стемнело еще раньше. В этом вечернем сумраке и скрылись Сэррей и его провожатый.
Между тем гости и священник постепенно собрались в церкви замка. Недоставало только обрученной четы, а также брата и сестры невесты…
И в этом немалую роль сыграли события в Эдинбурге.
Едва только Грэй успел покинуть Голируд, как король Иаков стал тотчас собираться в отъезд из столицы своего королевства. Однако еще до своего отъезда он потребовал к себе егеря из своих отдаленных поместий и долго беседовал с ним, после чего тот направился в Эдинбург.
Приезжий егерь, получивший поручение этого рода, нанял себе квартиру в Эдинбурге, тогда как Иаков с небольшой свитой, несмотря на скверную погоду, отправился на север Шотландии.
Оставшийся в Эдинбурге егерь часто появлялся в той местности, где была квартира Сэррея, занятая до сих пор его спутниками. И вот однажды он столкнулся здесь с Джонстоном. Последний опешил при виде егеря, смутился и тот при этой встрече. Не было сомнения, что они узнали друг друга, но это не доставило им удовольствия.
Королевский егерь первый решился заговорить, пожалуй, из-за того, что чувствовал себя в полной безопасности.
— Здравствуйте, сэр! — сказал он. — Вот уж не думал не гадал когда-нибудь встретиться с вами, а тем более здесь, в столице Шотландии!
— Это вы?! — откликнулся Джонстон. — Однако вы носите теперь военную форму, да еще королевскую; это — вовсе не то платье, каким довольствовался некогда Джэмс Стренглей, и потому вам позволительно теперь смотреть свысока на старого друга.
— Ну расстались-то мы как раз не по-дружески, — возразил Джэмс. — Но все-таки с какой стати быть нам на «вы»? Я могу с таким же удобством спросить: «Как поживаешь, друг Джонстон?»
— Благодарствую! — ответил тот. — Не могу жаловаться. Однако ты, во всяком случае, более удачлив?
— Это что-нибудь да значит, друг Джонстон! Человека, терпевшего гонения от Босвела, король Иаков, конечно, мог возвысить.
— Но Босвел, пожалуй, был прав?
— Это как смотреть на вещи, старина. Скажи, однако, ты сделался папистом?
— Вовсе нет, но я перестал воровать чужую дичь.
— О, я также давным-давно бросил это ремесло! Значит, мы оба стали порядочными людьми.
— Как будто и так.
— По-моему, ничто не мешает нам теперь достойно отпраздновать нашу встречу.
— Гм!… — замялся Джонстон.
Однако королевский ловчий приставал к нему до тех пор, пока тот не согласился позавтракать вместе с ним.
Старые приятели отправились в харчевню, где заказанный ими завтрак продлился не только до обеда, но даже до ужина.
Когда, после возобновления прежней дружбы, они поднялись наконец, чтобы отправиться по домам, голова Джонстона сильно отяжелела. Джэмс Стренглей выведал от него все, что желал знать, а вдобавок получил еще несколько строк, написанных его рукой, чего, собственно, и добивался главным образом.
Джонстон, пошатываясь, поплелся восвояси и на другой день не помнил хорошенько, что с ним произошло. Стренглею также понадобилось некоторое время, чтобы очухаться после дружеской попойки, однако это удалось ему скорее и лучше, чем Джонстону. На следующее же утро, в сопровождении другого человека, он затем верхом покинул Эдинбург и направился к замку Сэйтон.
Именно эти двое бродяг выманили Сэррея из замка, и, как можно догадаться, исчезновение графа Сэррея произошло по наущению короля Иакова.
Сэррей исчез бесследно как раз перед своим бракосочетанием с Джэн Сэйтон.
Однако нужно прибавить, что и другим лицам могла быть выгодна гибель этого ревностного приверженца шотландской королевы.
Думали и на Георга Сэйтона, так как он постоянно смотрел на Сэррея как на человека, который нанес ему смертельное оскорбление. Установить что-либо верное насчет этого случая так и не удалось.
А тем временем все обитатели замка Сэйтон вместе с прибывшими гостями собрались в церкви, и ввиду того, что жених с невестой мешкали слишком долго, Георг пошел сам поторопить их.
Тут сестры сообщили ему о том, что Сэррей вышел по какому-то поводу из замка и не вернулся.
Георг не обнаружил при этом особенного удивления, однако послал людей на поиски жениха. Его искали повсюду, около замка и в окрестностях, искали тщательно и настойчиво, но и Сэррей, и присланный к нему гонец словно канули в воду.
Вскоре весть об исчезновении графа проникла и в церковь. Она постепенно опустела, и вместо свадебного пира приглашенные приступили к подобию погребальной тризны.
Джэн никто не мог утешить. Гостям осталось только покинуть замок, погруженный в печаль.
Брай и Джонстон деятельно разыскивали своего друга повсюду и наконец пропали без вести сами, причем никто не мог сказать, куда они девались.
Итак, от Сэррея уже нельзя было ожидать никакой помощи Марии Стюарт.
Сэррей достиг одной из намеченных им целей, а это помогло ему приблизиться и к другой. Теперь как будто ничто не препятствовало больше его женитьбе на Джэн Сэйтон. Замок Сэйтон стоял среди пустынной, дикой местности в горах; была зима, и погода приняла крайне суровый характер. Бурный ветер то и дело поднимал снежную метель, а жестокая стужа удерживала людей в их жилищах.
Между тем зимнее ненастье не пугало Сэррея, который спешил верхом в замок Сэйтон. Разгоревшийся снова сердечный пыл делал его менее чувствительным к холоду, мешал ему замечать жестокую снежную вьюгу. Его манила вперед сладкая надежда: он рассчитывал в скором времени достичь цели своих желаний.
Обитатели замка не ожидали возвращения Сэррея в такой короткий срок. Поэтому при виде приближающегося гостя они были удивлены, а Георг даже мрачно нахмурился. Тем не менее он радушно приветствовал графа и первым долгом распорядился, чтобы домашние позаботились о его удобствах.
Несмотря на железную волю, Сэррею понадобилось несколько часов, чтобы восстановить свои силы, и лишь после надлежащего отдыха он появился в гостиной замка, где его ожидали трое людей с самыми разнородными чувствами.
Взаимные приветствия опять возобновились.
— Ваше скорое возвращение, — начал Георг, — избавляет меня от необходимости задать вам один вопрос.
— В том-то и дело! — с улыбкой сказал гость. — Между тем было бы лучше, если бы вы задали мне его.
— Вот как? — произнес Сэйтон. — Значит, у вас были известные намерения?
— Разумеется, были, и вы можете быть уверены, что я их не забыл!
— Следовательно, вы сделали попытку, граф?
— Да, и она увенчалась успехом.
— Да? — изумился Георг, а сестры посмотрели на Сэррея широко раскрытыми глазами.
— Я так и знала! — шепотом промолвила Мария. — Да, графу Сэррею доступно очень многое.
Гость поклонился и взглянул украдкой на Джэн. Та покраснела и потупила голову.
— Вы, должно быть, искусны в колдовстве, — воскликнул Георг, — или же произошло чудо.
— Да, нечто подобное, — ответил граф. — Добром, конечно, мне не удалось бы заставить короля Иакова изменить его намерения. Вообще он — человек бесчувственный, просто бессердечный!
— Я давно знал это! — тихо произнес Сэйтон. — Значит, вы прибегли к силе?
Я угрожал обнаженным мечом, и… ну, ведь вы знаете малодушие короля!
— Значит, вы провинились в оскорблении величества, граф?
— Несомненно и даже потребовал удостоверения в том.
Трое слушателей графа посмотрели на него во все глаза. Между тем он вытащил бумагу, написанную королем Иаковом, и подал ее Георгу Сэйтону. Тот взял документ, прочел и передал сестрам.
Пока они читали, Георг мрачно смотрел в пол. Мария тяжело вздохнула, а Джэн бросило в дрожь, когда она вернула документ Сэррею.
— И после такого происшествия вы рискуете еще оставаться в пределах Шотландии и даже путешествовать? — спросил Георг.
— Да, и совершенно один! — улыбаясь, подтвердил Сэррей. — И, как вы видите, без малейшей опасности.
— Вы не знаете короля Иакова.
— Я знаю его и в дополнение составленной им бумага упомянул еще о том, что его посланник к Елизавете, должно быть, теперь уже находится в дороге.
— Хорошо, если бы так! Но каковы однако ваши дальнейшие намерения?
— Я отправляюсь в качестве посланника короля Иакова во Францию и Испанию.
— Вот это — дело. Я полагаю, вы уедете скоро?
— Как только привезу свои полномочия из замка Голируд.
— Значит, вы собираетесь вернуться в Эдинбург?
— Через несколько дней.
— На вашем месте я не стал бы делать этого.
— Я должен, согласно условию. Кроме того, мне надо убедиться, точно ли посланник короля Иакова отбыл в Лондон. Между тем и здесь, как известно вам, моим любезным хозяевам, мне предстоит устроить одно дело.
Сестры и брат примолкли.
— Леди Джэн, — с новой улыбкой начал Сэррей, — я сдержал свое слово.
— Да, граф! — прошептала девушка.
— Ну а вы, леди, сдержите свое?
— Я еще раньше просила вас обратиться к моему брату, он — глава семьи, граф.
— А вы что скажете, лорд Георг? — спросил Сэррей. — Ведь вы также давали мне слово!
Георг продолжал мрачно и молча смотреть в пространство.
— Да, я дал вам слово, — с расстановкой произнес он, немного помолчав, — а для меня мое слово священно.
— Благодарю вас обоих! — с живостью сказал Сэррей. — Но вы знаете, что времени у меня в обрез, и потому свадьба должна быть тихая и на скорую руку.
— Согласен с вами, — ответил Сэйтон, — но, в свою очередь, попрошу вас обратиться с этим к сестрам.
— А вы что скажете, Джэн? — спросил Сэррей, взяв руку молодой девушки.
— Роберт, — ответила она, — у меня нет более собственной воли. Время принадлежит вам и вашей цели, потому что, как вам известно, мое решение было принято лишь с тем, чтобы содействовать ей.
По лицу Сэррея скользнуло страдальческое выражение, но он вскоре преодолел себя и сказал:
— В таком случае можно ли в пятидневный срок справиться со всеми необходимыми приготовлениями?
— Да, — ответил Георг, — в воскресенье может состояться ваша свадьба.
Сэррей по очереди пожал руки брату и обеим сестрам Сэйтон.
Наступила продолжительная пауза, после которой переговоры возобновились опять. Дело в том, что хотя свадьба затевалась тихая, но это значило только, что на нее не будут приглашены гости издалека. К людям своего клана это не относилось, их было необходимо пригласить и угощать на свадебном пиру; в подобных случаях это было их правом и посягнуть на него значило подстрекать их к неповиновению и упорству.
Жених не принимал участия в этих переговорах между домашними, а лишь извинялся, что причинил столько хлопот; но делать было нечего.
На другой день из замка потянулись люди и подводы за съестными припасами, снаряжались гонцы, чтобы оповестить людей клана, и вскоре замок Сэйтон принял иной вид, оживился и повеселел. Действительно, его комнаты мало-помалу наполнились гостями, которые только и знали, что угощались с утра до вечера или поднимали шумные споры, когда виски ударяло им в голову. Между тем подвозили все новые запасы съестного, чтобы доставлять дальнейшую работу желудкам приглашенных, и те приятно проводили время, насколько позволяли обстоятельства и суровая погода.
Так настал знаменательный день, и священник уже совершил поутру богослужение, на котором присутствовали все гости, прибывшие в замок.
После полудня должно было состояться само бракосочетание, и ввиду близости важного момента Сэррей, а также и его невеста чувствовали себя в торжественном настроении. Сэррей пожелал еще переговорить с Джэн наедине, прежде чем предстать с ней перед алтарем, и молодая девушка согласилась исполнить его желание.
Однако не успел он начать разговор, как Мария подала Сэррею записку, сильно озадачившую его. Он дважды пробежал ее глазами, и удивленная Джэн тотчас заметила в нем тревогу, вызванную этим посланием.
— Что с вами, Роберт? — спросила невеста. — Кажется, вы получили неприятные известия?
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Важные и безотлагательные? — переспросила девушка. — Тогда сначала переговорите с ним, Роберт.
— А вы разрешаете это?
— Что за вопрос, Роберт! Кто может знать, как много зависит от того, что вы повидаете присланного гонца?
— Ваша правда, тем более, что писавший эти строки может сообщить только важное.
— Так ступайте, Роберт!
— Кто принес эту записку, Мария? — спросил Сэррей старшую Сэйтон.
— Этот человек ждет во дворе!
— Тогда прошу извинения! — сказал граф, поклонился и поспешно вышел.
В коридоре Сэррей столкнулся с незнакомым человеком, который сообщил, что ему поручено проводить графа к тому, кто желает переговорить с ним.
— Кто послал вас? — спросил граф.
— Сэр Брай и сэр Джонстон, — ответил тот.
— А где они находятся?
— В Эдинбурге, — последовал ответ. — Но со мной прибыл человек, который хочет с вами переговорить по их поручению.
— Где же он?
— За воротами замка.
— Пойдемте! — сказал Сэррей, и они вдвоем покинули замок.
Кто-то из прислуги замка слышал происходивший между ними разговор и был свидетелем ухода Сэррея.
Так как стояли короткие зимние дни, то и при ясной погоде около трех часов пополудни начинало уже темнеть, а в тот день при непрекращавшейся снежной метели стемнело еще раньше. В этом вечернем сумраке и скрылись Сэррей и его провожатый.
Между тем гости и священник постепенно собрались в церкви замка. Недоставало только обрученной четы, а также брата и сестры невесты…
И в этом немалую роль сыграли события в Эдинбурге.
Едва только Грэй успел покинуть Голируд, как король Иаков стал тотчас собираться в отъезд из столицы своего королевства. Однако еще до своего отъезда он потребовал к себе егеря из своих отдаленных поместий и долго беседовал с ним, после чего тот направился в Эдинбург.
Приезжий егерь, получивший поручение этого рода, нанял себе квартиру в Эдинбурге, тогда как Иаков с небольшой свитой, несмотря на скверную погоду, отправился на север Шотландии.
Оставшийся в Эдинбурге егерь часто появлялся в той местности, где была квартира Сэррея, занятая до сих пор его спутниками. И вот однажды он столкнулся здесь с Джонстоном. Последний опешил при виде егеря, смутился и тот при этой встрече. Не было сомнения, что они узнали друг друга, но это не доставило им удовольствия.
Королевский егерь первый решился заговорить, пожалуй, из-за того, что чувствовал себя в полной безопасности.
— Здравствуйте, сэр! — сказал он. — Вот уж не думал не гадал когда-нибудь встретиться с вами, а тем более здесь, в столице Шотландии!
— Это вы?! — откликнулся Джонстон. — Однако вы носите теперь военную форму, да еще королевскую; это — вовсе не то платье, каким довольствовался некогда Джэмс Стренглей, и потому вам позволительно теперь смотреть свысока на старого друга.
— Ну расстались-то мы как раз не по-дружески, — возразил Джэмс. — Но все-таки с какой стати быть нам на «вы»? Я могу с таким же удобством спросить: «Как поживаешь, друг Джонстон?»
— Благодарствую! — ответил тот. — Не могу жаловаться. Однако ты, во всяком случае, более удачлив?
— Это что-нибудь да значит, друг Джонстон! Человека, терпевшего гонения от Босвела, король Иаков, конечно, мог возвысить.
— Но Босвел, пожалуй, был прав?
— Это как смотреть на вещи, старина. Скажи, однако, ты сделался папистом?
— Вовсе нет, но я перестал воровать чужую дичь.
— О, я также давным-давно бросил это ремесло! Значит, мы оба стали порядочными людьми.
— Как будто и так.
— По-моему, ничто не мешает нам теперь достойно отпраздновать нашу встречу.
— Гм!… — замялся Джонстон.
Однако королевский ловчий приставал к нему до тех пор, пока тот не согласился позавтракать вместе с ним.
Старые приятели отправились в харчевню, где заказанный ими завтрак продлился не только до обеда, но даже до ужина.
Когда, после возобновления прежней дружбы, они поднялись наконец, чтобы отправиться по домам, голова Джонстона сильно отяжелела. Джэмс Стренглей выведал от него все, что желал знать, а вдобавок получил еще несколько строк, написанных его рукой, чего, собственно, и добивался главным образом.
Джонстон, пошатываясь, поплелся восвояси и на другой день не помнил хорошенько, что с ним произошло. Стренглею также понадобилось некоторое время, чтобы очухаться после дружеской попойки, однако это удалось ему скорее и лучше, чем Джонстону. На следующее же утро, в сопровождении другого человека, он затем верхом покинул Эдинбург и направился к замку Сэйтон.
Именно эти двое бродяг выманили Сэррея из замка, и, как можно догадаться, исчезновение графа Сэррея произошло по наущению короля Иакова.
Сэррей исчез бесследно как раз перед своим бракосочетанием с Джэн Сэйтон.
Однако нужно прибавить, что и другим лицам могла быть выгодна гибель этого ревностного приверженца шотландской королевы.
Думали и на Георга Сэйтона, так как он постоянно смотрел на Сэррея как на человека, который нанес ему смертельное оскорбление. Установить что-либо верное насчет этого случая так и не удалось.
А тем временем все обитатели замка Сэйтон вместе с прибывшими гостями собрались в церкви, и ввиду того, что жених с невестой мешкали слишком долго, Георг пошел сам поторопить их.
Тут сестры сообщили ему о том, что Сэррей вышел по какому-то поводу из замка и не вернулся.
Георг не обнаружил при этом особенного удивления, однако послал людей на поиски жениха. Его искали повсюду, около замка и в окрестностях, искали тщательно и настойчиво, но и Сэррей, и присланный к нему гонец словно канули в воду.
Вскоре весть об исчезновении графа проникла и в церковь. Она постепенно опустела, и вместо свадебного пира приглашенные приступили к подобию погребальной тризны.
Джэн никто не мог утешить. Гостям осталось только покинуть замок, погруженный в печаль.
Брай и Джонстон деятельно разыскивали своего друга повсюду и наконец пропали без вести сами, причем никто не мог сказать, куда они девались.
Итак, от Сэррея уже нельзя было ожидать никакой помощи Марии Стюарт.

Глава двадцатая
МОРДИ

 Беспорядкам, вызванным из-за шотландской королевы, было еще не суждено улечься. Во время народных манифестаций в Лондоне Пельдрамом был арестован какой-то подозрительный субъект. Этого человека звали Морди, и на допросе он указал на некоего Стаффорда как на своего спутника, однако отрицал всякую вину как со своей, так и с его стороны.
Стаффорд был сыном статс-дамы королевы Елизаветы и братом английского посланника в Париже, следовательно, особой, на которую не так-то легко было посягнуть.
Между тем Пельдрам счел нужным обратить внимание своего патрона Валингэма на связь Стаффорда с Морди, и тот поручил ему наблюдать за молодым Стаффордом.
История этого случая, этого предпоследнего заговора в пользу Марии Стюарт, несколько темна, а так как здесь был замешан Валингэм, то заговор казался подстроенным им самим.
В один осенний день 1586 года английский посланник в Париже, лорд Стаффорд, в сильнейшей тревоге шагал по своему кабинету. Он остановился лишь для того, чтобы, позвонив, вызвать лакея и узнать, не получен ли ответ.
— Нет, милорд! — снова ответил слуга и удалился по знаку своего господина.
Однако вскоре он вернулся без зова и доложил посланнику о посетителе.
— Это — он? — с живостью спросил посланник.
— Нет, милорд, — сказал лакей, — это — сам начальник полиции.
Лорд поспешно вышел, чтобы принять главного в те времена полицейского чиновника в Париже и ввести его в свой кабинет; лакей удалился.
— Премного обязан вам, — сказал Стаффорд начальнику полиции, когда они остались вдвоем, — что вы потрудились сами… Однако какие вести предстоит мне услышать от вас?
— Милорд, — ответил француз, — я считаю за счастье, что могу успокоить вас: дело идет вовсе не о нападении с целью грабежа, но о похищении девушки.
— Славу Богу!… Но каким образом можно уладить это?
— Его величество приказал немедленно выслать виновных из Франции.
— Пусть так и будет.
— Сколько понадобится времени на их дорожные сборы?
— Один… нет, постойте… три часа.
— Хорошо, через три часа оба молодых человека будут доставлены сюда. Вам предоставляется дать им обоим провожатых из служащих при посольстве.
— Это мне тем приятнее.
Начальник парижской охранной полиции встал и пошел к выходу, сопровождаемый новыми изъявлениями живейшей благодарности посланника. Как только посетитель вышел из комнаты, лорд Стаффорд велел позвать своего секретаря.
— Вы уплатили долг моего брата и мистера Морди? — спросил он.
— Да, милорд!
— Составьте тотчас письменное требование, — продолжал посланник, — по которому эти двое господ по прибытии в Англию должны быть арестованы за долги и препровождены в лондонскую долговую тюрьму.
Секретарь поклонился.
— Распорядитесь еще, чтобы курьер держался наготове.
— Все будет исполнено!
Секретарь удалился, а посланник сел к письменному столу и принялся писать письмо своей матери.
Когда оно было окончено, то на его зов явился секретарь с написанным требованием, а вскоре и готовый к отъезду курьер. Последнего снабдили деловыми бумагами, разнородными словесными распоряжениями и приказали ему как можно скорее исполнить полученные поручения. С тем он и покинул дом посольства. Посланник дал теперь приказ, чтобы еще четверо из его слуг собрались ехать в Англию. Было велено оседлать шесть лошадей.
Эти приготовления были окончены, когда парижская полиция доставила в дом посольства двоих молодых людей, которые были введены к посланнику поодиночке.
Один из них был младший брат лорда Стаффорда, другой — его приятель, Морди, также состоявший секретарем при посланнике. Лорд Стаффорд жестоко разбранил того и другого за их непристойную выходку и сказал им, что они должны ехать в Англию, где получат новые распоряжения. Виновные не смели возражать и немедленно отбыли разными путями в Лондон, каждый в сопровождении двух слуг.
Так как путешествие совершалось на курьерских лошадях, то путники скоро достигли гавани Па-де-Кале и отплыли в Англию, где обнаружилось, какого рода меры были приняты против обоих так поспешно высланных жуиров. Эти меры были для них совершенной неожиданностью, и единственным утешением виновным послужила надежда, что они снова свидятся между собой в лондонской долговой тюрьме.
Молодой Стаффорд тотчас написал оттуда матери, и хотя старший брат упрашивал ее подольше подержать взаперти юного повесу, однако материнское сердце не выдержало, леди Стаффорд уплатила долги младшего сына, и он был выпущен на свободу. Его же друг Морди оставался в тюрьме до тех пор, пока Стаффорд не освободил его в день обнародования смертного приговора Марии Стюарт; оба они вздумали потешаться в этот день, подстрекая народные массы к различным крайностям.
Как это часто бывает, подчиненные Пельдрама приняли этих молодых шалопаев за опасных бунтовщиков, что вызвало их преследование и арест. Морди был принужден в конце концов откровенно рассказать о своих обстоятельствах, и так как ни он, ни Стаффорд, собственно, не совершили никакого преступления, то Морди снова посадили в долговую тюрьму, тогда как судебное преследование против Стаффорда было прекращено.
Но хотя мать и выкупила Стаффорда из долгов, однако она не собиралась сделать для него еще что-нибудь и тот оказался лишенным всяких средств. Рассерженный на мать и брата, он очень скоро перенес этот гнев на других лиц, и когда посещал в тюрьме своего друга, то они жестоко бранили вдвоем всех тех, кто вредил им или преследовал их.
Это привело обоих ветреников к тому, что они принялись строить планы насчет того, как бы им разжиться деньгами. И вот приятели уговорились между собой обратиться к французскому посланнику с предложением такого рода: они брались убить королеву Елизавету, если каждому из них заплатят по сто двадцать червонцев. Но если вспомнить, что Пельдрам уже вел переговоры с Морди и Стаффордом, а Валингэм давал Пельдраму указания насчет их обоих, то дело принимало совсем иной оборот. Во всяком случае выговоренная плата за преступление была весьма ничтожна.
Заговор между двоими искателями приключений был вполне обдуман; но Бельевр покинул Англию, и потому молодой Стаффорд обратился к Шатонефу. Старое родовое имя открыло испорченному юноше доступ к посланнику и как раз в такое время, когда француз был сильно занят, диктуя письмо своему секретарю Кордалю.
На вопрос, чего он желает, Стаффорд объявил, что некто, содержащийся в долговой тюрьме, может сообщить посланнику важные сведения, касающиеся Марии Стюарт.
Как раз в то время Шатонеф особенно хлопотал в интересах шотландской королевы; в сообщении, предложенном ему каким-то арестантом, он не видел решительно ничего таинственного и потому велел своему другому секретарю, Дестранну, отправиться вместе с Стаффордом к означенному лицу и переговорить с ним.
Стаффорд и Дестранн отправились в Ньюгейт, где в то время содержались несостоятельные должники. Здесь Морди открыл посетителю без утайки свой план и свои намерения, Однако Дестранн назвал его сумасбродом и в сильнейшем гневе покинул тюрьму, а также обоих достойных приятелей. Шатоннеф, со своей стороны, дал знать Стаффорду, чтобы тот не смел больше показываться в доме посольства, если не хочет, чтобы на него донесли.
Однако Стаффорд предупредил возможность подобного доноса, сделав сам на посланника донос о том, что он будто бы старался склонить его и Морди к убийству королевы Елизаветы.
Несмотря на нелепость подобного обвинения, было возбуждено следствие. Дестранна арестовали, бумаги Шатонефа опечатали, а Елизавета написала угрожающие и строгие письма Генриху III. В продолжение многих недель всякое сообщение Англии с материком было прервано, и это, пожалуй, также входило в планы Валингэма.
После глупой истории Морди и Стаффорда, главные виновники которой, впрочем, бесследно исчезли, казалось, не было больше никакого основания щадить Марию Стюарт, тем не менее Елизавета все еще не решалась дать приказ об исполнении смертного приговора.
Первый раз в жизни у королевы обнаружились признаки уныния и меланхолии. Елизавета прекратила все свои обычные увеселения, в особенности охоту. Она искала уединения и по временам впадала в мрачное раздумье. Несмотря на ее болезненное состояние, настойчивый Валингэм не давал ей покоя. Он умел добраться до нее в любое время и, требуя вновь смерти Марии Стюарт, жестоко мучил этим английскую королеву.
В своих переживаниях она то и дело возвращалась к прежней мысли — тайно избавиться от Марии. Однако проницательный Валингэм решительно не мог сообразить, на что намекала королева. Наконец Елизавета поняла, что со своими планами ей надо обратиться к кому-нибудь другому.
Однако случаю было суждено прервать ход этих событий. Новый заговор в пользу Марии, о котором она решительно не подозревала, разразился, как гром, с невероятной внезапностью.
Беспорядкам, вызванным из-за шотландской королевы, было еще не суждено улечься. Во время народных манифестаций в Лондоне Пельдрамом был арестован какой-то подозрительный субъект. Этого человека звали Морди, и на допросе он указал на некоего Стаффорда как на своего спутника, однако отрицал всякую вину как со своей, так и с его стороны.
Стаффорд был сыном статс-дамы королевы Елизаветы и братом английского посланника в Париже, следовательно, особой, на которую не так-то легко было посягнуть.
Между тем Пельдрам счел нужным обратить внимание своего патрона Валингэма на связь Стаффорда с Морди, и тот поручил ему наблюдать за молодым Стаффордом.
История этого случая, этого предпоследнего заговора в пользу Марии Стюарт, несколько темна, а так как здесь был замешан Валингэм, то заговор казался подстроенным им самим.
В один осенний день 1586 года английский посланник в Париже, лорд Стаффорд, в сильнейшей тревоге шагал по своему кабинету. Он остановился лишь для того, чтобы, позвонив, вызвать лакея и узнать, не получен ли ответ.
— Нет, милорд! — снова ответил слуга и удалился по знаку своего господина.
Однако вскоре он вернулся без зова и доложил посланнику о посетителе.
— Это — он? — с живостью спросил посланник.
— Нет, милорд, — сказал лакей, — это — сам начальник полиции.
Лорд поспешно вышел, чтобы принять главного в те времена полицейского чиновника в Париже и ввести его в свой кабинет; лакей удалился.
— Премного обязан вам, — сказал Стаффорд начальнику полиции, когда они остались вдвоем, — что вы потрудились сами… Однако какие вести предстоит мне услышать от вас?
— Милорд, — ответил француз, — я считаю за счастье, что могу успокоить вас: дело идет вовсе не о нападении с целью грабежа, но о похищении девушки.
— Славу Богу!… Но каким образом можно уладить это?
— Его величество приказал немедленно выслать виновных из Франции.
— Пусть так и будет.
— Сколько понадобится времени на их дорожные сборы?
— Один… нет, постойте… три часа.
— Хорошо, через три часа оба молодых человека будут доставлены сюда. Вам предоставляется дать им обоим провожатых из служащих при посольстве.
— Это мне тем приятнее.
Начальник парижской охранной полиции встал и пошел к выходу, сопровождаемый новыми изъявлениями живейшей благодарности посланника. Как только посетитель вышел из комнаты, лорд Стаффорд велел позвать своего секретаря.
— Вы уплатили долг моего брата и мистера Морди? — спросил он.
— Да, милорд!
— Составьте тотчас письменное требование, — продолжал посланник, — по которому эти двое господ по прибытии в Англию должны быть арестованы за долги и препровождены в лондонскую долговую тюрьму.
Секретарь поклонился.
— Распорядитесь еще, чтобы курьер держался наготове.
— Все будет исполнено!
Секретарь удалился, а посланник сел к письменному столу и принялся писать письмо своей матери.
Когда оно было окончено, то на его зов явился секретарь с написанным требованием, а вскоре и готовый к отъезду курьер. Последнего снабдили деловыми бумагами, разнородными словесными распоряжениями и приказали ему как можно скорее исполнить полученные поручения. С тем он и покинул дом посольства. Посланник дал теперь приказ, чтобы еще четверо из его слуг собрались ехать в Англию. Было велено оседлать шесть лошадей.
Эти приготовления были окончены, когда парижская полиция доставила в дом посольства двоих молодых людей, которые были введены к посланнику поодиночке.
Один из них был младший брат лорда Стаффорда, другой — его приятель, Морди, также состоявший секретарем при посланнике. Лорд Стаффорд жестоко разбранил того и другого за их непристойную выходку и сказал им, что они должны ехать в Англию, где получат новые распоряжения. Виновные не смели возражать и немедленно отбыли разными путями в Лондон, каждый в сопровождении двух слуг.
Так как путешествие совершалось на курьерских лошадях, то путники скоро достигли гавани Па-де-Кале и отплыли в Англию, где обнаружилось, какого рода меры были приняты против обоих так поспешно высланных жуиров. Эти меры были для них совершенной неожиданностью, и единственным утешением виновным послужила надежда, что они снова свидятся между собой в лондонской долговой тюрьме.
Молодой Стаффорд тотчас написал оттуда матери, и хотя старший брат упрашивал ее подольше подержать взаперти юного повесу, однако материнское сердце не выдержало, леди Стаффорд уплатила долги младшего сына, и он был выпущен на свободу. Его же друг Морди оставался в тюрьме до тех пор, пока Стаффорд не освободил его в день обнародования смертного приговора Марии Стюарт; оба они вздумали потешаться в этот день, подстрекая народные массы к различным крайностям.
Как это часто бывает, подчиненные Пельдрама приняли этих молодых шалопаев за опасных бунтовщиков, что вызвало их преследование и арест. Морди был принужден в конце концов откровенно рассказать о своих обстоятельствах, и так как ни он, ни Стаффорд, собственно, не совершили никакого преступления, то Морди снова посадили в долговую тюрьму, тогда как судебное преследование против Стаффорда было прекращено.
Но хотя мать и выкупила Стаффорда из долгов, однако она не собиралась сделать для него еще что-нибудь и тот оказался лишенным всяких средств. Рассерженный на мать и брата, он очень скоро перенес этот гнев на других лиц, и когда посещал в тюрьме своего друга, то они жестоко бранили вдвоем всех тех, кто вредил им или преследовал их.
Это привело обоих ветреников к тому, что они принялись строить планы насчет того, как бы им разжиться деньгами. И вот приятели уговорились между собой обратиться к французскому посланнику с предложением такого рода: они брались убить королеву Елизавету, если каждому из них заплатят по сто двадцать червонцев. Но если вспомнить, что Пельдрам уже вел переговоры с Морди и Стаффордом, а Валингэм давал Пельдраму указания насчет их обоих, то дело принимало совсем иной оборот. Во всяком случае выговоренная плата за преступление была весьма ничтожна.
Заговор между двоими искателями приключений был вполне обдуман; но Бельевр покинул Англию, и потому молодой Стаффорд обратился к Шатонефу. Старое родовое имя открыло испорченному юноше доступ к посланнику и как раз в такое время, когда француз был сильно занят, диктуя письмо своему секретарю Кордалю.
На вопрос, чего он желает, Стаффорд объявил, что некто, содержащийся в долговой тюрьме, может сообщить посланнику важные сведения, касающиеся Марии Стюарт.
Как раз в то время Шатонеф особенно хлопотал в интересах шотландской королевы; в сообщении, предложенном ему каким-то арестантом, он не видел решительно ничего таинственного и потому велел своему другому секретарю, Дестранну, отправиться вместе с Стаффордом к означенному лицу и переговорить с ним.
Стаффорд и Дестранн отправились в Ньюгейт, где в то время содержались несостоятельные должники. Здесь Морди открыл посетителю без утайки свой план и свои намерения, Однако Дестранн назвал его сумасбродом и в сильнейшем гневе покинул тюрьму, а также обоих достойных приятелей. Шатоннеф, со своей стороны, дал знать Стаффорду, чтобы тот не смел больше показываться в доме посольства, если не хочет, чтобы на него донесли.
Однако Стаффорд предупредил возможность подобного доноса, сделав сам на посланника донос о том, что он будто бы старался склонить его и Морди к убийству королевы Елизаветы.
Несмотря на нелепость подобного обвинения, было возбуждено следствие. Дестранна арестовали, бумаги Шатонефа опечатали, а Елизавета написала угрожающие и строгие письма Генриху III. В продолжение многих недель всякое сообщение Англии с материком было прервано, и это, пожалуй, также входило в планы Валингэма.
После глупой истории Морди и Стаффорда, главные виновники которой, впрочем, бесследно исчезли, казалось, не было больше никакого основания щадить Марию Стюарт, тем не менее Елизавета все еще не решалась дать приказ об исполнении смертного приговора.
Первый раз в жизни у королевы обнаружились признаки уныния и меланхолии. Елизавета прекратила все свои обычные увеселения, в особенности охоту. Она искала уединения и по временам впадала в мрачное раздумье. Несмотря на ее болезненное состояние, настойчивый Валингэм не давал ей покоя. Он умел добраться до нее в любое время и, требуя вновь смерти Марии Стюарт, жестоко мучил этим английскую королеву.
В своих переживаниях она то и дело возвращалась к прежней мысли — тайно избавиться от Марии. Однако проницательный Валингэм решительно не мог сообразить, на что намекала королева. Наконец Елизавета поняла, что со своими планами ей надо обратиться к кому-нибудь другому.
Однако случаю было суждено прервать ход этих событий. Новый заговор в пользу Марии, о котором она решительно не подозревала, разразился, как гром, с невероятной внезапностью.

Глава двадцать первая
ХОРОШИЕ СОВЕТЫ

 День этот был для могущественной королевы Англии одним из самых дурных. Советники ее короны, возвращаясь в зал из ее комнаты после очередного доклада, одним своим видом уже свидетельствовали о мрачном настроении своей повелительницы. У королевы остался один только Валингэм. С некоторого времени Елизавета стала предпринимать над ним совершенно своеобразные экзерциции, однако он выказывал себя при этом таким же несообразительным, как глупейший новобранец из крестьян при наставлениях унтера. Правда, и намеки, и заигрывания Елизаветы тоже не превосходили ясностью цветистой речи и унтера, но Валингэм, этот всегда столь тонкий государственный человек и прирожденный полицейский, должен был бы стыдиться, что в этом деле проявил так мало сообразительности. Отчего Елизавета еще более сердилась на него, обыкновенно такого покладистого и услужливого, а теперь — невыносимо упрямого, словно заезженная лошадь.
После утренних разговоров с Валенгэмом душевная болезнь Елизаветы зачастую возрастала до настоящих пароксизмов, когда было очень трудно иметь с ней какое- либо дело. Но в такие минуты наготове держали козлов отпущения, способных принять на себя первые потоки ее гнева, и с этой целью Бэрлей очень часто пользовался графом Лейстером.
Отношения обоих лордов друг к другу ни на волос не улучшились с тех пор, когда Лейстер убедился, что казначей содействовал его падению. Но в то же самое время политическое ничтожество Лейстера высветилось еще яснее, да и сам он приближался к тому переходному возрасту, когда красивый мужчина превращается в престарелого фата.
Лейстер глубоко ненавидел Бэрлея и не доверял ему, но каждый раз попадался на удочку Бэрлея, когда тот делал вид, будто верил, что фаворит Елизаветы имеет особое влияние на королеву.
И в этот роковой день, когда по окончании аудиенции лорды вышли из покоев королевы, лорд-казначей дал понять Лейстеру, что хочет переговорить с ним. Лейстер принял это сообщение с выражением холодной вежливости, и оба лорда уединились у окна.
— Милорд, — начал Бэрлей, — я принужден задать вам нескромный вопрос и даже, быть может, упрекнуть вас кое в чем…
— А именно? — с удивлением спросил Лейтстер.
Он был поражен особенным тоном, которым начал разговор Бэрлей.
— Мне кажется, что вы пренебрегаете нашей всемилостивейшей государыней!
— Милорд! — возмутился Лейстер.
— Простите, но как может тогда ее величество так долго пребывать в столь дурном настроении, если за ней ухаживают с должным вниманием и заботливостью?
— Да разве же вы не видели и не слышали, — с раздражением сказал Лейстер, — как она обошлась со мной сегодня?
— Преданный слуга коронованной особы должен уметь все перенести. Благоволением дарственных особ нельзя пользоваться без известных жертв, это — столь же лестное, сколь и полное ответственности положение! Ведь почти преступно выказывать неудовольствие там, где вы должны проявить двойную заботливость и внимание!
— Но послушайте, милорд Бэрлей…
— Дайте мне договорить до конца, милорд! Мы беседуем с вами наедине, и слова, которые говорятся в интересах нашей государыни, нашей высокой повелительницы, не должны и не могут оскорбить вас. Но ваше неудовольствие превращается в государственное преступление, раз благодаря ему у королевы продолжается дурное расположение духа!
Доказательства Бэрлея сыпались с присущей ему логической меткостью, и Лейстер чуть на задыхался от злости, так как не мог придумать никаких основательных возражений на пересыпанную лестью речь своего врага.
— От удивления у меня нет слов, — произнес он наконец. — Мне казалось, что я навсегда потерял благоволение и милость ее величества…
— Ничего подобного! — возразил Бэрлей. — Но давайте сначала посмотрим, куда нас ведет то состояние духа, в которое погружена ее величество. Никогда до такой степени не сказывалась необходимость в ее влиянии на ход политики, как в данный момент, а мы, несмотря на это, никак не можем побудить ее к какому-либо решению.
— Я тоже вижу это.
— Наши внешние враги строят целые комбинации на этом состоянии монархини, и их расчеты заходят очень далеко. Если королева не воспрянет духом, если ее страдания прогрессивно будут расти, то она сыграет с нами очень неприятную штуку…
— Да… да, к сожалению… к сожалению… Но как, спрашивается, изменить это настроение?
— А вот послушайте, что я думаю относительно этого. Итак, наши враги видят в затишье нашей придворной жизни в настоящий момент малодушие, нерешительность, раскаяние в тех шагах, которые были сочтены разумными с точки зрения нашей политики; поэтому они с большей смелостью подняли голову и дерзнули даже угрожать. Это требует от нас контрвызова, блеска, пышности двора, веселья, быть может, даже больших охот, которые в прежнее время составляли любимое развлечение королевы!
— Вы совершенно правы, милорд. Но я все-таки повторяю свой последний вопрос: как прогнать это настроение?
— Мне казалось, что вы могли бы указать королеве на несовместимость подобного состояния духа с королевским саном, указать на возможность потери красоты лица от тоски и горя, на потерю популярности, на исторические последствия, наконец!
— Это очень тяжелая задача!
— Я знаю. Но только вы один и были бы способны разрешить ее!
— Слишком лестно, милорд!
— В то же время вы получите солидную поддержку. Мы сумеем довести до сведения монархини желания двора и народа и сообщить о недовольстве, которое вызывает этот необоснованный траур, и опасения, как бы он не превратился в действительно необходимый…
— Такие намеки я не хотел бы делать.
— Да вам и не нужно делать их. В конце концов я вскользь упомянул ей об иностранной политике, и королева, осажденная таким образом со всех сторон, неизбежно придет в другое состояние духа.
— И при этом я непременно должен быть тем, кто станет таскать для вас каштаны из огня?
— Каждый делает то, что в его силах! — холодно ответил лорд-казначей. — Ведь вы знаете, что для достижения моих целей — то есть целей, связанных с государственными интересами, я охотно довольствуюсь собственными силами и во всяком случае не стал бы искать союза именно с вами, если бы мог как-нибудь обойтись без вас.
— Это по крайней мере высказано с достаточной ясностью и определенностью, — ответил Лейстер, почувствовавший себя и обиженным, и польщенным, — и я готов поверить вам на слово!
— Вы видите, я отдаюсь в вашу власть, отдаю должное вашим заслугам и признаю ваши выдающиеся качества, как это делает наша высокая повелительница. И если я лично иногда держусь иного мнения, то в результате все-таки подчиняюсь взгляду ее величества. Так попытаемся же каждый с своей стороны исполнить свою обязанность, как того требует наша служба ее величеству!
— Вы правы, — вздохнув, согласился Лейстер. — Значит, я должен покориться печальной необходимости… Мне следует сейчас же отправиться к ее величеству?
— Чем скорее, тем лучше, милорд. Но подождите сначала Валингэма; он сообщит вам, каково теперь настроение ее величества. Честь имею кланяться!
Оба лорда глубоко склонились друг перед другом с обязательной улыбкой на устах. И эта улыбка не была так лжива, как всегда, потому что на этот раз они не чувствовали обычной жажды свернуть друг другу шеи.
Лейстер остался в зале, чтобы обождать Валингэма, а Бэрлей прошел в приемную комнату, где встретил даму, с которой очень почтительно раскланялся.
— Леди Анна, — сказал он ей, — мне нужно поговорить с вами, если вы разрешите.
— Пожалуйста, милорд, я к вашим услугам! — ответила дама и последовала за министром в соседнюю комнату.
Леди Анна Брауфорд была в то время обер-гофмейстериной королевы, так глубоко преданной ей, что готова была позволить растоптать себя, если бы это понадобилось для блага Елизаветы. Очень гордая и ограниченная, но добродушная женщина, она имела характер, как нельзя более подходящий для той цели, которую наметил в данном случае Бэрлей.
— Вы, миледи, вероятно, опять и глаз не сомкнули ночью? — спросил лорд леди Анну.
К сожалению, нет: дежурная камер-фрейлина доложила мне, что ночью королева была беспокойнее, чем когда-либо прежде.
— Это просто несчастье!
— Страшное несчастье, милорд!
— Нам нужно как-нибудь помочь этому делу!
— Кто тут может помочь, милорд!
— Вы, леди!
— Что?.. Я?.. Интересно, каким образом я могла бы помочь?
— Ее величество не любит, когда ей говорят правду, но в данном случае необходимо кому-то решиться, даже под угрозой немилости. Но для этого не всякий годится, да и не у всякого найдется столько преданности и готовности к самопожертвованию, как у вас, леди…
— Если бы этого одного было достаточно…
— Вы должны открыть государыне глаза на то, как изменилась она за последнее время; на то, как она изменится еще более и какой неизгладимый след оставит на лице болезнь, если она не справится с ней.
— Вы пугаете меня, милорд!
— Вы должны сообщить ее величеству, что народ уже ропщет, что народ боится за последствия ее болезни, и что все это можно было бы изменить развлечениями и удовольствиями. Время карнавала прошло, но мы могли бы устроить блестящую охоту. Стоит только ее величеству сделать первый шаг, а другие уже не заставят себя ждать. Я уверен, что вы при своей безграничной преданности государыне поможете нам предотвратить несчастье!
— Ну конечно, конечно! — согласилась леди Брауфорд. — Я готова сделать все, что вы считаете нужным, милорд!
— Так сделайте все, что я говорил. Как только милорд Лейстер поговорит с королевой, ступайте к ней!
Лорд-казначей схватил руку леди Брауфорд и поднес ее к своим губам, хотя обыкновенно он не удостаивал этой чести ни одной из придворных дам.
Польщенная леди Брауфорд залилась ярким румянцем и низко поклонилась, эта любезность министра еще более подогрела ее готовность стать громоотводом для него.
Тем временем из апартаментов королевы вышел Валингэм. Он казался чрезвычайно довольным и веселым, словно только что получил величайшую милость, чего, разумеется, на самом деле вовсе не было.
Лорд Лейстер пошел ему навстречу и спросил:
— Что, ее величество спокойна?
— Как всегда!
— Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа! — нетерпеливо сказал Лейстер. — Дело идет о слишком важных вещах. Я спрашиваю вас согласно договоренности с лордом Бэрлеем.
— Так, так! — сказал Валингэм, пытливо всматриваясь в лорда Лейстера. — Но мне казалось, что мой ответ достаточно определен!
— Значит, королева все еще возбуждена и раздражена?
— Ну да!… Но лучше бы она пришла в еще большее раздражение, но по другому поводу.
— Хорошо, — кивнул Лейстер и поспешил к покоям королевы.
Он застыл у порога в глубоком поклоне.
Действительно, внешний вид Елизаветы говорил о глубоком душевном расстройстве. В чертах ее лица, во всех движениях сквозило беспокойство; лихорадочный румянец горел на щеках, глаза бегали по комнате с беспокойным трепетом, лоб был мрачно нахмурен, костюм, вопреки всем привычкам королевы, был небрежен. Она шагала по комнате из угла в угол. Приметив Лейстера, королева резко остановилась и сурово спросила:
— Кто вас звал?
— Ваше величество, — ответил Лейстер, — ваше милостивое позволение на вход в ваши апартаменты для верного слуги является уже само по себе призывом в те минуты, когда это оказывается нужным.
— Ваше присутствие нужно? Но для чего?
— Я не могу больше смотреть на то, как прекраснейшая в мире женщина пренебрегает дарами природы, словно кающаяся грешница!
— Что вы себе опять позволяете, безумный вы человек! — окончательно вышла из себя Елизавета.
— Я позволю себе скорее рискнуть головой, чем молчать долее и не сказать вам, что ваша красота пропадает, что ваш ум теряет в блеске и остроте, что ваши недруги уже радуются тому, что вы вот-вот заболеете. Даже больше, когда-нибудь история упомянет, что до известного момента Елизавета была великой государыней, но…
Надо признать, что для подобного момента слова Лейстера были чересчур смелы. Елизавета даже побледнела от бешенства и крикнула ему, величественно указав рукой на дверь:
— Вон! И не появляйтесь ко мне на глаза до тех пор, пока я не прикажу позвать вас!
Лейстер исчез. Дело оказалось гораздо хуже, чем он мог ожидать, и в его голове уже мелькнула мысль, не подстроил ли всего этого Бэрлей умышленно, чтобы окончательно лишить его благоволения королевы. Он осмотрелся по сторонам, нет ли где-нибудь Бэрлея, и, не найдя его, ушел из дворца.
Леди Анна зорко наблюдала за Лейстером, когда он выходил из комнаты королевы. Он не обратил на нее никакого внимания, поэтому она не решилась заговорить с ним, но ей нетрудно было догадаться, что его визит окончился не очень-то удачно. Несмотря на это, она все-таки отправилась к королеве.
Елизавета не обратила ни малейшего внимания на появление в комнате леди Анны, но крайне удивилась, когда обер-гофмейстерина опустилась около нее на колени и поцеловала подол ее платья.
— Что тебе, Анна? — раздраженно спросила Елизавета.
— Выслушайте меня, пожалуйста, ваше величество!
— Да что тебе нужно? Ну, говори! — еще раздраженнее ответила Елизавета.
— Вы сами, ваше величество, часто говорили: женщина, которая появляется перед мужчиной в небрежном виде, унижает себя!
— Как?… Разве я так небрежно одета?
— Да, ваше величество, и теперь это больше бросается в глаза, чем обыкновенно!
— Но почему?
— Горе начинает отражаться в ваших чертах, государыня, вы худеете, у вас портится цвет лица, взор тускнеет…
— Господи Боже! И это все заметили?
— Конечно, заметили и говорят об этом…
— Ах, сплетники!… Разве солнце всегда блестит?
— Но во времена затмений, когда блеск солнца помрачается, это вызывает смятение.
— Правда… Ну, и что еще?
— Люди думают, чтопри дворе объявлен траур, и спрашивают, почему?
— Ох уж эти мне людишки!… Они только и жаждут развлечений и удовольствий! Неужели они не могут понять, какие чувства обуревают мою душу? Неужели они хотят, чтобы я была их рабой?
— Королевой, государыня! Они хотят, чтобы вы были королевой! Да и вам самой станет легче, если вы немного рассеетесь и потом привычной рукой возьметесь за бразды правления! Ведь уж сколько времени продолжается все это!… А за границей болтают, что английский двор оскудел… А почему? Этого я уж не знаю..
— Нет, это не смеют говорить! — с раздражением воскликнула Елизавета. — Нет, только не это! Дай мне зеркало!
Леди Анна поспешила исполнить приказание.
Конечно, Елизавета не раз смотрелась в зеркало, но в ее голове не было тех мыслей, которые сейчас вызвали в ней разговоры с Лейстером и обер-гофмейстериной. Теперь же, бросив взгляд в зеркало, она невольно отшатнулась и пробормотала:
— Да, я сильно изменилась!
— Соизволите приказать подать вам одеться? — поспешила спросить леди Анна.
— Да, сделай это.
Обер-гофмейстерина радостно поспешила позвать фрейлин; против всякого ожидания она добилась очень многого, и, может быть, только потому, что первый гнев королевы обрушился на Лейстера.
Леди Анна позвала фрейлин, заведовавших гардеробом королевы, и камер-фрейлин. Все поспешили к исполнению своих обязанностей. Леди Анна выбрала любимое платье Елизаветы. Через пять минут королева уже была занята большим туалетом, но для кого собственно — этого она не знала и сама. Но если бы эта всемогущая государыня догадалась сейчас, что служит просто марионеткой в ловких руках своего первого министра, ему пришлось бы плохо..
Через некоторое время Бэрлей снова подошел к леди Анне с немым вопросом. Та сразу поняла его.
— Ее величество занята туалетом, — ответила она.
Ласковая улыбка и новый поцелуй ее руки были наградой министра послушанию обер-гофмейстерины.
— Дайте мне знать, когда государыня окончит свой туалет, — сказал он.
— Слушаю-с, милорд, — ответила леди Анна.
Бэрлей вернулся обратно в кабинет, где он обыкновенно работал во время своих занятий во дворце. Вскоре ему дали знать, что туалет окончен, и он отправился к королеве.
Слезы облегчают горе женщины, но в еще большей степени заботы о собственной наружности могут облегчить ее страдания. Теперь в Елизавете проснулось прежнее кокетство, и казалось, что она забыла обо всем на свете, кроме наряда и украшений.
Королева сидела посреди своей гардеробной в кресле. Перед ней, по бокам и сзади стояли венецианские зеркала выше человеческого роста, и около нее хлопотали парикмахерши да камер-фрейлина, старавшаяся половчее укрепить какое-то бриллиантовое украшение.
Бэрлей так и застыл, словно окаменев, у порога. Елизавета поняла своего министра и улыбнулась. Она выслала из комнаты своих дам и, улыбаясь, спросила Бэрлея:
— С чем вы явились, милорд?
— Ваше величество, я даже забыл, зачем явился к вам, — ответил Бэрлей, весь погруженный в восхищенное созерцание. — Я благословляю небо, что мои глаза удостоились видеть вас в присущем вам блеске, красоте и величественности, что весь ваш вид говорит о лживости уверений ваших врагов!
— В чем дело? — Елизавета поспешно встала и скользнула в находившийся по соседству рабочий кабинет. Бэрлей последовал за ней. — Говорите!
— Злобная зависть и подлое недоброжелательство врагов Англии заставляют их распространять за границей слухи, будто над лондонским двором веет призрак смерти…
— Ого! — в гневе воскликнула королева.
— Врага государства и религии, — продолжал Бэрлей, — уже торжествуют, что в Англии естественным путем произойдет перемена царствования…
— Довольно! — крикнула Елизавета, и ее щеки покраснели даже под слоем белил и румян. — Все остальное я уже поняла! Лорд Дэдлей прав, в известном отношении он обладает огромным тактом…
Бэрлей насмешливо улыбнулся.
— Но хорошо же, — продолжала Елизавета. — Теперь я снова покажу себя! Мы устроим несколько праздников. Я докажу всему свету, что никакие государственные заботы не могут слишком тяжело придавить мне плечи! Что вы посоветуете?
— Погода очень хороша, ваше величество. Прикажите устроить большую охоту. При этом мы не только докажем, что наш двор полон жизни, но и ваша особа явится во всем своем лучезарном величии. Сплетни в народе будут опровергнуты, издевательства и злобные надежды заграничных недругов исчезнут сами собой и все их оскорбительные расчеты разлетятся прахом!
— Вы правы! Завтра же пусть будет устроена большая охота. У вас есть что-нибудь для меня?
Бэрлей сделал ряд незначительных докладов, с которыми было скоро покончено, и ушел от королевы, довольный успехом своего плана.
Елизавета подозвала дежурную камер-фрейлину и приказала:
— Если лорд Лейстер еще в Гринвиче, то позовите его сюда!
Камер-фрейлина ушла.
Лейстер, сейчас же явившийся по переданному ему приказанию, был очень поражен переменой во внешнем виде королевы, но затаил в себе это изумление и стоял у порога с низким поклоном, ожидая приказаний Елизаветы.
— Милорд Дэдлей, — сказала королева, — мы желаем устроить завтра большую охоту, позаботьтесь о всех необходимых приготовлениях, вы будете нашим кавалером.
Счастливый Дэдлей! Как ему было владеть собой!
Он поклонился так низко, что чуть не коснулся лбом пола, и, пятясь, пятясь, вышел из кабинета королевы, ободряемый ее ласковыми улыбками. Сверкая счастьем и гордостью, он прошел через приемную, куда уже проникло известие об устраиваемой большой охоте, что вызвало всеобщую радость и оживление.
День этот был для могущественной королевы Англии одним из самых дурных. Советники ее короны, возвращаясь в зал из ее комнаты после очередного доклада, одним своим видом уже свидетельствовали о мрачном настроении своей повелительницы. У королевы остался один только Валингэм. С некоторого времени Елизавета стала предпринимать над ним совершенно своеобразные экзерциции, однако он выказывал себя при этом таким же несообразительным, как глупейший новобранец из крестьян при наставлениях унтера. Правда, и намеки, и заигрывания Елизаветы тоже не превосходили ясностью цветистой речи и унтера, но Валингэм, этот всегда столь тонкий государственный человек и прирожденный полицейский, должен был бы стыдиться, что в этом деле проявил так мало сообразительности. Отчего Елизавета еще более сердилась на него, обыкновенно такого покладистого и услужливого, а теперь — невыносимо упрямого, словно заезженная лошадь.
После утренних разговоров с Валенгэмом душевная болезнь Елизаветы зачастую возрастала до настоящих пароксизмов, когда было очень трудно иметь с ней какое- либо дело. Но в такие минуты наготове держали козлов отпущения, способных принять на себя первые потоки ее гнева, и с этой целью Бэрлей очень часто пользовался графом Лейстером.
Отношения обоих лордов друг к другу ни на волос не улучшились с тех пор, когда Лейстер убедился, что казначей содействовал его падению. Но в то же самое время политическое ничтожество Лейстера высветилось еще яснее, да и сам он приближался к тому переходному возрасту, когда красивый мужчина превращается в престарелого фата.
Лейстер глубоко ненавидел Бэрлея и не доверял ему, но каждый раз попадался на удочку Бэрлея, когда тот делал вид, будто верил, что фаворит Елизаветы имеет особое влияние на королеву.
И в этот роковой день, когда по окончании аудиенции лорды вышли из покоев королевы, лорд-казначей дал понять Лейстеру, что хочет переговорить с ним. Лейстер принял это сообщение с выражением холодной вежливости, и оба лорда уединились у окна.
— Милорд, — начал Бэрлей, — я принужден задать вам нескромный вопрос и даже, быть может, упрекнуть вас кое в чем…
— А именно? — с удивлением спросил Лейтстер.
Он был поражен особенным тоном, которым начал разговор Бэрлей.
— Мне кажется, что вы пренебрегаете нашей всемилостивейшей государыней!
— Милорд! — возмутился Лейстер.
— Простите, но как может тогда ее величество так долго пребывать в столь дурном настроении, если за ней ухаживают с должным вниманием и заботливостью?
— Да разве же вы не видели и не слышали, — с раздражением сказал Лейстер, — как она обошлась со мной сегодня?
— Преданный слуга коронованной особы должен уметь все перенести. Благоволением дарственных особ нельзя пользоваться без известных жертв, это — столь же лестное, сколь и полное ответственности положение! Ведь почти преступно выказывать неудовольствие там, где вы должны проявить двойную заботливость и внимание!
— Но послушайте, милорд Бэрлей…
— Дайте мне договорить до конца, милорд! Мы беседуем с вами наедине, и слова, которые говорятся в интересах нашей государыни, нашей высокой повелительницы, не должны и не могут оскорбить вас. Но ваше неудовольствие превращается в государственное преступление, раз благодаря ему у королевы продолжается дурное расположение духа!
Доказательства Бэрлея сыпались с присущей ему логической меткостью, и Лейстер чуть на задыхался от злости, так как не мог придумать никаких основательных возражений на пересыпанную лестью речь своего врага.
— От удивления у меня нет слов, — произнес он наконец. — Мне казалось, что я навсегда потерял благоволение и милость ее величества…
— Ничего подобного! — возразил Бэрлей. — Но давайте сначала посмотрим, куда нас ведет то состояние духа, в которое погружена ее величество. Никогда до такой степени не сказывалась необходимость в ее влиянии на ход политики, как в данный момент, а мы, несмотря на это, никак не можем побудить ее к какому-либо решению.
— Я тоже вижу это.
— Наши внешние враги строят целые комбинации на этом состоянии монархини, и их расчеты заходят очень далеко. Если королева не воспрянет духом, если ее страдания прогрессивно будут расти, то она сыграет с нами очень неприятную штуку…
— Да… да, к сожалению… к сожалению… Но как, спрашивается, изменить это настроение?
— А вот послушайте, что я думаю относительно этого. Итак, наши враги видят в затишье нашей придворной жизни в настоящий момент малодушие, нерешительность, раскаяние в тех шагах, которые были сочтены разумными с точки зрения нашей политики; поэтому они с большей смелостью подняли голову и дерзнули даже угрожать. Это требует от нас контрвызова, блеска, пышности двора, веселья, быть может, даже больших охот, которые в прежнее время составляли любимое развлечение королевы!
— Вы совершенно правы, милорд. Но я все-таки повторяю свой последний вопрос: как прогнать это настроение?
— Мне казалось, что вы могли бы указать королеве на несовместимость подобного состояния духа с королевским саном, указать на возможность потери красоты лица от тоски и горя, на потерю популярности, на исторические последствия, наконец!
— Это очень тяжелая задача!
— Я знаю. Но только вы один и были бы способны разрешить ее!
— Слишком лестно, милорд!
— В то же время вы получите солидную поддержку. Мы сумеем довести до сведения монархини желания двора и народа и сообщить о недовольстве, которое вызывает этот необоснованный траур, и опасения, как бы он не превратился в действительно необходимый…
— Такие намеки я не хотел бы делать.
— Да вам и не нужно делать их. В конце концов я вскользь упомянул ей об иностранной политике, и королева, осажденная таким образом со всех сторон, неизбежно придет в другое состояние духа.
— И при этом я непременно должен быть тем, кто станет таскать для вас каштаны из огня?
— Каждый делает то, что в его силах! — холодно ответил лорд-казначей. — Ведь вы знаете, что для достижения моих целей — то есть целей, связанных с государственными интересами, я охотно довольствуюсь собственными силами и во всяком случае не стал бы искать союза именно с вами, если бы мог как-нибудь обойтись без вас.
— Это по крайней мере высказано с достаточной ясностью и определенностью, — ответил Лейстер, почувствовавший себя и обиженным, и польщенным, — и я готов поверить вам на слово!
— Вы видите, я отдаюсь в вашу власть, отдаю должное вашим заслугам и признаю ваши выдающиеся качества, как это делает наша высокая повелительница. И если я лично иногда держусь иного мнения, то в результате все-таки подчиняюсь взгляду ее величества. Так попытаемся же каждый с своей стороны исполнить свою обязанность, как того требует наша служба ее величеству!
— Вы правы, — вздохнув, согласился Лейстер. — Значит, я должен покориться печальной необходимости… Мне следует сейчас же отправиться к ее величеству?
— Чем скорее, тем лучше, милорд. Но подождите сначала Валингэма; он сообщит вам, каково теперь настроение ее величества. Честь имею кланяться!
Оба лорда глубоко склонились друг перед другом с обязательной улыбкой на устах. И эта улыбка не была так лжива, как всегда, потому что на этот раз они не чувствовали обычной жажды свернуть друг другу шеи.
Лейстер остался в зале, чтобы обождать Валингэма, а Бэрлей прошел в приемную комнату, где встретил даму, с которой очень почтительно раскланялся.
— Леди Анна, — сказал он ей, — мне нужно поговорить с вами, если вы разрешите.
— Пожалуйста, милорд, я к вашим услугам! — ответила дама и последовала за министром в соседнюю комнату.
Леди Анна Брауфорд была в то время обер-гофмейстериной королевы, так глубоко преданной ей, что готова была позволить растоптать себя, если бы это понадобилось для блага Елизаветы. Очень гордая и ограниченная, но добродушная женщина, она имела характер, как нельзя более подходящий для той цели, которую наметил в данном случае Бэрлей.
— Вы, миледи, вероятно, опять и глаз не сомкнули ночью? — спросил лорд леди Анну.
К сожалению, нет: дежурная камер-фрейлина доложила мне, что ночью королева была беспокойнее, чем когда-либо прежде.
— Это просто несчастье!
— Страшное несчастье, милорд!
— Нам нужно как-нибудь помочь этому делу!
— Кто тут может помочь, милорд!
— Вы, леди!
— Что?.. Я?.. Интересно, каким образом я могла бы помочь?
— Ее величество не любит, когда ей говорят правду, но в данном случае необходимо кому-то решиться, даже под угрозой немилости. Но для этого не всякий годится, да и не у всякого найдется столько преданности и готовности к самопожертвованию, как у вас, леди…
— Если бы этого одного было достаточно…
— Вы должны открыть государыне глаза на то, как изменилась она за последнее время; на то, как она изменится еще более и какой неизгладимый след оставит на лице болезнь, если она не справится с ней.
— Вы пугаете меня, милорд!
— Вы должны сообщить ее величеству, что народ уже ропщет, что народ боится за последствия ее болезни, и что все это можно было бы изменить развлечениями и удовольствиями. Время карнавала прошло, но мы могли бы устроить блестящую охоту. Стоит только ее величеству сделать первый шаг, а другие уже не заставят себя ждать. Я уверен, что вы при своей безграничной преданности государыне поможете нам предотвратить несчастье!
— Ну конечно, конечно! — согласилась леди Брауфорд. — Я готова сделать все, что вы считаете нужным, милорд!
— Так сделайте все, что я говорил. Как только милорд Лейстер поговорит с королевой, ступайте к ней!
Лорд-казначей схватил руку леди Брауфорд и поднес ее к своим губам, хотя обыкновенно он не удостаивал этой чести ни одной из придворных дам.
Польщенная леди Брауфорд залилась ярким румянцем и низко поклонилась, эта любезность министра еще более подогрела ее готовность стать громоотводом для него.
Тем временем из апартаментов королевы вышел Валингэм. Он казался чрезвычайно довольным и веселым, словно только что получил величайшую милость, чего, разумеется, на самом деле вовсе не было.
Лорд Лейстер пошел ему навстречу и спросил:
— Что, ее величество спокойна?
— Как всегда!
— Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа! — нетерпеливо сказал Лейстер. — Дело идет о слишком важных вещах. Я спрашиваю вас согласно договоренности с лордом Бэрлеем.
— Так, так! — сказал Валингэм, пытливо всматриваясь в лорда Лейстера. — Но мне казалось, что мой ответ достаточно определен!
— Значит, королева все еще возбуждена и раздражена?
— Ну да!… Но лучше бы она пришла в еще большее раздражение, но по другому поводу.
— Хорошо, — кивнул Лейстер и поспешил к покоям королевы.
Он застыл у порога в глубоком поклоне.
Действительно, внешний вид Елизаветы говорил о глубоком душевном расстройстве. В чертах ее лица, во всех движениях сквозило беспокойство; лихорадочный румянец горел на щеках, глаза бегали по комнате с беспокойным трепетом, лоб был мрачно нахмурен, костюм, вопреки всем привычкам королевы, был небрежен. Она шагала по комнате из угла в угол. Приметив Лейстера, королева резко остановилась и сурово спросила:
— Кто вас звал?
— Ваше величество, — ответил Лейстер, — ваше милостивое позволение на вход в ваши апартаменты для верного слуги является уже само по себе призывом в те минуты, когда это оказывается нужным.
— Ваше присутствие нужно? Но для чего?
— Я не могу больше смотреть на то, как прекраснейшая в мире женщина пренебрегает дарами природы, словно кающаяся грешница!
— Что вы себе опять позволяете, безумный вы человек! — окончательно вышла из себя Елизавета.
— Я позволю себе скорее рискнуть головой, чем молчать долее и не сказать вам, что ваша красота пропадает, что ваш ум теряет в блеске и остроте, что ваши недруги уже радуются тому, что вы вот-вот заболеете. Даже больше, когда-нибудь история упомянет, что до известного момента Елизавета была великой государыней, но…
Надо признать, что для подобного момента слова Лейстера были чересчур смелы. Елизавета даже побледнела от бешенства и крикнула ему, величественно указав рукой на дверь:
— Вон! И не появляйтесь ко мне на глаза до тех пор, пока я не прикажу позвать вас!
Лейстер исчез. Дело оказалось гораздо хуже, чем он мог ожидать, и в его голове уже мелькнула мысль, не подстроил ли всего этого Бэрлей умышленно, чтобы окончательно лишить его благоволения королевы. Он осмотрелся по сторонам, нет ли где-нибудь Бэрлея, и, не найдя его, ушел из дворца.
Леди Анна зорко наблюдала за Лейстером, когда он выходил из комнаты королевы. Он не обратил на нее никакого внимания, поэтому она не решилась заговорить с ним, но ей нетрудно было догадаться, что его визит окончился не очень-то удачно. Несмотря на это, она все-таки отправилась к королеве.
Елизавета не обратила ни малейшего внимания на появление в комнате леди Анны, но крайне удивилась, когда обер-гофмейстерина опустилась около нее на колени и поцеловала подол ее платья.
— Что тебе, Анна? — раздраженно спросила Елизавета.
— Выслушайте меня, пожалуйста, ваше величество!
— Да что тебе нужно? Ну, говори! — еще раздраженнее ответила Елизавета.
— Вы сами, ваше величество, часто говорили: женщина, которая появляется перед мужчиной в небрежном виде, унижает себя!
— Как?… Разве я так небрежно одета?
— Да, ваше величество, и теперь это больше бросается в глаза, чем обыкновенно!
— Но почему?
— Горе начинает отражаться в ваших чертах, государыня, вы худеете, у вас портится цвет лица, взор тускнеет…
— Господи Боже! И это все заметили?
— Конечно, заметили и говорят об этом…
— Ах, сплетники!… Разве солнце всегда блестит?
— Но во времена затмений, когда блеск солнца помрачается, это вызывает смятение.
— Правда… Ну, и что еще?
— Люди думают, чтопри дворе объявлен траур, и спрашивают, почему?
— Ох уж эти мне людишки!… Они только и жаждут развлечений и удовольствий! Неужели они не могут понять, какие чувства обуревают мою душу? Неужели они хотят, чтобы я была их рабой?
— Королевой, государыня! Они хотят, чтобы вы были королевой! Да и вам самой станет легче, если вы немного рассеетесь и потом привычной рукой возьметесь за бразды правления! Ведь уж сколько времени продолжается все это!… А за границей болтают, что английский двор оскудел… А почему? Этого я уж не знаю..
— Нет, это не смеют говорить! — с раздражением воскликнула Елизавета. — Нет, только не это! Дай мне зеркало!
Леди Анна поспешила исполнить приказание.
Конечно, Елизавета не раз смотрелась в зеркало, но в ее голове не было тех мыслей, которые сейчас вызвали в ней разговоры с Лейстером и обер-гофмейстериной. Теперь же, бросив взгляд в зеркало, она невольно отшатнулась и пробормотала:
— Да, я сильно изменилась!
— Соизволите приказать подать вам одеться? — поспешила спросить леди Анна.
— Да, сделай это.
Обер-гофмейстерина радостно поспешила позвать фрейлин; против всякого ожидания она добилась очень многого, и, может быть, только потому, что первый гнев королевы обрушился на Лейстера.
Леди Анна позвала фрейлин, заведовавших гардеробом королевы, и камер-фрейлин. Все поспешили к исполнению своих обязанностей. Леди Анна выбрала любимое платье Елизаветы. Через пять минут королева уже была занята большим туалетом, но для кого собственно — этого она не знала и сама. Но если бы эта всемогущая государыня догадалась сейчас, что служит просто марионеткой в ловких руках своего первого министра, ему пришлось бы плохо..
Через некоторое время Бэрлей снова подошел к леди Анне с немым вопросом. Та сразу поняла его.
— Ее величество занята туалетом, — ответила она.
Ласковая улыбка и новый поцелуй ее руки были наградой министра послушанию обер-гофмейстерины.
— Дайте мне знать, когда государыня окончит свой туалет, — сказал он.
— Слушаю-с, милорд, — ответила леди Анна.
Бэрлей вернулся обратно в кабинет, где он обыкновенно работал во время своих занятий во дворце. Вскоре ему дали знать, что туалет окончен, и он отправился к королеве.
Слезы облегчают горе женщины, но в еще большей степени заботы о собственной наружности могут облегчить ее страдания. Теперь в Елизавете проснулось прежнее кокетство, и казалось, что она забыла обо всем на свете, кроме наряда и украшений.
Королева сидела посреди своей гардеробной в кресле. Перед ней, по бокам и сзади стояли венецианские зеркала выше человеческого роста, и около нее хлопотали парикмахерши да камер-фрейлина, старавшаяся половчее укрепить какое-то бриллиантовое украшение.
Бэрлей так и застыл, словно окаменев, у порога. Елизавета поняла своего министра и улыбнулась. Она выслала из комнаты своих дам и, улыбаясь, спросила Бэрлея:
— С чем вы явились, милорд?
— Ваше величество, я даже забыл, зачем явился к вам, — ответил Бэрлей, весь погруженный в восхищенное созерцание. — Я благословляю небо, что мои глаза удостоились видеть вас в присущем вам блеске, красоте и величественности, что весь ваш вид говорит о лживости уверений ваших врагов!
— В чем дело? — Елизавета поспешно встала и скользнула в находившийся по соседству рабочий кабинет. Бэрлей последовал за ней. — Говорите!
— Злобная зависть и подлое недоброжелательство врагов Англии заставляют их распространять за границей слухи, будто над лондонским двором веет призрак смерти…
— Ого! — в гневе воскликнула королева.
— Врага государства и религии, — продолжал Бэрлей, — уже торжествуют, что в Англии естественным путем произойдет перемена царствования…
— Довольно! — крикнула Елизавета, и ее щеки покраснели даже под слоем белил и румян. — Все остальное я уже поняла! Лорд Дэдлей прав, в известном отношении он обладает огромным тактом…
Бэрлей насмешливо улыбнулся.
— Но хорошо же, — продолжала Елизавета. — Теперь я снова покажу себя! Мы устроим несколько праздников. Я докажу всему свету, что никакие государственные заботы не могут слишком тяжело придавить мне плечи! Что вы посоветуете?
— Погода очень хороша, ваше величество. Прикажите устроить большую охоту. При этом мы не только докажем, что наш двор полон жизни, но и ваша особа явится во всем своем лучезарном величии. Сплетни в народе будут опровергнуты, издевательства и злобные надежды заграничных недругов исчезнут сами собой и все их оскорбительные расчеты разлетятся прахом!
— Вы правы! Завтра же пусть будет устроена большая охота. У вас есть что-нибудь для меня?
Бэрлей сделал ряд незначительных докладов, с которыми было скоро покончено, и ушел от королевы, довольный успехом своего плана.
Елизавета подозвала дежурную камер-фрейлину и приказала:
— Если лорд Лейстер еще в Гринвиче, то позовите его сюда!
Камер-фрейлина ушла.
Лейстер, сейчас же явившийся по переданному ему приказанию, был очень поражен переменой во внешнем виде королевы, но затаил в себе это изумление и стоял у порога с низким поклоном, ожидая приказаний Елизаветы.
— Милорд Дэдлей, — сказала королева, — мы желаем устроить завтра большую охоту, позаботьтесь о всех необходимых приготовлениях, вы будете нашим кавалером.
Счастливый Дэдлей! Как ему было владеть собой!
Он поклонился так низко, что чуть не коснулся лбом пола, и, пятясь, пятясь, вышел из кабинета королевы, ободряемый ее ласковыми улыбками. Сверкая счастьем и гордостью, он прошел через приемную, куда уже проникло известие об устраиваемой большой охоте, что вызвало всеобщую радость и оживление.

Глава двадцать вторая
ЭДУАРД МАК-ЛИН

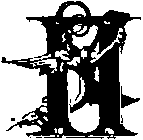 Приговор Марии Стюарт вызвал в Англии народную радость, а в Шотландии — страшное раздражение. Негодовали и правители всей Европы. В глазах протестантов этот приговор подрывал уважение к Елизавете и увеличивал ненависть католиков. А на всех заграничных приверженцев Марии Стюарт, на всех английских и шотландских лордов, бежавших за границу, он произвел впечатление удара грома среди ясного неба, так как они смотрели на нее как на политическую и религиозную мученицу. К таким приверженцам принадлежал и шотландский лорд Мак-Лин, который давно уже жил не в Шотландии, а в Италии, у озера Комо.
Мак-Лин был скорее приверженцем католической религии, чем королевы Стюарт. Его меньше всего интересовали счеты Елизаветы с Марией, гораздо больше — восстания против протестантского господства в Шотландии. Тем не менее он считал Марию Стюарт законной государыней, а себя — ее подданным.
Когда партия Марии Стюарт была рассеяна, враги Мак-Лина воспользовались удобным случаем свести с ним личные счеты. Поэтому Мак-Лин был вынужден бежать и скрыться во Франции с частью преданных ему людей.
В изгнании скончалась супруга лорда, оставив ему сына Эдуарда в возрасте пяти лет. После смерти любимой жены Франция опротивела лорду. Поэтому в сопровождении тех слуг, которые по-прежнему не желали расставаться с ним, Мак-Лин переехал в северную Италию. Купив там имение, он основал небольшую шотландскую колонию. С того времени прошло пятнадцать лет, лорд состарился и познал равнодушие к мирской суете.
Но за это время вырос его сын Эдуард, которому исполнилось уже двадцать лет, вместе с ним выросло и новое поколение шотландских эмигрантов.
В раннем детстве воспитанием Эдуарда руководила старая кормилица, ярая католичка и фанатическая поклонница королевы Марии Стюарт. Позднее воспитанием юноши занялся суровый шотландский ученый по имени Буртон, который бежал вместе с лордом из Шотландии и о котором можно было сказать то же самое, что и о кормилице. Одновременно с сыном лорда старик занимался также и с остальными детьми колонии.
К одному из этих юношей Киприану Аррану лорд Эдуард питал особенно крепкую и дружескую привязанность. Позднее Киприан стал кузнецом. Но это обстоятельство не мешало совместному обучению, которое продолжалось теперь по воскресным и праздничным дням. Старый лорд и сам время от времени читал молодой аудитории нечто вроде лекций, состоящих из описаний различных местностей и красот родины, из рассказов по истории ее государей. Благодаря этому молодые люди росли религиозно и патриотически настроенными, что сделало их фанатичными сторонниками несчастной Марии Стюарт.
С особенной силой все эти чувства проявлялись у Эдуарда, который вырос в сильного, красивого и энергичного молодого человека. Он стал самым отъявленным приверженцем Марии Стюарт и увлек этим и своего друга Киприана.
Сначала эти симпатии не преследовали какой-нибудь определенной цели, да и воспитание молодежи велось без предвзятого намерения. Лорд спешил женить сына, и тот уже успел обручиться с одной из своих соотечественниц.
Но вдруг в их краях появился незнакомый шотландец, оказавшийся агентом, который был послан из Парижа в Рим по делам Марии Стюарт и возвращался теперь обратно. Этого человека звали Петром. Он-то и принес своим соотечественникам весть об осуждении Марии на смерть, при этом заметил, что с приведением приговора в исполнение английское правительство не торопится.
Эта весть изменила обстановку в доме Мак-Лина. Все перепугались и переживали за королеву. Но вскоре пришло и утешение: Эдуард решил освободить Марию Стюарт, и отец одобрил этот план.
Шотландец Петр отправился в один из соседних городков, и Эдуард поспешил к нему, чтобы сообщить о своем решении. Петр был очень удивлен, что и в чужой земле зреют такие надежды и намерения, одобрил план Эдуарда и обещал ему помощь кардинала Лотарингского, кроме того, он предложил юноше отправиться вместе с ним в Париж.
Эдуарду понадобились помощники, и первым делом он подумал о своем лучшем друге. Киприан Арран немедленно согласился и постарался уговорить своих товарищей. Двенадцать соотечественников выразили согласие помочь Эдуарду и Киприану в их деле.
Эдуард простился с невестой и ее родителями, придумав правдоподобный предлог для отъезда. Его снабдили рекомендательными письмами и достаточными средствами. И вот Эдуард в сопровождении Петра и дюжины смелых, отважных, хорошо вооруженных людей на великолепных лошадях поспешил к намеченной цели.
От озера Комо направились через Савою, перебрались через Мон-Цени и без всяких препятствий добрались до французской границы. Но по ту сторону границы натолкнулись на такое приключение, которое можно было счесть за счастливое предзнаменование.
Через несколько дней пути по Франции они прибыли в округ Бон, местность, где вообще никогда не бывало недостатка в бандитах. Путники хотели добраться до города до наступления вечера, им предстояло проехать неспокойным лесом, о чем их предостерегали еще на последней остановке. Лес состоял из старых каштанов и дубов, густые вершины которых не пропускали света даже днем, вечером же там постоянно царила полная тьма. Почва была очень холмистая, а дорога так извивалась, что даже и при полном свете было бы невозможно видеть что-нибудь впереди. Путники были начеку, держали оружие наготове не только для защиты, но и для немедленного нападения при первой угрозе. Не прошло и получаса, когда вдруг из лесного мрака до них донеслись звуки выстрелов и крики о помощи.
— Там на кого-то напали! — сказал Петр.
— Не поспешить ли нам на помощь! — спросил Эдуард.
— Ну разумеется! — отозвался Киприан.
— Тогда вперед! — скомандовал Петр, и вся кавалькада галопом понеслась в сторону разбойничьего нападения.
Домчавшись до места нападения, наши путешественники застали только опрокинутую карету, под которой лежал человек, видимо, тяжело раненный. Вырвавшаяся из упряжки четверка лошадей пугливо храпела. В кромешной тьме трудно было что-нибудь разглядеть.
Петр и Эдуард заговорили по-французски с человеком, лежавшим на земле. Но тот сообщил, что он — кучер некоего лорда, которого только что утащили разбойники вместе с супругой, детьми и слугами.
— Так значит, это — англичане? — тихо сказал Петр. — Попытаемся освободить их!
— Но где их найдешь в этой темной гуще леса? — возразил Эдуард.
— Вы только скажите своим людям, чтобы они слушали мои распоряжения! — произнес Петр.
Эдуард так и сделал.
Тогда Петр велел десятерым всадникам спешиться, сам тоже слез с лошади и повел их за собой.
Призывы о помощи служили им хорошим ориентиром. Бандиты, которых задерживало сопротивление пленников и детей, не могли двигаться так быстро, как их преследователи. К тому же они надеялись, что наткнулись на марэшоссэ (особый род конной стражи, оберегавшей проезжие дороги и шоссе) или полицию, которые обыкновенно довольствовались тем, что спугивали разбойников и благоразумно не пускались преследовать их. И бандиты немало удивились, когда заметили, что преследователи почти уже догнали их. От испуга они бросили пленников и добычу, чтобы поскорее скрыться от погони. Таким образом, пленники были освобождены и окружены спасителями.
— Посмотрите, — крикнул Петр по-английски, — все вы здесь, потому что еще есть время продолжать погоню.
Среди спасенных началась страшная суматоха и крики; им пришлось на ощупь убеждаться, здесь ли все.
— Не хватает еще кучера! — сказал наконец кто-то из них.
— Он там, на дороге, — ответил Петр. — Теперь идите за нами к карете.
— Помогите дамам и детям, — приказал Эдуард своим людям.
Все торопливо направились к дороге.
— Кому я обязан за спасение? — спросил один из англичан. — Я — лорд Стаффорд, посланник ее величества английской королевы при французском дворе.
Петр, шедший рядом с Эдуардом, сжал руку молодого человека и шепнул:
— Не выдавайте меня! Говорите с ними вы.
— О, прошу вас, не утруждайте себя выражениями благодарности за такую ничтожную услугу, милорд! — произнес Эдуард. — Меня зовут Мак-Лин, я — шотландец и направляюсь в Париж, Я бесконечно рад, что имел случай оказать вам эту небольшую услугу.
— Вы меня смущаете, сэр! — воскликнул лорд. — Но мы, разумеется, еще увидимся с вами?
— Мне будет очень приятно поближе познакомиться с вами, — ответил Эдуард.
Тем временем все дошли до дороги. Оставшиеся на месте люди Эдуарда оказали раненому кучеру первую помощь и поставили карету на колеса. Киприан, который, как и все кузнецы того времени, понимал кое-что в медицине, исследовал раны кучера и наложил повязки. Люди лорда пристроили поклажу обратно на место, и все семейство могло уже продолжить свой путь. Вместо кучера, которого устроили поудобнее, на козлы влез один из слуг.
Лорд Стаффорд направлялся в Бон после короткого отдыха на юге Франции. Но если принять во внимание те чувства, которые питали в то время французы к англичанам, то станет понятным, что посланник уезжал из Парижа просто для того, чтобы уклониться от ненависти парижан к английскому послу при вести о смертном приговоре Марии Стюарт.
Петр распорядился, чтобы часть всадников ехала перед каретой, а часть — позади нее вместе с ним и Эдуардом.
— Сэр Эдуард, — шепнул Петр, — это — такая встреча, которая может очень пригодиться вам.
— В каком смысле? — спросил Мак-Лин.
— В самом простом. Вы никого не знаете в Англии, так попросите у этого лорда Стаффорда рекомендаций ко двору. Он охотно даст, Вы избавитесь от массы хлопот и вам не нужно будет прятаться. К тому же он принял вас за знатного человека, оставьте его при этой иллюзии.
— Но не могу же я выдавать себя за того, кем на самом деле не являюсь?
— Не нужно быть таким щепетильным, когда речь идет о важном деле. Во мраке ваша свита производит солидное впечатление, а днем лорд не должен видеть ее. Мы устроимся в другой гостинице, а вы отправьтесь к лорду с визитом. Утром мы уедем раньше лорда.
— Я подумаю об этом, — ответил Эдуард.
В Боне шотландцам пришлось остановиться в одной гостинице с англичанами, но шум и суета, вызванные свитой Эдуарда, в темноте и при смутном свете ламп могли создать впечатление знатности молодого человека.
Лорд Стаффорд подошел к Эдуарду и, попросив у него извинения, что в данном случае он нарушает обычные правила вежливости, пригласил его отужинать вместе с ним и его семейством. Эдуард согласился и отравился к себе в комнату, чтобы переодеться.
В данных обстоятельствах необходимость присутствовать на ужине была скорее тяжелым бременем, нежели удовольствием, но его необходимо было перенести; кроме того, Эдуард был обязан справиться, как себя чувствует семья лорда после ночного потрясения. В кругу семьи лорда он был принят очень радушно. Жена и дети лорда поблагодарили его, и все отправились к столу, чтобы поужинать. Когда перед сном дети и жена лорда прощались с гостем, они выразили надежду увидеть его на следующий день. На это Эдуард не сказал ни «да», ни «нет», а только выразил надежду, что неприятное приключение в лесу обойдется без всяких дурных последствий. Мужчины остались одни.
Лорд Стаффорд, снова выразив Эдуарду свою признательность, сказал, что надеется поехать с ним в Париж вместе.
— Я очень сожалею, милорд, что не могу воспользоваться вашим предложением, — ответил Эдуард. — Я очень тороплюсь, в Париже меня ждет важное дело, которое требует, чтобы я вовремя попал туда.
Стаффорд пытливо уставился на говорившего. Ему хотелось узнать, какого рода это дело, так как в его глазах человек, путешествующий с такой большой свитой, должен был обязательно быть особой, преследующей какие-то дипломатические цели. Но лорд счел себя обязанным подавить в себе на этот раз любопытство и лишь высказать сожаление, что вместе с Эдуардом поехать ему не удастся.
— Тем не менее, — продолжал он, — я надеюсь еще встретиться с вами, сэр. Если могу быть полезен вам чем- либо, то очень прошу вас, скажите, чем — и я готов к вашим услугам. Правда, я чужой в этой стране, но у меня имеются громадные связи, которыми я рад буду воспользоваться для того, чтобы быть полезным вам.
Эдуард помолчал некоторое время. Ему было очень неудобно пользоваться рекомендациями посланника, чтобы проникнуть в те круги, которые для него мало доступны. Но поставленная цель заставила его последовать совету Петра.
— Я боюсь, что покажусь слишком нескромным, — сказал он наконец.
— Ни в коем случае, сэр! — возразил лорд. — Вы не можете себе представить, как я был бы рад, если бы и в самом деле мог хоть чем-нибудь услужить вам!
— Во Франции мне не нужны никакие рекомендации, — продолжал Эдуард, — так как я рассчитываю отправиться в Лондон. Мне очень хотелось бы иметь возможность появиться при дворе, но, к сожалению, я не знаю там никого из влиятельных лиц…
— О, если дело только в этом… — начал лорд.
Вдруг он запнулся и снова пытливо уставился на молодого человека. Но молодость Эдуарда быстро рассеяла смутные подозрения, да и врожденная вежливость помешала высказать их. В свою очередь, Эдуард постарался сохранить самый непринужденный вид, и это удалось ему в достаточной мере.
— Простите, милорд, — сказал он, — я слишком мало знаком вам, чтобы иметь право на ваше доверие.
— Вы меня поняли вовсе не так, — смутился лорд. — Я просто задумался о том, каким именно лицам я мог бы вас рекомендовать. Но скажите, мы еще увидимся с вами в Париже ранее того, как вы отправитесь в Лондон?
— Это неизвестно.
— В таком случае я сейчас же напишу письма.
— Помилуйте… такое затруднение…
— Никаких затруднений, наоборот, это — просто приятная работа для меня. Я поручу вас моей матери, она лучше всякого другого сумеет оценить оказанную вами мне услугу. В качестве статс-дамы королевы Елизаветы она может в значительной мере удовлетворить ваши желания.
Эдуард ответил поклоном, он с беспокойством подумал о том, что может сделать несчастной целую семью, а удастся или нет его предприятие, это — еще вопрос.
— Кроме того, — продолжал Стаффорд, — я дам вам рекомендательные письма к лорду Бэрлею и Лейстеру; больше вам никого не нужно.
— Очень благодарен вам, милорд! — ответил Эдуард.
Не должно казаться странным, что оба они ни разу не упомянули в разговоре о шотландской королеве. Самому Стаффорду было очень неприятно касаться этой темы, а Эдуард боялся выдать себя, если разговор зайдет о Марии Стюарт.
Во время написания писем лорд Стаффорд назвал еще несколько лиц, которым Эдуард мог передать привет от него.
Наконец с письмами было покончено. Эдуард взял их, поблагодарил и простился с лордом. Он чувствовал себя сильно утомленным, поэтому сейчас же ушел к себе в комнату, чтобы лечь спать.
На следующий день отряд шотландцев двинулся в путь с первыми проблесками зари. Лорд Стаффорд и его семья еще спали.
Когда всадники выехали из города, Мак-Лин рассказал Петру о разговоре, происшедшем вчера между ним и лордом Стаффордом.
— Хорошо, очень хорошо! — заметил Петр. — Я считаю, эта встреча и рекомендательные письма лорда очень помогут нам.
— Я тоже очень рад этому происшествию, — сказал Эдуард. — Но ночью мне пришла в голову идея попросить аудиенции у королевы Елизаветы.
— Вы хотите представления ко двору?
— Нет, настоящей и тайной аудиенции.
— Для чего?
— Чтобы убедить королеву Елизавету отпустить на волю Марию Стюарт.
— Молодой человек, это пытались сделать уже многие!
— Но, быть может, делали это не так, как следует.
— Эго делалось всевозможными способами. Если вы хотите знать мое мнение, то от этой мысли надо отказаться.
— Хорошо, я подумаю.
— Передача рекомендательных писем, знакомство с знатными господами, представление ко двору, — продолжал Петр, — все это — очень хорошие ширмы, за которыми вы можете скрыть ваши истинные намерения. Между прочим, вы должны рассчитывать и на то, что лорд Стаффорд поможет вам и в других отношениях. Епископ Росс кий даст вам дальнейшие указания, поэтому оставим пока все так, как есть.
Наступила зима, когда Эдуард со своим отрядом прибыл в Париж. Он поместился в рекомендованной ему Петром гостинице и на следующий день отправился к епископу Росскому. Тот принял его очень любезно, так как уже был оповещен Петром. В беседах епископ дал юному искателю приключений необходимые указания и наставления и одобрил мысль поговорить еще с кардиналом Лотарингским.
В начале декабря Эдуард со своей свитой въехал в Реймс — город, где издревле короновались французские государи, и получил несколько аудиенций у кардинала. Этот кардинал вызвал к себе и Киприана Аррана, с которым поговорил наедине. И Мак-Лин заметил, что с этих пор в друге произошла значительная перемена. Арран стал серьезен, мрачен и скуп на слова, большую часть времени предавался своим раздумьям. Вероятно, кардинал отдал предпочтение Аррану.
В скором времени путники выехали из Реймса, чтобы отправиться в Кале, откуда надеялись переправиться в Англию и Лондон. Эдуард мог безбоязненно решиться на это, так как его имя было почти неизвестно в Англии, и едва ли кто-нибудь знал, что его отец покинул Шотландию.
Для переезда в Дувр Эдуард воспользовался собственным, специально для этой цели зафрахтованным судном, на котором все и добрались вполне благополучно до английского берега.
И тут Киприан стал проявлять такое беспокойство, что Эдуард решился его спросить:
— Что с тобой? Уж не раскаиваешься ли ты? Или боишься?
— Я ни в чем не раскаиваюсь, — ответил кузнец, — и ничего не боюсь, наоборот, сгораю от желания скорее покончить наше дело.
— И все-таки тебе придется сдерживаться! Наша задача сводится к лозунгу: «Терпение!» Да и вообще нам придется изменить свой план.
— В каком отношении? — удивился Киприан.
— Мы не последуем указаниям кардинала, а, как решили сначала, воспользуемся рекомендательными письмами Стаффорда.
— Но ведь, если я верно понял желания его преосвященства, то он хотел, чтобы мы не пользовались рекомендательными письмами лорда Стаффорда!
— Да, он так считает, но я держусь совершенно другого взгляда на вещи, и мой взгляд, надеюсь, правильнее его.
— Смею я спросить, что ты имеешь в виду?
— Разумеется. Но сначала я укажу тебе на те неблагоприятные для нас моменты, которые возникнут, если мы решим воспользоваться указаниями кардинала.
— Значит, мы напрасно посещали кардинала?
— Почти, Киприан, хотя, нужно признать, благодаря ему мы достаточно ориентированы. Кардинал рекомендовал нам завязать отношения с тем самым кружком, от которого исходили все неудавшиеся предприятия и в котором постоянно обретались предатели.
— Я и сам подумал об этом!
— Мы совершенно чужие в Лондоне, чтобы быстро разобраться в людях, они же все, наверное, отлично известны английской полиции, и если мы будем водиться с ними, то нас выследят.
— С твоими выводами нельзя не согласиться. Значит, мы бросимся в объятия противной партии?
— Да, и никто не догадается о наших намерениях. Кроме того, таким образом нам будет легче узнать все, что нам необходимо узнать.
— Что же, у меня нет оснований держаться иного взгляда.
— Это мне приятно. И вот еще что: я с остальными людьми поселюсь в большом доме, ты же поселишься отдельно и будешь для нас как совершенно посторонний.
— Да?
— Твоей задачей будет наблюдение за теми людьми, которых нам рекомендовал кардинал; ты должен держать наготове экипаж, словом, подготовить все для внезапного и быстрого отъезда.
Киприан ничего не ответил и только в мрачной задумчивости опустил голову.
— Ты что молчишь? — спросил Эдуард. — Недоволен этим поручением?
— Абсолютно доволен, — ответил Киприан, словно просыпаясь от глубокого сна.
Добравшись до Лондона, они отыскали себе желаемое помещение. Как было решено, Киприан не поселился вместе с другими своими товарищами, а нашел себе другое место.
Приговор Марии Стюарт вызвал в Англии народную радость, а в Шотландии — страшное раздражение. Негодовали и правители всей Европы. В глазах протестантов этот приговор подрывал уважение к Елизавете и увеличивал ненависть католиков. А на всех заграничных приверженцев Марии Стюарт, на всех английских и шотландских лордов, бежавших за границу, он произвел впечатление удара грома среди ясного неба, так как они смотрели на нее как на политическую и религиозную мученицу. К таким приверженцам принадлежал и шотландский лорд Мак-Лин, который давно уже жил не в Шотландии, а в Италии, у озера Комо.
Мак-Лин был скорее приверженцем католической религии, чем королевы Стюарт. Его меньше всего интересовали счеты Елизаветы с Марией, гораздо больше — восстания против протестантского господства в Шотландии. Тем не менее он считал Марию Стюарт законной государыней, а себя — ее подданным.
Когда партия Марии Стюарт была рассеяна, враги Мак-Лина воспользовались удобным случаем свести с ним личные счеты. Поэтому Мак-Лин был вынужден бежать и скрыться во Франции с частью преданных ему людей.
В изгнании скончалась супруга лорда, оставив ему сына Эдуарда в возрасте пяти лет. После смерти любимой жены Франция опротивела лорду. Поэтому в сопровождении тех слуг, которые по-прежнему не желали расставаться с ним, Мак-Лин переехал в северную Италию. Купив там имение, он основал небольшую шотландскую колонию. С того времени прошло пятнадцать лет, лорд состарился и познал равнодушие к мирской суете.
Но за это время вырос его сын Эдуард, которому исполнилось уже двадцать лет, вместе с ним выросло и новое поколение шотландских эмигрантов.
В раннем детстве воспитанием Эдуарда руководила старая кормилица, ярая католичка и фанатическая поклонница королевы Марии Стюарт. Позднее воспитанием юноши занялся суровый шотландский ученый по имени Буртон, который бежал вместе с лордом из Шотландии и о котором можно было сказать то же самое, что и о кормилице. Одновременно с сыном лорда старик занимался также и с остальными детьми колонии.
К одному из этих юношей Киприану Аррану лорд Эдуард питал особенно крепкую и дружескую привязанность. Позднее Киприан стал кузнецом. Но это обстоятельство не мешало совместному обучению, которое продолжалось теперь по воскресным и праздничным дням. Старый лорд и сам время от времени читал молодой аудитории нечто вроде лекций, состоящих из описаний различных местностей и красот родины, из рассказов по истории ее государей. Благодаря этому молодые люди росли религиозно и патриотически настроенными, что сделало их фанатичными сторонниками несчастной Марии Стюарт.
С особенной силой все эти чувства проявлялись у Эдуарда, который вырос в сильного, красивого и энергичного молодого человека. Он стал самым отъявленным приверженцем Марии Стюарт и увлек этим и своего друга Киприана.
Сначала эти симпатии не преследовали какой-нибудь определенной цели, да и воспитание молодежи велось без предвзятого намерения. Лорд спешил женить сына, и тот уже успел обручиться с одной из своих соотечественниц.
Но вдруг в их краях появился незнакомый шотландец, оказавшийся агентом, который был послан из Парижа в Рим по делам Марии Стюарт и возвращался теперь обратно. Этого человека звали Петром. Он-то и принес своим соотечественникам весть об осуждении Марии на смерть, при этом заметил, что с приведением приговора в исполнение английское правительство не торопится.
Эта весть изменила обстановку в доме Мак-Лина. Все перепугались и переживали за королеву. Но вскоре пришло и утешение: Эдуард решил освободить Марию Стюарт, и отец одобрил этот план.
Шотландец Петр отправился в один из соседних городков, и Эдуард поспешил к нему, чтобы сообщить о своем решении. Петр был очень удивлен, что и в чужой земле зреют такие надежды и намерения, одобрил план Эдуарда и обещал ему помощь кардинала Лотарингского, кроме того, он предложил юноше отправиться вместе с ним в Париж.
Эдуарду понадобились помощники, и первым делом он подумал о своем лучшем друге. Киприан Арран немедленно согласился и постарался уговорить своих товарищей. Двенадцать соотечественников выразили согласие помочь Эдуарду и Киприану в их деле.
Эдуард простился с невестой и ее родителями, придумав правдоподобный предлог для отъезда. Его снабдили рекомендательными письмами и достаточными средствами. И вот Эдуард в сопровождении Петра и дюжины смелых, отважных, хорошо вооруженных людей на великолепных лошадях поспешил к намеченной цели.
От озера Комо направились через Савою, перебрались через Мон-Цени и без всяких препятствий добрались до французской границы. Но по ту сторону границы натолкнулись на такое приключение, которое можно было счесть за счастливое предзнаменование.
Через несколько дней пути по Франции они прибыли в округ Бон, местность, где вообще никогда не бывало недостатка в бандитах. Путники хотели добраться до города до наступления вечера, им предстояло проехать неспокойным лесом, о чем их предостерегали еще на последней остановке. Лес состоял из старых каштанов и дубов, густые вершины которых не пропускали света даже днем, вечером же там постоянно царила полная тьма. Почва была очень холмистая, а дорога так извивалась, что даже и при полном свете было бы невозможно видеть что-нибудь впереди. Путники были начеку, держали оружие наготове не только для защиты, но и для немедленного нападения при первой угрозе. Не прошло и получаса, когда вдруг из лесного мрака до них донеслись звуки выстрелов и крики о помощи.
— Там на кого-то напали! — сказал Петр.
— Не поспешить ли нам на помощь! — спросил Эдуард.
— Ну разумеется! — отозвался Киприан.
— Тогда вперед! — скомандовал Петр, и вся кавалькада галопом понеслась в сторону разбойничьего нападения.
Домчавшись до места нападения, наши путешественники застали только опрокинутую карету, под которой лежал человек, видимо, тяжело раненный. Вырвавшаяся из упряжки четверка лошадей пугливо храпела. В кромешной тьме трудно было что-нибудь разглядеть.
Петр и Эдуард заговорили по-французски с человеком, лежавшим на земле. Но тот сообщил, что он — кучер некоего лорда, которого только что утащили разбойники вместе с супругой, детьми и слугами.
— Так значит, это — англичане? — тихо сказал Петр. — Попытаемся освободить их!
— Но где их найдешь в этой темной гуще леса? — возразил Эдуард.
— Вы только скажите своим людям, чтобы они слушали мои распоряжения! — произнес Петр.
Эдуард так и сделал.
Тогда Петр велел десятерым всадникам спешиться, сам тоже слез с лошади и повел их за собой.
Призывы о помощи служили им хорошим ориентиром. Бандиты, которых задерживало сопротивление пленников и детей, не могли двигаться так быстро, как их преследователи. К тому же они надеялись, что наткнулись на марэшоссэ (особый род конной стражи, оберегавшей проезжие дороги и шоссе) или полицию, которые обыкновенно довольствовались тем, что спугивали разбойников и благоразумно не пускались преследовать их. И бандиты немало удивились, когда заметили, что преследователи почти уже догнали их. От испуга они бросили пленников и добычу, чтобы поскорее скрыться от погони. Таким образом, пленники были освобождены и окружены спасителями.
— Посмотрите, — крикнул Петр по-английски, — все вы здесь, потому что еще есть время продолжать погоню.
Среди спасенных началась страшная суматоха и крики; им пришлось на ощупь убеждаться, здесь ли все.
— Не хватает еще кучера! — сказал наконец кто-то из них.
— Он там, на дороге, — ответил Петр. — Теперь идите за нами к карете.
— Помогите дамам и детям, — приказал Эдуард своим людям.
Все торопливо направились к дороге.
— Кому я обязан за спасение? — спросил один из англичан. — Я — лорд Стаффорд, посланник ее величества английской королевы при французском дворе.
Петр, шедший рядом с Эдуардом, сжал руку молодого человека и шепнул:
— Не выдавайте меня! Говорите с ними вы.
— О, прошу вас, не утруждайте себя выражениями благодарности за такую ничтожную услугу, милорд! — произнес Эдуард. — Меня зовут Мак-Лин, я — шотландец и направляюсь в Париж, Я бесконечно рад, что имел случай оказать вам эту небольшую услугу.
— Вы меня смущаете, сэр! — воскликнул лорд. — Но мы, разумеется, еще увидимся с вами?
— Мне будет очень приятно поближе познакомиться с вами, — ответил Эдуард.
Тем временем все дошли до дороги. Оставшиеся на месте люди Эдуарда оказали раненому кучеру первую помощь и поставили карету на колеса. Киприан, который, как и все кузнецы того времени, понимал кое-что в медицине, исследовал раны кучера и наложил повязки. Люди лорда пристроили поклажу обратно на место, и все семейство могло уже продолжить свой путь. Вместо кучера, которого устроили поудобнее, на козлы влез один из слуг.
Лорд Стаффорд направлялся в Бон после короткого отдыха на юге Франции. Но если принять во внимание те чувства, которые питали в то время французы к англичанам, то станет понятным, что посланник уезжал из Парижа просто для того, чтобы уклониться от ненависти парижан к английскому послу при вести о смертном приговоре Марии Стюарт.
Петр распорядился, чтобы часть всадников ехала перед каретой, а часть — позади нее вместе с ним и Эдуардом.
— Сэр Эдуард, — шепнул Петр, — это — такая встреча, которая может очень пригодиться вам.
— В каком смысле? — спросил Мак-Лин.
— В самом простом. Вы никого не знаете в Англии, так попросите у этого лорда Стаффорда рекомендаций ко двору. Он охотно даст, Вы избавитесь от массы хлопот и вам не нужно будет прятаться. К тому же он принял вас за знатного человека, оставьте его при этой иллюзии.
— Но не могу же я выдавать себя за того, кем на самом деле не являюсь?
— Не нужно быть таким щепетильным, когда речь идет о важном деле. Во мраке ваша свита производит солидное впечатление, а днем лорд не должен видеть ее. Мы устроимся в другой гостинице, а вы отправьтесь к лорду с визитом. Утром мы уедем раньше лорда.
— Я подумаю об этом, — ответил Эдуард.
В Боне шотландцам пришлось остановиться в одной гостинице с англичанами, но шум и суета, вызванные свитой Эдуарда, в темноте и при смутном свете ламп могли создать впечатление знатности молодого человека.
Лорд Стаффорд подошел к Эдуарду и, попросив у него извинения, что в данном случае он нарушает обычные правила вежливости, пригласил его отужинать вместе с ним и его семейством. Эдуард согласился и отравился к себе в комнату, чтобы переодеться.
В данных обстоятельствах необходимость присутствовать на ужине была скорее тяжелым бременем, нежели удовольствием, но его необходимо было перенести; кроме того, Эдуард был обязан справиться, как себя чувствует семья лорда после ночного потрясения. В кругу семьи лорда он был принят очень радушно. Жена и дети лорда поблагодарили его, и все отправились к столу, чтобы поужинать. Когда перед сном дети и жена лорда прощались с гостем, они выразили надежду увидеть его на следующий день. На это Эдуард не сказал ни «да», ни «нет», а только выразил надежду, что неприятное приключение в лесу обойдется без всяких дурных последствий. Мужчины остались одни.
Лорд Стаффорд, снова выразив Эдуарду свою признательность, сказал, что надеется поехать с ним в Париж вместе.
— Я очень сожалею, милорд, что не могу воспользоваться вашим предложением, — ответил Эдуард. — Я очень тороплюсь, в Париже меня ждет важное дело, которое требует, чтобы я вовремя попал туда.
Стаффорд пытливо уставился на говорившего. Ему хотелось узнать, какого рода это дело, так как в его глазах человек, путешествующий с такой большой свитой, должен был обязательно быть особой, преследующей какие-то дипломатические цели. Но лорд счел себя обязанным подавить в себе на этот раз любопытство и лишь высказать сожаление, что вместе с Эдуардом поехать ему не удастся.
— Тем не менее, — продолжал он, — я надеюсь еще встретиться с вами, сэр. Если могу быть полезен вам чем- либо, то очень прошу вас, скажите, чем — и я готов к вашим услугам. Правда, я чужой в этой стране, но у меня имеются громадные связи, которыми я рад буду воспользоваться для того, чтобы быть полезным вам.
Эдуард помолчал некоторое время. Ему было очень неудобно пользоваться рекомендациями посланника, чтобы проникнуть в те круги, которые для него мало доступны. Но поставленная цель заставила его последовать совету Петра.
— Я боюсь, что покажусь слишком нескромным, — сказал он наконец.
— Ни в коем случае, сэр! — возразил лорд. — Вы не можете себе представить, как я был бы рад, если бы и в самом деле мог хоть чем-нибудь услужить вам!
— Во Франции мне не нужны никакие рекомендации, — продолжал Эдуард, — так как я рассчитываю отправиться в Лондон. Мне очень хотелось бы иметь возможность появиться при дворе, но, к сожалению, я не знаю там никого из влиятельных лиц…
— О, если дело только в этом… — начал лорд.
Вдруг он запнулся и снова пытливо уставился на молодого человека. Но молодость Эдуарда быстро рассеяла смутные подозрения, да и врожденная вежливость помешала высказать их. В свою очередь, Эдуард постарался сохранить самый непринужденный вид, и это удалось ему в достаточной мере.
— Простите, милорд, — сказал он, — я слишком мало знаком вам, чтобы иметь право на ваше доверие.
— Вы меня поняли вовсе не так, — смутился лорд. — Я просто задумался о том, каким именно лицам я мог бы вас рекомендовать. Но скажите, мы еще увидимся с вами в Париже ранее того, как вы отправитесь в Лондон?
— Это неизвестно.
— В таком случае я сейчас же напишу письма.
— Помилуйте… такое затруднение…
— Никаких затруднений, наоборот, это — просто приятная работа для меня. Я поручу вас моей матери, она лучше всякого другого сумеет оценить оказанную вами мне услугу. В качестве статс-дамы королевы Елизаветы она может в значительной мере удовлетворить ваши желания.
Эдуард ответил поклоном, он с беспокойством подумал о том, что может сделать несчастной целую семью, а удастся или нет его предприятие, это — еще вопрос.
— Кроме того, — продолжал Стаффорд, — я дам вам рекомендательные письма к лорду Бэрлею и Лейстеру; больше вам никого не нужно.
— Очень благодарен вам, милорд! — ответил Эдуард.
Не должно казаться странным, что оба они ни разу не упомянули в разговоре о шотландской королеве. Самому Стаффорду было очень неприятно касаться этой темы, а Эдуард боялся выдать себя, если разговор зайдет о Марии Стюарт.
Во время написания писем лорд Стаффорд назвал еще несколько лиц, которым Эдуард мог передать привет от него.
Наконец с письмами было покончено. Эдуард взял их, поблагодарил и простился с лордом. Он чувствовал себя сильно утомленным, поэтому сейчас же ушел к себе в комнату, чтобы лечь спать.
На следующий день отряд шотландцев двинулся в путь с первыми проблесками зари. Лорд Стаффорд и его семья еще спали.
Когда всадники выехали из города, Мак-Лин рассказал Петру о разговоре, происшедшем вчера между ним и лордом Стаффордом.
— Хорошо, очень хорошо! — заметил Петр. — Я считаю, эта встреча и рекомендательные письма лорда очень помогут нам.
— Я тоже очень рад этому происшествию, — сказал Эдуард. — Но ночью мне пришла в голову идея попросить аудиенции у королевы Елизаветы.
— Вы хотите представления ко двору?
— Нет, настоящей и тайной аудиенции.
— Для чего?
— Чтобы убедить королеву Елизавету отпустить на волю Марию Стюарт.
— Молодой человек, это пытались сделать уже многие!
— Но, быть может, делали это не так, как следует.
— Эго делалось всевозможными способами. Если вы хотите знать мое мнение, то от этой мысли надо отказаться.
— Хорошо, я подумаю.
— Передача рекомендательных писем, знакомство с знатными господами, представление ко двору, — продолжал Петр, — все это — очень хорошие ширмы, за которыми вы можете скрыть ваши истинные намерения. Между прочим, вы должны рассчитывать и на то, что лорд Стаффорд поможет вам и в других отношениях. Епископ Росс кий даст вам дальнейшие указания, поэтому оставим пока все так, как есть.
Наступила зима, когда Эдуард со своим отрядом прибыл в Париж. Он поместился в рекомендованной ему Петром гостинице и на следующий день отправился к епископу Росскому. Тот принял его очень любезно, так как уже был оповещен Петром. В беседах епископ дал юному искателю приключений необходимые указания и наставления и одобрил мысль поговорить еще с кардиналом Лотарингским.
В начале декабря Эдуард со своей свитой въехал в Реймс — город, где издревле короновались французские государи, и получил несколько аудиенций у кардинала. Этот кардинал вызвал к себе и Киприана Аррана, с которым поговорил наедине. И Мак-Лин заметил, что с этих пор в друге произошла значительная перемена. Арран стал серьезен, мрачен и скуп на слова, большую часть времени предавался своим раздумьям. Вероятно, кардинал отдал предпочтение Аррану.
В скором времени путники выехали из Реймса, чтобы отправиться в Кале, откуда надеялись переправиться в Англию и Лондон. Эдуард мог безбоязненно решиться на это, так как его имя было почти неизвестно в Англии, и едва ли кто-нибудь знал, что его отец покинул Шотландию.
Для переезда в Дувр Эдуард воспользовался собственным, специально для этой цели зафрахтованным судном, на котором все и добрались вполне благополучно до английского берега.
И тут Киприан стал проявлять такое беспокойство, что Эдуард решился его спросить:
— Что с тобой? Уж не раскаиваешься ли ты? Или боишься?
— Я ни в чем не раскаиваюсь, — ответил кузнец, — и ничего не боюсь, наоборот, сгораю от желания скорее покончить наше дело.
— И все-таки тебе придется сдерживаться! Наша задача сводится к лозунгу: «Терпение!» Да и вообще нам придется изменить свой план.
— В каком отношении? — удивился Киприан.
— Мы не последуем указаниям кардинала, а, как решили сначала, воспользуемся рекомендательными письмами Стаффорда.
— Но ведь, если я верно понял желания его преосвященства, то он хотел, чтобы мы не пользовались рекомендательными письмами лорда Стаффорда!
— Да, он так считает, но я держусь совершенно другого взгляда на вещи, и мой взгляд, надеюсь, правильнее его.
— Смею я спросить, что ты имеешь в виду?
— Разумеется. Но сначала я укажу тебе на те неблагоприятные для нас моменты, которые возникнут, если мы решим воспользоваться указаниями кардинала.
— Значит, мы напрасно посещали кардинала?
— Почти, Киприан, хотя, нужно признать, благодаря ему мы достаточно ориентированы. Кардинал рекомендовал нам завязать отношения с тем самым кружком, от которого исходили все неудавшиеся предприятия и в котором постоянно обретались предатели.
— Я и сам подумал об этом!
— Мы совершенно чужие в Лондоне, чтобы быстро разобраться в людях, они же все, наверное, отлично известны английской полиции, и если мы будем водиться с ними, то нас выследят.
— С твоими выводами нельзя не согласиться. Значит, мы бросимся в объятия противной партии?
— Да, и никто не догадается о наших намерениях. Кроме того, таким образом нам будет легче узнать все, что нам необходимо узнать.
— Что же, у меня нет оснований держаться иного взгляда.
— Это мне приятно. И вот еще что: я с остальными людьми поселюсь в большом доме, ты же поселишься отдельно и будешь для нас как совершенно посторонний.
— Да?
— Твоей задачей будет наблюдение за теми людьми, которых нам рекомендовал кардинал; ты должен держать наготове экипаж, словом, подготовить все для внезапного и быстрого отъезда.
Киприан ничего не ответил и только в мрачной задумчивости опустил голову.
— Ты что молчишь? — спросил Эдуард. — Недоволен этим поручением?
— Абсолютно доволен, — ответил Киприан, словно просыпаясь от глубокого сна.
Добравшись до Лондона, они отыскали себе желаемое помещение. Как было решено, Киприан не поселился вместе с другими своими товарищами, а нашел себе другое место.

Глава двадцать третья
МАК-ЛИН В ЛОНДОНЕ

 На следующий день по приезде в Лондон Эдуард Мак-Лин оделся в приличествующий данному случаю наряд и отправился засвидетельствовать свое почтение леди Стаффорд. Леди уже была предупреждена о его визите, поэтому юный шотландец был принят очень любезно, и его пригласили бывать и впредь. От леди Стаффорд Эдуард отправился к лорду Бэрлею, который тоже уже знал о его прибытии. Он приветствовал молодого человека с появлением на английской земле и объявил, что его дом всегда открыт для него.
Более осторожным оказался Лейстер. Скорее инстинкт, чем разум, заставил его принять молодого иностранца довольно холодно.
Но за исключением графа Лейстера все, к кому обратился Эдуард, оказались в высшей степени предупредительными, так что он мог быть очень доволен первым приемом в Лондоне.
Мак-Лин не остался незамеченным, уже на другой день между Бэрлеем и Валингэмом состоялся разговор о нем.
Оба они только что покончили с делами, когда лорд Бэрлей вдруг поднял голову и, пытливо уставившись на зятя, спросил:
— Ну-с? Что новенького?
— Сегодня ничего, — ответил Валингэм, — то есть по крайней мере ничего такого, что могло бы интересовать вас.
— А все-таки кое-что есть, зятюшка! — улыбаясь, возразил Бэрлей. — Вчера мне был сделан визит…
— Ах, да, да, этот молодой шотландец! — воскликнул статс-секретарь. — Что же, он засвидетельствовал свое почтение по крайней мере дюжине влиятельных лиц, и все приняли его очень хорошо, за исключением лорда Лейстера.
— Графу везде чудится угроза, — сказал Бэрлей, — но мне кажется, что Мак-Лин совершенно не опасен.
— Это — мальчишка!
Ну а его свита?
— Это все — почти такие же юнцы, как и он.
— Обращаю ваше внимание на этого молодого человека, — закончил Бэрлей, — если у молодежи создается хорошее впечатление, она охотно повсюду трубит об этом, а для нас это очень важно.
Валингэм, вернувшись домой, послал приглашение молодому иностранцу.
Эдуард знал значение Валингэма, который встретил его с предупредительной любезностью. Но знай он всю полноту обязанностей статс-секретаря, он так беззаботно не переступил бы порог его дворца.
Министр полиции захотел только познакомиться с молодым Мак-Лином и предложить ему свои услуги. Он представил ему также Пельдрама в качестве человека, который постоянно будет готов к его услугам и которому можно вполне доверять.
Эдуард прибыл в Лондон перед Рождеством и пробыл в городе целых шесть недель, причем отлучался только на короткое время.
А за это время пронесся целый вихрь событий: переговоры Бельевра с Елизаветой, переговоры с шотландцами, открытие заговора Морд-Стаффорда. Двор переселился в Гринвич на продолжительное время.
Но тем не менее Мак-Лин имел всюду доступ и был принят даже при дворе, хотя поставленная им задача быть замеченным Елизаветой казалось несбыточной мечтой. Лорд Лейстер постепенно тоже довольно тесно сошелся с Мак-Лином и даже выказал полную готовность доставить ему частную аудиенцию у королевы Елизаветы. Однако это оказалось невозможным в силу затянувшегося убийственного настроения государыни.
По временам Эдуард думал, что судьба Марии Стюарт может еще повернуться в лучшую сторону и без всяких насильственных действий, этим и объяснялось его промедление. Когда же он понял наконец, что эта надежда совершенно тщетна, то решил сделать вид, будто покидает Лондон и Англию.
Мак-Лин очень умно избегал знакомства с людьми, которые могли показаться властям хоть немного подозрительными. Поэтому, когда он прощался с приобретенными в Англии друзьями, все они были твердо убеждены в его лояльности.
А что поделывал Киприан со времени своей разлуки с Эдуардом в Лондоне?
Его первой задачей было, разумеется, подыскать себе постоянную квартиру, после того как он прожил два или три дня в гостинице самого низшего ранга. В конце концов он нашел себе помещение у оружейного мастера. Был ли это просто случай, или же его тянуло к родному ремеслу, к привычному перезвону молотов? Возможно, что и так.
Его хозяин, Яков Оллан, был тоже родом из Шотландии. Маленького роста, с лицом, испещренным морщинами, он был немногоречив, и казалось, что постоянно о чем-то думает. Говорил он короткими, отрывистыми фразами.
У Оллана были собственный дом, большой магазин и мастерская с массой подмастерьев. Так что он казался состоятельным. Несмотря на это, постоянно сам работал в мастерской, руководил всем делом. С рабочими был краток, но не груб, строг, но не жесток. За ошибки и небрежность в работе наказывал увольнением, за глупости и баловство вне дома сначала делал выговор, а не помогало — увольнял.
У Оллана был так называемый управляющий, но это звание давало право только наблюдать за порядком в мастерской во время отсутствия хозяина, что случалось очень редко, когда было нужно отнести оружие к знатному заказчику, или же когда его вызывали в лавку для переговоров с покупателем.
Обыкновенно в лавке продажей занимались жена и дочь Оллана. Жена — почтенная матрона, молчаливая, как и ее муж, а дочь, которую звали Вилли, — хорошенькая девушка девятнадцати-двадцати лет. Весьма возможно, что много кавалеров являлось в лавку под видом покупки оружия только ради Вилли, но девушка никогда не оставалась одна, и все попытки поближе познакомиться с ней разбивались о бдительность матери. Впрочем, вести торговлю в лавке было очень легко. У каждого предмета существовала определенная цена, торговаться было немыслимо, а о кредите не могло быть и речи. Если же и случалось, что кто-нибудь начинал торговаться или требовал кредита, то сейчас же звали самого Оллана, а в его отсутствие — управляющего Дика Маттерна.
Этот Дик Маттерн был истинным продуктом Лондона и, как все юные обитатели столиц, немного фатом, немного мотом, а в общем — чересчур много о себе воображающим дурнем. Впрочем, это был довольно ловкий, вкрадчивый парень, о котором его товарищи говорили, что он прилежен только тогда, когда за ним следят, но в сущности не упускает случая полентяйничать. Женщины благоволили к Дику за ту внимательность, с которой он относился к ним. Сам хозяин, быть может, смотрел на него иначе, чем жена и дочь, но никогда не высказывался об этом.
У Оллана четверо детей умерло еще в детском возрасте, а взрослый сын исчез самым таинственным образом, что по тогдашним временам случалось довольно часто. Посторонние держались того мнения, что когда-нибудь он вернется, и тогда окажется, что молодой Оллан добился очень высокого положения. Но сам мастер Оллан не разделял этой надежды, он слишком хорошо знал, что сын действительно занял довольно высокое положение… на виселице, так как где-то в провинции был изобличен в изготовлении оружия для приверженцев Марии Стюарт.
Такова была семья, у которой Киприан снял квартиру, сказав, что приехал в Лондон для того, чтобы совершенствоваться в своем ремесле. Поэтому он очень быстро сошелся с мастером и с наслаждением снова взялся за инструменты.
В то время итальянцы считались специалистами в шлифовке стальных изделий. Искусство Бенвенуто Челлини стало общим достоянием, и Киприан оказался настолько посвященным в его тайны, что сразу выказал свое превосходство над всеми остальными рабочими мастерской. Поэтому Оллан предложил ему поступить к нему на службу. Киприан условно принял это предложение, но работал лишь тогда, когда сам хотел.
Оллан был очень доволен Киприаном, но Дик Маттерн невзлюбил иностранца в мастерской и в особенности — за семейным столом. Дик таил надежду стать зятем Оллана, а впоследствии — хозяином всего дела. И Киприану пришлось расплачиваться за свою опрометчивость.
Молодому кузнецу еще не приходилось испытать на себе власть любви. Увидев Вилли, он возгорелся пламенной страстью к ней. Но, отлично владея собой, затаил глубоко в груди свое чувство, потому что хотел сначала как следует ознакомиться с бытом семьи. Что касалось первоначальной задачи, то в главных чертах деятельность Киприана ограничивалась заботой о подготовке всего необходимого на случай поспешного бегства, и для этого ему нужно было прежде всего разузнать, как можно добыть эти средства легче и секретнее.
Молодой человек мог похвастаться своей красотой, внешний же лоск и некоторое образование он получил благодаря общению с Эдуардом. Поэтому немудрено, что и Вилли с удовольствием поглядывала на Киприана, и у нее пробудилась любовь к нему, которую она тоже затаила в своем сердце.
Ее мать и отец ничего не замечали, но у ревности зоркие глаза. А Дик Маттерн ревновал, так как Вилли до сих пор оставляла без внимания все его намеки и заигрывания.
Прошло две недели, и Дик счел своей обязанностью предупредить Оллана. Однако тот двумя-тремя словами указал управляющему на его настоящее место у наковальни.
Теперь к ненависти против Киприана у управляющего прибавилось еще раздражение против хозяина. Дик хорошо знал, что во второй раз к хозяину не обратишься с нашептыванием. Поэтому он решил пойти другим путем. Он втайне предпринял меры, последствия которых не замедлили сказаться.
Дело свелось к тому, что однажды в лавку Оллана внезапно вошел Пельдрам, который, вежливо поздоровавшись с женой и дочерью мастера, попросил показать ему какое-то оружие. По-видимому; он знал особенность постановки дела в магазине, так как принялся торговаться, вследствие этого, как и всегда, жена Оллана послала за самим мастером. Впрочем, ни мать ни дочь не знали полицейского.
Когда Оллан появился в лавке, то он бросил пытливый взгляд на полицейского, поклонился ему, выслушал, что он хочет, а затем выслал из лавки Вилли и жену, так что остался наедине с покупателем.
— Черт возьми, мастер, — сказал Пельдрам, — у вас здесь, в лавке, много прекрасных вещей, но среди них лучше всего эта девушка. Вероятно, это — ваша дочь?
— Да, дочь, только она не продается! — холодно ответил старый шотландец.
— Ого, земляк! — смеясь, воскликнул Пельдрам. — Она не продается — это так, но выдается замуж, ведь каждая девушка должна выйти замуж, если это окажется для нее возможным; но не корчите гримасы от шутки, которой я не хотел вас обидеть, но которая тем не менее могла бы окончиться серьезным делом!
Надо сказать, что Пельдрам все еще оставался холостым.
— Вы хотели выбрать оружие, сэр? — произнес Оллан, прерывая разговор о дочери.
— Да, ваше оружие мне нравится.
— Хорошо! Выберите себе три предмета из моей лавки — какие угодно. Денег с вас я не возьму. Оружие в ваших руках — порука моей безопасности.
— Вы щедры, земляк! — обидчиво сказал Пельдрам.
— А вы начинаете издалека, как истый шотландец!
— Ого, мастер Оллан!
— Да, да, сэр! Вам не нужно оружия, не нужно моей дочери, а нужно что-то другое. Что именно?
Пельдрам рассердился еще более.
— Вы, кажется, собираетесь поменяться со мной ролями! Спрашивать — мое дело.
— Так спрашивайте!
— У вас живет иностранец?
— Да.
— Шотландец?
— Да, наш с вами земляк.
— Что это за человек?
— Тихий, порядочный, прилежный юноша, кузнец по профессии, желающий усовершенствоваться в ремесле. Ну он и совершенствуется — ручаюсь вам!
— Я верю вам. Но мне выставили этого субъекта в подозрительном свете.
— И я тоже верю вам в этом, потому что знаю причину. Дику Маттерну, моему управляющему, приглянулись Вилли и мое хозяйство, он как будто боится приезжего юноши, уже предостерегал меня от него и хотел бы, чтобы его убрали. Вот он-то и обратился к вам. Разве не так, сэр? Мы, шотландцы, умеем видеть насквозь.
Старик улыбнулся. Пельдрам покраснел и пробормотал:
— Так-то оно так, но я обещал не выдавать доносчика.
— Этого и не нужно! Я и без того знаю, где зарыта собака. Но дальше что?
— Я хотел бы поговорить с этим человеком.
— Хорошо.
Старик крикнул Вилли и, когда она пришла, приказал ей попросить Киприана пожаловать в лавку.
— Так значит, ее зовут Вилли? — пробормотал Пельдрам, бросая вслед девушке многозначительный взгляд.
Появился Киприан; мастер познакомил его с полицейским.
Надо полагать, что при этой неожиданной встрече сердце молодого человека забилось несколько быстрее обычного, но он овладел собой, с холодной вежливостью поздоровался с полицейским.
Пельдрам задал ему несколько вопросов, на которые немедленно последовали вполне удовлетворительные ответы.
— В общих чертах мастер уже ответил за вас, — сказал наконец Пельдрам. — Извините, что я задерживаю вас, но мне пришло в голову, что как раз теперь в Лондоне находится шотландский лорд, который удостаивает меня своей дружбой. Это — сэр Эдуард Мак-Лин. Вы знаете его?
— Я слышал о нем, — ответил Киприан. — Это имя известно мне издавна и пользуется большим почетом у нас на родине.
— Хотите познакомиться с этим господином?
— Мне было бы очень приятно, но, конечно, если бы он пожелал видеть меня.
— Он — очень добрый господин и совсем не гордый; я спрошу его, — предложил Пельдрам.
— Очень благодарен вам, сэр, быть может, я мог бы в его свите отправиться на родину?
— И там на родине быть его придворным кузнецом? — заметил Пельдрам с улыбкой. — Зайдите ко мне на этих днях!
— Хорошо, сэр.
Наконец Пельдрам понял, что пора уходить.
— И вас, мастер, я также представлю лорду, — сказал он Оллану на прощание. — Кланяйтесь от меня жене и дочери! Прощайте, сэр, не забывайте меня!
Пельдрам ушел.
Оллан посоветовал Киприану не упускать случая познакомиться с таким влиятельным господином, а затем отправился в мастерскую.
Дик Маттерн поглядел на входящего мастера искоса, очевидно, он знал или догадывался, зачем того позвали в лавку. Но Оллан, казалось, не обратил на него внимания и молча принялся за свою работу. Лишь спустя почти час старый шотландец подошел к Дику и спросил, указывая на лежавшую перед ним деталь:
— Готово, Дик?
— Скоро будет готово, мастер! — ответил Маттерн.
— Поспешите!
Дик окончил свою работу и отнес деталь мастеру.
— Хорошо! — сказал тот.
Когда настал час обеда, по обыкновению собралась вся семья; старик казался молчаливее обыкновенного. Когда же встали из-за стола и Дик вышел из комнаты, мастер пошел за ним.
Увидев на дворе двух рабочих с вещами управляющего, Оллан удивленно спросил:
— Эй, куда вы?
— Мастер, я не знаю… разве… почему же… — забормотал Дик.
— Ну и отправляйте ваши вещи, куда хотите, — произнес Оллан строгим тоном. — И сами отправляйтесь куда знаете!
Мастер вернулся в дом, а управляющий, постояв некоторое время в раздумье, распорядился, куда отправить вещи, и сам последовал за рабочими, бросив негодующий взгляд на дом, так неожиданно закрывшийся перед ним.
После ухода Дика Оллан имел продолжительный разговор с женой и дочерью, по окончании которого Вилли вышла с заплаканными глазами. Тотчас после этого старый шотландец побеседовал один на один с Киприаном, в результате чего сделал его заместителем ушедшего Дика, но с условием — не входить в жилые комнаты и лавку Оллана, не пользоваться у него столом.
После этого разговора Киприан впал в раздумье и беспокойство. Быть может, мастер открыл ему перспективу развития его склонностей? Но в таком случае, он должен был бы проклинать истинную цель своего появления в Лондоне. А может, мастер разуверил его в возможности освободить Марию Стюарт? Не зря же Оллан был чрезвычайно прозорливым человеком.
Киприан поспешил сообщить Эдуарду о намерениях Пельдрама. Друзья увидели в этом большую выгоду и решили, что Киприан должен отправиться к Пельдраму.
Директор полиции Валингэм принял молодого человека чрезвычайно любезно и сообщил ему, что лорд выразил согласие познакомиться с ним. Но, раньше чем повести Киприана к Мак-Лину, Пельдрам решил объяснить, почему заинтересовался им.
— Мастер Оллан прогнал Дика, — начал он, смеясь, — это хорошо! Он, по-видимому, шпионил за вами и доносил мне обо всем, что вы делали. Вы, оказывается, уже были в доме лорда?
— Да, сэр, вчера и позавчера, — ответил Киприан. — После вашего любезного предложения я хотел собрать некоторые сведения о лорде.
— А раньше вы не бывали там?
— Однажды я встретил своего земляка и проводил его до дому,когда вчера я отправился разыскивать дом лорда, оказалось, что это — тот самый дом, где я уже бывал.
— Вы — любитель лошадей?
— Да, конечно. Ведь это входит в круг моих занятий.
— А экипажи также интересуют вас?
— Конечно!
— А корабли?
— В этом деле требуется слишком много кузнечной работы, — смеясь, заметил Киприан.
— Впрочем, это не касается меня. А все же остерегайтесь Дика!
— У меня нет основания бояться его, — спокойно заметил Киприан.
— Тем лучше. Послушайте, я обратил внимание на Вилли Оллан.
— На Вилли? — переспросил Киприан.
— Да! А Дик, который также интересуется ею, полагает, что и вы страдаете из-за нее.
— Вилли — красивая девушка.
— Но вы уклоняетесь от ответа.
— Нисколько! Вилли нравится мне, но…
— В чем же состоит это «но»?
— Я — чужестранец, спешу вернуться на родину, принадлежу к другому вероисповеданию, — словом, как бы ни была мила мне Вилли, но слишком много препятствий для того, чтобы я мог мечтать о браке с ней. Вот я и думаю выкинуть ее из головы.
— Это вы хорошо делаете! Вы — рассудительный человек, как я вижу. Я буду часто навещать вас и прошу, не препятствуйте этому.
— Конечно, нет! — ответил Киприан.
— Говорил ли молодой человек искренне — неизвестно. Но его соперничество с Пельдрамом, считал он, могло свободно обойтись без личной ненависти.
Пельдрам и Киприан отправились к лорду Мак-Лину.
Эдуард принял обоих, как подобало благородному господину. После краткого приема Киприан удалился, а Пельдрам остался. Это знакомство доставило Киприану возможность являться к лорду во всякое время совершенно свободно, а лорд и Пельдрам стали часто появляться в доме старика Оллана.
Эдуард делал заказы оружейному мастеру, Пельдрам же посещал Киприана, а попутно, конечно, и старого шотландца, главным же образом его жену и дочь, и снискал их расположение, так как умел быть очень любезным, когда хотел.
При таких обстоятельствах протекло время до конца января.
Однажды Эдуард зашел к Оллану, купил у него какое-то оружие и попросил прислать ему на дом с мастеровым. Послан был Киприан.
Когда тот появился у приятеля, Эдуард сказал ему:
— Ну, Киприан, мы уже близки к цели. Надежды на благополучное окончание дела Марии Стюарт больше нет, мы должны приступить к своему плану.
Киприан молчал.
— Я завтра уезжаю! — продолжал Эдуард. — Все ли готово у тебя?
— Да, остается только выполнить!
— Мне было бы приятнее иметь тебя при себе, но ты здесь нужнее. Обеспечь корабль, два экипажа, лошадей и, конечно, какое-либо хорошее убежище; дня через три-четыре будь наготове. Моя квартира остается в твоем распоряжении под тем предлогом, что ты займешься укладкой и отправкой моих вещей.
— Хорошо, — кивнул кузнец, и Эдуард не обратил внимания на сумрачный вид Киприана.
Мак-Лин действительно уехал, но прошло три, четыре, даже пять дней, а Киприан не получал от друга никаких известий. Он, по-прежнему, исполнял свою работу, а Оллан, хотя и замечал перемену в его настроении, но не выказывал этого.
В лавку Оллана нередко заглядывали знатные господа, но особенная честь была ему оказана в тот день, когда настроение королевы Елизаветы резко изменилось к лучшему под впечатлением разговора с Бэрлеем. К Оллану явился не кто иной как сам лорд Лейстер, и заказал себе великолепный охотничий нож с украшением из драгоценных камней.
Вот тогда в доме Оллана узнали о предстоящей большой охоте. И когда мастер поручил Киприану отделку заказанного ножа, у того молнией блеснула новая мысль. Отсутствие известий от Эдуарда начинало беспокоить кузнеца. На собственные его замыслы надежд было мало. А теперь вдруг представился благоприятный случай для намеченного дела. Если планы Эдуарда уже рухнули, то Киприан еще может произвести свой удар. И пока он работал над ножом, все обдумывал, как привести свой план в действие, причем не раз останавливался мыслью на своем новом приятеле Пельдраме.
Работа была закончена, и Оллан велел Киприану отнести ее во дворец лорда Лейстера. Это как нельзя более соответствовало планам молодого кузнеца. Кроме заказанного охотничьего ножа он захватил с собой еще пару богато отделанных пистолетов и, раньше чем отправиться по назначению, зашел к Пельдраму.
Тот был уже извещен о предстоящей королевской охоте и готовился к ней. Приход Киприана был некстати, и он встретил его несколько рассеянно.
— Милости просим, сэр, — сказал Пельдрам, — я, как всегда, рад видеть вас, но не могу вам уделить много времени: я очень занят служебными делами.
— Не стану задерживать вас, — ответил Киприан. — Хочу только показать вам охотничий нож, изготовленный для его светлости графа Лейстера!
Пельдрам стал любоваться изящной работой, которую ему показал Киприан. При этом последний как бы вскользь заметил:
— Я видал много интересного в этой стране, но мне хотелось бы еще повидать королевскую охоту, чтобы потом, на родине, было что рассказать!
— Зрителям дозволено присутствовать, — сказал Пельдрам.
— Да, но только издали, а я хотел бы быть среди охотников; тому, кто оказал бы мне содействие в этом деле, я подарил бы вот эти штучки. Как вы думаете, дворецкий лорда Лейстера мог бы предоставить мне место в свите?
— Возможно! А эти вещицы прелестны!
— Как бы мне обратиться с моим желанием?
— Но когда и где? Ах да, вот кстати! Я провожу вас туда, мне все равно нужно во дворец лорда.
Они отправились. Киприан ликовал в душе, что его планы, кажется, удаются.
Дворецкий лорда Лейстера был еще молодым человеком, надменным, как избалованный холоп, и тщеславным, как павлин. Приди Киприан один, тот не удостоил бы его даже вниманием, но в сопровождении Пельдрама дело пошло совсем по-иному.
— Рекомендую вам моего друга и соотечественника, оружейного мастера Аррана, — сказал Пельдрам дворецкому, — у него есть просьба к вам, а я, в свою очередь, прошу за него.
— Будет исполнено! — ответил дворецкий.
— Ну, прощайте, господа! Завтра увидимся, а пока кланяйтесь старику Оллану и его семейству, не забудьте только! — произнес Пельдрам.
— Не беспокойтесь! — ответил кузнец, улыбаясь ему вслед.
— Вы принесли охотничий нож для милорда? — спросил дворецкий.
— Да, сэр, а для вас вот эти два пистолета, — сказал Киприан.
Дворецкий принял оружие. Нож он быстро отложил в сторону и занялся рассматриванием пистолетов.
Носить пистолеты в Англии разрешалось лицам дворянского происхождения, но отнюдь не мещанам и слугам. Но известно, насколько сладок запретный плод, поэтому дворецкий с живостью сказал Киприану:
— Я с благодарностью принимаю этот ценный подарок. А что же вы хотите от меня?
— Немногого! Я очень любопытен…
— В каком отношении?
— Мне хотелось бы присутствовать на королевской охоте!
— И вы хотите, чтобы я помог вам в этом?
— Да. Помогите мне поступить в свиту вашего графа.
— Это не представит затруднений. Только есть ли у вас лошадь?
— Я достану.
— А верхом вы прилично ездите?
— Как настоящий араб!
— Ну и отлично!… Ливрею я вам достану, а пока идите к милорду!
Дворецкий велел доложить лорду о приходе оружейного мастера. Киприан имел честь лично представить свою работу Лейстеру и получить одобрение вместе с денежной наградой.
Тем временем дворецкий достал ливрею, и, после примерки, Киприан ушел домой со своей добычей.
На следующий день он попросил себе отпуск у мастера Оллана и отправился в известное место, где для него стояли кони наготове. Домой он вернулся довольно поздно, но, несмотря на поздний час, поговорил с мастером, после чего тотчас же отправил все свои вещи, сам же остался переночевать в доме Оллана.
Еще задолго до наступления следующего дня Киприан покинул дом, где так долго пользовался приютом. Он ни с кем не простился, но, когда ушел, старый мастер вышел за ворота и долгое время смотрел ему вслед. Когда Киприан скрылся, старик вернулся в дом с тяжелым вздохом.
На следующий день по приезде в Лондон Эдуард Мак-Лин оделся в приличествующий данному случаю наряд и отправился засвидетельствовать свое почтение леди Стаффорд. Леди уже была предупреждена о его визите, поэтому юный шотландец был принят очень любезно, и его пригласили бывать и впредь. От леди Стаффорд Эдуард отправился к лорду Бэрлею, который тоже уже знал о его прибытии. Он приветствовал молодого человека с появлением на английской земле и объявил, что его дом всегда открыт для него.
Более осторожным оказался Лейстер. Скорее инстинкт, чем разум, заставил его принять молодого иностранца довольно холодно.
Но за исключением графа Лейстера все, к кому обратился Эдуард, оказались в высшей степени предупредительными, так что он мог быть очень доволен первым приемом в Лондоне.
Мак-Лин не остался незамеченным, уже на другой день между Бэрлеем и Валингэмом состоялся разговор о нем.
Оба они только что покончили с делами, когда лорд Бэрлей вдруг поднял голову и, пытливо уставившись на зятя, спросил:
— Ну-с? Что новенького?
— Сегодня ничего, — ответил Валингэм, — то есть по крайней мере ничего такого, что могло бы интересовать вас.
— А все-таки кое-что есть, зятюшка! — улыбаясь, возразил Бэрлей. — Вчера мне был сделан визит…
— Ах, да, да, этот молодой шотландец! — воскликнул статс-секретарь. — Что же, он засвидетельствовал свое почтение по крайней мере дюжине влиятельных лиц, и все приняли его очень хорошо, за исключением лорда Лейстера.
— Графу везде чудится угроза, — сказал Бэрлей, — но мне кажется, что Мак-Лин совершенно не опасен.
— Это — мальчишка!
Ну а его свита?
— Это все — почти такие же юнцы, как и он.
— Обращаю ваше внимание на этого молодого человека, — закончил Бэрлей, — если у молодежи создается хорошее впечатление, она охотно повсюду трубит об этом, а для нас это очень важно.
Валингэм, вернувшись домой, послал приглашение молодому иностранцу.
Эдуард знал значение Валингэма, который встретил его с предупредительной любезностью. Но знай он всю полноту обязанностей статс-секретаря, он так беззаботно не переступил бы порог его дворца.
Министр полиции захотел только познакомиться с молодым Мак-Лином и предложить ему свои услуги. Он представил ему также Пельдрама в качестве человека, который постоянно будет готов к его услугам и которому можно вполне доверять.
Эдуард прибыл в Лондон перед Рождеством и пробыл в городе целых шесть недель, причем отлучался только на короткое время.
А за это время пронесся целый вихрь событий: переговоры Бельевра с Елизаветой, переговоры с шотландцами, открытие заговора Морд-Стаффорда. Двор переселился в Гринвич на продолжительное время.
Но тем не менее Мак-Лин имел всюду доступ и был принят даже при дворе, хотя поставленная им задача быть замеченным Елизаветой казалось несбыточной мечтой. Лорд Лейстер постепенно тоже довольно тесно сошелся с Мак-Лином и даже выказал полную готовность доставить ему частную аудиенцию у королевы Елизаветы. Однако это оказалось невозможным в силу затянувшегося убийственного настроения государыни.
По временам Эдуард думал, что судьба Марии Стюарт может еще повернуться в лучшую сторону и без всяких насильственных действий, этим и объяснялось его промедление. Когда же он понял наконец, что эта надежда совершенно тщетна, то решил сделать вид, будто покидает Лондон и Англию.
Мак-Лин очень умно избегал знакомства с людьми, которые могли показаться властям хоть немного подозрительными. Поэтому, когда он прощался с приобретенными в Англии друзьями, все они были твердо убеждены в его лояльности.
А что поделывал Киприан со времени своей разлуки с Эдуардом в Лондоне?
Его первой задачей было, разумеется, подыскать себе постоянную квартиру, после того как он прожил два или три дня в гостинице самого низшего ранга. В конце концов он нашел себе помещение у оружейного мастера. Был ли это просто случай, или же его тянуло к родному ремеслу, к привычному перезвону молотов? Возможно, что и так.
Его хозяин, Яков Оллан, был тоже родом из Шотландии. Маленького роста, с лицом, испещренным морщинами, он был немногоречив, и казалось, что постоянно о чем-то думает. Говорил он короткими, отрывистыми фразами.
У Оллана были собственный дом, большой магазин и мастерская с массой подмастерьев. Так что он казался состоятельным. Несмотря на это, постоянно сам работал в мастерской, руководил всем делом. С рабочими был краток, но не груб, строг, но не жесток. За ошибки и небрежность в работе наказывал увольнением, за глупости и баловство вне дома сначала делал выговор, а не помогало — увольнял.
У Оллана был так называемый управляющий, но это звание давало право только наблюдать за порядком в мастерской во время отсутствия хозяина, что случалось очень редко, когда было нужно отнести оружие к знатному заказчику, или же когда его вызывали в лавку для переговоров с покупателем.
Обыкновенно в лавке продажей занимались жена и дочь Оллана. Жена — почтенная матрона, молчаливая, как и ее муж, а дочь, которую звали Вилли, — хорошенькая девушка девятнадцати-двадцати лет. Весьма возможно, что много кавалеров являлось в лавку под видом покупки оружия только ради Вилли, но девушка никогда не оставалась одна, и все попытки поближе познакомиться с ней разбивались о бдительность матери. Впрочем, вести торговлю в лавке было очень легко. У каждого предмета существовала определенная цена, торговаться было немыслимо, а о кредите не могло быть и речи. Если же и случалось, что кто-нибудь начинал торговаться или требовал кредита, то сейчас же звали самого Оллана, а в его отсутствие — управляющего Дика Маттерна.
Этот Дик Маттерн был истинным продуктом Лондона и, как все юные обитатели столиц, немного фатом, немного мотом, а в общем — чересчур много о себе воображающим дурнем. Впрочем, это был довольно ловкий, вкрадчивый парень, о котором его товарищи говорили, что он прилежен только тогда, когда за ним следят, но в сущности не упускает случая полентяйничать. Женщины благоволили к Дику за ту внимательность, с которой он относился к ним. Сам хозяин, быть может, смотрел на него иначе, чем жена и дочь, но никогда не высказывался об этом.
У Оллана четверо детей умерло еще в детском возрасте, а взрослый сын исчез самым таинственным образом, что по тогдашним временам случалось довольно часто. Посторонние держались того мнения, что когда-нибудь он вернется, и тогда окажется, что молодой Оллан добился очень высокого положения. Но сам мастер Оллан не разделял этой надежды, он слишком хорошо знал, что сын действительно занял довольно высокое положение… на виселице, так как где-то в провинции был изобличен в изготовлении оружия для приверженцев Марии Стюарт.
Такова была семья, у которой Киприан снял квартиру, сказав, что приехал в Лондон для того, чтобы совершенствоваться в своем ремесле. Поэтому он очень быстро сошелся с мастером и с наслаждением снова взялся за инструменты.
В то время итальянцы считались специалистами в шлифовке стальных изделий. Искусство Бенвенуто Челлини стало общим достоянием, и Киприан оказался настолько посвященным в его тайны, что сразу выказал свое превосходство над всеми остальными рабочими мастерской. Поэтому Оллан предложил ему поступить к нему на службу. Киприан условно принял это предложение, но работал лишь тогда, когда сам хотел.
Оллан был очень доволен Киприаном, но Дик Маттерн невзлюбил иностранца в мастерской и в особенности — за семейным столом. Дик таил надежду стать зятем Оллана, а впоследствии — хозяином всего дела. И Киприану пришлось расплачиваться за свою опрометчивость.
Молодому кузнецу еще не приходилось испытать на себе власть любви. Увидев Вилли, он возгорелся пламенной страстью к ней. Но, отлично владея собой, затаил глубоко в груди свое чувство, потому что хотел сначала как следует ознакомиться с бытом семьи. Что касалось первоначальной задачи, то в главных чертах деятельность Киприана ограничивалась заботой о подготовке всего необходимого на случай поспешного бегства, и для этого ему нужно было прежде всего разузнать, как можно добыть эти средства легче и секретнее.
Молодой человек мог похвастаться своей красотой, внешний же лоск и некоторое образование он получил благодаря общению с Эдуардом. Поэтому немудрено, что и Вилли с удовольствием поглядывала на Киприана, и у нее пробудилась любовь к нему, которую она тоже затаила в своем сердце.
Ее мать и отец ничего не замечали, но у ревности зоркие глаза. А Дик Маттерн ревновал, так как Вилли до сих пор оставляла без внимания все его намеки и заигрывания.
Прошло две недели, и Дик счел своей обязанностью предупредить Оллана. Однако тот двумя-тремя словами указал управляющему на его настоящее место у наковальни.
Теперь к ненависти против Киприана у управляющего прибавилось еще раздражение против хозяина. Дик хорошо знал, что во второй раз к хозяину не обратишься с нашептыванием. Поэтому он решил пойти другим путем. Он втайне предпринял меры, последствия которых не замедлили сказаться.
Дело свелось к тому, что однажды в лавку Оллана внезапно вошел Пельдрам, который, вежливо поздоровавшись с женой и дочерью мастера, попросил показать ему какое-то оружие. По-видимому; он знал особенность постановки дела в магазине, так как принялся торговаться, вследствие этого, как и всегда, жена Оллана послала за самим мастером. Впрочем, ни мать ни дочь не знали полицейского.
Когда Оллан появился в лавке, то он бросил пытливый взгляд на полицейского, поклонился ему, выслушал, что он хочет, а затем выслал из лавки Вилли и жену, так что остался наедине с покупателем.
— Черт возьми, мастер, — сказал Пельдрам, — у вас здесь, в лавке, много прекрасных вещей, но среди них лучше всего эта девушка. Вероятно, это — ваша дочь?
— Да, дочь, только она не продается! — холодно ответил старый шотландец.
— Ого, земляк! — смеясь, воскликнул Пельдрам. — Она не продается — это так, но выдается замуж, ведь каждая девушка должна выйти замуж, если это окажется для нее возможным; но не корчите гримасы от шутки, которой я не хотел вас обидеть, но которая тем не менее могла бы окончиться серьезным делом!
Надо сказать, что Пельдрам все еще оставался холостым.
— Вы хотели выбрать оружие, сэр? — произнес Оллан, прерывая разговор о дочери.
— Да, ваше оружие мне нравится.
— Хорошо! Выберите себе три предмета из моей лавки — какие угодно. Денег с вас я не возьму. Оружие в ваших руках — порука моей безопасности.
— Вы щедры, земляк! — обидчиво сказал Пельдрам.
— А вы начинаете издалека, как истый шотландец!
— Ого, мастер Оллан!
— Да, да, сэр! Вам не нужно оружия, не нужно моей дочери, а нужно что-то другое. Что именно?
Пельдрам рассердился еще более.
— Вы, кажется, собираетесь поменяться со мной ролями! Спрашивать — мое дело.
— Так спрашивайте!
— У вас живет иностранец?
— Да.
— Шотландец?
— Да, наш с вами земляк.
— Что это за человек?
— Тихий, порядочный, прилежный юноша, кузнец по профессии, желающий усовершенствоваться в ремесле. Ну он и совершенствуется — ручаюсь вам!
— Я верю вам. Но мне выставили этого субъекта в подозрительном свете.
— И я тоже верю вам в этом, потому что знаю причину. Дику Маттерну, моему управляющему, приглянулись Вилли и мое хозяйство, он как будто боится приезжего юноши, уже предостерегал меня от него и хотел бы, чтобы его убрали. Вот он-то и обратился к вам. Разве не так, сэр? Мы, шотландцы, умеем видеть насквозь.
Старик улыбнулся. Пельдрам покраснел и пробормотал:
— Так-то оно так, но я обещал не выдавать доносчика.
— Этого и не нужно! Я и без того знаю, где зарыта собака. Но дальше что?
— Я хотел бы поговорить с этим человеком.
— Хорошо.
Старик крикнул Вилли и, когда она пришла, приказал ей попросить Киприана пожаловать в лавку.
— Так значит, ее зовут Вилли? — пробормотал Пельдрам, бросая вслед девушке многозначительный взгляд.
Появился Киприан; мастер познакомил его с полицейским.
Надо полагать, что при этой неожиданной встрече сердце молодого человека забилось несколько быстрее обычного, но он овладел собой, с холодной вежливостью поздоровался с полицейским.
Пельдрам задал ему несколько вопросов, на которые немедленно последовали вполне удовлетворительные ответы.
— В общих чертах мастер уже ответил за вас, — сказал наконец Пельдрам. — Извините, что я задерживаю вас, но мне пришло в голову, что как раз теперь в Лондоне находится шотландский лорд, который удостаивает меня своей дружбой. Это — сэр Эдуард Мак-Лин. Вы знаете его?
— Я слышал о нем, — ответил Киприан. — Это имя известно мне издавна и пользуется большим почетом у нас на родине.
— Хотите познакомиться с этим господином?
— Мне было бы очень приятно, но, конечно, если бы он пожелал видеть меня.
— Он — очень добрый господин и совсем не гордый; я спрошу его, — предложил Пельдрам.
— Очень благодарен вам, сэр, быть может, я мог бы в его свите отправиться на родину?
— И там на родине быть его придворным кузнецом? — заметил Пельдрам с улыбкой. — Зайдите ко мне на этих днях!
— Хорошо, сэр.
Наконец Пельдрам понял, что пора уходить.
— И вас, мастер, я также представлю лорду, — сказал он Оллану на прощание. — Кланяйтесь от меня жене и дочери! Прощайте, сэр, не забывайте меня!
Пельдрам ушел.
Оллан посоветовал Киприану не упускать случая познакомиться с таким влиятельным господином, а затем отправился в мастерскую.
Дик Маттерн поглядел на входящего мастера искоса, очевидно, он знал или догадывался, зачем того позвали в лавку. Но Оллан, казалось, не обратил на него внимания и молча принялся за свою работу. Лишь спустя почти час старый шотландец подошел к Дику и спросил, указывая на лежавшую перед ним деталь:
— Готово, Дик?
— Скоро будет готово, мастер! — ответил Маттерн.
— Поспешите!
Дик окончил свою работу и отнес деталь мастеру.
— Хорошо! — сказал тот.
Когда настал час обеда, по обыкновению собралась вся семья; старик казался молчаливее обыкновенного. Когда же встали из-за стола и Дик вышел из комнаты, мастер пошел за ним.
Увидев на дворе двух рабочих с вещами управляющего, Оллан удивленно спросил:
— Эй, куда вы?
— Мастер, я не знаю… разве… почему же… — забормотал Дик.
— Ну и отправляйте ваши вещи, куда хотите, — произнес Оллан строгим тоном. — И сами отправляйтесь куда знаете!
Мастер вернулся в дом, а управляющий, постояв некоторое время в раздумье, распорядился, куда отправить вещи, и сам последовал за рабочими, бросив негодующий взгляд на дом, так неожиданно закрывшийся перед ним.
После ухода Дика Оллан имел продолжительный разговор с женой и дочерью, по окончании которого Вилли вышла с заплаканными глазами. Тотчас после этого старый шотландец побеседовал один на один с Киприаном, в результате чего сделал его заместителем ушедшего Дика, но с условием — не входить в жилые комнаты и лавку Оллана, не пользоваться у него столом.
После этого разговора Киприан впал в раздумье и беспокойство. Быть может, мастер открыл ему перспективу развития его склонностей? Но в таком случае, он должен был бы проклинать истинную цель своего появления в Лондоне. А может, мастер разуверил его в возможности освободить Марию Стюарт? Не зря же Оллан был чрезвычайно прозорливым человеком.
Киприан поспешил сообщить Эдуарду о намерениях Пельдрама. Друзья увидели в этом большую выгоду и решили, что Киприан должен отправиться к Пельдраму.
Директор полиции Валингэм принял молодого человека чрезвычайно любезно и сообщил ему, что лорд выразил согласие познакомиться с ним. Но, раньше чем повести Киприана к Мак-Лину, Пельдрам решил объяснить, почему заинтересовался им.
— Мастер Оллан прогнал Дика, — начал он, смеясь, — это хорошо! Он, по-видимому, шпионил за вами и доносил мне обо всем, что вы делали. Вы, оказывается, уже были в доме лорда?
— Да, сэр, вчера и позавчера, — ответил Киприан. — После вашего любезного предложения я хотел собрать некоторые сведения о лорде.
— А раньше вы не бывали там?
— Однажды я встретил своего земляка и проводил его до дому,когда вчера я отправился разыскивать дом лорда, оказалось, что это — тот самый дом, где я уже бывал.
— Вы — любитель лошадей?
— Да, конечно. Ведь это входит в круг моих занятий.
— А экипажи также интересуют вас?
— Конечно!
— А корабли?
— В этом деле требуется слишком много кузнечной работы, — смеясь, заметил Киприан.
— Впрочем, это не касается меня. А все же остерегайтесь Дика!
— У меня нет основания бояться его, — спокойно заметил Киприан.
— Тем лучше. Послушайте, я обратил внимание на Вилли Оллан.
— На Вилли? — переспросил Киприан.
— Да! А Дик, который также интересуется ею, полагает, что и вы страдаете из-за нее.
— Вилли — красивая девушка.
— Но вы уклоняетесь от ответа.
— Нисколько! Вилли нравится мне, но…
— В чем же состоит это «но»?
— Я — чужестранец, спешу вернуться на родину, принадлежу к другому вероисповеданию, — словом, как бы ни была мила мне Вилли, но слишком много препятствий для того, чтобы я мог мечтать о браке с ней. Вот я и думаю выкинуть ее из головы.
— Это вы хорошо делаете! Вы — рассудительный человек, как я вижу. Я буду часто навещать вас и прошу, не препятствуйте этому.
— Конечно, нет! — ответил Киприан.
— Говорил ли молодой человек искренне — неизвестно. Но его соперничество с Пельдрамом, считал он, могло свободно обойтись без личной ненависти.
Пельдрам и Киприан отправились к лорду Мак-Лину.
Эдуард принял обоих, как подобало благородному господину. После краткого приема Киприан удалился, а Пельдрам остался. Это знакомство доставило Киприану возможность являться к лорду во всякое время совершенно свободно, а лорд и Пельдрам стали часто появляться в доме старика Оллана.
Эдуард делал заказы оружейному мастеру, Пельдрам же посещал Киприана, а попутно, конечно, и старого шотландца, главным же образом его жену и дочь, и снискал их расположение, так как умел быть очень любезным, когда хотел.
При таких обстоятельствах протекло время до конца января.
Однажды Эдуард зашел к Оллану, купил у него какое-то оружие и попросил прислать ему на дом с мастеровым. Послан был Киприан.
Когда тот появился у приятеля, Эдуард сказал ему:
— Ну, Киприан, мы уже близки к цели. Надежды на благополучное окончание дела Марии Стюарт больше нет, мы должны приступить к своему плану.
Киприан молчал.
— Я завтра уезжаю! — продолжал Эдуард. — Все ли готово у тебя?
— Да, остается только выполнить!
— Мне было бы приятнее иметь тебя при себе, но ты здесь нужнее. Обеспечь корабль, два экипажа, лошадей и, конечно, какое-либо хорошее убежище; дня через три-четыре будь наготове. Моя квартира остается в твоем распоряжении под тем предлогом, что ты займешься укладкой и отправкой моих вещей.
— Хорошо, — кивнул кузнец, и Эдуард не обратил внимания на сумрачный вид Киприана.
Мак-Лин действительно уехал, но прошло три, четыре, даже пять дней, а Киприан не получал от друга никаких известий. Он, по-прежнему, исполнял свою работу, а Оллан, хотя и замечал перемену в его настроении, но не выказывал этого.
В лавку Оллана нередко заглядывали знатные господа, но особенная честь была ему оказана в тот день, когда настроение королевы Елизаветы резко изменилось к лучшему под впечатлением разговора с Бэрлеем. К Оллану явился не кто иной как сам лорд Лейстер, и заказал себе великолепный охотничий нож с украшением из драгоценных камней.
Вот тогда в доме Оллана узнали о предстоящей большой охоте. И когда мастер поручил Киприану отделку заказанного ножа, у того молнией блеснула новая мысль. Отсутствие известий от Эдуарда начинало беспокоить кузнеца. На собственные его замыслы надежд было мало. А теперь вдруг представился благоприятный случай для намеченного дела. Если планы Эдуарда уже рухнули, то Киприан еще может произвести свой удар. И пока он работал над ножом, все обдумывал, как привести свой план в действие, причем не раз останавливался мыслью на своем новом приятеле Пельдраме.
Работа была закончена, и Оллан велел Киприану отнести ее во дворец лорда Лейстера. Это как нельзя более соответствовало планам молодого кузнеца. Кроме заказанного охотничьего ножа он захватил с собой еще пару богато отделанных пистолетов и, раньше чем отправиться по назначению, зашел к Пельдраму.
Тот был уже извещен о предстоящей королевской охоте и готовился к ней. Приход Киприана был некстати, и он встретил его несколько рассеянно.
— Милости просим, сэр, — сказал Пельдрам, — я, как всегда, рад видеть вас, но не могу вам уделить много времени: я очень занят служебными делами.
— Не стану задерживать вас, — ответил Киприан. — Хочу только показать вам охотничий нож, изготовленный для его светлости графа Лейстера!
Пельдрам стал любоваться изящной работой, которую ему показал Киприан. При этом последний как бы вскользь заметил:
— Я видал много интересного в этой стране, но мне хотелось бы еще повидать королевскую охоту, чтобы потом, на родине, было что рассказать!
— Зрителям дозволено присутствовать, — сказал Пельдрам.
— Да, но только издали, а я хотел бы быть среди охотников; тому, кто оказал бы мне содействие в этом деле, я подарил бы вот эти штучки. Как вы думаете, дворецкий лорда Лейстера мог бы предоставить мне место в свите?
— Возможно! А эти вещицы прелестны!
— Как бы мне обратиться с моим желанием?
— Но когда и где? Ах да, вот кстати! Я провожу вас туда, мне все равно нужно во дворец лорда.
Они отправились. Киприан ликовал в душе, что его планы, кажется, удаются.
Дворецкий лорда Лейстера был еще молодым человеком, надменным, как избалованный холоп, и тщеславным, как павлин. Приди Киприан один, тот не удостоил бы его даже вниманием, но в сопровождении Пельдрама дело пошло совсем по-иному.
— Рекомендую вам моего друга и соотечественника, оружейного мастера Аррана, — сказал Пельдрам дворецкому, — у него есть просьба к вам, а я, в свою очередь, прошу за него.
— Будет исполнено! — ответил дворецкий.
— Ну, прощайте, господа! Завтра увидимся, а пока кланяйтесь старику Оллану и его семейству, не забудьте только! — произнес Пельдрам.
— Не беспокойтесь! — ответил кузнец, улыбаясь ему вслед.
— Вы принесли охотничий нож для милорда? — спросил дворецкий.
— Да, сэр, а для вас вот эти два пистолета, — сказал Киприан.
Дворецкий принял оружие. Нож он быстро отложил в сторону и занялся рассматриванием пистолетов.
Носить пистолеты в Англии разрешалось лицам дворянского происхождения, но отнюдь не мещанам и слугам. Но известно, насколько сладок запретный плод, поэтому дворецкий с живостью сказал Киприану:
— Я с благодарностью принимаю этот ценный подарок. А что же вы хотите от меня?
— Немногого! Я очень любопытен…
— В каком отношении?
— Мне хотелось бы присутствовать на королевской охоте!
— И вы хотите, чтобы я помог вам в этом?
— Да. Помогите мне поступить в свиту вашего графа.
— Это не представит затруднений. Только есть ли у вас лошадь?
— Я достану.
— А верхом вы прилично ездите?
— Как настоящий араб!
— Ну и отлично!… Ливрею я вам достану, а пока идите к милорду!
Дворецкий велел доложить лорду о приходе оружейного мастера. Киприан имел честь лично представить свою работу Лейстеру и получить одобрение вместе с денежной наградой.
Тем временем дворецкий достал ливрею, и, после примерки, Киприан ушел домой со своей добычей.
На следующий день он попросил себе отпуск у мастера Оллана и отправился в известное место, где для него стояли кони наготове. Домой он вернулся довольно поздно, но, несмотря на поздний час, поговорил с мастером, после чего тотчас же отправил все свои вещи, сам же остался переночевать в доме Оллана.
Еще задолго до наступления следующего дня Киприан покинул дом, где так долго пользовался приютом. Он ни с кем не простился, но, когда ушел, старый мастер вышел за ворота и долгое время смотрел ему вслед. Когда Киприан скрылся, старик вернулся в дом с тяжелым вздохом.

Глава двадцать четвертая
УЖАСНАЯ НОЧЬ

 Неподалеку от замка Фосрингай лежит одна из пустошей, которыми в те времена особенно изобиловала Англия. Для путешественников такие пустоши были страшнее леса и представляли одинаковую опасность, как и путешествие по морю. Путник, медленно пробиравшийся по глубоким пескам, завидев черную точку на горизонте, заранее ожидал беды.
За редким исключением такая точка на горизонте была не что иное как хорошо вооруженный всадник, который более или менее вежливо требовал с путника контрибуцию. Люди этой профессии чувствовали себя в пустоши более вольготно, чем в лесу. Намечая свою жертву на далеком расстоянии, они таким образом могли понять, нападать или скрыться.
Близ самого Лондона была пустошь Гренсло, которая долгие годы являлась истинным бичом столицы и путешественников. Так как ночью никто не решался проезжать по пустоши, то и властители большой дороги не давали себе труда выезжать ночью, а занимались своим ремеслом свободно среди бела дня, ночью же спали, как и все порядочные люди.
Пустошь близ замка Фосрингай пользовалась громкой славой в смысле грабежей и разбоя. Но с появлением в замке шотландской королевы обстоятельства несколько изменились. Амиас Полэт считал своим долгом усиленно охранять дороги как ночью, так и днем, вследствие чего шайке грабителей приходилось бездействовать и наконец, за отсутствием заработка, совершенно покинуть местность.
Приблизительно в пяти английских милях от замка был один из постоялых дворов, владелец которого злобно смотрел на замок и проклинал свою королеву, сэра Полэта и заключенную. Этого человека по имени Нед Бейерс нередко посещал Эдуард Мак-Лин во время рекогносцировки окрестностей Фосрингая. Нед не знал, за кого принять ему этого редкого одинокого гостя, но так как тот бесстрашно ездил один и был хорошо вооружен, то Нед решил в конце концов, что это — один из рыцарей с большой дороги, пустившийся на разведку, стоит ли вновь приняться здесь за свое дело. Впрочем, Эдуард не оставался на ночлег, а проводил на постоялом дворе лишь недолгое время, чтобы дать отдохнуть коню.
Однажды, как раз перед намеченным отъездом в Лондон, ненастная погода заставила его остаться дольше обыкновенного. Он велел подать себе ужин, после чего хозяин предложил ему приготовить постель. Но Эдуард отказался от постели, предпочтя отдохнуть на скамье. Хозяин увидел в этом лишь подтверждение своего предположения, так как предпочесть твердую скамью удобной, мягкой постели мог только человек, опасавшийся за свою безопасность.
— Мой дом вполне надежен! — сказал он, подмигнув. — У меня имеются маленькие, уединенные комнатки, которых не найдет тот, кто не должен их находить, сэр!
Эдуард заинтересовался.
— Разве? В таком случае они могли бы пригодиться нам. А сколько человек могли бы вы приютить? — спросил он.
— Около двенадцати, сэр!
— И столько же коней?
— И это можно, — ответил Нед с плутоватой усмешкой.
— Ну, быть может, я воспользуюсь этим и даже на несколько дней!
— Милости просим! А как обстоят дела там, с той старухой? Скоро с ней покончат?
Эдуард сразу не понял слов хозяина, когда же он догадался, то лишь вздохнул в ответ.
— Да, да, — продолжал Нед, — она много зла принесла нам всем. Честному человеку нет возможности зарабатывать свой хлеб.
— Как это понять? — спросил Эдуард.
Ведь с тех пор, как она здесь, наступил полный застой в делах как в наших, так и в ваших. На этот раз Эдуард лучше понял своего собеседника, так как был достаточно осведомлен о делах и нравах обитателей пустоши.
— Вы правы! Но этому делу можно было бы помочь.
— Каким образом? — удивился Нед.
— Если бы удалить эту женщину отсюда.
— Ну, это трудновато!
— Или, быть может, заставить охранителей удалить ее отсюда?
— Черт возьми! Но как взяться за это дело?
— Устроить нападение на замок!
— Гм… об этом нужно подумать! — задумчиво произнес Нед, почесав в затылке.
Эдуард сообразил, что, подвигая на это дело подобного сорта людей, можно было воспользоваться ими, не открывая своих истинных намерений.
— Одним словом, — продолжал он, — я хочу попытаться избавить местных жителей от этих затянувшихся неприятностей.
— Гм… гм… — пробормотал Нед. — Это — трудная штука!
— Менее трудная, чем вы полагаете, тем более что в замке запуганы многими заговорами.
В конце концов Нед предложил свое содействие и показал помещения для значительного количества людей. Мало того, обещал к известному дню собрать людей и со своей стороны.
Затем Эдуард распростился со своим новым столь неожиданным сообщником и уехал.
Несколько дней спустя, вечером, трущоба Неда необычайно оживилась. Приезжали друг за другом всадники, и все оставались на ночлег. Кроме одиннадцати человек приближенных Эдуарда явилось еще по крайней мере двадцать, которые были наняты для неизвестного им дела.
Около полуночи Эдуард объявил им свое намерение произвести переполох в замке, а потом рассеяться.
Все совершилось неожиданно как для охраны замка, так и для самой заключенной Марии Стюарт.
План Эдуарда был таков: часть отряда из людей, не посвященных в истинную цель нападения, была в запасе, другая часть должна была совершить нападение на замок и произвести там шум. Одна часть друзей Мак-Лина должна была стараться проникнуть в покои Марии со стороны сада, а другая, во главе с самим Эдуардом, — проникнуть в комнаты Марии через камин.
Когда Эдуард решился привести в исполнение свое отважное предприятие, была холодная, суровая ночь.
Ко всем невзгодам тюремной жизни Марии Стюарт нужно прибавить еще жестокие страдания от ревматизма, которые почти не оставляли ее ни на минуту. Тем же недугом был одержим и ее неумолимый страж, старый, ворчливый Амиас Полэт. Он не мог спать уже несколько ночей подряд и не решался выходить на воздух при такой холодной, сырой погоде. Друри исполнял за него все обязанности по охране замка, которые осложнялись тем, что старый, подозрительный Амиас беспрестанно гонял его то туда, то сюда, не давая отдыха ни на минуту. Вечером, когда боли стали нестерпимы, Полэт хотел забыться в молитве. Он уткнулся в молитвенник и действительно вскоре его стало клонить ко сну. Проспав около трех часов, он встал, поужинал с Друри, после чего они принялись играть в шахматы. Но при этом каждый час Друри должен был отрываться от игры и делать обход замка и двора, что, конечно, доставляло ему мало удовольствия.
Был третий час ночи, когда Друри возвратился из последнего обхода.
— Все в порядке? — спросил Полэт.
— Все, — ответил Друри, — стража бодрствует, и все в замке спокойно!
— А она спит?
— Нет! Она страдает от боли и просила почитать ей вслух!
На лице Амиаса промелькнуло выражение злорадства. Вероятно, он чувствовал известное удовлетворение в том, что несчастная узница испытывает такие же страдания, как и он.
— Читает, наверное, какой-нибудь папистский вздор! — проворчал он. — Следовало бы запретить ей подобные занятия!
— Недолго уж осталось, — заметил Друри, — было бы слишком жестоко.
— У вас вечная склонность к состраданию, — досадливо возразил Амиас. — Друри, когда вы наконец научитесь подчинять свои чувства долгу?
В том смысле, как вы это понимаете, никогда, — ответил Друри, — я не создан для этого!
— Плохо, очень плохо! — пробормотал Полэт, однако вернулся снова к начатой игре, и оба замолчали.
Амиас проигрывал, и, быть может, это было причиной того, что он потерял интерес к игре.
— Послушайте, Друри, — сказал он, — как бы при таком ночном бодрствовании нашей узницы опять не затеялось что-нибудь недоброе у нее?
— Едва ли, — ответил Друри, — она действительно страдает!
— Да, да! Однако я чувствую себя несколько лучше и пойду проверю.
Друри поморщился, но все же последовал за стариком, который, накинув шубу, поплелся по коридорам в комнаты Марии.
Полэт подозрительным оком осмотрел все уголки передней, а затем без доклада вошел в комнату заключенной.
Мария лежала на постели, скрестив руки на груди и уставившись в потолок. Близ нее находились ее старая нянька Кеннэди и другие женщины, занятые каким-то рукоделием, а также Кэрлей. У камина сидели Буркэн, ее духовник, Мелвил и Жэрвэ, ее врач. Священник читал книгу. При появлении Амиаса он умолк, и все присутствующие, кроме Марии, повернулись к дверям.
— Кто там? — спросила Мария слабым голосом.
— Тот, кто заботится о вас, — ответил Амиас с хриплым смехом, не считая нужным поклониться. — Здесь так уютно, что хочется присоединиться к вашему кружку.
Мария ничего не ответила, остальные также, конечно, молчали.
Очевидно раздосадованный таким нелюбезным приемом, Полэт стал оглядывать комнату, выискивая, к чему бы придраться, наконец его взор упал на огонь в камине.
— Какая жара в комнате! — воскликнул Амиас. — Какая нелепость задыхаться в такой жаре, не говоря уже о том, что может произойти пожар. Друри, позови кого- нибудь из слуг! Мы не можем допустить этого.
Друри вышел, но вскоре возвратился и доложил, что все люди, которые могли бы погасить камин, спят.
Амиас произнес какое-то проклятие, потоптался по комнате и затем ушел без поклона, без приветствия.
— Боже мой! — вздохнула королева. — Я почти засыпала, неужели этот злой человек лишит меня даже ночного покоя?
Все окружающие молчали в подавленном настроении, прислушиваясь к завывающим звукам ветра на дворе.
Но вдруг послышался глухой зловещий звук, проникший в комнату как бы через камин.
Мужчины вскочили со своих мест у камина, женщины испугались и готовы были громко крикнуть, если бы не присутствие королевы. Мария приподнялась.
Звук повторился громче, отчетливее, но менее зловеще и можно было расслышать слова:
— Погасите огонь!
Замечено, что все отважные и к тому же тайные предприятия зависят более или менее от простой случайности. В данном случае явилось такое случайное совпадение обстоятельств, что неизвестный голос требовал именно того, что и Полэт, грубо нарушивший ночной покой заключенной.
— Погасите огонь! — повторил голос еще явственнее.
— Это превосходит всякое терпение! — воскликнул Мелвил.
— Старик, должно быть, помешался, — заметил священник.
— Погасите огонь! Хотят спасти ее величество! — послышалось снова.
Все замерли и вопросительно смотрели друг на друга.
— Это только насмешка и издевательство! — сказала Мария.
Она, по-видимому, утратила уже всякую надежду на освобождение.
Но голос все настойчивее повторял, просил, угрожал.
— А может, и вправду? — заметил врач.
— Невозможно! — не поверил Мелвил.
— Будем молчать! — решительно сказала Мария. — Если мы не будем обращать внимания, то эти чудеса прекратятся сами собой.
Вдруг на дворе раздался выстрел. Оконные стекла зазвенели, послышались крики. Одновременно какой-то тяжелый предмет с глухим шумом упал в огонь, разметав уголья и головни. Присутствующие громко вскрикнули, увидев, как из камина выскочил человек в загоревшейся одежде. Закоптелый до неузнаваемости, он сбивал огонь с платья.
— Вставайте, господа! — обратился он. — Все сложилось хорошо, и можно надеяться на успех. Ваше величество, возможность бегства устроена, помощь ждет на дворе. Спешите! Нужно воспользоваться временем, пока стража приготовится к отпору.
Все стояли молча, как прикованные, никто не шевелился. Кто этот человек? Не сумасшедший ли какой-нибудь?
А время шло, на дворе шум все усиливался, слышалась борьба.
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показались Амиас Полэт, Друри и несколько солдат.
— А, я так и думал! — крикнул Полэт, увидев незнакомца. Кто вы?
— Слишком поздно! — послышался душераздирающий вопль Марии. — Ах, этот огонь, ах, это недоверие!
Снаружи кто-то разбил окно — и незнакомец одним прыжком выпрыгнул в него.
— О. эта низкая женщина снова затеяла козни! — прорычал Полэт. — Друри, оставайтесь здесь и стерегите ее, а я велю поймать негодяя.
С этими словами Амиас поспешно вышел.
Со двора слышались суета, выстрелы, крики, конский топот. Весь гарнизон замка был поднят на ноги и громко топал по коридорам. Шум борьбы продолжался с четверть часа, затем все стихло. Солдаты разошлись опять по местам, только долго еще бушевал Амиас. Он снова явился в комнату королевы, обыскал все уголки и подверг строгому допросу всех присутствующих. Но ничего не добился, да и не мог ничего открыть.
Хотя нападение было отражено, все же, по распоряжению Амиаса, Друри и несколько солдат остались на страже в комнате у королевы.
На другой день выяснилось, что несколько солдат было ранено, а на дворе нашли двух убитых молодых, никому не известных людей. Вот и все, чем закончилось нападение на замок.
Наутро Амиас Полэт позвал своего помощника и продиктовал донесение первому министру страны. Как всегда, он был чрезвычайно точен в изложении подробностей происшествия. Так как не имелось доказательств участия Марии в этой попытке к освобождению, то Полэт высказывал лишь свои предположения. По его мнению, оба убитых налетчика были шотландцами.
Лорд Мак-Лин напрасно ждал своего сына Эдуарда, а невеста — своего нареченного жениха.
Неподалеку от замка Фосрингай лежит одна из пустошей, которыми в те времена особенно изобиловала Англия. Для путешественников такие пустоши были страшнее леса и представляли одинаковую опасность, как и путешествие по морю. Путник, медленно пробиравшийся по глубоким пескам, завидев черную точку на горизонте, заранее ожидал беды.
За редким исключением такая точка на горизонте была не что иное как хорошо вооруженный всадник, который более или менее вежливо требовал с путника контрибуцию. Люди этой профессии чувствовали себя в пустоши более вольготно, чем в лесу. Намечая свою жертву на далеком расстоянии, они таким образом могли понять, нападать или скрыться.
Близ самого Лондона была пустошь Гренсло, которая долгие годы являлась истинным бичом столицы и путешественников. Так как ночью никто не решался проезжать по пустоши, то и властители большой дороги не давали себе труда выезжать ночью, а занимались своим ремеслом свободно среди бела дня, ночью же спали, как и все порядочные люди.
Пустошь близ замка Фосрингай пользовалась громкой славой в смысле грабежей и разбоя. Но с появлением в замке шотландской королевы обстоятельства несколько изменились. Амиас Полэт считал своим долгом усиленно охранять дороги как ночью, так и днем, вследствие чего шайке грабителей приходилось бездействовать и наконец, за отсутствием заработка, совершенно покинуть местность.
Приблизительно в пяти английских милях от замка был один из постоялых дворов, владелец которого злобно смотрел на замок и проклинал свою королеву, сэра Полэта и заключенную. Этого человека по имени Нед Бейерс нередко посещал Эдуард Мак-Лин во время рекогносцировки окрестностей Фосрингая. Нед не знал, за кого принять ему этого редкого одинокого гостя, но так как тот бесстрашно ездил один и был хорошо вооружен, то Нед решил в конце концов, что это — один из рыцарей с большой дороги, пустившийся на разведку, стоит ли вновь приняться здесь за свое дело. Впрочем, Эдуард не оставался на ночлег, а проводил на постоялом дворе лишь недолгое время, чтобы дать отдохнуть коню.
Однажды, как раз перед намеченным отъездом в Лондон, ненастная погода заставила его остаться дольше обыкновенного. Он велел подать себе ужин, после чего хозяин предложил ему приготовить постель. Но Эдуард отказался от постели, предпочтя отдохнуть на скамье. Хозяин увидел в этом лишь подтверждение своего предположения, так как предпочесть твердую скамью удобной, мягкой постели мог только человек, опасавшийся за свою безопасность.
— Мой дом вполне надежен! — сказал он, подмигнув. — У меня имеются маленькие, уединенные комнатки, которых не найдет тот, кто не должен их находить, сэр!
Эдуард заинтересовался.
— Разве? В таком случае они могли бы пригодиться нам. А сколько человек могли бы вы приютить? — спросил он.
— Около двенадцати, сэр!
— И столько же коней?
— И это можно, — ответил Нед с плутоватой усмешкой.
— Ну, быть может, я воспользуюсь этим и даже на несколько дней!
— Милости просим! А как обстоят дела там, с той старухой? Скоро с ней покончат?
Эдуард сразу не понял слов хозяина, когда же он догадался, то лишь вздохнул в ответ.
— Да, да, — продолжал Нед, — она много зла принесла нам всем. Честному человеку нет возможности зарабатывать свой хлеб.
— Как это понять? — спросил Эдуард.
Ведь с тех пор, как она здесь, наступил полный застой в делах как в наших, так и в ваших. На этот раз Эдуард лучше понял своего собеседника, так как был достаточно осведомлен о делах и нравах обитателей пустоши.
— Вы правы! Но этому делу можно было бы помочь.
— Каким образом? — удивился Нед.
— Если бы удалить эту женщину отсюда.
— Ну, это трудновато!
— Или, быть может, заставить охранителей удалить ее отсюда?
— Черт возьми! Но как взяться за это дело?
— Устроить нападение на замок!
— Гм… об этом нужно подумать! — задумчиво произнес Нед, почесав в затылке.
Эдуард сообразил, что, подвигая на это дело подобного сорта людей, можно было воспользоваться ими, не открывая своих истинных намерений.
— Одним словом, — продолжал он, — я хочу попытаться избавить местных жителей от этих затянувшихся неприятностей.
— Гм… гм… — пробормотал Нед. — Это — трудная штука!
— Менее трудная, чем вы полагаете, тем более что в замке запуганы многими заговорами.
В конце концов Нед предложил свое содействие и показал помещения для значительного количества людей. Мало того, обещал к известному дню собрать людей и со своей стороны.
Затем Эдуард распростился со своим новым столь неожиданным сообщником и уехал.
Несколько дней спустя, вечером, трущоба Неда необычайно оживилась. Приезжали друг за другом всадники, и все оставались на ночлег. Кроме одиннадцати человек приближенных Эдуарда явилось еще по крайней мере двадцать, которые были наняты для неизвестного им дела.
Около полуночи Эдуард объявил им свое намерение произвести переполох в замке, а потом рассеяться.
Все совершилось неожиданно как для охраны замка, так и для самой заключенной Марии Стюарт.
План Эдуарда был таков: часть отряда из людей, не посвященных в истинную цель нападения, была в запасе, другая часть должна была совершить нападение на замок и произвести там шум. Одна часть друзей Мак-Лина должна была стараться проникнуть в покои Марии со стороны сада, а другая, во главе с самим Эдуардом, — проникнуть в комнаты Марии через камин.
Когда Эдуард решился привести в исполнение свое отважное предприятие, была холодная, суровая ночь.
Ко всем невзгодам тюремной жизни Марии Стюарт нужно прибавить еще жестокие страдания от ревматизма, которые почти не оставляли ее ни на минуту. Тем же недугом был одержим и ее неумолимый страж, старый, ворчливый Амиас Полэт. Он не мог спать уже несколько ночей подряд и не решался выходить на воздух при такой холодной, сырой погоде. Друри исполнял за него все обязанности по охране замка, которые осложнялись тем, что старый, подозрительный Амиас беспрестанно гонял его то туда, то сюда, не давая отдыха ни на минуту. Вечером, когда боли стали нестерпимы, Полэт хотел забыться в молитве. Он уткнулся в молитвенник и действительно вскоре его стало клонить ко сну. Проспав около трех часов, он встал, поужинал с Друри, после чего они принялись играть в шахматы. Но при этом каждый час Друри должен был отрываться от игры и делать обход замка и двора, что, конечно, доставляло ему мало удовольствия.
Был третий час ночи, когда Друри возвратился из последнего обхода.
— Все в порядке? — спросил Полэт.
— Все, — ответил Друри, — стража бодрствует, и все в замке спокойно!
— А она спит?
— Нет! Она страдает от боли и просила почитать ей вслух!
На лице Амиаса промелькнуло выражение злорадства. Вероятно, он чувствовал известное удовлетворение в том, что несчастная узница испытывает такие же страдания, как и он.
— Читает, наверное, какой-нибудь папистский вздор! — проворчал он. — Следовало бы запретить ей подобные занятия!
— Недолго уж осталось, — заметил Друри, — было бы слишком жестоко.
— У вас вечная склонность к состраданию, — досадливо возразил Амиас. — Друри, когда вы наконец научитесь подчинять свои чувства долгу?
В том смысле, как вы это понимаете, никогда, — ответил Друри, — я не создан для этого!
— Плохо, очень плохо! — пробормотал Полэт, однако вернулся снова к начатой игре, и оба замолчали.
Амиас проигрывал, и, быть может, это было причиной того, что он потерял интерес к игре.
— Послушайте, Друри, — сказал он, — как бы при таком ночном бодрствовании нашей узницы опять не затеялось что-нибудь недоброе у нее?
— Едва ли, — ответил Друри, — она действительно страдает!
— Да, да! Однако я чувствую себя несколько лучше и пойду проверю.
Друри поморщился, но все же последовал за стариком, который, накинув шубу, поплелся по коридорам в комнаты Марии.
Полэт подозрительным оком осмотрел все уголки передней, а затем без доклада вошел в комнату заключенной.
Мария лежала на постели, скрестив руки на груди и уставившись в потолок. Близ нее находились ее старая нянька Кеннэди и другие женщины, занятые каким-то рукоделием, а также Кэрлей. У камина сидели Буркэн, ее духовник, Мелвил и Жэрвэ, ее врач. Священник читал книгу. При появлении Амиаса он умолк, и все присутствующие, кроме Марии, повернулись к дверям.
— Кто там? — спросила Мария слабым голосом.
— Тот, кто заботится о вас, — ответил Амиас с хриплым смехом, не считая нужным поклониться. — Здесь так уютно, что хочется присоединиться к вашему кружку.
Мария ничего не ответила, остальные также, конечно, молчали.
Очевидно раздосадованный таким нелюбезным приемом, Полэт стал оглядывать комнату, выискивая, к чему бы придраться, наконец его взор упал на огонь в камине.
— Какая жара в комнате! — воскликнул Амиас. — Какая нелепость задыхаться в такой жаре, не говоря уже о том, что может произойти пожар. Друри, позови кого- нибудь из слуг! Мы не можем допустить этого.
Друри вышел, но вскоре возвратился и доложил, что все люди, которые могли бы погасить камин, спят.
Амиас произнес какое-то проклятие, потоптался по комнате и затем ушел без поклона, без приветствия.
— Боже мой! — вздохнула королева. — Я почти засыпала, неужели этот злой человек лишит меня даже ночного покоя?
Все окружающие молчали в подавленном настроении, прислушиваясь к завывающим звукам ветра на дворе.
Но вдруг послышался глухой зловещий звук, проникший в комнату как бы через камин.
Мужчины вскочили со своих мест у камина, женщины испугались и готовы были громко крикнуть, если бы не присутствие королевы. Мария приподнялась.
Звук повторился громче, отчетливее, но менее зловеще и можно было расслышать слова:
— Погасите огонь!
Замечено, что все отважные и к тому же тайные предприятия зависят более или менее от простой случайности. В данном случае явилось такое случайное совпадение обстоятельств, что неизвестный голос требовал именно того, что и Полэт, грубо нарушивший ночной покой заключенной.
— Погасите огонь! — повторил голос еще явственнее.
— Это превосходит всякое терпение! — воскликнул Мелвил.
— Старик, должно быть, помешался, — заметил священник.
— Погасите огонь! Хотят спасти ее величество! — послышалось снова.
Все замерли и вопросительно смотрели друг на друга.
— Это только насмешка и издевательство! — сказала Мария.
Она, по-видимому, утратила уже всякую надежду на освобождение.
Но голос все настойчивее повторял, просил, угрожал.
— А может, и вправду? — заметил врач.
— Невозможно! — не поверил Мелвил.
— Будем молчать! — решительно сказала Мария. — Если мы не будем обращать внимания, то эти чудеса прекратятся сами собой.
Вдруг на дворе раздался выстрел. Оконные стекла зазвенели, послышались крики. Одновременно какой-то тяжелый предмет с глухим шумом упал в огонь, разметав уголья и головни. Присутствующие громко вскрикнули, увидев, как из камина выскочил человек в загоревшейся одежде. Закоптелый до неузнаваемости, он сбивал огонь с платья.
— Вставайте, господа! — обратился он. — Все сложилось хорошо, и можно надеяться на успех. Ваше величество, возможность бегства устроена, помощь ждет на дворе. Спешите! Нужно воспользоваться временем, пока стража приготовится к отпору.
Все стояли молча, как прикованные, никто не шевелился. Кто этот человек? Не сумасшедший ли какой-нибудь?
А время шло, на дворе шум все усиливался, слышалась борьба.
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показались Амиас Полэт, Друри и несколько солдат.
— А, я так и думал! — крикнул Полэт, увидев незнакомца. Кто вы?
— Слишком поздно! — послышался душераздирающий вопль Марии. — Ах, этот огонь, ах, это недоверие!
Снаружи кто-то разбил окно — и незнакомец одним прыжком выпрыгнул в него.
— О. эта низкая женщина снова затеяла козни! — прорычал Полэт. — Друри, оставайтесь здесь и стерегите ее, а я велю поймать негодяя.
С этими словами Амиас поспешно вышел.
Со двора слышались суета, выстрелы, крики, конский топот. Весь гарнизон замка был поднят на ноги и громко топал по коридорам. Шум борьбы продолжался с четверть часа, затем все стихло. Солдаты разошлись опять по местам, только долго еще бушевал Амиас. Он снова явился в комнату королевы, обыскал все уголки и подверг строгому допросу всех присутствующих. Но ничего не добился, да и не мог ничего открыть.
Хотя нападение было отражено, все же, по распоряжению Амиаса, Друри и несколько солдат остались на страже в комнате у королевы.
На другой день выяснилось, что несколько солдат было ранено, а на дворе нашли двух убитых молодых, никому не известных людей. Вот и все, чем закончилось нападение на замок.
Наутро Амиас Полэт позвал своего помощника и продиктовал донесение первому министру страны. Как всегда, он был чрезвычайно точен в изложении подробностей происшествия. Так как не имелось доказательств участия Марии в этой попытке к освобождению, то Полэт высказывал лишь свои предположения. По его мнению, оба убитых налетчика были шотландцами.
Лорд Мак-Лин напрасно ждал своего сына Эдуарда, а невеста — своего нареченного жениха.

Глава двадцать пятая
ОХОТА

 Королева Елизавета в 1587 году пользовалась огромным почетом у своего народа. Как только стало известно, что состояние ее здоровья улучшилось, Лондон сильно воодушевился. Если бы охота была назначена поблизости от столицы, то, наверное, все ее население высыпало бы глазеть на это зрелище. Предвидя это, Лейстер решил совместно с обер-егермейстером королевы перенести охоту подальше от Лондона. Вместе с тем народу было объявлено, что королева будет проезжать по улицам столицы. Был назначен час проезда, и к тому времени все улицы были обложены войсками и полицией.
Население Лондона поднялось рано, а еще раньше того — знатные господа со своей свитой, которые должны были сопровождать Елизавету из Гринвича. Со всех сторон стекались отряды, щеголявшие друг перед другом убранством и выправкой.
Гринвический парк, дворец и его ближайшие окрестности были наполнены наездниками и наездницами. Те, кто имел право доступа к королеве, спешили засвидетельствовать ей свое почтение, когда она появилась в приемном зале.
Королева почти никогда не заставляла себя ждать. Так и на этот раз она явилась с точностью до минуты и была встречена восторженными овациями.
В этот день Елизавета имела сияющий вид; благодаря богатому наряду ее статная фигура приобрела прежнюю величавость, а милостивая улыбка королевы доказывала, что она довольна собой.
Поблагодарив за приветствие, она села на лошадь и, предшествуемая герольдами и своим личным войском, открыла шествие. Рядом с ней ехал Дэдлей. Поезд был такой большой, что, когда его начало достигло уже Гайдпарка, конец был еще в Гринвиче, а это составляет значительное расстояние. Путь был дальний, но в то время привыкли делать большие путешествия на лошадях.
В Виндзоре королева завтракала. Тем временем меняли коней и заведующие охотой распределяли общество по месту назначения, так как не все имели право охотиться за дичью и некоторые являлись лишь зрителями.
После получасового отдыха Елизавета отправилась в дальнейший путь, сопровождаемая личной свитой. Все отдельные части потянулись к северу.
В северо-восточном направлении от Ридинга тянется цепь холмов, в те времена еще покрытых лесом. На склонах этих холмов и намечалась охота. Лес был огражден, чтобы дичь не разбежалась, устроили облаву на оленя. Красивый, стройный старик-олень был спущен, собак направили по его следам, и охота началась.
Елизавета любила такого рода охоту. Она оживилась, была весела, впереди всех направлялась по следам оленя и собак. Охота шла все время в северо-восточном направлении и продолжалась целых четыре часа.
Наконец собаки загнали оленя; обер-егермейстер сразил его по всем правилам охотничьего искусства и на серебряном подносе преподнес королеве его рога.
В знак своей признательности всему охотничьему персоналу Елизавета положила на тот же поднос туго набитый кошелек и выразила желание устроить привал на открытом воздухе.
Но это не входило в намерения Лейстера. По его мнению, королева уже доказала всем, что она здорова, бодра и что настроение ее духа далеко не соответствует ходившим слухам. И желая доказать, что он, по-прежнему пользуется благосклонностью своей повелительницы, Лейстер решился возразить:
— Ваше величество, вы разгорячены, а между тем солнце садится и вечера еще довольны прохладны. Соблаговолите назначить привал не под открытым небом. Я уже позаботился, чтобы все было приготовлено в доме поблизости. Теперь полнолуние, и обратное путешествие в карете будет очень приятно.
— Разве моя карета здесь?
— Да, ваше величество.
Королева любезно улыбнулась.
— Вы так заботитесь обо мне, что было бы неблагодарностью с моей стороны отклонить ваше предложение.
Лейстер поклонился так низко, что его голова почти коснулась шеи лошади.
Было отдано распоряжение о том, что участники и участницы охоты могут располагаться по собственному желанию; только министры и еще несколько лиц получили приглашение последовать за королевой и принять участие в ее трапезе в небольшом охотничьем доме. Этот дом очень понравился королеве своей идиллической обстановкой.
После ужина Елизавета почувствовала вдруг такую сильную усталость, что решила отдохнуть несколько часов. Поэтому леди Брауфорд должна была съездить в Виндзор и привезти королеве другое платье. Шел разговор даже о том, что королева останется в охотничьем доме до утра. Так как имелся только один экипаж королевы, то леди и воспользовалась им для поездки в Виндзор. Дело было уже к вечеру, смеркалось.
Кузнец Киприан выехал из Лондона вместе с графом Лейстером и, встретившись на границе города с Пельдрамом, обменялся с ним любезностями. В дальнейшем они еще не раз встречались, последний раз — в Виндзоре, так как Лейстер оставался с королевой.
— Ну, что, как вам нравится охота, — спросил Пельдрам, — весь этот блеск, почет, ликующие крики?
— Ах да, все это великолепно!
— Я очень рад, что мог быть полезен вам; вы — славный малый, — произнес Пельдрам.
— Очень признателен вам, — с улыбкой поклонился Киприан.
Разговор прервался, так как Пельдрама отозвали по делам службы.
Вдруг среди общей суеты и оживления вокруг охотничьего дома появился гонец от Амиаса Полэта с донесением к лорду Бэрлею. Передав донесение, он отошел в сторону, и его сейчас же окружила толпа, и, узнав по ливрее, откуда он, все стали расспрашивать, с каким известием он явился.
— Пытались выкрасть Марию Стюарт!
— Неудачно?
— Людей разогнали, несколько человек убиты.
Эти слова долетели до слуха Киприана.
Бэрлея это известие поразило и сильно взволновало, но он счел необходимым скрыть его от королевы.
Тем временем подали экипаж королевы, и леди Брауфорд с камеристкой сели в него. Киприан был так взволнован страшным известием, что не заметил, кто именно сел в экипаж; в голове билась одна мысль: попытка освобождения Марии Стюарт не удалась, есть убитые, все дело погибло. Значит, необходимо как можно скорее привести в исполнение задуманное убийство королевы. Ему показалось вполне естественным, что Елизавета, получив неприятное известие, поспешила вернуться во дворец.
Киприан вскочил на коня и последовал за экипажем. Никому из незначительного конвоя, сопровождавшего экипаж, это не показалось подозрительно, так как Киприана приняли за слугу графа Лейстера, спешащего к леди Брауфорд с каким-нибудь поручением.
Киприан заглянул в карету; так как сумерки еще более сгустились в лесу, то внутри кареты нельзя было различить лица. Люди конвоя видели, как Киприан что-то сказал дамам, затем вынул из платья какой-то предмет и сделал рукой несколько сильных движений.
Послышался крик о помощи, конвой окружил карету, тут же появился и Пельдрам. В руках у Киприана был окровавленный кинжал.
— Несчастный, что вы наделали? — крикнул Пельдрам. — Вы арестованы!… Помогите леди Брауфорд!
Киприан ничего не ответил, обвел всех блуждающим взором, затем всадил кинжал себе в грудь и тотчас же молча свалился с лошади.
Пельдрам очень быстро нашелся придать делу такой оборот, будто убийца ошибся, думая, что преследовал свою возлюбленную. А так как Киприан был мертв, то дело прекратилось само собой.
Что касается леди Брауфорд, то она отделалась только испугом, а у камеристки были легко поранены руки, которыми она в испуге защищалась от убийцы. Раны перевязали, и леди продолжили свой путь к Виндзору.
Сам факт разбоя нельзя было скрыть от королевы, но виновников не стали доискиваться. Леди Стаффорд не хотела, чтобы ее, а также ее сына, втянули в процесс; Бэрлей молчал, потому что когда-то протежировал этому руководителю заговора, Лейстер не выступал, потому что ливрея его слуги оказалась на этом подозрительном самоубийце. Валингэм и Пельдрам молчали, чтобы не выдать своего глупого промаха обманутых блюстителей безопасности.
Минутное веселое настроение Елизаветы сменилось из-за этих событий более угрожающим гневным состоянием. Более чем когда-либо она убедилась, что для ее безопасности необходима смерть Марии. Но выступить решительно боялась по-прежнему. Ей хотелось, чтобы смерть Марии произошла помимо нее, чтобы никто не мог обвинить ее и назвать убийцей.
Королева Елизавета в 1587 году пользовалась огромным почетом у своего народа. Как только стало известно, что состояние ее здоровья улучшилось, Лондон сильно воодушевился. Если бы охота была назначена поблизости от столицы, то, наверное, все ее население высыпало бы глазеть на это зрелище. Предвидя это, Лейстер решил совместно с обер-егермейстером королевы перенести охоту подальше от Лондона. Вместе с тем народу было объявлено, что королева будет проезжать по улицам столицы. Был назначен час проезда, и к тому времени все улицы были обложены войсками и полицией.
Население Лондона поднялось рано, а еще раньше того — знатные господа со своей свитой, которые должны были сопровождать Елизавету из Гринвича. Со всех сторон стекались отряды, щеголявшие друг перед другом убранством и выправкой.
Гринвический парк, дворец и его ближайшие окрестности были наполнены наездниками и наездницами. Те, кто имел право доступа к королеве, спешили засвидетельствовать ей свое почтение, когда она появилась в приемном зале.
Королева почти никогда не заставляла себя ждать. Так и на этот раз она явилась с точностью до минуты и была встречена восторженными овациями.
В этот день Елизавета имела сияющий вид; благодаря богатому наряду ее статная фигура приобрела прежнюю величавость, а милостивая улыбка королевы доказывала, что она довольна собой.
Поблагодарив за приветствие, она села на лошадь и, предшествуемая герольдами и своим личным войском, открыла шествие. Рядом с ней ехал Дэдлей. Поезд был такой большой, что, когда его начало достигло уже Гайдпарка, конец был еще в Гринвиче, а это составляет значительное расстояние. Путь был дальний, но в то время привыкли делать большие путешествия на лошадях.
В Виндзоре королева завтракала. Тем временем меняли коней и заведующие охотой распределяли общество по месту назначения, так как не все имели право охотиться за дичью и некоторые являлись лишь зрителями.
После получасового отдыха Елизавета отправилась в дальнейший путь, сопровождаемая личной свитой. Все отдельные части потянулись к северу.
В северо-восточном направлении от Ридинга тянется цепь холмов, в те времена еще покрытых лесом. На склонах этих холмов и намечалась охота. Лес был огражден, чтобы дичь не разбежалась, устроили облаву на оленя. Красивый, стройный старик-олень был спущен, собак направили по его следам, и охота началась.
Елизавета любила такого рода охоту. Она оживилась, была весела, впереди всех направлялась по следам оленя и собак. Охота шла все время в северо-восточном направлении и продолжалась целых четыре часа.
Наконец собаки загнали оленя; обер-егермейстер сразил его по всем правилам охотничьего искусства и на серебряном подносе преподнес королеве его рога.
В знак своей признательности всему охотничьему персоналу Елизавета положила на тот же поднос туго набитый кошелек и выразила желание устроить привал на открытом воздухе.
Но это не входило в намерения Лейстера. По его мнению, королева уже доказала всем, что она здорова, бодра и что настроение ее духа далеко не соответствует ходившим слухам. И желая доказать, что он, по-прежнему пользуется благосклонностью своей повелительницы, Лейстер решился возразить:
— Ваше величество, вы разгорячены, а между тем солнце садится и вечера еще довольны прохладны. Соблаговолите назначить привал не под открытым небом. Я уже позаботился, чтобы все было приготовлено в доме поблизости. Теперь полнолуние, и обратное путешествие в карете будет очень приятно.
— Разве моя карета здесь?
— Да, ваше величество.
Королева любезно улыбнулась.
— Вы так заботитесь обо мне, что было бы неблагодарностью с моей стороны отклонить ваше предложение.
Лейстер поклонился так низко, что его голова почти коснулась шеи лошади.
Было отдано распоряжение о том, что участники и участницы охоты могут располагаться по собственному желанию; только министры и еще несколько лиц получили приглашение последовать за королевой и принять участие в ее трапезе в небольшом охотничьем доме. Этот дом очень понравился королеве своей идиллической обстановкой.
После ужина Елизавета почувствовала вдруг такую сильную усталость, что решила отдохнуть несколько часов. Поэтому леди Брауфорд должна была съездить в Виндзор и привезти королеве другое платье. Шел разговор даже о том, что королева останется в охотничьем доме до утра. Так как имелся только один экипаж королевы, то леди и воспользовалась им для поездки в Виндзор. Дело было уже к вечеру, смеркалось.
Кузнец Киприан выехал из Лондона вместе с графом Лейстером и, встретившись на границе города с Пельдрамом, обменялся с ним любезностями. В дальнейшем они еще не раз встречались, последний раз — в Виндзоре, так как Лейстер оставался с королевой.
— Ну, что, как вам нравится охота, — спросил Пельдрам, — весь этот блеск, почет, ликующие крики?
— Ах да, все это великолепно!
— Я очень рад, что мог быть полезен вам; вы — славный малый, — произнес Пельдрам.
— Очень признателен вам, — с улыбкой поклонился Киприан.
Разговор прервался, так как Пельдрама отозвали по делам службы.
Вдруг среди общей суеты и оживления вокруг охотничьего дома появился гонец от Амиаса Полэта с донесением к лорду Бэрлею. Передав донесение, он отошел в сторону, и его сейчас же окружила толпа, и, узнав по ливрее, откуда он, все стали расспрашивать, с каким известием он явился.
— Пытались выкрасть Марию Стюарт!
— Неудачно?
— Людей разогнали, несколько человек убиты.
Эти слова долетели до слуха Киприана.
Бэрлея это известие поразило и сильно взволновало, но он счел необходимым скрыть его от королевы.
Тем временем подали экипаж королевы, и леди Брауфорд с камеристкой сели в него. Киприан был так взволнован страшным известием, что не заметил, кто именно сел в экипаж; в голове билась одна мысль: попытка освобождения Марии Стюарт не удалась, есть убитые, все дело погибло. Значит, необходимо как можно скорее привести в исполнение задуманное убийство королевы. Ему показалось вполне естественным, что Елизавета, получив неприятное известие, поспешила вернуться во дворец.
Киприан вскочил на коня и последовал за экипажем. Никому из незначительного конвоя, сопровождавшего экипаж, это не показалось подозрительно, так как Киприана приняли за слугу графа Лейстера, спешащего к леди Брауфорд с каким-нибудь поручением.
Киприан заглянул в карету; так как сумерки еще более сгустились в лесу, то внутри кареты нельзя было различить лица. Люди конвоя видели, как Киприан что-то сказал дамам, затем вынул из платья какой-то предмет и сделал рукой несколько сильных движений.
Послышался крик о помощи, конвой окружил карету, тут же появился и Пельдрам. В руках у Киприана был окровавленный кинжал.
— Несчастный, что вы наделали? — крикнул Пельдрам. — Вы арестованы!… Помогите леди Брауфорд!
Киприан ничего не ответил, обвел всех блуждающим взором, затем всадил кинжал себе в грудь и тотчас же молча свалился с лошади.
Пельдрам очень быстро нашелся придать делу такой оборот, будто убийца ошибся, думая, что преследовал свою возлюбленную. А так как Киприан был мертв, то дело прекратилось само собой.
Что касается леди Брауфорд, то она отделалась только испугом, а у камеристки были легко поранены руки, которыми она в испуге защищалась от убийцы. Раны перевязали, и леди продолжили свой путь к Виндзору.
Сам факт разбоя нельзя было скрыть от королевы, но виновников не стали доискиваться. Леди Стаффорд не хотела, чтобы ее, а также ее сына, втянули в процесс; Бэрлей молчал, потому что когда-то протежировал этому руководителю заговора, Лейстер не выступал, потому что ливрея его слуги оказалась на этом подозрительном самоубийце. Валингэм и Пельдрам молчали, чтобы не выдать своего глупого промаха обманутых блюстителей безопасности.
Минутное веселое настроение Елизаветы сменилось из-за этих событий более угрожающим гневным состоянием. Более чем когда-либо она убедилась, что для ее безопасности необходима смерть Марии. Но выступить решительно боялась по-прежнему. Ей хотелось, чтобы смерть Марии произошла помимо нее, чтобы никто не мог обвинить ее и назвать убийцей.

Глава двадцать шестая
ИНТЕРЕС

 На следующий день Пельдрам очутился в лавке мастера Оллана и нашел здесь, по обыкновению, жену и дочь хозяина. Пельдрам был в веселом и шутливом настроении, располагавшем к балагурству. Желая занять своим разговором обеих женщин, он повел речь о том, что ему пора жениться и у него достаточно средств, чтобы содержать семью. Жена оружейника согласилась с ним.
Пельдрам продолжал, что ему надо жениться на своей землячке и с этой целью предстоит ехать в Шотландию. Жена оружейника возразила, что до Шотландии не рукой подать, а шотландские девушки-невесты не так доступны, как зрелые груши.
Пельдрам наконец высказал, что и в Лондоне найдутся шотландские девушки и, пожалуй, более подходящие для него, чем в самой Шотландии. Почтенная хозяйка не могла отрицать это. И гость сказал, что у него даже есть на примете одна вполне подходящая молодая девица, а после этого вступления заявил, что он берет на себя смелость посвататься. Мать поспешила выслать Вилли из лавки.
В доме Оллана уже давно догадывались о намерениях Пельдрама, и потому удаление Вилли могло считаться ответом на его сватовство. Пельдрам засмеялся. Впрочем, его игривое настроение не находило отклика в душе матери и дочери. До них уже дошла весть о злополучном покушении Киприана, и они по своей женской впечатлительности были огорчены и напуганы этим. Сверх того Вилли, по-видимому, была огорчена смертью молодого человека, к которому она была, по меньшей мере, неравнодушна.
Вы могли бы оставить здесь вашу дочь, миссис Оллан! — сказал Пельдрам. — Ведь в моих словах о том, что я хочу остепениться, нет ничего щекотливого. Или, может быть, вы полагаете, что я заглядываюсь на вашу Вилли?
— Мало ли на кого вы заглядываетесь! — уклончиво ответила хозяйка. — Но в вашем обращении с моей дочерью я не заметила ничего особенного.
— В этом вы совершенно правы. Но что сказали бы вы, если бы я в самом деле стал не шутя заглядываться на Вилли?
— Ничего не могу сказать на этот счет. Нельзя же вам запретить смотреть на девушку.
— Вот как?… Вы так полагаете? Ну а если бы за этим последовало предложение?
— Его нужно еще дождаться.
— Но допустим, что оно уже сделано, что сказали бы вы тогда?
— Ступайте к моему мужу и спросите его. Только он может дать вам определенный ответ.
— Я так и думал… Ну а вы-то сами не прочь породниться со мной?
— Я не буду перечить тому, чего захочет муж.
— Так, так… вы — послушная жена. Но, быть может, в глубине сердца вы таите иное желание?
— Вовсе нет. Согласится старик, соглашусь и я. Вот и все!
— А Вилли?
— Не могу знать, что она скажет или чего ей хочется.
— Ну, чтобы не распространяться много, скажу напрямик, что мои намерения серьезны, и потому я переговорю с Олланом, но только наедине. Пошлите его ко мне, всего лучше в гостиную.
Отца позвали. Он, как всегда, поздоровался с Пельдрамом холодно и спокойно, после чего пригласил его в гостиную, где они уселись вдвоем.
Гость улыбался. Может быть, непривычная роль жениха отчасти смущала его.
— Где ваш мастер? — спросил он наконец хозяина.
— Уволен! — отрезал тот.
— Так… А когда последовало его увольнение?
— Третьего дня вечером.
Вы поссорились с ним? Из-за чего вы отказали ему?
— Из-за того, что он увлекался удовольствиями, неподходящими нашему званию и нашему ремеслу.
— Так, так!… А известно ли вам, где он теперь?
— Я за ним не следил.
— Отлично! Вы поступили умно, отказав ему.
— Я и сам так полагаю.
— Значит, мы все были согласны между собой на этот счет. Посмотрим, не упрочится ли наше взаимное согласие. Ведь вы шотландец, как и я! — продолжал гость.
— Шотландец, да, — подтвердил оружейник, — только не чета вам — полицейскому!
— Ну, это — пустяки! Мы — соотечественники, и я, ваш соотечественник, желаю жениться.
— Это — ваше дело.
— Совершенно верно, но я желаю жениться на вашей дочери, а это — уже отчасти и ваше дело.
— Моя дочь вам не пара.
— Однако я иного мнения.
— Ну, значит мы с вами несогласны.
— По-видимому, так… Только мне кажется, что мы все-таки поладим между собой. Я опять возвращаюсь к Киприану. Его уже нет в живых.
— Весьма сожалею.
— И я также. Он был славный малый и сам лишил себя жизни. Собственно говоря, он поступил умно, потому что перед самоубийством совершил деяние, за которое ему предстояло поплатиться жизнью, он напал на одну придворную даму и ранил ее…
— Это нехорошо!
— Да… как относительно того, что подразумеваете вы, так и с моей точки зрения.
— Что подразумеваю я?…
— Мы потолкуем об этом после. Накануне вечером была сделана попытка освободить фосрингайскую пленницу. Однако заговорщики бежали, и двое из них были убиты. Одним из убитых оказался лорд Мак-Лин, которого вы также видели и к которому я сам привел Киприана.
— Странно!
— Да, да!… Что касается Киприана, то я сам нарочно пустил такую молву, будто у него была знакомая дама при дворе, которую он приревновал и хотел убить.
— В сущности, мне это безразлично.
— Не думаю! Лорд Мак-Лин и Киприан, по-моему, были знакомы между собой и раньше.
— Может быть!
До настоящей минуты оружейник отвечал Пельдраму спокойно, холодно и слегка насмешливо. Но теперь он как будто стал обнаруживать больше интереса и внимания к разговору.
— Они состояли в заговоре, — продолжал Пельдрам, — с целью освободить Марию Стюарт и убить нашу королеву.
— Ну, вот еще выдумали! — проворчал Оллан.
— У них были сообщники, которых надо искать среди людей их окружения.
— Киприан был вашим другом!
— Да, я держал его на привязи, как и подобало, а теперь у меня в руках весь заговор, и от меня зависит открыть его и засадить в тюрьму заговорщиков.
— Пожалуй, это — ваша обязанность.
— Как смотреть на вещи!… Вот, например, я могу быть убежден, что некоторые люди невиновны, несмотря на улики против них…
— Такое убеждение было бы приятно!
— Я сам так думаю, и если я прошу руки вашей дочери, то это служит верным доказательством того, что у меня нет никакого предубеждения против вас, и я совсем не считаю вас виновным.
— По-видимому, так!
— Но если вы отвергаете мое искательство, то я, пожалуй, буду думать иначе.
— Нисколько в том не сомневаюсь!
— Дело обстоит приблизительно так: Вилли — о вас я не буду распространяться более, так как вы сами можете оценить свою пользу — Вилли сделается миссис Пельдрам, настоящей леди, заживет в достатке и всяком довольстве. Или же она окажется дочерью государственного преступника, обреченной на нищету, горе, презрение, преследование — одним словом, на всякие бедствия, Ясно ли это?
— Вполне!
— А что вы скажете на мои слова?
— Я скажу: если вы нравитесь Вилли, то я не имею ничего против вашего сватовства.
— Хорошо сказано! Итак, спросите Вилли, нравлюсь ли я ей.
— Сейчас?
— Конечно!
— Хорошо… тогда обождите немножко.
Оллан оставался таким же холодным и спокойным, как и в начале разговора, несмотря на грозную перспективу, развернутую Пельдрамом перед ним. Соучастие оружейника в покушении Киприана было для полицейского вне всякого сомнения, но вместе с тем Пельдрам отлично сознавал, что старик готов на все и не согласился бы отдать ему руку Вилли, если бы угроза Пельдрама не напугала его. Впрочем, оба они были шотландцы и обделывали дело по-шотландски сухо, обдуманно, согласно здравому смыслу.
Итак, результат сватовства зависел теперь от Вилли.
Переговоры отца с дочерью носили тот же характер, как и предшествующая беседа между Олланом и Пельдрамом. Старый оружейник увел дочь из лавки в другую комнату и сказал ей:
— Вилли, пришел Пельдрам и просит твоей руки.
— Я не могу выйти за него, он противен мне! — вспыхнула девушка.
— Знаю и потому не стал бы передавать тебе его предложение, а сам отказал бы ему наотрез, да дело в том, что Киприан умер.
Вилли заплакала.
— Он не мог, — продолжал отец, — выполнить свою задачу. Однако главное — Пельдрам все-таки может покарать или помиловать нас…
— Пусть так! — заявила Вили. — Я не имею никакого отношения к делам, которые дают ему на это право.
— Но я замешан в них… И потом, совершенно безразлично, виновны ли мы, или невиновны, этот человек имеет власть погубить нас, если захочет, Дело идет теперь о том, чтобы из двух зол выбрать меньшее.
Вилли осушила слезы и, посмотрев на отца, решительно сказала:
— Тогда я пожертвую собой ради вас!
— Нет, мне этой жертвы не надо. Я знаю, что мне нужно. А ты должна думать только о своей пользе. Конечно, своим согласием ты сохранишь себе отца… Ну, что же, как ты решишь?
— Я согласна! — твердо сказала Вилли.
— Хорошо, — буркнул старик, — пойдем со мной к матери.
Отец и дочь пошли в лавку.
— Вилли — невеста сэра Пельдрама, — сказал Оллан жене. — Ты ничего не имеешь против этого?
— Нет! — холодно ответила жена.
— Тогда следуйте за мной.
Семейство отправилось в гостиную, где ожидал Пельдрам.
— Вот, сэр, моя дочь, — сказал старик, — она соглашается. Я привел к вам невесту.
Пельдрам поднялся с места, взял руку молодой девушки и сказал ей какую-то любезность. Он был мастер по этой части!… Наконец он поцеловал Вилли, которая не уклонилась от его поцелуя, и обменялся рукопожатием с ее родителями.
— Я не стану торопить со свадьбой, — заметил Пельдрам, — мне нужно только, чтобы она состоялась в нынешнем году!
— Хорошо, — ответил Оллан, — мы еще успеем потолковать обо всем.
Пельдрам простился с женщинами, и Оллан пошел провожать его. Когда они вышли из комнаты, Вилли, рыдая, упала на стул, мать же не проронила ни слова. Остановившись у порога, Оллан следил за своим будущим зятем. В его глазах таилось что-то зловещее. Старик заметил еще, что полицейский заговорил с кем-то в отдалении, после чего оружейник вернулся к себе в дом.
— И этот бредет сюда же!… Только уж опоздал, голубчик! — ворчливо процедил он сквозь зубы.
Человек, заговоривший с Пельдрамом, был Дик Маттерн. Заносчивый, непроходимый болван, воображавший о себе очень много, он считал себя вправе бесцеремонно заговаривать с директором полиции.
— Хорошо, что я встретил вас, — сказал он, поздоровавшись с Пельдрамом. — Вы разрешите мне обратиться к вам с несколькими словами?
Пельдрам, весело настроенный и раньше, окончательно расцвел душой после удачи своего сватовства к прекрасной Вилли. Вероятно, дорогой он соображал про себя, что его должность, принесшая ему и без того много выгод, способствовала теперь устройству его судьбы.
— Разрешаю, — с улыбкой ответил он, — если только вы по своей мудрости не наговорите опять какой-нибудь нелепости.
— Нелепости? — переспросил озадаченный Дик. — Я полагал, что вы признали теперь справедливость моей догадки.
— Относительно чего? — спросил Пельдрам.
— Да насчет Киприана, Ведь он оказался заговорщиком. Хотя ранил только служанку, но покушался-то убить нашу всемилостивейшую королеву.
— Черт побери! Так это вам известно?.. Тогда я должен немедленно схватить вас за шиворот.
— Меня?.. Я ровно ничего не знаю, а только предполагаю.
— Так я и думал, дружище Дик. Держите-ка лучше про себя свои предположения; не надо возбуждать напрасное любопытство, иначе вам могут учинить весьма подробный допрос. Если я услышу от вас еще что-нибудь подобное, то буду вынужден распорядиться на этот счет. Впрочем, вы — осел, вот вам и весь сказ!
С этими словами Пельдрам отправился своей дорогой.
Дик Маттерн остался на месте, как пораженный громом. У него хватило рассудка опомниться и внезапно прозреть. Наконец он хлопнул себя по губам и подумал:
«А ведь этот малый прав!… Мне следовало сообразить, что власти хотят на этот раз замять дело, а если понадобится, то станут хватать тех, кто болтает зря. О, как глупо с моей стороны! Что же, я ошибся и насчет старика? Нет, его будет нетрудно запугать. По крайней мере попытаюсь».
И Дик зашагал к дому оружейника. Он прошел прямо в мастерскую, где встретил хозяина и поздоровался с ним. Оллан спокойно ответил на его приветствие.
— Ну, что, — сказал Маттерн, — не прав ли я был относительно тогочужеземца?
— Совершенно прав! — подтвердил мастер.
— Мне пришло в голову, что теперь вы, пожалуй, возьмете меня к себе обратно.
— Отчего же нет? Если вы исполните одно условие.
— Все, какие вам угодно, мастер! — поспешно подхватил Дик. — Но у меня к вам еще одна просьба. Если уж мы с вами разговорились по душам, то я хотел бы попросить у вас руки вашей дочери Вилли!
— Хорошо, мы потолкуем об этом после, я не отказываю вам пока, тем более, что наши намерения отчасти сходятся между собой. Пельдрам только что был здесь. У него точно такие же виды на Вилли, как и у вас…
— У этого?…
Дик запнулся.
— Значит, он — ваш соперник.
— Черт бы его побрал!…
— Но в этом человеке есть то, из-за чего его нельзя спровадить со двора!
— О, я понимаю!
— Тем лучше! Значит, ваше дело избавиться от соперника, и, если это случится, я опять возьму вас к себе мастером и тогда мы поговорим насчет Вилли.
— Прекрасно… но…
— Вы хотите сказать: как вам разделаться с ним?
— Вот именно!
— Это уж ваша забота, Дик. Может статься, меня вынудят заявить, что вы были заодно с Киприаном.
— Что вы? Что вы?..
— Так что, избавляйся от соперника, или попадай ему в когти.
— Я подумаю, — проворчал Дик и ушел.
Самонадеянно заговорил он сегодня с Пельдрамом и победоносно явился к Оллану, но Пельдрам сбил с него спесь, а Оллан повернул все дело в другую сторону.
На обратном пути Маттерн обдумывал случившееся. Вероятно, он не принял еще никакого решения, когда невольно оказался около жилища Пельдрама, но, поколебавшись, собрался с духом и вошел в дом.
На следующий день Пельдрам очутился в лавке мастера Оллана и нашел здесь, по обыкновению, жену и дочь хозяина. Пельдрам был в веселом и шутливом настроении, располагавшем к балагурству. Желая занять своим разговором обеих женщин, он повел речь о том, что ему пора жениться и у него достаточно средств, чтобы содержать семью. Жена оружейника согласилась с ним.
Пельдрам продолжал, что ему надо жениться на своей землячке и с этой целью предстоит ехать в Шотландию. Жена оружейника возразила, что до Шотландии не рукой подать, а шотландские девушки-невесты не так доступны, как зрелые груши.
Пельдрам наконец высказал, что и в Лондоне найдутся шотландские девушки и, пожалуй, более подходящие для него, чем в самой Шотландии. Почтенная хозяйка не могла отрицать это. И гость сказал, что у него даже есть на примете одна вполне подходящая молодая девица, а после этого вступления заявил, что он берет на себя смелость посвататься. Мать поспешила выслать Вилли из лавки.
В доме Оллана уже давно догадывались о намерениях Пельдрама, и потому удаление Вилли могло считаться ответом на его сватовство. Пельдрам засмеялся. Впрочем, его игривое настроение не находило отклика в душе матери и дочери. До них уже дошла весть о злополучном покушении Киприана, и они по своей женской впечатлительности были огорчены и напуганы этим. Сверх того Вилли, по-видимому, была огорчена смертью молодого человека, к которому она была, по меньшей мере, неравнодушна.
Вы могли бы оставить здесь вашу дочь, миссис Оллан! — сказал Пельдрам. — Ведь в моих словах о том, что я хочу остепениться, нет ничего щекотливого. Или, может быть, вы полагаете, что я заглядываюсь на вашу Вилли?
— Мало ли на кого вы заглядываетесь! — уклончиво ответила хозяйка. — Но в вашем обращении с моей дочерью я не заметила ничего особенного.
— В этом вы совершенно правы. Но что сказали бы вы, если бы я в самом деле стал не шутя заглядываться на Вилли?
— Ничего не могу сказать на этот счет. Нельзя же вам запретить смотреть на девушку.
— Вот как?… Вы так полагаете? Ну а если бы за этим последовало предложение?
— Его нужно еще дождаться.
— Но допустим, что оно уже сделано, что сказали бы вы тогда?
— Ступайте к моему мужу и спросите его. Только он может дать вам определенный ответ.
— Я так и думал… Ну а вы-то сами не прочь породниться со мной?
— Я не буду перечить тому, чего захочет муж.
— Так, так… вы — послушная жена. Но, быть может, в глубине сердца вы таите иное желание?
— Вовсе нет. Согласится старик, соглашусь и я. Вот и все!
— А Вилли?
— Не могу знать, что она скажет или чего ей хочется.
— Ну, чтобы не распространяться много, скажу напрямик, что мои намерения серьезны, и потому я переговорю с Олланом, но только наедине. Пошлите его ко мне, всего лучше в гостиную.
Отца позвали. Он, как всегда, поздоровался с Пельдрамом холодно и спокойно, после чего пригласил его в гостиную, где они уселись вдвоем.
Гость улыбался. Может быть, непривычная роль жениха отчасти смущала его.
— Где ваш мастер? — спросил он наконец хозяина.
— Уволен! — отрезал тот.
— Так… А когда последовало его увольнение?
— Третьего дня вечером.
Вы поссорились с ним? Из-за чего вы отказали ему?
— Из-за того, что он увлекался удовольствиями, неподходящими нашему званию и нашему ремеслу.
— Так, так!… А известно ли вам, где он теперь?
— Я за ним не следил.
— Отлично! Вы поступили умно, отказав ему.
— Я и сам так полагаю.
— Значит, мы все были согласны между собой на этот счет. Посмотрим, не упрочится ли наше взаимное согласие. Ведь вы шотландец, как и я! — продолжал гость.
— Шотландец, да, — подтвердил оружейник, — только не чета вам — полицейскому!
— Ну, это — пустяки! Мы — соотечественники, и я, ваш соотечественник, желаю жениться.
— Это — ваше дело.
— Совершенно верно, но я желаю жениться на вашей дочери, а это — уже отчасти и ваше дело.
— Моя дочь вам не пара.
— Однако я иного мнения.
— Ну, значит мы с вами несогласны.
— По-видимому, так… Только мне кажется, что мы все-таки поладим между собой. Я опять возвращаюсь к Киприану. Его уже нет в живых.
— Весьма сожалею.
— И я также. Он был славный малый и сам лишил себя жизни. Собственно говоря, он поступил умно, потому что перед самоубийством совершил деяние, за которое ему предстояло поплатиться жизнью, он напал на одну придворную даму и ранил ее…
— Это нехорошо!
— Да… как относительно того, что подразумеваете вы, так и с моей точки зрения.
— Что подразумеваю я?…
— Мы потолкуем об этом после. Накануне вечером была сделана попытка освободить фосрингайскую пленницу. Однако заговорщики бежали, и двое из них были убиты. Одним из убитых оказался лорд Мак-Лин, которого вы также видели и к которому я сам привел Киприана.
— Странно!
— Да, да!… Что касается Киприана, то я сам нарочно пустил такую молву, будто у него была знакомая дама при дворе, которую он приревновал и хотел убить.
— В сущности, мне это безразлично.
— Не думаю! Лорд Мак-Лин и Киприан, по-моему, были знакомы между собой и раньше.
— Может быть!
До настоящей минуты оружейник отвечал Пельдраму спокойно, холодно и слегка насмешливо. Но теперь он как будто стал обнаруживать больше интереса и внимания к разговору.
— Они состояли в заговоре, — продолжал Пельдрам, — с целью освободить Марию Стюарт и убить нашу королеву.
— Ну, вот еще выдумали! — проворчал Оллан.
— У них были сообщники, которых надо искать среди людей их окружения.
— Киприан был вашим другом!
— Да, я держал его на привязи, как и подобало, а теперь у меня в руках весь заговор, и от меня зависит открыть его и засадить в тюрьму заговорщиков.
— Пожалуй, это — ваша обязанность.
— Как смотреть на вещи!… Вот, например, я могу быть убежден, что некоторые люди невиновны, несмотря на улики против них…
— Такое убеждение было бы приятно!
— Я сам так думаю, и если я прошу руки вашей дочери, то это служит верным доказательством того, что у меня нет никакого предубеждения против вас, и я совсем не считаю вас виновным.
— По-видимому, так!
— Но если вы отвергаете мое искательство, то я, пожалуй, буду думать иначе.
— Нисколько в том не сомневаюсь!
— Дело обстоит приблизительно так: Вилли — о вас я не буду распространяться более, так как вы сами можете оценить свою пользу — Вилли сделается миссис Пельдрам, настоящей леди, заживет в достатке и всяком довольстве. Или же она окажется дочерью государственного преступника, обреченной на нищету, горе, презрение, преследование — одним словом, на всякие бедствия, Ясно ли это?
— Вполне!
— А что вы скажете на мои слова?
— Я скажу: если вы нравитесь Вилли, то я не имею ничего против вашего сватовства.
— Хорошо сказано! Итак, спросите Вилли, нравлюсь ли я ей.
— Сейчас?
— Конечно!
— Хорошо… тогда обождите немножко.
Оллан оставался таким же холодным и спокойным, как и в начале разговора, несмотря на грозную перспективу, развернутую Пельдрамом перед ним. Соучастие оружейника в покушении Киприана было для полицейского вне всякого сомнения, но вместе с тем Пельдрам отлично сознавал, что старик готов на все и не согласился бы отдать ему руку Вилли, если бы угроза Пельдрама не напугала его. Впрочем, оба они были шотландцы и обделывали дело по-шотландски сухо, обдуманно, согласно здравому смыслу.
Итак, результат сватовства зависел теперь от Вилли.
Переговоры отца с дочерью носили тот же характер, как и предшествующая беседа между Олланом и Пельдрамом. Старый оружейник увел дочь из лавки в другую комнату и сказал ей:
— Вилли, пришел Пельдрам и просит твоей руки.
— Я не могу выйти за него, он противен мне! — вспыхнула девушка.
— Знаю и потому не стал бы передавать тебе его предложение, а сам отказал бы ему наотрез, да дело в том, что Киприан умер.
Вилли заплакала.
— Он не мог, — продолжал отец, — выполнить свою задачу. Однако главное — Пельдрам все-таки может покарать или помиловать нас…
— Пусть так! — заявила Вили. — Я не имею никакого отношения к делам, которые дают ему на это право.
— Но я замешан в них… И потом, совершенно безразлично, виновны ли мы, или невиновны, этот человек имеет власть погубить нас, если захочет, Дело идет теперь о том, чтобы из двух зол выбрать меньшее.
Вилли осушила слезы и, посмотрев на отца, решительно сказала:
— Тогда я пожертвую собой ради вас!
— Нет, мне этой жертвы не надо. Я знаю, что мне нужно. А ты должна думать только о своей пользе. Конечно, своим согласием ты сохранишь себе отца… Ну, что же, как ты решишь?
— Я согласна! — твердо сказала Вилли.
— Хорошо, — буркнул старик, — пойдем со мной к матери.
Отец и дочь пошли в лавку.
— Вилли — невеста сэра Пельдрама, — сказал Оллан жене. — Ты ничего не имеешь против этого?
— Нет! — холодно ответила жена.
— Тогда следуйте за мной.
Семейство отправилось в гостиную, где ожидал Пельдрам.
— Вот, сэр, моя дочь, — сказал старик, — она соглашается. Я привел к вам невесту.
Пельдрам поднялся с места, взял руку молодой девушки и сказал ей какую-то любезность. Он был мастер по этой части!… Наконец он поцеловал Вилли, которая не уклонилась от его поцелуя, и обменялся рукопожатием с ее родителями.
— Я не стану торопить со свадьбой, — заметил Пельдрам, — мне нужно только, чтобы она состоялась в нынешнем году!
— Хорошо, — ответил Оллан, — мы еще успеем потолковать обо всем.
Пельдрам простился с женщинами, и Оллан пошел провожать его. Когда они вышли из комнаты, Вилли, рыдая, упала на стул, мать же не проронила ни слова. Остановившись у порога, Оллан следил за своим будущим зятем. В его глазах таилось что-то зловещее. Старик заметил еще, что полицейский заговорил с кем-то в отдалении, после чего оружейник вернулся к себе в дом.
— И этот бредет сюда же!… Только уж опоздал, голубчик! — ворчливо процедил он сквозь зубы.
Человек, заговоривший с Пельдрамом, был Дик Маттерн. Заносчивый, непроходимый болван, воображавший о себе очень много, он считал себя вправе бесцеремонно заговаривать с директором полиции.
— Хорошо, что я встретил вас, — сказал он, поздоровавшись с Пельдрамом. — Вы разрешите мне обратиться к вам с несколькими словами?
Пельдрам, весело настроенный и раньше, окончательно расцвел душой после удачи своего сватовства к прекрасной Вилли. Вероятно, дорогой он соображал про себя, что его должность, принесшая ему и без того много выгод, способствовала теперь устройству его судьбы.
— Разрешаю, — с улыбкой ответил он, — если только вы по своей мудрости не наговорите опять какой-нибудь нелепости.
— Нелепости? — переспросил озадаченный Дик. — Я полагал, что вы признали теперь справедливость моей догадки.
— Относительно чего? — спросил Пельдрам.
— Да насчет Киприана, Ведь он оказался заговорщиком. Хотя ранил только служанку, но покушался-то убить нашу всемилостивейшую королеву.
— Черт побери! Так это вам известно?.. Тогда я должен немедленно схватить вас за шиворот.
— Меня?.. Я ровно ничего не знаю, а только предполагаю.
— Так я и думал, дружище Дик. Держите-ка лучше про себя свои предположения; не надо возбуждать напрасное любопытство, иначе вам могут учинить весьма подробный допрос. Если я услышу от вас еще что-нибудь подобное, то буду вынужден распорядиться на этот счет. Впрочем, вы — осел, вот вам и весь сказ!
С этими словами Пельдрам отправился своей дорогой.
Дик Маттерн остался на месте, как пораженный громом. У него хватило рассудка опомниться и внезапно прозреть. Наконец он хлопнул себя по губам и подумал:
«А ведь этот малый прав!… Мне следовало сообразить, что власти хотят на этот раз замять дело, а если понадобится, то станут хватать тех, кто болтает зря. О, как глупо с моей стороны! Что же, я ошибся и насчет старика? Нет, его будет нетрудно запугать. По крайней мере попытаюсь».
И Дик зашагал к дому оружейника. Он прошел прямо в мастерскую, где встретил хозяина и поздоровался с ним. Оллан спокойно ответил на его приветствие.
— Ну, что, — сказал Маттерн, — не прав ли я был относительно тогочужеземца?
— Совершенно прав! — подтвердил мастер.
— Мне пришло в голову, что теперь вы, пожалуй, возьмете меня к себе обратно.
— Отчего же нет? Если вы исполните одно условие.
— Все, какие вам угодно, мастер! — поспешно подхватил Дик. — Но у меня к вам еще одна просьба. Если уж мы с вами разговорились по душам, то я хотел бы попросить у вас руки вашей дочери Вилли!
— Хорошо, мы потолкуем об этом после, я не отказываю вам пока, тем более, что наши намерения отчасти сходятся между собой. Пельдрам только что был здесь. У него точно такие же виды на Вилли, как и у вас…
— У этого?…
Дик запнулся.
— Значит, он — ваш соперник.
— Черт бы его побрал!…
— Но в этом человеке есть то, из-за чего его нельзя спровадить со двора!
— О, я понимаю!
— Тем лучше! Значит, ваше дело избавиться от соперника, и, если это случится, я опять возьму вас к себе мастером и тогда мы поговорим насчет Вилли.
— Прекрасно… но…
— Вы хотите сказать: как вам разделаться с ним?
— Вот именно!
— Это уж ваша забота, Дик. Может статься, меня вынудят заявить, что вы были заодно с Киприаном.
— Что вы? Что вы?..
— Так что, избавляйся от соперника, или попадай ему в когти.
— Я подумаю, — проворчал Дик и ушел.
Самонадеянно заговорил он сегодня с Пельдрамом и победоносно явился к Оллану, но Пельдрам сбил с него спесь, а Оллан повернул все дело в другую сторону.
На обратном пути Маттерн обдумывал случившееся. Вероятно, он не принял еще никакого решения, когда невольно оказался около жилища Пельдрама, но, поколебавшись, собрался с духом и вошел в дом.

Глава двадцать седьмая
БЕЗ ВЕРНЫХ СЛУГ

 Валингэм все не хотел понять намерения Елизаветы относительно Марии Стюарт, и она решила обратиться к другим придворным, выбрав для этого секретаря Девисона. Его обязанность состояла преимущественно в том, чтобы излагать королеве содержание бумаг, подаваемых ей на подпись. Поэтому они во время его доклада часто оставались вдвоем, это и послужило Елизавете поводом намекнуть ему о своих желаниях.
Однажды, по окончании занятий с бумагами, Девисон только что собирался удалиться из королевскою кабинета, как государыня сказала ему:
— Погодите немного! Вы не захватили сегодня с собой приказ о казни?
— Не захватил, ваше величество, — ответил Дэвисон. — Прикажете принести?
— Нет, не надо, — приветливо ответила королева, — это не к спеху; кроме того, Валингэм перепугался бы до смерти, если бы вы принесли ему этот документ с моей подписью.
И Елизавета засмеялась своей шутке.
Дэвисон, в высшей степени честный человек, сохранял полнейшую серьезность. Он невольно удивился тому, что Елизавета сама завела сегодня речь о кровавом приказе, о котором уже столько времени ей никто не смел заикнуться.
Не дождавшись ответа, королева вздохнула, признавшись:
— Я достойна сожаления! У меня нет верных слуг.
Дэвисон поклонился, не зная, что сказать, а затем нерешительно произнес:
— Ваше величество, я полагаю…
— О, мой упрек не относится к вам! — поспешно перебила королева. — Я знаю вас. Но Валингэм, рыцарь Полэт и многие другие энергичны только на словах и медлительны в деле.
— Я, право, не понимаю, ваше величество…
— Тем не менее это — истинная правда. Несчастная женщина, доставляющая мне столько хлопот, должна умереть… Между тем никто не хочет снять с меня бремя, почти непосильное для моих плеч. Эти господа присягали мне, но, кажется, у них нет охоты действовать согласно принятой присяге.
Тут Дэвисон понял, куда клонит королева, однако промолчал.
Елизавета пристально всматривалась в него.
— Если бы кто-нибудь, — продолжала она, — сообщил о моих желаниях Амиасу, то, может быть, он согласился бы тогда положить конец всем тревогам.
— Вы приказываете, ваше величество, чтобы я взялся за это? — спросил Дэвисон.
— Разумеется! — с живостью ответила Елизавета. — О, я вижу, вы действуете чистосердечно и сразу угадываете, как нужно поступить! Вы и всякий другой, кто доставил бы мне известие о смерти Марии Стюарт, может вполне рассчитывать на мою благодарность.
Дэвисон поклонился и вышел. Однако он не счел удобным написать Полэту прямо от себя, но отправился к Валингэму, чтобы сообщить ему о своем важном разговоре с королевой.
Валингэм сначала разозлился, но скоро одумался и приказал секретарю сочинить письмо главному тюремщику Марии Стюарт. И Дэвисон написал от себя и от Валингэма следующее:
«Прежде всего, шлем наш задушевный привет. Из некоторых, недавно сказанных ее величеством слов, мы усматриваем, что государыня замечает в Вас недостаток усердия и заботливости, так как Вы сами по себе, без постороннего побуждения не нашли еще средства лишить жизни заключенную королеву, несмотря на страшную опасность, которой ежечасно подвергается ее величество, пока упомянутая королева остается в живых. Помимо недостатка в Вас любви к ней, государыня видит еще, что Вы не только пренебрегаете собственной безопасностью, но не думаете и об охране религии, общественного блага и благосостояния всей страны, как того требуют разум и политика. Перед Богом Ваша совесть была бы спокойна, а перед светом Ваше доброе имя осталось бы незапятнанным, потому что все обвинения против заключенной королевы подтвердились в достаточной степени. Ее величество крайне недовольна тем, что люди, которые поклялись в своей преданности к ней, как сделали и Вы, столь плохо исполняют свои обязанности и стараются взвалить настоящее тягостное дело на ее величество, хотя им хорошо известно, как неохотно государыня проливает кровь, тем более кровь особы женского пола, высокого сана и вдобавок ее близкой родственницы. Мы удостоверились, что эти побуждения причиняют большое беспокойство ее величеству, и она сама — в чем мы ручаемся Вам — не однажды подтверждала, что если Вы будете по-прежнему пренебрегать опасностями, которые угрожают ее верноподданным, как пренебрегать и собственным благополучием, то она никогда не согласится на смерть той королевы. Мы считаем весьма нужным передать Вам эти недавние речи ее величества, советуем продумать их и поручаем Вас охране Всемогущего. Ваши добрые друзья».
Валингэм с Дэвисоном подписали письмо и отправили с нарочным.
Амиас Полэт гордился тем, что содействовал изобличению ненавистной ему женщины. После того как Марии Стюарт был вынесен смертный приговор, он выказывал величайшую жестокость в обращении с ней, может быть, с целью вознаградить себя за труды и заботы, которых требовал последний надзор за царственной узницей, когда находилось еще довольно отчаянных голов, готовых освободить Марию перед самой казнью.
Однако Амиас был чем угодно, только не наемным убийцей, и, пожалуй, обладал достаточным здравым смыслом для того чтобы добровольно стать козлом отпущения в чужих кознях. В его глазах Мария была тяжкой преступницей перед людьми и великой грешницей перед Богом; фанатизм побуждал Полэта передать ее в руки палача, но не более того. И, получив письмо от «друзей», он в бешенстве крикнул своему помощнику;
— Друри, сломай свою шпагу и герб, нас унизили до звания подкупленных убийц! На вот, читай, и скажи свое мнение!
Друри прочел. Хотя он был моложе главного тюремщика Марии, но превосходил своего начальника хладнокровием и рассудительностью.
— Что ж тут дурного? — спокойно заметил он. — Мы просто не сделаем того, что требуется в этом письме, вот и весь сказ!
— Вот именно! — подхватил старый ханжа. — И я тотчас напишу тем господам.
Не давая остыть своему гневу, Амиас действительно тут же настрочил ответ такого содержания:
«Ваше вчерашнее письмо получено мною сегодня в пять часов вечера; я сожгу его, согласно Вашему желанию, выраженному в приписке к нему, а теперь спешу безотлагательно ответить Вам. Моя душа преисполнена горем. Как я несчастлив, что дожил до того дня, когда, по приказанию моей всемилостивейшей королевы, меня побуждают к поступку, запрещенному Богом и законом! Мои поместья, моя должность и моя жизнь находятся в распоряжении ее величества, если они нужны ей, я готов завтра же пожертвовать ими, так как владею всем этим и желаю владеть лишь с милостивого соизволения ее величества. Но сохрани меня Бог дожить до крайне жалкого крушения моей совести или оставить моему потомству память о запятнанной жизни, как это случилось бы непременно, если бы я пролил кровь без полномочия со стороны закона и без всякого публичного одобрения. Надеюсь, что ее величество по своей обычной милости примет мой подобающий ответ».
Это письмо было помечено 2 февраля 1587 года, оно пришло в Лондон ночью и, по приказанию Валингэма, на следующий день было передано королеве Дэвисоном.
Королева прочла и возмутилась.
— Мне противен этот трусливый болтун, — воскликнула она, — противны эти лукавые и чопорные люди, которые обещают все, но не исполняют ничего!… Принесите мне приказ о совершении казни.
Дэвисон удалился, чтобы исполнить волю государыни; вернувшись назад с роковым документом, он нашел Елизавету значительно спокойнее прежнего.
— Положите бумагу туда, — сказала она, указывая на стол, — и пришлите мне человека, занявшего теперь место Кингтона.
Дэвисон ушел и послал за Пельдрамом.
Когда тот явился, то был, введен секретарем к Елизавете, которому она велела явиться через час.
Согласно придворному обычаю, вошедший Пельдрам остановился у дверей кабинета в согбенной позе, у него, должно быть, скребли на сердце кошки. Хотя на его совести не лежало ничего особенного, кроме убийства Кингтона, но кто не привык к близости венценосцев, тому редко бывает по себе в их присутствии.
Пельдрам полагал, что его станут допрашивать о недавних событиях на охоте, и приготовился отвечать так, как считал нужным и как было согласовано с Валингэмом.
Елизавета быстро ходила по комнате, как делал всегда в расстроенных чувствах, и время от времени бросала испытующие взгляды на полицейского.
— Сэр!… — начала она резким тоном, но не прибавила больше ни слова.
— Что прикажете, ваше величество? — отозвался Пельдрам, слегка приподняв голову.
— Сэр, — повторила Елизавета, — вы состоите уже довольно времени на службе, привыкли к ней и доказали свою пригодность. Вы — храбрец, я знаю, и не боитесь даже необычайного. На таких людей, как вы, можно положиться.
Королева замолкла.
Пельдрам поднял голову еще немного повыше, но явно недоумевал, что следует ему ответить на эту похвалу.
— Есть много людей, — продолжала Елизавета, — много слуг короны, которые хвалятся своей преданностью, но когда от них что-нибудь понадобится, то они отступают, прикрывая свою трусость пустыми рассуждениями. Но короне, стране, государству нужен смельчак, и я уверена, что нашла его в вашем лице.
— Распоряжайтесь мною, ваше величество, — сказал Пельдрам, — я готов повиноваться.
— Я не могу приказывать, сэр. Вы должны понять меня без приказания.
— Но… ваше величество… всемилостивейший намек…
— Да, разумеется, без этого нельзя, в этом вы правы. Существует замок Фосрингай, а в нем — женщина, которая приговорена к смерти. Закон осудил ее, приговор ей произнесен и может быть приведен в исполнение, но мне противно назначить его к исполнению.
— Ваше величество, вы вправе еще и теперь всемилостивейше отменить приговор!
— Конечно… Но мне одинаково неприятно и помиловать виновную.
Пельдрам выпучил глаза.
— Я думаю, — продолжила Елизавета, улыбнувшись при виде его изумления, — что вы поняли теперь, в чем дело. Народ хочет смерти Стюарт. Страна нуждается в этой развязке, Заключенная — слабая, больная старуха, изнывающая в долгом заточении. Если бы она умерла естественной смертью, у меня камень скатился бы с души.
— Ах, ваше величество!… — промолвил Пельдрам, тяжело вздыхая.
— Если бы комендант замка в один прекрасный день, в очень скором времени, доложил мне о смерти Стюарт, я была бы весьма признательна ему. Вы еще не получили, собственно, никакой награды за ваши значительные услуги. Что сказали бы вы, если бы я назначила вас комендантом Фосрингая?
— Ваше величество, такая высочайшая милость…
— Так вы признательны за нее? — оживилась Елизавета.
— Превосходно!… Вы понимаете меня? Значит, вы — комендант Фосрингая… Однако держите это пока в тайне.
Пельдрам низко поклонился.
— Я сейчас выдам вам полномочие.
Королева подсела к письменному столу и принялась писать.
Пельдрам сильно волновался. Раз он угадал желание королевы, для него уже было невозможно отклонить оказанную ему честь. Всякое уклонение грозило теперь гибелью. Пельдрам должен был согласиться, охотно ли он это сделал — вопрос другой. Обуревавшие его чувства довольно ясно отражались на его лице. На его лоб набежала туча, глаза потуплены в землю.
Елизавета очень скоро написала полномочие и приложила к нему печать, она приблизилась к Пельдраму и, подав ему это назначение вместе с туго набитым кошельком, сказала:
— Поезжайте сейчас! Доложите мне поскорее, как чувствует себя больная Стюарт; докладывайте мне об этом чаще. Ступайте.
Елизавета гордо отвернулась, сопроводив свои слова легким жестом руки.
Пельдрам на коленях принял от нее бумагу и деньги и поднялся, как в чаду. Не зная, следует ли ему поцеловать руку государыни, он не сделал этого.
Бывший конюх вышел из дворца комендантом Фосрингая.
После его ухода Елизавета села к столу и взяла принесенный ей Дэвисоном приговор. Она пробежала его глазами в опять положила на стол, потом снова взялась за него и перечитала вторично, долго раздумывала и наконец подписала роковой документ.
Дэвисон ожидал уже некоторое время ее приказания и вошел, когда ему подали знак. Он тотчас понял, что королева осталась довольна.
— Сэр, — почти весело начала она, — рыцарь Полэт не только несговорчив, но просто стар. Последний случай доказывает, что он уже не в состоянии как следует исправлять свою должность. Изготовьте приказ об его увольнении и отошлите ему сейчас же с примечанием, что его преемник вскоре прибудет в Фосрингай.
Дэвисон поклонился.
— Вот тут еще другой приказ, — небрежно продолжала Елизавета, — вы должны знать, как с ним поступить. Я не хочу больше ничего слышать об этом деле, запомните хорошенько!
Девисон взял приказ, взглянул на подпись и вздохнул.
С этим королева его и отпустила.
В течение дня Елизавета обнаруживала такую веселость, которой не замечали в ней уже много лет.
Дэвисон поспешно изготовил приказ Полэту и отправился с ним к Валингэму, захватив с собой и утвержденный приговор. Статс-секретарь улыбнулся.
— Следовательно, Полэт попал в немилость! — заметил он. — Хорошо, Дэвисон, но это ничего не значит. Должность все равно будет упразднена, когда все совершится. Поспешите же к моему зятю, я хочу осчастливить сэра Полэта. Старый мальчик еще очень может угодить королеве.
Валингэм, очевидно, не подозревал намерений Елизаветы.
Дэвисон явился к Бэрлею и представил ему утвержденный королевой приговор.
— Наконец-то! — воскликнул государственный казначей. — Это стоило немалого труда. Ну, а теперь мы свалим с плеч долой надоевшее дело!
— Государыня сказала, — заметил Дэвисон, — что я пойму сам, как поступить с этим документом. У меня, право, как-то неспокойно на душе!
— Глупости! Ваша обязанность передать мне документ, чем и кончается вся ваша причастность к делу! — возразил Бэрлей.
Дэвисон сообщил еще лорду об увольнении Полэта от должности и о назначении Пельдрама на его место.
Бэрлей не придал этому особой важности. Он снабдил приговор большой государственной печатью и отправил в Тайный совет.
Тот немедленно приступил к его обсуждению и наложил резолюцию: привести приговор в исполнение без дальнейшего доклада об этом королеве.
Бумага за подписью Бэрлея, Лейстера, Гэнедона, Ноллиса, Валингэма, Дэрби, Говарда, Кобгэма, Гэстона и Дэвисона уполномочивала графов Шрисбери и Кэнта распорядиться об исполнении смертного приговора над Марией Стюарт.
Валингэм все не хотел понять намерения Елизаветы относительно Марии Стюарт, и она решила обратиться к другим придворным, выбрав для этого секретаря Девисона. Его обязанность состояла преимущественно в том, чтобы излагать королеве содержание бумаг, подаваемых ей на подпись. Поэтому они во время его доклада часто оставались вдвоем, это и послужило Елизавете поводом намекнуть ему о своих желаниях.
Однажды, по окончании занятий с бумагами, Девисон только что собирался удалиться из королевскою кабинета, как государыня сказала ему:
— Погодите немного! Вы не захватили сегодня с собой приказ о казни?
— Не захватил, ваше величество, — ответил Дэвисон. — Прикажете принести?
— Нет, не надо, — приветливо ответила королева, — это не к спеху; кроме того, Валингэм перепугался бы до смерти, если бы вы принесли ему этот документ с моей подписью.
И Елизавета засмеялась своей шутке.
Дэвисон, в высшей степени честный человек, сохранял полнейшую серьезность. Он невольно удивился тому, что Елизавета сама завела сегодня речь о кровавом приказе, о котором уже столько времени ей никто не смел заикнуться.
Не дождавшись ответа, королева вздохнула, признавшись:
— Я достойна сожаления! У меня нет верных слуг.
Дэвисон поклонился, не зная, что сказать, а затем нерешительно произнес:
— Ваше величество, я полагаю…
— О, мой упрек не относится к вам! — поспешно перебила королева. — Я знаю вас. Но Валингэм, рыцарь Полэт и многие другие энергичны только на словах и медлительны в деле.
— Я, право, не понимаю, ваше величество…
— Тем не менее это — истинная правда. Несчастная женщина, доставляющая мне столько хлопот, должна умереть… Между тем никто не хочет снять с меня бремя, почти непосильное для моих плеч. Эти господа присягали мне, но, кажется, у них нет охоты действовать согласно принятой присяге.
Тут Дэвисон понял, куда клонит королева, однако промолчал.
Елизавета пристально всматривалась в него.
— Если бы кто-нибудь, — продолжала она, — сообщил о моих желаниях Амиасу, то, может быть, он согласился бы тогда положить конец всем тревогам.
— Вы приказываете, ваше величество, чтобы я взялся за это? — спросил Дэвисон.
— Разумеется! — с живостью ответила Елизавета. — О, я вижу, вы действуете чистосердечно и сразу угадываете, как нужно поступить! Вы и всякий другой, кто доставил бы мне известие о смерти Марии Стюарт, может вполне рассчитывать на мою благодарность.
Дэвисон поклонился и вышел. Однако он не счел удобным написать Полэту прямо от себя, но отправился к Валингэму, чтобы сообщить ему о своем важном разговоре с королевой.
Валингэм сначала разозлился, но скоро одумался и приказал секретарю сочинить письмо главному тюремщику Марии Стюарт. И Дэвисон написал от себя и от Валингэма следующее:
«Прежде всего, шлем наш задушевный привет. Из некоторых, недавно сказанных ее величеством слов, мы усматриваем, что государыня замечает в Вас недостаток усердия и заботливости, так как Вы сами по себе, без постороннего побуждения не нашли еще средства лишить жизни заключенную королеву, несмотря на страшную опасность, которой ежечасно подвергается ее величество, пока упомянутая королева остается в живых. Помимо недостатка в Вас любви к ней, государыня видит еще, что Вы не только пренебрегаете собственной безопасностью, но не думаете и об охране религии, общественного блага и благосостояния всей страны, как того требуют разум и политика. Перед Богом Ваша совесть была бы спокойна, а перед светом Ваше доброе имя осталось бы незапятнанным, потому что все обвинения против заключенной королевы подтвердились в достаточной степени. Ее величество крайне недовольна тем, что люди, которые поклялись в своей преданности к ней, как сделали и Вы, столь плохо исполняют свои обязанности и стараются взвалить настоящее тягостное дело на ее величество, хотя им хорошо известно, как неохотно государыня проливает кровь, тем более кровь особы женского пола, высокого сана и вдобавок ее близкой родственницы. Мы удостоверились, что эти побуждения причиняют большое беспокойство ее величеству, и она сама — в чем мы ручаемся Вам — не однажды подтверждала, что если Вы будете по-прежнему пренебрегать опасностями, которые угрожают ее верноподданным, как пренебрегать и собственным благополучием, то она никогда не согласится на смерть той королевы. Мы считаем весьма нужным передать Вам эти недавние речи ее величества, советуем продумать их и поручаем Вас охране Всемогущего. Ваши добрые друзья».
Валингэм с Дэвисоном подписали письмо и отправили с нарочным.
Амиас Полэт гордился тем, что содействовал изобличению ненавистной ему женщины. После того как Марии Стюарт был вынесен смертный приговор, он выказывал величайшую жестокость в обращении с ней, может быть, с целью вознаградить себя за труды и заботы, которых требовал последний надзор за царственной узницей, когда находилось еще довольно отчаянных голов, готовых освободить Марию перед самой казнью.
Однако Амиас был чем угодно, только не наемным убийцей, и, пожалуй, обладал достаточным здравым смыслом для того чтобы добровольно стать козлом отпущения в чужих кознях. В его глазах Мария была тяжкой преступницей перед людьми и великой грешницей перед Богом; фанатизм побуждал Полэта передать ее в руки палача, но не более того. И, получив письмо от «друзей», он в бешенстве крикнул своему помощнику;
— Друри, сломай свою шпагу и герб, нас унизили до звания подкупленных убийц! На вот, читай, и скажи свое мнение!
Друри прочел. Хотя он был моложе главного тюремщика Марии, но превосходил своего начальника хладнокровием и рассудительностью.
— Что ж тут дурного? — спокойно заметил он. — Мы просто не сделаем того, что требуется в этом письме, вот и весь сказ!
— Вот именно! — подхватил старый ханжа. — И я тотчас напишу тем господам.
Не давая остыть своему гневу, Амиас действительно тут же настрочил ответ такого содержания:
«Ваше вчерашнее письмо получено мною сегодня в пять часов вечера; я сожгу его, согласно Вашему желанию, выраженному в приписке к нему, а теперь спешу безотлагательно ответить Вам. Моя душа преисполнена горем. Как я несчастлив, что дожил до того дня, когда, по приказанию моей всемилостивейшей королевы, меня побуждают к поступку, запрещенному Богом и законом! Мои поместья, моя должность и моя жизнь находятся в распоряжении ее величества, если они нужны ей, я готов завтра же пожертвовать ими, так как владею всем этим и желаю владеть лишь с милостивого соизволения ее величества. Но сохрани меня Бог дожить до крайне жалкого крушения моей совести или оставить моему потомству память о запятнанной жизни, как это случилось бы непременно, если бы я пролил кровь без полномочия со стороны закона и без всякого публичного одобрения. Надеюсь, что ее величество по своей обычной милости примет мой подобающий ответ».
Это письмо было помечено 2 февраля 1587 года, оно пришло в Лондон ночью и, по приказанию Валингэма, на следующий день было передано королеве Дэвисоном.
Королева прочла и возмутилась.
— Мне противен этот трусливый болтун, — воскликнула она, — противны эти лукавые и чопорные люди, которые обещают все, но не исполняют ничего!… Принесите мне приказ о совершении казни.
Дэвисон удалился, чтобы исполнить волю государыни; вернувшись назад с роковым документом, он нашел Елизавету значительно спокойнее прежнего.
— Положите бумагу туда, — сказала она, указывая на стол, — и пришлите мне человека, занявшего теперь место Кингтона.
Дэвисон ушел и послал за Пельдрамом.
Когда тот явился, то был, введен секретарем к Елизавете, которому она велела явиться через час.
Согласно придворному обычаю, вошедший Пельдрам остановился у дверей кабинета в согбенной позе, у него, должно быть, скребли на сердце кошки. Хотя на его совести не лежало ничего особенного, кроме убийства Кингтона, но кто не привык к близости венценосцев, тому редко бывает по себе в их присутствии.
Пельдрам полагал, что его станут допрашивать о недавних событиях на охоте, и приготовился отвечать так, как считал нужным и как было согласовано с Валингэмом.
Елизавета быстро ходила по комнате, как делал всегда в расстроенных чувствах, и время от времени бросала испытующие взгляды на полицейского.
— Сэр!… — начала она резким тоном, но не прибавила больше ни слова.
— Что прикажете, ваше величество? — отозвался Пельдрам, слегка приподняв голову.
— Сэр, — повторила Елизавета, — вы состоите уже довольно времени на службе, привыкли к ней и доказали свою пригодность. Вы — храбрец, я знаю, и не боитесь даже необычайного. На таких людей, как вы, можно положиться.
Королева замолкла.
Пельдрам поднял голову еще немного повыше, но явно недоумевал, что следует ему ответить на эту похвалу.
— Есть много людей, — продолжала Елизавета, — много слуг короны, которые хвалятся своей преданностью, но когда от них что-нибудь понадобится, то они отступают, прикрывая свою трусость пустыми рассуждениями. Но короне, стране, государству нужен смельчак, и я уверена, что нашла его в вашем лице.
— Распоряжайтесь мною, ваше величество, — сказал Пельдрам, — я готов повиноваться.
— Я не могу приказывать, сэр. Вы должны понять меня без приказания.
— Но… ваше величество… всемилостивейший намек…
— Да, разумеется, без этого нельзя, в этом вы правы. Существует замок Фосрингай, а в нем — женщина, которая приговорена к смерти. Закон осудил ее, приговор ей произнесен и может быть приведен в исполнение, но мне противно назначить его к исполнению.
— Ваше величество, вы вправе еще и теперь всемилостивейше отменить приговор!
— Конечно… Но мне одинаково неприятно и помиловать виновную.
Пельдрам выпучил глаза.
— Я думаю, — продолжила Елизавета, улыбнувшись при виде его изумления, — что вы поняли теперь, в чем дело. Народ хочет смерти Стюарт. Страна нуждается в этой развязке, Заключенная — слабая, больная старуха, изнывающая в долгом заточении. Если бы она умерла естественной смертью, у меня камень скатился бы с души.
— Ах, ваше величество!… — промолвил Пельдрам, тяжело вздыхая.
— Если бы комендант замка в один прекрасный день, в очень скором времени, доложил мне о смерти Стюарт, я была бы весьма признательна ему. Вы еще не получили, собственно, никакой награды за ваши значительные услуги. Что сказали бы вы, если бы я назначила вас комендантом Фосрингая?
— Ваше величество, такая высочайшая милость…
— Так вы признательны за нее? — оживилась Елизавета.
— Превосходно!… Вы понимаете меня? Значит, вы — комендант Фосрингая… Однако держите это пока в тайне.
Пельдрам низко поклонился.
— Я сейчас выдам вам полномочие.
Королева подсела к письменному столу и принялась писать.
Пельдрам сильно волновался. Раз он угадал желание королевы, для него уже было невозможно отклонить оказанную ему честь. Всякое уклонение грозило теперь гибелью. Пельдрам должен был согласиться, охотно ли он это сделал — вопрос другой. Обуревавшие его чувства довольно ясно отражались на его лице. На его лоб набежала туча, глаза потуплены в землю.
Елизавета очень скоро написала полномочие и приложила к нему печать, она приблизилась к Пельдраму и, подав ему это назначение вместе с туго набитым кошельком, сказала:
— Поезжайте сейчас! Доложите мне поскорее, как чувствует себя больная Стюарт; докладывайте мне об этом чаще. Ступайте.
Елизавета гордо отвернулась, сопроводив свои слова легким жестом руки.
Пельдрам на коленях принял от нее бумагу и деньги и поднялся, как в чаду. Не зная, следует ли ему поцеловать руку государыни, он не сделал этого.
Бывший конюх вышел из дворца комендантом Фосрингая.
После его ухода Елизавета села к столу и взяла принесенный ей Дэвисоном приговор. Она пробежала его глазами в опять положила на стол, потом снова взялась за него и перечитала вторично, долго раздумывала и наконец подписала роковой документ.
Дэвисон ожидал уже некоторое время ее приказания и вошел, когда ему подали знак. Он тотчас понял, что королева осталась довольна.
— Сэр, — почти весело начала она, — рыцарь Полэт не только несговорчив, но просто стар. Последний случай доказывает, что он уже не в состоянии как следует исправлять свою должность. Изготовьте приказ об его увольнении и отошлите ему сейчас же с примечанием, что его преемник вскоре прибудет в Фосрингай.
Дэвисон поклонился.
— Вот тут еще другой приказ, — небрежно продолжала Елизавета, — вы должны знать, как с ним поступить. Я не хочу больше ничего слышать об этом деле, запомните хорошенько!
Девисон взял приказ, взглянул на подпись и вздохнул.
С этим королева его и отпустила.
В течение дня Елизавета обнаруживала такую веселость, которой не замечали в ней уже много лет.
Дэвисон поспешно изготовил приказ Полэту и отправился с ним к Валингэму, захватив с собой и утвержденный приговор. Статс-секретарь улыбнулся.
— Следовательно, Полэт попал в немилость! — заметил он. — Хорошо, Дэвисон, но это ничего не значит. Должность все равно будет упразднена, когда все совершится. Поспешите же к моему зятю, я хочу осчастливить сэра Полэта. Старый мальчик еще очень может угодить королеве.
Валингэм, очевидно, не подозревал намерений Елизаветы.
Дэвисон явился к Бэрлею и представил ему утвержденный королевой приговор.
— Наконец-то! — воскликнул государственный казначей. — Это стоило немалого труда. Ну, а теперь мы свалим с плеч долой надоевшее дело!
— Государыня сказала, — заметил Дэвисон, — что я пойму сам, как поступить с этим документом. У меня, право, как-то неспокойно на душе!
— Глупости! Ваша обязанность передать мне документ, чем и кончается вся ваша причастность к делу! — возразил Бэрлей.
Дэвисон сообщил еще лорду об увольнении Полэта от должности и о назначении Пельдрама на его место.
Бэрлей не придал этому особой важности. Он снабдил приговор большой государственной печатью и отправил в Тайный совет.
Тот немедленно приступил к его обсуждению и наложил резолюцию: привести приговор в исполнение без дальнейшего доклада об этом королеве.
Бумага за подписью Бэрлея, Лейстера, Гэнедона, Ноллиса, Валингэма, Дэрби, Говарда, Кобгэма, Гэстона и Дэвисона уполномочивала графов Шрисбери и Кэнта распорядиться об исполнении смертного приговора над Марией Стюарт.

Глава двадцать восьмая
ОШИБКА В РАСЧЕТЕ

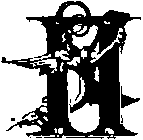 Посетить льва в его логовище было бы менее отчаянным риском для Дика Маттерна. Ему вздумалось собрать сведения о ненавистном сопернике и, основываясь на них, принять свои меры. Дик решил, что грозный полицейский, как и всякий обыкновенный смертный, проживет не два века и может потерять только однажды свою жизнь. Однако Дик для рискованного дела хотел воспользоваться чужими услугами.
Благодаря своему ремеслу оружейника он имел знакомства с людьми, занимающимися темным ремеслом.
Маттерн весьма скоро успел разведать в доме Пельдрама обо всем, что ему хотелось знать. Мало того, он нашел человека, который согласился за плату шпионить за директором полиции, с одним из слуг которого он был знаком.
После этого Дик отправился к людям, которые охотно брались за хорошее вознаграждение исполнить любую рискованную работу, и посвятил их в свой план.
Но у этих молодцов невольно вытянулись лица, когда они услышали, как зовут человека, которого им предлагали убить. Однако если бандиты и считали этого человека опасным, то, с другой стороны, они имели на него давнюю злобу. Поэтому согласились спровадить директора полиции на тот свет за сотню золотых.
Дик Маттерн не был бедняком. Оружейное ремесло приносило в те времена хорошие барыши, а он с самого начала откладывал свои заработки. Сто золотых были для него сущим пустяком и он согласился выплатить их.
Пельдрам, вернувшись домой с новым назначением в кармане, в сердцах разбранил своих слуг и стал собираться в дорогу. Во время переодевания он делал дальнейшие необходимые распоряжения. Только один слуга должен был сопровождать его, и этому человеку Пельдрам сообщил, куда и в какое время предстоит им отправиться. Этот лакей случайно оказался приятелем шпиона, нанятого Диком Маттерном.
Пельдраму было необходимо сделать прощальные визиты перед отъездом, и с этой целью он вышел из дома.
Бэрлей не принял его, узнав, что ему угодно. Лейстер был озадачен неожиданным распоряжением королевы. Впрочем, быстро успокоился, пользуясь случаем, изъявил Пельдраму свою благодарность за его умное поведение на охоте. Если бы он знал, что именно Пельдрам помог приезжему воровским манером облачиться в его ливрею, то, конечно, не подумал бы благодарить его.
Валингэм пожалел об удалении Пельдрама из столицы.
— Впрочем, — прибавил он, — эта история протянется недолго, и вскоре мы будем опять действовать вместе. Желаю вам здравствовать!
В семье Оллана Пельдрама приняли очень холодно, а потому он не засиделся долго.
Непродолжительного отсутствия Пельдрама было достаточно, чтобы его слуга успел уведомить шпиона, и тот поспешил с важной новостью к Дику.
Такой неожиданный поворот дела пришелся как нельзя кстати молодому оружейнику. Он тотчас побежал к своим бандитам, и они, не теряя времени, вскочили в седла и поспешили опередить указанную им жертву.
Когда Пельдрам выезжал из дома, Дик ждал в некотором отдалении, желая убедиться в его отъезде.
— Так тебе и надо! — пробормотал он и пошел прямо к Оллану сообщить ему, что с помощью черта уже на следующий день у Вилли не будет больше жениха, если она согласится отдать свою руку ему, Дику Паттерну.
— Тогда и посмотрим! — кивнул ему Оллан, и Дик ушел обнадеженный этим ответом.
Пельдрам, раздосадованный полученным поручением, тронулся в путь из Лондона на Кингсбери. В связи с поздним временем он не мог совершить целый дневной перегон, но ему все-таки хотелось подвинуться поближе к цели, и он усердно погонял свою лошадь.
В то время по дорогам Англии попадалось очень много одиноких постоялых дворов и гостиниц, некоторые из них служили как бы станциями, и путешественники охотно останавливались в них, чтобы расположиться на ночлег. Пельдрам знал, что только в этих домах можно достать все нужное для удобства и отдыха человека и лошади, начиная с корма и кончая уютным помещением.
Было уже поздно, когда Пельдрам достиг одного из этих постоялых дворов. В тот вечер на этом постоялом дворе не оказалось других приезжих. Только приблизительно за час до прибытия Пельдрама туда завернуло двое всадников на взмыленных конях, которые искали себе ночного приюта.
Усталые лошади были отведены в конюшню, а для путешественников стали готовить ужин. В ожидании его они обшарили весь дом, после чего пригласили хозяина посидеть с ними за столом.
Хозяин согласился исполнить желание приезжих.
— Знаете ли вы нас? — спросил один из них, как только они сели.
— Не имею чести, господа! — возразил хозяин.
— Ну, это легко сделать, — продолжал гость, — раз мы приехали сюда ночью, значит называйте нас людьми ночной поры или ночного тумана… Теперь понятно, кто мы?
— Так точно, почтенные господа, — торопливо ответил испугавшийся хозяин гостиницы.
— Тем лучше, — сказал гость. — Не будете ли вы однако любезны сделать нам некоторое одолжение?
— Распоряжайтесь мною, господа. Я весь к вашим услугам.
— Скоро сюда пожалует новый гость или — точнее — двое: господин и слуга!
— Ваши знакомые, наверно!
— И да, и нет… Впрочем, это — не ваше дело… Всыпьте вот этот порошок им в вино или в кушанье, поняли? Он дает только крепкий сон.
— Будет исполнено, сэр!
— Затем вы сами крепко заснете в эту ночь и не услышите ничего до тех пор, пока вас не позовут.
— За этим дело не станет, — с готовностью согласился хозяин, — я всегда сплю как убитый, наработавшись за день.
— Об остальном мы потолкуем завтра, — заключил приезжий, — теперь ступайте; так как вы нас узнали, то угрозы, думаю, уже излишни. Мы с товарищем ляжем спать.
Содержатель гостиницы поклонился и молча вышел из комнаты. Его бледное лицо, стеклянные глаза и дрожащие руки красноречиво объясняли его состояние после такого разговора.
Приезжие довольно быстро отужинали и удалились к себе в комнату.
Вскоре явился Пельдрам в сопровождении своего слуги и был принят хозяином. На нем была форма, тотчас узнанная содержателем гостиницы. Может быть, совесть хозяина успокоилась, когда он понял, что замыслы его первых гостей направлены против полицейского агента. Впрочем, он уже внушил своим домашним, как они должны держать себя ночью.
Лошади Пельдрама и его слуги были отведены в конюшню, после чего приезжим подали ужин. Только Пельдрам не приглашал хозяина разделить компанию.
После ужина он опять вынул из кармана полученную от королевы бумагу, чтобы прочесть ее чуть ли не в двадцатый раз. Его слугою овладела чудовищная зевота, которая передалась и Пельдраму; оба почувствовали непреодолимую усталость.
— Черт возьми, — пробормотал Пельдрам, — никак старость одолевает!… Или это от весеннего воздуха меня так клонит ко сну? — Он еще раз наполнил до краев стакан и осушил его залпом, оставшееся же в бутылке вино отдал своему слуге, после чего сказал: — Ну, теперь спать! Завтра мы должны ранехонько тронуться в путь. Проведай-ка еще напоследок наших лошадей!
Слуга, пошатываясь, вышел во двор. Пельдрам позвал хозяина и, спросив, где спальня, велел разбудить себя пораньше. У себя в комнате он проворно разделся и бросился в постель, и через минуту им уже овладел глубокий сон.
Слуга расположился в конюшне на соломе и заснул, вероятно, еще раньше своего господина. Обитатели дома также улеглись спать, и глубокая тишина водворилась как в доме, так и за его стенами. Стояла тихая ночь.
Между тем двое незнакомцев, прибывших ранее, не спали, хотя и потушили у себя огонь. Спокойно и почти неподвижно сидели они на стульях в ожидании. Когда все стихло, они зажгли свечу, осмотрели свое оружие и потихоньку отправились в комнату, занятую Пельдрамом.
Тот лежал, не шевелясь, погруженный в крепкий сон; его шпага и пистолеты были рядом.
Вошедшие злодеи осмотрели мельком комнату, поставили свечу на стол, приблизились к постели спящего и наклонились над ним. Их руки потянулись к его шее и сдавили ее. Пельдрам застонал и стал сопротивляться во сне, однако его сопротивление скоро ослабело, наконец он судорожно вытянулся и перестал хрипеть. Когда бандиты отпустили руки, задушенный лежал неподвижно с остановившимися выпученными глазами. Ужасное дело совершилось почти без всякого шума.
Убийцы положили платье и оружие Пельдрама возле него, взяли себе его кошелек и драгоценности, бывшие при нем, остальное же вместе с трупом своей жертвы завернули в простыню. С помощью веревок они упаковали все в плотный тюк, после чего налегке спустились на нижний этаж дома и осторожно постучались в дверь хозяйской спальни.
— Вы можете проснуться — прошептал один из бандитов. — Выйдите к нам, любезный, мы должны потолковать с вами.
— Сию минуту! — засуетился хозяин и вышел, закутанный в теплую шубу, к своим гостям.
— Фонарь! — было первое слово, с которым обратились к нему в сенях.
Хозяин отыскал фонарь, и один из убийц, взяв его, отправился во двор, а другой тем временем стал расплачиваться с содержателем гостиницы за угощенье, поданное накануне ему с товарищем и Пельдраму с его слугой. Разумеется, расплата производилась деньгами убитого. Кроме того, постоялец заплатил и за простыню, понадобившуюся им. Хозяин взял деньги с почтением, скрывая им свой страх.
— Теперь слушайте! — сказал бандит. — Ложитесь сейчас в постель, не подсматривая за нами!… Завтра, когда проснется слуга, вы сообщите этому болвану, что его господин уехал один, а ему приказал возвратиться в Лондон.
— Будет исполнено, сэр!
— Больше ничего не нужно…
Хозяин беспрекословно убрался к себе в спальню, оттуда было слышно, как лошадей выводили со двора и подали к крыльцу. Заслышав стук их копыт, один из бандитов, оставшийся в доме, поднялся в верхний этаж и, вскоре вернувшись назад с упакованным трупом, вынес его на крыльцо. Тут стоял другой со своими лошадьми и с лошадью Пельдрама. На нее навьючили труп, после чего, предусмотрительно погасив фонарь, убийцы прыгнули в седла и поскакали во всю прыть.
На другой день слуга Пельдрама проснулся довольно поздно, и хотя приказ и решение его господина показались ему странными он не мог усомниться в их подлинности, тем более, что хозяину было уплачено сполна за постой и угощение. Он снарядился в дорогу и поехал обратно в Лондон.
Так исчез Пельдрам, грозный директор полиции, исчез почти бесследно. Когда стали производить розыск, многие решили, что он скрылся добровольно.
Что касается Дика Маттерна, то он снова поступил мастером к Оллану, стал женихом прекрасной Вилли и готовился стать ее мужем, но как раз накануне свадьбы имел несчастье утонуть в волнах Темзы. Был ли причастен к этому делу Оллан, как будущий тесть, — трудно сказать. Вилли впоследствии вышла замуж также за оружейника, который сделался компаньоном ее отца и продолжал добросовестно вести его дело. Но все эти события произошли намного позже.
Елизавета долго была уверена, что ее уполномоченный Пельдрам находится в Фосрингае. Так как она не хотела ничего больше слышать о деле Марии Стюарт, то, естественно, не слышала также и о тюремщике шотландской королевы.
Чтобы предупредить возможную перемену в намерениях королевы, члены Тайного совета спешили выполнить приказ королевы.
Посетить льва в его логовище было бы менее отчаянным риском для Дика Маттерна. Ему вздумалось собрать сведения о ненавистном сопернике и, основываясь на них, принять свои меры. Дик решил, что грозный полицейский, как и всякий обыкновенный смертный, проживет не два века и может потерять только однажды свою жизнь. Однако Дик для рискованного дела хотел воспользоваться чужими услугами.
Благодаря своему ремеслу оружейника он имел знакомства с людьми, занимающимися темным ремеслом.
Маттерн весьма скоро успел разведать в доме Пельдрама обо всем, что ему хотелось знать. Мало того, он нашел человека, который согласился за плату шпионить за директором полиции, с одним из слуг которого он был знаком.
После этого Дик отправился к людям, которые охотно брались за хорошее вознаграждение исполнить любую рискованную работу, и посвятил их в свой план.
Но у этих молодцов невольно вытянулись лица, когда они услышали, как зовут человека, которого им предлагали убить. Однако если бандиты и считали этого человека опасным, то, с другой стороны, они имели на него давнюю злобу. Поэтому согласились спровадить директора полиции на тот свет за сотню золотых.
Дик Маттерн не был бедняком. Оружейное ремесло приносило в те времена хорошие барыши, а он с самого начала откладывал свои заработки. Сто золотых были для него сущим пустяком и он согласился выплатить их.
Пельдрам, вернувшись домой с новым назначением в кармане, в сердцах разбранил своих слуг и стал собираться в дорогу. Во время переодевания он делал дальнейшие необходимые распоряжения. Только один слуга должен был сопровождать его, и этому человеку Пельдрам сообщил, куда и в какое время предстоит им отправиться. Этот лакей случайно оказался приятелем шпиона, нанятого Диком Маттерном.
Пельдраму было необходимо сделать прощальные визиты перед отъездом, и с этой целью он вышел из дома.
Бэрлей не принял его, узнав, что ему угодно. Лейстер был озадачен неожиданным распоряжением королевы. Впрочем, быстро успокоился, пользуясь случаем, изъявил Пельдраму свою благодарность за его умное поведение на охоте. Если бы он знал, что именно Пельдрам помог приезжему воровским манером облачиться в его ливрею, то, конечно, не подумал бы благодарить его.
Валингэм пожалел об удалении Пельдрама из столицы.
— Впрочем, — прибавил он, — эта история протянется недолго, и вскоре мы будем опять действовать вместе. Желаю вам здравствовать!
В семье Оллана Пельдрама приняли очень холодно, а потому он не засиделся долго.
Непродолжительного отсутствия Пельдрама было достаточно, чтобы его слуга успел уведомить шпиона, и тот поспешил с важной новостью к Дику.
Такой неожиданный поворот дела пришелся как нельзя кстати молодому оружейнику. Он тотчас побежал к своим бандитам, и они, не теряя времени, вскочили в седла и поспешили опередить указанную им жертву.
Когда Пельдрам выезжал из дома, Дик ждал в некотором отдалении, желая убедиться в его отъезде.
— Так тебе и надо! — пробормотал он и пошел прямо к Оллану сообщить ему, что с помощью черта уже на следующий день у Вилли не будет больше жениха, если она согласится отдать свою руку ему, Дику Паттерну.
— Тогда и посмотрим! — кивнул ему Оллан, и Дик ушел обнадеженный этим ответом.
Пельдрам, раздосадованный полученным поручением, тронулся в путь из Лондона на Кингсбери. В связи с поздним временем он не мог совершить целый дневной перегон, но ему все-таки хотелось подвинуться поближе к цели, и он усердно погонял свою лошадь.
В то время по дорогам Англии попадалось очень много одиноких постоялых дворов и гостиниц, некоторые из них служили как бы станциями, и путешественники охотно останавливались в них, чтобы расположиться на ночлег. Пельдрам знал, что только в этих домах можно достать все нужное для удобства и отдыха человека и лошади, начиная с корма и кончая уютным помещением.
Было уже поздно, когда Пельдрам достиг одного из этих постоялых дворов. В тот вечер на этом постоялом дворе не оказалось других приезжих. Только приблизительно за час до прибытия Пельдрама туда завернуло двое всадников на взмыленных конях, которые искали себе ночного приюта.
Усталые лошади были отведены в конюшню, а для путешественников стали готовить ужин. В ожидании его они обшарили весь дом, после чего пригласили хозяина посидеть с ними за столом.
Хозяин согласился исполнить желание приезжих.
— Знаете ли вы нас? — спросил один из них, как только они сели.
— Не имею чести, господа! — возразил хозяин.
— Ну, это легко сделать, — продолжал гость, — раз мы приехали сюда ночью, значит называйте нас людьми ночной поры или ночного тумана… Теперь понятно, кто мы?
— Так точно, почтенные господа, — торопливо ответил испугавшийся хозяин гостиницы.
— Тем лучше, — сказал гость. — Не будете ли вы однако любезны сделать нам некоторое одолжение?
— Распоряжайтесь мною, господа. Я весь к вашим услугам.
— Скоро сюда пожалует новый гость или — точнее — двое: господин и слуга!
— Ваши знакомые, наверно!
— И да, и нет… Впрочем, это — не ваше дело… Всыпьте вот этот порошок им в вино или в кушанье, поняли? Он дает только крепкий сон.
— Будет исполнено, сэр!
— Затем вы сами крепко заснете в эту ночь и не услышите ничего до тех пор, пока вас не позовут.
— За этим дело не станет, — с готовностью согласился хозяин, — я всегда сплю как убитый, наработавшись за день.
— Об остальном мы потолкуем завтра, — заключил приезжий, — теперь ступайте; так как вы нас узнали, то угрозы, думаю, уже излишни. Мы с товарищем ляжем спать.
Содержатель гостиницы поклонился и молча вышел из комнаты. Его бледное лицо, стеклянные глаза и дрожащие руки красноречиво объясняли его состояние после такого разговора.
Приезжие довольно быстро отужинали и удалились к себе в комнату.
Вскоре явился Пельдрам в сопровождении своего слуги и был принят хозяином. На нем была форма, тотчас узнанная содержателем гостиницы. Может быть, совесть хозяина успокоилась, когда он понял, что замыслы его первых гостей направлены против полицейского агента. Впрочем, он уже внушил своим домашним, как они должны держать себя ночью.
Лошади Пельдрама и его слуги были отведены в конюшню, после чего приезжим подали ужин. Только Пельдрам не приглашал хозяина разделить компанию.
После ужина он опять вынул из кармана полученную от королевы бумагу, чтобы прочесть ее чуть ли не в двадцатый раз. Его слугою овладела чудовищная зевота, которая передалась и Пельдраму; оба почувствовали непреодолимую усталость.
— Черт возьми, — пробормотал Пельдрам, — никак старость одолевает!… Или это от весеннего воздуха меня так клонит ко сну? — Он еще раз наполнил до краев стакан и осушил его залпом, оставшееся же в бутылке вино отдал своему слуге, после чего сказал: — Ну, теперь спать! Завтра мы должны ранехонько тронуться в путь. Проведай-ка еще напоследок наших лошадей!
Слуга, пошатываясь, вышел во двор. Пельдрам позвал хозяина и, спросив, где спальня, велел разбудить себя пораньше. У себя в комнате он проворно разделся и бросился в постель, и через минуту им уже овладел глубокий сон.
Слуга расположился в конюшне на соломе и заснул, вероятно, еще раньше своего господина. Обитатели дома также улеглись спать, и глубокая тишина водворилась как в доме, так и за его стенами. Стояла тихая ночь.
Между тем двое незнакомцев, прибывших ранее, не спали, хотя и потушили у себя огонь. Спокойно и почти неподвижно сидели они на стульях в ожидании. Когда все стихло, они зажгли свечу, осмотрели свое оружие и потихоньку отправились в комнату, занятую Пельдрамом.
Тот лежал, не шевелясь, погруженный в крепкий сон; его шпага и пистолеты были рядом.
Вошедшие злодеи осмотрели мельком комнату, поставили свечу на стол, приблизились к постели спящего и наклонились над ним. Их руки потянулись к его шее и сдавили ее. Пельдрам застонал и стал сопротивляться во сне, однако его сопротивление скоро ослабело, наконец он судорожно вытянулся и перестал хрипеть. Когда бандиты отпустили руки, задушенный лежал неподвижно с остановившимися выпученными глазами. Ужасное дело совершилось почти без всякого шума.
Убийцы положили платье и оружие Пельдрама возле него, взяли себе его кошелек и драгоценности, бывшие при нем, остальное же вместе с трупом своей жертвы завернули в простыню. С помощью веревок они упаковали все в плотный тюк, после чего налегке спустились на нижний этаж дома и осторожно постучались в дверь хозяйской спальни.
— Вы можете проснуться — прошептал один из бандитов. — Выйдите к нам, любезный, мы должны потолковать с вами.
— Сию минуту! — засуетился хозяин и вышел, закутанный в теплую шубу, к своим гостям.
— Фонарь! — было первое слово, с которым обратились к нему в сенях.
Хозяин отыскал фонарь, и один из убийц, взяв его, отправился во двор, а другой тем временем стал расплачиваться с содержателем гостиницы за угощенье, поданное накануне ему с товарищем и Пельдраму с его слугой. Разумеется, расплата производилась деньгами убитого. Кроме того, постоялец заплатил и за простыню, понадобившуюся им. Хозяин взял деньги с почтением, скрывая им свой страх.
— Теперь слушайте! — сказал бандит. — Ложитесь сейчас в постель, не подсматривая за нами!… Завтра, когда проснется слуга, вы сообщите этому болвану, что его господин уехал один, а ему приказал возвратиться в Лондон.
— Будет исполнено, сэр!
— Больше ничего не нужно…
Хозяин беспрекословно убрался к себе в спальню, оттуда было слышно, как лошадей выводили со двора и подали к крыльцу. Заслышав стук их копыт, один из бандитов, оставшийся в доме, поднялся в верхний этаж и, вскоре вернувшись назад с упакованным трупом, вынес его на крыльцо. Тут стоял другой со своими лошадьми и с лошадью Пельдрама. На нее навьючили труп, после чего, предусмотрительно погасив фонарь, убийцы прыгнули в седла и поскакали во всю прыть.
На другой день слуга Пельдрама проснулся довольно поздно, и хотя приказ и решение его господина показались ему странными он не мог усомниться в их подлинности, тем более, что хозяину было уплачено сполна за постой и угощение. Он снарядился в дорогу и поехал обратно в Лондон.
Так исчез Пельдрам, грозный директор полиции, исчез почти бесследно. Когда стали производить розыск, многие решили, что он скрылся добровольно.
Что касается Дика Маттерна, то он снова поступил мастером к Оллану, стал женихом прекрасной Вилли и готовился стать ее мужем, но как раз накануне свадьбы имел несчастье утонуть в волнах Темзы. Был ли причастен к этому делу Оллан, как будущий тесть, — трудно сказать. Вилли впоследствии вышла замуж также за оружейника, который сделался компаньоном ее отца и продолжал добросовестно вести его дело. Но все эти события произошли намного позже.
Елизавета долго была уверена, что ее уполномоченный Пельдрам находится в Фосрингае. Так как она не хотела ничего больше слышать о деле Марии Стюарт, то, естественно, не слышала также и о тюремщике шотландской королевы.
Чтобы предупредить возможную перемену в намерениях королевы, члены Тайного совета спешили выполнить приказ королевы.

Глава двадцать девятая
ЭШАФОТ

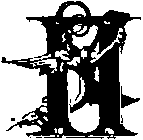 Поздно вечером 7 февраля 1587 года оба графа, на которых было возложено исполнение смертного приговора, двое лиц судебного ведомства и слуги при замке вышли от Марии Стюарт, объявив ей:
— Завтра, около восьми часов утра!
А в это время уже гулко гремели топоры плотников, которые сколачивали эшафот в парадном зале замка.
Слуги Марии бросились к ней с громким плачем, хотя они не могли слышать все, что происходило между королевой и уполномоченными правительства, однако поняли, что произошло.
— Не плачьте, друзья мои, — сказала Мария, — не отравляйте мне последние часы жизни. Ступайте, позаботьтесь лучше о моем ужине.
Вскоре скудный ужин королевы был готов. Сели за стол.
— Бургоэн, — сказала Мария своему врачу, — вы можете прислуживать мне, остальные пусть остаются здесь.
Королева поела очень немного.
— Слышали ли вы, — спросила она Бургоэна, — что граф Кент вздумал поучать меня, чтобы обратить в свою веру?
— К сожалению, мне пришлось слышать это, ваше величество!
— Успокойтесь, мой друг, для моего обращения нужен человек науки, а не этот неуч.
— Однако с вами обошлись возмутительно грубо, ваше величество!
Мария улыбнулась.
— Неужели это удивило вас? — спокойно возразила она.
— Эти прихвостни сделали бы то же самое с моей неприятельницей, если бы наши роли поменялись. Налейте мне немного вина в бокал!
Бургоэн исполнил это приказание.
— Подойдите ближе! — обратилась Мария к своим слугам. — Я пью за ваше благополучие. Может быть, этот тост умирающей будет услышан небом.
Люди бросились на колени, многие плакали навзрыд.
— Пожалуй, иногда я была к вам несправедлива, — продолжала королева, — тогда простите меня. Я же довольна всеми вами. Не отступайте и после моей смерти от католической религии, как единственно истинной, а теперь дайте мне немного отдохнуть, чтобы я могла сделать свои последние распоряжения.
Слуги неслышно удалились, Мария осталась одна.
Несколько лет назад она уже составила обширное завещание, теперь же написала краткое добавление к нему. В этом предсмертном завещании заключались только распоряжения, касавшиеся ее личного имущества, и были назначены суммы для выдачи ее слугам. После этого королева написала письмо королю Франции Генриху, поручая ему уплату денежных сумм, бывших в ее распоряжении. Кроме того, ею было написано еще несколько писем. За этой работой Мария Стюарт просидела до двух часов ночи.
Позвав опять слуг, она объявила им, что не хочет больше заниматься земными делами и хочет устремить все свои помыслы к Богу. Она послала записку своему духовнику, находившемуся также в замке, но разлученному с ней, прося его молиться за нее. Затем она убрала в шкатулку свое завещание и письма к королю Генриху и другим лицам, разделила между прислугой принадлежавшие ей драгоценности и деньги и попросила почитать ей вслух из «Жития святых».
Старая нянька Марии выбрала историю несчастного разбойника.
— Постой, добрая Кеннэди! — воскликнула Мария Стюарт на одном месте, где описывались страдания разбойника.
— Он был великий грешник, но все-таки меньше моего, и я молю Господа, в память Его страданий, помиловать меня, как Он помиловал разбойника в последний час его жизни.
Чувствуя себя утомленной и боясь совершенно обессилеть веред своим последним тяжким путем, королева легла наконец в постель. Однако ей не спалось, служанки видели, что несчастная королева шевелила губами, молясь про себя. При наступлении утра она поспешила встать.
— Еще два недолгих часа, — с улыбкой сказала обреченная, — и земная плачевная юдоль останется позади меня. Помогите мне, мои верные слуги, нарядиться для моего последнего пути.
Она велела подать ей драгоценное платье и все принадлежности дамского туалета, служившие для большого парада, а для повязки на глаза выбрала носовой платок с золотой бахромой.
Когда ее одели, Мария опять оделила свою прислугу мелкими подарками, ничто в ее внешности не указывало в ту минуту на близость рокового удара, от которого ей предстояло погибнуть. После этого она прошла в свою молельню, опустилась на колени перед поставленным здесь маленьким алтарем и стала читать себе отходные молитвы.
Не успела она еще окончить их, как в дверь комнаты постучали, давая ей знать, что последний час настал.
— Скажите этим господам, — ответила Мария, — что я сейчас выйду.
Ответ был передан стучавшимся, но через несколько минут повторился, и дверь наконец была отперта.
В нее вошел местный шериф с маленьким белым жезлом в руке, он приблизился вплотную к Марии, которая, впрочем, как будто не замечала его, и сказал ей:
— Миледи, лорды ожидают вас, они послали меня за вами.
— Хорошо, — ответила королева, поднимаясь с колен, — пойдемте!
Когда она собиралась выйти из комнаты, к ней подошел Бургоэн с маленьким Распятием из слоновой кости. Осужденная благоговейно приложилась к нему и велела нести его перед собой.
Мария могла сделать лишь несколько шагов без посторонней помощи из-за болезни ног, поэтому двое слуг поддерживали ее с обеих сторон.
Они довели королеву до последней комнаты, примыкавшей к залу, и стали просить, чтобы их отпустили, так как они не хотели вести свою государыню на смерть. Мария улыбнулась с довольным видом и промолвила:
— Благодарю вас, друзья мои! Будьте уверены, что на это найдутся другие желающие.
Двое слуг Полэта подошли им на смену, и печальное шествие направилось в зал.
У лестницы, которая вела к нему, осужденная столкнулась с Шрисбери и Кентом.
— Эй, вы, назад! — грубо крикнул граф Шрисбери слугам королевы. — Не смейте ходить дальше!
Люди подняли крик и плач. Но так как это не помогало и граф настаивал на том, что никто не смеет входить в зал, кроме заранее назначенных лиц, то несчастные слуги Марии Стюарт бросились на колени и стали целовать руки и платье Марии.
После этой тяжелой сцены она вступила в зал казни, взяв в одну руку Распятие, а в другую молитвенник.
В зале перед ней предстал Мелвил, которому позволили проститься с ней здесь. Он опустился на колени и дал полную волю своей сердечной скорби.
Мария, обняв его, сказала:
— Ты всегда оставался верен мне, и я благодарю тебя за это! Вот тебе мое последнее поручение: сообщи подробно моему сыну о моей смерти; я знаю, ты сделаешь это!
— Какая печальная обязанность для меня! — промолвил Мелвил. — Бог знает, хватит ли у меня сил исполнить ее!
Мария ответила ему довольно длинной речью, которая не прерывалась шерифом. Потом она, обратившись к Кенту, сказала:
— Милорд, я желаю, чтобы мой секретарь Кэрлей был помилован. Его смерть не может принести пользу никому. Далее я прошу, чтобы служившие при мне женщины были допущены сюда и могли присутствовать при моей смерти.
— Это противно обычаю, — возразил граф Кент. — Женщины легко могут поднять крик при столь важном деле.
— Не думаю, — ответила Мария, — бедные создания будут рады, если им позволят видеть меня в последнюю минуту.
Она говорила еще долго, желая достичь своей цели, и графы посовещавшись, разрешили четверым слугам и двум служанкам Марии войти в зал.
Тогда королева выбрала из своего штата ее врача Бургоэна, аптекаря Горвина, хирурга Жервэ и еще одного человека по имени Дидье, а из женщин — Кеннэди, а также секретарь Кэрлей. Их впустили в зал, и осужденная попросила их смотреть молча на то, что будет здесь происходить.
Затем Мария поднялась на эшафот. Мелвил нес шлейф ее платья. Оно было из алого бархата с черным атласным корсажем. Плечи покрывала атласная накидка, опушенная соболем. На шее был высокий воротник, к волосам приколота вуаль.
Воздвигнутый в зале эшафот был в два с половиной фута высоты и представлял собой квадрат, стороны которого имели двенадцать футов длины. Он был обтянут черным фризом, как и сиденье на нем, плаха и подушка перед ней.
Мария, нимало не изменившись в лице, вступила на роковой помост и заняла место на приготовленном для нее сиденье. Справа от него помещались графы Шрисбери и Кент, слева — шериф, напротив — два палача в черной бархатной одежде. Поодаль от эшафота, у стены, было указано место служителям Марии; перила отделяли эшафот от остального пространства зала, которое занимали двести дворян и местных жителей. Кроме них тут же выстроилась военная команда Полэта.
Когда все было готово, Биэль стал читать вслух приговор. Мария слушала молча, не обнаруживая волнения и не шевелясь. Лишь когда Биэль умолк, она перекрестилась.
— Милорд, — начала тогда осужденная, — я — королева по праву рождения, владетельная особа, неподвластная законам; я прихожусь близкой родственницей английской королеве и состою ее законной наследницей. Долгое время, наперекор всякой справедливости, держали меня в этой стране в заточении, где я подвергалась всевозможным бедствиям и страданиям, хотя никто не имел права лишать меня свободы. Теперь, когда человеческой властью и произволом приближается конец моей жизни, я благодарю Бога за то, что Он сподобил меня умереть за мою веру. Я умру перед собранием, которое будет свидетелем того, как я, даже перед лицом смерти, защищала себя — что делала постоянно, частным образом и публично — от несправедливого нарекания в том, будто я придумывала способы погубить королеву Елизавету или одобряла покушение на ее особу. Ненависть к ней никогда не руководила моими поступками, и, домогаясь своей свободы, я всегда предлагала самые действенные средства для умиротворения Англии и защиты ее от политических бурь.
Чиновники оставили речь Марии без ответа, и она начала молиться. При этом зрелище приведенный обоими графами протестантский пастор, декан Питерборо, доктор богословия Флетчер подошел к Марии.
— Миледи, — сказал он, — королева, моя высокая повелительница, прислала меня к вам.
— Я не колеблюсь в католической вере, — ответила Мария, — и приготовилась пролить за нее кровь.
Однако фанатик-пастор пытался обратить осужденную на путь своей истины, склонить ее к чистосердечному раскаянию и сокрушению о грехах. Мария была наконец вынуждена заставить его замолчать.
Между тем в их пререкания вступили оба графа, что едва не повело к ожесточенному богословскому спору. Но он был прекращен самим деканом, который принялся громко читать отходную. Мария читала вслух латинские покаянные псалмы.
Шрисбери сделал презрительное замечание, на что королева ответила коротко, но решительно и продолжала молиться, чтобы в заключение передать свою душу Христу. Наконец она поднялась с колен, и палачи приблизились к ней.
Однако Мария велела им отступить и подозвала своих служанок, чтобы с их помощью раздеться. Когда ее голова, шея и плечи были обнажены, она еще нашла в себе силы утешить плачущих женщин и, отпустив их села на табурет. Палач на коленях просил у нее прощения за то, что должен совершить, и Мария простила ему, как и всем, наносившим ей обиды. Затем она опустилась на колени перед сиденьем. Палачи придали правильное положение ее голове, склоненной на плаху, и, пока Мария молилась, последовал первый удар топора, пришедшийся вместо шеи по затылку. Лишь при втором ударе голова Марии Стюарт скатилась с ее царственных плеч.
Шериф поднял ее кверху и торжественно возгласил, озираясь кругом:
— Боже, храни королеву Елизавету!
— Пусть все ее враги погибнут таким же образом! — подхватил пастор Флетчер.
— Аминь! — прибавил Кент.
Итак, Мария Стюарт, королева Шотландии, злая тень Елизаветы, пятно на ее величии, перестала существовать.
Обезглавленный труп казненной был завернут в черное сукно. Ее драгоценности и платья сожгли, а следы ее пролитой крови уничтожили.
Любимую собачку Марии, незаметно проскользнувшую на место казни, никак не могли отогнать от ее бренных останков.
Замок Фосрингай оставался запертым, пока не было написано сообщение о совершении казни. Отправленный с ним гонец прибыл 8 февраля 1587 года в Гринвич. После полудня того же числа слух о казни шотландской королевы распространился в Лондоне, где снова ударили во все колокола, зажгли иллюминацию и стали пускать фейерверки.
Так кончилась жизнь многострадальной некогда дивно прекрасной королевы Шотландии. Судьба жестоко насмеялась над этим дивным цветком красоты, который, казалось, создан был лишь для наслаждения, но память о нем останется вечной в мире.
Поздно вечером 7 февраля 1587 года оба графа, на которых было возложено исполнение смертного приговора, двое лиц судебного ведомства и слуги при замке вышли от Марии Стюарт, объявив ей:
— Завтра, около восьми часов утра!
А в это время уже гулко гремели топоры плотников, которые сколачивали эшафот в парадном зале замка.
Слуги Марии бросились к ней с громким плачем, хотя они не могли слышать все, что происходило между королевой и уполномоченными правительства, однако поняли, что произошло.
— Не плачьте, друзья мои, — сказала Мария, — не отравляйте мне последние часы жизни. Ступайте, позаботьтесь лучше о моем ужине.
Вскоре скудный ужин королевы был готов. Сели за стол.
— Бургоэн, — сказала Мария своему врачу, — вы можете прислуживать мне, остальные пусть остаются здесь.
Королева поела очень немного.
— Слышали ли вы, — спросила она Бургоэна, — что граф Кент вздумал поучать меня, чтобы обратить в свою веру?
— К сожалению, мне пришлось слышать это, ваше величество!
— Успокойтесь, мой друг, для моего обращения нужен человек науки, а не этот неуч.
— Однако с вами обошлись возмутительно грубо, ваше величество!
Мария улыбнулась.
— Неужели это удивило вас? — спокойно возразила она.
— Эти прихвостни сделали бы то же самое с моей неприятельницей, если бы наши роли поменялись. Налейте мне немного вина в бокал!
Бургоэн исполнил это приказание.
— Подойдите ближе! — обратилась Мария к своим слугам. — Я пью за ваше благополучие. Может быть, этот тост умирающей будет услышан небом.
Люди бросились на колени, многие плакали навзрыд.
— Пожалуй, иногда я была к вам несправедлива, — продолжала королева, — тогда простите меня. Я же довольна всеми вами. Не отступайте и после моей смерти от католической религии, как единственно истинной, а теперь дайте мне немного отдохнуть, чтобы я могла сделать свои последние распоряжения.
Слуги неслышно удалились, Мария осталась одна.
Несколько лет назад она уже составила обширное завещание, теперь же написала краткое добавление к нему. В этом предсмертном завещании заключались только распоряжения, касавшиеся ее личного имущества, и были назначены суммы для выдачи ее слугам. После этого королева написала письмо королю Франции Генриху, поручая ему уплату денежных сумм, бывших в ее распоряжении. Кроме того, ею было написано еще несколько писем. За этой работой Мария Стюарт просидела до двух часов ночи.
Позвав опять слуг, она объявила им, что не хочет больше заниматься земными делами и хочет устремить все свои помыслы к Богу. Она послала записку своему духовнику, находившемуся также в замке, но разлученному с ней, прося его молиться за нее. Затем она убрала в шкатулку свое завещание и письма к королю Генриху и другим лицам, разделила между прислугой принадлежавшие ей драгоценности и деньги и попросила почитать ей вслух из «Жития святых».
Старая нянька Марии выбрала историю несчастного разбойника.
— Постой, добрая Кеннэди! — воскликнула Мария Стюарт на одном месте, где описывались страдания разбойника.
— Он был великий грешник, но все-таки меньше моего, и я молю Господа, в память Его страданий, помиловать меня, как Он помиловал разбойника в последний час его жизни.
Чувствуя себя утомленной и боясь совершенно обессилеть веред своим последним тяжким путем, королева легла наконец в постель. Однако ей не спалось, служанки видели, что несчастная королева шевелила губами, молясь про себя. При наступлении утра она поспешила встать.
— Еще два недолгих часа, — с улыбкой сказала обреченная, — и земная плачевная юдоль останется позади меня. Помогите мне, мои верные слуги, нарядиться для моего последнего пути.
Она велела подать ей драгоценное платье и все принадлежности дамского туалета, служившие для большого парада, а для повязки на глаза выбрала носовой платок с золотой бахромой.
Когда ее одели, Мария опять оделила свою прислугу мелкими подарками, ничто в ее внешности не указывало в ту минуту на близость рокового удара, от которого ей предстояло погибнуть. После этого она прошла в свою молельню, опустилась на колени перед поставленным здесь маленьким алтарем и стала читать себе отходные молитвы.
Не успела она еще окончить их, как в дверь комнаты постучали, давая ей знать, что последний час настал.
— Скажите этим господам, — ответила Мария, — что я сейчас выйду.
Ответ был передан стучавшимся, но через несколько минут повторился, и дверь наконец была отперта.
В нее вошел местный шериф с маленьким белым жезлом в руке, он приблизился вплотную к Марии, которая, впрочем, как будто не замечала его, и сказал ей:
— Миледи, лорды ожидают вас, они послали меня за вами.
— Хорошо, — ответила королева, поднимаясь с колен, — пойдемте!
Когда она собиралась выйти из комнаты, к ней подошел Бургоэн с маленьким Распятием из слоновой кости. Осужденная благоговейно приложилась к нему и велела нести его перед собой.
Мария могла сделать лишь несколько шагов без посторонней помощи из-за болезни ног, поэтому двое слуг поддерживали ее с обеих сторон.
Они довели королеву до последней комнаты, примыкавшей к залу, и стали просить, чтобы их отпустили, так как они не хотели вести свою государыню на смерть. Мария улыбнулась с довольным видом и промолвила:
— Благодарю вас, друзья мои! Будьте уверены, что на это найдутся другие желающие.
Двое слуг Полэта подошли им на смену, и печальное шествие направилось в зал.
У лестницы, которая вела к нему, осужденная столкнулась с Шрисбери и Кентом.
— Эй, вы, назад! — грубо крикнул граф Шрисбери слугам королевы. — Не смейте ходить дальше!
Люди подняли крик и плач. Но так как это не помогало и граф настаивал на том, что никто не смеет входить в зал, кроме заранее назначенных лиц, то несчастные слуги Марии Стюарт бросились на колени и стали целовать руки и платье Марии.
После этой тяжелой сцены она вступила в зал казни, взяв в одну руку Распятие, а в другую молитвенник.
В зале перед ней предстал Мелвил, которому позволили проститься с ней здесь. Он опустился на колени и дал полную волю своей сердечной скорби.
Мария, обняв его, сказала:
— Ты всегда оставался верен мне, и я благодарю тебя за это! Вот тебе мое последнее поручение: сообщи подробно моему сыну о моей смерти; я знаю, ты сделаешь это!
— Какая печальная обязанность для меня! — промолвил Мелвил. — Бог знает, хватит ли у меня сил исполнить ее!
Мария ответила ему довольно длинной речью, которая не прерывалась шерифом. Потом она, обратившись к Кенту, сказала:
— Милорд, я желаю, чтобы мой секретарь Кэрлей был помилован. Его смерть не может принести пользу никому. Далее я прошу, чтобы служившие при мне женщины были допущены сюда и могли присутствовать при моей смерти.
— Это противно обычаю, — возразил граф Кент. — Женщины легко могут поднять крик при столь важном деле.
— Не думаю, — ответила Мария, — бедные создания будут рады, если им позволят видеть меня в последнюю минуту.
Она говорила еще долго, желая достичь своей цели, и графы посовещавшись, разрешили четверым слугам и двум служанкам Марии войти в зал.
Тогда королева выбрала из своего штата ее врача Бургоэна, аптекаря Горвина, хирурга Жервэ и еще одного человека по имени Дидье, а из женщин — Кеннэди, а также секретарь Кэрлей. Их впустили в зал, и осужденная попросила их смотреть молча на то, что будет здесь происходить.
Затем Мария поднялась на эшафот. Мелвил нес шлейф ее платья. Оно было из алого бархата с черным атласным корсажем. Плечи покрывала атласная накидка, опушенная соболем. На шее был высокий воротник, к волосам приколота вуаль.
Воздвигнутый в зале эшафот был в два с половиной фута высоты и представлял собой квадрат, стороны которого имели двенадцать футов длины. Он был обтянут черным фризом, как и сиденье на нем, плаха и подушка перед ней.
Мария, нимало не изменившись в лице, вступила на роковой помост и заняла место на приготовленном для нее сиденье. Справа от него помещались графы Шрисбери и Кент, слева — шериф, напротив — два палача в черной бархатной одежде. Поодаль от эшафота, у стены, было указано место служителям Марии; перила отделяли эшафот от остального пространства зала, которое занимали двести дворян и местных жителей. Кроме них тут же выстроилась военная команда Полэта.
Когда все было готово, Биэль стал читать вслух приговор. Мария слушала молча, не обнаруживая волнения и не шевелясь. Лишь когда Биэль умолк, она перекрестилась.
— Милорд, — начала тогда осужденная, — я — королева по праву рождения, владетельная особа, неподвластная законам; я прихожусь близкой родственницей английской королеве и состою ее законной наследницей. Долгое время, наперекор всякой справедливости, держали меня в этой стране в заточении, где я подвергалась всевозможным бедствиям и страданиям, хотя никто не имел права лишать меня свободы. Теперь, когда человеческой властью и произволом приближается конец моей жизни, я благодарю Бога за то, что Он сподобил меня умереть за мою веру. Я умру перед собранием, которое будет свидетелем того, как я, даже перед лицом смерти, защищала себя — что делала постоянно, частным образом и публично — от несправедливого нарекания в том, будто я придумывала способы погубить королеву Елизавету или одобряла покушение на ее особу. Ненависть к ней никогда не руководила моими поступками, и, домогаясь своей свободы, я всегда предлагала самые действенные средства для умиротворения Англии и защиты ее от политических бурь.
Чиновники оставили речь Марии без ответа, и она начала молиться. При этом зрелище приведенный обоими графами протестантский пастор, декан Питерборо, доктор богословия Флетчер подошел к Марии.
— Миледи, — сказал он, — королева, моя высокая повелительница, прислала меня к вам.
— Я не колеблюсь в католической вере, — ответила Мария, — и приготовилась пролить за нее кровь.
Однако фанатик-пастор пытался обратить осужденную на путь своей истины, склонить ее к чистосердечному раскаянию и сокрушению о грехах. Мария была наконец вынуждена заставить его замолчать.
Между тем в их пререкания вступили оба графа, что едва не повело к ожесточенному богословскому спору. Но он был прекращен самим деканом, который принялся громко читать отходную. Мария читала вслух латинские покаянные псалмы.
Шрисбери сделал презрительное замечание, на что королева ответила коротко, но решительно и продолжала молиться, чтобы в заключение передать свою душу Христу. Наконец она поднялась с колен, и палачи приблизились к ней.
Однако Мария велела им отступить и подозвала своих служанок, чтобы с их помощью раздеться. Когда ее голова, шея и плечи были обнажены, она еще нашла в себе силы утешить плачущих женщин и, отпустив их села на табурет. Палач на коленях просил у нее прощения за то, что должен совершить, и Мария простила ему, как и всем, наносившим ей обиды. Затем она опустилась на колени перед сиденьем. Палачи придали правильное положение ее голове, склоненной на плаху, и, пока Мария молилась, последовал первый удар топора, пришедшийся вместо шеи по затылку. Лишь при втором ударе голова Марии Стюарт скатилась с ее царственных плеч.
Шериф поднял ее кверху и торжественно возгласил, озираясь кругом:
— Боже, храни королеву Елизавету!
— Пусть все ее враги погибнут таким же образом! — подхватил пастор Флетчер.
— Аминь! — прибавил Кент.
Итак, Мария Стюарт, королева Шотландии, злая тень Елизаветы, пятно на ее величии, перестала существовать.
Обезглавленный труп казненной был завернут в черное сукно. Ее драгоценности и платья сожгли, а следы ее пролитой крови уничтожили.
Любимую собачку Марии, незаметно проскользнувшую на место казни, никак не могли отогнать от ее бренных останков.
Замок Фосрингай оставался запертым, пока не было написано сообщение о совершении казни. Отправленный с ним гонец прибыл 8 февраля 1587 года в Гринвич. После полудня того же числа слух о казни шотландской королевы распространился в Лондоне, где снова ударили во все колокола, зажгли иллюминацию и стали пускать фейерверки.
Так кончилась жизнь многострадальной некогда дивно прекрасной королевы Шотландии. Судьба жестоко насмеялась над этим дивным цветком красоты, который, казалось, создан был лишь для наслаждения, но память о нем останется вечной в мире.

Эпилог
На другой день после казни Марии во дворце Елизаветы произошли большие перемены: Бэрлей без объяснения причин был отрешен от должности премьер-министра, Лейстер получил приказание не являться ко двору, и только Валингэм по какой-то странной, необъяснимой случайности не попал в немилость.
По-видимому, этими мерами Елизавета хотела снять с себя подозрение в соучастии в убийстве шотландской королевы. Но маневр не помог ей, и иностранные державы не переставали открыто высказывать свое возмущение неслыханным преступлением, совершенным по приказу королевы. Сторонники несчастной казненной тоже не переставали тайно возбуждать за границей ненависть к английской королеве и настаивали на том, что Мария Шотландская должна быть отомщена. Однако вступить в открытые враждебные отношения с Елизаветой никто из европейских монархов не решался. Даже сам шотландский король, сын Марии Стюарт, по-видимому, окончательно махнул рукой на это злодеяние. Он был в это время занят сватовством, намереваясь вступить в брак с датской принцессой.
Более решительно выступил против Елизаветы испанский король Филипп. Он когда-то делал предложение Елизавете, но был отвергнут. Это, пожалуй, было главной причиной того, что Филипп так сильно ненавидел английскую королеву. В течение тринадцати лет он готовился к войне с Англией, и, хотя за это время несколько раз было достаточно основательных причин для открытия военных действий, он не начинал их, так как чувствовал себя не вполне подготовленным. Главным оружием в войне с Англией должен быть флот, и Филипп соорудил огромное количество судов, которому дал название «Непобедимая Армада». Большое количество судов находилось наготове в лиссабонской гавани. Кроме того, сюда же прибыли суда из Италии и даже Америки. Собралось сто тридцать пять кораблей, на которые были посажены восемь тысяч матросов и двадцать тысяч солдат. Провианта был сделан запас на полгода. С этими средствами Филипп решил выступить против Англии. В Нидерландах деятельноготовился к войне герцог Пармский, находившийся там наместником. Вся Европа притихла, когда узнала об этих страшных приготовлениях.
Елизавета, конечно, не теряя времени, принялась со своей стороны за приготовления. Прежде всего она немедленно вернула находившихся в изгнании Лейстера и Бэрлея и обнародовала в стране воззвание, чтобы все способные носить оружие были готовы достойно отразить врага. Приготовления Англии далеко не были закончены, когда в 1587 году Филипп отправил в море свою «Непобедимую Армаду». Но тут пришла на помощь Англии сама природа. Страшная буря, поднявшаяся в Бискайском заливе, загнала суда в северные гавани Испании.
После того как разбросанные ветром суда собрались и произвели необходимый ремонт, прошло немало времени, и только 30 июля 1588 года армада снова вышла в море. Если бы испанский флот сразу напал на английский, морское могущество Англии могло быть уничтожено. Но Филипп дал категорический приказ не приступать к бою без эскадры герцога Пармского. И в ожидании союзника армада отправилась в Кале. Сюда постепенно начали прибывать нидерландские корабли. Но в ночь с восьмого на девятое августа разразилась роковая буря, а командующий английским флотом Дрэйк в то же время начал атаку на испанские суда и заставил их выйти в открытое море. В этот момент поднялся смерч. В результате уже к утру пятнадцать испанских судов были разбиты в щепы, большая же часть флотилии была раскидана бурей в разные стороны, и лишь отдельные суда еще пытались вернуться домой, обогнув неприютные берега Шотландии. Гонимые бурей корабли вынуждены были выбрасываться на берег, и в одной только Ирландии их оказалось около двадцати. Короче говоря, вся «Непобедимая Армада» была совершенно уничтожена расходившейся стихией, даже ни разу не сразившись с неприятелем. В целости осталась только нидерландская эскадра герцога Пармского.
Таким образом, королева Елизавета как бы одержала полную и блестящую победу над врагом.
Филипп довольно покорно принял весть о гибели своего флота и простил своего адмирала. Он обнародовал воззвание, в котором говорил, что не замедлит предпринять новый поход на Англию, но это были только слова, так как казна государства была совершенно пуста и о новой войне нечего было и думать.
И вот волей судьбы, к концу 1588 года, Елизавета достигла такого могущества и силы, что уже никто из европейских монархов не мог и думать вступить с ней в открытую борьбу.
Мстителям за смерть Марии приходилось теперь искать другие пути.
В течение последующей жизни Елизаветы было несколько случаев покушений на нее. Из этих случаев мы приведем лишь два, чтобы показать, к каким отчаянным и хитрым средствам прибегали ее враги.
Однажды наместнику Нидерландов, герцогу Пармскому, попалось в руки письмо придворного врача Елизаветы, в котором тот просил лейденский университет прислать ему в помощь молодого хирурга, так как стареющая королева все чаще и чаще прибегала к кровопусканию, которое в те времена считалось одним из самых радикальных средств против всяких болезней и недомоганий, Герцог не преминул воспользоваться письмом. Среди находившихся в его распоряжении военных врачей он нашел такого, который окончил лейденский университет, был родом ирландец и ненавидел Елизавету, так как по ее приказу были казнены его предки. Он давно пылал мщением и рад был случаю снова вернуться в Англию, чтобы там, находясь вблизи королевы, отомстить ей за смерть своих родственников. Было решено, что он прибудет в Англию под видом врача, отправленного факультетом лейденского университета, а чтобы это было более достоверно, он должен был перед отъездом побывать в Лейдене и взять у знакомых профессоров рекомендации к лейб-врачу Елизаветы.
Патрик, так звали этого подставного врача, дал слово герцогу Пармскому, что при первом же удобном случае отравит или убьет каким-нибудь другим способом Елизавету. Приехав в Лондон, он представился придворному врачу, сумел ему понравиться и был в скором времени представлен королеве.
В первое время его обязанности состояли в том, что он помогал главному врачу при кровопусканиях почти каждую неделю.
Самому делать эту операцию ему не разрешали и поэтому для исполнения своего плана он должен был ждать более удобного случая. Так прошел почти год. В этот промежуток времени Патрик вполне освоился со своими обязанностями, и наконец ему стали поручать в некоторых случаях самостоятельные операции кровопускания. Но Патрик не торопился убивать королеву. Спокойная жизнь при дворе, хорошее жалование, виды на дочь придворного врача, с которой он подружился и хотел сочетаться браком, — все это заставляло его откладывать со дня на день осуществление своего намерения. Но в Лондон приехал посланник герцога Пармского, который напомнил Патрику, что герцог ждет от него исполнения его замысла и дает ему месячный срок, если же к этому времени королева не будет отравлена, то он раскроет его инкогнито, и тогда пусть пеняет на себя.
Это подействовало на Патрика. При следующем же визите к королеве он явился с отравленным ланцетом. Однако его волнение при операции было так велико, что вместо того, чтобы ударить по руке Елизаветы, он сделал насечку ланцетом на собственном пальце и с криком: «Я отравлен!» — пустился бежать домой за противоядием.
Само собой разумеется, что окружающие Елизавету придворные поняли, какой опасности подвергалась королева. За врачом сейчас же кинулись в погоню. Арестовали и того врача, который рекомендовал его королеве.
На суде выяснился весь план Патрика, и он вместе с главным врачом был казнен.
Вторая попытка отправить на тот свет Елизавету тоже не обошлась без участия герцога Пармского, который вообще старательно соблюдал интересы своего короля Филиппа и подыскивал средства и послушных людей для исполнения преступных желаний испанского короля.
Придворный повар королевы Елизаветы случайно познакомился с каким-то неизвестным ему человеком, который стал часто захаживать к нему на кухню, постоянно расхваливал искусство повара, действительно великолепно готовившего. Этот незнакомец несколько раз спрашивал рецепт того или другого кушанья, и повар с удовольствием рассказывал ему, как надо готовить, хотя, конечно, не выдавал всех секретов своего искусства. На кухне в те времена всегда толклось много постороннего народа, который любовался на приготовления королевских блюд.
Однажды королеве готовили рагу. Новый приятель повара стал уверять всех, что он знает новый рецепт рагу, которое вкусом будет лучше, чем то, что всегда готовит повар. Понятно, эти заявления вызвали насмешки со стороны зевак и снисходительную улыбку старшего повара. Слово за слово — и наконец повар, задетый за живое, предложил своему приятелю встать к плите и начать стряпать. Тот, по-видимому, только и ждал этого. Подвязав передник, он начал готовить и распоряжаться младшими поварами, и через какой-нибудь час рагу у него было готово. Все с нетерпением ждали этого момента и подошли, чтобы попробовать. Действительно, рагу было хорошим, но хуже, чем его приготовлял опытный придворный повар. Тогда самозванный повар прибавил новых специй, прежде чем подать рагу к королевскому столу.
В это время из толпы зевак выступил стоявший все время молча какой-то человек. Он наклонился к уху старшего повара и шепнул ему, что кушанье подавать нельзя, так как оно отравлено — он сам видел, как приготовлявший его человек высыпал туда яд.
Видя, что его тайна раскрыта, самозванец упал на колени перед поваром и принес чистосердечное раскаяние. Он сказал, что находится на службе у герцога Йоркского и сделал все это по его наущению. Отравителя, конечно, немедленно отправили в Тауэр, а герцога Йоркского решено было схватить и привести на суд.
На суде раскрылись обстоятельства этого мрачного дела.
Подосланный от герцога Пармского человек сумел убедить герцога Йоркского, что он имеет права на английскую корону больше, чем сама королева Елизавета, и что если ему удастся устранить Елизавету, то он может рассчитывать на поддержку испанского короля для вступления на английский трон.
Действительно, в старинных церковных документах Йоркского герцогства имелись указания на родство этих герцогов с королевским родом, и герцог Йоркский, пребывающий в бедности, прельстился возможностью изменить свою судьбу к лучшему. Однако открыто восстать против любимой народом и могущественной королевы он не рискнул и решил устранить соперницу хитростью и лукавством. Для этого он подговорил своего верного слугу отправиться в Лондон, чтобы там проникнуть в число королевской челяди и во время приготовления пищи подсыпать яд в кушанье королевы.
Узнав, что попытка отравить королеву не удалась, герцог Йоркский немедленно обратился в бегство, думая достигнуть границы Шотландии и там ускользнуть от правительства Елизаветы и ожидавшего его наказания.
Но Валингэм, который все еще находился во главе английской полиции, не дремал: он без промедления отправил за ним погоню; герцог был настигнут и, несмотря на оказанное им отчаянное сопротивление, арестован и отвезен в Лондон. Ему сделали очную ставку со слугой, под пыткой герцог скоро повинился в своем преступлении и вместе со слугой был повешен на одной из лондонских площадей.
Эти покушения, хотя и не достигли цели, все же сильно повлияли на королеву Елизавету, которая с годами стала подозрительной и жестокой. Ее веселость, ее любовь к развлечениям мало-помалу совершенно исчезли, и даже страсть к нарядам, которая всегда была одной из главных черт ее характера, тоже как будто умерла в ней.
Королева сильно постарела и, конечно, немало подурнела. Вместе с ней подурнел и постарел двор, при котором теперь не осталось ни одного молодого, нового лица.
Многих из приближенных Елизаветы уже не было: одни умерли, другие удалились окончательно на покой. Место премьера занял сын Бэрлея, человек, выросший при дворе, знакомый со всеми его тайнами но как государственный деятель далеко уступавший отцу. Из прежних знакомых остался только один Валингэм, который теперь пользовался неограниченным влиянием на королеву.
Лейстер какое-то время еще то занимал блестящее положение, вызывавшее к себе зависть многих, то впадал в немилость и в течение долгого периода не получал приглашения ко двору. Все зависело от тех порывов, которые с годами все более и более случались у Елизаветы. Она не забыла графу той измены, которую он позволил себе, вступив в брак с Филли. И ему не удалось снова завоевать ее сердце настолько, чтобы она согласилась на брак с ним. Он так и умер, не дождавшись осуществления своих честолюбивых планов.
Казалось, что сердце Елизаветы было уже вполне закалено против опасных стрел Амура. Однако, несмотря на всю ее изумительную силу воли, и ее не миновала горячая вспышка нежного сердечного чувства, которая очень часто замечается у многих стареющих женщин, в особенности у тех, которые в своей жизни насильственно подавляли в себе голос природы.
Однажды в штате ее придворных вдруг появилось новое лицо — граф Эссекс, вернувшийся из Шотландии. Он сразу произвел приятное впечатление на Елизавету. Она, несмотря на свою старость, все еще обладала пылким сердцем. Елизавета старалась приблизить Эссекса ко двору, но он упорно отказывался от этой чести и только по необходимости являлся на приемы к королеве. Женщина, давно потерявшая молодость и красоту, своим кокетством производила на Эссекса отталкивающее впечатление. Все прозрачные намеки он оставлял без ответа, как будто их не понимал. Но Елизавета, хотя и сознавала, что время ее молодости прошло, все же не хотела смириться с поражением, в глубине души думая, что граф остается к ней холоден только потому, что увлечен кем-нибудь другим.
Для раскрытия этой тайны была пущена в ход всемогущая полиция Валингэма. Преданные министру лица отправились на разведку и вскоре узнали, что Эссекс действительно посещал какой-то домик на окраине города, где проживала молодая дама. По приказу министра, один из полицейских пробрался к окну в то время, как в доме сидел граф Эссекс, и подслушал его разговор с этой дамой.
Валингэм получил важные улики против графа и его возлюбленной, так как парочка потешалась над смешными претензиями изрядно постаревшей королевы покорить сердце Эссекса.
В это время в Ирландии разразилось восстание. Находившийся там наместник королевы не вполне соответствовал требованиям момента, и государственный совет решил отправить туда кого-нибудь более энергичного. Молодой Сесил Бэрлей воспользовался этим, чтобы спровадить от королевы графа Эссекса, к которому он питал непримиримую вражду, так как его личные попытки ухаживания за королевой не имели никакого успеха, и он думал, что, если будет убран с глаз долой соперник, ему будет легче покорить сердце Елизаветы.
Но Эссексу этот выход был как нельзя на руку. Он все время рвался подальше от двора, чтобы спокойно наслаждаться своей любовью, и, когда был поднят вопрос о том, кого отправлять в Ирландию, стал просить королеву послать его.
Елизавета долго не соглашалась, но когда на государственном совете за это высказался и Валингэм, она с болью в сердце решила расстаться с любимым человеком.
Эссекс отправился в Ирландию, а свою возлюбленную отослал к себе в замок с намерением время от времени посещать ее там. Конечно, после отъезда Эссекса Валингэм доложил королеве обо всем, что ему удалось узнать относительно любовного увлечения графа. Оскорбленная королева приказала немедленно арестовать соперницу, на которую ее променял Эссекс. Но исполнить это было довольно трудно, так как возлюбленная графа в это время уже переехала в замок и врываться в него без особого на то повода было нельзя.
Тем не менее хитрый Валингэм и здесь нашел возможности услужить королеве. Близ замка он расставил полицейских, которые неотступно следили за каждым шагом соперницы королевы.
Между прочим во время своего пребывания в замке молодая женщина познакомилась с одной девушкой с соседней фермы и почти каждый день посещала ее, конечно, без всяких провожатых, так как расстояние было невелико, и к тому же кругом в окрестностях замка все носило отпечаток полного мира и тишины. Именно этими-то прогулками и воспользовались люди Валингэма. Однажды женщина, уйдя из дома, больше уже не возвратилась туда. Напрасно слуги графа искали ее по всем окрестностям, молодая женщина пропала бесследно, точно провалилась сквозь землю.
Конечно, об этом странном и печальном событии было немедленно дано знать графу. Однако он, занятый усмирением мятежа, не мог пока ничего предпринять. Но тут произошло событие, которое заставило его сразу же действовать.
Несколько дней спустя после внезапного исчезновения его возлюбленной от королевы пришло письмо, в котором она в довольно резких выражениях требовала его принять более решительные меры по отношению к повстанцам.
Это письмо окончательно возмутило графа Эссекса. Он пробыл всего несколько месяцев в Ирландии и, понятно, еще не мог достигнуть каких-нибудь особых результатов. Письмо королевы показалось ему личным оскорблением, которое он не захотел оставить без ответа.
Эссекс решил отправиться в Лондон, чтобы оправдаться от обвинений в бездействии, которые с несправедливостью бросала ему в лицо Елизавета.
Когда граф Эссекс появился при дворе, королева приняла его холодно, но не особенно строго.
— Вы прибыли, — сказала она, — передать мне лично отчет о положении дел в Ирландии? Пожалуйста, говорите, что у вас есть.
Сделав полный доклад о положении дел в Ирландии, граф тотчас же отправился к Валингэму, чтобы узнать, где находится его возлюбленная, и тот из расположения к графу сообщил ему, что она находится в Тауэре и ее обвиняют в оскорблении ее величества.
Когда граф Эссекс на другой день появился во дворце, королева не приняла его и через слугу приказала графу немедленно отправиться во дворец к лорду Бэрлею, где он и должен находиться, пока ей не будет угодно принять его вновь. Таким образом, Эссекс неожиданно для самого себя стал пленником.
В этом старинном и неприятном заключении он провел несколько дней и наконец по совету друзей написал королеве письмо, в котором просил у нее прощения за свой необдуманный шаг и обещал впредь не давать ей повода сердиться на него. Елизавета приняла письмо, но вместо ответа приказала образовать комиссию, которая должна была рассмотреть дело графа.
Собравшаяся комиссия, обсудив все обстоятельства, признала графа виновным в непослушании и приговорила к заключению, пока на него не будет обращена милость королевы. Впрочем, эта милость не заставила себя ждать. Эссексу была возвращена свобода, но ему было приказано не покидать Лондона и своего дворца.
Елизавета, по-видимому, была довольна, что сломила гордость своего непокорного вассала, и надеялась опять приблизить его к себе.
Но граф, претерпев столько унижений, уже не помышлял примириться когда-нибудь с Елизаветой.
Первым его делом было написать письмо королю Иакову, он сообщил ему о всех поступках, которые совершила Елизавета с целью умертвить своего наследника, так как она ненавидела его. Кроме того, в этом письме Эссекс настаивал, чтобы Иаков объявил войну Англии, и обещал поддержку многих влиятельных людей. Отослав это письмо, граф стал обдумывать план спасения из Тауэра своей возлюбленной.
При помощи слуги ему удалось подкупить смотрителей тюрьмы, которым было вменено в обязанности наблюдать за заключенной. При их содействии леди Анна, как звали возлюбленную Эссекса, оказалась на свободе и тотчас же была переправлена во Францию.
Вскоре после ее отъезда пришел ответ и от короля Иакова. Через своих лондонских агентов он успел собрать сведения, что война с Англией ему теперь невыгодна, и потому в письме Эссексу он советовал до времени ничего не предпринимать.
Однако бездействие было совершенно не в характере Эссекса, и потому он с радостью ухватился за совет своего приятеля Каррея, который предложил ему поднять восстание на свой страх и риск. Оба, не теряя времени, приступили к осуществлению задуманного ими плана. Как могло нечто зародиться в голове графа Эссекса — совершенно непонятно. Казалось бы, каждому было ясно все безумие этой затеи, но граф в ослеплении ничего не видел и не слышал. Он ревностно занимался вербовкой людей и покупкой оружия и наконец в одно прекрасное утро выехал из дома в сопровождении нескольких сот оборванцев и бродяг, которые за деньги согласились идти за ним.
Во главе этой жалкой банды граф Эссекс задумал произвести государственный переворот в Англии и свергнуть с престола ненавистную ему королеву английскую.
С этой толпой граф первым делом направился к Сен-Джемскому дворцу, предполагая среди бела дня захватить в плен королеву Елизавету. Остановившись перед дворцом, граф произнес зажигательную речь и решительно повел своих оборванцев на солдат, которые стояли перед дворцом, недоумевая, что должны они делать при виде этой наступающей банды.
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в этот момент среди солдат не появился Дигс, который в это время занимал должность, исправляемую до него Кингтоном. Он подошел к стоявшему в нерешительности офицеру и проговорил:
— Сэр, прикажите солдатам атаковать бродяг, я же в это время арестую их предводителя…
По команде офицера солдаты взяли наперевес свои пики и решительно двинулись на толпу. В ту же минуту раздались крики, в рядах повстанцев произошло замешательство, а затем большинство их поспешно обратилось в постыдное бегство.
Дигс между тем подошел к Эссексу и самым спокойным тоном предложил ему следовать за ним. Можно предположить, что Эссекс временно помешался от пережитых волнений, иначе ничем нельзя объяснить его поступки. Он спокойно сошел с коня и покорно направился во дворец за Дигсом. Там происходило как раз заседание совета министров в присутствии королевы. Когда в один из залов был введен Эссекс, к нему вышел Валингэм. Он вежливо поздоровался с Эссексом и заявил, что хотя королева и уведомлена о его прибытии, но принять его сейчас не может и просит подождать, пока она освободится, до тех пор она приказывает графу провести время в Тауэре, куда его отвезет Дигс.
Эссекс вежливо раскланялся и пошел за Дигсом, сопровождаемый еще дюжиной полицейских. Он вошел в Тауэр так спокойно, как будто это был его собственный дом.
Королева, которая из окна зала следила за приближением Эссекса с толпой буянов, сперва была близка к обмороку. Когда же Валингэм вскоре сообщил, что все уже устранено и Эссекс отведен в Тауэр, королева пришла в себя и приказала учредить комиссию, которая рассмотрела бы причины бунта и строго покарала бы виновных.
Комиссия собралась через четыре дня и, рассмотрев дело о бунте, приговорила графа Эссекса к смертной казни. Когда ему сообщили об ожидавшей его участи, он остался совершенно спокоен и объявил с непоколебимой уверенностью, что королева никогда не допустит того, чтобы его казнили. Напрасно немногочисленные друзья советовали ему просить королеву о помиловании. Эссекс оставался спокойным и отвечал на все советы, что его и так все равно не казнят.
Королева Елизавета, по-видимому, смотрела на дело иначе. Правда, она не сразу подписала смертный приговор Эссексу и, подписав, не отдала его тотчас же Бэрлею, но в то же время и слышать не хотела о помиловании своего бывшего фаворита.
Леди Сиваж попыталась было замолвить перед королевой словечко о несчастном узнике, но поплатилась за это опалой. Ей было приказано немедленно удалиться от двора и больше не показываться на глаза Елизавете.
С этим печальным известием леди Сиваж прибыла в Тауэр к графу Эссексу. Но узник и тут не выказал беспокойства и не потерял уверенности. Он снял с пальца кольцо и попросил леди Сиваж передать его королеве.
— Но я же не являюсь более ко двору, — ответила леди, выслушав эту просьбу.
— Разве у вас там нет друзей? — спросил ее граф Эссекс.
На что леди ответила:
— Друзья-то, пожалуй, найдутся. А что я должна им сказать?
— Ничего. Пусть только передадут это кольцо, — ответил граф.
Эссекс недаром оставался все время непоколебимо уверен, что Елизавета простит его. Когда он еще был пажом, она обратила внимание на его внешность и, посылая в Шотландию в качестве члена посольства, дала ему в виде особой милости кольцо со своей руки, сказав, что стоит ему только послать это кольцо ей обратно — и всякое его желание будет исполнено.
Однако, к его величайшему удивлению, помилование не поступило, и наконец настал день казни. Эссекс смело вошел на эшафот, в глубине души все еще, вероятно, рассчитывая, что его помилуют.
Перед казнью он произнес речь, в которой восхвалил справедливость и мудрость королевы, обвиняя себя в разных проступках. В промежутках он все еще посматривал вдаль, не едет ли долгожданный гонец с вестью о помиловании.
Наконец он с решительным видом склонился на плаху, и через минуту его голова уже скатилась на землю.
Смерть Эссекса так подействовала на королеву, что она заперлась во внутренних комнатах и в течение нескольких дней никто не имел к ней доступа.
Кроме Елизаветы, большое горе переживала одна из приближенных придворных дам королевы, а именно графиня Ноттингэм.
Только через два года выяснилась история с кольцом. В это время болела леди Ноттингэм и на смертном одре поведала Елизавете, что леди Сиваж просила ее передать королеве кольцо от графа Эссекса, но она, по приказанию матери-графини держала кольцо у себя. Это признание произвело потрясающее действие на Елизавету. Она как-то сразу осунулась и отказалась принимать пищу. По распоряжению придворных явился врач, но он не мог ничего добиться от королевы. Елизавета и на следующий день ничего не ела и не спала. Окружающие королеву лица были страшно взволнованы. Елизавета отказывалась принимать даже лекарства, все время была погружена в мрачную задумчивость и сидела только на полу.
Было грустно и страшно видеть эту могущественную королеву охваченной безумием. Бессмысленно глядя перед собой, она сидела на полу с кольцом Эссекса, зажатым между губами, и только изредка произносила два имени: «Роберт» и «Мария».
Никто не мог заставить ее раздеться и лечь в постель и лишь с трудом удалось подложить ей подушки. В течение десяти дней и десяти ночей оставалась в таком положении королева, не принимая совершенно пищи.
Наконец 24 марта 1603 года смерть избавила ее от дальнейших мучений. Королева Елизавета умерла семидесяти лет от роду, процарствовав сорок пять лет.

Жорж Санд
Прекрасные господа из Буа-Доре
ТОМ ПЕРВЫЙ
Глава первая
Консини дон Антонио д'Альвимар, испанец итальянского происхождения, называвший себя и подписывавшийся Скьярра д'Альвимар, был одним из наименее заметных протеже фаворита, хотя и выделялся умом, воспитанием и изысканными манерами. Это был красавец-мужчина на вид лет двадцати, хотя и говоривший, что ему уже тридцать. Роста скорее низкого, чем высокого, очень сильный, правда, это не бросалось в глаза, ловкий, он привлекал женщин блеском живых и пронзительных глаз, а также приятностью беседы, всегда легкой и очаровательной с дамами, но содержательной и увлекательной с людьми серьезными. Он почти без акцента говорил на многих европейских языках и обладал немалыми познаниями в области древних языков.
Несмотря на все эти похвальные достоинства, Скьярра д'Альвимар не смог завязать самостоятельной интриги при опутанном интригами дворе регентши. Ближайшим друзьям он сообщил, что хотел понравиться ни много ни мало, как самой Марии Медичи, вдове Генриха IV, и занять в сердце королевы место своего хозяина и покровителя маршала д'Анкра.
Но Ла Балорда[49], как называла ее Леонора Галигай[50], не обращала внимания на маленького испанца, видя в нем лишь стройного офицера, выслужившегося из рядовых, навсегда обреченного на второстепенные роли. Да и вообще, заметила ли она его искреннюю или поддельную страсть? История об этом умалчивает, да и сам д'Альвимар никогда об этом так и не узнал.
Он мог привлечь к себе внимание умом и приятными манерами. Истинную причину, по которой Консини оставил сердце регентши равнодушным, надо искать в другом. Конечно, не в его происхождении или недостатке ума. Препятствие к высокой фортуне куртизана крылось в нем самом, препятствие, которое его честолюбие не смогло преодолеть.
Будучи ревностным католиком, он обладал всеми пороками свирепых испанских католиков времен Филиппа II. Подозрительный, неугомонный, мстительный, беспощадный, он верил в Бога искренне, но без любви и без света, вера его была искажена страстями и ненавистью, свойственными политике, идентифицировавшей себя с религией, к великому неудовольствию доброго и милосердного Бога, завоевания которого свершаются в моральной сфере путем милосердия, а не жестокости в мире фактов.
Как знать, может, и Франции довелось бы изведать режим инквизиции, если бы Скьярра д'Альвимар покорил сердце регентши. Но этого не случилось, и Консини, вся вина которого состояла в том, что он не родился достаточно знатным, чтобы безнаказанно воровать и грабить, как высшие вельможи, до самой своей трагической смерти обречен был только наблюдать за переменчивостью и продажностью политики регентши.
После убийства маршала д'Анкра, д'Альвимар, скомпрометировавший себя на его службе во время дела парижского сержанта[51], вынужден был исчезнуть, чтобы не оказаться втянутым в процесс Леоноры.
Он был бы не прочь переметнуться к другому фавориту, фавориту короля господину де Люйену[52], но дело не выгорело. Хотя он был не более щепетилен, чем любой придворный своего времени, он понял, что не сможет смириться с обычаями королевской политики, идущей на уступки кальвинистам, дабы купить покорность принцев, вертевших реформистской религией в угоду своим интересам.
Когда королева Мария попала в откровенную немилость[53], Скьярра д'Альвимар решил, что в его интересах сохранять ей верность. Королева, даже в изгнании, могла делать щедрые подарки верным ей людям. Все в мире относительно, а д'Альвимар был так беден, что милости даже разоренной королевы могли дать ему шанс.
Он участвовал в подготовке бегства из Блуа, как несколько лет назад играл третьи и четвертые роли в различных политических комедиях, разыгрываемых то Филиппом III, то Марией Медичи, дабы осуществить королевские браки.[54]
Господин д'Альвимар, работая во благо других, был довольно ловок, честен и трудолюбив. Его можно было упрекнуть лишь в мании высказывать собственное мнение в тех случаях, когда вполне достаточно следовать мнению других и оставлять лавры победителя на долю более значительных лиц, когда сам ты лицо незначительное.
Поэтому, несмотря на все свое усердие, он не смог привлечь к себе внимание королевы-матери. Пока Мария жила в изгнании в Анжере, он продолжал оставаться безвестным младшим офицером, которого скорее терпели, чем привечали.
Д'Альвимар тяжело переживал свои многочисленные неудачи. Сначала он производил приятное впечатление, но вскоре начинала раздражать горечь, прорывавшаяся у него, или вызывало подозрение честолюбие, которое он некстати проявлял. Он не был в достаточной степени ни испанцем, ни итальянцем, вернее, он слишком был и тем, и другим. Сегодня общительный, вкрадчивый, изворотливый, как молодой венецианец, назавтра он представал высокомерным, упрямым и мрачным, как старый кастилец.
К вышеупомянутым недостаткам примешивались тайные угрызения совести, причину которых он открыл лишь перед смертью.
Несмотря на наши изыскания, мы неоднократно теряем его из виду в промежуток между смертью Консини и последним годом жизни Люйена. В нашем манускрипте лишь несколько слов о его пребывании в Блуа и Анжере, в его смутной и причудливой истории мы не находим ни одного факта, достойного упоминания, до 1621 года. В то время как король столь неудачно осаждал Монтобан, маленький д'Альвимар находился в Париже, по-прежнему в свите королевы-матери, помирившись с ее сыном после дела Пон-де-се.
К тому времени д'Альвимар оставил надежду ей понравиться и, возможно, в своем «разбитом» сердце тоже стал называть ее тупицей, хотя она впервые проявила здравый смысл, оказав доверие и, как говорят, отдав свое сердце Арману Дюплесси. Одолеть подобного соперника д'Альвимару и мечтать было нечего. К тому же, следуя советам Ришелье, королева направила свою политику в то же русло, что Генрих IV и Сюлли. В данный момент она боролась против испанского влияния в Германии, и д'Альвимар оказался почти в опале, когда к довершению всех несчастий попал в неприятную историю.
Он поссорился с другим Скьярра, Скьярра Мартиненго, к которому Мария Медичи больше благоволила и который отказывался признать его за родственника. Состоялся поединок, Скьярра Мартиненго был тяжело ранен. До королевы дошло, что Скьярра д'Альвимар недостаточно точно соблюдал принятые во Франции правила дуэли. Вызвав его к себе, она устроила жестокий разнос, в ответ д'Альвимар излил давно копившуюся в нем горечь. В скором времени он покинул Париж, опасаясь ареста, и в первые дни ноября прибыл в замок д'Арс в Берри, в герцогстве Шатору.
Сразу откроем вам причины, по которым он предпочел это убежище всем остальным.
Недель за шесть до своей несчастной дуэли Скьярра д'Альвимар сдружился с Гийомом д'Арсом, любезным и богатым молодым человеком, потомком по прямой линии славного Людовика д'Арса, прославившегося отступлением под Венузой в 1504 году и погибшего в битве при Павии.
Гийом д'Арс был очарован умом д'Альвимара и приветливостью, на которую тот был способен «в свои лучшие минуты». Они не были знакомы достаточно долго, чтобы молодой человек успел проникнуться антипатией, которую несчастный д'Альвимар почти неизбежно внушал всем спустя несколько недель после тесного общения.
К тому же господин д'Арс был очень молод, почти не имел светского опыта и, судя по всему, не был особенно проницателен. Он получил воспитание в провинции и, оказавшись в парижском свете, сразу же познакомился с д'Альвимаром, который произвел на него неизгладимое впечатление своей посадкой в седле, успехами на псовой охоте и при игре в мяч. Щедрый и даже расточительный, Гийом предоставил в распоряжение испанца свой кошелек и свою дружбу, настойчиво приглашая посетить его замок в Берри, куда вынужден был вернуться по срочному делу.
Д'Альвимар в отношениях с новым другом проявлял исключительную честность. Пусть у него было много изъянов, никто не смог бы упрекнуть его в недостатке гордости, когда он принимал денежные подарки. Он вовсе не был богат, и расходы на одежду и прическу поглощали все его скудное жалованье. Он не позволял себе никаких излишеств, и благодаря строгой экономии ему удавалось не просто сводить концы с концами, но и следить, чтобы его лошадь и наряды выглядели не хуже, чем у многих более богатых.
Когда над ним нависла угроза судебного разбирательства и преследования, он вспомнил о приглашении беррийского дворянина и почел за благо попросить у него убежища.
По словам Гийома, его провинция была в этот период одним из самых спокойных уголков Франции.
Управлял ею принц Конде, живущий то в замке в Монтроне, в Сан-д'Амане, то в своем добром городе Бурже, где верно служил королю, а еще больше иезуитам.
В наши дни покой, царивший в Берри, был бы назван гражданской войной, так как там происходило немало вещей, о которых мы своевременно расскажем; но, по сравнению со всей остальной страной, да и с тем, какие страсти кипели здесь в прошлом веке, Берри действительно выглядел, как уголок мира и порядка.
Скьярра д'Альвимар мог, таким образом, надеяться, что найдет покой в одном из этих замков в Нижнем Берри, где кальвинисты на протяжении нескольких лет соблюдали спокойствие, где господа роялисты, бывшие лигеры, давно не имели случая или повода отправить своих людей кормиться за счет соседа, друга или недруга.
Д'Альвимар прибыл в замок д'Арс осенним утром, точнее в восемь утра, в сопровождении единственного слуги, старого испанца, который утверждал, что тоже дворянин, вынужденный из-за нищеты пойти в услужение. Он был не похож на человека, способного выболтать тайны хозяина, поскольку ему случалось не сказать за неделю и трех слов.
У обоих были хорошие лошади, и, хотя они везли помимо седоков немалую поклажу, путники добрались от Парижа до Берри за шесть дней.
Первым человеком, которого они встретили во дворе замка, оказался Гийом. Он уже садился в седло, и еще несколько человек с дорожным багажом готовились составить ему компанию.
— Ах, как вы кстати! — воскликнул он, обнимая д'Альвимара. — Я как раз собираюсь в Бурж на праздник, который принц Конде устраивает по поводу рождения сына, герцога Enghien[55]. Там будут танцы, представление комедии, стрельба из аркебуз, фейерверк и много других развлечений. Я отложу свой отъезд на несколько часов, чтобы мы могли поехать вместе. Пойдемте в дом, вам надо поесть и отдохнуть с дороги. Я тем временем найду для вас свежих лошадей, поскольку ваши лошади, хоть и выглядят бодрыми, вряд ли готовы пройти сегодня еще восемнадцать лье.
Оставшись наедине с хозяином замка, д'Альвимар объяснил ему, что он не может показываться на празднике, напротив, он хочет спрятаться в замке на несколько недель. В те времена, чтобы забылось столь незначительное прегрешение, как смерть или ранение противника на дуэли, вполне достаточно было на некоторое время исчезнуть с глаз долой. Надо было только найти влиятельного защитника при дворе. Д'Альвимар рассчитывал на скорое прибытие в Париж герцога де Лерма, которого считал своим родственником, по крайней мере так говорил. Это было достаточно влиятельное лицо, чтобы не только добиться прощения, но и в целом улучшить свое положение при дворе.
Неизвестно, как наш испанец расписывал свою дуэль со Скьярра Мартиненго[56], извинялся ли за нарушение правил дуэли или же клялся, что оболган перед королевой Марией и господином де Люйеном, в любом случае Гийом д'Арс слушал его вполуха. Честный дворянин, он был в восторге от д'Альвимара и ни о чем плохом не думал. Кроме того, ему не терпелось отправиться на праздник, так что момент для каких бы то ни было серьезных разговоров был явно неподходящим.
Так что Гийом не особо вникал в сущность проблемы и думал лишь о том, что его отъезд на праздник в столицу Берри может отложиться еще на день.
Заметив его затруднения, д'Альвимар поспешил заверить д'Арса, что ничего в его планах менять не надо, и попросил лишь указать на деревню или ферму в его владениях, где он мог бы чувствовать себя в безопасности.
— Нет, вы будете жить не на ферме или в деревне, — возразил Гийом, — а в моем замке. Однако я боюсь, что вам здесь будет скучно в одиночестве. Мне в голову пришла удачная мысль. Ешьте и пейте, затем я отвезу вас к одному из моих друзей, который живет неподалеку, в часе езды отсюда. У него вы будете чувствовать себя в безопасности и приятно проведете время, насколько это возможно в нашей деревне. Дня через четыре или пять я за вами приеду.
Д'Альвимар предпочел бы остаться один. Но поскольку Гийом настаивал, вежливость не позволила ему возразить. Отказавшись от еды, он снова сел в седло и последовал за Гийомом д'Арсом и его спутниками, вынужденными сделать крюк по дороге в Бурж.
Глава вторая
Выехав из замка, они через охотничьи угодья д'Арса доехали по проселочной дороге до дороги, ведущей в Бурж, затем, оставив ее слева, лесными тропинками добрались до большой дороги, ведущей в Шато-Мейан, и, оставив справа баронский город Ля Шатр, поехали дальше прямо по полям к замку и поселку Бриант, дели своего путешествия.
Поскольку в этих краях действительно было спокойно, молодые дворяне обогнали своих спутников, чтобы спокойно поговорить. Молодой д'Арс счел своим долгом сообщить следующее:
— Друг, к которому мы едем, — одна из самых выдающихся личностей христианского мира. В его присутствии вам, возможно, иногда придется сдерживать смех, зато вы будете вознаграждены за терпение, которое проявите к его странностям, познакомившись с великой добротой его души. Настолько, что обратись вы к первому встречному благородного или низкого происхождения с вопросом, где живет добрый господин, все в один голос укажут на него. Следует объяснить вам все поподробнее. Поскольку ваша лошадь явно не хочет бежать, а сейчас никак не больше девяти утра, я расскажу вам о человеке, у которого вам предстоит прожить несколько дней. Итак, я начинаю, слушайте!
История доброго господина из Буа-Доре
— Поскольку вы чужой в этих краях и живете во Франции лет десять, вы не могли раньше с ним встречаться. Иначе вы несомненно его бы заметили, старого, доброго, храброго, безумного, благородного маркиза де Буа-Доре, ныне сеньора Брианта, Гинарда, Валиде и многих других мест, кроме того, аббата Варенна по фидеикоммиссу[57].
Несмотря на такое обилие титулов, Буа-Доре не относится к высшему дворянству наших краев. Это рядовой дворянин, которого покойный Генрих IV отметил своей личной дружбой и который, не знаю как, разбогател во время войн, которые вел Генрих Наварский. Возможно, в какой-то степени он обязан своим состоянием грабежу, как было принято в то время по праву войн. Не буду рассказывать вам сейчас о кампаниях господина Буа-Доре, это займет слишком много времени, остановлюсь только на его семейной истории. Его отец, господин де…
— Подождите, — прервал его д'Альвимар, — получается, что этот господин де Буа-Доре — еретик?
— О дьявол, — со смехом ответил его провожатый, — я и забыл, что вы ревностный католик, настоящий испанец! В наших краях придают не очень много значения религиозным разногласиям. Провинция слишком от них пострадала, и мы ждем не дождемся, когда вся Франция будет от них избавлена. Мы надеемся, что в Монтобане король наконец-то покончит со всеми этими фанатиками с юга.[58] Мы желаем, чтобы он как следует их поколотил, но в отличие от наших отцов не желаем им виселицы или костра… Но я вижу, мои слова вам неприятны, поэтому спешу довести до вашего сведения, что маркиз де Буа-Доре в наши дни столь же правоверный католик, как и те, что не переставали ими быть. Когда Беарнсц решил, что Париж стоит мессы, господин де Буа-Доре рассудил, что король не может ошибаться, и без лишнего шума, но окончательно отрекся от кальвинизма.
— Вернемся к истории семьи господина де Буа-Доре, — сказал д'Альвимар, перебив Гийома, желая скрыть презрительное недоверие, с каким он относился ко вновь обращенным.
— Вы правы, — согласился молодой человек. — Отец нашего маркиза был одним из самых упорных лигеров в этих краях. Он был верным сподвижником Клода де ля Шатра и де Барбонсуа, этим все сказано. В своем замке он хранил набор пыточных инструментов для гугенотов. Случись им попасть к нему в руки, он непременно их применял, но мог поднять на дыбу и кого-нибудь из своих вассалов, если тот не уплачивал в срок свои оброки. Люди настолько его боялись и ненавидели, что он получил прозвище chetti-месье, и по заслугам.
Его сын, нынешний маркиз де Буа-Доре, получивший при крещении имя Сильвен, столько страдал от его жестокого характера, что с младых ногтей относился к жизни наоборот и обращался с пленниками и вассалами отца с мягкостью и сочувствием, возможно, не совсем уместными у военного человека по отношению к мятежникам и у дворянина к людям низшего звания. Эти качества вместо того, чтобы возбуждать любовь к нему, напротив, вызвали у многих почти презрение, и крестьяне, люди, как известно, неблагодарные и недоверчивые, говорили о нем и его отце: «Один весит больше своих прав, другой не весит вовсе ничего».
Они полагали, что отец — человек жестокий, но решительный, храбрый, сможет защитить их от лихоимства бандитов с большой дороги, порождения войны. А господин Сильвен, по их мнению, оставит их на растерзание злодеям, поскольку не имеет ни мозгов, ни храбрости.
В один прекрасный день господин Сильвен сильно скучал, и уж незнаю, что пришло на ум молодому человеку, но только он сбежал из замка Бриант, где света божьего не видел, от своего отца. Тот обращался с юношей, как с умалишенным. Сильвен отправился к умеренным католикам, которых в то время называли третьей партией. Вам известно, что эта партия неоднократно протягивала руку помощи кальвинистам. Господин Сильвен постепенно стал кальвинистом, а также слугой и другом молодого короля Наварского[59]. Узнав об этом, отец его проклял и, чтобы разорить сына, надумал, несмотря на преклонный возраст, жениться и произвести на свет еще одного сына.
Это означало уменьшение вдвое и без того небогатого наследства господина Сильвена, который, будучи гугенотом, мог потерять право старшинства при дележе наследства. Chetti-месье был не особенно богат, к тому же его земли неоднократно разорялись кальвинистами.
Но посмотрите, как добра природа этого человека! Вместо того, чтобы рассердиться или хотя бы посетовать на судьбу по поводу женитьбы собственного отца и рождения ребенка, вдвое уменьшающего его наследство, он гордо поднял голову, когда ему принесли эту новость.
— Только подумайте! — воскликнул он. — Моему отцу за шестьдесят, а он произвел на свет мальчика. Великолепно! Я могу считать, что происхожу от доброго корня!
Его благодушие не ограничилось лишь словами. Семь лет спустя, когда отец отлучился из Берри, чтобы поддержать Порубленного[60] в его борьбе против принца д'Алансонского[61], наш дорогой Сильвен, узнав, что после смерти его мачехи ребенок остался в замке почти без присмотра, тайно вернулся в наши края, чтобы в случае необходимости защитить сводного брата и, по его словам, ради радости его видеть и ласкать.
Он провел всю зиму рядом с ребенком, играл с ним, носил на руках, как кормилица или гувернантка. Люди в окрестностях насмехались, говоря, что он слишком прост, что он блаженный, что в их устах означает умалишенный.
Когда дурной отец возвратился домой после мира de Monsieur[62], как вы понимаете, недовольный тем, что мятежники лучше вознаграждены, чем союзники, он был зол на весь белый свет и даже на Господа, который позволил его молодой супруге умереть от чумы в его отсутствие. Не зная, на ком бы отыграться, он заявил, что старший сын явился сюда, чтобы колдовством погубить младшего, отраду его старости.
Со стороны старого корсара это было весьма гнусно, поскольку ребенок никогда так хорошо себя не чувствовал и не был так хорошо ухожен, чем в присутствии старшего брата. Несчастный Сильвен был не более способен на злые намерения, чем новорожденный…
В этот момент Гийом д'Арс прервал свой рассказ. Путники уже почта доехали до Брианта. Навстречу им вышла молодая особа, одетая в черное с красным и серым платье с подоткнутым подолом и открытой шеей. Подойдя ближе, она сделала глубокий реверанс.
— Увы, месье, — произнесла она. — Вы, возможно, собираетесь отобедать сегодня у моего досточтимого хозяина, маркиза де Буа-Доре? Но его нет дома, он на весь день отправился в Мотт-Сейи и отпустил нас всех до вечера.
Новость расстроила молодого д'Арса, но воспитание не позволило это продемонстрировать. Он галантно сказал:
— Ну что ж, мадемуазель Беллинда, тогда мы отправляемся в Мотт-Сейи. Желаю вам приятной прогулки!
И, чтобы скрыть свое огорчение, обратился к д'Альвимару, приглашая его повернуть назад:
— Не правда ли, весьма привлекательная экономка. Ее цветущий вид должен сделать для вас более притягательной мысль о пребывании в Буа-Доре.
Беллинда, от ушей которой не ускользнуло это заявление, сделанное громким голосом и куртуазным тоном, выпятила грудь, улыбнулась, подозвала помощника конюха, сопровождавшего ее на манер пажа, и извлекла из широких рукавов двух маленьких белых собачек, которых осторожно поставила на траву, будто бы, чтобы дать им возможность погулять, но на самом деле, чтобы оставаться лицом к кавалерам и дольше представлять их взглядам красивую обновку и свои прелестные и весьма пышные формы.
Ей было лет тридцать пять. Румяная, волосы с красным отливом были довольно красивы, взбитые, они постоянно выбивались из-под шапочки, к великому неудовольствию местных дам. Но, даже стараясь выглядеть приветливой, она казалась недоброй.
— Почему вы называете ее Беллиндой? — спросил д'Альвимар. — Это имя распространено в ваших краях?
— Вовсе нет. Ее зовут Гийет Карка. А Беллиндой ее прозвал маркиз, следуя своему правилу, я объясню вам это позже, сперва закончу его историю.
— Ни к чему, — ответил д'Альвимар, остановив коня. — Несмотря на вашу любезность, я чувствую, что принес вам слишком много хлопот. Давайте поедем в замок Бриант, я останусь там с письмом, в котором вы рекомендуете меня господину де Буа-Доре. Я буду ожидать его возвращения и тем временем отдохну.
— Об этом не может быть и речи! — воскликнул юноша. — Уж лучше я откажусь от поездки в Бурж, я бы даже уже от нее отказался, если бы не дал слово своим друзьям, что непременно буду там сегодня вечером. Но я ни в коем случае не оставлю вас, не представив лично своему доброму и верному другу. Мотт-Сейи всего в одном лье отсюда, так что не будем гнать наших коней, поедем спокойно. Я приеду на праздник на час-другой позже и найду двери еще открытыми.
И он продолжил историю маркиза де Буа-Доре, хотя д'Альвимар слушал весьма невнимательно, так как был озабочен своей безопасностью. Окрестности казались ему малоподходящими для того, чтобы здесь прятаться.
На плоской и открытой равнине в случае нежелательной встречи невозможно было укрыться в лесу или рощице. Мелкая красная почва крупными волнами лежала под солнцем. Бескрайняя равнина, печальная на первый взгляд, время от времени оживлялась красивыми холмами или небольшими замками.
Однако Бриант, который уже можно было разглядеть, показался ему более надежным.
Минутах в десяти езды от замка равнина внезапно снижалась и вела по отлогому скату к узкой тенистой ложбине.
Сам замок заметен только сверху, поскольку колоколенка аспидного цвета, самая высокая из башен, была лишь немного выше равнины, сама равнина сверкала в лучах заходящего солнца, как маленький золоченый фонарь, поставленный на край лощины.
То же самое можно сказать и о замке Мотт-Сейи[63], правда, не так живописном, поскольку он печально возвышается над плоской и бесконечной равниной Шомуа.
До того, как свернуть на проселочную дорогу, ведущую к замку, Гийом успел рассказать своему спутнику о прочих превратностях судьбы господина Сильвена де Буа-Доре: отец хотел запереть его в башне, чтобы воспрепятствовать возвращению сына к гугенотам; молодой человек сбежал и вернулся к своему дорогому Генриху Наварскому, в рядах армии которого после смерти Генриха III сражался в течение девяти лет; и, наконец, сделав все, что в его силах, чтобы Беарнец воцарился на французском престоле, он вернулся в свои края после того, как тиран-отец отошел в мир иной и перестал быть грозой окрестностей.
— А что стало с его младшим братом? — спросил д'Альвимар, чтобы проявить интерес к рассказу.
— Его больше нет, — ответил д'Арс. — Его мало знали в Буа-Доре, поскольку отец еще в нежном возрасте отправил его на службу к герцогу Савойскому, где он погиб довольно странным образом…
В этом месте рассказ Гийома был прерван неожиданным приключением, которое, судя по всему, весьма раздосадовало д'Альвимара, потому что, будучи испанцем, он терпеть не мог, чтобы начатое дело прерывалось.
Глава третья
Расположившаяся у обочины толпа цыган при виде наших путников вскочила на ноги, как стая потревоженных воробьев, так, что лошадь д'Альвимара отпрянула в сторону. «Воробьи» эти оказались слишком ручными. Вместо того, чтобы отлететь подальше;, они, рискуя попасть под копыта, прыгали, кричали, жалобно-комично гримасничая, протягивали к всадникам руки.
Глядя на их ужимки, Гийом лишь рассмеялся и подал щедрую милостыню. Д'Альвимар же проявил неожиданную нетерпимость и, угрожая плеткой, приказал:
— Убирайтесь! Прочь с дороги, канальи!
Он даже замахнулся на мальчугана, вцепившегося в его стремя с умоляющим и несколько насмешливым видом, как все дети, с младенчества приученные к попрошайничанию на большой дороге. Гийом, ехавший сзади, заметил, как мальчишка, увернувшись от удара, схватил с земли камень и собирался запустить им в д'Альвимара, но другой паренек, постарше, удержал его за руку и отругал, чем-то угрожая..
На этом дело не кончилось. Женщина маленького роста, довольно красивая, хотя уже увядающая, взяв ребенка за руку и говоря с ним по-матерински, подтолкнула его к Гийому, а сама подбежала к д'Альвимару, протягивая к нему руку, но при этом глядя на него так, будто хотела на всю жизнь запомнить его лицо.
Д'Альвимар, все сильней раздражаясь, направил на нее лошадь и сбил бы ее с ног, если бы она ловко не увернулась. Он уже положил руку на рукоятку одного из пистолетов, которые вез в седле, словно ему ничего не стоило бы пристрелить одного из этих глупых язычников.
Цыгане переглянулись и, сбившись в кучу, о чем-то принялись совещаться.
— Вперед, вперед! — крикнул Гийом д'Альвимару.
— Почему вперед? — спросил д'Альвимар, не собираясь подстегивать лошадь.
— Потому что вы разозлили этих черных птиц. Смотрите, они сбились в стаю, как журавли в беде, а их не менее двадцати, в то время как нас всего семеро.
— Мой дорогой Гийом, неужели вы опасаетесь, что эти слабые и трусливые скоты могут причинить нам какой бы то ни было вред?
— Я не имею привычки опасаться чего бы то ни было, — возразил молодой человек несколько уязвленно. — Но мне не хотелось бы стрелять по этим несчастным оборванцам. Я даже удивлен, что они так вас рассердили, хотя было так легко отделаться от них несколькими монетами.
— Я никогда им не подаю, — ответ д'Альвимара прозвучал так сухо и резко, что доброжелательный Гийом удивился.
Он понял, что его спутник страдает тем, что сегодня называют болезнью нервов, и не стал упрекать его за резкость. Он просто настаивал на том, чтобы ускорить шаг, потому что цыгане их уже догоняли и даже обгоняли, разделившись на две команды, следующие по обеим сторонам дороги.
Между тем эти люди не выглядели враждебно настроенными, и было непонятно, с какой целью они эскортируют наших путешественников. Они переговаривались на тарабарском наречии и, казалось, были заняты лишь женщиной, шествующей впереди.
Мальчик, которого д'Альвимар хотел ударить, бежал теперь рядом с д'Арсом, будто надеясь на его защиту. Похоже, этот странный пробег казался ему увлекательным. Гийом обратил внимание, что ребенок менее грязен и менее смугл, чем остальные, и что его тонкие приятные черты лица не имеют ничего общего с цыганским типом.
Если бы он повнимательнее пригляделся к женщине, которую д'Альвимар ругал и осыпал угрозами, он бы заметил, что, хотя она ни капельки не похожа на мальчика, она тем более не похожа на своих собратьев по нищете. Она выглядела благороднее и нежнее. Помимо того, она явно не относилась к европейской расе, хотя и была одета в костюм жительницы Пиренеев.
Но самым удивительным было другое. Прекрасно поняв жест д'Альвимара, несмотря на вполне естественный страх нищих и бродяг такого типа, она храбро шагала с ним рядом, не покушаясь больше на содержимое его кошелька, вид ее был не угрожающим, но она по-прежнему рассматривала его с пристальным интересом.
Д'Альвимар был разгневан такой наглостью; еще немного; и он дал бы волю своему причудливому и жестокому воображению.
Догадавшись об этом и опасаясь, как бы не пришлось из-за сердитого д'Альвимара связаться с безобидными бродягами, Гийом подъехал поближе и, загородив своей лошадью Скьярра от женщины, сделал ей знак остановиться и обратился к ней с полусерьезной-полушутливой речью:
— Не изволите ли, королева дроков и вересков, сообщить нам, по какой причине вы нас сопровождаете столь странным образом, чтобы оказать нам честь или пристыдить нас? Должны ли мы быть польщены или огорчены этой церемонией?
Египтянка (в то время египтянами, или цыганами, называли всех бродяг непонятного происхождения) покачала головой и жестом подозвала мальчика, который удержал другого от того, чтобы бросить камень.
Подойдя с дерзким видом, он вкрадчиво и без малейшего акцента обратился к Гийому:
— Мерседес, — указывая на женщину, произнес он, — не понимает языка ваших милостей. Вместо тех из наших, кто не знает французского, говорю я.
— Хорошо, — кивнул молодой дворянин, — значит, ты оратор своей группы. Как тебя величать, господин нахал?
— Флеш[64], если угодно вашей милости. Я имел честь родиться во Франции, в городе, имя которого с тех пор ношу.
— Это, несомненно, великая честь для Франции. Итак, мэтр Флеш, скажи своим спутникам, чтобы они оставили нас в покое. Учитывая, что я сейчас в дороге, вы получили от меня вполне достаточно, и плохая благодарность за мою щедрость заставляет нас дышать поднимаемой вами пылью. Прощайте, и отстаньте от нас, а если у вас есть ко мне еще какая-нибудь просьба, говорите быстрей, мы торопимся.
Флеш быстро перевел слова Гийома женщине по имени Мерседес, к которой, казалось, не только он, но и все остальные относились с особым почтением.
Она произнесла несколько слов по-испански, и Флеш снова обратился к д'Арсу:
— Эта женщина смиренно просит сообщить ей ваши имена, чтобы она могла за вас молиться.
Гийом расхохотался.
— Вот это просьба! Передай ей мой совет: пусть молится за нас без имен. Господь Бог и без того хорошо нас знает, и она вряд ли сообщит ему о нас что-то ему неизвестное.
Флеш смиренно поклонился и снял свою засаленную шапчонку, а наши путники, подстегнув коней, наконец-то оставили толпу позади.
— Что это? — воскликнул д'Альвимар, заметив у линии горизонта колоколенки Мотт-Сейи. — Вы мне так и не рассказали, к какому вашему другу мы едем.
— Это замок молодой и прекрасной дамы, которая живет тут со своим отцом. Оба будут рады вас видеть. Вы пробудете у них до вечера и, надеюсь, убедитесь, что в нашей глуши люди вовсе не дикари и не чужды старинного французского гостеприимства. Вероятней всего у них находится и господин де Буа-Доре.
Д'Альвимар ответил, что нисколько в этом не сомневался, и наговорил своему спутнику массу любезностей, поскольку умел это делать, как никто другой. Но его желчный ум тут же перекинулся на иной предмет.
— Исходя из того, что вы мне сейчас рассказали о господине де Буа-Доре, мой будущий хозяин — старое чучело, вассалы которого от души над ним потешаются.
— Вовсе нет! — воскликнул молодой человек. — Из-за цыган я не успел закончить свой рассказ. Я собирался рассказать вам, что, когда он вернулся, разбогатев и получив титул маркиза, все были очень удивлены, узнав, что в бою он храбр, как лев, и, несмотря на свой благодушный вид, а также на то, что манеры его иногда кажутся комичными, он обладает христианскими добродетелями, которые делают ему честь.
— Входят ли терпимость и целомудрие в перечень вышеупомянутых христианских добродетелей?
— Почему вы об этом спрашиваете? У вас возникли какие-то сомнения?
— Я вспомнил экономку с пышной гривой, которую мы встретили у его замка. Она мне показалась слишком молодой для столь зрелого человека.
— Позор тому, кто дурно об этом подумает, — улыбнулся Гийом. — Не могу поклясться, что он не интересовался прелестями фрейлин королевы Катерины, но это было так давно! Держу пари, вы можете рассказать об этом Беллинде, не причинив ей ни малейшего огорчения. Но вот мы и прибыли. Нет необходимости напоминать вам, что предположения такого рода здесь не приняты. Наша прекрасная вдова, госпожа де Бевр, вовсе не недотрога, но в ее возрасте, в ее положении…
Всадники проехали по подъемному мосту, который ввиду спокойствия, царящего в этих краях, постоянно был опущен, опускная решетка поднята.
Они беспрепятственно и без лишних церемоний въехали во двор усадьбы и спешились.
— Одну минуту, — обратился д'Альвимар к Гийому. — Когда вы будете меня представлять, прошу вас, не называйте при слугах моего имени.
— Ни здесь, ни в другом месте я его не назову, — ответил господин д'Арс. — Поскольку вы говорите без малейшего акцента, никому в голову не придет, что вы испанец. За кого из парижских друзей вы хотели бы сойти?
— Роль другого человека меня стесняет. Я предпочитаю остаться более-менее самим собой и назваться одним из семейных имен. С вашего позволения, я буду называться Виллареаль, а что касается причины моего бегства из Парижа…
— Вы объясните ее маркизу наедине и скажете, что вам будет угодно. Я лишь скажу, что вы мой друг, что вы спасаетесь от преследования и что я прошу оказать вам прием, который бы я устроил сам.
Глава четвертая
Замок Мотт-Сейи (это название в конце концов закрепилось) почти полностью сохранился до наших дней. Он состоит из пятиугольной въездной башни в феодальном средневековом стиле, жилого здания с большими окнами, окруженного прочими строениями, над одним из которых возвышается главная башня. В левом здании со сводчатыми потолками и мощными нервюрами[65] конюшни, а также кухня и спальни для дворни. Справа часовенка с готическими окнами времен Людовика XII и короткая открытая галерея, поддерживаемая двумя приземистыми столбами, окруженными рельефными нервюрами, как толстые стволы деревьев, опутанные лианами.
Эта галерея ведет к главной башне, относящейся, как и входная башня, к двенадцатому веку. Убранство круглых комнат было скромным, вид оживляли красивые колонны, у основания напоминающие когти. Винтовая лесенка в маленькой башне по соседству с большой проходила внутри древнего сруба, который и в наше время является подлинным произведением искусства.
В центре этой башни под сводом находилась так называемая деревянная лошадка, то есть дыба, применение которой было хладнокровно упорядочено еще ордонансом 1670 года. Это ужасное приспособление относится ко времени строительства замка, поскольку составляло одно целое с остовом[66].
В этом бедном и мрачном замке прекрасная Шарлотта д'Альбре, жена жестокосердного Чезаре Борджа, прожила пятнадцать лет и умерла еще молодой, прожив жизнь, полную страдания и святости.
Известно, что гнусный кардинал, байстрюк Папы римского, развратник, кровосмеситель, кровожадный тиран, любовник родной сестры Лукреции и убийца собственного брата и соперника, в один прекрасный день решил сложить с себя духовный сан и отправился во Францию в надежде найти выгодную партию для женитьбы.
Людовик XII хотел расторгнуть свой брак с Жанной, дочерью Людовика XI, чтобы жениться на Анне Бретонской. Это было невозможно без папского согласия. Король получил его в обмен на то, что отдал байстрюку, кардиналу-кондотьеру, область Валентинуа и руку принцессы.
Шарлотта д'Альбре, красивая, умная и чистая, была принесена в жертву: несколько месяцев спустя муж ее оставил, и она жила, как вдова.
Купив это печальное поместье, она отправилась туда воспитывать свою дочь[67]. Единственным ее развлечением вне стен замка были поездки в Бурж, к ее мистической подруге по несчастью Жанне Французской, отвергнутой королеве, ставшей доброй герцогиней де Берри.
После смерти Жанны Шарлотта, которой было тогда всего двадцать четыре года, одела траур и не снимала его до самой смерти, не выезжала больше из замка. Она умерла девять лет спустя, в 1514 году.
Тело ее было перевезено в Бурж и погребено рядом с Жанной, а полвека спустя эксгумировано, подвергнуто надругательствам и сожжено кальвинистами, равно как и останки другой несчастной святой. Ее сердце покоилось в сельской часовне Мотт-Сейи, в прекрасном склепе, заказанном для нее дочерью.
Но материальной памяти об этой печальной судьбе не суждено было сохраниться. В 1793 крестьяне обрушили весь гнев, накопившийся в их сердцах, против несчастного склепа, разрушили мавзолей, обломки которого еще валяются окрест. Расколотая на три части статуя Шарлотты стоит, прислоненная к стене. Заброшенная церковь разрушается сама по себе. Сердце несчастной страдалицы, наверняка, было запечатано в золотой или серебряный ларец; что-то с ним сталось? Может, продано по дешевке, а может, где-то спрятано из страха или уважения к ее памяти и до сих пор хранится в какой-нибудь деревенской лачуге, а новые ее обитатели ничего не знают про то, что ларец лежит под камнем очага или зарыт под терновником изгороди.
В наши дни реставрированный замок нежится под лучами солнца, через частично разрушенную стену солнце проникает на его посыпанный песком внутренний дворик. Вода в старинных рвах, которые, как я полагаю, питает соседний источник, бежит подобно небольшой веселой речушке через недавно обустроенный английский сад.
Могучий тис, современник Шарлотты д'Альбре, величественно опирается на каменные глыбы, специально подложенные под его ветки, чтобы поддержать его монументальную дряхлость. Несколько цветков и одинокий лебедь будто бы меланхолично улыбаются горестному замку.
Горизонт по-прежнему хмур, пейзаж уныл, башня мрачна, но наш артистический век любит мрачные жилища, старые разоренные гнезда, крепкие постройки, доставшиеся в наследство от тяжелого и горького прошлого, которое народ уже не помнит, которое не помнил уже в 1793 году, поскольку разорил могилу кроткой Шарлотты вместо того, чтобы поломать дыбу в Мотт-Сейи.
Во времена, к которым относится наш рассказ, закрытый со всех сторон замок был одновременно мрачнее и комфортабельнее, чем в наши дни.
Большие камины с чугунными литыми очагами жарко нагревали просторные комнаты. Обивку на стенах уже заменили на фетровую бумагу удивительной красоты и толщины. Вместо наших красивых персидских занавесей, которые дрожат от ветра, дующего из окон, висели шторы из тяжелого дамасского шелка, а в более скромных домах — занавеси из очесов шелка, которые служили лет по пятьдесят. Керамику в коридоре и лавочки застилали коврами, сотканными из смеси шерсти, хлопка, льна и конопли.
В те времена паркет было принято красиво инкрустировать. Серванты были заставлены красивым неверским фаянсом, причудливыми кубками из цветного стекла, которые извлекались оттуда только в торжественных случаях. Их делали в форме памятников, растений, кораблей или фантастических животных.
Итак, несмотря на внешнюю простоту хозяйского дома, господин д'Альвимар нашел помещение уютным, чистым, даже довольно элегантным, в нем чувствовалось если не богатство, то по крайней мере настоящий достаток.
После замужества Луизы Борджа замок Мотт-Сейи отошел к дому де ля Тремуй, с которым господин де Бевр был связан по материнской линии.
Это был суровый и храбрый дворянин, который не стеснялся высказывать вслух свое мнение и не скрывал своих убеждений. Его единственная дочь, Лориана[68], в возрасте двенадцати лет была выдана за своего кузена, шестнадцатилетнего Элиона де Бевра.
Дети редко виделись, поскольку провинция была охвачена событиями, в которых господа де Бевр считали своим долгом принять участие. На следующий день после свадьбы они покинули замок, чтобы отправиться на помощь герцогине Неверской, принявшей сторону принца Конде и в данный момент осажденной в своем добром городе Монтини (Франциска де Гранжа).
Храбро пытаясь прорваться в город прямо на глазах у католиков, юный Элион погиб. Вернувшись в деревню, господин де Бевр с болью в сердце вынужден был сообщить своей обожаемой дочери, что она стала вдовой, не лишившись девственности.
Лориана долго оплакивала своего юного кузена и мужа. Но можно ли бесконечно рыдать в возрасте двенадцати лет? Тем более, что отец подарил ей такую красивую куклу. Юбка у этой куклы была из серебряной ткани, башмачки из красного бархата. А когда Лориане исполнилось четырнадцать, ей привезли из Буржа прекрасную маленькую лошадку из конюшен самого принца. Помимо того, Лориана, которая в момент своей свадьбы была худенькой и бледной девчушкой, к пятнадцати годам превратилась в столь свежую, элегантную и любезную блондинку, что не стоило опасаться, что ее вдовство будет продолжительным.
Но ей было так спокойно рядом с отцом, она чувствовала себя полновластной хозяйкой в доставшемся ей в приданое имении, что вовсе не торопилась повторно вступать в брак. Разве ее и без того не называют мадам? А желание услышать это обращение не одну молодую девушку склонило к замужеству. А что касается подарков, празднеств, свадебных нарядов?
Лориана наивно говорила:
— Я уже познала все радости и тяготы свадьбы.
Между тем, хотя господин де Бевр имел немалое состояние, за которым рачительно следил и которое благодаря уединенному образу жизни постоянно увеличивалось, ему не удавалось найти для дочери подходящей партии.
Господин де Бевр поднялся на борьбу за дело Реформы в момент, когда, истощи и свои людские и денежные возможности, движение в провинциях стало затухать. Все вокруг стали католиками или по крайней мере делали вид. Кальвинизм в Берри находился в упадке, момент его недолгого взлета давно прошел.
Но год 1562[69] давно прошел, и крепостные стены Сансера, досадной твердыни, были давно срыты до самого основания.
Беррийцы не мстительны и не склонны к фанатизму, так что после недолгого удивления и возбуждения, когда явившиеся извне страсти захватили простолюдинов и третье сословие, снова воцарилась империя страха перед сильными мира сего, который и составляет основу политики этой провинции.
Что касается сильных мира сего, они, как обычно, торговали своей покорностью. Конде превратился в ревностного католика. Де Бевр, служивший сперва у его отца и потерявший зятя на службе принцу, как и следовало ожидать, оказался в немилости и больше не показывался в Бурже. Направленные к нему принцем иезуиты, стремившиеся склонить его к отречению, вернулись ни с чем.
Де Бевр вовсе не был религиозным фанатиком, принимая доктрину Лютера, он следовал скорее политическим соображениям и вскоре понял, что ошибся. Но было уже поздно: у всех отпала необходимость его покупать. Ограничивались тем, что пытались его запугать, в частности, ему дали понять, что он не сможет пристроить свою дочку в этих краях, если продолжит упорствовать в ереси. Гордо державшийся перед прочими угрозами, он начал колебаться из страха, что Лориана останется одинокой и его имение перейдет в женские руки.
Но сама Лориана помогла ему устоять. Воспитанная им в протестантской вере и получившая посредственное образование, она в своем сердце смешивала обряды и молитвы обеих религий.
Она не стремилась по длинным и дурным дорогам Иссудена и Линньера любой ценой добраться до протестантской проповеди, но и не вздрагивала от отвращения, слыша перезвон с католической колокольни. Но иногда за ее приветливой и почти детской мягкостью угадывались ростки великой гордости. Заметив, что ее отец страдает при мысли о необходимости публичного отречения, она с удивительной энергией пришла ему на помощь, заявив прибывшим из Буржа иезуитам:
— Напрасно вы пытаетесь обратить меня в свою веру, обещая мне знатного мужа-католика. Я поклялась в своем сердце, что скорее выйду за человека низкого происхождения, зато моей веры.
Глава пятая
Недели через две после последнего посещения Мотт-Сейи иезуитами Гийом д'Арс представил владельцам замка Скьярра д'Альвимара.
И отец, и дочь вышли навстречу гостям, а вот маркиза де Буа-Доре в доме не оказалось — он с лесником господина де Бевра поехал травить зайца.
Новая помеха весьма расстроила молодого д'Арса. Его поездка откладывалась час за часом, и он уже отчаялся попасть в Бурж сегодня.
Скьярра д'Альвимар представился с немалым изяществом, и с самого начала любезной беседы де Бевр, который понимал в этом толк не потому, что часто бывал в Париже, но в силу того, что много времени провел при провинциальных дворах, где каждый сеньор мнил себя не ниже короля, сразу же понял, что имеет дело с человеком, принадлежащим к высшему свету.
Что до господина д'Альвимара, он был поражен грацией и юностью Лорианы и, долгое время полагая, что это младшая дочь господина де Бевра, ожидал, когда его представят вдове, о которой говорил Гийом.
Лишь через добрых четверть часа он понял, что это прелестное дитя и есть хозяйка замка.
В десять утра сели обедать, к этому времени вернулся Гийом, который отправился в луга на поиски господина Сильвена.
— Я предупредил маркиза, — обратился он к Скьярра, — и он скоро приедет. Он обещал мне принять вас у себя и быть вашим другом до моего возвращения. Так что я оставляю вас в хорошей компании, а сам постараюсь наверстать упущенное время.
Напрасно его пытались уговорить остаться обедать. Он ускакал, поцеловав руку прекрасной Лориане, обменявшись рукопожатием с господином де Бевром и обняв д'Альвимара, пообещав вернуться не позже, чем в конце недели, и забрать его из Брианта в д'Арс, где, как он надеется, гость пробудет еще немало времени.
— Итак, — обратился господин де Бевр к д'Альвимару, — подайте руку владелице замка и пойдемте к столу. Не удивляйтесь, что мы не стали ждать нашего друга Буа-Доре. У него вошло в привычку, даже если охота продолжалась не более пятнадцати минут, после этого не менее часа тратить на приведение в порядок туалета, и ни за что на свете он не покажется даме, даже Лориане, которая ему в дочки годится и которая выросла у него на глазах, не умывшись, не надушившись и не переодевшись с головы до ног. Мы не видим большого зла в этой его маленькой слабости. Между нами не приняты церемонии и, отложив из-за него обед, мы бы его, напротив, стеснили.
— Не следовало ли мне, — спросил д'Альвимар, когда его усадили за стол, — подняться в комнату маркиза, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение до того, как приступить к обеду?
— Нет, — со смехом воскликнула Лориана. — Он расстроился бы, если бы гость застал его за одеванием. Не спрашивайте, почему, увидев его, вы сами все поймете.
— Кроме того, — добавил ее отец, — ваша предупредительность к нему может быть обусловлена только вашей разницей в возрасте, ведь, поскольку он вас принимает, это он должен оказывать вам знаки внимания. Господин д'Арс поручил мне представить вас маркизу, и я с удовольствием исполню эту миссию.
Полагая, что д'Альвимар молод, господин де Бевр разделял всеобщее заблуждение.
Хотя ему было в ту пору около сорока, он выглядел не более чем лет на тридцать. Возможно, в глубине души господин де Бевр сравнивал красивое лицо своего гостя со своей дорогой Лорианой. Его постоянной заботой были поиски для нее супруга, который был бы не из этих краев и не требовал бы публичного отречения.
Наивный старик, он не знал, что засилье иезуитов установилось повсеместно. Кроме того, он не подозревал, что в душе д'Альвимар был верным рыцарем прекрасной дамы Инквизиции.
Желая обеспечить своему другу сердечный прием, Гийом ни словом не обмолвился о том, что он ревностный католик. Сам он тоже был католиком, но весьма терпимым и даже маловерующим, как большинство светских молодых людей. Поэтому и представляя гостя господину де Бевру, и рекомендуя его господину де Буа-Доре, он не поднял вопрос о религии, которому, впрочем, все трое не придавали особого значения при общении с друзьями. Он ограничился тем, что сообщил господину де Бевру, что господин де Виллареаль происходит из хорошей семьи и довольно богат. Гийом и сам в это верил, поскольку д'Альвимар скрывал свою бедность со всей гордостью, присущей испанцам в этом вопросе.
Первая перемена блюд была подана со всей медлительностью, на которую только способны беррийские слуги, и съедена с методической медлительностью хорошо воспитанных людей.
Терпеливое пережевывание пищи, длинные паузы между глотками, рассказы радушных хозяев между блюдами до сих пор являются для беррийских стариков признаком хорошего тона. В наши дни крестьяне стараются перещеголять друг друга хорошим воспитанием, и когда садишься с ними обедать, можно быть уверенным, что проведешь за столом не менее трех часов, даже если подан будет лишь кусок сыра, да бутылка вина.
Д'Альвимар, живой и беспокойный ум которого не знал отдыха, воспользовался величественным жеванием господина де Бевра, чтобы побеседовать с его дочерью, которая ела быстро и мало, занимаясь больше отцом и гостем, чем собой.
Он был удивлен, обнаружив столь острый ум у девушки, которая, не считая двух-трех поездок в Бурж и Невер, никогда не покидала своих владений.
Лориана не получила приличного воспитания и, вероятно, не смогла бы написать большое письмо, не сделав в нем нескольких ошибок. Но у нее была правильная речь, и, слыша разговоры отца с соседями о недавних событиях, она начала неплохо разбираться в истории, начиная с царствования Людовика XII и первых религиозных войн.
Помимо природного такта и деликатности, ее ум обладал прямотой и хитростью, чисто беррийским сочетанием, а союз двух этих противоположностей создает оригинальную манеру думать и говорить.
Она родилась в тех краях, где правду говорят с улыбкой и каждый знает, что его поймут.
Д'Альвимар почувствовал перед этой девушкой некоторую робость, сам не зная, почему. Иногда ему казалось, что она угадала его характер, его жизнь, его недавнее приключение и что она мысленно говорит: «Несмотря на все это, мы останемся к вам добры, мы все равно к вашим услугам».
Когда наконец дошла очередь до жаркого, среди хлопанья дверей и звона тарелок появился господин де Буа-Доре, впереди него шествовал богато разодетый молодой слуга, нечто вроде пажа, будто чтобы подтвердить стих, еще не сочиненный, о нелепости ему подобных: Каждый маркиз хочет, чтобы у него были пажи, что, кстати, противоречило ордонансам, разрешавшим иметь пажей лишь принцам и самым высокопоставленным вельможам.
Несмотря на вечную свою меланхолию и нынешнюю озабоченность, д'Альвимар с трудом удержался, чтобы не рассмеяться при виде своего временного хозяина.
В свое время Сильвен де Буа-Доре был очень красив. Завидного роста, прекрасно сложенный, черноволосый и белолицый, с живыми глазами, тонкими чертами лица, сильный и легкий в движении, он в свое время покорил сердца многих дам, но ни разу не смог вызвать прочной или страстной любви. Быть может, дело тут было в его легкости и скупости его собственных эмоций.
Безграничная доброта и верность, принимая во внимание эпоху и среду, королевская расточительность в те дни, когда судьба неожиданно делала его богатым, и стоическая философия в часы нищеты (как он сам называл минуты безденежья), все эти приятные и легкие качества авантюриста-сподвижника Беарнца были недостаточны, чтобы сделать из него пылкого героя, какие были в моде в дни его юности.
В ту экзальтированную и кровавую эпоху, чтобы подняться над романтической привязанностью, роман должен был содержать в себе хоть каплю жестокости. Буа-Доре, отважный в сражении, все прочее время был чрезвычайно мягкосердечен. Он не убил на дуэли ни одного мужа или брата, не зарезал в объятиях неверной любовницы ни одного соперника. С Жавоттой или Нанеттой он легко находил утешение после измены Дианы или Бланки. Поэтому, несмотря на его склонность к пасторальным и рыцарским романам, женщины считали, что у него рыбья кровь и недалекий ум.
Тем легче ему было сносить женскую неверность — он ее просто не замечал. Он знал, что красив, добр и храбр. Его любовные приключения были непродолжительны, но многочисленны. И, честно говоря, он любил понемногу каждую из красавиц, не питая страсти ни к одной из них.
Сердце его было более склонно к дружбе, чем к страсти. Он был счастлив, не терзаясь стремлением вызвать страсть.
Его считали бы эгоистом, если бы это обвинение хоть как-то вязалось с упреками в чрезмерной доброте и гуманности. В какой-то степени он был карикатурой на славного Генриха, которого многие называли предателем и бесчестным, но, сойдясь с ним поближе, проникались к нему любовью.
Но время летит, и это тоже, как неверность любовниц, мессир де Буа-Доре не соизволил замечать. Его легкое тело утратило былую гибкость, благородный лоб лишился волос, вокруг глаз, как лучи вокруг солнца, пробежали морщины, из всей своей юной красоты он сохранил лишь зубы, немного длинноватые, но все еще белые и ровные. Он до сих пор мог колоть зубами поданные на десерт орехи и нередко таким образом привлекал к себе внимание общества. Соседи говорили даже, что он бывал расстроен, когда, принимая его, забывали поставить орехи на стол.
Говоря, что господин де Буа-Доре не снисходил до того, чтобы заметить причиненный ему временем урон, мы имеем в виду, что он все еще был собою доволен. Он, конечно, понимал, что старится, и упорно боролся с разрушительным временем, тратя большую часть своих жизненных сил на эту битву.
Заметив, что волосы стали седеть и редеть, он отправился в Париж, чтобы заказать парик у лучшего мастера. Изготовление париков к тому времени превратилось в настоящее искусство. Но знатоки старины сообщили нам, что щеголю, желавшему видеть на своей голове пробор из белого шелка и по одному приклеенные к парику волосы, приходилось выложить за подобный парик не менее шестидесяти пистолей.
Господина де Буа-Доре не могла остановить такая безделица, он разбогател и тратил двенадцать — пятнадцать экю на будничную одежду и пять-шесть тысяч на праздничную. Он отправился выбрать себе парик. Сперва ему понравилась русая грива, которая, по словам мастера, как нельзя лучше ему подходила.
Буа-Доре никогда не был блондином и уже почти поддался уговорам мастера, когда ему пришло в голову померить парик с шатеновыми волосами, который, опять же по словам продавца, смотрелся на нем просто великолепно. Оба парика стоили одинаково. Но Буа-Доре померил все-таки третий, стоивший на десять экю дороже, и тот привел мастера в совершенный восторг: именно этот парик как нельзя лучше подчеркивал достоинства господина маркиза.
Буа-Доре вспомнил, что в свое время дамы говорили ему, что редко встречаются столь черные волосы при столь белой коже.
— Вероятно, мастер прав, — подумал он.
Тем не менее он несколько минут с изумлением взирал на свое отражение, поскольку эта черная грива делала его лицо твердым и жестоким.
— Удивительно, — воскликнул он, — как эта вещица меня изменила! А ведь это цвет моих собственных волос. Но в юности я выглядел добрым, как и сейчас, И черные волосы не придавали мне вид злого мальчишки.
Ему не пришло в голову, что природа во всем стремится к гармонии, и когда она нас одаряет, и когда разоряет, и что к его нынешнему лицу лучше всего подходят седые волосы.
Но продавец так настойчиво убеждал его, что в этом парике он выгладит никак не старше, чем лет на тридцать, что маркиз не только купил этот парик, но заказал еще один такой же, по его словам, из экономии, чтобы поберечь первый.
Тем не менее на следующий день он спохватился. Он пришел к выводу, что с волосами молодого человека стал выглядеть еще старше, и это подтвердили все, к кому он обратился за советом.
Тогда мастер объяснил, что волосы должны соответствовать цвету бороды и бровей, и немедленно всучил ему черную краску. Но с подкрашенными бровями и бородой лицо маркиза стало казаться смертельно бледным, и поэтому потребовалось накладывать еще и румяна.
— Получается, стоит ступить на этот путь, и остановиться невозможно?
— Таков обычай, — ответил мастер. — Надо либо выглядеть, либо казаться, выбирайте.
— Но разве я стар?
— Нет, поскольку употребляя мои средства, вы выглядите молодым.
С этого дня Буа-Доре начал носить парик, красить брови, усы и бороду, маскировать ароматическими пудрами каждую морщинку, душиться и рассовывать ароматические саше по всему телу. Когда он выходил из своей комнаты, это чувствовалось даже во дворе, а если он проходил мимо псарни, гончие еще целый час чихали и морщили носы.
Завершив превращение величественного старика в старую балаганную марионетку, он, помимо того, решил испортить свою осанку, приказав зашить в камзол двойные стальные пластинки, благодаря которым он целый день держался неестественно прямо, а к вечеру еле добредал до кровати.
Он бы свел себя этим в гроб, но, к счастью для него, мода изменилась.
На смену жестким камзолам времен Генриха IV пришли широкие легкие плащи с широкими рукавами в стиле фаворитов Людовика XIII. Фоссебреи уступили место широким кюлотам, отражающим каждый наклон тела.
Не без труда Буа-Доре примирился с этими нововведениями и расстался с несгибаемыми выпуклыми фрезами, зато он стал лучше себя чувствовать в легких ротондах. Он горько сожалел о позументах, но вскоре утешился бантами и кружевами. После очередной поездки в Париж он вернулся одетый по моде и переняв у придворных щеголей манеру с небрежной непринужденностью разваливаться в креслах, принимать утомленные позы, медленно, будто нехотя (со счетом на три), поднимаясь. Одним словом, учитывая его высокий рост и раскрашенное лицо, он представлял собой тип прошлого маркиза, какой тридцать лет спустя Мольер сочтет смешным и готовым для сатиры.
Но все это помогало Буа-Доре скрыть реальный груз своих лет за маской, превращавшей его в комическое привидение.
Сперва вид маркиза почти ужаснул д'Альвимара. Ему было дико смотреть на изобилие черных локонов над изборожденным морщинами лицом, на злобные черные брови над добрыми глазами, на яркие румяна, все это казалось безумной маской, одетой на благородное и благожелательное лицо.
Что до костюма, его изысканность, обилие галунов, вышивок, бантов, розеток, плюмажей среди бела дня в деревне казались совсем неуместными. Весь костюм был выдержан в нежных палевых тонах, которые маркиз обожал. К сожалению, эти цвета никак не гармонировали с львиным видом его щетинистых усов и париком.
Но прием, оказанный ему престарелым маркизом, быстро разрушил первое отталкивающее впечатление, произведенное этим маскарадом.
Господин де Бевр поднялся, чтобы представить друга Гийома маркизу и напомнить, что именно ему выпала честь несколько дней принимать у себя высокого гостя.
— Я оспаривал бы у вас это удовольствие исчастье, — сказал господин де Бевр, — если бы находился в собственном доме. Но мне нельзя забывать, что я нахожусь у своей дочери. К тому же этот дом менее богат и красив, чем ваш, мой дорогой Сильвен, поэтому мы не хотим лишать господина де Виллареаля приятного времяпрепровождения, которое ожидает его у вас.
— Я принимаю вашу гиперболу, — ответил Буа-Доре, — если благодаря ей я буду иметь счастье принимать под своей крышей дорогого гостя.
Распахнув руки, он обнял так называемого Виллареаля, в доброй улыбке обнажив свои красивые зубы:
— Будь вы самим дьяволом, месье, с того момента, как вы стали моим гостем, вы для меня, как брат.
Маркиз специально не сказал «как сын». Он боялся таким образом раскрыть свой истинный возраст. С тех пор, как сам он перестал вести счет годам, он полагал, что и остальные следуют его примеру.
Виллареаль д'Альвимар прекрасно обошелся бы без того, чтобы обниматься со столь недавно обращенным католиком, тем более, что духи, которыми маркиз был буквально пропитан, отбили у него аппетит, а маркиз, разжав объятия, крепко сжал ему руку своими сухими пальцами, унизанными огромными кольцами. Но д'Альвимар должен был прежде всего заботиться о собственной безопасности, а по сердечному и решительному тону господина Сильвена он понял, что попал в дружеские и надежные руки.
Он выразил признательность за оказанное ему двойное гостеприимство. Судя по всему, это был один из его удачных дней, и, вставая из-за стола, оба провинциальных дворянина были им совершенно очарованы.
Д'Альвимар был бы не прочь теперь немного отдохнуть, но владелец замка предложил ему партию в шахматы, затем втроем с Буа-Доре они сыграли в биллиард, и маркиз дал себя обыграть.
Д'Альвимар любил игры, к тому же выигрыш в несколько золотых экю был ему далеко не безразличен.
Несколько часов они провели втроем, но принятые при играх беседы не давали им возможности познакомиться ближе.
Госпожа де Бевр, покинувшая их сразу после обеда, вернулась к четырем часам, заметив в окно, что во внутреннем дворе начались приготовления к отъезду гостей.
Она предложила перед расставанием совершить всем вместе небольшую прогулку.
Глава шестая
Стоял конец октября, но было еще ясно и тепло, до сих пор продолжалось бабье лето. Обнаженные деревья выделялись на фоне красного солнца, садящегося за черные кусты у горизонта.
Гуляющие шагали по ковру из сухих листьев, по самшитовым и буковым аллеям.
Когда они шли вдоль рвов, вслед за ними плыли красивые карпы, привыкшие получать от Лорианы хлебные крошки. Маленький ручной волк следовал за ними, как собака, но порабощенный и запуганный крупным спаниелем, любимцем господина де Бевра, молодым и дурашливым, который вовсе не питал отвращения к столь подозрительному спутнику, катал его по земле и покусывал с замечательной грубостью ребенка из хорошей семьи, соизволившего поиграть с простолюдином.
Д'Альвимар собирался подать руку прекрасной Лориане, но заметил, что маркиз приближается к ней с теми же намерениями.
Но галантный маркиз тоже отступил:
— Это ваше право, — сказал он. — Такой гость, как вы, имеет преимущество перед остальными друзьями. Но вы должны оценить, на сколь великую жертву я иду ради вас.
— Я высоко ценю вашу жертву, — ответил д'Альвимар, на руку которого Лориана положила свою маленькую ручку. — Вы ко мне вообще очень добры, но этот поступок, я полагаю, непревзойден.
— Я с удовольствием замечаю, — продолжал Буа-Доре, шагая слева от мадам де Бевр, — что вы понимаете французскую галантность, как наш покойный король, блаженной памяти Генрих IV.
— Надеюсь, что даже лучше, с вашего позволения.
— О, это не так легко!
— Мы, испанцы, понимаем это по крайней мере иначе. Мы полагаем, что верная преданность женщине предпочтительнее галантности ко всем.
— О, мой дорогой граф… Вы ведь граф, не правда ли? Или герцог?.. Извините, вы же испанский гранд, я знаю, я вижу… Так вы увлекаетесь совершенной верностью, как в романе? На свете нет ничего более прекрасного, мой дорогой гость, даю слово!
В это время господин де Бевр отозвал Буа-Доре в сторону, чтобы показать ему какое-то недавно посаженное дерево. Д'Альвимар воспользовался минутой, чтобы спросить у Лорианы, не потешается ли над ним господин де Буа-Доре.
— Нисколько, — ответила она. — Знайте, что излюбленным чтением господина де Буа-Доре является роман «Астрея» д'Юрфе[70], он знает его почти наизусть.
— Но как мог сочетаться вкус к возвышенной страсти с нравами предыдущего двора?
— Все вполне понятно. Когда наш друг был молод, он, как говорят, любил всех женщин. Старея, его сердце остыло, но он хочет скрыть это, как пытается скрывать свои морщины, поэтому делает вид, что к добродетели возвышенных чувств его склонил пример героев «Астреи». То есть, чтобы объяснить окружающим, почему он не ухаживает ни за одной красавицей, он гордится верностью одной-единственной, имени которой не называет, которую никто никогда не видел и не увидит по той простой причине, что она существует лишь в его воображении.
— Возможно ли, чтобы в его лета он еще полагал для себя необходимым прикидываться влюбленным?
— Очевидно, поскольку он хочет казаться молодым. Если он признает, что стал равнодушен к женщинам, чего ради он стал бы румянить лицо и носить парик?
— То есть, вы полагаете, что невозможно, будучи молодым, не быть влюбленным в женщину?
— Я ничего об этом не знаю, — живо возразила мадам де Бевр. — У меня совершенно нет опыта, и я не знаю сердца мужчин. Но мне случалось слышать, что дело обстоит именно так, а господин де Буа-Доре, тот просто в этом убежден. А каково ваше мнение, мессир?
— Я полагаю, — сказал д'Альвимар, желая узнать мнение молодой дамы, — что можно жить долго старой любовью в ожидании новой любви.
Ничего не ответив, она устремила взор красивых голубых глаз в небо.
— О чем вы думаете? — спросил он с несколько излишне нежной фамильярностью.
Казалось, Лориану удивил этот нескромный вопрос.
Глядя ему прямо в лицо, будто спрашивая: «А вам что за дело до этого?», на словах она не проявила резкости и мягко, с улыбкой ответила:
— Ни о чем.
— Так не бывает, — возразил д'Альвимар, — люди всегда думают о чем-то или о ком-то.
— Иногда думают мимоходом, настолько смутно, что секунду спустя уже не помнят, о чем думали.
Лориана сказала неправду. Она думала о Шарлотте д'Альбре, и мы расскажем вам, о чем она замечталась.
Перед ней будто предстала несчастная принцесса и ответила ей на вопрос, заданный д'Альвимаром. Вот ее ответ: «Иногда молодая девушка, которая никогда не любила, легко соглашается на любовь, потому что ей не терпится полюбить, в результате она иногда попадает в руки негодяя, который ее терзает, мучает и покидает».
Д'Альвимар, конечно же, не догадывался о видении, посетившем эту юную душу. Он полагал, что это кокетство, и игра ему понравилась, хотя его душа оставалась холодной, как мрамор.
Он продолжал настаивать:
— Могу поспорить, что вы подумали о настоящей любви, не о такой, что изображает господин до Буа-Доре, а о любви, которую вы могли бы если не испытать, то по крайней мере внушить галантному человеку.
Он произнес эти банальные слова прочувствованно и растроганно, как он умел говорить подобные вещи. Лориана вздрогнула, вырвала свою руку, побледнела и отступила.
— Что случилось? — воскликнул он, пытаясь вновь завладеть ее рукой.
— Ничего, ничего. — Она изобразила подобие улыбки. — Я заметила в камышах ужа и испугалась. Сейчас позову отца, чтобы убил его.
Она убежала, д'Альвимар остался на месте, раздвигая своей тросточкой камыши в поисках проклятой твари.
Но там не обнаружилось ни одного животного, ни безобразного, ни прекрасного. Когда он начал искать взглядом госпожу де Бевр, то увидел, что она, покинув сад, уже вернулась во внутренний двор.
— Вот чувствительная натура, — подумал он, глядя ей вслед, — возможно, конечно, ее напугала змея, но скорее ее так взволновали мои слова… Ах, почему королевы и принцессы, в руках которых высшие судьбы, не так простодушны, как деревенские дамочки!
Пока его честолюбие тешилось смятением Лорианы, та поднялась в часовню Шарлотты д'Альбре, но не затем, чтобы там молиться. Она пришла в католическую часовню, чтобы убедиться в правоте своих подозрений, которые ее внезапно потрясли.
В маленькой часовне хранился уже почерневший от времени портрет, который никогда никому не показывали, но хранили там, где нашли, из уважения к порядку, принятому здесь при жизни святой их семьи.
Лориана видела этот портрет два раза в жизни. Впервые она заметила его случайно, когда пожилая женщина, поддерживавшая в часовне чистоту, стала вытирать пыль в шкафчике, закрывавшем портрет.
Лориана была тогда совсем ребенком. Портрет напугал ее, хотя она не поняла, почему.
Второй раз — недавно, когда отец, пересказывая ей полную легендарных подробностей историю бедной герцогини, сказал:
— И все-таки наша святая родственница не ненавидела этого монстра. Быть может, она любила его до того, как узнала, какими чудовищными преступлениями он запятнан, а может, повинуясь христианскому милосердию, она считала своим долгом за него молиться; так или иначе она держала его портрет в этой часовне.
Лориана поняла, чей портрет когда-то так напугал ее, и ей захотелось взглянуть на него еще раз. Она рассматривала его пристально и хладнокровно, обещая себе, что никогда не выйдет замуж за человека, хоть немного похожего на изверга с портрета.
Несмотря на то, что она изучала портрет вполне спокойно, зловещий призрак еще некоторое время маячил у нее перед глазами, и, встречая жестокое лицо, она невольно сравнивала его с тем омерзительным типом на портрете. Но вскоре она об этом позабыла.
Когда ей представили д'Альвимара, ей не пришло в голову сравнить его с портретом, даже в саду, подавая ему руку, весело с ним беседуя и глядя ему в лицо, она не ощутила ни малейшей тревоги. Почему же, когда он заговорил на эту тему, она вспомнила о Шарлотте д'Альбре?
Но д'Альвимар настойчиво пытался проникнуть в ее мысли, говорил с ней почти о любви. По крайней мере в двух словах он сказал ей об этом больше, чем любой из окружавших ее друзей, молодых или старых, за всю ее жизнь.
Удивленная такой дерзостью, она снова взглянула на него, и ее удивила коварная улыбка, промелькнувшая на его красивом лице. В тот же миг профиль на фоне красного неба исторг из ее груди крик ужаса.
Молодой красавец, который заставил ее сердце биться сильней, был похож на Чезаре Борджа.
Действительно ли сходство имело место или ей просто показалось, но стоять с ним рука об руку для нее было невозможно.
Придумав повод для испуга, она убежала посмотреть на портрет, чтобы либо утвердиться в своих подозрениях, либо отказаться от них.
Глава седьмая
День быстро угасал, и, поскольку уже начало темнеть, она зашла за свечой в свою комнату, расположенную во флигеле, связанном маленькой галереей с часовней, затем сразу же отправилась к шкафчику, в котором находился портрет. Открыв шкафчик, Лориана поставила свечу так, чтобы получше разглядеть лицо нечестивца.
Портрет был очень хорош. Чезаре и Луиза Борджа были современниками Рафаэля и Микеланджело, так что при холодном изучении картина напоминала манеру раннего Рафаэля. Художник принадлежал к его школе.
Кардинал-бандит был изображен в профиль, и глаза на портрете смотрели прямо. На лице герцога де Валентинуа не было ни синеватых пятен, ни отвратительных прыщей, о которых пишут некоторые историки, ни косых глаз, «сверкающих адским огнем, который был невыносим даже для его близких и друзей». Либо художник хотел ему польстить, либо портрет был написан в тот период жизни, когда порок и преступления еще не «сочились с его лица» и не обезобразили его.
Он был бледен, чудовищно бледен и худ, острый и узкий нос, рот почти незаметен, настолько губы были тонки и бесцветны, острый подбородок, изящное лицо, довольно правильные черты, красные борода и усы. Длинные узкие глаза, казалось, погружены в блаженное размышление о каком-либо злодеянии, а невозмутимая улыбка на прозрачных губах будто говорила о дремотной мягкости, присущей удовлетворенной свирепости.
Трудно было сказать, что именно производило ужасное впечатление: оно крылось во всем. Кровь стыла в жилах при виде этой бесстыдной и жестокой физиономии.[71]
— Мне показалось! — сказала себе Лориана, вглядываясь в его черты. — Ни лоб, ни глаза, ни рот этого испанца вовсе не похожи на портрет. Сколько я ни смотрю, не нахожу ничего общего.
Закрыв глаза, она попыталась представить лицо гостя. Она вспомнила его лицо: ему весьма шло выражение сдержанной и гордой меланхолии. Она вспомнила его профиль: жизнерадостный, даже немного насмешливый, он улыбался. Но стоило ей восстановить в памяти его улыбку, как перед ней возник профиль злодея Чезаре, и тут же оба отражения будто склеились и стали неразделимыми.
Закрыв шкаф, она посмотрела на кафедру резного дерева, маленький алтарь и подушку черного бархата, истертую коленями святой Шарлотты за те часы, что она провела за молитвою. Лориана тоже встала на колени и принялась молиться, не раздумывая, где она, в церкви или в храме, протестантка она или католичка.
Она молилась Богу слабых и обиженных, Богу Шарлотты д'Альбре и Жанны Французской.
Успокоившись и заметив через окно, что лошади для отъезда гостей уже готовы, она спустилась в гостиную, чтобы попрощаться.
Она нашла своего отца в сильном возбуждении.
— Идите сюда, мадам, моя дорогая дочь, — сказал он, протягивая ей руку, чтобы усадить в кресло, которое поспешили ей подвинуть Буа-Доре и д'Альвимар. — Вы должны помирить нас. Когда мужчины остаются одни без женщин, они становятся мрачными, начинаются разговоры о политике, религии, а в подобных вопросах согласие невозможно. Добро пожаловать, моя кроткая голубица, и расскажите нам о ваших птичках, которых вы, вероятно, сейчас укладывали спать.
Лориане пришлось признаться, что она совсем позабыла о своих горлицах. Чувствуя на себе ясный и пронзительный взгляд д'Альвимара, она еле осмелилась поднять на него глаза. Конечно же, он похож на Чезаре Борджа ничуть не больше, чем добрейший господин Сильвен.
— Так вы опять поссорились с нашим соседом? — спросила она отца, поцеловав его и протягивая руку старому маркизу. — Не вижу в этом большой беды, поскольку вы сами говорите, что вам надо немного поспорить, чтобы лучше переваривать пищу.
— Нет, черт побери! — возразил де Бевр. — Если бы я поспорил с ним, я бы в этом не каялся. Ведь это мой привычный грех. Но, поддавшись духу противоречия, я поспорил с господином де Виллареалем, а это противоречит всем законам гостеприимства и приличия. Помирите нас, дорогая дочь. Вы ведь хорошо меня знаете, так скажите ему, что хоть я старый и упрямый гугенот и спорщик, но я честен и по-прежнему к его услугам.
Господин де Бевр преувеличивал. Он не был столь ревностным гугенотом, религиозные понятия в его голове вообще были чрезвычайно запутаны. Но у него были твердые политические убеждения, и он слышать не мог о некоторых противниках без того, чтобы не дать волю своей резкой откровенности.
Он обиделся на д'Альвимара, который встал на защиту бывшего правителя Берри, герцога де Шатра, который случайно был помянут в разговоре.
Лориана, которая была в курсе дела, мягко произнесла свой вердикт:
— Я оправдываю вас обоих. Вас, господин мой отец, за то, что вы подумали, что ни в чем, кроме отваги и ума, господин де Шатр не заслуживает подражания. Вас, господин де Виллареаль, за то, что вы заступились за человека, которого больше нет и который не может сам себя защитить.
— Прекрасное решение, — воскликнул Буа-Доре, — и давайте сменим тему разговора.
— Конечно, довольно о тиранах, — не унимался старый дворянин, — довольно об этом фанатике.
— Вы называете его фанатиком, — возразил д'Альвимар, который не умел уступать, — но я придерживаюсь другого мнения. Я хорошо знал его при дворе, и смею утверждать, что он скорее недостаточно любил истинную религию и видел в ней лишь средство подавления мятежа.
— Верно, — подтвердил де Буа-Доре, который терпеть не мог споры и мечтал, чтобы все это поскорее окончилось. Но господин де Бевр ерзал на стуле, и было видно, что он не считает спор завершенным.
— В конце концов, — добавил д'Альвимар, надеясь таким образом положить конец распре, — он ведь верно и преданно служил королю Генриху, памяти которого преданы все здесь присутствующие.
— И неспроста, месье! — воскликнул господин де Бевр. — Неспроста, черт подери! Где еще найти столь мудрого и доброго короля? Но сколько времени наш взбесившийся лигер де Шатр сражался против него, сколько раз он его предавал? И сколько потребовалось денег, чтобы он, наконец, успокоился? Вы еще молоды, вы человек света. Вы видели в нем куртизана и хорошего рассказчика. Но мы, старые провинциалы, прекрасно знаем провинциальных тиранов! Пусть господин де Буа-Доре расскажет вам о лжи и предательстве, которыми ваш вояка прославился во время битвы при Сансере!
— Увольте меня! — сказал Буа-Доре с явным неудовольствием. — Как я могу об этом помнить?
— А чем вам не нравятся эти воспоминания? — взвился де Бевр, не обращая внимания на настроение друга. — Бы ведь тогда уже вышли из пеленок, я полагаю.
— По крайней мере я был так молод, что ничего не помню, — настаивал маркиз.
— Я-то помню, — воскликнул де Бевр, взбешенный отступничеством де Буа-Доре, — хотя я на десять лет младше вас и меня там не было. Тогда я был пажом храброго Конде, предка нынешнего, и смею вас заверить, что он был совсем другим человеком.
— Послушайте, — вмешалась Лориана, решившая прибегнуть к хитрости, чтобы утихомирить отца и увести разговор в сторону от опасной темы, — наш маркиз должен признаться, что он присутствовал при осаде Сансера и храбро там сражался, а вспомнить об этом не хочет из скромности.
— Вы прекрасно знаете, что меня там не было, поскольку я провел все это время здесь, с вами.
— О, я имею в виду не последнюю осаду, которая продолжалась всего сутки, в мае прошлого года, это был лишь последний удар. Я говорю о великой, знаменитой осаде 1572 года.
Буа-Доре панически боялся дат. Он закашлялся, суетливо задвигался, поправил свечу, которая и без того хорошо стояла. Но Лориана решила пожертвовать им ради всеобщего спокойствия, усыпав его цветами похвал.
— Я знаю, что, хотя вы были чрезвычайно молоды, вы сражались, как лев.
— Друзья мои действительно отличились в сражении, — ответил Буа-Доре, — а дело было жаркое! Но в мои лета при всем своем рвении я не мог быть хорошим воином.
— Черт побери! Да вы лично захватили двоих пленных! — вскричал де Бевр, топая ногой. — Меня просто бесит, когда храбрец, военный человек, как вы, отказывается от своей доблести, лишь бы скрыть свои годы!
Эти слова больно ранили господина Сильвена, лицо его опечалилось. Это был единственный способ, которым он давал понять друзьям свое неудовольствие.
Лориана поняла, что зашла слишком далеко.
— Нет, месье, — обратилась она к отцу, — позвольте вашей дочери сказать, что вы пошутили. Поскольку маркизу не исполнилось тогда и двадцати лет, его подвиг тем более замечателен.
— Как! — воскликнул де Бевр. — Вам не было тогда и двадцати лет? Я внезапно стал старше вас?
— Человеку столько лет, на сколько он выглядит, — сказала Лориана, — а стоит только посмотреть на маркиза…
Она остановилась, будучи не в силах произнести столь откровенную ложь, даже чтобы его утешить. Но оказалось достаточно доброго намерения, Буа-Доре довольствовался малым.
Он поблагодарил ее взглядом, лоб его разгладился, де Бевр засмеялся, д'Альвимар выразил восхищение умом Лорианы, и гроза прошла стороной.
Глава восьмая
Мирная беседа текла еще некоторое время.
Господин де Бевр попросил д'Альвимара не сердиться на его упрямство и послезавтра пожаловать вместе с маркизом к нему на обед, поскольку господин де Буа-Доре обедал в Ла-Мотт каждое воскресенье. Подали карету господина де Буа-Доре, представляющую собой тяжелую и просторную берлину[72], которую тянула четверка сильных и красивых лошадей, правда, слегка толстоватых.
Эта достопочтенная колымага, проходившая как по пригодным для карет дорогам, так и по непригодным, была необычайно прочна. Пусть мягкость ее хода оставляла желать лучшего, в ней по крайней мере можно было быть уверенным, что не поломаешь себе кости в случае падения благодаря толстенной внутренней обивке. Под обивкой из шелковой узорчатой ткани слой шерсти и пакли достигал толщины шести дюймов, так что вы и ней чувствовали себя если не в удобстве, то наверняка в безопасности.
К тому же она была красиво обита кожей при помощи позолоченных гвоздиков, образовывавших орнамент.
По углам этой цитадели на колесах размещался целый арсенал, состоящий из пистолетов, шпаг и, конечно, такого запаса пороха и пуль, что, пожалуй, их хватило бы, чтобы выдержать настоящую осаду.
Процессию открывали два конных слуги с факелами, еще двое следовали за каретой вместе со слугой д'Альвимара, ведшего на привязи его лошадь.
Юный паж маркиза уселся на облучок рядом с кучером.
Проезжая под отпускной решеткой Мотт-Сейи и по его подъемному мостику, громадное сооружение произвело сильный шум. Веселый лай сторожевых собак со двора еще долго вплетался в производимый кавалькадой грохот, который был слышен даже в поселке Шампийе, расположенном в доброй четверти лье от замка.
Д'Альвимар счел своим долгом сказать маркизу несколько комплиментов относительно его роскошной и удобной кареты, какие еще редко встречаются в деревне, в этих краях она казалась просто чудом.
— Я не ожидал, — сказал он, — найти в Берри те же удобства, что в большом городе. Я вижу, что вы ведете жизнь вельможи.
Последнее выражение как нельзя более порадовало маркиза. Он был рядовым дворянином и не мог, несмотря на свой титул, именоваться вельможей.
Его маркизатом была крохотная ферма в Бовуази, которая ему даже не принадлежала.
Как-то в дни неудач Генрих Наварский из-за превратностей партизанской войны оказался с небольшой свитой на маленькой заброшенной ферме и вынужден был сделать там передышку. Ему грозила опасность остаться без обеда, но господин Сильвен, который в подобных ситуациях бывал необыкновенно находчивым, обнаружил в кустах забытых хозяевами и одичавших домашних птиц. Беарнец устроил на них охоту, а господин Сильвен взялся их приготовить.
Этот неожиданный праздник привел короля Наварского в прекрасное состояние духа, и он подарил ферму своему спутнику, основав в этом месте маркизат, за то, что, по его словам, ферма не дала умереть с голоду королю.
Буа-Доре владел этим поместьем, завоеванным без единого выстрела, лишь несколько часов, проведенных там с королем. На следующий день ферма оказалась в руках у противника. После заключения мира туда вернулись законные владельцы.
Но Буа-Доре дорожил не ветхой лачугой, а своим титулом, поскольку король Франции впоследствии со смехом подтвердил обещание, данное королем Наварры. Это не было записано на бумаге, но, поскольку беррийский дворянин пользовался покровительством всемогущего монарха, к титулу привыкли, и скромный деревенский помещик был принят в королевском окружении как маркиз де Буа-Доре.
Никто против этого не возражал, шутливость и терпимость короля создали если не закон, то по крайней мере прецедент, и сколько бы ни подтрунивали над маркизатом господина Сильвена Бурона дю Нуайе — таково было его настоящее имя, — он несмотря на любые насмешки, вел себя как человек, относящийся к высшей знати. В конце концов он заслужил свой титул честнее и носил его с большим достоинством, чем многие другие сподвижники короля.
Д'Альвимар был не в курсе этой истории, поскольку невнимательно слушал рассказ Гийома д'Арса. Он не думал насмехаться над сановитостью господина де Буа-Доре, и привыкший к постоянным шуткам на эту тему маркиз был бесконечно ему признателен за его учтивость.
Тем не менее он изо всех сил пытался казаться удальцом, чтобы сгладить неуместную историю с осадой Сансера.
— Я держу эту карету лишь для того, чтобы предоставлять ее соседским дамам, когда у них возникает такая необходимость, — сказал он. — Что до меня, я предпочитаю ездить верхом. Это быстрей и шума меньше.
— Получается, — ответил д'Альвимар, — вы приняли меня за даму, послав днем за каретой? Я очень смущен, и если бы я знал, что вы не боитесь вечерней прохлады, я умолял бы вас ничего не менять в ваших привычках.
— Я полагаю, что после предпринятого вами путешествия не стоит в тот же день садиться в седло. А что касается холода, скажу вам откровенно, я большой лентяй и зачастую позволяю себе такие нежности, в которых мое здоровье вовсе не нуждается.
Буа-Доре пытался увязать изнеженность молодых куртизанов с бодростью молодых деревенских дворян, что иногда бывало довольно сложно.
Он был еще крепок, оставался прекрасным наездником и сохранял хорошее здоровье, если не считать ревматических болей, о которых никогда никому не рассказывал, и легкую глухоту, которую он также скрывал, объясняя недостатки слуха рассеянностью.
— Считаю своим долгом, — продолжил он, — извиниться перед вами за невоспитанность моего друга де Бевра. Что может быть нелепей, чем религиозные споры, которые, к тому же, вышли из моды. Простите старику его упрямство. В глубине души де Бевра эти тонкости волнуют ничуть не больше, чем меня. Пристрастие к прошлому заставляет его иногда тревожить память мертвых, досаждая таким образом живым. Не понимаю, почему старость столь педантична в своих воспоминаниях, будто за долгие годы не повидала достаточно людей и вещей, чтобы философски глядеть на мир. Ах, расскажите мне лучше, мой дорогой гость, о людях Парижа, чтобы мы могли с изысканностью и умеренностью обсудить все предметы нашей беседы. Расскажите мне о дворце Рамбуйе, например! Вы, несомненно, бывали в голубом салоне Артенисы?
Ответив, что бывал принят у маркизы, д'Альвимар не погрешил против истины. Его ум и ученость открыли перед ним двери модного Парнаса. Но он не мог стать своим человеком в этом святилище французской вежливости, поскольку слишком быстро обнаружилась его нетерпимость.
К тому же литературные пасторали были не в его вкусе. Его снедало свойственное его времени честолюбие, так что пастораль, идеал отдыха и скромных развлечений, была ему ни к чему. Поэтому он почувствовал себя в плену усталости и сонливости, когда Буа-Доре, в полном восторге от того, что есть с кем поговорить, целыми страницами принялся пересказывать «Астрею».
— Что может быть прекрасней, — восклицал он, — чем письмо пастушки к своему любовнику: «Я подозрительна и ревнива, меня трудно завоевать и легко потерять, легко обидеть и трудно утешить. Мои желания должны стать судьбой, мои мнения истиной, мои приказы непреложными законами». Вот это стиль! А как прекрасно обрисован характер! А продолжение, продолжение! Не правда ли, месье, в нем содержится вся мудрость, вся философия, вся мораль, которая только нужна человеку? Послушайте, что ответила Сильвия Галатее: «Невозможно сомневаться, что этот пастух влюблен, поскольку он столь честен». Вы понимаете, месье, всю глубину этого утверждения? Сильвия объясняет это сама: «Ничего на свете влюбленный так не желает, как быть любимым; чтобы быть любимым, надо стать приятным, а приятным человека делает то, что делает его честным».
— Что? Что вы сказали? — встрепенулся д'Альвимар, разбуженный словами ученой пастушки, которые Буа-Доре вещал ему прямо в ухо, чтобы перекричать стук кареты по камням древней римской дороги, ведущей из Ля Шатра в Шато-Мейян.
— Да, месье, и я готов защищать эту мысль хоть против всего света! — горячился маркиз, не заметивший, как вздрогнул его гость. — Сколько времени я впустую твержу об этом старому вздорному еретику в области чувств!
— О ком вы? — переспросил ошарашенный д'Альвимар.
— Я имею в виду своего соседа де Бевра. Даю слово, он прекрасный человек, но полагает, что можно найти понятие добродетели в теологических книгах, которые он не читает, поскольку ничего в них не понимает. Я же пытаюсь внушить ему, что оно содержится в поэтических произведениях, в приятных и благовоспитанных рассуждениях, из которых любой человек, как бы прост он ни был, может извлечь для себя пользу. Например, когда юный Луцида уступает безумной любви Олимпии…
Тут д'Альвимар снова погрузился в дрему, на этот раз окончательно, а господин Буа-Доре продолжал декламировать до тех пор, пока карета и эскорт с тем же грохотом, как в ля Мотт, въехала на подвесной мост Брианта.
Было уже совсем темно, и д'Альвимар смог осмотреть замок лишь изнутри. Он показался ему совсем маленьким. В наши дни любая из комнат замка показалась бы нам просторной, но по тогдашним понятиям они считались чрезвычайно маленькими.
Часть дома, которую занимал маркиз, в 1594 году была разорена авантюристами и недавно отстроена заново. Это было квадратное помещение, примыкающее с одной стороны к весьма старой башне, а с другой к еще более древней постройке. Архитектурный комплекс вобрал в себя разнородные стили, но выглядел изящным и живописным.
— Не удивляйтесь, что мой дом выглядит столь скромно, — сказал маркиз, поднимаясь впереди него по лестнице, пока его паж и экономка Беллинда освещали им путь, — это всего лишь охотничий дом, холостяцкая квартира. Если мне когда-нибудь придет в голову мысль о женитьбе, придется заняться строительством. Но до сих пор я об этом и не помышлял; надеюсь, что поскольку вы тоже холостяк, вы не будете чувствовать себя в этой хижине слишком неудобно.
Глава девятая
На самом деле холостяцкая квартирка была обустроена, меблирована и украшена с роскошью, которую трудно было ожидать, глядя на маленькую и низкую, украшенную виньетками дверь и узкий вестибюль, где начиналась пинтовая лестница.
Каменные плиты были устланы беррийскими шершавчиками (коврами местного производства), на деревянном полу лежали более дорогие ковры Обюссонской мануфактуры, а гостиную и спальню хозяина украшали дорогие персидские ковры.
Окна были широкими и светлыми, двухдюймовой толщины ромбы из неподкрашенного стекла были украшены выпуклыми медальонами с цветными гербами. На обивке стен были изображены очаровательные хрупкие дамы и красивые маленькие кавалеры, в которых, благодаря пастушьим сумкам и посохам можно было признать пастушек и пастухов.
В травке у их ног были вышиты имена главных героев «Астреи», прекрасные слова, сходящие с их уст, пересекались в воздухе с не менее прекрасными ответами.
В салоне для гостей панно изображало несчастного Селадона, который, грациозно извиваясь, бросается в голубые воды Линьона, который уже заранее пошел кругами в ожидании его падения. За ним несравненная Астрея открыла шлюзы, дав волю своим слезам[73], обнаружив, что прибежала слишком поздно, чтобы остановить своего воздыхателя, хотя его висящие в воздухе ноги находились на уровне ее руки. Изображенное над этой патетической сценой дерево, более похожее на барана, чем бараны фантастических лугов, тянуло к потолку курчавые ветви.
Но, чтобы не печалить сердце зрителя душераздирающей картиной гибели Селадона, художник на том же панно, совсем рядом, изобразил его уже лежащим на другом берегу, находящегося меж жизнью и смертью, но спасенного от верной гибели тремя прекрасными нимфами, густые волосы которых с вплетенными в них гирляндами жемчужин, волнами спускались на плечи. Из-под закатанных по локоть рукавов виднелся внутренний рукав, который сборочками шел до самой кисти, где его придерживали два жемчужных браслета. У каждой на боку был колчан со стрелами, а в руке лук из слоновой кости. Подобранные подолы их платьев обнажали высокие золоченые ботиночки до колен.
За этими красавицами следовал маленький Мериль, сидевший в повозке в форме раковины, увенчанной зонтом от солнца, в которую были впряжены лошади, своими кроткими физиономиями и сгорбленными спинами более напоминавшие овец.
На следующем панно спасенный и поддерживаемый этими милыми нимфами пастух был изображен в тот момент, когда отдает через рот всю выпитую им воду Линьона. Но этот процесс не мешает ему тем не менее говорить, и на фоне извергающейся из его рта струи написано: «Если я жив, то как возможно, что жестокость Астреи не заставила меня умереть?»
Пока он произносит свой монолог, Сильвия обращается к Галатее: «В его манерах и его речах есть нечто более благородное, чем свойственно тем, кто носит звание пастуха».
Над головой у них Купидон пускает в сердце Галатеи стрелу, размером больше, чем он сам, при этом из-за того, что дерево закрывает ему обзор, он целится ей в плечо. Но стрелы любви столь летучи!
Что сказать о третьем панно, изображающем схватку златокудрого Филандра с ужасным Мором? Зажатый чудовищем со всех сторон, храбрец, не растерявшись, правой десницей всаживает железное острие своего пастушьего посоха меж глаз врага.
На четвертом панно прекрасная Меландра в доспехах Рыцаря печального образа противостоит жестокому Липанду.
Но кто не знаком с шедеврами этого прекрасного края ковроткачества, как сказал о нем один из наших поэтов, безумного и веселого края, в которых будто отражены наши детские фантазии и мечты о чудесах?
Обивка в доме господина де Буа-Доре была весьма удачной, в том смысле, что с помощью отдельных групп фигур, рассеянных по пейзажу, удалось соединить все приключения воедино, так что хозяин имел удовольствие созерцать все сцены любимого произведения, прохаживаясь по комнате. Но рисунки были донельзя абсурдны, краски просто невообразимы, ничто лучше не могло характеризовать дурной, отвратительный, фальшивый вкус, который в то время соседствовал с великим и великолепным вкусом Рубенса и смелыми и правдивыми видами Жака Калло[74].
У каждой эпохи свои крайности, поэтому никогда не стоит сожалеть о времени, в котором живешь.
Тем не менее следует признать, что в истории искусства некоторые периоды были более благоприятными, чем другие, и иногда вкус был столь чист и плодороден, что чувство прекрасного проникало во все детали обыденной жизни и во все слои общества.
Во времена расцвета возрождения все имело характер элегантного изобретения, даже по малейшим обломкам той эпохи чувствуется, что подъем в общественной жизни благоприятствовал подъему воображения. Так происходит у всех — от высших интеллектов до простого ремесленника; и во дворцах, и в лачугах не существует ничего, что могло бы приучить глаз к виду безобразного или пошлого.
В эпоху Людовика XIII все изменилось, и провинциалы начали предпочитать ковры и мебель современной работы, такие, как у господина де Буа-Доре, драгоценным образцам прошлого века, подобным тем, что были разбиты или сожжены рейтерами в замке его отца пятьдесят лет назад.
Сам он считал себя человеком сведущем в искусстве, но ничуть не сожалел о старье, и если ему случалось встретить на дороге какого-нибудь бродячего мазилу, он излагал ему то, что наивно называл своими идеями в области мебели или украшений, и затем за большие деньги заказывал желаемое, поскольку ни перед чем не останавливался, чтобы потешить свой детский и странный вкус к роскоши.
Таким образом, его замок кишел сервантами с секретом и ларцами-комодами с сюрпризом. Эти чудные ларцы представляли собой нечто вроде больших коробок с выдвижными ящиками, из которых при нажатии пружины появлялись сказочные дворцы с колоннами, инкрустированные крупными фальшивыми камнями, обитатели которых были вырезаны из ляпис-лазури, слоновой кости и яшмы.
Другие ларцы, покрытые прозрачными раковинами на красном фоне, оттененные блестящей медью или украшенные резной слоновой костью, содержали какой-нибудь шедевр токарного искусства, в котором, благодаря его хитроумному устройству, хранили нежные записки, портреты, локоны, кольца, цветы и прочие любовные реликвии, бывшие в ходу у красавцев той эпохи. Де Буа-Доре уверял, что его шкатулки из красного дерева набиты такого рода сокровищами, но злые языки утверждали, что они совершенно пусты.
Несмотря на все извращения вкуса господина де Буа-Доре, ему удалось превратить свой маленький замок в роскошное, теплое и уютное гнездо, которое встало ему значительно дороже, чем стоило на самом деле; приятно было бы увидеть его нетронутым среди маленьких замков края, ныне заброшенных, приходящих в упадок или сдаваемых внаем.
Не будем дальше описывать занятную обстановку Брианта, это заняло бы у нас слишком много времени. Скажем только, что господин д'Альвимар почувствовал себя, как в лавке старьевщика, такое обилие безделушек располагалось на сервантах, горках, каминах, столах, что контрастировало с суровой простотой испанских дворцов, где прошли его юные годы.
Среди всех этих фаянсовых и стеклянных изделий, флаконов, подсвечников, кувшинов, бомбоньерок, люстр, не считая золотых, серебряных, янтарных и агатовых кубков, стульев различной формы и размеров, обитых шелковой и бархатной тканью, украшенных бахромой, скамеек и шкафов резного дуба с большими металлическими замками, выделявшимися на красном фоне, сатиновых занавесок, на которых золотом были вышиты большие и маленькие букеты, с ламбрекенами из тонкого золота и т. д., и т. п.; подлинные произведения искусства и очаровательные изделия современной промышленности лежали вперемежку с многочисленными детскими безделушками и плодами неудачных опытов. В целом впечатление было сверкающим и приятным, хотя все это было слишком нагромождено и в помещении страшно было двигаться из опасения что-либо задеть или даже сломать.
Когда д'Альвимар выражал маркизу де Буа-Доре свое удивление оттого, что нашел в отдаленных долинах Берри сей дворец феи Бабиолы[75], в комнате появилась экономка Беллинда. Со слугами она говорила зычным и ясным голосом, а к хозяину обратилась тихо и почтительно, чтобы сообщить, что ужин готов; паж широко открыл перед ними двери, выкрикнув установленную фразу, а часы с курантами по фландрской моде пробили ровно семь.
Д'Альвимар, который так и не привык к принятому во Франции изобилию блюд, был удивлен, увидев на столе не только золотую и серебряную посуду, подсвечники, украшенные цветами из разноцветного стекла, но и такое количество блюд, что их хватило бы на добрую дюжину сильно проголодавшихся мужчин.
— Ну что вы, это вовсе не ужин, — ответил ему Буа-Доре, к которому он обратился с упреком, что тот, вероятно, принял его за гурмана, — всего лишь скромная закуска при свечах. Если мэтр-повар не напился в мое отсутствие, вы убедитесь, что оригинальное блюдо способно расшевелить ленивый аппетит.
Никогда за столом своих вельможных соотечественников д'Альвимару не случалось отведать столь восхитительного мяса, да и в лучших домах Парижа он вряд ли встречал вкуснее. Были поданы блюда умело и тонко, в соответствии с модой того времени приправленные: фаршированные перепела, суп из креветок, выпечка, марципаны, начиненные ароматизированными кремами нескольких видов, бисквиты с шафраном и гвоздикой, тонкие французские вина, причем старое иссуденское могло соперничать с лучшими сортами бургундского, а также нежные десертные вина из Греции и Испании.
На то, чтобы попробовать все, ушло два часа. Господин де Буа-Доре говорил о винах и кухне, как безупречный хозяин, а мадемуазель Беллинда командовала слугами с неподражаемым умением и опытом.
Молодой паж сопровождал первые две смены блюд игрой на теорбе[76]; так совпало, что с третьим блюдом появился и новый человек, чем-то встревоживший д'Альвимара.
Глава десятая
На вид вновь пришедшему было лет сорок, здороваясь с ним, маркиз назвал его мэтром Жовленом. Ни слова не говоря, он уселся в углу на стул из позолоченной кожи, так, чтобы не мешать слугам разносить еду. Он принес с собой сумочку из красной саржи, которую поставил на колени, и с мягкой улыбкой взирал на сотрапезников.
Его можно было назвать красивым, хотя черты лица были довольно вульгарны. У него был большой нос и толстые губы, маленький срезанный подбородок и низкий лоб.
Несмотря на эти недостатки, стоило взглянуть на его красивые черные волосы, на его белые зубы, открывающиеся в печальной, но приветливой улыбке, на его черные глаза, светящиеся умом и добротой, как возникала потребность любить его и даже уважать.
На нем был костюм мелкого буржуа, очень опрятный, из серо-голубого сукна, шерстяные чулки, длинный свободный плащ, отложной воротник с вырезом на груди, рукава, подвернутые на фламандский манер, и большая фетровая шляпа без перьев.
Господин де Буа-Доре, вежливо поинтересовавшись его самочувствием, приказал подать ему кипрского вина, от которого тот жестом отказался, и больше не обращал на него внимания и занимался только своим гостем.
Приличия того времени требовали, чтобы знатный человек не уделял много внимания людям низкого происхождения в присутствии себе равных, чтобы не оскорбить последних.
Но от внимания д'Альвимара не укрылось, что они часто встречались взглядами и при каждом слове маркиза обменивались улыбками, будто маркиз хотел приобщить незнакомца ко всем своим мыслям, либо получить его одобрение, либо отвлечь от каких-то печальных мыслей.
Конечно, это не должно было расстроить господина Скьярра. Но совесть его была не вполне чиста, и это честное и открытое лицо было не просто ему неприятно, оно смутило его и даже вызвало подозрения.
Маркиз, правда, не задал ни единого вопроса, ни словом не помянул причины бегства испанца в Берри. Он говорил только о себе, выказав таким образом должную воспитанность, поскольку д'Альвимар оказался не расположен к каким бы то ни было откровениям, и хозяину удавалось вести беседу, не задавая ему никаких вопросов.
— Вы видите, что у меня хороший дом, хорошая мебель, хорошие слуги, — говорил он, — все это так. Вот уже много лет, как я удалился от света,чтобы немного отдохнуть от тягот войны в ожидании событий. Скажу вам по секрету, после смерти великого короля Генриха я не люблю ни двор, ни город. Я не нытик и принимаю время таким, какое оно есть. Но в моей жизни было три больших горя: первое, когда умерла моя мать, второе, когда потерял младшего брата и третье, когда не стало моего великого и доброго короля. Причем три этих дорогих мне человека умерли не своей смертью. Король пал от руки убийцы, моя мать упала с лошади, а мой брат… Впрочем, все это слишком печальные истории, и я не хочу в первый же вечер, что вы проводите под моей крышей, рассказывать вам перед сном грустные вещи. Скажу только, что погрузило меня в лень и домоседство. После смерти моего короля Генриха я сказал себе: «Ты потерял все, что имел, теперь осталось потерять только себя и если ты не хочешь тоже погибнуть, тебе надо покинуть край смятений и интриг и отправиться лечить удрученную и усталую душу в родные места». Так что вы абсолютно правы, полагая, что я счастлив насколько возможно, поскольку я выбрал для себя участь, которую пожелал, и сохранил себя от всех противоречий. Но вы не ошибетесь, предположив, что кое-чего мне все-таки не хватает. У меня действительно есть все, чего только можно пожелать, но мне не хватает общения. Но не буду больше обременять вас моими печалями, я не из тех, кто уходит в них с головой, не желая утешиться или отвлечься от них. Не желаете ли попробовать лимонного желе, пока наш слух будет услаждать музыкант, более умелый, чем паж, которого вы сейчас слушали? Вы тоже послушайте, любезный друг, — обратился он к пажу, — вам это пойдет на пользу.
Обращаясь к д'Альвимару, он послал тому, кого называл мэтром Жовленом, почтительный взгляд, напоминающий скорее просьбу, чем приказ.
Человек, одетый в серое, расстегнул и отбросил назад широкий рукав, под которым был более узкий, цвета ржавчины. Затем он вынул из сумки волынку с коротким, украшенным виньетками посохом, в тех краях их называют сурделина, на которых исполняли камерную музыку.
Этот инструмент, звучание которого столь мягко и нежно, сколь современные мюзеты[77] крикливы и шумны. Едва музыкант начал настраивать инструмент, он уже завладел не только вниманием, но и душой своих слушателей. В его руках сурделина пела будто человеческим голосом.
Д'Альвимар знал толк в музыке, и красивые мелодии делали печаль его души менее горькой, чем обычно. Он с радостью отдался во власть этого облегчения, поскольку ему стало спокойней, когда он понял, что незнакомец умелый и безобидный музыкант, а не тайный шпион.
Что до маркиза, он любил музыку и музыканта и каждый раз слушал своего мэтра-сурделиниста с благоговейным вниманием.
Д'Альвимар в любезных выражениях высказал свое восхищение игрой. На этом ужин закончился, и он попросил разрешения удалиться.
Маркиз тоже встал, сделал знак мэтру Жовлену его дождаться, а пажу принести светильник. Он захотел сам проводить гостя в приготовленную для него комнату. Затем он вернулся к столу, снял шляпу, что в те времена означало, что можно вести себя без церемоний, позже обычай изменился. Он налил себе нечто вроде пунша, который назывался кларет, смесь белого вина с медом, мускатом, шафраном, гвоздикой, и предложил мэтру Жовлену присесть рядом, на место д'Альвимара.
— Ну что ж, мессир Клиндор, — обратился маркиз с добродушной улыбкой к юноше, которому, по своему обыкновению, дал прозвище из «Астреи», — идите ужинать с Беллиндой. Скажите ей, чтобы она о вас позаботилась, и оставьте нас. Постойте, — удержал он пажа, — что это за манера ходить, я давно обещал отучить вас от этой привычки. Я обратил внимание, что вы иногда шагаете, как вам кажется, по-военному, а на самом деле, как простолюдин. Не забывайте, что хотя вы и не дворянин, вы можете им стать и что добрый буржуа, служа знатному человеку, может затем получить фиеф[78] и взять его имя. Но чего ради я стану помогать вам облагородить ваше происхождение, если вы делаете все, чтобы опростить ваши манеры? Старайтесь держаться, как дворянин, месье, а не как мужлан. Держитесь с достоинством, постарайтесь, когда ходите, ставить ногу на всю ступню, а не ступать сперва на пятку, потом на носок, от этого ваша поступь напоминает лошадиную, а звук ваших шагов — стук копыт лошади, которая работает на мельнице. А теперь ступайте с миром, ешьте и крепко спите, а не то как бы не довелось вам изведать путчища[79].
Юный Клиндор, настоящее имя которого было Жан Фашо (его отец держал аптеку в Сен-Амане), выслушал напутствие своего сеньора с великим уважением, и, попрощавшись, удалился на цыпочках, как танцор, чтобы показать, что он не ставит ногу сперва на пятку, поскольку он вовсе ее так не ставил.
Старый слуга, который всегда ложился спать последним, тоже ушел ужинать, и маркиз обратился к своему музыканту:
— Итак, мой дорогой друг, снимайте вашу шляпу и, не опасаясь слуг, спокойно поешьте. Возьмите кусок этого пирога и ветчины, как всегда, когда мы остаемся наедине.
Мэтр Жовлен поблагодарил его нечленораздельным мычанием и принялся за еду; маркиз тем временем неторопливо потягивал свой клерет, не столько из любви к напитку, сколько чтобы составить музыканту компанию, поскольку хотя этот старик и был во многом смешон, у него не было ни одного недостатка.
Пока несчастный немой ел, хозяин вел с ним беседу, что было для немого большой отрадой, поскольку никто другой не брал на себя труд разговаривать с человеком, который не может ответить. Все привыкли обращаться с ним, как с глухонемым, и зная, что он не способен повторить услышанное, не стеснялись лгать или злословить в его присутствии. Лишь маркиз обращался с ним весьма почтительно из уважения к его благородному характеру, обширным знаниям и перенесенным невзгодам, которые мы вам кратко опишем.
Люсилио Джиовеллино, уроженец Флоренции, был другом и учеником знаменитого и несчастного Джордано Бруно. Вскормленный высокой наукой и обширными идеями своего учителя, он помимо того проявил незаурядные способности к искусству, поэзии и языкам. Учтивый, красноречивый, владеющий даром убеждения, он успешно распространял смелые доктрины множественности миров.
В тот день, когда Джордано был сожжен на костре, приняв смерть со спокойствием мученика, Джиовеллино был навечно изгнан из Италии.
Это произошло в Риме за два года до описываемых нами событий.
Под пыткой Джиовеллино отрекся от некоторых принципов Джордано. Несмотря на всю любовь к учителю, он отказался от некоторых из его заблуждений; поскольку удалось заставить его отречься лишь от половины его ереси, ему присудили половинное наказание — отрезали язык.
Разоренный, изгнанный, сломленный пытками, Джиовеллино отправился скитаться по Франции, игрой на нежной волынке зарабатывая на кусок хлеба. Затем Провидение столкнуло его с маркизом, который поселил его у себя, выкармливал и лечил, и, что еще важнее, ценил и уважал. Люсилио письменно рассказал ему свою историю.
Буа-Доре не был ни ученым, ни философом: сперва он просто принял участие в судьбе несчастного изгнанника, каким в свое время был сам, преследуемый католической нетерпимостью. Ему не понравился бы упрямый и непреклонный сектант, каких среди гугенотов было не меньше, чем среди их противников. Он имел смутное представление о хуле, возводимой на Джордано Бруно, и попросил объяснить его догмы. Джиовеллино писал быстро и с элегантной ясностью, которую великие умы начинали ценить, желая даже самое заурядное ввести в чистую науку.
Маркиз скоро почувствовал вкус к этой письменной речи, когда ясно и без лишних отступлений описывалось главное. Постепенно он вдохновился и увлекся новыми определениями, которые избавили его от невыносимых противоречий. Он захотел ознакомиться с изложением идей Джордано и даже его предшественника Ванини. Люсилио смог их достать и, указывая на слабые или ложные места, привел его к тем единственным выводам: творение бесконечно, как и сам Творец, бесчисленные звезды заполняют бесконечное пространство Не для того, чтобы служить светильником или развлекать нашу маленькую планету, но являются очагами для универсальной жизни.
Понять это совсем не сложно, и люди поняли это при первом же проблеске гения, появившемся у человечества. Но доктрины средневековой церкви уменьшали Господа и небо до размеров нашей маленькой планеты, так что маркиз подумал, что грезит, когда узнал (он утверждал, что именно так все всегда себе представлял), что существование настоящей вселенной не поэтическая химера.
Глава одиннадцатая
— Итак, — воскликнул маркиз, пока его друг из скромности торопился закончить трапезу, хотя хозяин и просил его не спешить, — чем вы сегодня занимались, мой славный ученый? Да, понимаю, вы написали несколько прекрасных страниц. Берегите их, эти слова должны дойти до потомства, поскольку мрачные времена пройдут и канут в Лету. Но не забывайте прятать написанное в сервант с секретным замком, который я поставил в вашей комнате, если пишете не в моей комнате.
Немой жестами объяснил, что работал в кабинете маркиза, и что убрал написанное в ящик из красного дерева, где маркиз хранил все его записи. Он легко объяснялся с хозяином жестами.
— Тем лучше, — одобрил Буа-Доре, — там они в еще большей безопасности, поскольку туда никогда не заходит ни одна женщина. Дело не в том, что я не доверяю Беллинде, но она, на мой взгляд, стала слишком набожной с тех пор, как монсеньор Буржский прислал нам нового приходского священника, который, боюсь, и в подметки не годится нашему старому другу, прежнему священнику, бывшему здесь при архиепископе мессире Жане де Боне.
Ах, как жаль, что нам пришлось расстаться с нашим славным священником. Со своей длинной бородой, гигантским ростом, пузатый, как винная бочка, с аппетитом Гаргантюа, красивым лицом и широкими взглядами, он был одним из самых тонких и лучших людей королевства, хотя глядя на него можно было подумать, что это обыкновенный бонвиван.
Если бы вы оказались здесь в его время, мой дорогой друг, вам не пришлось бы прятаться в маленьком охотничьем домике, вам не надо было бы переиначивать ваше имя на французский лад, скрывать вашу ученость, выдавая себя за скромного волынщика, и убеждать окружающих, что вы изувечены гугенотами. Наш бравый прелат взял бы вас под свое покровительство и вы смогли бы издать ваши выдающиеся произведения в Бурже к вящей славе вашего имени и нашей провинции.
Кстати, сегодня у моего соседа де Бевра я узнал еще кое-что о принце, отрекшемся от веры своих отцов и от друзей молодости. Он наводняет наши края иезуитами. Если бы несчастный Генрих вдруг ожил, он застал бы перемены занятными. Господин де Сюлли попал в немилость. Угрожая ему, Конде скупает его земли в Берри. Послушайте, он уже заполучил окружной суд и командование большой башней. Он становится королем нашей провинции, и, говорят, метит в короли Франции. Так что снаружи все плохо, можно чувствовать себя в безопасности лишь в наших маленьких крепостях, и то при условии, что соблюдаешь осторожность и терпеливо ожидаешь, пока все это кончится.
Джиовеллино взял протянутую маркизом через стол руку и поцеловал ее с красноречивым выражением, заменявшим ему слово. В то же время взглядом и мимикой он дал понять, что счастлив находиться рядом с ним и не сожалеет о славе и мирском шуме, что он не забывает об осторожности из опасения повредить своему покровителю.
— Что касается человека, которого я сюда привез и который сидел со мной за столом, — продолжал Буа-Доре, — знайте, что мне о нем ничего не известно, кроме того, что он друг мессира Гийома д'Арса, что ему грозит опасность и его надо спрятать, а в случае необходимости защитить. Но не кажется ли вам удивительным, что в течение всего дня он даже не попытался отозвать меня в сторону, чтобы рассказать о том, что его сюда привело, и даже когда мы остались наедине в моем замке, он все равно об этом не заговорил?
Люсилио, всегда имевший под рукой бумагу и карандаш, написал: «Испанская гордость».
— Да, — кивнул маркиз, прочтя эти слова еще до того, как они были написаны, если можно так выразиться, за два года он привык понимать слова друга еще по первым буквам, — я тоже сказал себе «кастильское высокомерие». Я знавал многих идальго, и помню, что они не считают недостаток доверия признаком невежливости. Так что мне придется проявить древнее гостеприимство — уважать все его тайны и оказывать ему прием, как старому другу, в честности которого не сомневаешься. Но это вовсе не обязывает меня оказывать ему доверие, в котором он мне отказывает. Именно поэтому в его присутствии я усадил вас в углу, как бедного музыканта. Приношу вам свои извинения за недостаток уважения и вежливости, поскольку на это меня толкает забота о вашей безопасности, равно как и за скромный наряд, в котором я заставляю вас ходить…
Несчастный Джиовеллино, который в жизни лучше не был одет и накормлен и так нежно опекаем, прервал маркиза, сжав его ладони в своих, и Буа-Доре был до глубины души растроган, заметив, что слезы благодарности стекают по щекам и черным усам друга.
— Вы слишком дорого мне за это платите, поскольку так любите меня! Я должен отблагодарить вас в свою очередь, рассказав вам о прекрасной Лориане. Но стоит ли пересказывать, что она сказала о вас? Не возгордитесь ли вы? Нет? Тогда слушайте. Сперва она спросила: «Как поживает ваш друид?» Я ответил, что друид, скорее, ее, чем мой, и напомнил ей, что Клемант в «Астрее» был ложным друидом и был так же влюблен, как все влюбленные в этой восхитительной истории.
— Как же, — ответила она. — Если бы этот Клемант был бы так влюблен в меня, как вы хотите меня убедить, он сегодня приехал бы вместе с вами, а между тем он уже две недели носа к нам не кажет. Но, возможно, он, как герой «Астреи», вздрагивает, слыша мое имя, или он так вздыхает, что у него желудок вот-вот из живота вырвется? Я вам не верю и полагаю, что он, скорее, похож на непостоянного Иласа!
Вы видите, что очаровательная Лориана продолжает насмехаться над «Астреей», над вами и надо мной. Но когда вечером я покидал ее, она сказала:
— Я хочу, чтобы послезавтра вы приехали к нам вместе с друидом и его волынкой, или же я на вас обижусь, так и знайте.
Несчастный друид выслушал рассказ Буа-Доре с улыбкой. Он умел шутить, вернее, понимать шутки других. Лориана была для него прелестным ребенком, он ей в отцы годился; но он был еще достаточно молод, чтобы помнить, как любил, и в глубине души он горько переживал свое одиночество. Вспомнив о прошлом, он подавил вздох и тут же начал наигрывать итальянскую мелодию, которую маркиз любил больше всего.
Он вложил в игру столько страсти, музыка звучала так очаровательно, что Буа-Доре воскликнул, употребив почерпнутое в романе выражение:
— Громы небесные, вам не нужен язык, чтобы говорить о любви. Если бы предмет вашей страсти находился здесь, только будучи глухой, она не смогла бы понять, что ваша душа обращается к ней. Но не покажите ли вы мне написанные сегодня строки чистой науки?
Люсилио жестом показал, что устал, и маркиз, дружески обняв, отправил его спать.
Джиовеллино часто чувствовал себя больше сентиментальным музыкантом, чем ученым философом. Это была восторженная и в то же время возвышенная натура.
Господин де Буа-Доре поднялся в свои комнаты, расположенные над салоном.
Он вполне отвечал за свои слова, сказав Джиовеллино, что ни одна женщина никогда не заходит в это святилище отдыха, часть которого составлял кабинет. Самые суровые меры были приняты даже против Беллинды.
Старый Матьяс (прозванный Адамасом по тем же причинам, что Гийет Карка называлась Беллиндой, а Жан Фашо Клиндором) был единственным человеком, имевшим доступ к тайнам туалета маркиза, настолько тот был убежден, что его возраст можно определить лишь увидев, какое количество мазей и красок содержится в расставленных на столике бутылочках, баночках, флаконах и коробочках.
Адамас, естественно, был один и готовил папильотки, пудры и ароматные мази, которые должны были поддерживать красоту маркиза, пока тот спит.
Глава двенадцатая
Адамас был чистокровным гасконцем: доброе сердце, живой ум и неистощимое красноречие. Буа-Доре наивно называл его «мой старый слуга», хотя тот был моложе его на десять лет.
Адамас, сопровождавший его в последних компаниях, повсюду следовал за ним, как тень, постоянно окружая его фимиамом вечного восхищения, тем более губительного для разума, поскольку шло от искренней любви к хозяину. Именно он убеждал маркиза, что тот еще молод и не может состариться, и что, выходя из его рук, он блестит, как цветная картинка из требника, затмевает собой всех ветреников и поражает всех красавиц.
— Господин маркиз, — обратился к нему Адамас, вставая на колени, чтобы разуть своего престарелого идола, — я хочу рассказать вам необычную историю, произошедшую сегодня в ваших владениях.
— Говори, друг мой, говори, раз тебе хочется, — ответил маркиз, который иногда позволял своему слуге говорить с ним довольно фамильярно, к тому же он был уже сонным и полагал, что невинная болтовня поможет ему заснуть.
— Так знайте же, мой дорогой и любимый хозяин, — продолжил Адамас с гасконским акцентом, который мы не беремся здесь воспроизводить, — что сегодня часов в пять здесь появилась довольно странная женщина, одна из тех несчастных, которых мы так много встречали на берегу Средиземного моря и в наших южных провинциях. Вы понимаете, о ком я говорю: у этих женщин белая кожа, толстые губы, красивые глаза и волосы, черные, как… Как ваши!
Он и не думал вкладывать в это сравнение хоть каплю насмешки, хотя именно в этот момент надевал черный парик хозяина на подставку из слоновой кости.
— Ты имеешь в виду, — спросил Буа-Доре, ничуть не рассерженный этим сравнением, — египтянок, которые бродят по дорогам и показывают всякие фокусы?
— Нет, месье, совсем не то. Она испанка и, даю слово, когда она не на людях, она поклоняется Магомету.
— То есть она мавританка?
— Вот именно, господин маркиз, она мавританка, и не знает ни слова по-французски.
— Но ты немного говоришь по-испански?
— Совсем немного, месье. Я уже позабыл почти все, что знал, но когда я с ней заговорил, я начат говорить так же свободно, как с вами.
— Это вся твоя история?
— О нет, месье, дайте мне время. Судя по всему, она из тех пятидесяти тысяч мавров, которые почти все погибли лет десять назад от голода и лишений, одни на галерах, которые должны были доставить их к берегам Африки, другие в Лангедоке и Провансе от нищеты и болезней.
— Несчастные! — вздохнул Буа-Доре, — это один из самых мерзких поступков в мире.
— Правда ли, месье, что Испания выслала миллион мавров, а до Туниса добралось лишь сто тысяч?
— Не знаю, сколько точно, могу сказать одно, это была настоящая бойня, никто никогда не обращался с вьючной скотиной, как они с этими несчастными людьми. Ты знаешь, что наш Генрих хотел обратить их в кальвинизм; став французами, они спасли бы свою жизнь.
— Я помню, месье, что католики Юга и слышать об этом не хотели, они говорили, что скорее перережут их всех до единого, чем пойдут на мессу с этими дьяволами. Кальвинисты проявили ту же нетерпимость, так что в ожидании момента, когда сможет что-нибудь для них сделать, наш добрый король оставил их в покое в Пиренеях. Но после его смерти королева-регентша решила избавить от них Испанию, тогда-то их и бросили в море. Некоторые, чтобы избежать сей злой участи, крестились, так поступила и эта женщина, хотя я подозреваю, что это только для вида.
— Что из того, Адамас? Или ты думаешь, что великий творец солнца, луны и Млечного пути…
— Что вы сказали? — переспросил Адамас, еще мало разбиравшийся в новом увлечении своего господина, которое его, скорее, несколько даже пугало. — Не знаю, что значит молочный голос[80].
— Я объясню тебе это в следующий раз, — зевнув, промолвил маркиз, совсем разомлевший у камина. — Заканчивай скорее свою историю.
— Так вот, месье, — продолжил Адамас. — До прошлого года эта женщина жила в Пиренеях и пасла коз у бедных крестьян, поэтому она прекрасно говорит на каталонском диалекте, который хорошо понимают и по эту сторону гор.
— Так вот почему ты смог общаться с ней по-испански, с твоим гасконским диалектом, который не сильно отличается от горского.
— Как месье будет угодно, но только я вспомнил немало испанских слов, которые она поняла. Кроме того, с ней ребенок, он ей не сын, но она любит его, как козочка своего козленка, это красивый мальчик, умный не по годам и говорит по-французски, как вы или я. Эту мавританку зовут по-французски Мерседес…
— Мерседес — испанское имя, — сообщил маркиз, залезая на высокую кровать с помощью Адамаса.
— Я хотел сказать, что это христианское имя, — объяснил слуга. — Итак, полгода назад Мерседес пришло в голову отправиться к господину де Росни. Она слышала, что он сподвижник покойного короля, который хоть и попал в немилость, еще сохранил немалое влияние благодаря своему богатству и добродетели. И она отправилась в Пуату, где, как ей сказали, проживает господин де Сюлли. Не удивительно ли, месье, что бедная и неграмотная женщина пешком прошла пол-Франции с десятилетним ребенком, чтобы повидать столь значительную персону?
— Так почему же она так поступила?
— В этом соль всей истории! Как вы полагаете, в чем тут дело?
— Трудно гадать. Быстро объясняй, а то уже поздно.
— Объяснил бы, если б знал. Но я знаю об этом не больше, чем вы, и как я ни старайся, она мне ничего не сказала.
— Тогда спокойной ночи.
— Сейчас, месье, я прикрою огонь.
Закрывая огонь, Адамас продолжал, чуть повысив голос, в надежде, что хозяин его услышит:
— Эта женщина, месье, настолько таинственна, что я хотел бы, чтобы вы на нее взглянули.
— Сейчас? — воскликнул разбуженный маркиз. — Ты шутишь, давно пора спать!
— Несомненно. Но завтра утром?
— Так она здесь?
— Да, месье. Она попросила разрешения провести ночь под крышей. Я накормил ее ужином, зная, что месье не любит, когда неимущим отказывают в куске хлеба. Побеседовав с ней, я отправил ее спать на сене.
— И напрасно, друг мой, напрасно: женщина всегда остается женщиной. И… я надеюсь, с ней не остались остальные нищие? Я не люблю шума в своем доме.
— Я тоже, месье. Я поместил только ее с ребенком в подвале на сене, им там хорошо, уверяю вас. Похоже, несчастные не привыкли даже к таким удобствам. Между тем Мерседес настолько опрятна, насколько это возможно при такой бедности. К тому же она недурна собой.
— Я надеюсь, что вы, Адамас, не злоупотребите ее положением? Гостеприимство свято!
— Месье изволит шутить над бедным стариком! Это господину маркизу нужны принципы добродетели, а я в них, поверьте, вовсе не нуждаюсь, поскольку дьявол уже давно меня не искушает. К тому же она производит впечатление честной женщины и ни шагу не ступает без своего ребенка. Полагаю, что ей грозила большая опасность, чем понравиться мне: ведь она долго путешествовала с толпой цыган, которые проходили сегодня через наши края. Их было довольно много, одни египтяне, другие неизвестно кто, как обычно. Она сказала, что эти бродяги были к ней добры, так что верно, что нищие защищают себя друг от друга. Не зная дороги, она шла с ними, поскольку они сказали, что направляются в Пуату. Но сегодня она ушла от них, поскольку, по ее словам, у нее возникло дело в наших краях. И это самое удивительное, месье, поскольку она мне так и не сказала, почему так поступила. Что об этом думает месье?
Буа-Доре ничего не ответил, он мирно спал, несмотря на шум, производимый Адамасом в некоторой степени нарочно, чтобы заставить хозяина слушать его историю.
Заметив, что маркиз отправился в страну грез, старый слуга бережно укутал его одеялом, положил в висящий в изголовье сафьяновый кошель пару пистолетов, на столик справа от кровати рапиру без ножен и охотничий тесак, а также прекрасное издание с гравюрами его любимой «Астреи», поставил кубок сладкого вина с корицей, колокольчик, свечу, носовой платок тонкого голландского полотна, надушенный мускатом. Затем он зажег ночную лампу, задул крапчатые свечи, то есть покрытые разноцветными разводами, поставил у кровати домашние туфли из красного бархата, положил на стул халат из зеленой саржи с вышитыми шелком зелеными же узорами.
Перед тем, как удалиться, верный Адамас еще постоял, глядя на своего хозяина, своего друга, своего полубога.
Без краски маркиз выглядел красивым стариком, и спокойствие чистой совести придавало благородство лицу спящего.
На фоне роскошной и мягкой кровати это старое лицо, резко очерченное и вечно воинственное даже в своей мягкости, со взъерошенными папильотками усами, в чепце из подбитой ватой тафты, обшитом кружевами таким образом, что чепец напоминал корону, при свете слабой лампы создавало странное впечатление смеси бурлескного и сурового.
— Месье спит спокойно, но он забыл помолиться на ночь, — сказал себе Адамас. — Это моя вина, и я должен за него помолиться.
Встав на колени, он весьма усердно помолился, затем ушел в свою комнату, отделенную от хозяйской спальни лишь тонкой перегородкой.
Арсенал, размещенный Адамасом в изголовье маркиза, был, скорее, данью привычке или роскоши.
Все вокруг маленького замка было спокойно, все в замке крепко спали.
Глава тринадцатая
Первым в замке проснулся Скьярра д'Альвимар, который накануне, сраженный усталостью, заснул первым.
Он не любил после пробуждения долго находиться в постели. Тщательно скрываемая им крайняя бедность приучила его обходиться без лакея. Сопровождавший его старый испанец вряд ли согласился бы выполнять иные обязанности помимо оруженосца.
Правда, этот человек был предан д'Альвимару не менее, чем Адамас Буа-Доре, но их положение и характеры разительно отличались.
Они почти не разговаривали между собой либо из нежелания, либо потому, что понимали друг друга с полуслова. К тому же слуга считал себя в некоторой степени равным своему господину, поскольку оба произошли из семей одинаково древних и чистых (по крайней мере, так они утверждали).
Д'Альвимар родился и вырос на глазах Санчо де Корду, так звали старого оруженосца, в поселке, где тот из-за бедности вынужден был заняться выращиванием свиней. Молодой владелец замка, который был лишь немного богаче, принял его к себе на службу, отправляясь искать счастья в чужих краях.
В кастильском поселке поговаривали, что Санчо любил госпожу Изабеллу, мать д'Альвимара, и даже, что он тоже был ей небезразличен. Это вполне объясняло привязанность этого мрачного и печального человека к высокомерному и холодному юноше, который обращался с ним если не как со слугой, то по крайней мере как с неумным подчиненным.
Мечтательная жизнь Санчо проходила в уходе за лошадьми и заботе о том, чтобы оружие хозяина всегда блестело и было остро наточено. Остальное время он посвящал молитве, сну или мечтаниям, никогда не сближался с другими слугами, давая им понять, что они ему не ровня, ни с кем не дружил из-за своей вечной подозрительности, ел мало, вина не пил и никогда не смотрел собеседнику в глаза.
Так что д'Альвимар, одевшись самостоятельно, вышел, чтобы изучить окрестности, хотя было еще раннее утро.
Из замка открывался вид на пруд, откуда выходил ров, который, обогнув постройки, туда же и возвращался. Как мы уже сказали, замок представлял собой комплекс сооружений, относящихся к различным эпохам.
Совсем новое, хрупкое белое здание, крытое шифером, что было признаком большой роскоши в краю, где обычно крыши были в лучшем случае из черепицы. Здание было увенчано двумя мансардами, тимпаны которых были украшены фестонами (украшенными по фронтонам гирляндами) и шариками[81].
Другая постройка, очень древняя, но хорошо отреставрированная, была крыта мереном[82] и по форме напоминала некоторые швейцарские шале. Здесь помещалась кухня, службы и комнаты для друзей. Это здание давало представление о расположении, принятом в былые тревожные времена. Двери на улицу не было, проникнуть туда можно было только из других зданий: окна выходили во двор, на стороне, обращенной к деревне, было лишь два отверстия, две маленьких квадратных норы, смотрящих со стрельчатого фронтона, как пара недоверчивых глаз с немого лица.
Призматическая башня со стрельчатой дверью недурной работы, так называемая башня, крытая шифером, и увенчанная колоколенкой с макушкой и флюгером, устремленным высоко вверх. В этой башне находилась единственная на весь дворец лестница, через башню старое здание связывалось с новым.
К этому массиву примыкали еще невысокие постройки для домашних слуг, выходившие на берег рва.
В середине внутреннего двора стоял колодец. Он был со всех сторон закрыт замком, прудом, еще одним одноэтажным зданием, также с мансардами, украшенными шариками, где помещалась конюшня, свита, снаряжение для охоты и, наконец, въездной башней, менее большой и красивой, чем в Мотт-Сейи, зато поддерживаемой крепостной стеной, усыпанной бойницами с фальконетами[83] для обстрела подходов к мосту.
Не очень мощная фортификация компенсировалась тем, что рвов было два: первый вокруг двора, глубокий и с проточной водой, второй вокруг заднего двора, был болотистым, зато окружен крепкими стенами.
Между двух рядов укреплений, справа от моста, располагался довольно большой парк, обнесенный высокими стенами и окруженный хорошо ухоженным рвом. Слева — аллея для игры с шарами, псарня, фруктовый сад, ферма, луг с господской голубятней, помещением для охотничьих птиц, а также большой загон, простиравшийся до начала поселка, в котором почти все дома принадлежали маркизу.
Поселок также был укреплен, и в некоторых местах основание стен относились, как говорили, ко временам Цезаря.
Сравнивая небольшие размеры замка с богатой мебелью и привычкой хозяина к роскоши, д'Альвимар начал размышлять о причинах сего несоответствия. Поскольку он ни в коей мере не был склонен к доброжелательности, он предположил, что маркиз, судя по всему, скрывает свое богатство, при этом не из скупости, а, вероятней всего, из-за не совсем честного источника его состояния.
И он не ошибался в предположениях.
Как большинство дворян своего времени, маркиз сколотил состояние во время гражданской смуты, обогащаясь за счет разорения богатых аббатств, благодаря военным контрибуциям, то есть тому, что они получали по праву победителя, а также благодаря контрабанде солью.
В ту эпоху грабеж был почти узаконен, свидетельство тому официальная жалоба господина Аркана на господина де Шатра, который сжег его замок «в нарушение всех правил войны, в то время как о разорении и повреждении мебели он даже не поминает».
Что касается контрабанды соли, в начале XVII века трудно было найти в провинции дворянина, который бы считал ругательством слова дворян «фальшивосолонщик».
Роскошь, в которой маркиз уже давно купался, благодаря его либеральности и бесконечному милосердию, была широко известна в окрестностях ля Шатра, но он благоразумно избегал того, чтобы обширным замком или слишком роскошным видом дома привлечь к себе внимание провинциальных властей.
Он знал, что мелкие тираны, делящие между собой либо деньги, либо налоги Франции, легко бы нашли так называемый законный предлог, чтобы заставить его вернуть награбленное.
Д'Альвимар обошел сады, комичное создание своего хозяина, которыми он гордился не меньше, чем своими военными подвигами.
Они представляли собой подражание садам Изауры, описанным в «Астрее»: там были разбиты цветники и били фонтаны, аллеи чередовались с рощицами. Большой лес-лабиринт был представлен рощей-лабиринтом, где не были забыты ни «грядка» орешника, ни фонтан правды любви, ни Грот Дюмона и Фортуны, ни пещера старой Мандраги.
Все это показалось д'Альвимару ребячеством. Навязчивая идея господина Буа-Доре была в те времена столь распространенной, что не казалась эксцентричной. При дворе Генриха IV «Астреей» зачитывались все, а в мелких германских княжествах принцы и принцессы давали своим детям звучные имена, которыми маркиз удостаивал свою челядь и домашних животных. Роман господина д'Юрфе был чрезвычайно популярен на протяжении двух столетий. Еще Жак-Жан Руссо был им очарован. Вспомним также, что накануне Террора известный гравер Моро помещал в свои композиции дам по имени Клорис и кавалеров по имени Хлас и Цидамас. Правда, тогда эти славные имена фигурировали в виньетках и в романсах, а новые пастушки назывались Коен или Кола. Была сделана небольшая уступка реальности: пастушья жизнь из героической превратилась в гривуазную.
Желая составить представление и об окрестностях, д'Альвимар прошелся по поселку, насчитывавшему около сотни дворов, который буквально прятался в дыре. Так нередко бывало со старыми деревнями. Гордые и неприступные, на взгорье, они будто специально прятались в ложбины, чтобы не бросаться в глаза мародерам.
Это было одно из самых красивых мест Берри. Ведущие туда гравиевые дорожки чисты и сухи в любое время года. Веселые ручейки создавали им естественную защиту, чем, вероятно, в свое время воспользовался Цезарь.
Один из этих ручьев питал рвы замка, другой протекал за деревней, пересекая два небольших озера. Затем оба ручья вливались в протекающий неподалеку Эндр. Вместе со своими водами он несет их по узкой долине, пересеченной дорогами, где рощи чередуются с дикими на вид пустырями.
В сей маленькой пустыне не стоит искать величия, зато она преисполнена очарования. По мере того, как поднимаешься к истокам Эндра, он становится все больше похож на обыкновенный ручей, изобилие диких цветов по его берегам просто поразительно[84]. Спокойный и чистый ручей размыл на своем пути все, что преграждало ему путь, образовав зеленые островки, поросшие деревьями. Растущие слишком скученно, чтобы стать величественными, они простирали над водой свои густые кроны.
Земли вокруг поселка были плодородны. Великолепные орешники и высокие фруктовые деревья образовывали зеленую нишу.
Большая часть этих земель принадлежала господину де Буа-Доре. Лучшие из них он сдавал в аренду, те, что похуже, — оставил себе в качестве охотничьих угодий.
Изучив окрестности, уединенность которых и отсутствие крупных дорог вселили ему надежду, что здесь не произойдет нежелательных встреч, д'Альвимар вернулся в поселок, размышляя по пути, не зайти ли к приходскому священнику.
Он запомнил слова, обращенные господином де Бевром к маркизу:
— А как ваш новый священник? По-прежнему молится за Лигу?
Слова эти разожгли интерес испанца.
«Если этот священник ревностно служит благому делу, — подумал он, — мне стоит с ним подружиться. Ведь де Бевр гугенот, да и Буа-Доре с его терпимостью, тоже не лучше. Как знать, смогу ли я ужиться с подобными людьми?»
Для начала он посетил церковь и был раздосадован ее неухоженностью и наготой, что свидетельствовало о бесхозяйственности предыдущего священника, а также о безразличии владельца замка к интересам храма и неусердии паствы.
Буа-Доре, реальное или мнимое отречение которого от протестантства прошло без шума, не пожелал ознаменовать свое возвращение в лоно истинной церкви пожертвованиями деревенскому храму и подарками капеллану. Его вассалы, ненавидевшие гугенотов, без восторга встретили его окончательное возвращение в родной замок в 1610 году, но их настороженность быстро сменилась искренней привязанностью, поскольку вместо жестоко угнетавшего их правителя они получили добродушного и милосердного сеньора.
Так что паства в Брианте не была слишком набожной. Когда крестьяне принялись оспаривать бог весть какую десятину у бог весть какой братии, архиепископ послал к ним весьма вышколенного пастыря не только для того, чтобы он внушал этим дурным людям благие принципы, но и чтобы проследить за настроениями сеньора.
Набожный д'Альвимар, войдя в церковь, встал на колени и произнес несколько молитв, но почувствовав, что не очень настроен молиться от души, он вышел, чтобы поискать священника.
Он увидел его на площади, беседующим с Беллиндой, так что у д'Альвимара было время к нему приглядеться.
Это был довольно молодой человек с несколько желтушным, сладковатым и скрытным лицом. Возможно, заботы сего суетного мира занимали его не меньше, чем д'Альвимара.
Заметив, что из церкви вышел элегантный и серьезный незнакомец, священник сразу же принялся гадать, кто бы это мог быть. Он уже знал, что вчера вечером в замок прибыл новый гость, поскольку главной его заботой было наблюдение за маркизом. Но что общего может быть у человека, о набожности которого свидетельствует то, как рано он явился в церковь, со столь сомнительным новообращенным, как Буа-Доре?
Пытаясь разузнать об этом у экономки, священник обнаружил, что не может оглянуться без того, чтобы не встретиться с устремленным на него взглядом д'Альвимара.
Тогда он отошел немного в сторонку, чтобы оказаться вне поля зрения незнакомца, как человек, который не хочет здороваться, пока не узнает, с кем имеет дело.
Догадавшись об этом, д'Альвимар не последовал за ним, а остался поджидать его на маленьком кладбище, окружавшем церковь, решив поговорить с ним и завести дружбу.
Так он стоял, размышляя о судьбе, теме, постоянно его занимающей, и вид разрозненных могил, казалось, раздражал его больше обычного.
Д'Альвимар верил в Церковь, но не в истинного Бога. Церковь, была для него учреждением для поддержания дисциплины, а также ужаса, пыточным инструментом, который свирепый и неумолимый Бог использует, чтобы поддерживать свою власть. Если бы ему случилось дальше пойти по этому пути, он бы пришел к выводу, что милосердный Христос и сам был еретиком.
Мысль о смерти была д'Альвимару ненавистна. Он боялся ада, и из-за дурных верований не мог согласовать свою жизнь со строгостью своих принципов.
Он был горяч лишь в споре. Наедине с собой он обнаруживал, что сердце его сухо, а разум смущен мирским тщеславием. Напрасно он себя в этом упрекал. Мысль о наказании никогда не будет плодотворной, а страх и угрызения совести далеко не одно и то же.
— Я умру! — говорил он себе, глядя на бугорки травы, которые подобно бороздам на поле, выросли над могилами безвестных людей. — Умру, возможно, без богатства и могущества, как эти ничтожные холопы, от которых не осталось даже имени на сгнивших деревянных крестах. Ни влияния, ни славы в этом мире! Ярость, разочарование, бесполезный труд, тщетные усилия… возможно, даже преступления… все это может случиться со мной на пороге вечности, и я так и не смогу послужить делу Церкви в этом мире, чтобы получить спасение в ином!
Размышляя о своей судьбе, он пришел к выводу, что дьявол его сильно искушает.
Он подумал, не стоит ли исповедоваться этому священнику, показавшемуся ему человеком умным, но потом решил, что не стоит доверять свои жгучие тайны незнакомому человеку.
Погруженный в черную меланхолию, он заметил появление господина Пулена, лишь когда тот почтительно поздоровался.
Они представились друг другу.
С первых же слов оба поняли, что одинаково честолюбивы.
Священник пригласил его к себе на обед.
— Я смогу оказать вам лишь скромный прием, мой стол не так изобилен, как в замке. У меня нет слуг, прислуживающих на пирах. Так что скромность моего угощения позволит вам сохранить аппетит, чтобы отобедать затем у маркиза, о начале которого колокол возвестит часа через два-три, не раньше.
В этих словах проскользнула едкая зависть к замку, которая не укрылась от испанца. Он охотно принял приглашение, надеясь узнать у священника все, чтобы решить, стоит ли опасаться гостеприимства маркиза или радоваться ему.
Глава четырнадцатая
Для начала господин Пулен отозвался о владельце замка положительно.
Очень добрый человек; у него прекрасные намерения; он много подает бедным, никто этого не отрицает; к сожалению, будучи недостаточно осведомленным, он раздаст милостыню направо-налево, не посоветовавшись с естественным посредником между замком и хижиной, то есть с приходским священником. Он слегка тронутый, сам по себе безобиден, но его позиция опасна из-за его богатства, примера рафинированной чувственности, легкости и небрежения к религии, который он подает своему окружению.
К тому же у него проживает весьма подозрительная личность: волынщик, который, возможно, на самом деле вовсе не так нем, как кажется; может, он еретик или лжеученый, и занимается астрономией или даже астрологией!
Старый Адамас тоже не лучше, мерзкий льстец и лицемер. А этот паж, нелепо выряженный в дворянина? Хотя, будучи буржуа, он не имеет права носить даже сатин, а по воскресеньям он имеет наглость являться на мессу в камчатой ткани!
Вообще вся челядь никуда не годится. Со священником они в лучшем случае вежливы, о предупредительности и речи не идет. Его еще ни разу как следует не пригласили на обед, сказали только, что для него раз и навсегда поставлен прибор. Слишком уж бесцеремонное обращение! Даже удивительно видеть подобное у человека, который долго прожил при дворе. Правда, у Беарнца не очень-то обращали внимание на правила хорошего тона и нередко слишком баловали ничтожных людей. Так что во всем замке лишь Беллинда производит впечатление рассудительного человека.
Д'Альвимар решил, что Пулен весьма умен, а подозрения к волынщику разгорелись в его сердце с новой силой.
Но эти мелочи недолго занимали внимание испанца.
Уверившись, что маркизу доверять не стоит, он перенесся мыслью в более высокие слои и захотел узнать, что представляют собой важные персоны этой провинции.
Пулен был в курсе всех маленьких тайн Буржского правительства. Политику он понимал так же, как д'Альвимар: завладеть секретами частной жизни каждого, чтобы затем влиять на большие дела.
Вскоре священник понял, что может говорить открыто. Он признался, что смертельно скучает в этом затерянном в беррийской глуши поселке, но, набравшись терпения, надеется, что близок тот день, когда господин де Буа-Доре или его сосед де Бевр предоставят повод для преследования,при этом господин Пулен предпочитал быть жертвой, а не нападающим.
— Вы понимаете, лучше быть в обороне, чем на острие наступления. Наступая, никогда не чувствуешь себя уверенно. Вот если бы беррийские безбожники мне угрожали или даже причинили небольшое зло, я смог бы поднять достаточно шума, чтобы навсегда покинуть этот пустынный край. Не думайте, что я честолюбив. Я служитель Церкви, а чтобы принести ей пользу, приходится стремиться быть на виду.
«Этот попик половчее меня, — подумал д'Альвимар, — он умеет ждать и умеет найти удобную позицию для нападения на врага. А я всегда был слишком агрессивным, это меня и погубило. Но никогда не поздно воспользоваться добрым советом, я часто буду приходить к нему посоветоваться».
Создавалось впечатление, что этот человек занят лишь мелкими дрязгами своего прихода, и то затем, чтобы извлечь из этого выгоду для себя. Но он был значительно сильнее д'Альвимара, настолько, что через час он полностью разгадал его, несмотря на всю его недоверчивость, и если он узнал не все секреты жизни испанца, то по крайней мере его характер, разочарования, неудачи, желания и мечты.
Исповедовав его таким образом, делая вид, что исповедуется сам, он повел разговор прямо к цели:
— У вас больше шансов преуспеть, чем у меня, поскольку богатство делает могущественным. Священник не может добиться успеха теми же способами, что человек света. Он должен идти к цели медленно, рассчитывая лишь на свой ум и усердие. Он должен помнить, что богатство для него не цель, а средство. А вы можете разбогатеть уже завтра-послезавтра. Надо лишь жениться.
— Я в это не верю! — воскликнул д'Альвимар. — В наш развращенный век женщины предпочитают покровительствовать своим любовникам, а не мужьям.
— Я про это слышал, — возразил священник, — но я знаю против этого одно простое средство.
— Вот это да! В таком случае вы обладатель великого секрета!
— Очень простого и легкого при этом. Не надо целить высоко. Не стоит жениться на женщине из высшего света. Надо найти в провинции простую женщину с хорошим приданым. Вы понимаете? Надо тратить деньги при дворе, а жену туда не вывозить.
— Как! Жениться на мещанке?
— Среди дворянок есть богатые девушки, не менее скромные, чем мещанки.
— Я с такими не знаком.
— Ну как же, что далеко ходить за примерами… Как вам нравится молодая вдовушка из Мотт-Сейи?
— По-моему, тут можно скорее говорить о достатке, чем о богатстве.
— Вы судите поверхностно. В этих краях люди не привыкли к роскоши. За исключением чокнутого маркиза все дворяне-домоседы живут довольно скромно, но деньги имеют. Они обогатились благодаря контрабанде солью и ограблению монастырей. Если захотите, я докажу вам, что, заполучив доходы мадам де Бевр, вы сможете вести в Париже вполне достойный образ жизни. К тому же она в родстве с лучшими семьями Франции, и те не станут возражать против того, чтобы породниться со здравомыслящим испанцем.
— Но разве она не гугенотка, как отец?
— Вы ее обратите! По крайней мере, если вы не хотите воспользоваться ее кальвинизмом как предлогом, чтобы оставить ее доживать свой век в одиночестве.
— Вы весьма дальновидны, господин священник! Но вы же собираетесь в один прекрасный день объявить войну этой семье…
— Поскольку я не собираюсь семью разорять, эта война скорее окажет вам услугу. Только не подумайте, что я советую вам плохо с ней обращаться или бросить ее. Просто надо иметь достаточно свободы, чтобы отлучаться, когда этого требует ваше положение. Если она станет сварливой или строптивой, ее легко будет укротить, памятуя о ее ереси. Свобода совести, предоставленная этим людям, оговаривается рядом ограничений, которые они не всегда соблюдают. Они постоянно в наших руках, доказательство тому то, что она до сих пор не нашла нового мужа. В наших краях люди, уставшие от войны между замками, опасаются жениться во время непрекращающихся войн. Так что в данный момент у вас нет конкурентов, кроме, разве что, Гийома д'Арса, умеренного католика, завсегдатая Ла-Мотт. Но в Бурже его смогут завлечь в иные сети. Этого молодого зятька нетрудно отвлечь. И наконец, со вдовой, изнывающей от одиночества, такому человеку, как вы, грех не справиться. По вашей улыбке я вижу, что вы уверены в успехе.
— Признаюсь, все, что вы говорите, верно, — ответил д'Альвимар, вспомнив волнение, которое молодая дама не смогла от него скрыть, но причину которого он истолковывал совершенно неверно. — Я думаю, стоит мне захотеть…
— Надо захотеть… Подумайте об этом как следует, — произнес господин Пулен, поднимаясь. — Если вы решитесь, я напишу конфиденциальное письмо людям, которые многое могут.
Он имел в виду иезуитов, которые уже поколебали твердость господина де Бевра, угрожая, что его дочь не сможет выйти замуж. Ценой этого замужества де Бевр мог купить для себя покой. Д'Альвимар, понявший все с полуслова, обещал священнику серьезно над этим подумать и дать ответ послезавтра, после визита к мадам де Бевр.
Колокол в замке возвестил начало обеда. Попрощавшись со священником, сулившим ему золотые горы, д'Альвимар направился замку.
После общения с деятельным и способным поддержать его умом священником, он чувствовал себя сильным и веселым, чего с ним не случалось уже давно. К нему возвращалась надежда. Бегство в Берри, убежище, найденное у врагов его веры, своеобразное одиночество, в котором он оказался, то есть все, что еще два часа назад виделось ему в мрачных красках, теперь казалось счастливым приключением.
— Да, да, этот человек прав, — сказал себе д'Альвимар. — Эта женитьба меня спасет. Стоит мне только захотеть. Вскружив голову этой провинциалочке, я признаюсь ей, что попал при дворе в немилость, и она сочтет для себя честью меня в этом утешить. Придется некоторое время притворяться… ну что ж, постараюсь. Итак, вперед! Горизонт проясняется, и может, вскоре звезда моей судьбы выйдет из-за туч.
Ведя с собой такую беседу, он поднял голову и заметил на мостике у двора ребенка мавританки, храбро сидящего на одной из лошадей из вчерашней каретной упряжки маркиза.
Мерседес попросила у Адамаса позволения провести еще день в замке, и добрая душа разрешила ей это от имени хозяина, которому он непременно желал ее представить, когда тот будет свободен.
Игравший во дворе ребенок понравился каретнику[85], и он уступил просьбам мальчика покатать его на Скилендре. Сам он сел на Пиманта (другую лошадь из упряжки) и, держа Скилендра за уздечку, повел коней к ручью на ежедневную процедуру мытья копыт.
Д'Альвимар был потрясен, увидев лицо ребенка, еще вчера бросившегося под копыта его лошади, чтобы выклянчить подаяние, и увернувшегося от его хлыста, сегодня восседающим на монументальном боевом Скилендре и взирающим на него сверху вниз с невольным торжеством.
Редко можно встретить более интересное и более трогательное лицо, чем у этого маленького бродяги. Он был очень красив, белокожее лицо, обожженное солнцем, казалось утонченным. Черты лица, возможно, были не безупречны, но черные бархатные глаза были столь выразительны, улыбка столь нежна, что были неотразимы для любого, чье сердце не закрыто для божественного очарования детства.
Адамас инстинктивно поддался этой нежной силе, исходящей от малышка. Иногда эти суровые люди бывают так добры! Не о них ли мадам де Севиньи сказала, что встречаются «крестьянские души, прямее линий, и для которых любовь к добродетели так же естественна, как для лошади галоп»?
Но д'Альвимар, не любивший простодушие, не любил и детей, а этот мальчик вызывал у него особое раздражение, хотя он не мог понять, почему.
Он почувствовал холод и головокружение, как если бы, когда он спокойным и веселым возвращался в Бриант, ему на голову обрушилась опускная решетка.
Несколько лет назад с ним начали приключаться эти внезапные головокружения, и он охотно относил их на счет встреченных им лиц. Он верил в таинственные влияния и, чтобы их избежать, по любому поводу внутренне проклинал людей, одаренных, на его взгляд, оккультной силой.
— Чтоб эта лошадь тебе шею свернула! — прошептал он, делая двумя пальцами левой руки под полой плаща «рожки», чтобы уберечься от сглаза.
Завидев мавританку, направляющуюся в его сторону, он повторил этот кабалистический жест.
На секунду она остановилась и снова пристально на него посмотрела, что привело его в бешенство.
— Чего вам от меня надо? — грубо спросил он, сделав шаг ей навстречу.
Ничего не ответив, она поклонилась и побежала к ребенку, весьма встревоженная тем, что тот забрался на лошадь.
Навстречу д'Альвимару вышел Буа-Доре в сопровождении Люсилио Джиовеллино.
— Скорее за стол! — воскликнул маркиз. — Вы, наверно, умираете от голода. Беллинда очень расстроена, что, не заметив, как вы уходите утром, отпустила вас гулять голодным.
Д'Альвимар почел за благо не рассказывать, что был у священника и ел у него. Он заговорил о печальной красоте природы и теплом ясном осеннем утре.
— Да, — сказал Буа-Доре, — такая погода продержится еще несколько дней, поскольку солнце…
Его прервал пронзительный вопль, донесшийся ото рва. Бросившись бежать настолько быстро, насколько только мог, чтобы узнать, что произошло, он встретился на мосту с д'Альвимаром и Люсилио; один из них обогнал его, другой механически за ним последовал.
Они увидели, что мавританка мечется по берегу, протягивая руки к ребенку, сидящему на огромной лошади, вот-вот готовая броситься в воду с довольно крутого места.
Глава пятнадцатая
Вот что произошло.
Цыганенок, счастливый и гордый, что заполучил такую большую игрушку, ласково уговорил каретника дать ему подержать уздечку. Почувствовав, что оказался во власти слабой детской руки, а также подбадриваемый маленькими каблучками, барабанившими по его бокам, конь взял слишком вправо и, потеряв брод, поплыл. Каретник хотел прийти ему на помощь, но более осторожный, чем его товарищ, Пимант отказался сходить с привычного пути. Мальчик был в полном восторге от этого обстоятельства и только крепче вцепился в лошадиную гриву.
Крики матери слегка отрезвили его, и он крикнул ей на языке, знакомом только Люсилио:
— Не бойся, мать, я хорошо держусь.
Но лошадь попала в течение речки, питавшей ров. Тяжелый и флегматичный Скилендр уже устал, раздутые ноздри свидетельствовали о его страхе и беспокойстве.
Не сообразив, что можно повернуть назад, конь плыл прямо к пруду, и было вероятно, что он потратит последние силы на тщетные попытки преодолеть плотину.
Опасность не была еще неминуемой, и Люсилио жестами пытался убедить мавританку не бросаться в воду. Не обращая внимания на его слова, она начала спускаться по зеленому склону. Маркиз, видя двух несчастных созданий в беде, принялся расстегивать плащ.
Он бросился бы вплавь, ни с кем не посоветовавшись, так, что д'Альвимар даже не успел разгадать его намерения, но тут Люсилио прыгнул с моста в воду и быстро поплыл к ребенку.
— Ах, добрый, храбрый Джиовеллино! — прошептал маркиз, от волнения позабыв французский вариант имени друга.
Д'Альвимар тут же поместил нечаянно вырвавшееся имя в архивы своей памяти, которая никогда его не подводила. Пока маркиз спускался по откосу к мавританке, чтобы ее успокоить, испанец оставался на мосту, с интересом ожидая, чем все кончится.
Это был не тот интерес, что испытывал бы любой добрый человек в подобных обстоятельствах, хотя д'Альвимар был весьма встревожен.
Он вовсе не желал, чтобы этот немой утонул, да это было и маловероятно. Но он желал, чтобы погиб ребенок, что было возможно. Он не просил небеса оставить это несчастное создание, но и не пытался усмирить свой жестокий инстинкт. Против его воли ребенок казался ему воплощением странного, непреодолимого зла, внушая суеверный ужас.
«Если то, что я испытываю, является знаком судьбы, — подумал он, — то в этот момент решается моя участь. Если ребенок погибнет — я спасен, если он спасется — я погиб».
Ребенок был спасен.
Догнав лошадь, Люсилио схватил маленького наездника за шиворот и выволок на берег к матери, которая, рыдая и крича, наблюдала за всеми перипетиями драмы.
Затем он отправился за глуповатым Скилендром, упрямо пытавшимся преодолеть плотину, и взяв за уздечку, целым и невредимым доставил растерянному каретнику.
На крик мавританки сбежался весь дом и все были растроганы, застав ее «всю в слезах» у ног Люсилио. Она что-то жарко говорила ему по-арабски и недоумевала, почему он не отвечает, ведь видно, что он ее понимает.
Обняв Люсилио, маркиз тихо сказал ему:
— Мой бедный друг! Побывав в руках палача, терзавшего вас до мозга костей, вы остались прекрасным пловцом. Бог, знающий, что вы живете на этом свете лишь для добра, пожелал являть через вас чудеса. А теперь скорее переоденьтесь, а вы, Адамас, высушите и обогрейте этого маленького чертенка, который, как я вижу, испугался не больше, чем если бы встал с постели. Я хочу, чтобы вы сразу после еды привели его ко мне вместе с матерью, так что позаботьтесь, чтобы они выглядели поопрятнее. А куда делся господин де Виллареаль?
Так называемый Виллареаль вернулся в замок и один в своей комнате молился своему мстительному Богу, надеясь, что тот не слишком сурово покарает его за страстность, с которой он беспричинно желал смерти цыганенку.
Мы называем малышка цыганенком, поскольку его так называли окружающие; но когда после еды маркиз де Буа-Доре явился в старый зал замка, который Адамас торжественно величал залом для аудиенций, а иногда залом суда, когда этот престарелый министр внутренних дел представил маркизу мавританку и ребенка, первое, что воскликнул маркиз после удивленной паузы, было:
— Чем дольше я смотрю на этого мальчика, тем больше убеждаюсь, что он не египтянин и не мавр, а, скорее, чистокровный испанец, а может даже француз.
На представлении присутствовали Адамас, д'Альвимар и Люсилио. Все внимательно слушали маркиза.
— Вот видите, — продолжал Буа-Доре, наивно довольный своей проницательностью, отогнув ворот рубашки у ребенка, — лицо загорелое, впрочем, не сильней, чем у наших крестьян во время жатвы; а вот шея бела как снег, а руки и ноги маленькие, таких у свободных крестьян и крепостных не бывает. Ну что, шалун, не стесняйтесь и, поскольку вы знаете французский, отвечайте нам. Как вас величать?
— Марио, — немедленно отозвался мальчик.
— Марио? Это ведь итальянское имя!
— Не знаю.
— Откуда вы родом?
— Полагаю, что я француз.
— Где вы родились?
— Не помню.
— Охотно верю, — рассмеялся маркиз, — но спросите об этом у вашей матери.
Повернувшись к мавританке, мальчик заговорил с ней.
Он выглядел счастливым рядом с этим красивым господином, который отечески с ним беседовал, держа его между колен, и робко проводил пальчиком по шелковым одеждам сеньора и шелковистой шерстке украшенной бантами собачки.
Но взглянув на мать, он будто прочел в ее взгляде важное предупреждение; мягко отстранившись от господина де Буа-Доре, он подошел к мавританке и молча опустил глаза.
Маркиз продолжал задавать ему вопросы, мальчик хранил молчание, хотя, казалось, он нежным взглядом просит у него прощения за свою невоспитанность.
— Я полагаю, друг Адамас, что ты сверх меры расхвалил мальчика, утверждая, что он хорошо говорит на нашем языке. Он, правда, произнес несколько слов совсем без акцента; но я полагаю, что этим его познания во французском и ограничиваются. Поскольку ты хорошо знаешь испанский, а я, признаюсь, не очень в нем силен, задай ему мои вопросы.
— Ни к чему, господин маркиз, — возразил неунывающий Адамас, — я клянусь, что малыш говорит по-французски, как настоящий грамотей: просто он оробел перед вами, вот и все.
— Да нет! — не согласился маркиз. — Это маленький лев, который ничего не боится. Он вышел из воды столь же спокойно, как зашел туда, и он видит, что мы добрые люди.
Казалось, Марио понял Буа-Доре, его ласковые глаза будто говорили «да», в то время, как умные и настороженные глаза мавританки, обращенные на д'Альвимара, говорили ему «нет».
— Ну ладно, — сказал маркиз, вновь подзывая к себе ребенка, — я хочу, чтобы мы стали добрыми друзьями. Я люблю детей, и этот мальчик мне нравится. Не правда ли, мэтр Жовлен, это лицо создано не для того, чтобы обманывать, и взгляд этого ребенка проникает прямо в сердце. В этом кроется какая-то тайна, и я хочу в нее проникнуть. Послушай, Марио, если ты скажешь мне правду, я подарю тебе… Что ты хочешь получить в подарок?
Наивно непосредственный, как и положено в его годы, Марио бросился к Флориалю, красивой белой собачке, которая, когда маркиз садился, всегда залезала к нему на колени.
Казалось, Марио готов на все, чтобы ее заполучить. Но взгляд мавританки снова заставил его сдержаться, и он поставил собачку обратно к великой радости маркиза, который уже подумывал, не слишком ли далеко он зашел.
Печально покачав головой, ребенок жестом показал, что ничего не хочет.
До этой минуты д'Альвимар хранил молчание; пока он замаливал перед Богом свой грех, совершенный у рва, через его память кратко, но точно прошли все обстоятельства его жизни. Не всплыло ничего, хоть косвенно связанного с этой женщиной и ребенком.
Так что его чувство было лишь галлюцинацией, и он раскаивался, что не преодолел его сразу; к нему вернулось здравомыслие.
За столом маркиз ни словом не помянул рассказ Адамаса о таинственном путешествии Мерседес. Он и сам накануне вечером слушал его вполуха, засыпая. Поэтому д'Альвимар смотрел на двух попрошаек со спокойным презрением, найдя разумное объяснение своему к ним отвращению.
Он произнес:
— Господин маркиз, если вы позволите мне удалиться, то, полагаю, с помощью небольшой подачки вы легко проникнете во все их тайны. Возможно, мальчик — христианин, украденный этой мавританкой, а уж в ее расе я ни капли не сомневаюсь. Между тем вы ошибаетесь, полагая, что цвет кожи является верным признаком. У мавров иногда рождаются дети белокожие, как мы с вами. Если вы хотите в чем-то удостовериться, надо поднять волосы, прикрывающие лоб, возможно, вы найдете там клеймо, сделанное каленым железом.
— Как! — воскликнул маркиз с улыбкой, — неужели они так боятся святого крещения, что смывают воду огнем?
— Это знак раба, — пояснил д'Альвимар. — Так велит испанский закон. На лбу у них выжигают S шляпку гвоздя, что на образном испанском языке означает Раб.
— Да, — кивнул маркиз, — помню, это напоминает ребус. Мне этот обычай кажется отвратительным. Если малыш носит такой знак и является рабом вашей нации, я хочу его выкупить, чтобы на земле Франции он был свободным.
Мерседес ни слова не поняла из их разговора. Она с тревогой следила, как д'Альвимар приближается к Марио, будто бы собираясь до него дотронуться. Но д'Альвимар ни за что на свете не стал бы марать обтянутую перчаткой руку прикосновением к мавру и ожидал, что маркиз сам приподнимет волосы надо лбом ребенка. Маркиз же этого делать не собирался из чувства деликатного сострадания к несчастной матери, угадывая ее тревогу.
Марио понимал, о чем идет речь, но, будто зачарованный взглядом Мерседес, сохранял неподвижность и молчание.
— Вот видите, — продолжал д'Альвимар, — он опустил голову, скрывая свой стыд. Я знаю эту публику, с меня довольно, так что оставляю вас в этой честной компании. Они, вне всякого сомнения, и рта при испанце не раскроют, а, судя по всему, они знают, кто я такой. Между этой низшей расой и нашей существует инстинктивная неприязнь. Они чуют нас, как дичь — приближения охотника. Я встретил эту женщину вчера на дороге и уверен, это она навела порчу на моего коня, поскольку сегодня он начал хромать. Будь я хозяином этого дома, эта нечисть и минуты не находилась бы под моей крышей!..
— Вы мой гость, — ответил Буа-Доре вежливо, но с достоинством и неожиданной для д'Альвимара твердостью, — в силу этого никто не станет оспаривать здесь ваше мнение, независимо от того, совпадает ли оно с моим. Если вам неприятно смотреть на этих несчастных, то, поскольку я не могу допустить, чтобы вы испытывали у меня в гостях какие бы то ни было неудобства, можно устроить все так, чтобы они не попадались вам на глаза. Но вы не можете потребовать, чтобы я выгнал ребенка и женщину.
— Конечно, месье, — сказал д'Альвимар, вновь овладевший собой, — это означало бы злоупотребить вашей добротой; прошу прощения за мою несдержанность. Вы знаете, какое отвращение моя раса испытывает к этим неверным, но я должен был сдержаться.
— Что вы имеете в виду? — не без раздражения спросил маркиз. — Вы нас за мусульман принимаете?
— Видит Бог, нет, господин маркиз! Я имел в виду терпимость французской расы в целом, а поскольку вежливость велит подчиняться обычаям, принятым в стране, гостеприимством которой пользуешься, я обещаю вам держать себя в руках и без отвращения смотреть на любого, кого вы соизволите у себя принимать.
— Вот и слава Богу! — произнес маркиз, протягивая ему руку. — Как вам понравится, если я предложу вам поохотиться на зайцев?
— Это очень любезно, господин маркиз, — сказал д'Альвимар, — но не стоит утруждать себя: с вашего позволения я в ожидании обеда напишу несколько писем.
Вставший, чтобы проводить его, маркиз с небрежной грацией вновь опустился в кресло и обратился к Люсилио:
— Наш гость хорошо воспитанный кавалер, но излишне горяч, кроме того, водится за ним тот грех, что он слишком испанец. Эти возвышенные люди презирают все, что не является испанским. Но, мне кажется, они подрубили сук, на котором сидят, преследуя и уничтожая несчастных мавров. Когда-нибудь они локти себе будут кусать. Мавры были единственными, кто прилежно трудился и заботился о чистоте в этой стране. До того, как их столь жестоко начали преследовать, они были кроткими и добрыми. Так что если перед нами действительно осколок сей несчастной нации, столь великой в прошлом, прекратим этот разговор. Пожалеем несчастных! Один Бог на всех!
Люсилио слушал маркиза с благоговейным вниманием, но это не помешало ему что-то писать.
— Что вы делаете? — спросил Буа-Доре.
Люсилио протянул ему лист бумаги, испещренный непонятными маркизу знаками, показавшимися ему полной тарабарщиной.
— Это, — ответил немой при помощи карандаша, — перевод на арабский ваших прекрасных слов. Посмотрим, умеет ли ребенок читать, и понимает ли он этот язык.
Взглянув на бумагу, Марио бросился к мавританке, которая, выслушав его с большим волнением, поцеловала написанные слова и встала перед маркизом на колени.
Повернувшись к Джиовеллино, она произнесла по-арабски:
— Человек сердца и добродетели, передай этому доброму человеку мои слова. Я не хотела при испанце говорить на своем языке. Я не хотела, чтобы ребенок произнес при нем хоть слово. Испанцы ненавидят нас, и где бы ни повстречали, стараются причинить нам зло. Между тем ребенок христианин, а не раб. Посмотри на мой лоб, на нем клеймо инквизиции, оно еще заметно, хотя и выжженно очень давно.
Развязав пестрый платок, державший ее черные волосы, она обнажила лоб, на котором не было заметно никаких следов каленого железа.
Но она ударила себя ладонью по лбу и вскоре на покрасневшей коже белым контуром выступил ужасный ребус.
— Но, — продолжала она, убирая со лба пышные волосы Марио, — взгляни на этот чистый лоб. Если бы на нем было выжжено клеймо, след был бы еще заметен. Этот лоб крещен священником твоей религии, ребенок воспитан в вере своих отцов и знает язык своих предков.
Пока мавританка говорила, Люсилио письменно переводил ее слова и маркиз постепенно их читал.
— Попросите ее, — обратился он к немому, — рассказать ее историю. Скажите, что мы сочувствуем ее несчастьям и берем ее под свое покровительство.
Люсилио не пришлось переводить слова де Буа-Доре. Марио, одинаково хорошо говоривший по-арабски, французски и каталонски, успел все пересказать своей приемной матери с удивительной точностью.
Мы передадим продолжение разговора, как если бы все четверо говорили на одном языке и к Люсилио вернулся дар речи.
Вот что сказала мавританка:
— Дорогой Марио, скажи этому доброму сеньору, что я плохо говорю по-испански, а по-французски и того хуже. Я расскажу все его писателю, и он прочитает.
Я дочь бедного каталонского фермера. В Каталонии последние мавры, уцелевшие после устроенной инквизицией бойни, жили еще спокойно, в надежде, что им позволят своим трудом зарабатывать на жизнь, потому что мы не принимали участия в войнах последнего времени, принесших столько несчастий нашим братьям в других провинциях Испании.
Моего отца звали по-мавритански Йезид, а по-испански Хуан. Я при крещении окроплением получила имя Мерседес, а по-мавритански меня зовут Ссобия[86].
Сейчас мне тридцать лет. Когда мне было тринадцать, нам по секрету сообщили, что нас тоже ожидает изгнание и разорение.
Еще до моего рождения ужасный король Филипп II издал ордоннанс, предписывающий всем маврам выучить кастильское наречие и никогда больше ни тайно, ни на людях не говорить, не писать и не читать по-мавритански. «Все контракты, заключенные на этом языке, будут признаны недействительными, все книги должны быть сожжены». Мы должны были отказаться от нашей одежды и носить христианское платье. «Мавританские женщины должны выходить на улицу без чадры, с открытым лицом». У нас не должно быть национальных праздников, танцев, песен. Мы должны отказаться от наших имен и фамилий и взять христианские имена. Ни женщины, ни мужчины не должны больше мыться, и ванны в наших домах должны быть разрушены.
Была оскорблена чистота наших нравов и забота о чистоте тела. Мои родители с этим смирились. Когда они поняли, что это ничего не дает и что все равно их преследуют, чтобы заполучить их деньги, они решили накопить как можно больше золота и припрятать, чтобы, когда появится смертельная опасность, можно было убежать.
Трудолюбием и терпением им удалось сколотить небольшое состояние. Они надеялись, что мне не придется ходить с сумой по миру, как многим другим, которых беда застала врасплох. Но мне было суждено просить подаяние, как и всем остальным.
Несмотря на причиняемые нам унижения, мы были довольно счастливы. Наши испанские сеньоры нас не любили, но понимали, что во всей Испании лишь мы умеем и хотим обрабатывать землю, и просили своего короля пощадить нас.
Когда мне исполнилось семнадцать лет, король Филипп III неожиданно издал указ против каталонских мавров. Мы были изгнаны из королевства, нам разрешили взять с собой лишь движимое имущество, которое можем унести в руках. Через три дня под страхом смертной казни нам было предписано покинуть наши дома и под конвоем отправиться к месту отплытия. Христианину, спрятавшему у себя мавра, грозили семилетние работы на галерах.
Мы оказались разорены. Правда, отец и я взяли столько золота, сколько могли унести, и безропотно отправились в путь. Нас обещали отвезти в Африку, на родину наших предков.
Тогда мы обратились к Богу наших отцов с просьбой принять своих верных детей.
На корабле нам разрешили одеть наши старые одежды, которые сто лет хранились в сундуках, и петь песни на нашем языке, который мы никогда не забывали, поскольку, несмотря на все декреты, говорили между собой только на нем.
Народу на корабле набилось, как сельдей в бочке Едва мы отплыли, с нас потребовали плату. У большинства не было с собой ни гроша. Тогда приказали, чтобы за неимущих заплатили богатые.
Увидев, что тех, кто не может заплатить, бросают за борт, мой отец без колебаний заплатил за всех, кто был на нашем корабле. Убедившись, что у него ничего больше не осталось, его, как и остальных, бросили за борт.
Мавританка на секунду прервалась. Глаза ее были сухи, но грудь тяжело вздымалась.
— Презренные мерзавцы испанцы! Несчастные мавры! — прошептал маркиз. Но, поймав печальный взгляд Люсилио, добавил: — Увы! Франция поступила не лучше, а регентша обращалась с ними точно так же.
Мерседес продолжала:
— Оставшись одна на белом свете, без единого денье за душой, лишенная всего, что я любила, я хотела последовать за моим бедным отцом, но меня удержали. Я была красивой, и хозяин галеры хотел сделать меня своей рабыней. Но Бог ниспослал бурю, и все силы были брошены на борьбу со стихией. Многие корабли пошли на дно, и тысячи мавров погибли вместе со своими палачами.
Нашу галеру прибило к французским берегам, она разбилась о скалы в месте, названия которого я не знаю.
Меня выбросило на берег вместе со многими мертвыми и умирающими. Я была спасена. Не в силах идти дальше, мокрая и измученная, я поспешила укрыться в горах. Впервые за много дней и ночей мне удалось заснуть.
Когда я проснулась, буря кончилась, было тепло, я была одна. Разбитый корабль дрейфовал у берега, песок был усеян мертвыми телами. Я была голодна, но еще могла идти.
Я поспешила как можно дальше уйти от побережья, опасаясь повстречаться с испанцами. Я шла через горы, мне подавали хлеб и воду, иногда давали кров. Меня принимали плохо: мой наряд вызывал у крестьян недоверие.
Как-то я встретила несколько моих соплеменниц, которые жили в деревне. Они дали мне одежду и посоветовали скрывать мою веру и национальность, потому что местные люди не любят чужеземцев, и особенно ненавидят мавров. Увы, похоже, их ненавидят везде. Позже я узнала, что, вместо того, чтобы принять добравшихся до берегов Африки мавров как братьев, берберы перерезали их или обратили в рабство еще худшее, чем у испанцев.
Как я могла скрыть, что я мавританка? Я слишком плохо говорила на каталонском. Мне подавали милостыню, но стоило оказаться поблизости испанцу, как он говорил местным:
— У вас тут мавританка.
И меня отовсюду изгоняли. Я шла от долины к долине.
Однажды на большой дороге, которая, как я потом узнала, вела в По, я повстречала женщину, еще более несчастную, чем я. Это была мать ребенка, которого вы видите, который стал мне, как сын…
— Продолжайте, — кивнул маркиз.
Но Мерседес замялась и, обращаясь к Люсилио, сказала:
— Я могу рассказать историю родителей Марио лишь вам… Вы спасли его жизнь, вы кажетесь мне ангелом небесным. Если мне позволят остаться тут еще на несколько дней и я уверюсь, что Марио в безопасности, клянусь, я скажу вам все. Но я опасаюсь того испанца, которому этот старый сеньор протягивал руку, после того, как попенял за жестокость к нам. Я все видела своими глазами, господа всегда остаются господами, и бедные рабы не могут надеяться, что даже лучшие из них будут на их стороне, выступая против равных себе.
— В таком деле не может быть равных! — воскликнул маркиз, когда Люсилио перевел ему эти слова. — Клянусь христианской верой и честью дворянина, что буду защищать слабого против всех.
Мавританка ответила, что расскажет всю правду, но скроет некоторые ненужные подробности.
— Я шла по дороге, ведущей в По, через безлюдное место в горах. Я спряталась, чтобы отдохнуть, поскольку боялась бандитов, которые всегда бывают на дорогах. Я заметила сначала мужчину. Женщина шла впереди. Набежали бандиты, убили и ограбили ее мужа, который шел сзади. Все произошло так быстро, что, когда женщина вернулась назад, посмотреть, почему муж ее не догоняет, она нашла его распростертым на дороге.
При виде этого она упала без чувств, и я заметила, что она беременна.
Я не знала, чем ей помочь и как утешить. Встав перед ней на колени, я молилась и плакала. В это время на дороге показался одетый в черное человек с серыми усами. Подъехав к нам, он спросил, почему я так плачу. Я указала на женщину, лежащую рядом с трупом ее мужа. Он обращался к ней на нескольких языках, потому что был очень учен, но вскоре убедился, что она не в состоянии ответить.
Перенесенное ею потрясение ускорило роды.
Мимо проходили пастухи со своими стадами. Он подозвал их. Увидев, что к ним обращается христианский священник, они поспешили исполнить его просьбу и перенесли женщину в свой дом, где она умерла час спустя после того, как произвела на свет Марио. Перед смертью она успела передать священнику обручальное кольцо, ничего не объяснив ему словами, но указывая на ребенка и на небо!
Священник задержался у пастухов, чтобы похоронить несчастных, затем, полагая, что я рабыня той дамы, дал мне ребенка и приказал следовать за ним. Я не хотела его обманывать, узнав, какой он добрый и образованный. Я рассказала ему свою историю и как я случайно стала свидетелем убийства торговца.
— Так это был бродячий торговец? — спросил маркиз.
— Или переодетый дворянин, — ответила Мерседес. — Жена его прикрывала бедным плащом дворянское платье, и на нем тоже, когда обмывали его перед отпеванием, обнаружили под грубой одеждой рубашку тонкого полотна и шелковые штаны. У него были белые руки, кроме того, при нем нашли печать с дворянским гербом.
— Покажите мне эту печать! — воскликнул взволнованный Буа-Доре.
Мавританка покачала головой:
— У меня ее нет.
— Эта женщина нам не доверяет, — молвил маркиз, обращаясь к Люсилио, — но эта история интересует меня сильней, чем она может предположить. Как знать, вдруг… Дорогой друг, постарайтесь хотя бы поточнее узнать, когда произошло это несчастье.
Люсилио знаками предложил маркизу спросить об этом у ребенка, тот ни секунды не колеблясь, ответил:
— Я появился на свет через час после смерти моего отца и за четыре дня до убийства доброго короля Франции Генриха IV. Так мне сказал господин аббат Анжорран и приказал никогда об этом не забывать. Моя мать Мерседес разрешила это вам рассказать при условии, что об этом не будет известно испанцу.
— Почему? — спросил Адамас.
— Не знаю, — ответил мальчик.
— Тогда, — обратился к нему маркиз, — попроси свою мать продолжать рассказ и будьте уверены, что мы, как и обещали, сохраним вашу тайну.
Мавританка продолжала:
— Добрый священник обзавелся козой, чтобы было молоко для ребенка, и взял нас с собой, сказав мне:
— О религии мы поговорим позже. Вы несчастны и нуждаетесь в сострадании.
Он жил довольно далеко от того места, в самом сердце гор. Он поселил нас в небольшом домике, сложенном из кусков мрамора, крышей которому служили какие-то большие и плоские камни. В доме я нашла только сено. Этот святой мог предложить нам лишь кров и слово Божье. Дом, в котором он жил сам, был ничуть не богаче нашей хижины.
Не прошло и недели, ребенок был чист и ухожен, а дом обнесен оградой. Пастухи и крестьяне не испытывали ко мне ненависти, поскольку их священник сумел внушить им доброту и жалость. Я научила их приемам животноводства и земледелия, известным каждому мавру-крестьянину, но новым для них. Увидев, что я приношу пользу, они стали снабжать меня всем необходимым.
Я была бы счастлива встрече с этим человеком мира и страной прощения, если бы могла забыть своего несчастного отца, родимый дом, друзей и близких, которых мне больше не суждено увидеть. Но я так привязалась к бедному сироте, что постепенно совершенно утешилась.
Священник воспитывал Марио, учил его французскому и испанскому, а я учила его своему языку, чтобы рядом была хоть одна живая душа, с которой я могла бы поговорить. Только не думайте, что, обучая мальчика арабским молитвам, я хотела отвратить его от веры, внушаемой ему священником.
Я не отвергаю вашего Бога. Нет, нет! Убедившись, как честен, добр, милосерден и учен этот человек, послушав, что он рассказывает о пророке Иссе[87] и Енгиле[88], чьи великолепные заповеди запрещают то же самое, что нам запрещает Коран, я поняла, что лучшая на свете религия именно та, которой он служит. Поскольку я была некрещеной, несмотря на окропление испанских священников (я руками закрыла голову, чтобы на нее не попало ни одной капли христианской воды), я согласилась, чтобы этот добродетельный человек окрестил меня еще раз и поклялась Аллаху никогда не отрицать в моем сердце веру в Иссу.
Это наивное заявление весьма порадовало господина маркиза, который, несмотря на свои новые философские воззрения, был не более склонен к языческому идолопоклонству, приписываемому маврам, чем, скажем, Адамас.
— Так что, — произнес он, гладя Марио по кудрявой голове, — мы имеем здесь дело не с диаволами, а с подобными нам существами. Громы небесные! Я очень доволен этим обстоятельством, поскольку судьба несчастной женщины и сироты глубоко меня трогает. Итак, любезный друг Марио, тебя воспитывал добрый и ученый кюре из Пиренеев! Да ты и сам маленький ученый! Я не могу обратиться к тебе на арабском, но если твоя мать разрешит тебе у меня остаться, я обещаю воспитать тебя, как дворянина.
Марио не знал, что такое дворянство.
Конечно, он был замечательно образован, учитывая, где и в какое время он воспитывался, но во всех прочих вопросах, связанных с религией, моралью и языками, был настоящим дикарем и не имел ни малейшего представления об обществе, куда маркиз хотел его ввести.
Он представил себе банты, конфеты, маленьких собачек и красивые комнаты, набитые безделушками, которые он принимал за игрушки. Глаза его невольно сверкнули наивным вожделением, и маркиз воскликнул:
— Слава Богу! Мэтр Жовлен, этот ребенок рожден не в простом звании. Вы заметили, как блеснули его глаза, когда я произнес слово дворянин? Ну-ка, Марио, попроси Мерседес остаться с нами.
— И я тоже! — сказал ребенок, который решил, что предложение относится прежде всего к его приемной матери.
— И она тоже, — ответил Буа-Доре. — Я знаю, что разлучать вас было бы бесчеловечно.
Взбудораженный Марио бросился к мавританке и, осыпая ее ласками, обратился к ней по-арабски:
— Мать! Нам не придется больше ходить по дорогам. Этот добрый сеньор предлагает нам остаться в этом красивом доме.
Мерседес со вздохом поблагодарила:
— Ребенок принадлежит не мне, а Господу, который мне его доверил. Я должна отыскать его семью. Если его семьи больше нет, или она от него откажется, я вернусь сюда, и на коленях буду умолять: «Примите его, а меня, если хотите, прогоните. Уж лучше я буду одна плакать под дверью дома, где он счастлив, чем заставлять его нищенствовать на дорогах».
— У этой женщины возвышенная душа, — сказал маркиз. — Ну что ж, мы поможем ей деньгами и нашими связями найти тех, кого она ищет. Возможно, мы сможем помочь ей прямо сейчас, если она назовет фамилию ребенка.
— Мне она неизвестна, — ответила мавританка.
— Тогда на что же вы надеялись, покидая ваш дом в горах?
— Скажи им, что они хотят узнать, — на арабском велела Мерседес Марио, — но не говори ничего из того, что до поры им должно быть неизвестно.
Глава семнадцатая
Марио, в совершенном восторге от полученного поручения, заговорил без дерзости или ломания, с естественным изяществом, глядя на маркиза лучистым взглядом.
— Мы были там счастливы, — сказал он, — там были пещеры, водопады, высокие вершины, большие деревья; все в тех краях было крупнее, чем здесь, вода сильно шумела. Моя мать пасла очень добрых коров, стригла овец, пряла пряжу и ткала толстые теплые ткани. Взгляните на мой белый колпак и красный плащ! Это из маминой ткани. Я тоже работал. Я научился плести корзины, о, я очень хорошо их плету! Если я вернусь сюда, чтобы стать дворянином, вы сами в этом убедитесь. Все корзины в вашем доме будут только мои!
Два часа ежедневно господин кюре Анжорран учил меня читать и говорить по-испански и по-французски. Он был очень добрый человек! Он так меня любил, что мать иногда даже ревновала. Она говорила:
— Могу поспорить, ты любишь кюре больше, чем меня.
Но я отвечал:
— Нет, я люблю вас одинаково. Я люблю вас так сильно, как только могу. Моя любовь велика, как высокие горы и даже еще больше: как небо!
Когда мне было десять лет, все внезапно изменилось. Разыскивая потерявшихся в снегах детей, а снег у нас зимой выпадает выше вашей крыши, господин Анжорран простудился и умер.
Мы с матерью так плакали, что даже не знаю, как не выплакала все глаза.
Тогда мать сказала:
— Надо исполнить волю нашего отца, нашего покойного друга. Он оставил нам бумаги, печать и кольцо, которые могут помочь найти твою семью. Он много раз писал о тебе министру Франции, но ни разу не получил ответа. Возможно, до того не дошли его письма. Мы отправимся к королю или к кому-нибудь, кто мог бы перед ним замолвить за нас слово, и если у тебя есть бабушка, или тетки, или кузены, они не допустят, чтобы ты, рожденный свободным, был крепостным, ведь свобода — самая великая вещь на свете.
Взяв с собой наши скудные сбережения, мы отправились в путь. От доброго кюре не осталось никакого наследства. Как только у него появлялась хоть мелкая монета, он отдавал ее нуждающимся. Мы шли очень долго: Франция такая большая! Мы уже три месяца в пути! Видя, как длинна дорога, мать начала опасаться, что мы никогда не дойдем. Мы просили подаяние, нам никогда не отказывали, потому что по матери видно, что она добрая, и я тоже людям нравлюсь. Но, не зная дороги, мы часто шли не туда, куда нужно, и нередко отдалялись от цели нашего путешествия, вместо того, чтобы к ней приближаться.
Нам повстречались странные люди, называвшие себя египтянами. Они предложили идти с ними в Пуату, если мы умеем что-нибудь делать. Мать хорошо поет по-арабски, а я умею играть на цимбалах и пиренейской гитерне[89]. Если вы захотите, я для вас потом сыграю. Египтяне решили, что этого достаточно. Они относились к нам хорошо, среди них была маленькая мавританка по имени Пилар, которая мне очень нравилась, и мальчик постарше, Ля Флеш[90], француз, который развлекал меня разными историями и забавными гримасами. Но мою мать всегда огорчало, что почти все они воры, обжоры и лентяи.
Поэтому она каждый день говорила:
— Надо поскорее расстаться с этими людьми, это дурная компания.
И вчера мы от них ушли, потому что…
— Потому что? — переспросил маркиз.
— Это мать Мерседес, наверное, расскажет вам потом, когда помолится Богу, чтобы тот открыл ей истину. Так она мне сказала, и это все, что я знаю.
— Итак, — молвил маркиз, вставая, — эти люди произвели на меня самое благоприятное впечатление, и я хочу, чтобы в моем доме их хорошо принимали до тех пор, пока они не сообщат мне, чем еще я могу им помочь. Верный Адамас,ты, кажется, говорил, что у Мерседес письмо к господину де Сюлли?
— Да, — воскликнул Марио, — именно это имя было написано на письме господина Анжоррана.
— Это упрощает дело. Будучи его покорным слугой, я могу доставить вас к нему так, чтобы вам не пришлось снова изведать усталость и нищету. Пока что отдохните в моем доме, вам будет предоставлено все, в чем вы нуждаетесь. Смотри, Адамас, и мать, и ребенок одеты чисто и их горские одежды даже довольно красивы. Но на них ведь надето все, что у них есть?
— Почти, месье, кроме дорожной одежды, которая была на них вчера и сегодня утром. У каждого из них две рубашки и смена одежды. Но женщина моет и причесывает ребенка и штопает одежду все время, пока они не в пути. Смотрите, как хорошо у него ухожены волосы. Она знает множество арабских секретов поддержания чистоты. Кроме того, она умеет изготавливать пудры и эликсиры, чему я хочу у нее поучиться.
— Прекрасная мысль. Но не забудьте дать ей белья и тканей, пусть она приоденется. Раз она такая умелая, она с этим справится. Я отправляюсь на прогулку. Затем, если она не против, я послушал бы песни ее народа в сопровождении гитерны, мне хочется услышать чужеземную музыку. Итак, до свидания, мэтр Марио! Вы так любезно со мной беседовали, что вскоре вы получите за это подарок, я никогда не забываю своих обещаний!
Марио поцеловал руку маркиза, искоса бросив взгляд на Флориаля, который был для него ценнее любой драгоценности этого дома.
Флориаль действительно был очень милой собачкой. Из трех любимцев маркиз этого особенно выделял, и по заслугам. Белый, как снег, кудрявый, он в отличие от большинства маленьких собачек, был кроток, как овечка, и сопровождал хозяина по всему дому.
Во время прогулки маркиз по своему обыкновению побеседовал со своими вассалами, узнал, как чувствуют себя больные и в чем они нуждаются, а, вернувшись в замок, вызвал к себе Адамаса.
— Что бы подарить этому славному мальчугану? — спросил он. — Надо бы найти какую-нибудь подобающую его возрасту игрушку, наверно, в доме таких нет. Увы, мой друг, нас собралось здесь три холостяка: мэтр Жовлен, я и ты.
— Я уже подумал об этом, месье, — ответил Адамас.
— О чем, мой верный слуга, о женитьбе?
— Нет, месье, это не в вашем вкусе и не в моем тоже. Но я нашел игрушки для Марио.
— Принеси скорее!
— Вот, месье, — сказал Адамас, беря с подоконника заранее принесенную игрушку. — Я заметил, что ребенку очень понравился ваш Флориаль, а поскольку вы не сможете подарить ему собаку, я вспомнил, что видел на чердаке несколько давно позабытых игрушек, и среди них собачку, набитую паклей. Она не слишком побита молью и немного даже похожа на Флориаля, разве что черная, да хвоста почти не осталось.
— И еще тысяча мелких отличий, из-за которых они вовсе не похожи! Но где ты ее нашел, Адамас?
— На чердаке, месье.
— Хорошо… Но ты сказал, что там были еще игрушки?
— Да, месье, маленькая лошадка, у которой осталось лишь три ноги, дырявый барабан, игрушечное оружие и крепость с бойницами…
Адамас внезапно прервался, увидев, что маркиз поглощен созерцанием игрушечной собачки, а по щеке его течет крупная слеза, смывая на своем пути румяна.
— Я сделал какую-то глупость! — воскликнул престарелый слуга. — Бога ради, дорогой хозяин, почему вы плачете?
— Не знаю… минутная слабость! — прошептал маркиз, утирая слезу надушенным платочком, стирая заодно свой фальшивый румянец. — Я, кажется, узнаю эту игрушку, если я не ошибаюсь, это реликвия, с которой нельзя расставаться, Адамас! Это осталось от моего брата!
— Неужели, месье? Ах, какой я глупец! Я должен был догадаться. Но я подумал, что это вы играли ими в детстве.
— Нет, когда я был ребенком, у меня не было игрушек. Было время войны и печали, мой отец был ужасным человеком и развлекал меня, показывая железные ошейники[91], цепи, поднятых на дыбу крестьян или повешенных на вязах пленных… Позже, значительно позже он снова женился, и у него родился сын.
— Я знаю, месье. Вы так любили молодого месье Флоримона! Он, несомненно, был украшением здешнего дворянства! И так странно исчез!
— Невозможно выразить словами, как я его любил, Адамас! И не за те отношения, что возникли у нас, когда он вырос, поскольку мы сражались на разных сторонах, при редких встречах мы успевали только обняться и сказать друг другу, что, несмотря ни на что, остаемся друзьями и братьями, но за то, каким ласковым он был ребенком, о котором, как я уже рассказывал, мне пришлось заботиться в отсутствие отца, которое продолжалось около года. Его вторая жена умерла, а в окрестностях было неспокойно. Зная, что кальвинисты ненавидят моего отца, я решил, что мальчик нуждается в защите, и он полюбил меня, как если бы понял, как отец ко мне несправедлив. Он был кротким и красивым, как Марио. У него не было ни друзей, ни родных, одни умерли от чумы, другие от страха. Он тоже бы умер из-за отсутствия заботы и радости, если бы я не привязался к нему настолько, что играл с ним целыми днями. Это я привез ему эти игрушки, с ними у меня связана целая история, поскольку мне чуть не пришлось заплатить за них жизнью.
— Расскажите поподробнее, месье, может, это поможет вам отвлечься.
— Хорошо, мой добрый Адамас, слушай. Это случилось в тысяча пятьсот… ну, в общем, неважно.
— Конечно, месье, точная дата не имеет никакого значения.
— Мой дорогой младший брат очень скучал от того, что вовсе не выходит из дома, но я не решался выпускать его, поскольку окрестности кишели различными бандами, которые убивали каждого встречного, никого не щадя. Я подумал, что надо найти для него развлечения, которых сам я в детстве был лишен.
В замке де Сарзей мне случалось видеть у маленьких Барбансуа много зверушек и прочих игрушек. Господа де Барбансуа, из поколения в поколение владевшие поместьем до Сарзей, были одними из самых оголтелых врагов кальвинистов, но в данный момент они находились в Иссудене, сжигая и вешая несчастных. В их отсутствие замок де Сарзей не слишком хорошо охранялся. Большинство окрестных дворян были на стороне католиков или господина де Шатра, меня они не опасались, поскольку я был один и к тому же слишком беден, чтобы что-нибудь предпринять самому.
Я решил проникнуть туда под каким-нибудь предлогом и заполучить игрушки, потому что больше найти их было негде. Игрушки были предметом роскоши и не продавались на каждом углу.
Я смело явился в замок, будто бы по поручению своего отца, и захотел поговорить с кормилицей молодых хозяев, которые к тому времени уже выросли и уехали на войну. Сперва кормилица приняла меня плохо. Она знала, что я сражался на стороне кальвинистов и что мой отец меня не любит. Но деньги смягчили ее, она принесла мне то, что еще сохранилось.
Я отправился в обратный путь, сложив в большую корзину лошадь, собаку, крепость, шесть пушек, тележку, жестяную игрушечную посуду. Накрытую куском ткани корзину я привязал у себя за спиной. Она доходила мне до плеч, и, выезжая со двора, я слышал, как слуги пересмеиваются и говорят друг другу:
— Он блаженный. Если бы все гугеноты были такими, мы бы быстро с ними справились.
Кому-то из них пришло в голову пальнуть мне вслед из аркебузы. Таким образом они хотели отплатить мне за причиненный им страх.
Все шло хорошо, я спокойно возвращался по проселочной дороге, чтобы в таком виде не проезжать через город Ля Шатр, но мне пришлось проехать через Куард, и на мосту Эгюрандской дороги я повстречался с бандой из десятка рейтеров, направлявшихся к городу.
Это были обыкновенные мародеры, но с ними ехал один из самых отчаянных головорезов того времени, некий чудак, отец или дядя которого, капитан Макабр[92], командовал большой башней Буржа.
Он был моим ровесником, но уже успел стать закоренелым лжецом, и часто служил проводником грабителям, стремясь и сам при этом поживиться. Завидя мой груз, он решил, что я представляю собой хорошую добычу, и хвастливым тоном приказал мне спешиться и отдать лошадь со всей поклажей его людям, которые тогда называли себя «кавалерами герцога Алансонского»[93].
Поскольку они не знали ни слова по-французски, а толмачом им служил сын Макабра, вступать в объяснения было бесполезно. Зная, что, подчинившись и сойдя с коня, я буду избит, а может даже застрелен из аркебузы, как это часто делали мародеры, я решил рискнуть.
Не вынимая ноги из стремени, я со всей силой ударил сапогом в живот Макабру, подошедшему, чтобы стащить меня с коня; он растянулся на земле, безбожно ругаясь.
— И правильно сделали, месье! — воскликнул воодушевленный Адамас.
Остальные вовсе не ожидали, что такой молокосос, как я, посмеет так поступить на глазах у старых, до зубов вооруженных вояк, и от неожиданности засмеялись. Воспользовавшись этим, я поскакал столь же стремительно, как пущенная из арбалета стрела. Когда их удивление прошло, они пустили мне вслед град немецких «слив», которые тогда называли еще сливами Месье, поскольку немцы выступали на стороне Месье, брата короля, в его борьбе против королевы-матери.
Судьбе было угодно, чтобы ни одна пуля меня не задела, моя добрая кобыла Брандина по извилистым дорожкам Куарда доставила меня домой, живого и невредимого. При виде игрушек мой брат очень обрадовался.
— Дорогой мой, — сказал я, протягивая ему крепость, — она оказалась мне как нельзя более кстати. Если бы моя спина не была столь замечательно защищена, вряд ли вы увидели бы меня живым.
Я думаю, что если распороть собачку, в животе у нее обнаружится несколько кусочков свинца. Так что если меня не защитила крепость, по крайней мере ее защитили зверушки.
— В таком случае, месье, я предлагаю их оставить, и как почетный трофей выставить в одной из комнат замка.
— Нет, Адамас, над нами будут смеяться. Поскольку судьба занесла к нам этого милого ребенка, надо отдать ему и собачку, и все остальное. То, что принадлежало одному ангелу, должно достаться другому, а в глазах Марио я нахожу невинность и дружелюбие, как когда-то в глазах моего несчастного брата. Да, это верно, — продолжал маркиз, глядя на входящих в комнату в сопровождении пажа Клиндора Марио и Мерседес. — Если бы у Флоримона был сын, он был бы как две капли воды похож на этого мальчика. Малыш так понравился мне с первого взгляда, потому что напомнил мне, не столько чертами лица, сколько своим кротким видом, нежным голосом и ласковыми манерами, моего брата, каким он был в этом возрасте.
— Ваш брат не был женат, — сказал еще более романтичный, чем его хозяин, Адамас, — но не мог ли он иметь внебрачных детей, и как знать…
— Нет, друг мой, не стоит об этом и говорить. Дело в том, что отец бедного Марио был убит за четыре дня до смерти нашего доброго короля Генриха, а последнее письмо брата было написано в Генуе, в шестнадцатый день июня, то есть месяц спустя после того[94]. Так что не будем делать сопоставлений.
Глава восемнадцатая
Пока маркиз беседовал с Адамасом, мавританка приготовилась петь; пришел и Люсилио, чтобы ее послушать.
Маркизу так понравились ее песни, что он попросил Люсилио запомнить ноты. Итальянец оценил эти редкие и древние песни, совершенные и прекрасные.
Мерседес по мере того, как ее подбадривали, пела все лучше и лучше, Марио прекрасно ей аккомпанировал.
Он выглядел таким милым со своей длинной гитарой, кротким лицом, приоткрытым ртом, кудрявыми волосами, разметавшимися по плечам, что любоваться им можно было бесконечно. Он был одет в белую рубашку, короткие панталоны из коричневой шерсти с красным поясом и серые чулки с красными подвязками; одежда как нельзя лучше подчеркивала изящество и хрупкость его тела.
Он с радостью принял принесенные с чердака игрушки. Маркиз с удовольствием наблюдал, как мальчик любовался этими чудесами, прежде чем бережно сложил их в углу.
Дело в том, что в глазах ребенка они значили не так много, и, когда первое изумление прошло, он снова начал мечтать о Флориале, живом и ласковом, который мог бы сопровождать его в скитаниях, в то время, как лошади, пушки и крепости в нищей и полной случайностей жизни были лишь минутной мечтой.
Остаток дня прошел спокойно, без грозы со стороны господина д'Альвимара.
Он снова встретился с господином Пуленом, сообщил, что решился осаждать крепость прекрасной Лорианы.
За ужином он был сама любезность, чтобы не нажить себе если не врага, то по крайней мере оппонента в лице маркиза. Он не встретил в доме ни мавританку, ни ребенка, не слышал разговоров о них, рано отправился спать, чтобы поразмышлять над своим планом.
Все слуги маркиза, как сказал Адамас, были рады, что Марио останется еще на несколько дней. Адамас посадил мальчика и его мать за второй стол, где ел сам вместе с мэтром Жовленом, которого Буа-Доре нарочно стремился представить рядовым слугой, Беллиндой и пажом Клиндором.
Каретник и прочие слуги ели в другое время и в другом месте, за третьим столом.
Был еще четвертый стол, для работников с фермы, крестьян, бедных путешественников, нищенствующих монахов. Таким образом с ранней зари до поздней ночи, то есть до восьми-девяти вечера, в замке Бриант ели, из трубы постоянно доносился запах готовящейся пищи, привлекавший со всей округи детей и нищих. Все они получали у входа в замок пищу и образовывали на лужайке или у обочины дороги пятый стол.
Несмотря на щедрое гостеприимство и число слуг, удивительно большое для столь маленького замка, у маркиза всегда оставались деньги на его невинные фантазии.
Слуги его не обкрадывали, хотя он не вел учета своим доходам; Адамас и Беллинда терпеть друг друга не могли, и хотя Беллинда была из тех женщин, что не прочь нагреть руки на чужом добре, страх быть пойманной заклятым врагом Адамасом вынуждал ее к большой осторожности и умеренности в попытках увеличить свой доход. Ей хорошо платили и за счет владельца замка; она прекрасно одевалась, поскольку маркиз сказал, что не желает видеть вокруг себя «ни грязи, ни лохмотьев»; так что у нее не было необходимости в казнокрадстве; тем не менее она была недовольна, поскольку такие, как она, предпочитают краденый су честно заработанному луидору.
Что касается Адамаса, пусть он не был воплощением честности во всех своих делах (участвуя в войне, он перенял некоторые партизанские нравы), зато был настолько предан хозяину, что если бы, занимая завидный пост доверенного человека маркиза, он принялся бы грабить и вымогать деньги за стенами замка, то лишь для того, чтобы обогатить Бриант.
Клиндор поддерживал его в борьбе против Беллинды, которая его ненавидела и не называла иначе, как «переодетой собакой».
Это был добрый юноша, наполовину хитрый, наполовину глупый, который еще не решил, что ему лучше: остаться человеком третьего сословия, которое получало все больше реальной власти, или же мечтать о будущем дворянском гербе; подобные мечты еще долго удерживали буржуазию в двусмысленном состоянии и, несмотря на ее интеллектуальное превосходство, заставляли ее играть роль простофили.
Было решено скрыть происхождение мавританки от подозрительной нетерпимости Беллинды, в последнее время ставшей чрезвычайно набожной. Адамас сказал ей, что Мерседес просто-напросто испанка.
До ушей непосвященных не дошло ни слова из ее истории и истории Марио.
— Господин маркиз, — обратился Адамас к хозяину, раздевая его, — мы просто дети и ничего не понимаем в тайнах туалета. Перед сном я поговорил с мавританкой о серьезных вещах и она всего за час рассказала множество вещей, неизвестных вашим парижским поставщикам. Она знает сокровенные тайны многих вещей, умеет извлекать из растений чудодейственные целебные соки.
— Хорошо, хорошо, Адамас! Поговорим о чем-нибудь другом. Прочитай мне какое-нибудь стихотворение, пока расчесываешь мне бороду. Сегодня мне грустно, и, повторяя слова господина д'Юрфе про Астрею, я могу сказать, что «груз моих печалей смущает покой моего желудка и дыхание моей жизни».
— Громы небесные! — воскликнул верный Адамас, охотно повторявший выражения обожаемого хозяина. — Это все из-за воспоминаний о вашем брате?
— Увы! Сегодня, не знаю почему, он предстал передо мной, как живой. Бывают дни, друг мой, когда заснувшая боль просыпается. Это как раны, напоминающие о войне. Знаешь, что мне пришло в голову, когда я смотрел на милого сироту? Что я старею, мой бедный Адамас.
— Месье шутить изволит!
— Нет, мы стареем, друг мой, и мое имя умрет вместе со мной. У меня, конечно, есть внучатые племянники, судьба которых меня не заботит, и которые, если смогут, увековечат имя моего отца. Но я буду первым и последним де Буа-Доре, и мой маркизат ни к кому не перейдет, поскольку это почетное звание, которое королю было угодно изволить мне пожаловать.
— Мне случалось об этом думать, и я сожалею, что месье обладает слишком горячим сердцем, чтобы согласиться оставить наконец холостяцкую жизнь и жениться на какой-нибудь прелестной нимфе из наших краев.
— Конечно, напрасно я об этом не думал. Я был слишком легкомыслен в отношениях с дамами, и хотя мне не доводилось встречаться с господином д'Юрфе, могу держать пари, что он, от кого-то про меня услышав, именно меня вывел под именем пастуха Хиласа.
— Ну и что с того, месье? Этот пастух очень милый человек, чрезвычайно умный и на мой взгляд самый занимательный из всех героев книги.
— Да, верно. Но он молод, а я, повторяю, уже нет, и начинаю горько сожалеть, что у меня нет семьи. Ты знаешь, что мне неоднократно приходило в голову усыновить какого-нибудь ребенка?
— Знаю, месье. Каждый раз, когда вы видите хорошенького и забавного ребеночка, вы возвращаетесь к этой мысли. Но что ж вам мешает это сделать?
— Трудно найти такого ребенка, чтобы он был хорош собой, добр, и чтобы у него не было родственников, которые захотят получить его обратно, после того, как я его выращу. Потому что отдать всю душу ребенку, чтобы в двадцать или двадцать пять лет его у тебя отняли…
— До тех пор, месье…
— О, время бежит так быстро! Даже не замечаешь, как оно проходит! Ты знаешь, что я думал, не взять ли к себе ребенка каких-нибудь обедневших родственников. Но вся моя семья — старые лигеры, и к тому же их дети некрасивы, шаловливы и нечистоплотны.
— Действительно, месье, младшая ветвь Буронов некрасива. Рост, привлекательность, храбрость всей семьи сосредоточилась в вас, и только вы можете дать достойного вас наследника.
— Я! — воскликнул Буа-Доре, потрясенный подобным предположением.
— Да, месье, я говорю совершенно серьезно. Поскольку ваша свобода наскучила вам, поскольку вы уже десятый раз говорите, что хотите устроить свою жизнь…
— Но Адамас, ты говоришь обо мне, как о развратнике! Мне кажется, после печальной смерти нашего Генриха я всегда жил, как подобает человеку, удрученному горем, и дворянину, которому должно показывать пример окружающим.
— Конечно, месье, вы можете говорить мне все, что вам угодно. Мой долг не противоречить вам. Вы вовсе не обязаны делиться со мной вашими приключениями в замках и окрестных рощах, не так ли, месье? Это касается только вас. Верный слуга не должен шпионить за своим хозяином и я, как мне кажется, никогда не досаждал вам нескромными вопросами.
— Я отдаю должное твоей скромности, мой дорогой Адамас, — ответил Буа-Доре, смущенный, встревоженный и польщенный химерическими предположениями любящего слуги. — Но поговорим о чем-нибудь другом, — добавил он, не решаясь углубляться в столь деликатную тему и пытаясь понять, не известны ли Адамасу какие-то вещи, которых он сам о себе не знает.
Маркиз не был ни бахвалом, ни хвастуном. Он вращался в слишком хорошем обществе, чтобы рассказывать о своих любовных связях или выдумывать несуществующие. Но он был рад, что их по-прежнему ему приписывают, и поскольку при этом он не компрометировал ни одну женщину конкретно, он охотно позволял говорить, что может претендовать на любую. Друзья тешили его скромное самомнение, и большим удовольствием для молодых людей, в частности, для Гийома д'Арса, было поддразнивать его, зная, как это приятно престарелому соседу.
Но Адамас не разводил вокруг этого столько церемоний, а просто и самоуверенно подтвердил, что месье прав, думая о женитьбе.
Им часто случалось возвращаться к этому разговору, и неустанно на протяжении тридцати лет они снова и снова поднимали эту тему, при этом каждый раз беседа заканчивалась следующим заключением Буа-Доре:
— Конечно, конечно. Но мне так хорошо и спокойно в моем нынешнем положении! Спешить некуда, мы еще вернемся к этой теме.
Однако на этот раз он, казалось, слушал похвалы Адамаса внимательнее, чем обычно.
— Если бы я был уверен, что не женюсь на бесплодной женщине, — сказал он своему конфиденту, — я бы, пожалуй, и в самом деле женился! А может, лучше жениться на вдове, имеющей детей?
— Фи, месье! — воскликнул Адамас. — Даже и не думайте! Женитесь на молодой и красивой девушке, и она обеспечит вам потомство по вашему образу и подобию.
— Адамас, — продолжал маркиз после недолгого колебания, — я немного сомневаюсь, что небеса будут ко мне благосклонны. Но ты подсказал мне хорошую мысль жениться на молодой девушке; тогда я смогу представлять себе, что она моя дочь и любить ее, как если бы был ее отцом. Что ты на это скажешь?
— Ну что ж, если месье женится на очень молодой девушке, то в крайнем случае он сможет представлять себе, что удочерил ее. Если вы пришли к такому решению, то не надо долго и искать. Юная владелица Мотт-Сейи как раз подойдет для месье. Она красива, добра, разумна, весела, она сможет оживить наш замок, и я уверен, что ее отец тоже много раз об этом думал.
— Ты полагаешь, Адамас?
— Ну конечно! И она сама тоже! Неужели вы думаете, что, когда они приезжают в гости, она не сравнивает свой старый замок с вашим, настоящим сказочным дворцом? Неужели вы думаете, что хоть она так молода и невинна, она не может оценить, насколько вы превосходите всех прочих претендентов на ее руку?
Маркиз убедил себя, что его предложение будет принято как подарок судьбы.
Они легко решат между собой религиозные проблемы. Если Лориана упрекнет его, что он отрекся от кальвинизма, он готов снова стать протестантом.
Самонадеянность не позволила ему подумать о возражении, связанном с его возрастом. Адамас обладал даром во время вечерних бесед отгонять сию неприятную мысль.
Буа-Доре заснул с мыслью о том, что других-то претендентов на руку Лорианы нет.
Господин Сильвен заснул в этот вечер смешным, как никогда. Но тот, кто смог бы прочитать в его сердце истинно отцовские чувства, двигавшие им, великую философскую терпимость «в преддверии супружеских измен», его намерения баловать и лелеять будущую жену, преданность ей, тот, несомненно, смеясь над ним, простил бы его.
Направляясь в свою комнату, Адамас услышал шорох платья на потайной лестнице.
Как только мог быстро, он бросился к двери, чтобы застать Беллинду на месте преступления, но она успела скрыться.
Адамас знал, что она способна на подобное шпионство, и ей нередко удавалось подслушать разговор двух холостяков. Однако на этот раз он решил, что ошибся. Он запер все двери, не слыша больше ничего, кроме мерного похрапывания хозяина, да порыкивания маленького Флориаля, спящего в ногах хозяина на кровати и видящего во сне кошку, которая была для него тем же, чем Беллинда для Адамаса.
Глава девятнадцатая
Гости прибыли в Мотт-Сейи к девяти утра.
Читатель, вероятно, помнит, что в те времена обедать садились в десять утра, а ужинали в шесть вечера.
На этот раз маркиз, решивший открыть свои матримониальные замыслы, счел нужным отправиться к соседям в более изящном виде, чем в своей знаменитой карете.
Он легко взобрался на красивого андалузца по кличке Розидор — это было прекрасное создание с легким аллюром, спокойным нравом, умеющее подыграть хозяину, чтобы выказать его прекрасным наездником, то есть, повинуясь малейшему движению ноги или руки, конь свирепо выкатывал глаза, раздувал ноздри, как диавол из преисподней, делал довольно высокие прыжки, чтобы казаться своенравным животным.
Спешившись, маркиз приказал Клиндору четверть часа поводить Розидора по двору, поскольку конь слишком разгорячен. Но на самом деле маркизу хотелось, чтобы все обратили внимание, что он приехал верхом и что он по-прежнему остается удалым наездником.
Перед тем как предстать перед Лорианой, добрый господин Сильвен отправился в комнату, предоставленную соседом в его распоряжение, чтобы привести себя в порядок, надушиться и переодеться как можно изящнее и элегантнее.
Скьярра д'Альвимар, с головы до ног одетый в черный бархат и сатин, по испанской моде, с коротко постриженными волосами и фрезой из богатых кружев лишь сменил дорожные сапоги на шелковые чулки и туфли с бантами, чтобы подчеркнуть все свои достоинства.
Хотя его строгий костюм казался во Франции «древностью» и скорее подошел бы ровеснику господина Буа-Доре, он придавал ему вид дипломата или священника и как нельзя лучше подчеркивал, как молодо он выглядит для своих лет и придавал ему элегантность.
Старый де Бевр будто предчувствовал день сватовства. Сегодня он выглядел менее гугенотом, то есть оделся не так строго, как обычно и, сочтя, что его дочь одета слишком просто, приказал надеть лучшее платье.
Так что она выглядела настолько нарядной, насколько позволял ей вдовий траур, который она должна была носить до следующего замужества. Обычай был строг.
Она надела платье из белой тафты, верхняя юбка приоткрывала край нижней юбки цвета ситного хлеба, надела кружевные брыжи[95] и манжеты; вдовья шапочка (небольшой чепчик а ля Мария Стюарт) позволила ей не надевать еще не вышедший из моды ужасный парик, зато дала возможность показать прекрасные светлые волосы, взбитые валиком, открывавшие высокий лоб и виски с тонкими венами.
Чтобы не выглядеть слишком провинциалкой, она нанесла на волосы лишь немного кипрской пудры, сделавшей ее светлые волосы еще более детскими. Хотя оба претендента обещали друг другу быть любезными, во время обеда между ними возникла некоторая неловкость, как если бы они угадали друг в друге соперников.
Дело в том, что Беллинда пересказала экономке господина Пулена подслушанный разговор маркиза с Адамасом, а та немедленно передала его кюре. Священник прислал д'Альвимару записку следующего содержания:
«В лице вашего хозяина вы имеете соперника, над которым сможете посмеяться. Пользуйтесь этим».
Д'Альвимар про себя посмеялся над этим конкурентом, сам он решил прежде всего добиться благосклонности юной дамы.
Ему было неважно, что отец поощряет его ухаживания. Он полагал, что, завладев сердцем Лорианы, он легко уладит все прочее.
Буа-Доре рассуждал иначе.
Он не сомневался в уважении и привязанности, которую питают к нему в этом доме. Он не надеялся поразить их воображение и вскружить голову. Ему хотелось поговорить с отцом и дочерью без свидетелей, чтобы изложить преимущества своего положения и состояния, затем он рассчитывал скромными ухаживаниями дать себя честно разгадать.
То есть он собирался держать себя, как хорошо воспитанный юноша из прекрасной семьи, в то время, как его противник предпочитал выглядеть, как герой приключенческого романа.
Де Бевр, заметив, что д'Альвимар становится все нежней, увлек старого друга на дорожку вдоль пруда, чем немало его огорчил, чтобы порасспросить о положении и состоянии его гостя. Буа-Доре на все вопросы мог ответить лишь, что господин д'Арс рекомендовал его как человека высшего света, которого очень уважает.
— Гийом очень молод, — сказал де Бевр, — но он знает, чем он нам обязан, чтобы привозить к нам человека, недостойного нашего гостеприимства. Тем не менее я удивлен, почему он ничего больше не сообщил вам о нем. Но, вероятно, господин де Виллареаль рассказал вам о мотивах своего приезда. Почему он не поехал с Гийомом на праздник в Бурж?
На эти вопросы Буа-Доре ответить тоже было нечего, но в глубине души де Бевр был убежден, что появление испанца окутано таинственностью с единственной целью: понравиться его дочери.
«Наверно, он где-то ее видел так, что она не обратила на него внимания. Хотя он кажется ревностным католиком, он, похоже, сильно ею увлечен», — думал де Бевр.
Он говорил себе, что при существующем положении вещей испанский зять-католик мог бы поправить дела его дома и возместить ущерб, который он нанес дочери, поддержав Реформацию.
Да даже чтобы утереть нос запугивавшим его иезуитам он бы желал, чтобы испанец оказался достаточно знатного рода, чтобы мог претендовать на руку Лорианы, пусть и не очень богатым.
Господин де Бевр рассуждал как скептик. Он не поднимал вокруг «Опытов» Монтеня столько шума, как Буа-Доре вокруг «Астреи», но они стали его настольной книгой, пожалуй, даже единственной, которую он теперь читал.
Буа-Доре был более честен в политике и на его месте рассуждал бы иначе. Как и де Бевр, он не был склонен к религиозному фанатизму, но со старых времен сохранил веру в родину и никогда бы не пошел на уступки Лиге.
Поглощенный своими думами, он не обратил внимания на озабоченность друга, и добрые четверть часа они играли в загадки, толкуя о необходимости скорее найти достойную партию для Лорианы.
Наконец вопрос разъяснился.
— Вы? — воскликнул пораженный де Бевр, когда маркиз сделал наконец предложение. — Кто бы мог подумать! Я-то полагал, что вы в завуалированных выражениях говорите о вашем испанце, а, оказывается, вы имели в виду себя. Вот это да! Соседушка, вы в своем уме, не принимаете ли вы себя за собственного внука?
Буа-Доре закусил ус. Но, привыкший к подтруниваниям друга, он быстро справился с досадой и постарался убедить его, что тот ошибается относительно его возраста, что он не достиг еще шестидесяти лет, возраста, в котором его отец вполне успешно вступил в повторный брак.
Пока он таким образом терял время, д'Альвимар времени зря не терял.
Ему удалось увлечь Лориану под большой тис, длинные ветви которого свисали почти до земли, образуя зеленый шатер, где посреди сада можно было чувствовать себя уединенно.
Он начал довольно неловко, осыпав ее преувеличенными комплиментами.
Неопытная в подобных делах Лориана не обладала противоядием против лести, она плохо знала замашки молодых придворных и не смогла бы отличить ложь от правды. Но, к счастью для нее, ее сердце еще не почувствовало скуку одиночества, к тому же она была более ребенком, чем казалась. Поэтому гиперболические выражения д'Альвимара рассмешили ее и она принялась над ним подтрунивать, чем ввела кавалера в замешательство.
Увидев, что от высокопарных фраз толка мало, он постарался говорить о любви в более естественных выражениях.
Быть может, он добился бы своей цели и смутил бы юную душу, но тут появился Люсилио, словно посланец Провидения, явившийся, чтобы прервать эту опасную беседу нежной игрой на волынке.
Он не приехал вместе с Буа-Доре, зная, что обедать ему придется в людской и он не увидит Лориану до полудня.
Лориане и ее отцу была известна трагическая история ученика Бруно, и в Мотт-Сейи его уважали не меньше, чем в Брианте, но, чтобы не скомпрометировать его, обращались, как с обыкновенным музыкантом.
Люсилио оказался единственным человеком, который не стал наряжаться к случаю. У него не было ни малейшей надежды привлечь к себе внимание, он даже не хотел привлекать к себе взгляд, зная, что может рассчитывать лишь на таинственное общение душ.
Он приблизился к тису без напрасной робости и ложной скромности. Рассчитывая на правду и красоту того, что может выразить в музыке, он заиграл, к великой досаде д'Альвимара.
На секунду Лориана также ощутила недовольство от этого вторжения, но, заметив на красивом лице волынщика наивное намерение доставить ей удовольствие, устыдилась минутного порыва.
«Не знаю почему, — подумала она, — это лицо выражает искреннюю любовь и чистую совесть, которых я не нахожу у другого».
Она снова взглянула на д'Альвимара, раздраженного, обиженного, высокомерного и ощутила холодок страха. То ли потому, что она была чувствительна к музыке, то ли потому, что была склонна к некой восторженности, ей показалось, что внутри нее звучат слова песни, которую наигрывал Люсилио. Вот что говорилось в песне:
«Взгляни на яркое солнце на ясном небе, отражающееся в изменчивых быстрых водах!
Вот прекрасные деревья, черными колыбелями склоненные над бледно-золотыми лугами, радостными, как весной, покрытыми розовыми осенними цветами; на гордого лебедя, на парящих в небе перелетных птиц.
Все это музыка, что я тебе пою, это юность, чистота, надежда, дружба, счастье.
Не слушай чужой, непонятный тебе голос. Он нежен, но лжив. Он потушит солнце у тебя над головой и осушит ручьи под ногами, загубит цветы и подрежет крылья поднебесным птицам; вокруг тебя будут царить мрак, холод, страх и смерть; источник божественной гармонии, о которой я тебе пою, навеки иссякнет».
Лориана больше не видела д'Альвимара. Погруженная в свои мечты, она не видела и Люсилио. Она перенеслась в прошлое и, вспомнив Шарлотту д'Альбре, сказала себе:
«Нет, нет, никогда я не прислушаюсь к голосу демона!»
— Друг, — обратилась она к волынщику, когда тот закончил мелодию, — твоя игра доставила мне большое удовольствие, спасибо тебе. У меня нет ничего, чтобы отблагодарить тебя за чудные мечты, что навевает твоя музыка; поэтому прошу тебя принять эти нежные фиалки, символ твоей скромности.
Она отказалась подарить фиалки д'Альвимару и у него на глазах отдала их музыканту.
Д'Альвимар торжествующе улыбнулся, сочтя этот вызов более дразнящим, чем признание. Но Лориана ни о чем подобном и не помышляла; прикалывая фиалки к шляпе волынщика, она прошептала:
— Мэтр Жовлен, я прошу вас, будьте мне как отец, и не уходите, пока я сама не скажу.
Благодаря острой итальянской проницательности, Люсилио сразу обо всем догадался.
«Да, да, я понял, — отвечал его выразительный взгляд, — положитесь на меня!»
Он уселся на толстые корни старого тиса на довольно почтительном расстоянии от них, как слуга, ожидающий приказаний, но в то же время достаточно близко, чтобы от него не ускользнуло хоть одно слово д'Альвимара.
Д'Альвимар все понял. Его боятся, ну что ж, тем лучше! Питая к музыканту высокомерное презрение, он, не задумываясь, возобновил свои ухаживания на глазах у него, как если бы тот был пустым местом.
Но его опасный магнетизм утратил свою силу.
Лориане казалось, что молчаливое присутствие честного человека, такого, как Люсилио, служит противоядием. Ей было стыдно показаться ему тщеславной и пустой. Под его взглядом она чувствовала себя в безопасности. Увидев, что испанец все сильнее обижается и раздражается, она приготовилась защищаться.
Д'Альвимар попросил, чтобы она отослала этого несчастного, при этом достаточно громко, чтобы тот услышал.
Лориана твердо отказалась, заявив, что хочет еще послушать музыку.
Люсилио сразу же взялся за инструмент.
Д'Альвимар достал из камзола остро наточенный испанский нож и, вынув его из ножен, принялся им поигрывать, будто бы просто так; то он собирался что-то вырезать на коре дерева, то кидал его перед собой, словно демонстрируя свою ловкость.
Лориана не поняла этой угрозы.
Люсилио сохранял неподвижность, хотя был слишком итальянцем, чтобы не знать холодную ярость испанцев, и догадывался, куда, будто бы случайно, может вонзиться блестящее лезвие стилета.
При любых других обстоятельствах его беспокоила бы судьба инструмента, в который, как казалось, д'Альвимар целится, чтобы продырявить. Но ведь Люсилио выполнял волю Лорианы, сражался за ее невинность, как Орфей своей победоносной лирой за свою любовь. Он храбро заиграл одну из записанных им накануне мавританских мелодий.
Д'Альвимар счел его поведение вызывающим, и тлевший в его груди очаг горечи снова жарко запылал.
Он был весьма ловок в метании ножа и, желая напугать неуместного свидетеля, принялся кидать нож рядом с ним; сверкающее лезвие пролетало все ближе и ближе от музыканта, но тот продолжал наигрывать нежную и жалобную мелодию. Отошедшая на несколько шагов Лориана стояла к ним спиной и не видела этой жестокой сцены.
«Меня не испугали пытки и угроза смерти, — сказал себе Джиовеллино, — не побоюсь их и теперь; я не доставлю испанцу радости увидеть меня побледневшим от страха».
Отвернувшись, он продолжал играть так сосредоточенно и совершенно, как если бы спокойно сидел за столом Буа-Доре.
Д'Альвимар прохаживался взад-вперед, время от времени останавливаясь перед музыкантом и целясь в него, всем видом показывая, что испытывает искушение кинуть в него нож. Под действием странных чар, что служат нам наказанием за дурные шутки, он и в самом деле начал испытывать этот чудовищный соблазн.
Он покрылся холодным потом, в глазах потемнело.
Люсилио чувствовал больше, чем видел глазами, но предпочитал рисковать жизнью, чем хоть на секунду показать страх врагу своей родины и хулителю человеческого достоинства.
Глава двадцатая
Во время этой ужасной сцены буквально в двух шагах от Лорианы находился еще один странный свидетель — молодой волк, выращенный на псарне, который перенял привычки и повадки собаки, но не ее инстинкты и нрав. Он охотно ласкался ко всем, но ни к кому не был привязан.
Лежа у ног Люсилио, он с беспокойством наблюдал за жестокой игрой испанца, и когда кинжал раза два или три упал рядом с ним, он поднялся и укрылся за деревом, не беспокоясь ни о чем другом кроме, как о собственной безопасности.
Однако поскольку игра продолжалась, зверь, который начал чувствовать свои зубы, много раз показывал их молча и, полагая, что на него нападают, в первый раз в жизни испытал инстинкт ненависти к человеку.
С горящими глазами, напряженными подколенными суставами, ощетинившимся и дрожащим позвоночником он укрылся от д'Альвимара за огромным стволом тиса, где выжидал подходящий момент, и откуда он вдруг бросился, чтобы схватить его за горло.
И он сделал бы это, если не задушив, то по крайней мере ранив, если бы не был сильно отброшен ударом ноги Люсилио.
Внезапно прерванное пение и жалобный звук, который издал мюзет, отброшенный артистом, заставил Лориану обернуться.
Не поняв того, что произошло, она лишь увидела д'Альвимара, который вне себя от гнева вспарывал ножом брюхо зверю.
Он совершал этот акт расправы со всем жаром мести. Можно было легко видеть на его бледном лице и в его налитых кровью глазах таинственную и глубокую радость, которую он испытывал, имея возможность убивать.
Он трижды вонзил нож в трепещущие внутренности, и при виде крови его рот исказился столь сладострастным образом, что Лориана, вся дрожа, схватила обеими руками руку Люсилио, говоря ему тихим голосом:
— Смотрите, смотрите! Чезаре Борджа! Вылитый!
Люсилио, который неоднократно видел в Риме портрет, написанный Рафаэлем, и сам еще более почувствовал это сходство, сделал знак головой, что он этим был сильно поражен.
— В чем дело, сударь? — спросила взволнованная Лориана торжествующего испанца. — Вы вообразили себе, что находитесь в центре леса, и полагаете, что мне будет приятно, когда вы поднесете мне голову или лапы зверя, которого я кормила из своих рук и только что ласкала перед вами? Фи! Вы понятия не имеете о соблюдении приличий, и с этим окровавленным резаком вы похожи скорее на живодера, чем на дворянина!
Лориана была в гневе, она не испытывала больше ничего, кроме отвращения к этому чужестранцу.
Он, словно очнувшись ото сна, просил прощения, говоря, что это волк хотел его сожрать, что это была плохая компания в доме и что он счастлив, что имел возможность освободить мадам от инцидента, который мог бы произойти и с ней.
— Так он набросился на вас? — спросила она, глядя на Люсилио, который утвердительно кивнул головой. — И куда же он вас укусил? — продолжала она. — Где же рана?
И поскольку д'Альвимар не был поранен, она возмутилась страхом, который он испытал перед животным еще таким молодым и столь малоопытным.
— Слово страх не совсем точное, — ответил он с некоторым проявлением ярости, — я не думаю, что его можно адресовать тому, у кого еще в руке орудие убийства.
— И вы еще так гордитесь, что убили этого волчонка! Если бы это сделал ребенок, ему было бы простительно, но вовсе не мужчине, которому достаточно было ударить хлыстом, чтобы избавиться от него. Я говорю вам, сударь, что вы ужасно испугались и что это мания тех, кто любит проливать кровь.
— Я вижу, — сказал д'Альвимар, внезапно удрученный, — что я навлек на себя вашу немилость, и я нахожу в этом, как и в остальном, результат моей злой участи. Она столь упряма, что порой у меня возникает мысль уступить ей победу в битве, где я не нахожу ничего, кроме потерь и огорчения.
Было немало правдивого в том, что только что сказал д'Альвимар, и поскольку после того, как он машинально вытер свой кинжал, он, казалось, колеблется, класть ли его в ножны, Лориана, пораженная мрачным выражением его взгляда, поверила, что он немного безумен вследствие какого-либо большого несчастья, и приготовилась быть следующей жертвой.
— Чтобы простить вас, — сказала она, сдерживая волнение, — я требую, чтобы вы вручили мне оружие, которым только что столь скверно распорядились. Мне совсем не нравится этот злодейский клинок, который дворяне Франции не носят нигде более, кроме как на охоте. Шевалье достаточно шпаги, и, чтобы вытащить ее из ножен перед дамой, нужно время подумать. Я всегда боялась людей, которые прячут на себе оружие слишком быстрое и слишком простое в применении, и оттого я прошу вас принести мне жертву, исправив огорчение, которое вы мне причинили.
Д'Альвимар поверил, что, разоружая его, ему оказывается милость. Однако ему нелегко было расстаться со столь надежным оружием, и он пребывал в нерешительности.
— Я вижу, — сказала Лориана, — что это подарок какой-нибудь красавицы, которой вы не осмеливаетесь ослушаться.
— Если вы так думаете, — ответил он, — я хотел бы освободиться от него как можно скорее.
И, преклонив колено, он передал ей кинжал.
— Вот и хорошо, — сказала она, убирая руку, которую он хотелпоцеловать. — Я прощаю вас как гостя, который вовсе не хотел оскорбить, но и только, клянусь вам, что же касается этого гадкого клинка, если я храню его, то это вовсе не от любви к вам, но чтобы не допустить зла, которое он может причинить.
Они были уже у подножья башни, где их встретили маркиз и господин де Бевр, воодушевленно болтающие.
Лориана собиралась рассказать им о том, что произошло, но ее отец не дал ей времени.
— Послушай-ка, дорогая моя девочка, — сказал он ей, взяв ее за руку и просовывая ее под руку маркиза, — наш друг хочет сказать вам об одном секрете, а пока он будет вам его рассказывать, я составлю компанию господину де Виллареалю. Вот видите, — добавил он, обращаясь к Буа-Доре, — я вам доверяю мою овечку, не опасаясь ваших больших зубов, и я не скажу ей ничего, чтобы не подорвать ее доверие к вам! Говорите теперь сами, как считаете нужным. Если вы не справитесь, я умываю руки, вы уж постарайтесь!
— Я вижу, — сказала мадам де Бевр маркизу, — что у вас есть ко мне какая-то просьба.
И поскольку она решила, что речь пойдет как обычно о каком-то развлечении типа охоты у маркиза в поместье, она добавила, что заранее согласна.
— Осторожно, моя дорогая! — воскликнул господин де Бевр, смеясь. — Вы совсем не знаете, во что вступаете!
— И нисколько вы меня не напугаете, — ответила она, — он может сказать быстро.
— Да ну! Вы так думаете, но вы заблуждаетесь, — продолжил господин де Бевр. — Держу пари, что ваша беседа продлится более часа. Идите-ка оба в какой-нибудь из залов, где вам никто не помешает, а когда вы все обсудите, вы вновь вернетесь к нам.
Едва они оказались в салоне, как маркиз предложил свое сердце, свое имя и свои экю в духе «Астреи» с той неистовой страстью, которая не говорит ни о чем, кроме как о страшных муках, вздохах, которые рассекают сердце, страхах, которые вызывают тысячу смертей, надеждах, которые лишают рассудка, и т. д., и все это в выражении столь целомудренном и столь холодном, что самая неприступная добродетель не могла бы этого испугаться.
Когда Лориана поняла, что речь идет о браке, она была так же удивлена, как ее отец.
Она знала, что маркиз способен на все, и вместо того, чтобы развеселиться, она чувствовала сострадание. Она испытывала к нему дружеские чувства, и даже уважала его за доброту и верность. Она чувствовала, что бедный старик подвергается бесчисленным насмешкам и стоит только ей дать пример, как шутки, дружеские и умеренные, объектом которых он был, станут обидными и жестокими.
«Нет, — подумало это юное и мудрое дитя, — этого не должно быть, и я не потерплю, чтобы мой старый друг стал посмешищем слуг».
— Дорогой маркиз, — сказала она ему, стараясь говорить с ним в его манере, — я часто размышляла о возможности и приемлемости плана, о котором вы мне сообщили. Я догадалась о вашей прекрасной и честной любви и, если я ее нисколько не разделяю, то это потому, что я еще слишком молода для того, чтобы шаловливый Купидон обратил на меня внимание. Позвольте же мне еще немного порезвиться на волшебном острове «Неведения любви», ничто не торопит меня покинуть его, потому что я счастлива вашей дружбой. Из всех мужчин, которых я знаю, вы самый лучший и наиболее приятный, и если мое сердце заговорит, скорее всего оно заговорит мне о вас. Но это записано в книге судеб, и вы должны предоставить мне время спросить себя. Если, по какой-либо фатальности, я окажусь неблагодарной по отношению к вам, я признаюсь вам в этом с чистосердечием и раскаянием, потому что это будет для меня совершенным падением и стыдом, но вы столь великодушны, у вас такое доброе сердце, что вы мне еще будете другом и братом, несмотря на мою глупость.
— Конечно же, клянусь вам! — воскликнул Буа-Доре с простодушным восторгом.
— Вот и хорошо, мой преданный друг, — продолжала Лориана, — подождем еще. Я прошу у вас семь лет испытания, по древнему обычаю истинных рыцарей, и сделайте мне одолжение, что это соглашение останется секретом между нами. Через семь лет, если душа моя останется нечувствительна к любви, вы откажетесь от меня, равно как если я разделю вашу страсть, я не стану таить это от вас. Я также клянусь вам, что если до окончания срока этого соглашения я полюблю вопреки воле кого-нибудь другого, я смиренно и чистосердечно вам признаюсь. Это совсем невероятно, однако я хочу все предусмотреть, поскольку я желаю, потеряв вашу любовь, по крайней мере, сохранить вашу дружбу.
— Я подчиняюсь всему, — ответил маркиз, — и я клянусь вам, прелестная Лориана, слово дворянина и преданность безукоризненного любовника.
— На это я и рассчитываю, — сказала она, протягивая руку. — Я знаю, что вы человек великодушный и бесподобный пастырь. А теперь возвращаемся к моему отцу, и позвольте сказать ему то, что решено, с тем, чтобы наш секрет не стал достоянием иного доверенного лица, кроме него.
— Согласен, — ответил маркиз, — но не обменяться ли нам каким-либо залогом?
— Каким? Скажите, я согласна, но пусть это будет не кольцо. Подумайте, что будучи вдовой, я не могу носить другого, кроме как кольца нового брака.
— Хорошо, так позвольте завтра послать вам подарок, достойный вас.
— Ни за что! Это будет означать, что все будут в курсе… Дайте мне первую попавшуюся безделушку, которая у вас есть… Например, эту маленькую бонбоньерку из слоновой кости, покрытую глазурью, которая у вас в руке!
— Пожалуйста! А что вы дадите мне? Как я вижу, вы знаете, каким должен быть этот обмен. Нужно, чтобы это была вещь, которая находилась у человека в тот момент, когда он давал слово.
Лориана поискала у Себя в карманах и нашла только носовой платок, перчатки, кошелек и кинжал господина д'Альвимара.
Кошелек достался ей от матери, поэтому она дала кинжал.
— Хорошенько спрячьте его, — сказала она, — и поскольку я вам его оставляю, надейтесь на меня; так же, как если я попрошу у вас его обратно…
— Я проткну им грудь! — воскликнул старый Селадон.
— Нет! Вот этого вы не сделаете, — сказала Лориана очень серьезно, — потому что тогда я умру от горя, и, кроме того, тем самым вы не выполните данного мне обещания оставаться моим другом несмотря ни на что.
— Это верно, — сказал Буа-Доре, преклонив колени и получая залог. — Клянусь вам не умирать от этого, равно как не любить и даже не глядеть ни на какую другую девушку до того, как вы не лишите меня надежды вам нравиться.
Глава двадцать первая
Они вернулись в сад, где господин де Бевр встретил их, не пытаясь скрыть насмешливой улыбки. Но очень быстро улыбка уступила место большому изумлению, когда он увидел серьезный и спокойный вид Лорианы, растроганный и сияющий вид маркиза. Изумление было столь велико, что он не смог удержаться, чтобы не расспросить их, правда, намеками, но достаточно прозрачными, в присутствии д'Альвимара.
Лориана ответила, что она вполне согласна с маркизом, и д'Альвимар, не желающий верить услышанному, принял это утверждение за кокетство.
Господин де Бевр, уже не на шутку забеспокоившись, отвел дочь в сторону и спросил, серьезно ли она говорила, и неужели она настолько безрассудна или настолько честолюбива, чтобы принять предложение прекрасного кавалера, родившегося при короле Генрихе II.
Лориана рассказала ему о том, как она отложила свой ответ и отсрочила всякое объяснение на семь ближайших лет.
Только после того, как господин де Бевр отсмеялся, он смог оценить чуткую доброту своей дочери.
Его очень потешила неудача маркиза, и он находил, что это был бы хороший для него урок, откровенно высмеять его.
— Нет, отец, — сказала ему Лориана. — Это могло бы доставить ему большое огорчение и ничего более. Он не в том возрасте, чтобы исправиться от своих недостатков, и я не вижу, что мы выиграем, оскорбив такого замечательного человека, когда нам так легко утвердить его в его мечтаниях. Поверьте, если кокетство женщины бывает безобидно, то это относится именно к таким старикам, и, возможно, даже самое лучшее будет оставить ему его фантазии. Будьте уверены, что в день, когда я скажу ему, что я полюбила кого-нибудь, он, возможно, будет этому очень рад, в то время, как если я ему сказала бы, что не могу стать его женой, он, возможно, тут же сильно бы заболел и не столько от жестокости, как от своей старости, которую я заставила бы его увидеть без пощады и без сострадания.
Лориана имела некоторое влияние на отца. Она добилась, чтобы все произошедшее осталось в тайне и чтобы он воздержался от издевательств над маркизом за его возвышенные чувства к ней. И даже д'Альвимар, несмотря на спою проницательность, не догадался о том, что произошло между ними.
Лориана была еще ребенок, но уже с задатками сильной женщины, способной совершать действительно хорошие поступки.
Итак, она провела остаток дня не будучи затронутой галантной вкрадчивостью д'Альвимара, и даже казалось, что, отдав его кинжал маркизу в знак благодарной дружбы, она избавилась от какой-то вещи, которая ее тревожила и жгла руки. Она позаботилась больше не оставаться наедине с испанцем и не поощрять никаких стараний, которые он предпринимал, чтобы перевести беседу на нежные банальности любви.
К тому же происшествие прервало все частные разговоры и отвлекло общество.
Явился молодой цыган, прося повеселить именитую публику показом своих дарований, я даже верю, что пройдоха сказал «своего таланта».
Едва его ввели, как д'Альвимар узнал молодого бродягу, который выполнял роль посредника между господином д'Арс и мавританкой на вересковых зарослях Шампилье и который объявил, что он француз и зовется Ла Флеш.
Это был парень лет двадцати, Довольно красивый, хотя уже увядший от распутства, взгляд его был проницательным и дерзким, рот плоский и коварный, речь глупая, неблагоразумная и насмешливая, к тому же он был хорошо сложен при своем маленьком росте, ловок в движениях, как мим, с руками, как у вора, сообразительный во всем, что относилось к плохим делам, кретин в том, что касалось любой полезной работы или всех разумных доводов.
Этот юноша соорудил из каких-то лохмотьев оригинальный костюм для выступления. И предстал в подобие генуэзского плаща с красной подкладкой, в отпугивающей шляпе, утыканной петушиными перьями, шляпе, у которой не было названия, не было формы, не было смысла, развалина, надменная и безнадежная.
Поверх коротких сапог с неровными краями, один слишком большой, другой чересчур маленький для его ноги, виднелись штаны цвета скисшего отстоя красного вина. На груди неверующего красовалась охранная дощечка, всегда висящая на шее против обвинения в язычестве и черной магии. Бесцветно белокурые прямые волосы безумной длины падали на его худое лицо цвета красной охры, и небольшие усы соединялись двумя крюками из белесого пушка на гладком и блестящем подбородке.
Он начал громким надтреснутым голосом:
— Пусть высокопоставленная публика соизволит простить дерзость, которую я осмеливаюсь бросить к ногам их снисходительности. В самом деле, подобает ли такому тупице, как мне, со своей щетинистой физиономией, прорехами на камзоле и шляпою, которая уже давно настойчиво просится на службу к пугалу на конопляное поле, предстать перед дамой, глаза которой пристыживают свет солнца, чтобы явиться рассказывать здесь множество глупостей? Она мне скажет, возможно, чтобы вернуть мне храбрость, что я не создан ни крестьянином, ни молотильщиком, ни работником житницы, потому что речь вдет о батраках, которые подобны орехам, ведь чем больше их бьют, тем больше они приносят плодов. Она мне еще может сказать, что я не верзила, не вор, не щеголь, не хвастун, не фанфарон, не щелкопер, не забияка, не дикарь, что у меня довольно красивая внешность, несмотря на немного заурядную физиономию, но перед заслугами подобными, как у дамы, которую я вижу, и перед собравшимися господами, которые больше похожи на собрание монархов, чем на полный воз ярмарочных телят, самый храбрый в мире человек теряется и не есть более чем поток невежества, водосток глупостей и бассейн всех дерзостей…
Мэтр Ла Флеш мог бы говорить два часа в таком стиле с нестерпимой говорливостью, если бы он не был прерван с тем, чтобы спросить его, что он умеет делать.
— Все! — воскликнул негодяй. — Я могу танцевать на ногах, на руках, на голове и на спине, на канате, на жерди, на верхушке колокольни, как на острие копья, на яйцах, на бутылках, на мчащейся в галопе лошади, на мозгу, на бочке и даже на проточной воде, но это при условии, что кто-нибудь из собравшихся смог бы сидеть напротив меня на стоячей воде. Я могу петь и сочинять стихи на тридцати семи с половиной языках, если только кто-нибудь из здесь присутствующих смог бы мне ответить, не сделав ошибки, на тридцати семи с половиной языках. Я могу глотать крыс, пеньку, шпаги, огонь…
— Довольно, довольно, — сказал нетерпеливый де Бевр, — мы знаем твои четки: это те же для всех болтунов вроде тебя.
— По правде говоря, — ответил Ла Флеш, — я в этом деле большой мастер, и если ваши светлейшие милости захотят встать в очередь, я брошу жребий, чтобы знать, с кого начать, ибо судьба есть суровый дух, который не знает ни пола, ни звания собравшихся.
— Итак, бросай жребий, вот мой залог, — сказал господин де Бевр, кидая ему серебряную монету. — А вы, дочь моя?
Лориана бросила более крупную монету, маркиз — маленький золотой экю, Люсилио — медную монету и д'Альвимар — булыжник, сказав:
— Поскольку я вижу, что залоги даются прорицателю, я нахожу, что он не заслуживает ничего, кроме как быть заброшенным камнями.
— Берегитесь, — сказала ему Лориана, улыбаясь, — он предскажет вам лишь неприятности, ведь хорошо известно, что, когда предсказывают судьбу, это никогда не происходит иначе как за деньги.
— Не думайте так, судьба — это мой господин, — сказал Ла Флеш, который перемешивал фанты в подобии копилки, и который вдруг стал говорить без разглагольствований и с фатальным видом.
Он перевернул свою неописуемую шляпу, которая угрожала небу, как дерзкая башня, и надвинул ее на глаза, как мрачный враг веселья, он делал многочисленные гримасы, произнося слова, лишенные смысла, которые претендовали быть кабалистическими формулами и, отвернувшись, чтобы тайком творить свое грубое притворство, он показал свое лицо, бледное от пророческого вдохновения.
Тогда он начертил на песке большой круг невежественных некромантов со всеми знаками астрологии перекрестков, затем он положил камень в центр и бросил туда копилку, которая, разбившись, рассыпала все содержимое на различные знаки, начерченные в отделениях.
В этот момент д'Альвимар нагнулся, чтобы поднять свой камень.
— Нет, нет! — закричал цыган, бросившись с ловкостью обезьяны и ставя кончик ноги на фант д'Альвимара, не стерев ни одного из знаков, окружавших его. — Нет, мессир, вы больше не можете воспрепятствовать судьбе. Она над вами, как и надо мной!
— Разумеется, — сказала Лориана, протянув свою маленькую трость между д'Альвимаром и Ла Флеш. — Прорицатель — хозяин в этом магическом круге, и, приведя в беспорядок вашу судьбу, вы можете также расстроить и наши.
Д'Альвимар подчинился, но все заметили странное волнение, которое его охватило, однако он тут же справился с собой.
Глава двадцать вторая
Ла Флеш начал с фанта, ближайшего к центральному камню, который звался Синай.
Это был фант Люсилио: он сделал вид, что измеряет углы, делает подсчеты и сказал в рифмованной прозе:
Человек без языка и большого сердца,
Знающий нищету, есть победитель.
— Вот видите, — тихо сказал Буа-Доре д'Альвимару, — пройдоха хорошо разгадал печальную историю нашего музыканта!
— Это не трудно, — ответил д'Альвимар с презрением. — Вот уже четверть часа как немой изъясняется с вами знаками!
— Выходит, вы совсем не верите в пророчества? — спросил Буа-Доре в то время, как Ла Флеш продолжал свои подсчеты с сосредоточенным видом, но обратив свой слух па все, что происходило вокруг него.
— А что вы сами, мессир, в это верите? — спросил д'Альвимар, прикидываясь, что он поражен серьезностью, с какой маркиз задал ему этот вопрос.
— Я? Но… да, немного, как и все!
— Никто больше не верит в эту ерунду.
— Разумеется, а вот я, например, очень в это верю, — сказала Лориана. — Чародей, прошу тебя, если моя судьбы плохая, позволь мне немного сомневаться или найти в науке средство ее предотвратить.
— Знаменитая королева сердец, — ответил Ла Флеш, — повинуюсь вашим приказам. Вам угрожает большая опасность, да, только в течение трех дней, начиная с этого момента.
Не отдавайте никому вашего сердца,
От дьявола будет победитель!
— Но умеешь ли ты подбирать другие рифмы? — крикнул ему д'Альвимар. — Твой словарь небогат!
— Не так богат, как хочется, мессир, — ответил цыган, — однако есть люди, которые хотят так сильно, что они все сделают ради богатства, рискуя топором и веревкой!
— Это в судьбе этого дворянина ты прочитал подобные вещи? — спросила Лориана, пораженная предостережением предсказателя.
— Возможно, — сказал с непринужденностью господин д'Альвимар, — неизвестно, что может произойти!
— Но возможно знать это! — воскликнул Ла Флеш. — Посмотрим, кто хочет это знать?
— Никто, — сказал маркиз, — никто, если есть что-либо неприятное в будущем кого-либо из нас.
— Вы и вправду верите, сосед, — сказал де Бевр, который не верил абсолютно ничему. — Вы так надменно держитесь со всеми этими фиглярами, которые хотят рассказать вам будущее!
— Как вам угодно, — ответил Буа-Доре. — Десять раз то, что мне предсказывали, сбывалось.
— Как хотите вы, — спросил его д'Альвимар, — чтобы какой-нибудь идиот или невежда, подобный этому, проник в будущее, секрет которого знает один Бог?
— Я не верю в знание дела исполнителем, — ответил маркиз, — если это не из-за того, что, через состояние, он умеет подсчитывать числа и что эти числа есть для него, как буквы книги, с которыми подлинная фатальность чисел облекается в слова и фразы.
Де Бевр посмеялся над маркизом и требовал от предсказателя говорить все.
Недоверчивость д'Альвимара была притворной, он верил, что повсюду, где есть колдовство, действует дьявол, и он обещал порекомендовать Ла Флеша господину Пулену, чтобы он разоблачил его при случае и засадил в тюрьму. Но вопреки своей воле он был весьма поглощен беспокойством, что прочтут «книгу» его судьбы, и он, к тому же, был вынужден изображать из себя вольнодумца перед мадам де Бевр.
Ла Флеш не доверял испанцу. Он знал, что он не рискует ничем с людьми, которые ни во что не верят, это не те, которые разоблачают или обвиняют искателей подземных родников, и он был слишком проницателен, чтобы не понять, что, пытаясь вернуть свой фант, д'Альвимар хотел избежать разоблачений.
Цыган ждал, что д'Альвимар удалится, и что он без риска сможет сделать другим какое-нибудь приятное предсказание и получит хорошее вознаграждение. Д'Альвимар смущал его, так как после трех дней, которые цыган бродил по окрестностям, проникая везде, подслушивая у дверей, или прикидываясь, что не понимает по французски, чтобы люди могли свободно разговаривать в его присутствии, он многое узнал такого, что касалось д'Альвимара, о чем хотел бы поскорее забыть.
Но д'Альвимар, успокоившись от незначительности пророчества, не уходил; никто больше не развлекался, и Ла Флеш потерпел фиаско, хотя прежде он работал с хорошей выручкой.
Дело шло к тому, что его выпроводят. Он принял гордый вид.
— Досточтимые сеньоры, — сказал он, — я не чародей, я клянусь на изображении святого заступника, которое ношу на груди, я протестую против всякого сговора с дьяволом. Я лишь практикую белую магию, допускаемую церковными властями, но…
— Но если ты не отдался дьяволу, иди-ка ты к дьяволу! — смеясь, сказал господин де Бевр, — ты нам надоедаешь!
— Итак, — сказал Ла Флеш нахально, — вы хотите кабалистики, вы ее получите, на ваш страх и риск! Но это буду делать не я…
Он тотчас обернулся к корзине, которую принес с собой, и где, предполагалось, имелись какие-то принадлежности для фокусов или какой-нибудь любопытный зверь, и вытащил оттуда девочку лет восьми — десяти, которой, казалось, не больше четырех-пяти, такой она была маленькой. Смуглая, некрасивая, взъерошенная, настоящий домовой, вся одетая в красное, начата в то время, как он держал ее на руках, хлестать его по щекам, дергать за волосы и царапать ему лицо ногтями, больше похожими на когти.
Сначала казалось, что это яростное сопротивление является частью представления, но впечатление сразу же рассеялось, когда все увидели сочащуюся крупными каплями кровь по всей длине носа негодяя.
Он немного встревожился, утираясь рукавом.
— Это ничего, — сказал он, — принцесса спала в своей корзине и при пробуждении сварлива.
Затем он прибавил по-испански, тихо говоря малышке:
— Успокойся, ну же! Ты потанцуешь сегодня вечером!
Ребенок, помещенный на камень Синай, присел на корточки, как обезьяна, и смотрел вокруг глазами дикой кошки.
Имелся в ее хилой некрасивости столь ярко выраженный характер страдания и гнева, несчастья и злобы, что она была при этом почти прекрасна.
У Лорианы сжалось сердце при виде худобы этого несчастного создания, почти нагого под грязным пурпуром ее лохмотьев.
Она вздрогнула, подумав об участи этого ребенка, несомненно ожесточенного тиранией и побоями злобного шута, и она отстранилась на несколько шагов, опираясь на руку своего славного Буа-Доре, который, не говоря ничего, чувствовал себя почти таким же опечаленным, как она.
Но де Бевр был более толстокожий, и он настаивал, чтобы Лa Флеш заставил говорить злой дух.
— Видите, моя прекрасная Пилар, — сказал Ла Флеш, сопровождая каждое слово грубой мимикой угроз, понятных его жертве, — видите, королева домовых и гномов, нужно говорить. Поднимите же вещь, которая ближе всех к вам.
Пилар долгое время оставалась неподвижной, делая вид, что она снова засыпает, дрожа как в лихорадке.
— Ну же, негодяйка, тупица, — повторил Ла Флеш, — подберите эту золотую монету, и я скажу вам, где Марио, ваш возлюбленный.
— Что, — сказал маркиз, обернувшись, — что он сказал о Марио?
— А кто этот Марио? — спросила у него Лориана.
— Тихо, — прикрикнул де Бевр, — диявол говорит, и речь пойдет о вас, мой сосед!
Ребенок говорил по-французски с явным акцентом и крикливым голосом:
Тот, чей это фант,
Если хочет услышать предсказанье
И хорошенько защититься от любви…
— Я это уже сказала, я не хочу больше говорить, — добавила она по-испански.
Затем вдруг встряхнула головой с взъерошенными черными, как чернила, волосами, притопнула ногой и предалась гневу гадалки.
— Хорошо! Отлично! — воскликнул Ла Флеш, полный решимости выиграть партию не важно как. — Вот это и случилось: диявол вошел в ее тело, она будет говорить!
— Да, — сказала девочка по-испански и прыгая в круге с исступлением, — и я знаю все лучше, чем ты, чем кто бы-то ни было. Вот! вот! вот! Я знаю, спрашивайте меня.
— Мы говорим по-французски, — сказал Ла Флеш. — Чего достигнет сеньор, фант которого ты держишь?
Это был фант маркиза.
— Радости и комфорта, — сказала девочка.
— Очень хорошо! Но как?
— Мщением, — ответила она.
— Я и месть? — сказал Буа-Доре, — это не в моем духе.
— Непохоже, — прибавила Лориана, невольно взглянув на д'Альвимара. — Дьявол мог ошибиться фантом.
— Нет, я не ошиблась! — повторила гномица.
— В самом деле? — сказал Ла Флеш. — Если вы в этом так уверены, говорите, чертовка! Итак, вы полагаете, что этот благородный сеньор, здесь присутствующий, имеет какое-то оскорбление, которое должен смыть?
— Кровью! — ответила Пилар с жаром трагической актрисы.
— К сожалению, — тихо сказал маркиз Лориане, — это, несомненно, правда. Вы это знаете, мой бедный брат!
А вслух он сказал:
— Я хочу сам расспросить эту маленькую вещунью.
— Пожалуйста, монсеньор! — ответил Ла Флеш. — Внимание, черная мушка! Говорите честно тому, кто обладает большими достоинствами, чем вы!
Тогда маркиз обратился к Пилар:
— Так что же, моя бедная крошка, я потерял? — спросил он ласково.
Она ответила:
— Сына!
— Не смейтесь, сосед, — сказал маркиз де Бевру, — она говорит правду. Он был мне как сын!
И снова обратился к Пилар:
— Когда же я его потерял?
— Одиннадцать лет и пять месяцев назад.
— А сколько дней?
— Меньше пяти дней.
— Вот тут она ошибается, — сказал маркиз Люсилио, — но посмотрим, увидит ли она ясно остальное.
И, обращаясь к девочке, продолжил:
— Как же я его потерял?
— От трагической смерти, — ответила она, — но вы будете утешены.
— Когда?
— Через три месяца, три недели или три дня.
— Какое утешение?
— Трех видов: месть, мудрость, семья.
— Семья? Значит, я женюсь?
— Нет, вы будете отцом!
— Правда? — воскликнул маркиз, не обращая внимания на громкий смех господина де Бевра. — И когда же я стану отцом?
— Через три месяца, три недели или три дня. Я все сказала о вас, я хочу отдохнуть.
Сеанс был приостановлен потоком насмешек господина де Бевра над маркизом.
Для того чтобы явление предсказанного наследника имело место через три месяца, три недели или три дня, надо было, чтобы три женщины получили на то «заказ».
Бедный маркиз так хорошо знал обратное, что вся его вера в магию остыла.
Девочка потребовала начать заклинания для последнего фанта.
Это был булыжник д'Альвимара.
Но для понимания того, что последует далее, нужно, чтобы читатель знал, что было условлено между Пилар и ее хозяином Ла Флешем.
То, что Ла Флеш знал и хотел сообщить Буа-Доре, он рассчитывал сообщить ему через ребенка без присутствия д'Альвимара.
Ребенок из каприза и хвастовства не хотел больше принимать во внимание имеющееся между ними соглашение. Она хотела ответить весь свой урок, невзирая на последствия. А возможно также, что эта опасность, которую она могла навлечь на него и о чем она ведала, тешила ее инстинкты ненависти.
И теперь она говорила, как она это понимала, несмотря на предостережения и гримасы своего господина, который не мог ничего сказать ей по-испански без того, чтобы это не было понято д'Альвимаром.
Она подобрала камень, изучила знаки, которые его окружали, сделала вид, что совершает подсчеты и сказала по-испански с ужасным пылом к угрозе:
— Несчастье, разочарование и напасть тому, у кого фант упал на красную звезду!
— Браво! — воскликнул д'Альвимар, рассмеявшись нервно и неестественно. — Продолжайте, мерзкое создание! Давайте, давайте, собачье отродье, выродок, говорите нам приговор неба!
Пилар, рассерженная этими оскорблениями, сделалась столь дикой, что внушила страх всем, кто смотрел на нее, и самому Ла Флешу.
— Кровь и убийство! — воскликнула она, подпрыгивая с судорожными жестами, — убийство и проклятье! Кровь, кровь и кровь!
— И все это мне? — сказал д'Альвимар, который в этот миг не смог скрыть своего страха.
— Тебе! тебе! — кричала эта бешеная оса. — Смерть, ад! Скоро, тотчас, через три месяца, три недели или три дня. Проклятый! проклятый! ад!
— Довольно, довольно! — сказал Буа-Доре, который почти не понимал по-испански, но видел, что д'Альвимар бледен и готов упасть в обморок. — Этот ребенок одержим злым дьяволом, и возможно грех слушать его.
— Да, несомненно, сударь, — ответил д'Альвимар, — она одержима дьяволом, и ее угрозы тщетны и достойны презрения, потому что ад не может ничего без воли Бога, но если бы я был здесь владельцем замка и судьей, я бы приказал схватить этого бандита и эту нечисть и я бы их отдал…
— Ну-ну, — сказал господин де Бевр, — не надо так сердиться! Я не знаю, что вам сказали, но меня изумляет, что, выслушав, вы рассмеялись. Однако признаюсь, что исступление этой взбесившейся уродины — некрасивое зрелище, и я вижу, что моя дочь этим обеспокоена. Итак, плут, — сказал он Ла Флешу, — довольно. Забирайте себе фанты, если они вам подходят, и отправляйтесь в другое место.
Ла Флеш не ожидал этого разрешения, чтобы сложить багаж. Он очень торопился избавиться от доброжелательных намерений испанца по отношению к нему.
Маленькая Пилар не была взволнована. Напротив, она собирала золотые и серебряные монеты, которые служили фантами, и когда она дошла до камня д'Альвимара, она его с презрением пнула ногой.
Он был этим так оскорблен, что, возможно, обошелся бы с ней, как с волчонком, если бы у него еще оставалось оружие, которым можно было так быстро воспользоваться и так хорошо.
Но он сделал бесполезное движение невольно, чтобы схватить кинжал, и Лориана, которая смотрела на него, порадовалась тому, что он безоружен. Он встретился с ней взглядом и поторопился улыбнуться, потом он попытался заговорить на другую тему, и Буа-Доре попросил Люсилио наиграть мелодию на мюзете, чтобы развеять неприятные впечатления от этого происшествия, в то время как Ла Флеш, водрузив свою большую корзину на голову, взяв под руку свои магические инструменты и волоча другой рукой маленькую предсказательницу, еще всю дрожащую, с поспешностью пересекал ворота и подъемный мост замка.
— Ну теперь-то ты дашь мне поесть? — спросила она, когда они вышли в открытое поле.
— Нет, ты слишком плохо работала.
— Я хочу есть.
— Тем лучше.
— Я голодна и не могу больше идти.
— Тогда отправляйся в клетку.
И он насильно посадил ее в корзину и понес, ускоряя шаг почти до бега.
Крики несчастного созданья затерялись без эха в бескрайней равнине.
— Марио! Марио! — плакал ее прерывающийся голос, — я хочу видеть Марио! Злой человек! Убийца! Ты обещал, что я увижу Марио, который даст мне поесть и поиграет со мной, и его мать, которая не дает меня бить. Марио! Марио! Разыщите меня! Убейте его! Он делает мне зло, он меня трясет, он меня убивает, он заставляет меня умирать от голода! Будь он проклят! Смерть, и кровь, и убийство! Кнут, огонь, колесо, ад для злых людей!
Глава двадцать третья
В то время, как цыган бежал в направлении севера, маркиз с д'Альвимаром и Люсилио поехали в обратную сторону по дороге в Бриант.
Маркиз медлил сообщить своему верному Адамасу о том, что он рассматривал как счастливое завершение своей затеи. Все хорошо оценивая, он не был слишком расстроен семью годами ожидания, прежде чем сможет предпринять новое матримониальное решение.
Д'Альвимар был весьма мрачно настроен не только по причине пророчеств, которые расшевелили его желчь и потревожили его мозг, но также и по причине спокойного прощания с ним со стороны мадам де Бевр, в то время как она протянула свои маленькие руки маркизу, весело обещая свой приезд на послезавтра.
«Разве это возможно, — думал он, — чтобы она приняла деньги этого старика, и что я оказываюсь вытесненным соперником семидесяти лет?»
Он имел большую охоту расспросить, поднять на смех, досадовать. Но не было возможности завязать разговор с Буа-Доре на этот предмет. Маркиз имел торжествующий вид, сдержанный и скромный.
Д'Альвимар не мог отомстить за свое поражение, кроме как забрызгать грязью, что он и сделал только с мэтром Жовленом, едущим рысью позади маркиза.
Едва приехав в замок, поскольку время ужина еще не наступило, он отправился пешком, чтобы побеседовать с господином Пуленом.
— Итак, месье, — сказал, разувая своего хозяина верный Адамас, который в своем качестве камердинера почти никогда не покидал замок Бриант, — надо помышлять об обеде помолвки?
— Точно, мой друг, — отвечал маркиз. — Нужно обдумать пораньше.
— Правда, месье? Ну, я был уверен, и я так рад, что даже не знаю как. Представьте себе, месье, что эта рыжая дылда, которую вы звали Беллиндой и которой лучше было бы называться Тизифоной…
— Ну полноте, Адамас, у вас настроение слишком невыносимое! Вы же знаете, что я не люблю слушать, когда оскорбляют лицо другого пола. Что еще было между вами?
— Простите, мой благородный господин, но, возможно, эта подлая девица подслушивала у дверей и что она знает о мероприятии, которое месье предпринял сегодня. Значит в скором времени она будет смеяться, как чайка, с глупой экономкой священника.
— Откуда вы это знаете, Адамас?
— Я это знаю через колдовство, месье.
— Через колдовство? И давно ли вы пристрастились к оккультным наукам?
— Я скажу это, месье, я ничего не скрываю, но пусть месье соизволит тогда рассказать мне, как он действовал, раскрывая свои чувства несравненной даме своего сердца, и что она ответила, потому что я уверен, что ничего столь выразительного не говорилось под небом с тех пор, как мир есть мир, и я хотел бы уметь писать так же скоро, как мэтр Жовлен, чтобы это ложилось на бумагу по мере того, как месье будет мне рассказывать.
— Нет, Адамас, ни слова не выйдет из моих уст, опечатанных клятвой доблестного рыцаря. Я поклялся не выдавать секрет моего блаженства. То, что я могу сказать тебе, мой друг, это что ты можешь радоваться теперь вместе с твоим хозяином и надеяться с ним на будущее!
— Так, месье, это осуществлено, и..?
Адамас был прерван легким кошачьим царапаньем в дверь.
— Ах, — сказал он, заглянув, — это мальчик, который хочет с вами поздороваться. — Иди, дружок, его светлость увидится с тобой позже, он занят.
— Да, да, Адамас, пусть он вернется! Это будет хорошо! Нет, нет, я больше не старый холостяк, который хочет жениться поскорее, чтобы добиться цели. Я молодой человек, Адамас, да, юный влюбленный, честное слово, нежно обреченный доказать свое постоянство через испытания, вздыхать и писать стихи, одним словом, ждать в томлении и радости надежды доброй воли моей государыни.
— Если я хорошо понимаю, — продолжал Адамас, — это ревнивое божество питает некоторое недоверие к ветреному нраву моего господина, и она требует, чтобы он отказался от всех любовных приключений?
— Да, да, это так, Адамас, должно быть это так! Немного недоверия! Это именно наказание за мою безрассудную юность, но я сумею отлично доказать свою искренность… Посмотри же за дверь, снова кто-то скребется!
— Что, — серьезно сказал Адамас Марио, приоткрывая немного дверь, — это снова вы, мой шалун? Разве я не сказал вам подождать?
— Я подождал, — ответил Марио своим нежным голосом, ласковым до шалости, — вы мне сказали: «Иди и возвращайся». Я дошел до конца другой комнаты и вот я вернулся.
— Вот постреленок! — сказал маркиз. — Впусти его. Здравствуй, дружок, ну-ка, иди, поцелуй меня, а потом спокойно поиграешь с Флориалем. Я разговариваю о серьезных вещах с добрым господином Адамасом. Видите ли, Адамас, на послезавтра я договорился со своей несравненной соседкой. Надо позаботиться: это небольшой обед без церемоний, самое большее на четырнадцать персон.
— Все будет так и сделано, месье, желаете, чтобы я позвал повара?
— Нет, я вообще не люблю приказывать, и если кухней занимаются подходящие люди, они всегда справятся со своим делом. Помоги мне помечтать…
— Откуда здесь взялся этот нож? — очень горячо спросил Марио, которого маркиз, добродушный и изрядно рассеянный, держал между своих ног и дозволил рыться у себя в карманах.
— Ничего, ничего, — сказал маркиз, стараясь взять назад залог, который дала ему Лориана. — Верни-ка мне это, дружок, дети не трогают это. Видишь, это кусается! ну-ка верни!
— Да, да, вот оно! — воскликнул Марио. — Но я видел уже, что у него сверху, и отлично знаю, кому он принадлежит.
— Ты не можешь этого знать.
— Нет, я знаю, это месье испанца, которого вы называете Виллареаль. Так это он вам его дал?
— Что ты там бормочешь! Ты несешь чушь!
— Нет, добрый господин! Я хорошо видел девиз, имеющийся на лезвии, он на испанском, и я хорошо его знаю. У моей матери Мерседес был точно такой же кинжал, где была такая же надпись.
— И что означает этот девиз?
— Я служу Богу. С.А.
— И что означает С.А.?
— Это должно быть первые буквы имени человека, которому принадлежит кинжал. Это как если кто-нибудь поставил их однажды около рукоятки.
— Я это отлично знаю, но почему ты говоришь, что это кинжал месье испанца, которого зовут Виллареаль?
Мальчик не ответил и казался в смущении.
Он уже не был больше под бдительным и подозрительным взглядом мавританки. Он сказал слишком много того, чего не должен был говорить, но поздно вспомнил наставления Мерседес.
— Мой Бог, сударь, — сказал Адамас. — Дети порой говорят, лишь бы говорить, не отдавая отчет в произнесенном. Мы же с вами поговорим о вещах серьезных. Ваш лесник, папаша Андош, принес сегодня связку птиц, которые из жира…
— Да, да, ты прав, мой друг, поговорим об обеде. И все же я не знаю… я спрашиваю себя, как мог оказаться в кармане ее юбки этот испанский кинжал.
— Кого ее, месье?
— Ее, черт возьми! О ком же другом я могу отныне говорить?
— Вы правы, простите, месье! Поговорим о кинжале. Я полагал, что это в самом деле дар господина де Виллареаля или что он одолжил его вам, потому что на самом деле он от него. Эти две буквы С.А. есть и на другом его оружии, которое весьма красиво, что я и отметил сегодня утром, когда его слуга чистил оружие.
Маркиз погрузился в задумчивость.
Откуда у Лорианы кинжал Виллареаля? Она получила его от него, поскольку она им распоряжалась, как своей собственностью.
Напрасно он искал во всей родословной де Бевров, там не находилось ни одного имени, которое могло бы начинаться с инициалов С.А.
— А, может быть, она, — сказал он себе, — заключила такое же соглашение с ним, как затем со мной?
Он, однако, утешился, думая, что она очевидно не слишком придавала значения первому, потому что она пожертвовала подарок ему, но он оставался пребывать в некотором недоумении по поводу этих обстоятельств, и славный маркиз не был еще настолько безумен, чтобы не бояться стать объектом какой-то «насмешки».
И потом то, что сказал мальчик, перепутало все мысли в его голове, и он не понимал, какие происки судьбы или какая мистификация окружала этот кинжал.
Ему хотелось пойти объясниться тут же со своим гостем, но он вспомнил, что Лориана приказала ему спрягать ее подарок и никому его не показывать.
Адамас увидел беспокойство на челе своего хозяина и заволновался.
— В чем дело, месье, — спросил он, — и что может сделать ваш бедный Адамас, чтобы выручить вас из интриги?
— Не знаю, мой друг. Хотел бы я знать, как случилось, что мавританка имела такое же оружие, как это, носящее тот же девиз и те же буквы.
Затем, понизив голос, чтобы не услышал Марио, добавил:
— Ты говорил мне и мне это кажется самому, что эта женщина весьма порядочная особа. Однако она похитила этот предмет у нашего гостя? Вот вещь, которую я не могу вынести, что в моем доме воровка.
Адамас также разделял подозрения своего хозяина, тем более, что Марио, почувствовав, что он поступил необдуманно, сказав про кинжал, собирался выскользнуть из комнаты на цыпочках, чтобы избежать новых вопросов. Адамас задержал его.
— Вы нам тут сказки рассказывали, мой славный друг, — сказал он ему, — и тем самым вы заслуживаете потерять благорасположение моего господина и повелителя. Этого не может быть, чтобы у вашей Мерседес была вещь, о которой вы говорили, или тогда…
Маркиз прервал его, не желая, чтобы обвинение было произнесено в присутствии мальчика.
— И давно, мой мальчик, — сказал он ему, — как у твоей матери есть этот кинжал?
Мальчик прожил некоторое время с цыганами и знал, что такое воровство. Он был одарен к тому же необычайной проницательностью. Он понял подозрения, которые он навлек на свою приемную мать, и он готов был скорее ослушаться, но снять эти подозрения с матери, доказав ее невиновность.
— Да, — сказал он, — довольно давно.
И поскольку он произнес это уверенно и даже с гордостью, маркиз и Адамас почувствовали, что они смогут его разговорить.
— Так значит господин де Виллареаль дал его ей? — спросил Адамас.
— О, нет, он оставил его…
— Где? — спросил маркиз. — Ну же, надо сказать, или я не стану больше верить вам, малыш. Где он его оставил?
— В сердце моего отца! — ответил Марио, лицо которого выражало чрезвычайное волнение.
У него было желание излиться, эта тайна давила его, он сказал первое слово, он не мог больше молчать.
— Адамас, — сказал маркиз, охваченный внезапным волнением, — закрой дверь, а ты, малыш, иди сюда и рассказывай. Ты среди друзей, ничего не бойся, мы тебя защитим, мы добьемся для тебя справедливости. Расскажи нам все, что ты знаешь о своей семье.
— Хорошо, — сказал мальчик, — если вы меня любите, нужно покарать господина де Виллареаля, потому что это он убил моего отца.
— Убил?
— Да, Мерседес это видела!
— Когда это случилось?
— В день, когда я появился на свет, в день, когда умерла моя мать.
— И почему он убил его?
— Чтобы иметь много денег и драгоценностей, которые были у отца.
— Вор и убийца! — воскликнул маркиз, глядя на Адамаса. — Знатный человек! Друг Гийома д'Арса! Разве в это можно поверить?
— Месье, — сказал Адамас, — дети сочиняют много сказок, и я думаю, что вот этот насмехается над нами.
Краска залила лицо Марио.
— Я никогда не вру! — сказал он с умилительной энергией. — Господин Анжорран всегда говорил: «Вот этот ребенок совсем не лгун». Моя Мерседес всегда говорила мне, что никогда не нужно врать, а лучше молчать, когда не хочешь отвечать. Поскольку вы заставили меня говорить, я говорю, что это правда.
— Он прав, — воскликнул маркиз, — и я отлично вижу, что благородной кровью заполнено сердце этого красивого мальчугана! Говори же, я тебе верю. Скажи, как звали твоего отца?
— Ах, вот этого я не знаю.
— Честью клянетесь, дружок?
— По правде, — ответил мальчик, — мою мать звали Марией, вот и все, что я знаю, и вот поэтому господин Анжорран дал мне при крещении имя Марио.
— Но Мерседес сказала, я это отлично помню, — заметил Адамас, — что эта дама передала кюре обручальное кольцо, она говорила также о печати.
— Да, — сказал Марио, — печать принадлежит моему отцу, внизу там был герб, но у нас ее украли не так давно. Что же касается кольца, то никогда господин Анжорран, ни моя Мерседес, которая все-такиочень ловкая, ни я, никто не мог открыть его. Однако внутри него что-то есть. Моя мать, которая умерла, ни произнеся ни слова, кроме имени, полученного при крещении, Мария, сделала знак кюре открыть ее кольцо. У нее не было сил этого сделать, но и он не сумел этого!
— Пойди, принеси его, — сказал маркиз, — и мы, возможно, сможем!
— О, нет! — воскликнул Марио испуганно. — Моя Мерседес не захочет, и если она узнает, что я рассказал, она будет очень огорчена.
— Но все же, почему она прячет от нас то, что могло бы помочь тебе найти семью?
— Потому что она думает, что вы послушаете испанца, и что он убьет ее, если поймет, что она его узнала.
— А он что, до сих пор не признал ее?
— Он не видел ее, поскольку она пряталась!
— И она встречала его где-нибудь после этого гадкого дела?
— Нет, никогда.
— И спустя десять лет она уверена, что узнала его? Что-то сомнительно…
— Она говорит, что уверена в этом, что он почти не постарел, что он всегда одевался в черное, и его старый слуга, она уверена, что он тот же самый. О, она их хорошо рассмотрела! Когда три дня назад мы повстречали их около другого замка, который недалеко отсюда…
— Ах, да! Ну же, — сказал маркиз, — расскажите, как она его встретила.
— Он был с красивым и добрым молодым вельможей, которого позже, я слышал, вы звали Гийомом, говоря о нем. Он дал тогда много монет цыганам, с которыми мы были. А испанец разозлился и хотел меня ударить. Мерседес сказала мне:
— Это он! Послушай! Это он! А другой — его старый слуга, я тоже его узнала!
И она побежала за ними, чтобы видеть до тех пор, пока господин Гийом не сказал нам, что это ему неприятно. Тогда Мерседес спросила его имя и имя его друга с тем, сказала она, чтобы молиться за них. Но господин Гийом не обратил на нас внимания, и цыгане пошли своей дорогой в другую сторону. Тогда Мерседес дала им уйти и сказала мне: «Мы повстречали убийцу твоего отца, я утверждаю это. Нужно узнать их имена». Тогда мы вернулись назад, мы просили милостыню в замке Ла-Мотт, и поскольку на нас не обращали внимания. Мерседес сказала мне, чтобы я слушал, что говорят слуги и крестьяне, и так мы узнали, что испанец будет жить у маркиза, поскольку маркиз послал за его каретой и приказал приготовить иностранцу комнату для почетных гостей.
А потом мы разговаривали с одной пастушкой в поле. Ома нам сказала: маркиз хороший человек, вы можете пойти туда переночевать, к вам хорошо отнесутся, вон там его замок. И тогда мы тут же отправились сюда и со вчерашнего утра мы снова видели убийцу, двух убийц! А я видел буквы на пистолетах и на большой шпаге, которые держал слуга, и я тогда сказал Мерседес: покажи мне гадкий нож, которым был убит мой бедный отец, мне кажется, что там те же буквы, которые я видел.
— И ты в этом уверен? — спросил маркиз.
— Да, уверен, да вы и сами увидите, если Мерседес захочет показать вам.
— А где она теперь?
— Она с господином Жовленом, которого она очень любит, потому что он бросился за мной в воду.
— Совершенно необходимо, чтобы Жовлен вытянул из нее ее секрет, — сказал маркиз Адамасу, — пойди за ним, чтобы я с ним поговорил.
Адамас вышел и вернулся сказать, что Жовлен сейчас придет.
— Он о чем-то очень оживленно беседовал с мавританкой; она говорила по-арабски, он записывал все, что она говорила, делая много жестов, которые она, казалось, понимала. Он сделал мне знак, что не может прерваться, — добавил Адамас, — я думаю, месье, что ему была доверена правда за доброту и убежденность, не будем его беспокоить. Он писал быстро, но она не очень хорошо читает даже на своем языке, и это удивительно видеть, как глазами и руками он заставляет понять себя. Потерпите, месье, мы что-нибудь будем знать.
Ожидание в четверть часа показалось маркизу веком. Час приближался, прозвучал первый сигнал к ужину. Может быть, надлежало оказаться напротив Виллареаля не имея ничего проясненного. Буа-Доре находился в сильном волнении. Он вставал и снова садился, бормоча про себя бессвязные слова, что сильно интриговало Адамаса.
Марио, думая, что на него сердятся, сидел задумчивый и озадаченный в углу. Флориаль, видя беспокойство своего хозяина, пристально следил за каждым его шагом и время от времени скулил, шевеля хвостом, как будто говоря ему: «Ну и что вы будете теперь делать?»
Наконец Адамас отважился задать вопрос:
— Месье, — воскликнул он, — вот вы имеете идею, которую вы скрыли от вашего слуги, и тем самым вы передали ему ваше огорчение еще более тяжелым. Скажите, месье, скажите Адамасу, что вы говорите сам себе, он не повторит никому ничего, как ночной колпак, и это вас настолько же облегчит.
— Адамас, — ответил Буа-Доре, — я боюсь показаться сумасшедшим, потому что имеется в этом ребенке и в истории, которую он рассказал нам, что-то такое, что трогает меня больше, чём следует. Нужно, чтобы ты знал, что сегодня мне была рассказана моя судьба цыганами, и что в их пророчестве были слова довольно темные по смыслу, но которые могут тем не менее объясниться через сочувствие, которое я испытываю к этому несчастному мальчику. Мне говорили среди других странных вещей, что я через три месяца, три недели или три дня стану отцом. Однако я клянусь тебе, Адамас, что я не могу рассчитывать ни на какое прямое отцовство в такой короткий срок, ясно, что я должен стать отцом через усыновление. Но другие слова этого предсказания меня мучат больше, это то, что мне была раскрыта смерть моего брата, произошедшая именно в тот день, когда мавританка назвала гибель отца этого мальчика. Как понять это? Предсказательница говорила намеками и символически, но она назвала эту дату ясно, сделав расчет лет, месяцев и дней, которые прошли. И я, вспоминая это, сделал тот же самый расчет и попал именно на четвертый день после смерти нашего короля Генриха. Иди сюда, Марио, ведь ты сказал четыре дня?..
— Но, месье, — заметил Адамас, — не вы ли сами сказали вчера, что последнее письмо господина Флоримона датировано шестнадцатым июня и отправлено из города Генуи?
— Это так, мой друг, но можно было спутать дату при написании и поставить одно слово вместо другого, это происходит со всеми!
— Но, месье, ведь город Генуя находится в Италии и очень далеко от места, где, по словам этого ребенка, погиб его отец?
— Несомненно, мой друг. Меня мучит очевидность вещей, и я не могу привести в порядок слова вещуньи и эти фантазии, куда я допустил тебя. Открой-ка сейчас сервант, где заперты дорогие реликвии моего брата, и это последнее письмо, которое я столько раз перечитывал, никогда не постигая его смысла!
— Мой Бог, месье, — сказал Адамас, открывая выдвижной ящик и протягивая письмо своему хозяину, — все, что случилось, это все то, что должно было случиться, вы это отлично поняли и узнали со временем; господин Флоримон сообщил вам слишком мало нового по причине больших серьезных дел, которые он имел при дворе Италии, куда его отправил его хозяин герцог Савойский. Он вам говорил о своем путешествии, но умолчал о его цели, потому что это было запрещено ему политикой, которой он служил. Это последнее письмо вам докладывало о других поездках, из которых он только что вернулся, и вот, что он собственноручно писал вам: «Если вы не услышите ничего обо мне отсюда до осени, не беспокойтесь. Здоровье мое хорошее, и мои личные дела не в плохом состоянии». Дата подлинная, потому что начинает он, обращаясь к вам: «Месье и горячо любимый брат, вы должны получить мое последнее январское письмо, в течение этих пяти прошедших месяцев…»
— Я все это знаю, Адамас, я знаю это наизусть и тем не менее, когда я был в Италии в 1611 году, я лично наводил справки о моем бедном брате, от которого больше не было вестей, и мне сказали, что он никогда не возвращался из поездки в Рим, куда он отбыл за пятнадцать месяцев до того. И когда я был в Риме, то уже более двух лет, как никто его там не видел. Я объехал всю Италию до 1612 года, не найдя никаких признаков, никаких следов до такой степени, что я вообразил себе, что он предпринял какую-нибудь длительную поездку в Индию или Вест-Индию по своим целям, и что я увижу его когда-нибудь, но, в конце концов, я должен был посчитать достоверным, что он зло убит разбойниками, которыми наводнена Италия, или что он погиб во время какого-нибудь шторма на море. Он не сколотил крупного состояния на службе у Савояра, однако же он никогда не жаловался, и я думаю, что он не часто сопровождал его в поездках. В конце концов я потерял надежду найти брата, но не потерял надежду узнать его судьбу и отомстить за него, если он злодейски погиб.
Пока маркиз и Адамас беседовали, Марио, которым никто больше не занимался, проскользнул за кресло маркиза.
Он слушал, он внимательно смотрел на письмо, которое Буа-Доре держал в руках. Он очень хорошо умел читать, как мы уже говорили, и даже написанное от руки, но он терзался большой тревогой, боясь ошибиться и быть еще раз обвиненным в том, что говорит, что попало.
Наконец он уверился в своей правоте и воскликнул:
— Подождите!
Марио выбежал, полный решимости и радости, но маркиз, углубленный в свои размышления, не обратил на него никакого внимания.
Марио уже знал комнату мэтра Жовлена, и там он нашел свою мать, которая собиралась уходить, не желая удовлетворить просьбу Жовлена — показывать кольцо и письмо, ревностной и недоверчивой хранительницей которых она была.
Люсилио был так же, как и маркиз, поражен совпадением даты, закрепленной в памяти ребенка аббатом Анжорраном, с той, присвоенной маленькой цыганкой смерти Флоримона.
Он нисколько не верил в магию, но так же, как он был удивлен именем Марио, произнесенным Ла Флешем, он боялся, чтобы маркиз не стал жертвой какого-нибудь фиглярства.
Он начал подозревать саму мавританку, и его первой заботой по возвращении домой было вызвать ее на разговор в письменном виде со всей определенностью и строгостью. Он потребовал, чтобы она показала кольцо и письмо господина Анжоррана, о котором она говорила, и хотя женщина испытывала к нему большое уважение и симпатию, подобная настойчивость заставляла ее опасаться косвенного вмешательства д'Альвимара в допрос, которому она подвергалась, она была погружена в молчание, полное тревоги.
Лишь только она увидела Марио, ее уязвленное сердце излило жалобу, которую она не осмеливалась адресовать непосредственно Люсилио.
— Видишь, мое бедное дитя, — сказала она ему, — нас гонят отсюда, потому что нас обвиняют в том, что мы хотим ввести в заблуждение и рассказываем историю, каковой в действительности не было. Так вот, мы сейчас же уходим, с тем, чтобы знали, что мы не просим помощи ни у кого, кроме как у Бога и самих себя.
Но Марио остановил ее.
— Довольно уже не доверять, матушка, — сказал он, — нужно делать то, что нас просят. Дайте мне письмо, дайте мне кольцо, они мои, я хочу их сейчас же!
Люсилио был поражен энергией ребенка, а ошеломленная мавританка некоторое время хранила молчание.
Никогда еще Марио так не разговаривал с ней, никогда она не чувствовала в нем малейшей робкой попытки независимости, и вот он ей властно приказывает!
Она боялась, она верила в какое-то чудо; вся сила ее характера пала перед фаталистской мыслью; она сняла со своего пояса кошель из кожи ягненка, куда она зашила драгоценные предметы.
— Это не все, матушка, — сказал ей Марио, — мне нужен также и нож.
— Тебе нельзя дотрагиваться до него! Этим ножом был убит…
— Я знаю, я его уже видел, я хочу видеть его еще раз. Нужно, чтобы я к нему прикоснулся, и я прикоснусь к нему! Давай!
Мерседес передала нож и сказала, сложив руки:
— Если это дух противоречия заставляет поступать и говорить моего сына, то мы пропали, Марио!
Он не слушал и, положив маленький кожаный мешочек на стол Люсилио, ловко распорол его кинжалом, из него он извлек кольцо, которое надел на свой большой палец, и письмо аббата Анжоррана господину де Сюльи, с которого сорвал печать и шелк к огромному огорчению Мерседес.
Проделав это, он открыл послание и вытащил запачканную и измаранную бумагу, поцеловал ее, рассмотрел внимательно, затем, воскликнув: «Идем, матушка! Идемте, господин Жовлен!» он устремился по лестнице, вернулся в комнату маркиза, стремительно выхватил из его рук письмо, сравнил почерк и, положив все, что он имел, в руки Адамаса — письмо, кольцо и кинжал, вскочил на колени маркиза, обвил руками его шею и принялся так крепко обнимать его, что добрый месье сделался как бы задавленным на какое-то мгновение.
— Ну же, полноте! — произнес наконец Буа-Доре, немного сердитый от подобной фамильярности, каковой он не ожидал и каковая подвергала серьезной опасности его завивку, — сейчас не время для такой игры, мой добрый друг, и вы осмелились на такую вольность… Что это вы нам принесли? И почему?
Но маркиз остановился, видя залитого слезами Марио.
Мальчик поддался вдохновению, он имел доверие, но ум других не работал столь же быстро и столь же верно, как его; сомнение, страх и стыд завладели им. Он ослушался Мерседес, которая плакала и дрожала.
Люсилио посмотрел на него внимательным взглядом, который вызвал в нем робость, маркиз отверг его пылкое объятие, а ошеломленный Адамас не мог без колебания удостоверить схожесть почерка.
— Ну же, не плачьте, мое дитя, — сказал возбужденный маркиз, беря из рук Адамаса письмо своего брата и смятую истрепанную бумагу, которую принес Марио. — Что с тобой, Адамас, и почему ты так дрожишь? А что это за бумага, испачканная черным? Мой Бог! Да это же следы крови! Придвиньте свечу, Адамас, ну же!.. Ах! мои друзья! Ах, господь Бог, который на небесах! Жовлен! Адамас! Взгляните сюда! Уж не галлюцинация ли у меня? Этот почерк, это действительно почерк моего дорогого брата? А эта кровь… Ах, мои друзья! Как трудно глядеть на это… Но… Марио… откуда ты это взял?
— Читайте, читайте, месье, — воскликнул Адамас, — и вы убедитесь…
— Я не могу, — сказал маркиз, который стал бледным, — мне нужно мужество! Откуда взялась эта бумага?
— Ее нашли у моего отца, — сказал Марио, обретя храбрость, — взгляните, не то ли это письмо к вам, которое он хотел отправить. Господин Анжорран заставлял меня читать его по много раз, но на нем не было вашего имени внизу, и мы не знали, кому оно предназначалось.
— Твой отец! — повторял маркиз, как бы выходя из грез, — твой отец!..
— Читайте же, месье, — воскликнул Адамас, — и вы убедитесь.
— Нет, не сейчас, — сказал маркиз. — Если это сон, который мне снится, я не желаю, чтобы он кончался. Позвольте мне представить, что этот красивый ребенок… Иди же сюда, малыш, в мои объятия… А ты, Адамас, читай, если можешь, я же не в состоянии!
— Я сам прочитаю, я знаю его наизусть, — сказал Марио, — следите глазами.
«Месье и горячо любимый брат,
Не обращайте внимание на письмо, которое вы получите от меня после этого, и которое я писал вам из Генуи, датированное шестнадцатым числом будущего месяца, предвидя долгое и опасное отсутствие, которое могло вас встревожить, я пожелал успокоить вас предварительным письмом и таким образом предотвратить ваши попытки разыскать или просто осведомиться обо мне в этой стране, где я и желал бы, чтобы мое отсутствие не было вовсе замечено.
Поскольку, слава Богу, мне здесь более счастливо, чего я не ожидал, рассчитывая на трудности и опасности, я хочу вас с этого дня информировать о моих похождениях, которые я наконец могу рассказать вам, ничего не скрывая и не утаивая, сохранив, однако, подробности для очень скорого и очень желанного момента, когда я буду рядом с вами вместе с моей достойной и любимой женой, и если Бог это позволит, с ребенком, который в скором времени появится на свет!
Сегодня вам достаточно знать, что, тайно женившись в прошлом году в Испании на красивой и знатной даме, вопреки воле ее семьи, я должен был покинуть ее по причине службы моему принцу, и вернуться не менее тайно к ней, чтобы похитить ее от строгости ее родителей и сопроводить ее во Францию, куда мы наконец вступили сегодня при помощи предпринятых предосторожностей.
Мы рассчитываем остановиться в По, откуда я отправлю вам это письмо в ожидании того, что я сообщу вам, если будет угодно небу, о благополучных родах моей жены и где у меня будет время, которого не хватает в этот момент, чтобы рассказать вам…»
Здесь письмо было прервано какой-то непредвиденной заботой.
Оно было сложено и взято с собой в камзол путника, чтобы быть законченным и запечатанным, возможно, в По, и доверено курьеру, которые кое-как несли в эту эпоху почтовую службу в незначительных городках.
Глава двадцать четвертая
Буа-Доре очень плакал, слушая это чтение, которое устами Марио проникало еще глубже в его сердце.
— Увы! — сказал он. — Я зачастую обвинял его в забывчивости, а он думал обо мне со своего первого дня радости и безопасности! Он несомненно собирался доверить мне свою жену и своего ребенка, и я не старился бы один и без семьи! Но что же, покойся в мире на груди Господа, мой бедный друг! Твой сын будет моим и в моем горе так жестоко потерявшего тебя, я, по крайней мере, имею это утешение, ниспосланное Господом — твое живое подобие! Потому что его наружность и его изящество, мой друг Жовлен, мое сердце взволновалось с первого взгляда, который я бросил на этого ребенка. А теперь, Марио, обнимемся, как дядя и племянник, каковыми мы являемся, или, скорее, как отец и сын, которыми мы должны быть.
На этот раз маркиз уже не беспокоился о своей завивке, он горячо обнял своего приемного сына с радостью, которая сменила у него мучительные воспоминания, воскрешенные письмом.
Между тем Мерседес, которую подозрения Люсилио глубоко опечалили, сочла важным теперь заставить удостоверить правду во всех ее подробностях.
— Дай им кольцо, — сказала она Марио, — может быть, они смогут открыть его, и ты узнаешь имя своей матери.
Маркиз взял это массивное золотое кольцо и попытался повернуть, но он, человек изобретательный и знакомый со многими тайнами, никак не мог найти способ его открыть.
Ни Жовлен, ни Адамас тоже не смогли открыть кольцо, и все решили, что пока следует отступиться от этого.
— Ба! — сказал маркиз Марио, — не будем смущаться. Ты сын моего брата, вот то, в чем я не могу сомневаться. По его письму, ты принадлежишь к роду более знатному, чем наш, но нам нет нужды знать твоих испанских предков, чтобы нежно любить тебя и радоваться тебе!
Тем временем Мерседес все плакала.
— Что с этой бедной мавританкой? — спросил маркиз Адамаса.
— Месье, — отвечал тот, — я не понимаю, что она сказала мэтру Жовлену, но я хорошо вижу, что она боится, что не сможет остаться подле своего ребенка.
— А кто ей в этом помешает? Неужели я, который обязан ей такой радостью и благодарностью? Подойди, славная мавританская девушка, и проси у меня чего хочешь. Если вам нужен дом, земля, стада, слуги, видеть доброго мужа по вашему вкусу, у вас все это будет, или я потеряю свое имя!
Мавританка, которой Марио перевел эти слова, отвечала, что она не просит ничего, кроме как возможности работать, чтобы жить, но в месте, где она сможет видеть своего дорогого Марио каждый день.
— Согласен! — сказал маркиз, протягивая ей обе руки, которые она покрыла поцелуями. — Вы останетесь в моем доме, и если вам нравится видеть моего сына в любое время, вы сделаете мне приятное, потому что никакая другая женщина, кроме вас, не сможет заботиться о нем так хорошо, как его холили вы. А теперь, мои друзья, поздравьте меня с великим утешением, которое ко мне пришло, и которое, вы это знаете, Жовлен, сообразуется во всех частях с предсказанием.
Вслед за этим он обнял Люсилио и даже, в первый раз в своей жизни, верного Адамаса, который записал золотыми буквами этот славный факт на своих дощечках.
Затем маркиз взял на руки Марио, поставил его на стол посередине комнаты и, отойдя на несколько шагов, принялся его рассматривать, словно прежде не видел.
Это была его собственность, его наследник, его сын, самая большая радость в его жизни.
Он оглядел его с головы до пят, улыбаясь со смесью нежности, гордости и ребячества, как будто он был картиной или великолепным предметом меблировки; и поскольку он уже чувствовал себя отцом и не хотел вызывать смешное тщеславие в этом благородном ребенке, он сдержал свои восклицания и только сиял большими черными глазами, сверкал зубами в широкой улыбке, поворачивая с готовностью голову направо и налево, словно желая сказать Адамасу и Люсилио: «Что! Каков мальчик, какова наружность, какие глаза, какая осанка, какая миловидность, какой сын!»
Два его друга разделяли его радость, а Марио переносил испытание с нежным и уверенным видом, будто бы, говоря им: «Можете меня рассматривать, вы не найдете во мне ничего плохого», и, казалось, говоря старику в отдельности: «Ты можешь любить меня из всех твоих сил, я тебе за это хорошо отплачу».
И когда экзамен был закончен, они снова обнялись, как будто хотели проявить в одном этом объятии все объятия, которых детство одного и старость другого были лишены.
— Видите, мой большой друг, — сказал маркиз Люсилио в своей радости, — не надо насмехаться над прорицателями, потому что это по звездам они нам предсказывают нашу судьбу. Вы качаете вашей хорошей и большой головой? Вы думаете все-таки, что наша планета…
Славный маркиз попытался изложить некую систему на свой манер, где астрономия, которой он восхищался, была немного подкреплена астрологией, которой он восхищался еще более, если бы Люсилио не прервал его запиской, где он просил сообщить ему о способах раскрыть убийство его брата.
— А вот в этом вы весьма правы, — сказал Буа-Доре, — и псе же в этот день ликования, не похожий ни на какой другой, мне нелегко думать о каре. Но я должен и, если вам угодно, мы обсудим это вместе. — Ну-ка, Адамас, пойди и скажи господину де Виллареалю, что прошу извинить меня за опоздание к ужину, и в особенности мы не дадим знать пока никому в доме о великом возвращении утраченного, случившемся с нами… Иди же, мой друг… Что ты там делаешь? — добавил он, глядя на Адамаса, который смотался в большое зеркало, оправленное в раму золотого плетения, делая при этом странные гримасы.
— Ничего, месье, — ответил Адамас, — я изучаю мою улыбку.
— И с какой же целью?
— Не кстати ли будет, месье, чтобы я сделал злодейскую физиономию, разговаривая с этим мерзавцем?
— Нет, мой друг, чтобы так думать, нужно лучше изучить случившееся, а это мы и будем делать.
В этот момент Клендор постучал в дверь.
Он сообщил от имени господина де Виллареаля о недомогании и желании не покидать своей комнаты.
— Это к лучшему, — сказал маркиз Адамасу, — я пойду нанесу ему визит. После чего мы начнем расследовать его дело между нами.
— Вы не пойдете один, месье, — сказал Адамас. — Кто знает, не притворство ли эта болезнь и не устроит ли этот мерзавец, предупрежденный своим сознанием, какую-нибудь ловушку для вас?
— Ты говоришь вздор, мой дорогой Адамас. — Если он убил моего бедного брата, то, конечно, он не знал его имени, поскольку он общался со мной без беспокойства.
— Но взгляните на этот кинжал, дорогой хозяин! Вы еще не видели этого доказательства…
— Увы! — сказал Буа-Доре. — И ты думаешь, что я могу хладнокровно его разглядывать?
Люсилио посоветовал маркизу увидеть своего гостя, прежде чем что-либо прояснится, чтобы быть вполне спокойным, скрывая от него свои подозрения.
Адамас позволил маркизу пойти, но проскользнул за ним до двери испанца.
Д'Альвимар действительно был болен. У него случались нервные мигрени, очень сильные, которые вызывали приступы гнева.
Он поблагодарил маркиза за его заботу и умолял его не беспокоиться о нем. Ему ничего не было нужно, кроме диеты, тишины и отдыха до следующего дня.
Буа-Доре поручил Беллинде тайно наблюдать за тем, чтобы у гостя всего хватало, и он воспользовался этим визитом, чтобы рассмотреть лицо старого Санчо, на которого он еще не обращал внимания.
Длинный, худой и мертвенно-бледный, но костистый и сильный, старый свинопас сидел в глубоком проеме окна, читая при последнем свете дня аскетическую книгу, с которой он никогда не расставался и которую не понимал. Произносить губами слова этой книга и машинально читать наизусть по порядку, таким было его главное занятие и, казалось, его единственная радость.
Буа-Доре украдкой наблюдал то за хозяином, распростертым на постели с удрученным видом, то за слугой, спокойным, суровым и набожным, монашеский профиль которого выделялся на оконном стекле.
«Это не разбойники с большой дороги, — подумал он. — Что за черт! Этот молодой человек, белый и тонкий, на вид добрый, как барышня… Правда, недавно он сердился на цыган, и вчера, когда он выступал против мавров, у него не было такого благодушного вида, как обычно. Но этот старый оруженосец с бородой капуцина, читающий свою набожную книгу с такой сосредоточенностью… Правда, никто не походит так на порядочного человека, как мошенник, который знает свое ремесло! Итак, моего вторжения тут недостаточно, надо взвесить факты».
Он вернулся во флигель, который был предназначен целиком для его апартаментов, каждый этаж состоял из одной большой комнаты и одной поменьше: на первом этаже столовая с буфетной для обслуживания, на второй — гостиная и будуар, на третьем — спальня владельца замка и еще один будуар, на четвертом — большой зал, так называемый Зеленый зал[96], тот, который Адамас украшал порой именем зала правосудия, на пятом — свободные и незаконченные апартаменты.
В пристройке, присоединенной сбоку от этого небольшого здания, находились комнаты Адамаса, Клендора и Жовлена, сообщаясь с комнатами большого дома: так без насмешки простодушно называли в деревне маленький особняк маркиза.
Он нашел всех своих собравшимися в Зеленом зале и только тогда он вспомнил, что мавританка посреди общего возбуждения получила доступ в его комнату. Он был признателен Адамасу перенести заседание за пределы его убежища. Он видел Жовлена, занятого записыванием, и не желая беспокоить его, он сел и ознакомил с письмом, адресованным аббатом Анжорраном господину де Сюльи, с целью довести его до обнаружения семьи Марио.
Это письмо было написано немного времени спустя после смерти Флоримона, господин Анжорран еще не знал о смерти Генриха IV и о том, что де Сюльи в немилости. Это была копия, которую аббат сохранил и передал Марио с письмом, недописанным Флоримоном. Это письмо аббата, или, скорее, эти мемуары содержали очень точные подробности убийства фальшивого разносчика, такие, которые аббат получил из уст Мерседес и подтвержденные разными признаками.
Во всем этом ничто не разоблачало мнимую виновность д'Альвимара и его слуги. Убийцы остались неизвестными. Один и другой, это правда, были описаны довольно точно в свидетельских показаниях мавританки, отраженных в этих мемуарах, но эта женщина, которая теперь уверяла, что узнала их, могла вполне ошибаться, и ее обвинения было недостаточно, чтобы осудить их.
Каталанский нож, орудие преступления, сопоставимый с тем, который дал Марио, был доказательством более убедительным. Эти два оружия были если не одинаковые, то по крайней мере столь похожие, что на первый взгляд их едва можно было различить один от другого. Буквы и девиз были выполнены одной рукой и лезвия одного изготовления.
Но Флоримон мог быть убит оружием, украденным у господина де Виллареаля или потерянным им.
Ничто не доказывало, что оба кинжала принадлежат этому иностранцу.
И наконец буквы, виденные Марио, Мерседес и Адамасом на другом оружии испанца, могли не быть его, поскольку в итоге он был представлен Гийомом под именем Антонио де Виллареаль.
Глава двадцать пятая
Справедливый Буа-Доре громко высказывал свои размышления Адамасу, когда Жовлен дал ему лист, на котором он только что закончил писать.
Это был короткий рассказ о том, что произошло утром в Ла-Мотт-Сейи, между Лорианой, испанцем и им: нож злобно метали неоднократно, чтобы запугать или прервать, затем вонзили в утробу волчонка и наконец передали как залог в знак повиновения и раскаяния мадам де Бевр прямо на глазах у Жовлена.
— В таком случае это становится серьезным! — произнес маркиз, все более погружаясь в задумчивость. — И я вижу в Виллареале очень злого человека. Однако, возможно, это оружие не являлось его собственностью десять лет назад, и что он получил его потом в дар или в качестве наследства. Возможно, он родственник или друг убийцы, негодяи и подлецы встречаются и в самых лучших семьях. Как и у вас, мэтр Жовлен, у меня плохое мнение о нашем госте, но я уверен, что вы, как и я, хорошенько подумаете прежде, чем вынести приговор на основе этих доказательств.
Люсилио сделал знак, что согласен и посоветовал маркизу постараться заставить убийцу признаться в хитро подстроенной и неожиданной для него ситуации.
— Вот о чем мы подумаем тщательно, — сказал Буа-Доре, — и вы мне в этом поможете, мой большой друг. Пока что мы должны идти ужинать, и поскольку мы будем одни среди своих, мы можем доставить себе радость поесть с нашим маленьким будущим маркизом.
— И все же, месье, если вы мне доверяете, — сказал Адамас, — мы оставим еще сегодня вещи как они есть. Беллинда — злой бич, и я нахожу, что она очень дружит с домом священника, кухней плохих замыслов против всех нас.
— Ну же, Адамас, — сказал маркиз, — что же произошло такого обидного между домом священника и тобой?
— Знаете, месье, что и я тоже обращаюсь к помощи магии. Сегодня утром, едва вы уехали, как некий Ла-Флеш, несомненно тот цыган, которого вы видели днем в Ла-Мотт, рыскал вокруг замка и предлагал рассказать мне о хорошем событии. Я отказался: я страшно боюсь предсказаний, и я сказал, что зло, которое должно к нам прийти, приходит к нам дважды, если мы о нем знаем заранее. Я довольствовался тем, что спросил у него, кто украл у меня ключ от шкафа с напитками, и он мне ответил, не раздумывая.
— Та, которую вы подозреваете.
— Назови ее, — настаивал я, хорошо зная, что это была Беллинда, но желая испытать знание этого ловкого пройдохи.
— Звезды мне это запрещают, — отвечал он, — но я могу вам сказать, что делает в момент, когда мы разговариваем, лицо, которое вы не любите. Она находится у приходского священника, где она насмехается над вами, говоря, что вы вбили в голову владельца этого замка жениться на молодой госпоже…
— Замолчите, Адамас, замолчите, — воскликнул стыдливо маркиз, — вы не должны повторять всякую ерунду!..
— Да нет же, месье, нет, я ничего не говорю, но желая знать, правду ли сказал чародей, когда он ушел, я отправился туда, как если бы прогуливался вдоль дома священника, где я увидел Беллинду в окне с экономкой, которые обе смотрели смеясь и надо мной тайком издевались.
Жовлен спросил, входил ли этот цыган в замок.
— Он очень хотел, — сказал Адамас, — но Мерседес, которая видела его из кухни, не показываясь ему, меня умоляла не впускать его, говоря, что он предрасположен к воровству, и я не позволил ему войти во двор. Он осмотрел дверь с большим волнением, и поскольку я спросил у него, что он там видит, ответил мне:
— Я вижу, большие события скоро произойдут в этом доме, такие большие и такие удивительные, что я должен сообщить об этом вашему хозяину. Дайте мне поговорить с ним.
— Вы не сможете, — сказал я ему, — его нет дома.
— Я это знаю, — ответил он. — Он в Ла-Мотт-Сейи, где я попытался видеть его, но, поскольку я там не мог поговорить с ним без свидетелей, я пришел сюда и поистине, если вы мне еще откажете войти, вы будете сожалеть об этом дне, потому что судьбы находятся в моих руках.
— Все это замечательно, — сказал простодушно маркиз. — Событие, о котором он мне предсказал, оно уже произошло, и я теперь сожалею, что не расспросил его прежде. Если он вернется, Адамас, приведите его ко мне. — Не скажете ли вы мне, мой дорогой Марио, что это умный парень?
— Очень забавно, — ответил Марио, — но моя Мерседес не любила его. Она считала, что это он украл у нас печать моего отца. Я так не думаю, потому что он помогал нам искать ее и требовал ее у других цыган. Казалось, он нас очень любит, и он делал все, о чем мы его просили.
— А что было на той печати, мое дорогое дитя?
— Герб. Подождите! Господин аббат Анжорран рассматривал его через стекло, которое позволяет видеть большим, потому что это было так мелко, что ничего не различалось, и он мне сказал:
— Запомни так: от серебра к зеленому дереву.
— Это так, — сказал маркиз, — это герб моего отца! Это был бы и мой герб, если бы король Генрих не сочинил бы мне другой на свой лад.
— И один, и другой, — написал Люсилио, — вырезаны на двери внутреннего двора. Спросите мальчика, видел ли он их, когда пришел сюда.
— А как он мог их видеть? — воскликнул Адамас, который прочитал слова Люсилио в то же время, как и его хозяин. — Каменщики, которые ремонтировали арку, установили сверху свои леса!
— А сегодня утром, — продолжал писать Люсилио своим карандашом, — когда цыган рассматривал эту дверь, он мог видеть гербы?
— Да, — ответил Адамас, — гербы были освобождены, и каменщики работали в другом месте. Гербы подновили… Но, как я думаю, мэтр Жовлен, этот Ла-Флеш должен знать что-нибудь из истории нашего дорогого мальчика, поскольку они вместе странствовали?
— Я не думаю, — сказал Марио, — мы никогда никому ни о чем не говорили.
— Но вы говорили об этом с Мерседес? Ла-Флеш знает арабский язык? — написал Люсилио.
— Нет, он знает испанский, а я с Мерседес всегда говорил на арабском.
— А в таборе этих цыган не было кого-нибудь еще из мавров?
— Была маленькая Пилар, которая понимала по-арабски, потому что она дочь мавра и цыганки.
— Итак, — написал Люсилио маркизу, — откажитесь от веры в сверхъестественное. Ла-Флеш хотел воспользоваться обстоятельством. Он знал до определенной степени историю Марио, он узнал вашу в стране, о вашем пропавшем брате десять лет назад. Он украл печать. Он узнал герб на двери. Он сопоставил даты. Он угадал, предчувствовал или предположил всю правду. Он отправился в Ла-Мотт, чтобы сообщить вам свое предсказание, которое он заставил выучить наизусть маленькую цыганочку. Сегодня вечером или завтра он принесет вам печать, думая, что он один распутает тайну, которую вы теперь знаете, и рассчитывает на крупное вознаграждение. Это жулик и интриган, ничего больше.
Нелегко было маркизу признать объяснения такие естественные и такие очевидные, однако он подчинился.
Адамас еще боролся.
— А как вы объясните, — обратился он к Люсилио, — то, что он мне рассказал о Беллинде и доме священника?
Люсилио ответил, что с большим удовольствием. Беллинда подслушивала накануне у дверей комнаты маркиза, Ла-Флещ подслушал утром у двери или под окнами кюре.
— Вы трезво обо всем рассуждаете, — воскликнул маркиз, — и я вижу теперь, что нет тут никакой другой магии, кроме воли святого провидения, которое привело с этим ребенком истину и радость в мой дом. А теперь ужинать! И у нас сразу же будет ясный ум.
На этот раз маркиз ужинал быстро и без удовольствия.
Он чувствовал себя выслеживаемым Беллиндой, которая не имела больше возможности подслушивать в потайном коридоре, поскольку Адамас воспользовался присутствием каменщиков в доме и велел днем замуровать коридор, но любопытная и недоброжелательная Беллинда отметила долгие беседы маркиза и Жовлена с Мерседес и малышком, закрытые двери при этих разговорах, и особенно важный и торжествующий вид Адамаса, каждый взгляд которого, казалось, говорил: «Вы ничего не узнаете!»
Она не была настолько сообразительна, чтобы догадаться, что произошло. Она думала, что маркиз, давая продолжение своим матримониальным намерениям, готовит с «египтянами» увеселение для маленькой вдовы.
Здесь не было ничего, что могло бы сослужить ей пользу против Адамаса, личного врага, но она испытывала против него и против мавританки ревность и только искала случая отомстить им.
Когда Буа-Доре был один с Жовленом, они согласовали и составили план действия на завтрашний день против д'Альвимара.
Письмо господина Анжоррана было внимательно перечитано и обсуждено. Затем славный Сильвен, который не любил погружаться в серьезные и грустные дела, велел позвать своего наследника и провел вечер, болтая и играя с ним. Его восхищала прелесть детства, и в этом он действительно был похож на своего дорогого государя Генриха IV, не думая ему подражать.
— Вот что, — сказал он Адамасу, когда увидел, что сон утяжелил шелковые веки Марио, — нужно вернуть мавританку, чтобы она еще эту ночь позаботилась о нем. Но завтра, когда мы прольем свет на дело этого Виллареаля и больше не будет надобности утаивать правду, я хочу, чтобы мой наследник имел свою постель в будуаре моей комнаты. Иди, мое дитя, — сказал он Марио, — посмотри это маленькое гнездо, все золото и шелк, которое ждет только благородного господина, такого как вы! Вам нравится эта шелковая ярко-розовая обивка и эти маленькие предметы обстановки, инкрустированные перламутром? Не кажется ли вам, что они предназначены для особы вашего роста? Нужно будет, Адамас, устроить постель, которая будет шедевром. Что ты скажешь о квадрате на витых колоннах из слоновой кости с большим букетом розовых перьев в каждом углу?
— Месье, — сказал Адамас, — когда мы успокоимся, я направлю свой ум на этот вопрос, чтобы вас удовлетворить, потому что ничего нет слишком красивого для вашего наследника. И мы подумаем также об его одежде, которая должна быть соответствующей его положению.
— Я уже думал об этом, Адамас, я уже думал! — воскликнул маркиз, — и я хочу, чтобы его гардероб был во всем похож на мой. Ты позовешь ко мне лучших портных, белошвеек, сапожников, торговцев шляпами и перьями — самых искусных в стране, и в течение месяца я хочу, чтобы перед моими глазами, день и ночь, если необходимо, трудились над экипировкой моего племянника.
— А моей Мерседес, — сказал Марио, прыгая от радости, — ей тоже дадут такие красивые платья, как у Беллинды?
— И у Мерседес будут красивые платья, платья из золота и серебра, если такова твоя фантазия… И это заставляет меня задуматься… Послушайте, дорогой Жовлен, мне кажется, что эта женщина красива и еще молода. Не полагаете ли вы позволить ей здесь надеть снова костюм мавританки, который очень галантен за исключением вуали, которая чересчур исламская? Раз это славное создание настоящая христианка в данный момент, и раз мы живем в стране, где народное никогда не рассматривалось как мавританское, этот костюм не будет шокировать ничьих взглядов и порадует наши. Что на этот счет говорит ваша мудрость?
Мудрость Люсилио позволяла ему понять, что исправить этого старого ребенка невозможно, следует примириться и любить его таким, каков он есть.
Философ желал бы для начала новой судьбы Марио не тревожить его столькими украшениями и роскошью, а лучше бы объяснили его новые обязанности, которые он должен выполнять.
Он утешился, заметив, что ребенок меньше упивается обладанием вещей, чем радуется и умиляется выражениям расположения и ласкам, обращенным к нему.
На другой день д'Альвимар, который не спал ночь, попросил через Беллинду, которая охотно ухаживала за ним, разрешения не появляться раньше полудня.
Маркиз нанес ему еще один короткий визит и был поражен, как исказились черты его лица. Под ударом ужасных предсказаний, которые были ему сделаны, ему виделись кошмары.
Наконец дневной свет дал войти надежде в его душу и он продремал часть утра.
Глава двадцать шестая
Маркиз воспользовался этой отсрочкой, чтобы вернуться к своему плану относительно туалетов.
Он поднялся с Марио и Адамасом в незанятый зал, который был на пятом этаже, то есть над Зеленой комнатой.
Этот незаконченный зал предлагал беспорядок сундуков и шкафов. Когда висячие замки и крышки были подняты и створки раскрыты, Марио показалось, что он очутился в волшебной сказке. Здесь были блестящие ткани, ослепительные галуны, ленты, кружева, перья и украшения, богатые обивочные материалы, кожи из Кордовы, разобранная мебель совсем новая и готовая к сборке, шкатулки, заполненные драгоценными камнями, превосходная живопись на стекле, которая лишь ожидала соединения, прекрасные мозаики из эмали, пронумерованные в штабелях, штуки тонкого полотна, громадные гипюровые гардины, решетки из золота и серебра, наконец комплект трофеев, которые маркиз рассматривал как законно приобретенные с оружием в руках.
Эта груда доспехов называлась в доме склад, чулан. Предполагалось, что здесь сохраняется избыток предметов меблировки, негодные вещи, обрезки.
Адамас один был посвящен в содержимое этих удивительных сундуков и называл все в этом зале сокровище или аббатство.
Здесь имелись не модные безделушки, как в комнатах маркиза, но предметы искусства или промышленности огромной ценности и великой красоты, некоторые очень старые и от этого более ценные: ткани, способ изготовления которых был уже утерт, оружие всех видов и из всех стран, некоторые хорошие картины и драгоценные рукописи и т. д.
Все это редко видело дневной свет, маркиз опасался возбудить алчность некоторых соседей и не давал выходить своим богатствам из склада, кроме как мало-помалу и с правдоподобием недавнего приобретения.
Среди всех этих чудес маркиз выбирал то, что годилось для экипировки Марио, который был привлечен выражать свое мнение и вкус относительно цвета.
Буа-Доре тем временем выбирал материалы и отдавал распоряжения Адамасу, который должен был разбирать предметы у него на глазах.
В отношении туалета Адамас имел способность. Можно было положиться на него, и в случае надобности он удачно справлялся с этой работой.
Колонны и карнизы из слоновой кости, предназначенные для постели мальчика, были найдены после некоторых поисков.
— Я отлично знал, что здесь есть что-то в этом духе, — сказал маркиз, улыбаясь. — Эта превосходная работа относилась к парадному балдахину в часовне аббатства Фонтгомбо, где я был аббатом, то есть господином по праву завоевания в течение двух недель. Когда я завладел им, я вспоминаю, что сказал себе: «Если новый аббат Фонтгомбо может скоро стать отцом, это будет балдахин, достойный его первенца!» Но, увы, мой друг, я не унаследовал ничего из добродетелей монахов, и мне понадобилось, чтобы заиметь сына,найти его чудом в моем зрелом возрасте. Не важно! От этого он стал мне только дороже, и он будет спать своим ангельским сном под покровом Девы из Фонтгомбо.
Воспоминания маркиза были прерваны приходом Ла-Флеша, желающего поговорить с ним.
Тщательно были закрыты сундуки и двери сокровищницы, и плута решили принять на заднем дворе.
Стояла хорошая погода, и Жовлен придерживался мнения не пускать в дом интригана такого сорта.
Расчет Жовлена был верен. Ла-Флеш принес печать, которую он увидел в руках маленькой Пилар, он хотел также раскрыть тайну рождения Марио и убийства Флоримона господином де Виллареалем.
Ему дали выговориться, а когда он закончил, его выпроводили, дав ему экю за труд, который он совершил, чтобы принести печать, но сделали вид, что ничего не поняли в его истории, не поверили ему и сочли, что очень плохо, что он позволил обвинить господина де Виллареаля, против которого в действительности нет другого доказательства, кроме как волнения и восклицаний мавританки, когда она подумала, что узнала его в вересковых зарослях Шампилье.
В этом маркиз по совету Люсилио действовал мудро. В случае, если бы он принял обвинение, Ла-Флеш был вполне способен предупредить испанца, с тем чтобы извлечь из этого двойную выгоду.
Ла-Флеш, сильно недовольный своим фиаско, удалился, повесив голову, а когда он шел вдоль наружной стены сада Галатеи, он услышал, что его зовет нежный голос.
Это был Марио, которого маркиз не хотел допускать к этой беседе, желая, чтобы все отношения между его наследником и цыганом были прерваны безвозвратно. Мальчик не думал ослушаться его, но поскольку ему ничего не объяснили, он проскользнул в лабиринт и подле маленькой бойницы, выходившей в сторону деревни, подстерегал уходящего цыгана.
— Кто меня зовет? — спросил тот, оглядываясь.
— Это я, — сказал Марио. — Я хочу, чтобы ты сообщил мне новости о Пилар.
— И что ты мне дашь за это?
— Я ничего не могу тебе дать, у меня ничего нет!
— Глупец! Укради что-нибудь!
— Нет, никогда. Так ты ответишь мне?
— В свое время, сначала ты мне ответь. Что ты делаешь в этом замке?
— Играю.
— Ах, ты не хочешь говорить? Прекрасно. Прощай!
— Но ты не сказал мне, где Пилар?
— Она умерла, — грубо ответил цыган и удалился, насвистывая.
Марио напрасно звал его. Когда цыган ушел и уже больше не были слышны его шаги, мальчик убежал в лабиринт, пытаясь внушить себе, что Ла-Флеш посмеялся над ним. Но мысль о смерти его маленькой подруги страшно возвышалась в его живом воображении.
— Она говорила, что Ла-Флеш бьет ее, — размышлял он, — но я не верил этому. При нас он не бил ее. Но, возможно, она говорила правду; может, когда он ее бил, то и убил.
И думая об этом, мальчик лил слезы. Пилар не была столь приятной особой, но в добром Марио уже было нечто от Буа-Доре, он был чрезвычайно расположен к состраданию, к тому же аббат Анжорран воспитал в нем отвращение к насилию и жестокости. Но он скрыл слезы, боясь огорчить своего дядю, которого он уже страстно любил.
Д'Альвимар наконец вышел из своей комнаты.
Полученный отдых, прекрасное заходящее солнце, радостное пение дроздов прогнали мрачные предчувствия, осаждавшие его несколько дней.
Одетый и надушенный, он отправился к маркизу и поблагодарил его за участие, которое он проявил, и заботу, которой он был окружен. Буа-Доре не мог решиться обвинить в душе этого человека еще такого молодого, со столь изящной осанкой, с лицом, которое привычная грусть делала поистине интересным. Но когда они направились за стол ужинать, увидев Люсилио, бывшего там, как обычно, чтобы музицировать, Буа-Доре вспомнил об их уговоре и резюмировал то, что он называл «механизм осады», чтобы грозно штурмовать совесть своего гостя.
Он много воевал и пережил много опасных приключений, чтобы уметь сохранять манеру держать себя и выражение лица, не испытывая нужды, как Адамас, делать предварительную подготовку перед зеркалом. Хотя он уже долгое время жил спокойно, чтобы не вынуждать себя больше отступать от своего природного благодушия, он был слишком человеком своего времени, чтобы уметь говорить на свое усмотрение в случае надобности двадцать раз на дню:
«Да здравствует король! Да здравствует Лига!»
Чудесное музицирование немого избавляло д'Альвимара поддерживать банальный разговор, который казался ему затянувшимся.
Эта музыка, которая раньше могла настраивать его на спокойствие, в котором он нуждался, вызывала на сей раз у д'Альвимара лихорадочное возбуждение.
Он решительно возненавидел Люсилио. Он знал его имя, вырвавшееся при нем у маркиза, и после этого разоблачения господин Пулен, который был весьма в курсе современных ересей, догадался почти с уверенностью, что Жовлен было вольным толкованием Джовеллино. Обстоятельство, при которых он стал калекой, укрепляли его в этом подозрении, и он уже заботился о способе убедиться в этом и вызвать на него какое-нибудь новое гонение.
Д'Альвимар охотно бы ему в этом посодействовал, если бы не был вынужден некоторое время держаться в стороне, и бедный философ был ему все более антипатичен. Его прекрасная музыка, которой он был очарован в первый день, казалась ему теперь нестерпимой бравадой.
После ужина маркиз предложил ему партию в шахматы в будуаре своей гостиной.
— С большой охотой, — ответил он, — но при условии, что там не будет музыки. Я не могу играть при этом отвлечении.
— И я тоже, разумеется, — сказал маркиз. — Уберите ваш сладкоголосый инструмент в футляр, мой славный мэтр Жовлен, и идите смотреть спокойную битву. Я знаю, что вы принимаете участие в хорошо разыгранной партии.
Они прошли в будуар и нашли там великолепную шахматную доску из хрусталя, вмонтированную в золото, превосходные кресла и много зажженных свечей.
Д'Альвимар еще не был в этой маленькой комнате, одной из самых роскошных в большом доме, он бросил рассеянный и быстрый взгляд на безделушки, которыми она была заполнена, затем уселся, и игра началась.
Глава двадцать седьмая
Маркиз, очень спокойный и учтивый, казался полностью поглощенным игрой.
Стоя позади него, Люсилио мог наблюдать малейшее движение, малейшее изменение выражение лица испанца, хорошо освещенного свечами.
Д'Альвимар играл довольно находчиво и решительно.
Буа-Доре, более медлительный, долго раздумывал над следующим ходом, в это время испанец нетерпеливо рассматривал окружающие предметы. Его взгляд естественно неоднократно возвращался к этажерке, располагавшейся слева от него и совсем рядом с ним около стены. Мало-помалу предмет более всего рассматриваемый среди безделушек, размещенных на этой маленькой этажерке, привлек и сосредоточил на себе его внимание, и Люсилио заметил у него ироническую усмешку и досаду всякий раз, когда его взгляд останавливался на этом предмете.
Это был нож, обнаженный и блестящий, помещенный на черную бархатную подушечку с золотой бахромой и накрытый стеклянным колпаком.
— Что это? — спросил наконец маркиз. — Вы мне кажетесь рассеянным! Вы в плену, мессир, и я не хочу очка, поскольку вы так хорошо играли. Что-то вам мешает или беспокоит вас. Вы слишком близко от этой этажерки, хотите, отодвинем от нее стол?
— Нет, — ответил д'Альвимар, — мне очень удобно; но признаюсь, что этот прекрасный предмет меблировки содержит некую вещь, которая меня занимает. Будьте добры ответить мне на один вопрос, если вы не сочтете его бестактным?
— Вы не можете задать вопрос, который был бы таковым, мессир. Спрашивайте, пожалуйста.
— В таком случае я спрашиваю вас, дорогой маркиз, как это произошло, что вы имеете здесь, под стеклом, лежащее с победоносным видом на подушечке походное оружие вашего покорного слуги?
— О, вы в этом заблуждаетесь, мой гость! Этот нож попал ко мне не от вас!
— Я знаю, что я вам его не давал, но я знаю, что он был вручен вам, исходя от меня, и это случайность, которую вы, возможно, не знаете. Я понимаю, что всякий дар прекрасной руки кажется вам драгоценным, но я нахожу, что вы очень нечувствительны к бедному гостю, так выставлять напоказ трофей вашей победы перед глазами отвергнутого соперника.
— Ваши слова для меня загадка!
— Ах, если бы мне это померещилось! Позвольте мне поднять это стекло и рассмотреть поближе.
— Смотрите и трогайте, мессир, после чего я вам расскажу, если вы этого пожелаете, почему эта реликвия любви и печали находится здесь среди стольких других вещей, напоминающих прошедшие времена.
Д'Альвимар взял нож, внимательно поглядел на него, потрогал и вдруг положил туда, откуда взял его.
— Я ошибся, — сказал он, — и прошу вас извинить меня. Это вовсе не то, что я думал.
Люсилио, который внимательно наблюдал за ним, казалось, что он видел, как задрожали от страха его изящные ноздри. Но это легкое искажение лица происходило у него по малейшей причине и даже иногда без причины.
Он вернулся к игре.
Но Буа-Доре прервал его.
— Простите меня, — сказал он, — но, кажется, вы узнали этот предмет, и это мой долг расспросить вас: возможно, вы сможете пролить какой-то свет на таинственное происшествие, которое, случившись давно, мучит и волнует меня. Не могли бы вы сказать мне, господин де Виллареаль, знаком ли вам девиз и инициалы, выгравированные на этом клинке? Желаете взглянуть на него еще?
— Это бесполезно, господин маркиз, я не знаю этого предмета, он мне никогда не принадлежал.
— Испытываете ли вы отвращение к себе, утверждая это?
— Отвращение? Почему вы меня об этом спрашиваете, мессир?
— Сейчас объясню, может быть, вы узнали это оружие, принадлежащее кому-нибудь, кому вы стыдитесь быть соотечественником, и имя которого, однако, вы скажете мне, если я призову к вашей верности?
— Если вы делаете из этого серьезное дело, — ответил д'Альвимар, — хотя я, в свою очередь, не понимаю вас, я хочу еще раз хорошенько посмотреть.
Он снова взял нож, рассмотрел его с величайшим спокойствием и сказал:
— Он изготовлен в Испании, оружие очень распространенное у нас. Нет знатного лица или просто свободного звания, который не носил бы подобный в своем поясе или в рукаве. И девиз один из самых банальных и самых распространенных: «Я служу Богу», или «Я служу своему хозяину», или «Я служу чести»; вот что написано на большинстве нашего оружия, которое есть рапиры, пистолеты или тесаки…
— Очень хорошо, но эти две буквы С.А., похожие на личный вензель?
— Вы могли бы найти их и на моем собственном оружии, так же, как и этот девиз, это марка фабрики в Саламанке.
Буа-Доре чувствовал, как его подозрения рассеиваются при таком естественном объяснении.
Люсилио же, напротив, почувствовал, как растут его подозрения. Он находил д'Альвимара слишком старающимся предотвратить объяснения, которые могли бы от него потребовать о его собственном девизе и его собственных инициалах, которые считались неизвестными.
Он дотронулся до колена маркиза, притворившись, что он гладит Флориаля, и предупредил его так не отступать от своего расследования.
Д'Альвимар, казалось, сам помогал ему в этом, спрашивая с некоторым видом оскорбленной гордости причину этого допроса.
— Вы могли бы также спросить меня, — ответил Буа-Доре, — по какой причине предмет, на который мне страшно смотреть, находится тут перед моими глазами все время. Знайте же, сударь, этим проклятым оружием был убит мой брат, и я его не прячу с единственной целью беспрестанно напоминать себе, что я должен найти его убийцу и покарать его смертью.
Лицо д'Альвимара выразило сильное волнение, но это могло быть волнение сочувственное и благородное.
— Вы правы, называя его скорбной реликвией, — сказал он, отодвигая нож. — Так это о вашем брате вы говорили вчера утром, когда справлялись у этих египтян, вы спрашивали их, когда и как он был убит?
— Да, я спрашивал то, что хорошо знал, желая проверить их знание дела, и действительно диявол, сидящий в девочке, мне ответил так верно, что я был этим поражен. Вы не заметили, мессир, что она сделала подсчет, который поместил событие в десятый день мая 1610 года?
— Я не следил за подсчетом. И именно в этот день ваш брат действительно был убит?
— В тот самый день. Я вижу, что вы очень изумлены?
— Изумлен? Я?.. Почему я должен быть изумлен? Я думаю, что прорицатели не раскрывают прошлого, помимо того, которое они знают. Но скажите мне, прошу вас, как произошло это печальное событие? И вы так и не узнали виновников?
— Вы правы, говоря о виновниках, потому что их было двое… двое, кого я очень хотел бы раскрыть. Но вы мне в этом не поможете, как я вижу, потому что это обвинительное оружие не имеет никакой особой приметы.
— И при случившемся не было свидетелей?
— Простите меня, они были.
— И они не могли сообщить вам, кто это совершил?
— Они могли их описать, но не назвать. Если эта горестная история вас интересует, я могу рассказать вам ее со всеми подробностями.
— Конечно, я принимаю участие в ваших огорчениях и я вас слушаю.
— Хорошо же, — сказал маркиз, отодвигая шахматную доску и придвигая свой стул к столу, — я расскажу вам все, что я получил из расследования, которое мне было сообщено кюре из Урдоса.
— Урдоса? Откуда вы взяли Урдос? Я не припоминаю…
— Это место вы должны были проезжать, если вы путешествовали по дороге на По.
— Нет, я приехал во Францию по дороге на Тулузу.
— Тогда вы его не знаете. Я вам сейчас опишу. Знайте сначала, что мой брат, будучи простым дворянином среднего достатка, но из почтенной семьи, благородной наружности, приятного нрава и галантный мужчина, встретил в одном из городов Испании, каком, не знаю, даму или девицу знатного происхождения и стал ее мужем, тайно обвенчавшись с ней вопреки воле ее семьи.
— Как ее звали?..
— Я не знаю этого. Все это было сердечным делом, в которое я не был посвящен и которого я не смог раскрыть впоследствии. Я только знаю, что он похитил свою подругу, и что оба они, переодевшись в бедных людей, направлялись во Францию, куда они въехали по дороге из Урдоса. Дама была на последних днях беременности, они ехали в маленькой повозке бедного внешнего вида, что-то вроде повозки разносчика, запряженной одной лошадью, купленной по дороге, и которая ехала не очень быстро при их нетерпении.
Однако они благополучно добрались то последнего испанского этапного пункта, где, проведя ночь на дурном постоялом дворе, мой брат соизволил захотеть поменять испанское золото на французское золото и попросил похожего на дворянина человека. Этот человек смог предложить ему лишь маленькую сумму, а когда мой брат садился в свою повозку со своей спутницей в плаще и вуали, на постоялом дворе приметили, что оба незнакомца уделили этому внимание, наблюдая за двумя сундучками, которые он погрузил туда сам, один содержал его золотые и серебряные монеты, а другой — драгоценности его жены, и что они тут же уехали, отправившись за ними следом, хотя заявляли о намерении ехать в противоположную сторону. Эти самые мерзавцы привлекли к себе внимание так, что не оставалось сомнения, когда описывались убийцы моего брата.
— Ах! — сказал д'Альвимар, — так вам описали их?
— Отлично. Один из них имел красивую внешность и был столь молод, что казался юношей. Он был среднего роста, но очень стройный. У него были белые маленькие руки, как у женщины, пробивающаяся черная борода, шелковистые волосы, внушительный благородный вид, довольно богатый дорожный костюм, мало или совсем не было запасной одежды, потому что его чемодан ничего не весил, хороший андалузский конь и этот гнусный нож, который служил ему и чтобы есть, и чтобы убивать. Другой…
— Это неважно, мессир. Ваш брат?..
— Я должен описать вам другого вора, так, как мне его описали. Это был мужчина в возрасте, похожий и на монаха, и на бретера. Длинный нос спускался на седеющие усы, туманный взгляд, мозолистые руки, неразговорчивый характер, настоящее животное Испании…
— Как вы сказали, мессир?
— Животное, какие имеются в каждой стране, где думают откупиться от ада молитвами. Эти бандиты преследовали моего брата, как два свирепых волка, трусы, они следовали за добычей, на которую не осмеливались напасть, и догнали… Что с вами, мессир? Вам слишком жарко в этой маленькой комнате?
— Возможно, мессир, — ответил взволнованный д'Альвимар. — Я нахожу, что трудно дышатъ воздухом дома, где кажется, что имя Испании презираемо, как вы это делаете.
— Никоим образом, сударь. Садитесь же… Я нисколько не определяю вашу нацию виновной в падении некоторых нравов. Повсюду есть низкие люди. Если я говорю едко о тех, которые лишили меня брата, вы должны извинить меня.
Д'Альвимар, в свою очередь, извинился за свою обидчивость и умолял маркиза не прерывать свой рассказ.
— Это было, — продолжал тот, — примерно в миле от небольшого местечка под названием Урдос, когда мой брат был один со своей женой на стене из скал вдоль очень глубокой пропасти. Дорога извивалась на подъеме столь крутом, что лошадь отказалась идти в какой-то момент, и мой брат, опасаясь, что она откатится в лощину, спрыгнул на землю и быстро спустил жену, приняв ее в свои объятия. Было очень жарко, и чтобы она не страдала от солнца, он показал ей впереди тень пихт, куда она потихоньку отправилась, пока он давал передохнуть лошади.
— Так эта дама видела, как убили ее мужа?
— Нет, она свернула в небольшую горную рощу, когда это случилось. Бог хотел спасти ребенка, которого она носила, потому что, если бы убийцы ее увидели, они бы ее не помиловали.
— Так кто же мог знать, как погиб ваш брат?
— Другая женщина, которую случай привел совсем рядом за обломки скалы, и у которой не было времени позвать на помощь, так быстро было совершено ужасное убийство. Мой брат старался заставить лошадь двигаться вперед, когда его настигли убийцы. Более молодой спрыгнул на землю и обратился к нему с лицемерной учтивостью: «Ах, бедняга, ваше животное доведено до изнеможения. Не нужно ли помочь?» Старый негодяй, который следовал за ним, тоже спешился, и оба приблизились к брату, который ничего не заподозрил, и в то же мгновение свидетель, которого небо послало туда, увидел, как он споткнулся и упал во весь рост между колес, при том, что ни один крик не мог заставить думать, что ему был нанесен удар. Этот кинжал был воткнут ему в сердце до рукоятки рукой твердой и умеющей это делать.
— Итак вы не знаете кто — хозяин или слуга — нанес удар? Вы говорите, что хозяин был очень молод, трудно поверить, что это был он.
— Мне все равно, мессир. Для меня оба они негодяи, что один, что другой, потому что дворянин вел себя точно так же, как лакей. Он устремился к повозке, не имея времени взять обратно свое оружие, спеша и страстно желая украсть обе шкатулки. Он передал их своему товарищу, который укрыл их у себя под плащом, и оба они обратились в бегство, повернув обратно, подгоняемые, но не угрызениями совести или стыдом, человеческими чувствами, которые они не способны были испытывать, но страхом наказания кнутом и колесом, которые есть вознаграждение и конец такого отродья!
— Вы лжете, сударь! — воскликнул, вскакивая, д'Альвимар вне себя и бледный от бешенства. — Кнут и колесо… Вы все лжете… и вы дадите мне удовлетворение…
Он снова упал в кресло, задыхаясь и как бы сдавленный признанием, которое вырвал у него наконец приступ гнева.
Глава двадцать восьмая
Маркиз был также поражен этой выходкой, которой он не ожидал, поскольку до сих пор виновный хорошо держался и отпускал с естественным видом свои частые реплики.
Он пришел в себя первым и схватил своей длинной нервной рукой конвульсивное запястье д'Альвимара.
— Презренный человек! — сказал он ему с удручающим презрением, — вы должны благодарить небо, которое сделало вас моим гостем, потому что если бы я не дал слово защищать вас, слово, которое охраняет вас от меня самого, я бы вас разбил о стену этой комнаты.
Люсилио, опасаясь борьбы, схватил нож, оставшийся на столе.
Д'Альвимар увидел это движение и испугался. Он высвободился из руки маркиза и схватился за эфес своей шпаги.
— Будьте спокойны и не бойтесь здесь ничего, — сказал ему Буа-Доре со спокойствием. — Мы не убийцы, мы другие!
— И я нет, сударь, — ответил д'Альвимар, который казался побежденный этим достойным поведением, — и поскольку вы не хотите отступить от законов чести, я приложу все усилия, чтобы оправдаться.
— Вы оправдаться, вы! Полноте! Вы изобличены через опровержение, которое вы мне дали как доказательство, я нас презираю!
— Оставьте ваше презрение для тех, кто молча выносит оскорбление. Если бы я так поступил, вы бы меня не подозревали! Я отверг оскорбление. И я его еще раз отвергаю!
— Ах, так вы хотите все отрицать?
— Нисколько… Я убил вашего брата… как всякого другою. Я не знал имени человека, которого убил… или дал убить! Но что знаете вы о причинах, приведших меня к этому убийству? Как знать вам, не совершил ли я законную месть? Откуда знать вам, что эта женщина… имени которой вы не знаете… была моей сестрой, и мстя за честь своей семьи, я взял, как собственное добро, золото и драгоценности, увезенные соблазнителем?
— Замолчите, сударь! Не оскорбляйте память моего брата.
— Вы же сами признались, что он не был богат: откуда тогда он взял тысячу пистолей, чтобы бежать с женщиной?
Буа-Доре заколебался. Его брат по причине различия их взглядов никогда не хотел принять от него меньшую часть состояния, поскольку он считал это по справедливости как происходящее от лишения его собственной чести.
Он был вынужден удовлетвориться объяснением, что жена его брата имела право взять то, что было ее. Но д'Альвимар ответил, что семья тоже имела право рассматривать это как свое. Он энергично отверг обвинения в воровстве.
— А разве вы не злодей, — сказал ему маркиз, — если вероломно убили кинжалом дворянина, вместо того чтобы вызвать его на дуэль?
— Примите во внимание, что ваш брат был переодет, — с жаром отвечал д'Альвимар. — Вы скажете, что, видя его в одежде виллана, я не мог полагать, что могу дать убить, его, как виллана, своему слуге.
— А почему вы не сделали этого на том постоялом дворе, где вы должны были узнать свою сестру, а вместо этого преследовали его, чтобы схватить в западне?
— Вероятно, — отвечал д'Альвимар, по-прежнему высокомерный и оживленный, — что я не хотел устроить скандал и скомпрометировать мою сестру перед чернью.
— И почему же вместо того, чтобы пойти за ней, чтобы отвезти ее в семью, вы оставили ее на той дороге, где они умерла в страданиях через час без того, чтобы кто-нибудь вступился за нее?
— Мог ли я знать, что она здесь, совсем рядом от меня? Ваш свидетель не мог понять все мои слова, вопросы, которые я задавал похитителю, я не выкрикивал их на дороге. Что вы знаете, если он не ответил мне ничего более, кроме того, что моя сестра осталась в Урдосе, и если тот, кто склонил ее к бегству, не выразил готовности бежать за ней?
— И, не найдя ее в Урдосе, вы ничего не знали о ее смерти, такой достойной сожаления? И вы не заботились даже о месте ее погребения?
— Кто вам сказал, что я не знаю лучше, чем вы, сударь, все подробности этой неприятной истории? На моем месте, не имея возможности помочь ничем, стали бы вы поднимать шум в стране, где никто не мог не знать имени вашей сестры и бесчестья вашей семьи?
Маркиз, удрученный очевидностью этих объяснений, хранил молчание.
Он пребывал в задумчивости и был столь поглощен своими размышлениями, что едва ли услыхал сообщение о прибытии Гийома д'Арс, который только что был проведен в соседний салон.
Люсилио увидел, как в глазах д'Альвимара блеснула радость, или радость видеть снова друга была тому причиной, или то была только надежда избавиться от опасной ситуации.
Д'Альвимар бросился из будуара, и створки двери захлопнулись тут же между ним и его хозяевами.
Люсилио, видя, что маркиз погружен в свои тягостные думы, дотронулся до него, как бы спрашивая.
— Ах, мой друг! — воскликнул Буа-Доре, — сказать надо, что я не знаю, что решить, и что я, может быть, попался на удочку величайшего обманщика, который существует! Я пошел неправильным путем. Я выдал добрую мавританку и, возможно, также моего малыша под месть и козни опаснейшего врага, я неловкий, я предоставил доводы защиты, признавшись, что я не знаю имени дамы, и теперь, когда у него имеется правда или ложь в оправдании убийства; я не нахожусь более вправе лишить его жизни. Мой Бог! Господь Бог! Возможно ли, чтобы порядочные люди не были осуждены быть обманутыми злодеями, и чтобы во всех битвах они были бы самыми осмотрительными и в конечном счете самыми сильными!
И говоря так, маркиз, возмущенный самим собою, энергично стучал кулаком по столу, затем он встал, чтобы пойти принять Гийома д'Арса, голос которого, радостный и беспечный, доносился из соседней комнаты.
Но немой сильно схватил его за руку с нечленораздельным восклицанием.
У него был предмет, на который тот привлекал его внимание посредством удивленного и радостного лепета.
Это было кольцо, которое маркиз надел на свой мизинец, то таинственное кольцо, которое не могли открыть и которое благодаря сильному удару кулака по столу, разделилось на два круга, входящих друг в друга. Не имелось никакого подобия секрета в этом кольце. Только части соединялись очень плотно, и нужен был большой толчок, чтобы разъединить их.
Прочитать имена, выгравированные на этих двух кольцах, было секундным делом. Это были имена Флоримона и его жены. Понимание, что наконец они располагают истиной, придало им уверенности.
Маркиз быстро отдал распоряжение Люсилио и с облегченной душой и улыбающимся лицом вышел пожать руку Гийому.
Д'Альвимар и господин д'Арс имели только время обменяться несколькими словами о хорошей поездке одного и приятном удивлении другого. Однако Гийом заметил и некоторое беспокойство на лице своего друга, который сослался на мигрень накануне.
Маркиз после первых приветствий своего юного родственника хотел отдать распоряжение об ужине.
— Нет, спасибо! — сказал Гийом. — Я перекусил по дороге, пока мои лошади отдыхали, потому что мне необходимо тотчас же отправляться в путь. Вы видите, что я вернулся гораздо раньше, чем должен был. Я был предупрежден в Сен-Амане, где я вчера вместе с частью молодежи страны делал почетное сопровождение его светлости Конде, о том, что мой управляющий очень болен в моем доме. Боясь, что он умрет, этот честный человек спешно отправил курьера, чтобы уведомить меня вернуться как можно быстрее с тем, чтобы быть введенным им в курс самых важных моих дел, о которых, признаюсь, я не знаю ни слова. И вот я прибыл сюда сначала, чтобы узнать, намеревается ли господин д'Альвимар поехать со мной сегодня вечером ко мне домой, или, порабощенный в ваших садах «Астреи», он желает провести еще эту ночь в очаровании.
— Нет, — поспешно ответил д'Альвимар, — я довольно злоупотреблял вежливостью господина маркиза. Я нездоров и становлюсь угрюмым. Я желаю выехать вместе с вами в тот же час и пойду распоряжусь, чтобы срочно приготовили моих лошадей.
— Это ни к чему, — сказал маркиз, — я позвоню; я скоро буду иметь удовольствие видеть вас снова, господин де Виллареаль.
— Это я буду с завтрашнего дня ожидать ваших приказов, господин маркиз, и дам вам все объяснения, которые вы пожелаете… о партии, которую мы только что разыграли.
— О какой партии идет речь? — спросил Гийом.
— О партии в шахматы очень замысловатой, — ответил маркиз.
Адамас появился по звону колокольчика.
— Лошади и багаж господина де Виллареаля.
В то время, как он исполнял этот приказ, маркиз со спокойствием, которое заставляло надеяться д'Альвимара, что все успокоилось между ними, давал отчет Гийому о том, как он проводил время в Бриане и Ла-Мотт во время его отсутствия. Затем он расспросил его о пышных празднествах в Бурже.
Молодого человека не надо было просить рассказывать: он с большим удовольствием поведал о волнениях стрельбы или, вернее, как говорили тогда, «почтенное действие аркебузы».
Были построены стрельбища вблизи Фишо и большой павильон, украшенный гобеленами и увитый цветами для дам и барышень города. Стрелки разместились на площадке в ста пятидесяти шагах от щита. Шестьсот пятьдесят три аркебузира. Трибуде из Сансера единственный заслуживал награды, но был вынужден поделить ее с Буаро из Буржа за то, что он взял поддельное имя с тем, чтобы опередить свою очередь; что люди из Сансера очень осуждали, потому что они считали за честь доказать, что их стрелки являются лучшими в королевстве, и находили весьма несправедливым распределение наград. Это было очевидно, чтобы не вызвать недовольство людей из Буржа, что вынесли подобное несправедливое решение.
— В самом деле, — сказал Гийом, рассказывая это с пылом юности, — или Требуде выиграл, или проиграл. Если он выиграл, он имеет право на полный почет и на всю прибыль от победы. Я согласен, что он виноват, взяв вымышленное имя. Ну пусть за эту вину его накажут каким-нибудь штрафом или несколькими днями тюрьмы, но чтобы он все-таки был признан победителем в соревновании, потому что честь таланта — это святое дело и, несмотря на то, что мы не очень-то любим старых сансерских хитрецов, не было дворянина, который не протестовал бы против несправедливости, допущенной по отношению к Трибуде. Но, что вы хотите! Крупные города всегда кушают маленькие, и важные судейские крючки из Буржа присвоили бесцеремонно первенство над всеми буржуа провинции. Они бы очень охотно поступили так и со знатью, если бы им позволили это сделать! Я был удивлен, что Иссуден участвовал в соревновании. Аржантон от этого воздержался, говоря, что награда была отдана заранее и что ничего не оценится у судей из Буржа, кроме чемпионов из Буржа.
— Не думаете ли вы, что принц был впутан в эту несправедливость? — спросил маркиз.
— На это я не отвечу! Но время идет, и вот преданный Адамас явился сообщить нам, что лошади готовы, не так ли? Ну что ж, едем, дорогой Виллареаль, и так как вы обещали маркизу прибыть завтра отблагодарить его, я приглашаю себя с вами.
— Я на это рассчитываю, — продолжил Буа-Доре.
— И можете также рассчитывать, сударь, — сказал ему д'Альвимар, отвешивая низкий поклон, — что я вам предоставлю все доказательства того, что я высказал.
Буа-Доре не ответил, а только поклонился.
Гийом, торопясь отправиться в путь, не заметил, что маркиз, несмотря на свою кажущуюся любезность, воздержался протянуть руку испанцу, и что тот не осмелился его попросить коснуться руки.
Глава двадцать девятая
Как только они вскочили в седла, маркиз, обращаясь к Адамасу, сказал ему взволнованным голосом:
— Быстро, мои доспехи, шлем, оружие, коня и двух человек!
— Все готово, месье, — ответил Адамас. — Мэтр Жовлен отдал нам распоряжения, сказав, что они исходят от вас, что если господин д'Арс отправится обратно сегодня вечером, вы будете сопровождать его… Но с какой целью?
— Ты узнаешь это, когда я вернусь, — ответил маркиз, поднимаясь к себе в комнату, чтобы переодеться. — Позаботились ли о том, чтобы подготовить лошадей в маленькой конюшне, так, чтобы в тайну были посвящены только люди, которые должны меня сопровождать.
— Да, месье, я сам за этим проследил.
— И далеко ты отправляешься? — воскликнул Марио, который только что поужинал с Мерседес и вернулся в спальню.
— Нет, сын мой, я не еду далеко. Я буду здесь через дна коротких часа. Вы должны спать спокойно, и обнимите-ка меня быстро!
— О, какой ты сделался красивый! — простодушно сказал Марио. — Ты что, поедешь потом в Ла-Мотт-Сейи?
— Нет, нет. Я еду танцевать на одном балу, — отвечал маркиз, улыбаясь.
— Возьми меня, я хочу видеть, как ты танцуешь, — сказал мальчик.
— Я не могу, но потерпите, мой Купидон, потому что, начиная с завтрашнего дня, я и шагу не сделаю без вас.
Когда старый дворянин надел свой маленький шлем из желтой кожи с серебряными полосами, подбитый подкладкой или железным секретом, и украшенный длинным султаном, падающим на плечо; когда он надел свой короткий военный плащ, привязал свою длинную шпагу и застегнул под своим обвислым подбородком закрывающую шею деталь доспехов из блестящей ткани, Адамас мог посмеяться без излишней лести, что у него был внушительный вид, тем более, что волнения вечера заставили ослабнуть его румяна, его лицо было почти естественного цвета и не было женоподобным.
— Вот вы и готовы, сударь, — сказал Адамас. — А я разве не поеду с вами?
— Нет, мой друг, ты закроешь все двери моего дома и проведешь вечер с моим сыном. Если он заснет, сделай ему походную постель из двух подушек. Я хочу найти его здесь, когда вернусь, а теперь посвети мне, я хочу поговорить в салоне с мэтром Жовленом.
Он несколько раз с умилением поцеловал Марио и спустился на этаж.
— Куда вы едете и что вы решили? — говорили ему выразительные глаза Люсилио.
— Я еду в Арс, чтобы завершить расследование… А что дальше, не так ли? Потом, если это произойдет, я договариваюсь с Гийомом, чтобы злодей не смог ускользнуть, и вернусь посоветоваться с вами об остальном. Итак, до свидания, мой большой друг.
Люсилио вздохнул, глядя, как маркиз уезжает. Он казался ему поглощенным более серьезными замыслами, в которых он не признался в своей программе.
В то время, когда маркиз собирался уезжать, Гийом и д'Альвимар, последний в сопровождении Санчо, другой с четырьмя людьми охраны, направлялись довольно медленно к замку д'Арс по нижней дороге, то есть по той, которая оставляла плоскогорье Шомуаз справа и проходила довольно близко от Ла-Шатра.
Луна еще не поднялась, и лошади Гийома были очень усталые, ехать быстро было невозможно.
Д'Альвимар воспользовался этим обстоятельством, чтобы быть немного впереди со своим оруженосцем, которого он тихо спросил:
— Санчо, не забыл ли ты в Брианте что-нибудь принадлежащее мне?
— Я никогда ничего не забываю, Антонио!
— Если бы! Вы забываете кинжалы в телах людей, которых устраняете.
— Снова этот упрек?
— У меня есть основание делать его сегодня. Скажите мне, моя лошадь больше не хромает и в состоянии ли она, по вашему мнению, совершить длинный пробег этой ночью?
— Да. Что нового произошло?
— Слушайте хорошенько и постарайтесь быстро понять. Разносчик был дворянином, братом маркиза де Буа-Доре. Нож, которым вы действовали, находится в руках у этого старца, который поклялся отомстить, и мы обвинены устами не знаю какого свидетеля.
— Мавританки.
— Почему мавританки?
— Потому что египтяне всегда приносят несчастья.
— Если у вас нет другого соображения…
— У меня есть другие, я вам их выскажу.
— Да, позже. Мы подумаем покинуть эту страну без другого объяснения со старым безумцем. Я наговорил ему достаточно, чтобы заставить обрести спокойствие. Он ждет меня завтра.
— Для дуэли?
— Нет, он слишком стар.
— Но очень коварен, хотите сгнить в какой-нибудь подземной тюрьме его замка? Все равно я поеду с вами, если вы туда отправитесь.
— Я не поеду. Некое пророчество сделало меня очень осмотрительным. Когда мы будем около этого маленького городка, огни которого вы видите там, отдалитесь от эскорта, скройтесь, а спустя четверть часа возвращайтесь догнать меня, говоря очень громко, что кто-то из города передал вам письмо для меня. Я поеду до замка д'Арс как бы для того, чтобы прочитать его, и тут же, как я его будто прочту, сообщу господину д'Арс, что мне необходимо срочно уезжать. Понятно?
— Понятно.
— Тогда поджидаем господина д'Арса и не высказываем никакой поспешности.
Когда славный господин Буа-Доре, вооруженный до зубов и хорошо сидящий в седле на красавце Росидоре, преодолел пояс укреплений селения Бриант, он увидел, как Адамас верхом на хорошенькой небольшой кобыле-иноходце, очень смирной, проскользнул рядом с ним.
— Глядите-ка! Это вы, господин бунтовщик? — сказал ему маркиз тоном, которому не удалось быть гневным. — Разве вам не было запрещено следовать за мной и приказано охранять моего наследника?
— Ваш наследник хорошо охраняется, месье, мэтр Жовлен дал мне слово не оставлять его, и, с другой стороны, я не думаю, что в вашем замке он теперь подвергается какому-либо риску, поскольку враг вне его стен и мы за ним гонимся.
— Я знаю, что опасность теперь над нами, Адамас, и именно поэтому я не хотел брать тебя, старого и дряхлого, и к тому же ты никогда не был великим военным.
— Это правда, сударь, что я не люблю получать удары, но я очень люблю раздавать их, когда могу. Я больше не молод, но я все еще очень бодрый и хочу позаботиться о том, чтобы вы не угодили в какую-нибудь ловушку. Вот почему я захватил с собой еще двоих людей, которые присоединятся к нам через три минуты. Я бы с ума сошел, дожидаясь вас, ничего не зная и ничего не делая. Итак, хозяин, куда мы направляемся и как будем действовать?
— Увидишь, друг мой, увидишь! Но поторопимся. Нельзя терять времени, чтобы догнать их на полпути к д'Арсу.
Они пустились галопом, и менее чем через четверть часа стал виден Гийом и его эскорт, который продолжал двигаться очень медленно.
Луна поднялась, и оружие всадников сверкнуло в ее лучах.
Это было место, которое звалось тогда и называется теперь Ла-Рошель. Но в те времена место было очень засушливое и пустынное.
Дорога проходила по середине подъема между маленькой балкой и холмом, усеянным большими серыми камнями, среди которых росли довольно жалкие каштаны. Место пользовалось дурной славой, и суеверные крестьяне во все времена связывали большие валуны с демонами старой Галлии.
Маркиз повелел сделать остановку своему маленькому отряду, прежде чем он привлечет внимание спутников Гийома и, пришпорив коня, он направился в сторону своего молодого родственника.
Услышав приближающийся стук копыт, Гийом и д'Альвимар обернулись, первый весьма спокойно, думая, что это какой-нибудь испуганный путник, второй очень обеспокоенно и думая постоянно о предсказании, которое, казалось, начинает сбываться.
Когда Буа-Доре проезжал по левому флангу этого эскорта, Гийом не узнал его в этом военном наряде, но д'Альвимар узнал его по биению своего взволнованного сердца, и старый Санчо, предупрежденный подобным же волнением, приблизился к нему.
Их тревога почти рассеялась, когда Буа-Доре, не заговорив, опередил их. Они подумали, что все-таки ошиблись. Но когда он резко остановился, развернув своего коня, перекрыв им дорогу, они уже не сомневались, что это Буа-Доре.
Но прежде чем Буа-Доре ответил, прозвучал пистолетный выстрел, и пуля срезала шлем маркиза, который, заметив движение Санчо, быстро наклонился, крикнув:
— Гийом! Это я!
— Черт возьми! — воскликнул испуганный Гийом. — Кто стрелял в маркиза? Во имя неба, маркиз, вы не ранены?
— Нисколько, — отвечал Буа-Доре, — но я должен сказать вам, что в вашем обществе есть подлые трусы, которые стреляют в простого человека до того, как узнают, враг ли он.
— Да, разумеется, и я немедленно расправлюсь, — продолжал возмущенный молодой человек. — Жалкие негодяи, кто из вас стрелял в лучшего человека королевства?
— Не я! Не я!.. Не я! — воскликнули одновременно четыре лакея господина д'Арса.
— Нет, нет, — сказал маркиз, — никто из этих молодцов не делал подобного. Я видел того, кто стрелял, вот он!
Говоря так, Буа-Доре с ловкостью, силой и проворством, достойными его лучших дней, перерезал ударом хлыста лицо Санчо, и пока убийца подносил руки к глазам, он схватил его за воротник и, вырвав из седла, столкнул на землю и стегнул его лошадь, которая понеслась и исчезла в направлении Брианта.
В то же самое время четыре человека маркиза, услышав звук пистолетного выстрела и топот скачущей галопом лошади, нарушили его запрет и бросились на помощь.
— А вот и вы! — сказал маркиз своим людям. — Ну так арестуйте этого выбитого из седла всадника. Он принадлежит мне, так как я обладаю всеми правами на этой дороге. Он мой пленник. Свяжите его, нужно остерегаться его рук.
Глава тридцатая
В то время, как огромный каретник Аристандр, обезоружив, связывал руки ошеломленного падением Санчо, д'Альвимар наконец опомнился от изумления. Лишь мгновение он мечтал избежать роковой причастности гневу Буа-Доре, но остатки целомудрия и гордости заставили его вступиться.
— Мессир, — сказал он, — я понимаю, что вы гневаетесь на тупость этого старика, который заснул на лошади и который был разбужен кошмаром, подумав, что его атаковала банда воров. Разумеется, он заслужил наказание, но не быть же ему за это вашим узником, полностью предоставленным вашему праву сеньора, ибо только мне и мне одному надлежит его карать за оскорбление, нанесенное вам.
— Вы называете это оскорблением, господин де Виллареаль? — спросил маркиз презрительным тоном. — Но не только с вами я имею дело, но и с моим родственником и другом Гийомом д'Арс.
— Я не затрудню себя никакими объяснениями, — продолжил д'Альвимар с рассчитанной злостью, — прежде чем мой слуга не будет передан мне, если это поединок, которого вы желали…
— Гийом, выслушай меня, — сказал Буа-Доре.
— Нет, никто не станет вас слушать! — воскликнул д'Альвимар, пытаясь освободить свою лошадь, которая оказалась зажатой между лошадью Гийома и Буа-Доре.
— Господин д'Арс, я ваш друг и ваш гость, вы пригласили меня, вы обещали мне помощь и лояльность в любом поединке; вы не позволите оскорблять меня, даже члену вашей семьи. В подобном случае, именно мне вы обязаны оказать помощь и восстановить справедливость, пусть даже против вашего собственного брата?
— Я знаю это, — ответил Гийом, — так это и будет. Однако успокойтесь и позвольте высказаться господину Буа-Доре. Я знаком с ним достаточно, чтоб быть уверенным в его учтивости по отношению к вам и о его великодушии к вашему слуге. Дайте пройти вспышке гнева; я впервые вижу его таким разгневанным; и хотя он подвластен ему, я уверен, что все образуется. Полноте, полноте, мой дорогой, успокойтесь! Вы тоже в гневе, но вы моложе, а мой кухн оскорблен. Признаюсь вам, что если он подвергся малейшему оскорблению, я бы убил вашего слугу на месте, и должен был бы дать вам отчет лишь потом.
— Но, монсеньор, какого черта! — воскликнул д'Альвимар, надеясь по-прежнему избежать объясненияпричин ссоры, а в худшем случае и драки, — в чем вина моего слуги, если вам угодно? Что за причуда была у господина маркиза бежать по нашей земле не помня себя и внезапно преградить нам путь? Не могли бы вы, именно вы, выхватить ваш пистолет, чтобы крикнуть ему «стой, кто идет»?
— Несомненно, но я не стрелял бы, не дождавшись ответа. Ну же, успокойтесь. Если вы пожелали бы, я смог бы уладить недоразумение к вашей чести и удовлетворению, но не лишайте меня этой возможности из-за своей вспыльчивости.
Пока д'Альвимар продолжал резко возражать, а маркиз ожидал с величайшим спокойствием, Адамас, обеспокоенный исходом дела и действуя по своему разумению, поговорил с людьми Гийома, от них ему стало известно, что господином д'Арсом было приказано защищать д'Альвимара от челяди Буа-Доре.
Все лакеи двух лагерей были родственниками или друзьями, и никто особо не тревожился о стычках из-за любви какого-то чужеземца, виновного или подозреваемого.
Время, которое д'Альвимар надеялся выиграть своим сопротивлением, стало таким образом обстоятельством, фатально повернувшимся против него, и когда Гийом, нетерпеливый и возмущенный его упорством, отвернулся от него, чтобы удалиться, объясняясь с маркизом, д'Альвимар обнаружил, что окружен людьми последнего и, не считая челяди Гийома, оказался в меньшинстве.
Его опасения становились теперь гораздо серьезнее, и он огляделся окрест, подсчитывая немногие шансы, которые у него остались, чтобы удалиться, или по крайней мере избежать посягательств на честь или жизнь.
Однако надежда покинула его, когда он услышал Гийома, которому Буа-Доре в немногих словах только что изложил свои притязания, Гийом отказывался поверить, что не стал жертвой искаженной действительности.
— Господин де Виллареаль? — спросил он маркиза. — Это невозможно, и мне следовало бы увидеть все собственными глазами, чтобы поверить в это. Однако вы должно быть были обмануты ложными доносами, позвольте же мне защитить честь этого дворянина, и не считайте, господин и добрый кузен, что, невзирая на уважение, которое я к вам питаю, я позволю бездоказательно оскорблять и унижать друга, который находится под моей защитой. Впрочем, вы не имеете никакого права, и это дело королевского правосудия, которому подвластен каждый дворянин. Успокойте же ваши расстроенные чувства, я вас заклинаю в этом, и позвольте мне вернуться в свой дом, вы знаете, что я ненавижу отступать.
— Мои чувства не столь расстроены, — возразил Буа-Доре, величаво возвышая свой голос, — я ждал вашего ответа, мой дорогой кузен и друг. Он таков, какой дал бы и я на вашем месте, и я больше не осуждаю вас за это. Предвидя, что ваше поведение будет таковым, как оно есть, я решил согласовать собственное в соответствии с почтением, которым я вам обязан, и поэтому вы видите меня здесь, на полпути к вашему почтенному жилищу, и на земле нейтральной и общинной. У меня есть некоторые права на эту дорогу, однако, в трех шагах от обочины, у этих старых скал, я окажусь ни у вас, ни у себя. Итак, знайте же, что я решил там драться до последнего, один на один, против этого изменника, того, кто не смеет отказать мне в поединке, видя, что я задеваю его умышленно, и провоцируя через моего лакея и что я подстрекаю его и оскорбляю в этот час, обращаясь с ним перед Богом, перед вами и порядочными людьми, которые нас сопровождают, как с подлым и низким убийцей. Я не думаю, что вы могли заподозрить злой умысел в том, что я совершаю; ибо, я прошу вас отметить это, пока вы и он находились в моем поместье, я воздерживался от любого оскорбления и любой досады, в чем я клялся вам быть ему честным хозяином, и я прошу вас отметить также, что предпринял меры встретить его в открытом поле, в конечном счете, чтобы не осквернить ваше жилище, не желая ни за что на свете ставить вас перед необходимостью оказывать поддержку этому несчастному. Наконец, мой кузен, я прошу вас обдумать все, что является самой большой жертвой, какую я мог бы сделать: именно на этом место его должны были забить палками мои люди, как он того заслуживает, но я снисхожу, именно я, дворянин и отмеченный властью, помериться силами с убийцей самого гнусного рода. Без дружбы, которой вы его удостоили, я бы бросил его в застенки подземной тюрьмы, но, желая почтить вас даже в заблуждении, в котором вы находитесь на его счет, я нарушаю все привилегии чести, чтобы сразиться с ним, бесчестным и опозоренным, оружием чести. Я уже сказал, и вы не можете ни в чем мне возразить.
— Будьте его секундантом, как и любого падшего, который находится под вашим покровительством, Адамас станет моим.
— Разумеется, — воскликнул Гийом, растроганный благородством души старика, — он не мог увидеть более лояльное поведение, чем ваше, мой кузен, и это при тех подозрениях, какие вы имеете, вы проявляете незаурядное великодушие. Но эти подозрения, не будучи глубоко обоснованными…
— Дело даже не в подозрениях, — возразил маркиз, — раз вы не желаете выслушать, я вызываю на дуэль одного из ваших друзей, и я полагаю, что вы не будете упорствовать из-за подобного человека, способного отступить.
— Нет, разумеется, — воскликнул Гийом, — но я, именно я не пострадаю от дуэли, которая не приличествовала бы вашему возрасту, мой кузен! Скорее я буду драться вместо вас. Итак, захотите ли вы принять мою клятву? Я даю ее вам — отомстить лично за смерть вашего брата, если вы сумеете неопровержимо доказать, что д'Альвимар был малодушным и злобным негодяем. Подождите до завтра, и я отправлюсь защищать нашу семью, ибо это мой долг по отношению к вам.
Порыв Гийома был достоин великодушия маркиза; но Гийом, обронив намек на его возраст, больно задел его.
— Мой кузен, — сказал он, отдавая дань наивности души, которая отличалась таким смирением своих порывов, — вы принимаете меня за какого-то старого сеньора Пантолоне, с заржавленной шпагой и дрожащей рукой. Прежде чем я отброшу костыль, я прошу вас, вспомните об уважении, какое я вам выказывал, и которое не заслужило такого оскорбления, что вы нанесли мне, предлагая отмстить вместо меня за гнусное убийство моего дорогого брата. Начнем же, я полагаю, довольно слов, и я совершенно вышел из терпения. Ваш господин де Виллареаль, скорее, в этом случае мой, он, кто выслушал все это, не считая нужным сказать хоть слово!
Гийом понимал, что все расстроилось до такой степени, что любое соглашение стало невозможным и, полагая, по своему разумению, что сдержанность гораздо более свойственна д'Альвимару, повернулся к нему и живо заговорил с ним:
— Посмотрим, мой дорогой, отвечайте же; я даже не скажу ничего об этом вызове, который не обоснован, на это обвинение, которое вы не можете заслуживать.
Во время спора д'Альвимар размышлял. Он старался с самого начала выказать пренебрежительное и ироническое спокойствие.
— Я принял вызов, сударь, — ответил он, — и я не думаю, что это большая честь — принять его, будучи, как вы знаете, первым бойцом во всех видах оружия. Что до обвинения, оно так смехотворно и несправедливо, что я надеюсь, что вы сами его объясните; ибо я не знаю ничего о том, что маркиз рассказал вам обо мне, что-то шепча вам на ухо, а я требую, чтоб он повторил это громко.
— Я очень этого желаю, и не будем медлить, — заметил Буа-Доре. — Я заявил, что вы были бандитом, убийцей и вором. Вы хотите продолжать так и дальше, но именно я не намерен искать иных доводов против вас, кроме истины.
— Вы говорите мне ее с такими странными любезностями, господин маркиз! — холодно возразил испанец. — Вы уже попотчивали меня этой мрачной историей в вашем доме, где вы имели удовольствие, представив, сударь, рассказ об убийстве мною вашего брата. Эту историю, которую я не принимаю всерьез, я говорил вам уже; единственно я знаю, что я убил через моего слугу человека, одетого торговцем-разносчиком, который силой увез некую даму, о которой я вам уже сказал, что готов защищать и мстить за ее честь.
— Ах, ах! — вскричал маркиз, — таковы ваши доводы теперь? Та, что убежала с моим братом, была увезена против ее воли, и вы еще не припомните о том, что вы мне сказали, что она была вашей…
— Потише, сударь, я прошу вас… Если господин д'Арс захочет выслушать меня в двух шагах отсюда, я скажу ему, кто была эта женщина, по крайней мере вам не по вкусу оскорблять и произносить это имя перед вашими лакеями.
— Мои лакеи стоят большего, чем вы и ваши слуги, сударь! Не важно! Я очень хочу, чтобы вы поведали вашу тайну господину д'Арсу, но при мне.
Втроем они отделились от группы, и маркиз заговорил первым:
— Давайте же, — приказал он, — объяснитесь! Вы привели в свою защиту то, что эта женщина была вашей сестрой!
— А вы, сударь, — возразил д'Альвимар, — вы же претендуете сейчас потворствовать своему фантастическому исступлению, предъявляя новое разоблачение.
— Ничуть, сударь. Я требую от вас имя вашей сестры, потому что вас ведь действительно зовут Виллареаль, так, вероятно?
— А почему бы и нет, сударь?
— Потому что теперь я его знаю. Вы же осмеливаетесь говорить обратное господину д'Арсу, которого вы тоже обманули вымышленным именем!
— Никоим образом! — возразил Гийом, — господин скрывается под одним из имен своего семейства, и то, которое он носит, я знаю достаточно хорошо.
— Итак, мой кузен, я клянусь, что, если то имя, какое он назвал, — настоящее имя моей покойной невестки, то я застрелюсь здесь, принеся вам обоим извинения.
— Я же, — сказал д'Альвимар, — я отказываюсь его говорить. Я полагал, что среди дворян должно быть достаточно лишь простого слова, но вы меня оскорбляете непрерывно и неосторожно. Эта дуэль, которой вы желали, и она должна состояться согласно вашим прихотям.
— Нет, сто раз нет! — воскликнул Гийом. — Покончим с этим: и не потому, что маркизу нужно знать ваше имя, чтобы удалиться с миром, я…
— Не забывайте, прошу вас, — возразил д'Альвимар, — что вы меня подвергаете…
— Отнюдь! Мой кузен — слишком галантный человек, чтобы выдать вас вашим врагам. Узнайте же еще, маркиз, и, я предполагаю, это под защитой вашей чести, что господина зовут Скьярра д'Альвимар.
— О да! — ответил маркиз с иронией. — Итак, господин должен раскрыть свои собственные инициалы клейма выделки Саламанки?
— Что вы хотели сказать?
— Ничего! Это ложь господина, которому я сообщил мимоходом, но эта ложь так ничтожна по сравнению с ценой других…
— Каких других? Посмотрим, маркиз, вы слишком упрямы!
— Оставьте, Гийом! — сказал д'Альвимар, по-прежнему выказывая пренебрежение. — Нужно, чтобы все это завершилось ударом шпаги. Тогда мы гораздо раньше освободимся.
— Ну, ладно, — сказал маркиз, — я не так спешу! Я очень хочу узнать имя, данное при крещении и родовое имя сестры господина де Виллареаля, де Скьярра и д'Альвимара. Я знаю, что у испанцев много имен, но, если он скажет мне единственно настоящее и основное, которое носила эта дама…
— Если вы его знаете, — ответил д'Альвимар, — ваше упорное желание заставить произнести его — для меня это еще одно оскорбление.
— Э, д'Альвимар, не воспринимайте это так! — воскликнул Гийом. — Раскройте здесь ваше имя! По крайней мере не хотите же вы заставить провести здесь ночь!
— Оставьте, мой кузен, — приказал ему маркиз, — я сам назову это таинственное имя. Мнимую сестру господина де Виллареаль звали Джулия де Сандоваль.
— Пусть так, а почему бы и нет, сударь? — возразил д'Альвимар, с живостью отметив то, что, он полагал, должно было стать еще одной неслыханной оплошностью старика. — Я не желал бы его произносить, это имя. Он не соглашался мне его выдать, и я полагал, что вы его не знаете. Потому что, вы также, утверждая этот последний довод, вы представили мне одну из этих выдумок, которые вы порицаете столь решительно у других, так знайте же, что Джулия Сандоваль была дочерью моей матери и рождена от первого брака.
— Итак, сударь, — возразил Буа-Доре, сняв шлем, — я готов удалиться и даже раскаяться в своей жестокости, если вы соизволите только поклясться честью, что вы узнали вашу сестру по матери, Джулию Сандоваль, под вуалью в экипаже моего брата, на постоялом дворе в…
— Я клянусь вам ею, чтобы вас удовлетворить. Я даже видел ее без вуали на том постоялом дворе.
— И в третий раз… Простите мою настойчивость, я должен это сделать в память моего брата. В третий раз, это действительно ли Джулия Сандоваль была вашей сестрой? Кольцо, которое она носила на пальце, которое сейчас у меня и на котором это имя написано полностью, не могло ли случиться, что это ее кольцо. Вы в том клянетесь?
— Я клянусь в этом! Довольны ли вы?
— Постойте? В шатоне[97] этого кольца есть герб; лазурный гербовый щит на золотом поле. Это герб Сандовалей из вашего семейства?
— Да, сударь, именно так.
— Итак, сударь, — произнес Буа-Доре, вновь надевая свой головной убор, — я объявляю еще раз, что вы солгали, как человек без стыда и наглец, каким и являетесь, потому что я только посмеялся над вами: на кольце вашей мнимой сестры стоит имя Мария де Мерида, а герб этот — зеленое поле с серебряным крестом. Я могу представить его как доказательство.
Глава тридцать первая
Гийом был ужасно потрясен, но д'Альвимар быстро сообразил.
Ярко светившая луна не позволяла однако разглядеть крошечные буквы и микроскопические гербы, скрытые на кольце, и в то же время было невозможно, как сегодня, выстрелить наизготовку из кармана.
Не было даже необходимости переносить на другое время изучение этого доказательства. Он не пытался, как преступник, уклониться, но, напротив, искал поединка. Он опасался, что ему откажут в чести этой возможности спасения и оставят пленником маркиза или судьи.
Он стремительно отвел Гийома в сторону и рассмеялся:
— Я понимаю, — промолвил он. — Я желал быть любезным, как вы того требуете, чтобы покончить с этим и освободить вас от этого старого лунатика. Я рассказал все, что он желал бы заставить меня сказать, а теперь его блажь обрела другое направление, которому я не могу следовать. Все это по моей вине; я должен был бы рассказать вам, вернувшись от него, что он был безумен в течение двух дней, а доказательством тому его вчерашние поступки. Вам могли бы сообщить об этом: он просил руки мадам де Бевр. А весь сегодняшний день под впечатлением от смерти брата он выкидывал весьма странные фокусы, принимая за убийц то меня, то своего немого, то своего щенка. Я не сумел избежать того, чтоб он не схватил меня за горло, тешась выдумками, которые стали разменной монетой в его спектакле; но он только успокоился, увидев, что вы приехали.
— Что же вы не рассказали обо всем? — воскликнул Гийом.
— Я не хотел бы жаловаться на неприятности, которые я выносил, вы могли подумать, что я упрекаю вас в том, что меня здесь оставили. В настоящее время есть одно лишь средство покончить с этим. Позвольте мне драться с ним.
— С безумным стариком? Я не могу, чтоб он страдал.
— Ну же, Гийом, — нетерпеливо воскликнул Буа-Доре, — позволите ли вы теперь отомстить за оскорбление или же мне следует дать ему пощечину?
— Мы к вашим услугам, сударь, — ответил д'Альвимар, пожимая плечами. — Начнем же, мой дорогой, — прошептал он Гийому, — что с ним делается! Не бойтесь! Я быстро образумлю эту старую марионетку, и обещаю вам заставить его попрыгать со своей шпагой столько раз, сколько вы пожелаете. Я берусь измотать его так, что ему придется быстро отправиться в постель, а завтра мы посмеемся над этим приключением.
Гийом успокоился, увидев его таким веселым.
— Я очень рад видеть, что у вас все в порядке, — прошептал он, — но я предупреждаю вас, что, считая своим долгом состязаться в фехтовании с этим стариком, вы не проявите мужества и причините мне огромную боль. Я понимаю, что он безумец; но это лишний довод, чтобы приберечь ваши силы и отпустить его измотанным ради его болезней.
Гийом знал тем не менее, что Буа-Доре был искусен в фехтовании. Но это был старый метод, который презирали молодые люди, и он также знал, что, если маркиз еще сохранил верную руку, его колени были не столь крепки, чтобы продержаться больше двух или трех минут.
Соперники спешились, слуги остались стеречь лошадей и пленного Санчо, которого Гийом приказал не освобождать до исхода поединка, чтобы не осложнять возможным вмешательством и без того трудной ситуации.
Пока Гийом искал вместе с двумя соперниками подходящую площадку, Адамас и Аристандр с жаром шептали друг другу на ухо. Аристандр был в отчаянии, Адамас дрожал в лихорадке; но мысль, что его хозяин может стать жертвой своего великодушия, не могла прийти ему в голову. Он упивался своей уверенностью в ловкости и силе маркиза.
— Что ты задрожал, как ребенок? — спрашивал он каретника. — Разве не знаешь, что господин проглотит тридцать шесть таких, как этот испанский ветрогон? Такого не случится, чтоб разум изменил такому доблестному человеку; но плут Санчо под надежной охраной, а мы за всем приглядим, господин Гийом и я. Разве я не секундант? Господин это сказал. Ты же слышал это. Мы два верных секунданта, и мы не сделаем ни движения, ни выпада, которые были бы против правил.
— Но ты знаешь их не больше меня, эти правила поединка дворян? Слушай, я так хочу забраться повыше, чтоб никто меня не увидел, и если у противника нашего хозяина будет слишком много шансов, сбросить на него, прямо на голову, один из этих огромных камней.
— Ради этого, если б я мог рассчитывать, что ты не прикончишь господина вместе с его противником, я не стал бы тебя удерживать, как не прочь бы совершить преступление и выпустить парочку пуль ему в голову, если бы не был секундантом. Но мой хозяин зовет меня, а ты можешь успокоиться, все уладится!
Между тем площадка была выбрана, достаточно просторная и хорошо освещаемая луной.
Шпаги были измерены, Гийом исполнял обязанности беспристрастного секунданта для обоих противников, которые поклялись во всем полагаться на него; ибо согласно правилам Адамас не мог находиться там.
Поединок начался.
Несмотря на свою веру и свой энтузиазм, Адамас ощущал дрожь во всем теле; он онемел, выпучив глаза и не чувствуя пота и слез, которые текли по его лицу, трогательному и гротескному.
Гийом пристроился поодаль, чтобы самому тоже убедиться, что ничего ужасного не должно выйти из этой странной затеи. Но, когда оружие было обнажено, он почувствовал, что теряет свою уверенность, и корил себя за то, что не сумел предотвратить, любой ценой, какова бы она ни была, поединок, который с самого начала угрожал принять серьезный оборот.
Д'Альвимар обещал сохранить жизнь своему противнику и пощадить его; но, насколько свет луны смог изменить черты его лица, что злоба и ненависть появились на нем со все возрастающей силой, и его действия, жесткие и точные, не предвещали даже малейшего благоразумного или великодушного намерения. К счастью, маркиз снова успокоился, твердо стоял на ногах и держался с ловкостью, которой никто не ожидал в его положении.
Гийом не мог ничего произнести и довольствовался лишь тем, что кашлянул два или три раза, чтобы убедить д'Альвимара сдержать себя, не возбуждая обидчивости маркиза, который потерял бы голову совсем, если бы только заподозрил, что его не склонны воспринимать всерьез.
Но поединок был серьезным. Д'Альвимар почувствовал, что обрел противника менее сильного, чем он, в теории; но он ощутил тревогу и озабоченность, что и самому ему придется хуже всего, на этот раз, на практике. Он норовил пронзить его шпагой, разыгрывая оборону, но маркиз, казалось, догадался о его хитрости. Он берег свои силы.
Поединок продолжался безрезультатно. Гийом принимал в расчет усталость маркиза, не веря все же, что д'Альвимар повергнет его во прах. Д'Альвимар чувствовал, что маркиз не терял силы; он старался разозлить его обманными движениями, выжидая, что одно нетерпеливое движение заставит его забыть об удивительной осмотрительности его поведения.
Внезапно луна уплыла за огромную тучу, и Гийом хотел было вмешаться, чтобы приостановить сражение; но у него не было времени: оба противника продолжали кружить друг около друга.
Третий участник бросился к ним, рискуя быть пронзенным шпагой: это был Адамас, который совсем потерял голову и который, не зная, на чьей стороне преимущество, бросился без оружия, сломя голову, в сражение. Гийом живо оттолкнул его и увидел маркиза на коленях около живота д'Альвимара.
— Смилуйтесь, мой кузен! — воскликнул он, — смилуйтесь ради того, кем вы дорожите!
— Слишком поздно, мой кузен, — ответил маркиз, поднимаясь. — Правосудие свершилось.
Д'Альвимар был пригвожден к земле огромной рапирой маркиза: он уже скончался.
Адамас исчез.
На крик о пощаде слуги Буа-Доре поспешили на выручку. Маркиз, задыхавшийся и разбитый усталостью, прислонился к скале. Но он не ослабел и, когда луна вышла из-за тучи, присел на корточки, чтобы осмотреть и дотронуться до трупа.
— Он уже мертв! — сказал ему Гийом укоризненно. — Вы меня лишили друга, сударь, и я не могу вас поздравить; ибо ваши подозрения могли быть несправедливы.
— Я докажу вам, что они все же были обоснованы, Гийом, — ответил Буа-Доре с достоинством, которое снова возвратилось к нему, — пока же откажитесь на время от вашей озлобленности против меня и от ваших причитаний по этому злобному человеку. Когда вы узнаете правду, вы, быть может, станете упрекать себя за то, что вынудили меня рисковать моей жизнью, чтобы сохранить его.
— И что же мы теперь будем делать с этим злосчастным телом? — спросил Гийом подавленный и смущенный.
— Я не оставлю вас в беде ради моей выгоды, — ответил Буа-Доре. — Мои люди отвезут его в монастырь кармелитов в Шатре, которые совершат погребение, как они это разумеют. Я не собираюсь ни от кого скрывать поступок, который я совершил, тем более, что мне пришлось покарать убийцу. Но я не могу совершить хладнокровно грязное дело и убить Санчо, я полагаю передать его лейтенанту полевой жандармерии, чтобы его наказание было достойным. Адамас, ты будешь его сопровождать. Но где же мой верный Адамас?
— Увы! господин, — ответил Адамас глухо, — я здесь, на коленях перед вами, и слишком слаб для этого поручения.
— Итак, мой бедный друг, если ты больше ни на что не способен, мы отправим кого-нибудь другого. Я уже говорил тебе, что ты не слишком молод, чтоб подвергаться таким потрясениям!
Маркиз возвратился к лошадям, пока его люди и люди Гийома уносили труп и завертывали в плащ; пленник исчез. Никто не позаботился связать ему ноги. Воспользовавшись моментом тревоги и смятения, когда слуги, обеспокоенные исходом поединка, оставили лошадей на двоих из них, которые прилагали много усилий, чтобы удержать их, он обратился в бегство, или, вернее, он проскользнул и скрылся где-то в лощине.
— Успокойтесь, господин маркиз, — сказал Аристандр Буа-Доре. — Человек, у которого связаны руки не может ни бежать достаточно быстро, ни надежно укрыться; я обещаю вам поймать его. Я беру это на себя. Возвращайтесь к себе и отдохните; вы это заслужили!
— Не возражаю, — сказал маркиз, — мне необходимо вновь увидеть этого убийцу. Пусть двое из вас ищут его, пока с двумя другими я буду сопровождать господина д'Арса в монастырь кармелитов.
Д'Альвимара перекинули поперек спины его лошади, и люди Гийома помогли слугам Буа-Доре перевезти его.
Дорогой Буа-Доре изложил своему молодому родственнику подробности столь определенные о смерти его брата, о возвращении его племянника, обстоятельства, связанные с каталонским ножом, наконец, об обстоятельствах, связанных с предъявленным кольцом, так что Гийом не мог продолжать защищать честь своего друга.
Он признавал, что в общем и целом он знал его очень мало, связавшись с ним необдуманно, и что в Бургесе он узнал о нем, о дуэли, которой сей дворянин стремился избежать, подробности мало почтенные, если они были правдивы. Господин Скьярра-Мартиненго был бы убит, против всех законов чести, в момент, когда он требовал отложить поединок, поскольку его шпага сломалась.
Гийом не желал верить этим обвинениям; но разоблачения Буа-Доре начинали заставлять его взглянуть на них серьезнее, и он обещал отправиться в Бриант на другой же день, чтобы увидеть доказательства и познакомиться с прелестным Марио.
Глава тридцать вторая
По мере того, как убеждение входило в его сознание, Гийом вновь обретал экспансивность и дружелюбие по отношению к маркизу, равно как из чувства врожденной справедливости, которое сочеталось с природной легкостью предаваться целиком и полностью своему последнему впечатлению.
— По-моему, — говорил он ему, когда они были неподалеку от города, — вы поступили как мужественный человек, и удар, которым вы его наградили, так, что пригвоздили к земле, — один из самых удачных ударов шпагой, о каком я когда-либо слышал. Я никогда не видел ничего подобного, а когда вы мне докажете, что этот бедняга Скьярра был к тому же большим негодяем, как вы утверждаете, я не стану больше сердиться, что увидел подобное. Если бы я не был так огорчен, то выразил бы вам свое восхищение. Но в любом случае, к сожалению или удовольствию, которое я испытывал бы от этой смерти, я признаю, что вы отлично владеете клинком, и что я желал бы обладать вашей силой в подобном поединке.
Наши два всадника были уже на мосту Скабина, направляясь к воротам равелина, когда Адамас, который уже совсем совладал со своими чувствами и сделал определенные выводы, решил приблизиться к ним и попросить выслушать его.
— Не думаете ли вы, господа, — спросил он их, — что появление покойника наделает много шума в городе?
— Ну ладно, — перебил его маркиз, — ты подумал, что я желал бы укрыться от того, что отмстил за мою честь и смерть моего брата?
— Да, господин, вы должны гордиться столь прекрасным поступком, но лишь тогда, когда тело будет предано земле; ибо начнется ужасный шум из-за пустяка среди мелких обывателей, кроме того, вид дворянина, перекинутого через седло его коня, заставит широко раскрыть глаза этих мещан из Шатра. У вас есть враги, господин, а сейчас появился еще один, господин де Конде — ярый католик. Если до него дойдет, что этот испанец был погребен по обряду и с четками, если его исповедовал господин Пулен, чья гувернантка восхваляла его уже в городке Бриант как истинного христианина…
— Посмотрим, куда ты клонишь со своими историями для сплетниц, мой дорогой Адамас, — нетерпеливо произнес маркиз.
Гийом взял слово.
— Мой кузен, — сказал он, — Адамас прав. Законы против дуэли никем не уважаются; но люди злонамеренные могли бы, между тем, на них сослаться. Этот д'Альвимар имел кое-каких влиятельных друзей в Париже; и могли быть злобные доносы, время от времени, и все это можно обернуть против вас и против меня, тем более, что вы не считаетесь правоверным католиком. Подумайте еще и обо мне, не будем входить в город и постараемся избавиться от этого покойника. Вы уверены в своих людях, а я отвечаю за моих. У нас нет даже доверенных лиц ни среди служителей церкви, ни среди обывателей этого маленького городка, все самые злые языки в этой местности направлены против тех, кто сражался с лигой и служил покойному королю.
— В том, что вы говорите, есть здравый смысл, — ответил Буа-Доре, — но мне внушает отвращение повесить камень на шею покойного и бросить его в реку, как собаку.
— Э! Господин, — сказал Адамас, — да этот человек стоит того!
— Это правда, мой друг: таким образом я думал уже час; но теперь уже не питаю больше ненависти к трупу!
— Итак, господин, — сказал Адамас, — мне пришла в голову мысль, которая уладит все к лучшему: если мы повернем назад, мы обнаружим, в ста шагах отсюда, вдоль луга Шамбон, дом садовницы.
— Вот как? Мари-творожницы?
— Она очень предана господину и говорят, что не всегда была безобразной и рябой.
— Продолжай же, продолжай, Адамас, не время шутить!
— Я не шучу, господин, и я утверждаю, что эта старая дева хорошо сохранит тайну.
— А ты хочешь доставить ей неприятности и вручить покойника? Да от этого она умрет со страху!
— Нет, господин, известно, что она вовсе не одна в своем уединенном домишке. Я готов поклясться, что там мы найдем доброго кармелита, который похоронит достойно и по-христиански господина испанца в какой-нибудь яме за оградой садовницы.
— Вы слишком гугенот, Адамас, — упрекнул его д'Арс. — Кармелиты совсем не так развратны, как вы это утверждаете.
— Я же не говорю худого обо всех, мессир: я говорю о единственном, кого я знаю, и который, по крайней мере, облачен в монашескую одежду и носит четки. Это Хромой Жан, который служил господину маркизу на войне и которому господин маркиз дал возможность поступить в монастырь в качестве послушника с определенным капиталом.
— Ну! Признаюсь, совет хорош! — сказал маркиз. — Хромой Жан — человек верный и тот, кто повидал слишком много мертвенно-бледных лиц, уткнувшихся в землю на полях сражений, чтобы испугаться из-за неприятного дела, которое мы ему поручим.
— Итак, поспешим же, — сказал господин д'Арс, — потому что вы ведь знаете, что мой управляющий умирает и я хотел бы увидеть его еще раз, если еще успею.
— Езжайте, мой кузен, — разрешил маркиз, — займитесь вашими делами; а дела, оставшиеся здесь, могут быть улажены только мной!
Они обменялись рукопожатием.
Гийом присоединился к своим людям и отправился по дороге к своему поместью: маркиз и Адамас остановились в доме Творожницы, где действительно находился Хромой Жан. Он с радостью встретил своего покровителя, которого называл своим полководцем.
Известно, что послушник был доблестным воином на службе королю или сеньору провинции, и тем, о ком монастырь был вынужден позаботиться.
Большинство религиозных общин были вынуждены, по соглашению, принимать и содержать тех немногих уцелевших жертв войны, порой слишком подвижных для набожных отшельников, но порой не менее испорченных, чем они сами.
То, что он оказался среди кармелитов Шатра, историю которого мы не смогли здесь разыскать; брат-мирянин Хромой Жан с огромным трудом заставлял себя следовать установленному в монастыре порядку, но, если же он неукоснительно соблюдал часы каждодневного пропитания, то пренебрегал ими, возвращаясь на покой.
Пока маркиз объяснял ему то, что ожидал получить от его преданности и скромности, Адамас вносил тело в уединенный домик, а четверть часа спустя Буа-Доре и его люди вновь направлялись по дороге в Ла Рошаль.
Они встретили там Аристандра и его товарищей, расстроенных тем, что так и не смогли обнаружить, куда подевался Санчо.
— Итак, господин, — промолвил Адамас, — быть может, Господь так благоволит к нему! Этот преступник ни в коем случае не появится в стране, где, как известно, он был уличен и подвергся бы новым неприятностям из-за вас.
— Признаюсь, трезво рассудив, я не имею желания вершить расправу, — отвечал маркиз, — и хотел бы, чтоб он держался подальше от меня. Выдав его правосудию, я был бы вынужден рассказать, каким образом я обошелся с его хозяином, а потому мы должны в настоящий момент молчать об этом, таким образом, все и к лучшему. Я полагаю, что смерть моего дорогого Флоримона отомщена в должной мере, Мерседес даже не видела, чей удар, хозяина или слуги, оборвал его бедную жизнь; но в подобных случаях, Адамас, главный виновник и, быть может, единственный виновник тот, кто приказывает. В любом случае лакей верил, что его долг — подчиняться злонамеренному приказу, и он не мог даже действовать по своему усмотрению или воспользоваться вещами моего брата, так как он оставался лакеем, как и прежде.
Адамас не разделял потребности в отпущении грехов тому, кто своими насильственными действиями причинил страдания маркизу. Он ненавидел Санчо гораздо больше, чем д'Альвимара.
Он не считал себя очень способным, чтобы дать совет и совершить преступление; но именно он больше всего опасался увидеть графа преследуемым, и это поддерживало его мнение о нужности преследования, от которого он чуть было не отказался.
Когда они приблизились к воротам поместья Бриантов, то услышали неровный топот копыт лошади, скакавшей без узды.
Это была лошадь Санчо, которая вернулась к своему последнему ночлегу, рядом была лошадь д'Альвимара, приведенная назад в поводу. Они жалобно заржали, почти рыдающе.
— Эти бедные животные чувствуют, как в том нас уверяют люди; несчастные, вернувшиеся к своим хозяевам, — сказал маркиз Адамасу, — это разумные существа и они живут в неведении. Я вовсе не собираюсь убивать их здесь; ибо совсем не желаю иметь в своем доме ничего, что бы принадлежало этому д'Альвимару и чтоб получить хоть малейшую выгоду от вещей, оставшихся после покойного, которая осквернила бы мои руки, пусть отведут этих лошадей на десять или двенадцать лье отсюда и пусть их там выпустят на волю. И пускай этим воспользуется тот, кто захочет.
— И таким образом, — возразил Адамас, — никто не узнает, откуда они пришли. Вы могли бы отставить это на попечение Аристандра, господин. Он даже не даст соблазнить себя желанием их продать ради собственной выгоды, и сели вы мне в этом поверите, он отправится в путь в тот же час, не дав им переступить порога поместья. Это совсем ни к чему, чтоб кто-то увидел этих лошадей на вашей конюшне.
— Делай, что хочешь, Адамас, — ответил маркиз. — Это заставило меня подумать, что этот злосчастный плут должен был иметь деньги при себе, и что я должен бы подумать о том, чтобы взять их на пожертвование нищим.
— Оставьте это на попечение послушника, господин, — сказал благоразумный Адамас, — вдобавок он поищет их в карманах покойника, к тому же вы будете уверены в его молчании.
Было одиннадцать часов вечера, когда маркиз вернулся в свою гостиную.
Жовлен бросился ему в объятия. Его выразительные черты лица говорили достаточно о пережитых ужасах беспокойства.
— Мой добрый друг, — сказал ему Буа-Доре, — я обманул вас; но радуйтесь, этого человека больше нет; и я вернулся к себе домой с легким сердцем. Мое дитя, несомненно, спит в этот час: не станем будить его. Я расскажу вам…
— Ребенок не спит, — ответил немой, воспользовавшись карандашом. — Он догадался о моих страхах: он плакал, он просил и метался на своей постели.
— Пойдем успокоим это бедное сердечко! — воскликнул Буа-Доре, — но сначала, друг мой, взгляните, нет ли на моей одежде хоть малейшей капли этой злодейской крови. Я не хочу, чтоб это дитя узнало страх или ненависть в том возрасте, когда еще нет спокойствия силы.
Люсилио снял с маркиза плащ, шлем и забрал оружие, а когда они поднялись наверх, то обнаружили босого Марио на пороге комнаты.
— Ах! — воскликнул ребенок, горячо прижимаясь к огромным ногам своего дядюшки и болтая с ним с той бесцеремонностью, в которой он еще не сознавал ничего противного обычаям знати, — вот ты и вернулся? С тобой все в порядке, мой дорогой друг? Скажи, тебе не сделали ничего плохого? Я подумал, что этот злодей хотел убить тебя, и я так хотел, чтоб меня отпустили побежать за тобой! Я был так огорчен, вот! В другой раз, когда ты отправишься сражаться, мне нужно следовать за тобой, потому что я — твой племянник.
— Мой племянник! мой племянник! Этого недостаточно, — говорил маркиз, относя его в постель. — Я хочу быть твоим отцом. Тебе бы хотелось быть моим сыном? — И заодно он наклонился, чтобы принять ласки маленького Флориаля, который хорошо понимал и разделял опасения Жовлена и Марио. — Вот он, маленький друг, который больше не принадлежит мне. Знайте же, Марио, вы так хотели этого! Я дарю его вам, чтобы утешить вас в горе сегодня вечером.
— Да, — проговорил Марио, положив Флориаля на свою подушку, — я так люблю его, но ставлю условие, пусть он принадлежит нам обоим и пусть он любит нас одинаково, как одного, так и другого… Но скажи мне еще, отец: этот злой человек поплатился за все, что совершил?..
— Да, сын мой, за все, что совершил.
— А король его покарает за то, что он убил твоего брата?
— Да, сын мой, он будет наказан.
— А что же с ним сделают? — спросил Марио задумчиво.
— Я расскажу вам позже, мой сын. Подумайте только, какое счастье, что мы уже вместе.
— И никто не разлучит меня с тобой, никогда?
— Никогда!
Затем, обращаясь к немому:
— Почтенный Жовлен, разве не грустно даже помыслить изменить нежную речь этого ребенка, которая так мелодично звучит в моих ушах? Давайте позволим ему говорить мне «ты» наедине, ибо сама эта фамильярность в его устах идет от любви.
— А разве нужно было бы, что я тебе говорил «вы»? — возразил изумленный Марио.
— Да, дитя мое, по крайней мере, всегда на людях. Таков обычай.
— Ах! да, так я говорил господину аббату Анжоррану! Но ведь я люблю тебя гораздо больше, чем его…
— Ты меня уже любишь, Марио? Я так доволен этим! Но как это объяснить? Ты ведь совсем меня не знаешь.
— Все равно, я тебя люблю.
— А ты не знаешь, почему?
— Конечно! я тебя люблю, потому что люблю.
— Друг мой, — обратился маркиз к Люсилио, — нет ничего прекраснее и приятнее, чем детство! Оно лепечет, как, должно быть, ангелы говорят между собой, и их доводы, какими бы они ни были, стоят дороже, чем вся мудрость старых голов. Вы будете обучать этого херувима для меня. Вы сделаете его ум столь же прекрасным и добрым, как ваш; хотя я и не невежда, но я хочу, чтоб он знал гораздо больше, чем я. Времена уже не таковы, как на гражданской войне в годы моей ранней юности, но я верю, что дворяне должны подниматься в просвещении разума. Но постарайтесь все же сохранить те простодушные привычки, которые дала ему жизнь среди пастухов. Во истину, он представляется по натуре одним из добросердечных детей, которые должны были бегать среди цветов, очарованных рек Линьона с их светлыми водами.
Маркиз, приняв из рук Адамаса укрепляющее средство, чтобы снять усталость этого вечера, улегся и уснул счастливейшим из людей.
Во времена, когда каждый вершил правосудие сам, за неимением упорядоченной законности, и когда понятие о прощении было бы воспринято как преступная и заслуживающая презрения слабость, маркиз, хотя бы в виде исключения склонный к огромной доброте, полагал, что исполнил самый священный свой долг, и в этом он следовал мыслям и обычаям самой разумной части рыцарства.
Разумеется, в те времена никто не нашел бы и одного па тысячу дворянина, который не осудил бы или не высмеял чрезмерной романтической терпимости, которую Буа-Доре проявил во время этой дуэли.
Буа-Доре это хорошо знал, но не особенно тревожился об этом. У него было три побудительных причины, чтобы стать тем, кем он стал: врожденное чувство, затем образцы гуманности Генриха IV, того, кто одним из первых в ту эпоху питал отвращение к проливаемой без особой надобности крови. Генрих III, смертельно раненный шпагой Жака Клемана, был столь выдержан в проявлении гнева и мщения, что, готовый ответить на удар шпагой своему убийце и с радостью увидеть его мертвым, выбросил ее в окно; а Генрих IV, лично оскорбленный Шастелем, первым делом произнес: «Отпустите этого человека!» Наконец, Буа-Доре имел в качестве неукоснительного свода правил кодекса чести дела и поступки героев «Астреи».
Он находил образец для подражания в этой идеальной: поэме, в которой благородный рыцарь мстил за любовь, честь или дружбу, избегая в конце концов неприятностей. Нет необходимости слишком иронизировать над «Астреей», а следовало бы с интересом приглядеться к причинам популярности этой книги. Здесь, несмотря на множество бесчеловечных мерзостей вежливых раздоров, звучит крик о человечности, песнь невинности, мечта о доблести, которые поднимают к небесам.
Глава тридцать третья
Первой мыслью маркиза при его пробуждении была мысль о его наследнике, которого мы назовем его сыном.
Ему еще вспомнились довольно беспорядочно тяжкие события этой беспокойной ночи; но он уже позвал дорогого Марио, чтобы возобновить с ним беседу, начатую со слова «сокровище». Но он не получил ответа и уже начал тревожиться, когда ребенок, оживленный и проснувшийся до рассвета, весь напоенный прохладным ароматом утра, бросился ему на шею.
— И откуда вы идете так рано, мой милейший друг? — сказал ему старик.
— Отец, — весело ответил Марио, — я пришел от Адамаса, он запретил мне раскрывать секрет, который знаем только мы двое. Не спрашивай меня пока о нем, это сюрприз, который мы хотели тебе преподнести.
— В добрый час, сын мой. Я больше не стану спрашивать, я хочу получить сюрприз! Но не позавтракать ли нам вместе, тут, на этом маленьком столике, около моей постели?
— О! У меня нет времени, мой папочка! Мне нужно вернуться к Адамасу, который просил тебя поспать еще часок, если ты не хочешь все проспать.
Маркиз прилагал все усилия, чтобы снова заснуть, но все напрасно. Его слишком многое тревожило. Мадам де Бевр должна была приехать в этот день рано утром со своим отцом; Гийом тоже собирался быть, в случае, если его управляющему станет лучше. Распорядились ли надлежащим образом насчет обеда? Прилично ли будет представить Марио даме в его одеянии пастуха с гор? А это бедное дитя, которое не умеет ни толком поклониться, ни поцеловать руку и вымолвить три любезных словца! Все его очарование, все обаяние — не воспримут ли их с насмешкой и презрением те люди, которых голос крови делает слепыми?
Впрочем, ничего не было приготовлено, когда он договаривался об охоте. Тогда было слишком много волнений и забот, чтобы заняться этим.
— Если бы Адамас был там, ведь он — тот, кого никогда нельзя застать врасплох, он бы дал мне совет, — думал маркиз.
Он оставался в постели почти до девяти часов, и никто не приходил ему на помощь, и, наконец, голод и беспокойство всерьез охватили его.
— О чем только думает Адамас? — пробормотал он, решив подняться сам. — Мои сотрапезники должны уже приехать. Не думает ли он, что меня застанут в халате и с таким бледным лицом?
Наконец, вошел Адамас.
— О! Господин, успокойтесь! — воскликнул он. — Не думаете же вы, что я способен забыть о вас? Торопиться некуда. До двух часов пополудни у вас не будет посетителей, мадам де Бевр только что сказала мне об этом.
— Тебе, Адамас?
— Да, господин, мне, тому, кто постарался послать нарочного; чтобы дать знать, что вы готовите им огромный сюрприз, который еще не готов; я взял на себя эту небрежность, и я смиренно умолял их не приезжать до часа, который вы назначили, добавив, что вы хотели бы задержать ее у себя вдоме сегодня вечером вместе с господином ее отцом и ему только завтра выпадет удовольствие охотиться.
— Что же ты наделал, несчастный! Она решит, что я был безумен или неучтив.
— Вовсе нет, господин; она все хорошо поняла, сказав, что с вашей стороны, все случившееся стало еще одним доказательством вашей мудрости или учтивости.
— Итак, мой друг, нам придется позаботиться о…
— Ни о чем, господин, совсем ни о чем, я вам клянусь в том. Вы достаточно сделали вашим умом и вашей шпагой в прошлую ночь, но для чего же Господь оставил беднягу Адамаса на земле, если не для того, чтоб уберечь вас от мелочной суеты пустяковых дел?
— Увы, мой друг, это будет не столь просто, едва ли даже возможно в столь краткий срок сделать моего наследника представительным!
— Вы так думаете, господин? — спросил Адамас с невыразимой улыбкой удовлетворения. — Я хотел бы увидеть хоть что-то, что вы пожелали бы и что было бы невозможно! Да, действительно, это так, хотел бы я это увидеть! Но позвольте, господин, я спрошу вас, каким образом я должен буду доложить о вашем наследнике, когда он предстанет перед обществом в салоне.
— Вот это довольно затруднительно, мой друг; я уже размышлял об имени и о титуле, которые должно носить это дорогое дитя. Его отец, так же, как и мой, не имел титула; но, я так хочу, чтоб по наследству, а, если понадобится, то с разрешения короля, он унаследует мой титул, а также мое имущество, я думаю хорошо позаботиться до того времени и называть его так, как будто он является моим собственным сыном. Таким образом, в моем доме его следует называть «господин граф».
— Это несомненно, господин! Но его имя. Не хотите же вы обращаться к нему просто Бурон, к этому бедному ребенку, который достоин носить более славное имя?
— Знайте же, Адамас, что я никогда не краснел за имя своего отца, и что это имя, которое носил мой брат, мне будет всегда дорого. Но, как я хочу передать ему то, что дал мне мой король, я хочу, чтоб Марио носил его в равной степени и назывался Бурон де Буа-Доре; то, которое, согласно обычаю и в сокращенном виде, превратится в краткое — Буа-Доре.
— Как хорошо, что я услышал об этом! А теперь, господин, одевайтесь, поешьте здесь, в вашей комнате, с мальчиком; потому что зал внизу находится в распоряжении моих декораторов; а я мог бы помочь завершить ваш туалет. Только нужно сегодня подобрать одежду, которую вы прикажете подавать.
— Делай, как знаешь, Адамас, потому что ты ответствен за все!
Все время смеясь, беседуя за завтраком со своим наследником, добрый Сильвен вдруг ощутил приступ острой печали. Он старался скрыть ее от ребенка. Но, когда Адамас, объявив, что все полностью улажено, явился, чтобы его переодеть, он раскрыл ему свое сердце, пока ребенок играл и бегал по дому.
— Мой бедный друг, — обратился он к нему, — я поражаюсь тому, что избранные откровения, какие так по-родственному Беллинда расточает на меня в последние дни, могут ввести меня в ужасные неприятности.
— Что за неприятности, сударь?
— Стоит ли напоминать еще раз, Адамас, что я отдал свое сердце и свою жизнь некой прекрасной обольстительнице, именно утром того же дня, когда я вновь обрел Марио? Однако, хотя она не отказала, а только отсрочила мое предложение, но в результате всего этого я рискую… по-твоему, получить других наследников; в то время как есть это дитя, которому я хотел бы посвятить все мои дни и оставить все состояние.
— Черт возьми, господин, да я и не помыслил о таком! Но вы даже не огорчайтесь! Как я, так и вы, мы вбили себе в голову этот роковой план, но именно я сумею найти для вас выход, чтобы избежать интрига. Я об этом подумаю, господин, я подумаю об этом! А вы подумайте лучше о том, как вас приодеть и развеселить сегодня.
— Я так хочу этого. Но какой костюм ты мне принесешь теперь, мой друг?
— Ваш костюм в крестьянском стиле, монсеньор; это один из ваших самых галантных.
— Именно самый, я полагаю, галантный; мне непросто прикидываться столь доблестным, когда мой бедный Марио…
— Сударь, сударь! Позвольте мне все уладить; наш Марио будет выглядеть очень достойно.
Платье «по-крестьянски» для маркиза было сшито все из бархата и белого сатина, со щедростью украшенного золотыми галунами и восхитительными кружевами.
Белое было в те времена цветом крестьян, которые в любое время года были одеты в полотно или грубую бумазею, которые отбеливались полностью, и говорилось, что парадная одежда была в крестьянском стиле и это было в моде у самых изысканных.
Маркиз был довольно приятен в этом облачении, но это не выглядело, как стремление выглядеть молодым человеком, он был, с головы до ног, украшен такими прелестными вещицами и такими забавными безделицами, его духи были так изысканны, но, несмотря на это, во всем чувствовалась благородность старинной грации и приятной добротности в их покрое, что никто не увидел бы попытки, недостойной и надуманной, не сообразной его годам, любой испытывал лишь удовлетворение от того, что он имел приятный вид и удовольствие от того, что он умеет сохранить здравый смысл.
К двум часам мальчик на побегушках, одетый по старинной феодальной моде, предназначенной для данных обстоятельств, и поставленный на угловой сторожевой башне при въезде, затрубил в старинный рог, возвестив о приближении кавалькады.
Маркиз, сопровождаемый Люсилио, направился к той башне, чтобы приветствовать даму своих мечтаний; он страстно желал бы видеть рядом с собой своего наследника, но появление ребенка решили задержать до окончательного деликатного объяснения с мадам де Бевр.
Глава тридцать четвертая
Лориана прибыла верхом на прелестной маленькой лошадке, которую ее отец объездил для нее и которую она холила с отменной тщательностью.
Она была облачена также «по-крестьянски», в амазонке тонкого белого сукна, по всему полю покрытому галунами из шелка, и легкой волной кружев поверх неизменного вдовьего капюшона.
— О да! — вскричал грузный де Бевр, увидев одеяние маркиза, — вы уже облачились в цвета вашей дамы, мой дорогой зять?
Его дочь пыталась остановить, но, когда все вошли в гостиную, несмотря на обещания, которые он давал, воздержаться от колкостей на эту тему, он все же не удержался и живо потребовал сказать, когда же свадьба.
Вместо того чтоб быть обиженным или расстроенным, маркиз был весьма доволен этим предложением и попросил выслушать его тайно для выяснения этого чрезвычайно важного дела.
Лакеи были отосланы, двери закрыты и Буа-Доре, преклонив колена перед прелестной маленькой Лорианой, заговорил в таких выражениях:
— Дама, юная и прекрасная, вы видите у ваших ног верного слугу, для которого это огромное событие, исполненное радости и тревоги, счастья и боли, упования и опасений. Когда я предлагал, два дня назад, свое сердце, мое имя и мою судьбу, я считал себя свободным от всех других обязанностей и пристрастий. Однако…
— Неужели! мой дорогой зять! — воскликнул де Бевр, охваченный гневом и яростно сверкая глазами, — вы смеетесь над всеми, не думаете же вы, что я, тот человек, который допустит, чтобы вы отреклись от своего обещания, после того, как смертельно поразили стрелой любви сердце моей бедной дочери?
— О! Успокойтесь же, мой дорогой отец! — промолвила весело и слащаво Лориана, — вы меня компрометируете. К счастью, маркиз не поверил, что я столь капризна, что потребую прежде семи лет на размышление, теперь же мне кажется, я уже вынуждена настаивать на его слове.
— Позвольте мне сказать, — возразил маркиз, беря руку Лорианы в свою, — я знаю, моя прекраснейшая, что в вашем сердце нет и тени любви, и именно я беру на себя смелость потребовать назад свое обещание. А вы, мой сосед, посмейтесь вволю, по такому прекрасному поводу, а я посмеюсь вместе с вами сегодня, так как вчера у меня было довольно причин для слез.
— В самом деле, сосед мой, — спросил добряк де Бевр, взяв его за другую руку. — Если вы говорите серьезно, как кажется по вашему виду, я не стану больше смеяться. У вас какое-то горе?
— Говорите же, мой дорогой Селадон, — добавила Лориана сердечно, — расскажите же нам о своих печалях!
— Мои печали развеялись, и если вы сохраните свою дружбу ко мне, я буду счастливейшим из людей. Итак, слушайте, мои друзья, — произнес он, немного напряженно возвышая голос. — Вы услышали, позавчера, пророчество — «Через три дня, три недели или три месяца, вы станете отцом?»
— Ну, ладно, — сказал де Бевр, возвращаясь к своему вызывающему скуку расположению духа, — вы поверили, мой смельчак, что предсказание сбылось?
— Оно сбылось, мой сосед. И это скорее не для меня, ведь я не требовал от вас и от прелестной Лорианы семь лет ожидания и верности: все это ради моего наследника, ради моего единственного сына, ради…
Тут, обе створки двери распахнулись и Адамас с величавой осанкой провозгласил отчетливым голосом и с торжественным видом:
— Господин граф Марио де Буа-Доре!
Удивление поразило всех присутствующих; ибо даже маркиз не ожидал такого скорого появления своего сына и не знал еще, в каком наряде придется его представлять!
Какова же была его радость, когда он увидел входящего Марио, одетого «по-крестьянски», то есть в одежде, точно соответствующей по фасону и по ткани, тому облачению, в котором он был сам: камзол из сатина с множеством дырочек на рукавах, наплечник без крылышек (камзол в верхней части с эполетами, но без свисающих рукавов), на белом бархате вышивка золотом; свободные панталоны, в четыре локтя шириной, присборенные почти до колена, обшитые жемчужными пуговицами и немного раскрытыми на бортах, чтобы выпустить розочку на подвязке; шеловые чулки, с башмаками «подъемный мост», закрытый розетками, зубцы «в смятении», то есть, несколько неровных рядов с хорошо подогнанными отворотами, фетровая шляпа с перьями, повсюду бриллианты, маленькая портупея, вся украшенная жемчугом, и маленькая шпага, которая сама являлась произведением искусства!
Адамас провел целую ночь, выбирая, размышляя, подгоняя и поправляя, и целое утро — примеряя. Проворный мориск и четверо работников, поднятые до зари, с азартом шили. Клиндор проскакал десять лье, чтобы отыскать шляпу и обувь. Адамас подбирал, украшал перьями, декорировал, перекладывал, прилаживал, и наряд, со вкусом задуманный, отлично скроенный и довольно прочный, чтобы продержаться несколько дней без починки, был на диво хорош.
Марио, украшенный бантами и надушенный, как маркиз, слегка завитый и около левого уха розетка из белой тесьмы, подвешенной на пряди волос или «усе», с изяществом представился. Он носил рапиру с непринужденностью, а трогательная его красота выигрывала среди всей этой белизны, которую он дарил с простодушием молоденькой девушки.
Лориана и ее отец были так восхищены его осанкой и движениями, что невольно встали, как бы приветствуя королевского отпрыска.
Но это было еще не все. Адамас, прихорашивая своего маленького сеньора, попытался выучить с ним несколько лестных слов, выдержку из «Астреи» для Лорианы. Прочитать несколько фраз на память не было трудной задачей для смышленого Марио.
— Мадам, — произнес он с нежной улыбкой, — «невозможно видеть вас и не влюбиться, но еще более невозможно влюбиться в вас, не будучи без ума от этой страсти. Позвольте же поцеловать тысячу и тысячу раз ваши прекрасные руки, не желая, таким образом, затеряться среди умерших, которым отказано в этой мольбе, даруйте же мне…»
Здесь Марио остановился. Не понимая и не размышляя, он быстро освоился. Смысл слов, которые он произносил, показался всем сразу очень смешным: ибо он нисколько не был расположен к подобным страданиям, если бы Лориана отказала ему в поцелуе тысячу и тысячу раз, он бы не имел столь сильного желания получить его. У него появилось желание рассмеяться и он посмотрел на молодую даму, которой тоже было смешно и которая с симпатией и жизнерадостностью протянула ему обе руки.
Он воспринял этикет двора, но, повинуясь своей природной доверчивости, прижал обе руки к шее и прижимал их к обеим щекам, произнося собственную выдумку:
— Добрый вечер, мадам; я прошу вас пожелать мне добра; ведь вы кажетесь мне такой доброй и я уже очень полюбил вас.
— Простите его, — сказал маркиз, — это такое искреннее дитя…
— За это он мне так и нравится, — отвечала Лориана, — я избавлю его от всех церемоний.
— Посмотрим, посмотрим, — сказал де Бевр, — что означает, мой сосед, этот прелестный малыш, как я вижу, вы заслужили мой комплимент, но я не поверил бы вам…
Объявили о приходе Гийома д'Арса с Луисом Вильемор и молодыми Шабаннесами, которые приехали утром к нему и которым он уже рассказал о чудесном возвращении сына Флоримона.
— Так это он? — воскликнул он, войдя и взглянув на Марио. — Да, это мой маленький цыганенок. Но, как же он хорош сейчас, Бог мой, и как вы должно быть довольны, мой кузен! Ей-богу, мой дворянин! — говорил он ребенку, — у вас такая красивая шпага и такой доблестный вид! Вы сделали бы честь вашим соседям и друзьям! Вы нас сокрушите, я понимаю это, и никто не сравнится с вами. Итак, скажите же нам свое имя и давайте познакомимся; ибо мы родственники, если вам угодно, и я хотел бы услужить вам хоть в чем-то, хотя бы научить вас ездить верхом на лошади!
— О, я умею, — сказал Марио. — Я ездил уже на Скилиндре!
— На этой огромной лошади для кареты! И, скажите же мне, мой учитель, не находите ли вы его рысь вялой.
— Не слишком, — ответил Марио со смехом.
И он принялся играть и болтать с Гийомом и его приятелями.
— Ах так! — проговорил де Бевр, отводя Буа-Доре в сторону, — откройте же вашу тайну, ибо я не знаю ее. Вы можете ее нам доверить, мой сосед! Не вы же произвели на свет этого прелестного малютку! Он слишком юн для этого. Это какой-то усыновленный ребенок?
— Это мой собственный племянник, — отвечал Буа-Доре, — это сын моего Флоримона, которого вы тоже любили, мой сосед.
И он рассказал перед всеми с достоверными доказательствами историю Марио, ни разу не произнеся имени д'Альвимара или имя Виллареаля, и чтоб никто не услышал, что он обнаружил и покарал убийц своего брата.
Глава тридцать пятая
Все радостно встретили миловидного Марио, который своей врожденной добротой, своим ласковым видом и своим красивым взглядом завоевал сразу все сердца.
— Ну вот, — сказал де Бевр своей дочери, — вот вы больше и не помолвлены с нашим старым соседом, а помолвлены с его племянником, потому что, мне кажется, именно так маркизу хочется повернуть теперь дело.
— Как угодно Богу, отец! — ответила Лориана. — И если он заговорит об этом, я прошу вас притвориться, как и я, что вы согласны с этой сделкой, — добряк способен принять это всерьез.
— Он очень даже всерьез принял это, когда речь шла о нем! — сказал де Бевр. — Разница в возрасте между вами и этим маленьким мальчиком исчисляется годами, в то время, как между маркизом и вами она, скорее, могла бы измеряться четвертями столетия. Не важно, я вижу, что дорогой человек потерял понятие времени для других так же, как и для самого себя; но вот он идет к нам, я хочу позлить его немного!
Буа-Доре, от которого де Бевр настоятельно требовал объяснения, очень серьезно заявил, что это было всего лишь слово, и что, вручив свою свободу и свою веру Лориане, он рассматривает себя ее рабом, если она не вернет ему свое обещание.
— Я вам его возвращаю, дорогой Селадон! — воскликнула Лориана.
Но отец прервал ее. Он хотел подразнить и ее тоже.
— Нет уж, нет уж, дочь моя, речь идет о чести семьи и ваш отец не позволит насмехаться над ним. Я вижу, что ваш переменчивый и взбалмошный Селадон захвачен отцовской нежностью по отношению к этому красивому племяннику, и что он предпочитает в дальнейшем выступать в роли отца, не взяв на себя труд стать супругом. К тому же, я вижу также, что он замышляет передать ему все свое состояние, не принимая во внимание своих будущих детей, этого я не вынесу и этому вы должны воспрепятствовать, требуя выполнить обещание, которое он вам дал, поклявшись.
Господин де Бевр говорил столь серьезно, что какое-то время маркиз, пораженный, размышлял про себя:
«Надо думать, что мое счастье очень меня омолодило, и что мой сосед, который столько высмеивал меня, уж больше не находит меня таким старым. Зачем только чертову Адамасу пришла мысль заставить меня поступить так?»
Лориана, увидев замешательство на его лице, великодушно пришла ему на помощь.
— Месье мой отец, — сказала она, — а это вас нисколько не касается ввиду того, что наш маркиз не просил моей руки без моего сердца, и поскольку сердце мое не заговорило, маркиз свободен.
— Вот так на! — воскликнул дс Бевр. — Ваше сердце говорит вам очень громко, дочь моя, и легко видна ваша поблажка маркизу, что оно говорит именно о нем.
— Это правда? — сказал колеблющийся Буа-Доре. — Если бы я имел это участье, то тут ни до племянника, и поскольку я дал слово…
— Нет, маркиз, нет, — сказала Лориана, решившись покончить с мечтаниями старого Селадона. — Мое сердце говорит, это верно, но после определенного мгновения, после того, как я увидела вашего миловидного племянника. Судьба хочет так по причине великой дружбы, которую я имею к вам, она не сможет позволить мне обратить внимание на кого-нибудь, помимо вашей семьи и вашего подобия. Итак, это я рву наши узы и объявляю себя неверной, но я делаю это без угрызений совести, потому что тот, кого я предпочла вам, дорог вам так же, как и мне. Итак, не будем говорить больше ни о чем до тех пор, пока Марио не достигнет возраста, когда докажет некоторое чувство ко мне, если этот счастливый день должен наступить. В ожидании этого я постараюсь запастись терпением и мы останемся друзьями.
Буа-Доре, восхищенный этим решением, горячо поцеловал руку любезной Лорианы, но в это время страшная пальба заставила задрожать стекла и содрогнуться всех обитателей замка.
Подбежали к окнам. Это был Адамас, который свирепствовал из всех фальконетов, аркебуз и пистолетов своего маленького арсенала.
В то же время увидели, как во внутренний двор входят все жители поселка и все вассалы маркиза, крича во всю глотку, вместе со всеми служащими и слугами дома:
— Да здравствует господин маркиз! Да здравствует господин граф!
Эти славные люди подчинились приказу, отданному Аристандром, не зная, о чем идет речь. Но они хорошо знали, что когда их звали и замок, то возвращались они с щедрыми подарками, и поэтому они шли туда охотно.
Открыли окна гостиной, чтобы слышать речи в виде воззваний, которые Адамас выпаливал многочисленным собравшимся.
Стоя на колодце, который был закрыт, чтобы предаваться без опасности оживленной пантомиме, счастливый Адамас импровизировал красноречивую пьесу о трагической смерти господина Флоримона, заставлял проливать слезы, и поскольку Адамас вообще плакал легко и простодушно, расчувствовавшись сам собой, он был выслушиваем благоговейно даже из окон гостиной.
Возрадовались лишь при восторженности патетической радости, с которой он оповестил об обретении Марио, но деревенская аудитория не нашла в этом ничего такого.
Крестьянин понимает жест, а не слова, которые он не старался понимать; это был труд, а работа ума кажется ему вещью противоестественной. Он слушает глазами.
Однако в восторг привела заключительная часть речи, и знатоки утверждали, что господин Адамас проповедует намного лучше приходского священника.
Речь окончилась, маркиз со своим наследником и сопровождающим сошел вниз, и Марио очаровал и покорил и крестьян тоже своим приветливым обращением и своим нежным голосом.
Выполняя поручение своего отца, Марио пригласил весь поселок на большой пир на следующее воскресенье. Он это сделал, естественно, в выражениях, понятных и принятых в народе, так что Гийом и его друзья и даже республиканец де Бевр были вынуждены вспомнить, что мальчик и сам вышел из народа.
Маркиз, заметив их неодобрение, спрашивал себя, не следует ли отозвать Марио, который переходил от группы к группе, давая обнимать себя и с пылкостью возвращая ласки.
Но одна старая женщина, старейшина деревни, подошла к нему, опираясь на свою клюку, и сказала ему дрожащим голосом:
— Ваша светлость, Бог благословит вас за то, что вы добры и человечны к беднякам. Вы заставили нас забыть вашего отца, который был жесток по отношению к вам так же, как и ко всем другим. Вот ребенок, который похож на вас и который не допустит, чтобы вас забыли.
Маркиз пожал руку старухе и позволил Марио пожать руки всем.
Он предложил выпить за здоровье сына и сам пил за здоровье собравшихся в то время, как Адамас продолжал греметь своей артиллерией.
Когда толпа разошлась, маркиз заметил господина Пулена, который наблюдал происходящее, не выходя из-под маленького навеса, где он разместился, как в ложе. Маркиз отрезал ему путь к отступлению, Подойдя поприветствовать и пригласить отужинать, слегка упрекнув в том, что господин Пулен никогда не приходит.
Священник поблагодарил его с загадочной вежливостью, сказав с притворным смущением, что его принципы не позволяют ему кушать с «так называемыми».
В те времена говорили в соответствии со взглядами, которых придерживались, протестанты или так называемые протестанты. Когда говорили коротко «так называемые», это было выражением ортодоксии, которая не принимала даже идеи возможности реформации.
Это хулящее выражение ранило маркиза и, обыгрывая слово, он ответил, что у него в доме нет жениха и невесты.
— Я думал, господин и госпожа де Бевр обручены с «ошибкой Женевы», — продолжил священник с коварной усмешкой, — или они разведены по примеру господина маркиза?
— Господин священник, — сказал Буа-Доре, — сейчас не время толковать о теологии, и признаюсь, что я в этом ничего не понимаю. Один раз, два раза, хотите быть своим «с» или «без» гугенотов.
— «С» — я это уже сказал вам, господин маркиз, для меня это невозможно.
— Итак, месье, — продолжал Буа-Доре с горячностью, которую он не сумел побороть, — это когда вам угодно, но в дни, когда вы меня не считаете достойным принимать вас в моем доме, вы, может быть, соизволите не приходить в мой дом. Зачем, не желая войти туда, вы все же приходите туда, видимо, чтобы поносить тех, которые делают мне честь, находясь здесь.
Священник достиг того, что он называл надоеданием, то есть он желал разозлить маркиза, чтобы выложить ему его вину.
— Господин маркиз допустил всех жителей моего прихода на семейное празднество, так я полагаю, — сказал он, — и я был позван, как и другие. Я даже вообразил себе, что этот приятный мальчик, обретение которого отмечалось, будет нуждаться в моих услугах, чтобы быть возвращенным в лоно церкви церемонией, которой, возможно, следовало бы начать празднество.
— Мой мальчик был воспитан как настоящий христианин настоящим священником, месье! Он не нуждается ни в каком другом примирении с Богом, а что касается этой мавританки, по поводу которой вы полагаете быть столь хорошо осведомленным, так знайте, что она лучшая христианка, чем большинство людей, которые к этому стремятся. Так будьте покойны, и приходите ко мне с открытым забралом и без задних мыслей, прошу вас, или совсем тогда не приходите.
— Я искренней, господин маркиз, — отвечал священник, повышая голос, — и доказательство того, что я спрашиваю вас без уверток, где господин де Виллареаль и как произошло, что я не вижу его в вашей компании?
Эта коварная неожиданность должна была привести в замешательство Буа-Доре.
По счастью Гийом д'Арс, который приблизился к ним в этот момент, услышал вопрос и взял на себя ответ на него:
— Вы спрашиваете о господине дс Виллареале, — сказал он, здороваясь с господином Пуленом. — Он уехал из этого замка со мной вчера вечером.
— Извините меня, — продолжал священник, приветствуя Гийома с большим почтением, чем он проявил к Буа-Доре, — тогда значит это к вам, граф, я могу отправить письмо ему?
— Нет, месье, — ответил Гийом, раздосадованный такой настоятельностью. — Сегодня у меня его уже нет…
— Но если он отправился на прогулку, вы ожидаете его возвращения сегодня вечером, или завтра, или послезавтра, или позднее, думаю я?
— Я не знаю, когда он вернется, сударь, у меня нет привычки допрашивать людей. Идемте же, маркиз, вас просят в гостиную.
Он повлек Буа-Доре к де Беврам, чтобы махом оборвать расследование священника, который удалился со странной улыбкой и угрожающим смирением.
— Вы говорили о господине де Виллареале, — сказал де Бевр маркизу, — я расслышал, как упоминалось его имя. Куда же он делся, поскольку мы не видим его здесь? Он заболел?
— Он уехал, — сказал Гийом, которого эти расспросы перед многочисленными свидетелями очень беспокоили.
— Уехал, чтобы больше не вернуться? — удивилась Лориана.
— Чтобы больше не вернуться, — ответил Буа-Доре твердо.
— Тогда, — сказала она после небольшой паузы, — я очень рада.
— Вам он не понравился? — спросил маркиз, предлагая ей свою руку в то время, как Гийом шел за ней.
— Вы сочтете меня сумасшедшей, — отвечала молодая дама, — но я все-таки признаюсь. Я прошу у вас извинения, господин д'Арс, но ваш друг внушал мне страх.
— Страх?.. Это странно, другие люди говорили мне то же самое! А почему, мадам, он внушал вам страх?
— Он определенно похож на портрет, который у нас дома и которого вы, возможно, ни разу не видели… В нашей маленькой часовне! Вы его видели?
— Да, — воскликнул пораженный Гийом, — я знаю, о чем вы говорите! Он был похож на него, честное слово!
— Был похож? Вы говорите о вашем друге, как будто он умер!
Марио появился прервать эту беседу. Лориана, которая с ним уже очень подружилась, хотела дать ему руку, чтобы вернуться.
Гийом и Буа-Доре остались на мгновение одни позади общества.
— Ах, мой кузен! — сказал молодой человек старику. — Это такая неприятная штука скрывать смерть человека, как будто краснеешь от какого-то малодушия, хотя, напротив…
— Что до меня, то я больше люблю откровенность, — ответил маркиз. — Это вы приговорили меня к этому притворству, и если оно вас давит…
— Нет! нет! Ваш священник, кажется, имеет подозрения. Мы молчим пока о том, что способ, которым ваш брат был подло убит, был весьма распространен, но вы покажете доказательства всем, не называя виновных. Когда вы их назовете, все будет подготовлено, чтобы их приговорить. Но скажите мне, маркиз, знаете ли вы, где тело этого презренного человека?
— Да, Аристандр выяснил это. Брат монах помог нам.
— Но понимаете ли вы что-нибудь об этом д'Альвимаре, мой кузен? Человек столь хорошего происхождения и который проявлял такие хорошие манеры!
— Придворное честолюбие и нищета Испании! — ответил Буа-Доре. — И потом, знаете, мой кузен, мне часто приходит в мысли философский парадокс: мы все равны перед Богом, и для него нет разницы душа ли это дворянина или душа виллана. Вот точка, где популярный кальвинист, возможно, не столь уж обманывается?
— Да, да, — продолжал Гийом, — кстати о кальвинистах, мой кузен, знаете ли вы, что дела короля плохи там, и что его не принимает весь Монтобан? Я узнал в Бурже от хорошо информированных людей, что в первый же день сняли осаду и так могли хорошо изменить еще раз всю политику. Лично вы может быть немного удручены, что приходится отрекаться!
— Отрекаться, отрекаться! — сказал Буа-Доре, качая головой. — Лично я никогда ни от чего не отрекался. Я размышляю, я дискутирую сам с собой, и то, что мне кажется более правильным, я принимаю в том виде или ином. В сущности…
— В сущности вы таков, как и я, — сказал Гийом со смехом, — вас заботит только быть порядочным человеком.
Ужин, хотя очень интимный, был сервирован с неслыханной роскошью. Зал был декорирован листвой и цветами, увитыми золотыми и серебряными лентами; самые искусные золотые, серебряные и фаянсовые изделия были выставлены, кушанья и вина самые изысканные были предложены.
Пять или шесть лучших друзей или соседей прибыли к последнему удару колокола; это был еще один сюрприз для маркиза. Адамас разослал курьеров по всем окрестностям.
Во время еды музыки не было, гости говорили, и им было что сказать! Правда, каждая перемена блюд сопровождалась фанфарами во дворе.
Лориана заняла место напротив маркиза, справа от нее был Марио.
Люсилио ушел с праздника, опасаясь недоброжелательства кого-нибудь из гостей.
Через полчаса после того как они вышли из-за стола, Адамас попросил своего хозяина подняться вместе с его компанией в Зеленый зал, где им был подготовлен еще один сюрприз.
Глава тридцать шестая
Это было развлечение во вкусе эпохи, но такое, какое можно исполнять на скорую руку в небольшом помещении. В глубине зала было устроено подобие театра с богатыми коврами, заменяющими подмостки, тканями для рамки, натуральной листвой для кулис. Когда все расселись, Люсилио сыграл красивую увертюру и паж Клендор появился на сцене в костюме пастуха. Он пропел довольно красивые деревенские куплеты в стиле мэтра Жовлена, затем он приступил пасти своих баранов, настоящих ягнят, украшенных лентами и хорошо вымытых, которые вели себя довольно прилично на сцене. Флориаль, собака пастуха, играла тоже очень прилично свою роль.
Сурделина играла музыку сонливую и приятную, и под ее звуки пастух задремал. Тогда показался почтенный старец, ищущий что-то с треногой даже в карманах спящего и в шерсти баранов. У него была такая обильная борода, волосы и столь густые белые брови, что сначала не узнали, кто же исполняет эту роль, но когда он стал декламировать стихи, выражая предмет своего страдания, все разразились радостным смехом, обнаружив гасконское произношение Адамаса.
Этот безутешный старик гонялся за судьбой, которая похитила у него его юного хозяина, обожаемого ребенка его господина. Пастух, внезапно проснувшийся, спросил его, что он желает. Между ними происходит вольный диалог, где повторяется много раз одна и та же вещь, та, которая, по мнению Адамаса, имела преимущество заставить зрителя почувствовать то, что ему нравилось называть узлом пьесы.
Пастух помогал старику в его поисках, и они отправились атаковать небольшой форт, расположенный в глубине театра, этот форт был именно тем, который некогда захватил маркиз на вершине замка Сарзо, когда страшный великан, одетый фантастическим образом, оказал сопротивление их намерению. Этот великан, роль которого играл Аристандр, выражался слогами на неизвестном языке. Поскольку он объявил себя неспособным запомнить даже три слова, Люсилио, который очень хотел помочь Адамасу в постановке его сочинения, разрешил исполнителю произносить наобум бессвязные, лишенные смысла слоги; достаточно было того, что он имеет устрашающий вид и удивительный голос. Аристандр придерживался очень хорошо этого предписания, но поскольку Адамас оскорблял его и провоцировал самым активным образом, обзывая его людоедом, чудищем, страшилищем, славный великан, желая не запнуться, позволил вырваться на настоящем беррийском наречии проклятьям столь ужасным, что пришлось поторопиться убить его, чтобы воспрепятствовать негодованию собравшихся.
Эта сцена очень не понравилась Флориалю, который не был храбрым, и который с легкостью перемахнул через рампу из свечей, чтобы найти убежище в ногах своего хозяина.
Когда это чудище растянулось во весь рост от доблестной деревянной шпаги Адамаса, маленький форт обрушился как по волшебству, и стало видно появившуюся на его месте сивиллу. Это была мавританка, которой доверили прекрасные ткани Востока и которыми она была задрапирована с большим вкусом и поэзией. Она была очень красива, и ее приветствовали горячими аплодисментами.
Бедная мавританка! Выросшая в неволе и доведенная до изнеможения гонениями, счастливая затем под соломенной крышей и при очень скромной работе под защитой бедного священника, это было впервые в ее жизни, когда она видела себя богато одетой, принимаемой с любовью богатыми людьми, которые аплодировали ей за ее изящество и ее красоту без оскорбительных мыслей. Она не поняла сначала, она боялась, она хотела убежать. Но Адамасу кстати послужили пять или шесть слов испанских, которые он знал, чтобы ее успокоить и дать понять, что она нравится.
Мерседес искала глаза человека, который интересовал ее больше всех среди публики, и увидела почти рядом с собой Люсилио, который тоже аплодировал. Пламя брызгало из ее черных глаз, затем, испугавшись этой молнии счастья, в котором она не отдавала себе отчет, она опустила свои длинные ресницы, которые очерчивали бархатистые тени на знойных щеках. Ей снова зааплодировали.
Когда она воспряла духом, она запела по-арабски, после чего она дала ответы на вопросы старого Адамаса. Затем после спора в пантомиме, сопровождаемой музыкой, она обещала ему ребенка, которого он искал, при условии, что он выдержит еще испытание сражением со страшным драконом из волоченой бумаги, который прибыл в театр, извиваясь и изрыгая пламя.
Бесстрашный Адамас, решившийся на все, чтобы вернуть в отчий дом ребенка своего хозяина, устремился навстречу дракону и проткнул его своим непобедимым мечом, когда дракон порвался, как старая перчатка, и красивый Марио вышел из его утробы, одетый Купидоном, то есть в атласе розовом и золотистом с вышитыми цветами, голова его была увенчана короной из роз и перьев, лук в руке и колчан на плече.
Превращение ребенка в Купидона в чреве дракона нам непросто понять в сценарии, написанном Адамасом, но, кажется, оно было воспринято как очень приятное, потому что это появление имело самый большой успех. Марио произнес приветствие, восхваляя своего дядю и его друзей, и сивилла предсказала ему самую высокую судьбу. Затем из кустов стали появляться разные диковины: рог изобилия, наполненный цветами и конфетами, которые мальчик бросал зрителям; портрет маркиза, который Марио с благоговением поцеловал, наконец гербовые щиты, раскрашенные по транспаранту, один с гербом Бурон дю Нуайе, другой с гербом Буа-Доре, расположенные рядом под венком, откуда бил маленький фейерверк в форме сияющего солнца.
Попутно скажем несколько слов об этих гербах маркиза. Они были очень интересны, так как были придуманы лично Генрихом IV. В стиле геральдических книг их описывали так: «От устья десница, движимая золотой тучей, держащая шпагу острием вверх, возглавляемая тремя курицами с серебряными диадемами». То есть «герб на красном фоне, в середине которого правая рука является из золотой тучи, держа шпагу острием вверх по направлению к трем курицам в серебряных коронах. Вокруг герба девиз: „Все таковы предо мною!“»
Если бы кто-нибудь вспомнил, как наш славный Сильвен был произведен в маркизы, то девиз эмблемы можно было перевести так: «Перед этой рукой нет врага, который не обнаружил бы сердца курицы».
Дивертисмент был встречен аплодисментами и приветственными возгласами. Маркиз плакал от удовольствия видеть очарование своего сына и старание Адамаса. Отведали сладостей, оспаривали ласки Марио и расстались в одиннадцать часов, что было довольно поздно для деревенских привычек того времени.
На следующий день была охота на птиц. Лориана непременно хотела, чтобы Марио принял участие, она одолжила ему свою маленькую белую лошадь, которая была доброй и умной, а сама храбро поехала на Росидоре. Маркизу хватило запасного парадного коня. Охота была безобидной, как и подобало персонажам, которые были героями. Марио получил столько удовольствия, что Люсилио опасался, чтобы не подвергалась слишком большому упоению эта юная голова, и чтобы он не сделался больным или безрассудным. Но мальчик показал, что у него прекрасное телосложение, он развлекался всеми этими новыми вещами и в то же время не слишком ими упивался, при малейшем обращении к его разуму он приходил в чувство и слушался с ангельской кротостью. Его нервы не были перевозбуждены, и он входил в счастье, как в рай любви и свободы.
Ужин этого второго праздничного дня снова собрал в Брианте друзей, правда, на следующий день праздник был устроен для вассалов: пантагрюэльская еда и танцы под старыми ореховыми деревьями ограды; был устроен также, под руководством Гийома д'Арса, тир для аркебузиров. Марио предложил для ребят поселка соревнования по бегу и праще. Он показал ловкость и сноровку, которые наполнили его конкурентов восхищением. Никто не мог и мгновения помыслить оспорить у него приз, поэтому он скромно удалился с соревнований, чтобы дать возможность справедливо заработать приз другим.
Некая церемония одновременно простодушная и претенциозная, довольно умилительная по существу, завершила празднество. В центре садового лабиринта поднималась маленькая постройка, крытая соломой. Маркиз называл ее дворцом Астреи. Туда отнесли бедные одежды, грубые и залатанные, которые были надеты на Марио, когда он впервые вступил в замок своих предков. Там составили подобие сельского трофея со скромной гитарой, которая служила ему для добывания средств к существованию во время странствий, и все это развесили внутри хижины, с гирляндами из листьев и с надписью, где можно было прочитать под датой этого памятного дня эти простые слова, выбранные и каллиграфически написанные Люсилио: «Вспоминай, что ты был беден!»
В то же время Марио поднесли большую корзину, в которой лежали двенадцать новых костюмов. Их он раздал двенадцати бедным мальчикам из группы на маленьком крыльце хижины. Наконец маркиз заказал для размещения в приделе приходской церкви маленького мраморного мавзолея, посвященного памяти доброго и святого аббата Анжоррана. Люсилио сделал чертеж и сделал там запись.
Приглашенные разошлись, и в замке Бриант наступила тишина. Маркиз серьезно задумался о воспитании своего сына. Ведь то, чему его научил аббат Анжорран, он мог очень легко забыть. Счастье, что в замке находился Люсилио, который с нежным сердцем принялся обучать дитя своего друга, и не только по причине дружбы, но также и потому, что само дитя своим мягким простодушием и ясностью своего ума делало для учителя привлекательным урок, большей частью столь надоедливый и столь унылый.
Этот урок Люсилио не был, однако, легким. Он чувствовал, что обременяет душу, особенно душу бесконечно дорогую и чистую. Он хотел прежде всего дать этому юному созданию крепость веры и убеждений против бурь грядущего. Ведь они жили в столь смутное время! Разумеется, не пренебрегали приобретенными знаниями или превосходными познаниями прогресса. Это была эпоха новшеств, как говорилось, новшеств ненавистных для одних и ниспосланных провидением для других. Дискуссии были повсюду и обо всем, тогда, как и сегодня, как и вчера, как всегда, пошлость мышления полагала, что обладает непогрешимыми истинами.
Но мир сознания потерял свое единство. Умы спокойные и бескорыстные искали отныне правоту то в одном лагере, то в другом, и поскольку в обоих лагерях часто имелась нетерпимость, заблуждение и жестокость, скептицизм быстро находил выгодным для себя сложить руки и узаконивать неискоренимое ослепление и бессилие человечества.
Итак, следовало не поддаваться обстоятельствам, не верить во все те правды, которые утверждаются в мире убийствами, грабежом, насилием, мечом, костром и веревкой, а хранить в душе лишь одну-единственную правду, повинуясь собственным познаниям и здравому смыслу.
Люсилио Джиовеллино размышлял о всех этих вещах и решил следовать Евангелию, комментируемому его собственным сердцем, потому что он хорошо видел, что эта божественная книга в руках некоторых католиков и некоторых протестантов может стать и становится с каждым днем кодексом фатализма, доктрины отупления и неистовства.
Итак, он принялся учить Марио философии, истории, языкам и естественным наукам, всему вместе, стараясь сделать относящимися ко всем вещам логику и доброту Бога. Его метод был понятен и его объяснения лаконичными. Когда-то красноречивый, бедный Люсилио сначала испытывал отвращение к написанному слову, и даже еще он порой страдал от того, что вынужден ограничивать малым числом слов свою мысль, но он пришел к тому, что медлительность записей и нетерпение проявить себя вынудили и приучили его резюмировать с совершенными ясностью и энергией, и что мальчик питался от истинной сущности вещей, без ненужных подробностей и без утомительного начетничества. Уроки были удивительной краткости и несли в себе этот юный дух уверенности, столь редкий в те Бремена и не без основания.
Со своей стороны, Буа-Доре, занимающий своего сына ребячеством и ерундой, сохранял его чистым и добрым благодаря тому таинственному проникновению, которое от одного доброго характера передается другому, не думая о том и не зная того.
Когда среди своих пустых забот маркиз утруждал себя оказывать услугу или помощь, он никогда не проявлял ни досады, ни отвращения. Он поднимался, выслушивал, задавал вопросы, утешал и действовал. От природы праздный и благодушный, он не скучал от какой-либо жалобы и не выражал своего нетерпения от болтовни какой-нибудь бедной кумушки. Таким образом, желая посвятить всю свою жизнь пустякам, он вовсе не упускал моментов в этой жизни легкой и благосклонной, чтобы не доставить удовольствие или не сделать добро кому-нибудь.
Так его день всегда начинался с хороших планов работы для своего сына (он называл работой заботы о туалете и обучение хорошим манерам), и переходил в нерешение ничего, в неделанье ничего и предоставлении всех дел мудрым решениям Адамаса и приятным капризам ребенка.
Между тем по прошествии нескольких недель благодаря активности Адамаса и разуму Мерседес, удалось экипировать Марио, как знатного дворянина. Маркиз дал ему некоторые понятия о выездке и фехтовании, а также провел приятные сеансы по обучению изящным манерам. Маркиз заставлял входить и выходить десять раз подряд своего воспитанника, чтобы обучить его манере входить элегантно и учтиво в салон и выходить из него скромно и вежливо.
— Видите ли, мой дорогой граф, — говорил он ему (это был час, когда нужно было разговаривать с вежливой церемонностью), — когда дворянин проходит порог двери и делает три шага в комнату, о нем уже выносят суждение заслуженные или знатные особы, которые там находятся. Значит нужно, чтобы все его достоинства и все его качества давали о себе знать в положении его тела и выражении его лица. До сегодняшнего дня вас встречали с ласками инежной фамильярностью, вас освобождали от приличий, которых вы могли не знать, но эта поблажка скоро кончится, и если увидят, что вы сохраняете деревенские манеры под одеждами, которые теперь на вас, это примут за вашу натуру или мое равнодушие. Будем работать, мой дорогой граф, будем серьезно работать, начнем с этого реверанса, которому недостает блеска, и повторим еще раз это вхождение, которое выглядит дряблым и неблагородным.
Марио развлекался этим обучением, которое давало возможность нарядиться в его самые красивые одежды, смотреться в зеркало и энергично двигаться по комнате. Он был такой ловкий и такой гибкий, что ему почти не составляло труда изучать эту разновидность величественного балета, в который он был тщательно посвящаем; и его старый отец, еще больший ребенок, чем он, умел сделать урок увлекательным. Это был полный курс пантомимы, в которой маркиз, несмотря на свой возраст, был еще превосходным исполнителем.
— Видите ли, сын мой, — сказал он ему, причесываясь и драпируясь определенным образом, — вот манеры фанфарона. Смотрите хорошенько, что я буду делать, чтобы никогда так не делать в хорошей компании, разве что ради смеха. А теперь представим хвастливого от природы капитана.
Марио смеялся, катаясь по полу. Ему позволялось для развлечения тоже изобразить капитана, и тогда уже наступала очередь маркиза смеяться до упада в своем кресле, столь ловко и славно шалун обезьянничал.
Но нужно было возвращаться к уроку. Маркиз показывал ему тогда тупого мужлана, решительного и назойливого, или горького и противного педанта, или растерянного простака, и поскольку нужны были два актера, чтобы представить выразительную сцену, позвали людей дома. Отрадно, что можно было привлечь Адамаса и Мерседес, которые воспринимали это с большим воодушевлением. Но Адамас был деятельным, а мавританка работящей, они все время ускользали, чтобы работать на благо их любимого Марио.
Тогда набросились на Клендора, который выразил желание, но действовал, как марионетка, и на Беллинду, которая очень хотела сыграть знатную даму, но играла эту роль самым смешным и самым абсурдным образом. Маркиз весело журил ее и отмечал ее нелепости в пользу обучения Марио, который был изрядный насмешник, веселившийся столь бурно, что оскорбил экономку.
Она обиделась и ушла, а Марио, громко хохоча, забыв, что это было время занятий, вспрыгнул на колени маркиза и обнял, обращаясь к нему на ты, так что у старика не хватило мужества воспрепятствовать этому, потому что он тоже развлекался от души и не находил ничего более приятного, как видеть своего мальчика веселящимся.
После обеда отправились верхом. Маркиз раздобыл для своего наследника самых красивых лошадей в мире и был великолепным учителем. Также и в фехтовании, но эти упражнения очень утомляли старика, и он имел заместителей и ограничивался руководством.
Был также и учитель геральдики, который приходил два раза в неделю. Этот наводил ужасную скуку на Марио, но он делал над собой усилие с мужеством, довольно редко встречающимся у детей, чтобы не отвергать ничего из того, что его отец с такой нежностью вменял ему в обязанности.
Он утешался от геральдической науки своими прекрасными маленькими лошадками, своими прекрасными маленькими аркебузами и уроками Люсилио, которые его привязывали и волновали чрезвычайно.
Он испытывал к немому уважение, в котором не отдавал себе отчет, либо его прекрасная душа чувствовала превосходство великой души, либо восторженное почитание Мерседес Люсилио оказывало на него свое магическое влияние, потому что в душе он оставался сыном мавританки и чувствуя, что между ней и маркизом существует ощутимая ревность по отношению к нему, он имел тонкую деликатность уделять внимание одному и другому, не возбуждая тревоги в этих двух почти детских сердцах одновременно великодушных и обидчивых.
Он уже прошел это обучение деликатности со своей приемной матерью, когда она жила у аббата Анжоррана.
Больше всего нравились ему уроки музыки.
Люсилио и в этом тоже был непревзойденным мастером. Его дивный талант восхищал мальчика и погружал его в восторженные мечтания. Но эта склонность, которая преобладала над всеми другими, немного огорчала маркиза, который считал, что дворянин не должен изучать искусство с тем, чтобы стать артистом. Дворянин должен первым делом глубоко знать все, что называется военной профессией, а затем понемногу все остальное, «по возможности отлично, — говорил он, — но не слишком, потому что человек очень искусный в чем-нибудь одном пренебрегает другими вещами и не слишком любезничает со всеми».
Среди всех этих забот и развлечений Марио стал самым красивым мальчиком на свете. Его кожа, от природы белая, приняла под теплым осенним солнцем наших широт нежный оттенок, как у цветка. Его маленькие руки, шероховатые и покрытые царапинами, стали ухоженными благодаря перчаткам, которые носил, и почти столь же нежными, как руки Лорианы. Его восхитительные темно-русые волосы вызывали восхищение и гордость бывшего цирюльника Адамаса.
Маркиз хорошо делал, что шлифовал его изящество дворянина, сохраняя природное. Искусное обучение танцам, которое ему преподавали, служило лишь для развития его телосложения, которое, впрочем, в этом не нуждалось.
С момента, как его приодели, маркиз брат его с собой, нанося визиты на десять лье в окружности.
Появление такого мальчика стало событием в стране. Сначала завистники и сплетники высмеяли его, как химеру и фантом.
Однако, когда его видели ловко гарцующим на своей маленькой лошадке в сопровождении Клендора и Аристандра по улицам Шатра, люди таращили глаза и говорили:
— Так, выходит, это правда?
Спрашивали, как его зовут и как будут называть. Удивительно, что маркиз, знатный человек, безропотно покорился сделать его наследником простого мелкопоместного дворянчика. Но имеет ли он право завещать свой титул и три своих курицы с серебряными диадемами некоему Бурону? Позволит ли нынешний король подобное? Не будет ли это противоречить законам и обычаям дворянства?
Трудный вопрос!
Об этом говорили на протяжении двух недель, а затем перестали, потому что сложные вопросы быстро надоедали, и когда видели старого маркиза и его маленького графа приехавшими на званый обед к кому-нибудь из соседей, абсолютно одинаково одетых, то в белом по-крестьянски, то в небесно-голубом с серебряной канителью, или в атлас абрикосового цвета с белыми перьями, то в ярко-зеленом, то в цвете цветка персика с лентами, сплетенными из серебра и золота, грациозно вытянувшихся на темно-красных подушках прекрасной коляски, запряженной их прекрасными белыми лошадьми, украшенными султанами того же цвета, и сопровождаемых свитой слуг, что их принимали за вельмож, так хорошо они ехали, были хорошо вооружены и сверкали позолотой, и не было в городе, в деревнях и даже в замках знатного человека, буржуа или виллана, который бы не вскакивал, говоря:
— Ну же! ну! Я вижу, едет большая карета маркиза! Бежим быстро поглядеть, как едут красивые господа Буа-Доре!
Все это происходило в то время в счастливой стране Берри, на юге Франции, охваченной волнением.
Около 15 ноября узнали совершенно определенно в Бурже, что король заставил снять осаду Монтобана.
Луинес, который стремился ослабить партию путем подкупа вождей, потерпел неудачу с Роаном, генералом провинции и защитником города. К сожалению, оказалось, что этот знатный вельможа был в числе редких исключений, и что метод Луинеса оказался действенным для большинства знатных бунтовщиков, но этот метод подкупа разорил Францию и опозорил королевство.
Людовик XIII временами это чувствовал и видел, что его усилия парализуются бездарностью и недостойностью его фаворита.
Армия плохо содержалась и плохо оплачивалась. Беспорядок был возмутительный, король содержал тридцать тысяч солдат, но не хватало двенадцать тысяч состава, чтобы содержать кампанию. Офицеры были в унынии. Майен был недавно убит. Испанский кармелит Доминго де Хесу-Мария, святости и энтузиазму которого немецкие поклонники приписали пражскую победу, напрасно пророчествовал у стен Монтобана. Ложные чудеса были затруднены во Франции. Кальвинисты поднимали голову, и в первые дни декабря господин Буа-Доре увидел прибывшего к нему господина де Бевра, очень оживленного, который сказал ему по секрету:
— Мой сосед, я приехал посоветоваться с вами о важном деле. Вы знаете, что союзники в окружении герцога Туарского, главы дома Тремуйлье, у которого я имел честь быть прошлой весной, свели меня с людьми из Ла-Рошели. Вы меня удерживали, уверяя, что герцог тает как снег перед королем, что и произошло, как вы мне предсказывали. Но от того, что герцог мой родственник и я сделал промах, это не означает, что у меня были основания поступить так, и я упрекаю себя б том, что отказался от своего дела, особенно в момент, когда оно обретает силу.
— Несомненно, вы оговорились, мой сосед, — простодушно отвечал Буа-Доре, — вы хотели сказать, что дело имело большую нужду в вас, потому что, если вы прибегли к его опоре, то это потому, что оно взяло верх, я не вижу, в чем тут заслуга.
— Мой дорогой маркиз, — продолжал де Бевр, — вы всегда пленены рыцарством, я знаю это, но я, я человек расчетливы й, и говорю о вещах как они есть. Вы богаты, обладаете состоянием, карьера ваша закончена, вы можете философствовать. Я же, хотя и не беден, но потерял много, плохо сыграв свою партию в последнее время. Я чувствую себя еще бодрым, и бездействие мне наскучило. И потом, я не могу выносить вид превосходства, который принимают в нашей стране старые члены лиги. Дрязги иезуитов меня бесят. Если я хочу жить в мире, как вы, нужно, чтобы я отрекся?
— Как я? — спросил маркиз, улыбаясь.
— Я отлично знаю, что ваше отречение, пусть даже такое маленькое, это еще слишком рано для меня, мне больше нравится сражаться и у меня еще пять или шесть лет активности и здоровья, чтобы делать это.
— Да, но вы очень толстый, мой сосед!
— Вы полагаете, что видите меня толстеющим, потому что не видели, каким я был. Вот вы делаетесь более худым, а не я становлюсь все более толстым.
— Пусть так! Я хорошо понимаю ваши основания еще вести эту кампанию. Вы полагаете, что она будет успешной, но вы заблуждаетесь. Командиры и солдаты, буржуа и пастухи, все это сражается храбро в назначенный день, но на другой день оно делится, оно ругается, и каждый тянет к себе. Партия проиграна после Варфоломеевской ночи, и король гугенотов не отыграет ее, кроме как отказавшись от дела. Он хочет быть французом прежде всего, а то, что вы хотите делать, не принесет выгоды ни Франции, ни вам самому.
Де Бевр не терпел противоречия. Он упорствовал и бранил маркиза за отсутствие у него религиозных убеждений, самого скептического из людей.
Предоставляя ему болтать так, Буа-Доре хорошо видел, что его приманивали хорошие условия, которые королевская власть была вынуждена делать господам кальвинистам всякий раз, как она терпела неудачу. Де Бевр не был из людей продающихся, как другие, но из хорошо сражающихся и извлекающих прибыль из победы, без щепетильности, чтобы проявить себя очень требовательным к себе.
— Поскольку вы уверены, — сказал ему маркиз мягко, — нужно тогда мне сказать вам сейчас и не спрашивать моего мнения. Я могу сказать вам только одно. Вам нужно будет экипировать и увести с собой лучших из своих людей на эту кампанию. Подумали ли вы о той плохой партии, которую могут сыграть с вашей дочерью, если иезуитам придет в голову сообщить господину де Конде о вашем отсутствии? И подумали ли вы, что они не допустят осечки и что замок Ла-Мотт-Сейи подвергнется какой-нибудь оккупации именем короля, исполненной, как это происходит всегда, плохими людьми; ваша дочь подвергается опасности получить какое-нибудь оскорбление…
— Об этом я не подумал, — сказал де Бевр. — Предполагается, что я буду в Орлеане, где у меня судебное дело. Оттуда я отправлюсь без шума в Гиень, где возьму какое-нибудь старое военное имя, как это принято, чтобы защитить свое состояние и свою семью в мое отсутствие, я буду капитаном Шанделем или Ла-Пелем, или капитаном… не важно, каким.
— Задуманное, я знаю это, — продолжил Буа-Доре, — не всегда получается: я обещаю вам защитить ваш замок настолько, насколько это будет зависеть от меня и моих людей, но я не побоюсь вам предложить неприличную вещь, я вам предлагаю взять в мое жилище вашу Лориану на время вашего отсутствия.
— Предлагайте, предлагайте, мой сосед, потому что я принимаю и не вижу в этом ничего неприличного. Нет неприличия для женщины, которой дома грозит опасность для ее добродетели или ее доброго имени, и меня не смущает, что она будет среди вас, который станет ей дедушкой, вашего мальчика, который всего лишь мальчик, вашего философа, язык которого не сможет отклонить, и вашего пажа, у которого выражение лица обезьяны, моя дочь рискует потерять свое сердце или свой разум. Итак, я привезу ее вам и оставлю до моего возвращения, конечно же, она будет счастлива и в безопасности у вас, и вы будете для нее, как и для меня, лучшим из друзей и соседей.
— Можете на это рассчитывать, — отвечал Буа-Доре. — Я поеду за ней сам. Моя карета довольно большая, она сможет положить туда свои наиболее ценные вещи без того, чтобы кто-нибудь заподозрил, что она совершает не просто одну из своих привычных прогулок.
Глава тридцать седьмая
И действительно назавтра Лориана разместилась в Брианте, в Зеленом зале, который изобретательный Адамас быстро превратил в роскошные и комфортабельные апартаменты.
Мавританка попросилась прислуживать молодой даме, к которой она испытывала доверие и симпатию, и Лориана, которая тоже имела уважение и влечение к ней, попросила ее спать в небольшой комнате рядом с ее просторной комнатой.
Лориана расставалась со своим отцом с большим мужеством.
Благородное дитя не подозревало в нем никаких корыстных побуждений, она, которая жила верой и энтузиазмом. Она трудно понимала то, что надо было обдумывать, сомневаться и делать выводы для личной пользы. Она знала своего отца храбрым и видела его открытым, жизнерадостным, с благородством дворянина: этого было достаточно, чтобы она сделала из него героя.
Лориана, восторгающаяся прекрасным поведением людей Роана и Ла Форс в Монтобане, не препятствовала отцу в отъезде, думая, что он помышляет только о том, как восстановить честь дела, и что он видит во всем этом, как и она, что достоинство и свободу совести, пожертвованные Генрихом IV, надо хранить ценой состояния, жизни, если это потребуется!
Она не проронила ни слезы, обнимая его в последний раз, она провожала его взглядом до тех пор, пока могла его видеть, а когда он скрылся из вида, она вернулась в свою комнату и принялась рыдать.
Мерседес, которая работала в соседней комнате, услышала это. Она подошла к порогу, намереваясь войти, но не осмелилась. Она сожалела, что не знает языка, чтобы хоть как-то попытаться утешить Лориану.
Мерседес — девушка с материнским инстинктом — не могла спокойно наблюдать, как страдает юное сердце. Сострадая, она должна была чем-то помочь и придумала пойти за Марио, казалось, что никакое горе не сможет противостоять внешнему виду и ласкам ее любимца.
Марио тихо пришел на цыпочках и встал подле Лорианы, но она даже не заметила. Лориана уже была его нежно любимой сестрой. Она была так добра с ним, так жизнерадостна по обыкновению, так старалась развлечь его, когда он проводил с ней дни!
Увидев ее плачущей, он оробел: он думал, как другие, что господин де Бевр будет отсутствовать всего несколько дней.
Он встал на колени на край подушки, куда она положила ноги, и смотрел на нее весьма озадаченный, наконец он осмелился взять ее руки.
Она вздрогнула и увидела перед собой лицо ангела, которое улыбалось ей сквозь влажную пелену ее глаз. Растроганная чувствительностью этого ребенка, она пылко прижала его к своему сердцу, целуя его прекрасные волосы.
— Что это с вами, моя Лориана? — спросил он ее, осмелев от этого излияния.
— Ах, мой милый, — отвечала ему она, — твоя Лориана огорчена, как и ты был бы огорчен, если бы видел уезжающим своего доброго отца маркиза.
— Но он же скоро вернется, ваш отец, он же сказал вам так, уезжая.
— Увы, мой Марио, кто знает, вернется ли он? Ты же хорошо знаешь, что когда путешествуют…
— А разве он уехал далеко?
— Нет, но… Идем, идем, я не хочу тебя огорчать. Я хочу прогуляться. Хочешь ли ты пойти со мной поискать твоего отца?
— Да, — сказал Марио, — он в саду. Идем туда. Хотите ли вы, чтобы я сходил за своей белой козой, чтобы развлечь вас ее прыжками?
— Пойдем за ней вместе.
Она вышла, подав ему руку не как дама, опирающаяся на руку кавалера, а напротив, как маленькая мама, взяв мальчугана за руку.
Спускаясь по лестнице, они повстречали Мерседес, которая обласкала их взглядом своих красивых нежных глаз. Лориана, которая стала понимать ее по знакам, нужно было только взглянуть на нее, чтобы понять. Она угадала ее нежную заботу и протянула ей руку, которую Мерседес хотела поцеловать. Но Лориана отдернула руку и бросилась, расцеловав ее в обе щеки.
Никогда христианка не целовала мавританку, такую же христианку, как и она сама. Беллинда сочла бы себя опозоренной, получив от нее малейшую ласку, считая ее безбожницей, она испытывала отвращение, даже когда ела в ее обществе.
Столь приятное излияние молодой знатной дамы стало одной из тех больших радостей в жизни этой бедной девушки, и с этого момента она почти разделила свою любовь между ней и Марио.
Мерседес всегда отказывалась хоть как-то выучить французский язык, более того, она старалась забыть все слова из испанского языка, которые знала, и все это из-за преувеличенного опасения забыть язык своих предков. Но желание говорить с Лорианой и добрым маркизом начало побеждать ее отвращение. Она даже чувствовала, что должна принять язык этих сердечных людей, которые обращались с ней, как с членом своей расы и своей семьи.
Лориана взялась быть ее учительницей, и в короткое время они уже смогли понимать друг друга.
Лориане скоро стало очень счастливо в Брианте, и если бы не отсутствие отца, о котором она, впрочем, скоро получила хорошие известия, она бы даже чувствовала себя здесь такой счастливой, какой не была никогда в жизни.
В Ла-Мотт она почти всегда была одна, неутомимый де Бевр почти все время охотился, любя утомлять себя и не делая, несмотря на свою привязанность к ней, тысяч мелких забот, деликатных предупредительностей, изобретательных подарков, которые маркиз умел делать женщинам и детям.
Выращенная с небольшой строгостью, она должна была стараться быть строгой с собой, особенно после того, как мысль о долгом вдовстве явилась ей как возможность окружения и обстоятельств, в которых она находилась. Она стала бесчувственной к порывам любви и желаний, она уже почти выработала привычку заставлять себя смеяться, когда ей хотелось плакать, но природа брала свое.
Она часто плакала, нуждаясь в обществе, любви, матери, сестре, брате, каких-либо улыбках, какой-либо снисходительности, которые помогли бы ей дышать и расцвести в атмосфере более нежной, чем холодная темнота ее старого замка, мрачное воспоминание о Борджии и политические препирательства ее отца, насмешливого и обиженного.
В Брианте же она стала такой, какой должна быть.
Маркиз, освободившийся с радостью от мысли сделать ее своей женой, решительно сделал ее своей дочерью, сам радуясь мысли, что она так молода, что он может смотреть на нее, как на старшую сестру Марио.
К тому же, его странное кокетство подвело его к мысли, что двое детей гораздо лучше, чем один. Эти юные товарищи, с которыми ему нравилось носить мягкие цвета и разделять наивные заботы, его молодили в их почтении до такой степени, что порой он воображал себя юношей.
— Ты видишь, — говорил он Адамасу, — есть люди, которые стареют, я же нисколько на них не похожу, потому что мне нравится быть с невинной юностью. Клянусь тебе, мой друг, что вступил в свой золотой возраст и что мысли мои столь же чисты и столь же радостны, как у этой голубки и этого херувима.
Лориана, Марио и маркиз сделались неразлучными, и их жизнь протекала в непрерывности развлечений вперемежку с занятиями и хорошими делами.
Лориана мало чему была обучена и мало что знала. Она с удовольствием присутствовала на уроках, которые Жовлен давал Марио в большом салоне. Она внимательно слушала, вышивая по канве седло для снаряжения маркиза, а когда Марио читал или отвечал свой урок, он клал себе на колени указания, написанные Люсилио, чтобы читать их вместе с ней. Лориана изумлялась, что она легко понимает вещи, которые ей казались недоступными уму женщины.
Она наслаждалась уроками музыки, а порой аккомпанировала мавританке на тиорбе, которая пела свои нежные грустные народные песни.
Маркиз, вытянувшись на своем большом стуле, слушал эти маленькие концерты, рассматривал действующих лиц гобелена Астреи и представлял, что они оживают, и вот уже он слышит их пение, он забывался сном в восхитительном блаженстве.
Люсилио также получат свою часть этого семейного счастья, которое заставляло его забыть немного одиночество своего сердца и страх перед будущим.
Строгий и простодушный философ был еще в возрасте любви, но он опасался попасть в какую-нибудь чувственную связь, где его душа не будет понята. Он безропотно покорился судьбе — жить преданностью другим и абсолютно забыть иллюзорные стремления к любви.
Он, перенесший тюрьму, изгнание, нищету и претерпевший страдания, он призывал себя победить желание счастья, как он победил все остальное. Из этих размышлений он выходил успокоенным и торжествующим, но торжествующим, как это бывает после пытки: смесь возбуждения и упадка духа, души, с одной стороны, тела — с другой, жизнь, в которой равновесие нарушено, и где дух не знает больше, в каком мире он находится.
Люсилио однако преувеличивал свою беду. Он был любим не за ум, а за сердце.
Мерседес была перед его ученостью и его гениальностью, как роза перед солнцем. Она впитывала лучи, не понимая их, но она была влюблена и его доброту, его мужество и его добропорядочность, и ее нежная душа падала ниц перед ним. Она не оправдывалась в этом, потому что она сделала это религией и долгом, только она ничего не говорила, потому что в ней было больше опасения, чем надежды.
Мы не должны забыть коснуться маленькой домашней революции, произошедшей в замке Бриант несколько дней спустя после отъезда господина дс Бевра, поскольку важность этого незначительного семейного события позднее сделалась тяжело ощутимой для слишком счастливых обитателей замка.
Хотя из славных господ Буа-Доре более маленький не всегда был более ребенком, Марио порой имел склонность к шалостям, особенно, когда, по выражению Адамаса, «он терял голову со славной мадам». Он был очень добрым и очень любящим, его нельзя было упрекнуть в том, что он дергал за ухо Флориаля, или сказал неприятное слово Клендору, но неодушевленные вещи никогда не внушали ему почтения. В их числе были небольшие статуи персонажей из романа «Астрея», которые украшали сады Изауры, и знаменитый лабиринт и пещеру старой Манддраг, которая была очень занимательной в первые дни, но которая мало-помалу наскучила, как слишком неподвижная игрушка.
Однажды, когда он испытывал довольно большую деревянную саблю, вырезанную Аристандром, он сделал вид, что угрожает одному персонажу, изображающему скрытного Филандра, то есть ложного Филандра, потому что будучи похожим на свою сестру, он переоделся в платье Каллире, чтобы проникнуть в узкий круг нимфы, которую он любил.
Пастух был изображен под этой обманчивой женской внешностью, и художник, на которого было возложено создание персонажей, доверившись хорошо доказанной схожести брата и сестры, позволил себе небольшую экономию воображения и изготовил одну модель в двух экземплярах, помещенных один напротив другого с прочими Амидором, Дафнис и т. д., в зеленой ротонде, так называемой роще прозрений любви.
Поэтому, чтобы отличить брата от сестры, маркиз написал карандашом на пьедестале брата отрывок из этого длинного монолога, который начинается так: «О дерзкий Филандр, кто никогда не сможет простить твой промах? и т. д.»
Внешний вид этого хитрого персонажа был столь дурацким, что Марио, без того, чтобы его в точности ненавидеть, любил его высмеивать и угрожать. Он уже отвесил ему несколько безвредных оплеух, но в этот день, видя, что вызов, который он ему бросил, заставил смеяться Лoриану, он нанес ему слишком сильный удар саблей и сбил на газон нос Филандра. Едва этот подвиг был совершен, как мальчик пожалел о содеянном. Его отец любил Филандра так же, как и других персонажей.
Лориана после долгих поисков нашла этот злосчастный нос в траве, и Марио, вскарабкавшись на пьедестал, приклеил его глиной изо всех сил. Но он держался лишь первое время, а на другой день нос был снова на земле! Он приклеил его еще раз, но скрытный Филандр был настолько глуп, что никак не мог сохранить свой нос, и случилось, наконец, что маркиз прогуливался там, а Филандр был без носа.
Марио сознал себя виновным, добрый Сильвен видел его угрызения совести и не стал бранить его. Но на следующий день носа не хватала но только у Филандра, без него пребывала и его сестра Каллире, а еще через день таковыми оказались Филидас и даже сама несравненная Диана!
На этот раз Буа-Доре серьезно взволновался и обратился с горестными упреками к своему мальчику, который принялся горячо плакать, клянясь чистосердечно, что он в своей жизни не разбивал никакого другого носа, кроме этого дерзкого Филандра. Лориана тоже уверяла маркиза в невиновности своего юного друга.
— Я вам верю, мои дети, я вам верю, — сказал маркиз, весь взволнованный рыданиями Марио. — Но к чему это огорчение, мой сын, если вы нисколько не виноваты? Ну вот, достаточно, не плачьте; я вас выбранил слишком быстро, не наказывайте меня вашими слезами!
Они горячо обнялись, но их изумляло это калечение носов, и Лориана заметила маркизу, что какой-то злой и неискренний человек имеет замысел сделать Марио виновным в его глазах.
— Это определенно, — ответил маркиз очень задумчиво. — Поступок из самых гнусных, и я хотел бы иметь автора, чтобы приговорить его к потере его собственного носа. Я заставлю его испытать страх, даю слово!
Однако попытались еще посмотреть на это, как на какое-то ребячество, и подозрения пали на самого молодого обитателя замка после Марио. Но Клендор выразил столь добродетельное негодование, что маркиз должен был утешить и его тоже.
На следующий день не хватало еще двух или трех носов, и возмущенный Адамас приказал нести охрану сада днем и ночью.
Ущерб прекратился, и добрый Люсилио, чувствуя беспокойство Буа-Доре, изготовил итальянскую пасту, с помощью которой терпеливо и умело приклеил все эти носы.
Но кто мог быть автором преступления? Адамас имел подозрение, но маркиз отказывался верить, что кто-либо из его дома был способен на подобную низость; он сваливал вину на какого-нибудь пособника господина Пулена.
— Этот святоша, — говорил он, — поскольку он считает нас безбожниками и идолопоклонниками, вообразил, что мы преклоняемся этим статуям. И все-таки, Адамас, они все совершенно целомудренные и прилично одеты, как надлежит им быть в месте, где прогуливаются наши дети!
— А я говорю вам, что этот ханжа имеет ясно самое большое подлое желание заставить вас бранить господина графа. Потому что все здесь готовы лишиться жизни ради него, так его любят, кроме одной мерзкой особы…
— Нет, нет, Адамас, — пожурил его великодушный маркиз. — Это невозможно! Это слишком гнусно даже для персоны мужского пола!
Начали забывать это крупное дело, когда оно дошло до худшего.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА
ТОМ ВТОРОЙ
Глава тридцать восьмая
С тех пор, как мавританка открыла Адамасу многие восточные секреты составления косметических настоек, мазей, микстур, цвет лица и качество волос бороды и бровей маркиза заметно улучшились. Они могли устоять против ветра, дождя и безумных ласк Марио; к тому же, запах этих косметических средств был более приятным, да и накладывались они быстрее.
Вначале старый Селадон совершал эти процедуры в глубокой тайне, в те часы, когда ребенок где-нибудь резвился. Но поскольку малыш не докучал расспросами, не проявлял неучтивого любопытства, мало-помалу эти великие предосторожности были смягчены, и ежедневное омоложение стало прикрываться более чем простодушными уловками.
Притиранья окрестили освежающими благовониями, нанесение румян называлось уходом за кожей. И Марио решил, что подобные ухищрения составляли часть туалета всех знатных особ.
Поскольку он сам был достаточно кокетлив, им овладело сильное желание тоже обработать лицо по-дворянски; он попросил об этом, и поскольку ему ответили только, что в его возрасте нет нужды в подобной утонченности, он не воспринял это как решительный запрет. Как-то вечером, оставшись на минуту один в комнате приемного отца и увидев на туалетном столике флаконы, он позволил себе прихоть «надушиться» белым и розовым, как делал Адамас с маркизом. Покончив с этим, он решил, что должен сделать брови более темными и широкими, а потом, найдя, что воинственный вид очень идет ему, не смог устоять перед желанием нарисовать над верхней губой хорошенькие черные закрученные усики, а под нижней — красивую эспаньолку.
Он был освещен всего одной забытой на столе свечой, поэтому щедро накладывал краски и не смог тонко растушевать контуры.
Позвонили к ужину; он побежал садиться за стол, очень довольный тем, что выглядит задирой, и старательно сохранял важный вид.
Маркиз не сразу обратил на него внимание, но когда Лориана расхохоталась, он поднял глаза и увидел эту маленькую милую головку так странно преобразившейся, что тоже не смог удержаться от смеха.
И все же добрый маркиз был недоволен и даже огорчен в глубине души. Конечно, Марио и не думал его высмеивать, но то, как щедро он раскрасил себя, слишком явно обличало перед Лорианой существование той палитры красоты, которую, как ему казалось, он так удачно скрывал в своем туалете и на собственном лице. Он даже не решился спросить ребенка, где тот взял эти краски: он опасался слишком простодушного ответа. Он ограничился замечанием, что мальчик обезобразил себя, и что ему надо умыться.
Лориана поняла смущение и беспокойство своего старого друга и подавила свою веселость; но от этого идея Марио стала ей казаться еще более комичной, и все время ужина она отчаянно боролась с припадком безумного смеха, какой бывает у юных девушек, и какой, если его сдерживать, превращается в нервное возбуждение.
Это магическим образом подействовало на Марио, да так, что маркиз ласково сказал:
— Ну, дети, посмейтесь же всласть, раз вам так сильно этого хочется!
Но сам он не смеялся, а вечером выбранил Марио, который раскаялся и пообещал никогда больше так не делать.
Эта шалость сильно позабавила господина Клиндора; давясь от смеха, он разбил красивое фаянсовое блюдо. Получив выговор от маркиза, он потерял голову и наступил на лапу Флориалю. Адамас не устоял перед уморительной шуткой Марио и тоже засмеялся! Одна Беллинда сохранила серьезность, и маркиз был ей за это признателен.
— Этот ребенок такой проказник, — сказал он вечером Адамасу, — и все его поступки указывают на веселый и игривый ум. Однако не следует слишком его баловать, Адамас!
На следующий день новая история: один из флаконов с кармином на туалетном столике оказался разбитым, а прекрасный гипюровый убор — покрытым пятнами. Обвинили Флориаля; но такие же пятна оказались на белом камзоле Марио, который удивился этому и отрицал то, что хотя бы приближался к туалетному столику.
— Я верю вам, сын мой, — со вздохом ответил маркиз. — Я слишком был бы огорчен, сочти я вас способным лгать.
Но на следующий день микстуры обнаружили перемешанными красную с черной, а черную с белой.
— Так! — произнес маркиз. — Эта чертовщина продолжается. Может быть, все будет происходить так же, как с бедными носами моих статуй?
Он ни слова не говоря осмотрел Марио: на манжетах были черные пятна, возможно, чернильные, но маркиз не выносил пятен и попросил его сменить белье.
— Адамас, — сказал он, — хорошо, что этот ребенок шаловлив; но если он лжет и пользуется моей верой в его слова — это причинит мне сильное огорчение, друг мой! Я считал его возвышенной натурой; но Господь не хочет, чтобы я слишком гордился им. Он позволяет дьяволу сделать его таким же ребенком, как все прочие.
Адамас встал на сторону Марио, только что возвратившегося в соседний будуар.
В эту минуту послышался голос Беллинды, горячо спорившей с ребенком. Он тянул ее за юбку, а она упиралась, говоря, что он с ней фамильярно обращается.
Возмущенный маркиз поднялся с места.
— Распутник? — в отчаянии воскликнул он. — Уже распутник?
Прибежал несчастный Марио, весь в слезах.
— Отец, — сказал он, бросаясь в его объятия. — Эта служанка — дурная. Я хотел привести ее к тебе, чтобы ты сам увидел, что у нее на руках. Она трогает мои брыжи и говорит, что на них пятна, но она сама сажает эти пятна: это она хочет огорчить тебя и помешать тебе меня любить. Она пользуется глупостями, которые я сделал, чтобы приписать мне другие, более гадкие. Отец, это никуда не годная женщина; она выставляет меня лжецом, и, если ты ей веришь…
— Нет, нет, сын мой, я нисколько ей не верю! — вскричал маркиз. — Адамас!..
Но Адамаса рядом уже не было: он побежал за Беллиндой; он нагнал ее на лестнице и хотел привести силой, но за свои труды получил сильную оплеуху и вынужден был выпустить добычу.
Маркиз тоже выскочил на лестницу, услышав шум стычки. Оплеуха была крепкой; несчастный Адамас, совершенно оглушенный, держался за щеку.
— Так эта шельма выпустила когти? — сказал он. — Я чувствую на своем лице… Ах, нет, сударь! — внезапно обрадовавшись, воскликнул он. — Это вовсе не кровь! Смотрите! Это прекрасные румяна из ваших флаконов! Это вещественное доказательство! О, ну конечно! Вот и дело выяснилось. Надеюсь, теперь вы больше не сомневаетесь в кознях этой рыжей девицы!
— Господин граф, — обратился к своему ребенку маркиз, храня восхитительную серьезность, — признаюсь, что два раза усомнился в ваших словах. Если бы я не был вашим лучшим другом, вы могли бы потребовать у меня объяснения; но я надеюсь, что вы соблаговолите принять извинения вашего отца.
Марио бросился ему на шею, а Беллинда в тот же вечер получила свое жалованье и без объяснений была уволена; она покинула оазис Брианта и рассталась со своим пастушеским именем, чтобы вернуться к реальной жизни под своим настоящим именем Гийет Карка; как мы увидим из дальнейшего, впоследствии она приняла имя более звучное и более мифологическое.
В то время как эти трагические события стирались из памяти наших героев, господин Пулен не умерял своего рвения.
Было 18 или 19 декабря, и аббат, с замерзшим носом и ногами, но с головой, пылающей в надежде на успех, которого он долго добивался, прибыл в Сент-Аман — расположенный в прохладной долине между двух рек красивый город в Берри, над которым возвышался огромный чудесный замок Монрон, резиденция принца де Конде.
Аббат сошел с коня в монастыре капуцинов, чей просторный огороженный двор в форме креста укрывался под защитой замка принца. Он уклонился от встречи с приором, остерегаясь его любезности и посредничества: он хотел сам проделать всю работу и в одиночестве пройти свой путь.
Он ограничился тем, что позволил одному из монахов, своему родственнику, угостить его скудной пищей, отряхнулся от покрывавшего его инея и появился у одного из входов в замок, предъявив надлежащим образом оформленный пропуск.
«Благодаря трудам Сюлли и особенно украшениям господина Принца», купившего эту резиденцию у опального министра, «замок Монрон, игравший впоследствии такую важную роль в событиях Фронды, стал местом наслаждений и в то же время — неприступной крепостью. Его стены тянулись более чем на лье в окружности: они заключали в себе многочисленные постройки, просторный и великолепный замок в три этажа, большую башню или донжон в сто двадцать футов высотой, с бойницами в стенах и площадкой наверху, на которой можно было видеть статую Меркурия»[98].
«Что же касается укреплений, расположенных этажами, как бы амфитеатром, — их было такое множество, что человек, долгое время рассматривавший и изучавший их, едва мог в них разобраться»[99].
В этом каменном лабиринте, в окруженном многозначительной таинственностью логове знатного вассала, жил Анри де Бурбон, второй по счету из носивших это имя, принц де Конде; отбыв трехлетнее заключение за мятеж против престола, он примирился с двором и вернулся наместником в Берри.
К этой должности он присовокупил исполнение обязанностей генерал-лейтенанта, бальи провинции и капитана главной башни Буржа: это означало, что он обладал политической, гражданской и военной властью во всей центральной части Франции, поскольку имел те же права и обязанности в провинции Бурбонне.
Прибавьте к этой власти огромное богатство, увеличившееся на те суммы, в которые обходился каждый мятеж Конде короне, то есть Франции, под видом возмещения убытков; благодаря почти насильственной покупке земель и роскошных замков, которыми Сюлли владел в Берри, и которые с большим убытком пришлось уступить господину Принцу из-за трудных времен и несчастий страны; благодаря секуляризации, иными словами — упразднению к выгоде принца наиболее богатых аббатств провинции (среди прочих — в Деоле); благодаря подаркам, предписанным обычаем, лестью или трусостью крупной буржуазии городов; тяжелые золотые и серебряные чаши, наполненные звонкой золотой и серебряной монетой при помощи беррийских барашков; «лазурными каретами», резными и украшенными серебряными сатирами; запряженными шестеркой прекрасных лошадей в сбруе из юфти, отделанной серебром; налоги, вымогательство и всевозможные притеснения простолюдинов: деньги под всеми именами, во всех видах были единственной движущей силой, единственной целью, единственной властью, единственной радостью и единственной склонностью Анри, внука великого Конде времен Реформации и отца великого Конде времен Фронды.
Два великих Конде, очень властолюбивых и тяжко виновных перед Францией, — это известно! — но и способных оказать ей важные услуги в борьбе с чужеземцами, если собственные их интересы не противоречили этому. Увы! Это ужасный XVII век. Но они все же обладали храбростью, величием, доблестью; а тот, который играет роль в нашем повествовании, был лишь скупым, хитрым и осторожным; о нем говорили и худшее.
Его рождение было трагическим, юность — несчастливой.
Он увидел свет в темнице, ему дала жизнь вдова, обвиненная в отравлении своего мужа[100]. Сам очень молодым женившись на Шарлотте де Монморанси, дочери коннетабля, он приобрел в качестве соперника слишком рьяного и давнишнего поклонника женщин Генриха IV. Юная принцесса была кокетлива. Принц увез свою жену. Короля обвинили в том, что он хотел объявить войну Бельгии за то, что она предоставила ему убежище. Это было и правдой, и ложью: король был безумно влюблен; но Конде, изображая ревность, на какую был не способен, воспользовался королевской страстью для удовлетворения своего честолюбия и вынуждал короля строго наказать мятежника.
Несчастливый в семейной жизни, в войне и политике, принц во всех горестях утешался любовью к богатству, и, когда настало страшное время правления Ришелье, он жил спокойно, изобильно и бесславно в своем добром городе Бурже и в своем прекрасном замке Сент-Аман-Монрон.
Но в то время, когда наш аббат Пулен, после шести недель хлопот и интриг, добился того, чтобы предстать перед ним, принц еще не отказался от политического честолюбия. Он еще должен был сыграть свою роль ястреба в агонии кальвинистской партии и королевской власти, надеясь возвыситься на руинах одной и другой.
Аббат считал, что прекрасно знает, с каким человеком имеет дело. Он судил о нем по той репутации доброго принца, какую тот создал себе в Бурже: простой, свободный, без спеси говорящий с любым человеком, играющий с городскими детьми и охотно плутующий, очень любящий подарки; сплетник, очень прижимистый, довольно своенравный и исключительно набожный.
Принц действительно обладал всеми этими качествами; но он обладал ими в гораздо большей степени, чем было известно. История утверждает, что он слишком любил общество детей и подростков. Он плутовал из корыстолюбия, а не просто забавы ради; он не поступал подобно Генриху IV, возвращавшему деньги. Он страстно любил подарки; он сплетничал из зависти и злобы; он был исступленно скуп, своенравен до суеверия, набожен до атеизма.
Лене в своем панегирике очень простодушно или, скорее, очень зло сказал о нем:
«Он понимает религию и умеет извлечь из нее выгоду, он как никто проникает в тайники человеческого сердца и в один миг решает, из каких побуждений действуют в каждом случае. Он умеет, не выдавая себя, уберечься от хитростей других людей. Он любит извлекать выгоду. Он мало начинал дел, не заканчивавшихся успехом, выжидая, если нельзя было довести их до конца другим образом. Он умел избегать обстоятельств, в каких мог бы потерять то, что ему причиталось, и пользоваться теми, какие могли бы ему что-то принести… Наконец, — забавно заключает славный Лене, — он показался мне великим и очень необычным человеком».
Пусть будет так! Что касается внешности принца, вот как описывает его перо более прославленное, чем перо Лене, в частном письме:
«Лицо на первый взгляд приятное; удлиненная, довольно пропорциональная голова; в чертах ничего от мощи и странности черт его сына, великого Конде; смеющиеся глаза; в лице, красиво обрамленном длинными волосами, достаточно изящества; приподнятые усы, длинная густая эспаньолка. В очертаниях средней высоты лба, довольно сильно развитого в верхней части, чувствуется неуверенность; в линиях щек — вялость. Этот улыбающийся взгляд из тех за какими, если проявить внимание, ощущается недостаток достоинства и серьезных убеждений, мелкая эгоистичная личность и глубокоебезразличие.
Лучший из его гравированных портретов сопровождается девизом: Semper prudentia»[101].
Статуя Меркурия, бога мошенников, укрепленная на верхушке его донжона, говорит о нем еще больше.
Глава тридцать девятая
Господин Пулен отличался достаточной проницательностью, но вначале его поразила лишь привлекательная внешность принца.
Тот принял его один на один в своем кабинете и пригласил сесть. Он проявлял чрезвычайную обходительность и к самой незначительной сутане.
— Господин аббат, — произнес он. — Я готов выслушать вас. Простите меня; важные заботы вынудили меня заставить вас долго дожидаться этой встречи. Вы знаете, что я должен был съездить за герцогом Энгиенским; затем мне пришлось искать для него другую кормилицу, та, которую выбрала его мать, давала молока не больше, чем камень, и потом… Но поговорим о вас, вы кажетесь мне человеком с сильной волей. Сила воли — прекрасная вещь; но я удивлен, что вы так упрямо обращаетесь ко мне из-за такого мелкого дела. Ваш мелкопоместный дворянин из… Как называется это место?
— Бриант, — почтительно ответил священник. Принц исподлобья взглянул на него и увидел под его смирением достаточную уверенность, которая встревожила его.
Великим умам свойственна склонность постигать и использовать силы, с какими они встречаются. Принц был слишком недоверчив. Его первым побуждением было не столько использовать людей, сколько остерегаться их.
Он притворился безразличным.
— Так, значит, — сказал он, — ваш дворянчик из Брианта убил во время поединка, лучше сказать — странного поединка и вызывающим подозрения образом некоего… Как вы назвали убитого?
— Скьярра д'Альвимар.
— Ах, да! Я это знаю. Я осведомился о нем: это был ничтожный человек, который сам сражался не самым честным образом. Должно быть, эти дворянчики стоили друг друга: в конце концов, какое вам дело?
— Я люблю свой долг, — ответил священник, — и мой долг предписывает мне не оставлять преступление безнаказанным. Господин Скьярра был добрым католиком, господин де Буа-Доре — гугенот.
— Разве он не отрекся?
— Где и когда, монсиньор?
— Меня это не интересует. Он стар, он холост. Он скоро умрет естественной смертью. Околевший пес не укусит! Не вижу, почему надо уделять ему столько внимания.
— Значит, ваше высочество отказывается дать ход этому делу?
— Занимайтесь этим сами, господин аббат. Я вам не препятствую. Обращайтесь к кому следует. Это в ведении магистратуры; я не занимаюсь правонарушениями низших.
Господин Пулен поднялся, глубоко поклонился и направился к двери.
Он был оскорблен и унижен.
— Эй! Подождите, господин аббат, — сказал ему принц, хотевший испытать его, не подавая виду. — Если я вовсе не интересуюсь вашим господином д'Альвимаром, то я очень заинтересовался вами; вы очень умело составляете письма, даете очень важные сведения, и кажетесь мне умным и добродетельным человеком. Ну, поговорите со мной откровенно. Может быть, я мог бы чем-то помочь вам. Скажите, по какой причине вы пожелали увидеться со мной, вместо того, чтобы обратиться к вашим прямым начальникам, к духовенству?
— Монсиньор, — ответил священник, — подобное дело совершенно не в ведении церкви…
— Какое дело?
— Убийство господина д'Альвимара. Я ни о чем другом не хлопочу. Ваше высочество наносит мне оскорбление, считая, что я воспользовался этим происшествием как предлогом для того, чтобы пробиться к нему, для того, чтобы иметь возможность обратиться с какой-то личной просьбой; это совершенно не так. Я был движим лишь огорчением, охватывающим всякого искреннего католика при виде того, как самозванцы вновь начинают красть и убивать в этой стране.
— Вы ничего не говорили мне о краже, — возразил принц. — Этот д'Альвимар владел каким-то имуществом, которое у него похитили?
— Мне это неизвестно, и я совсем не это хочу сказать… Я имел честь написать его высочеству, что этот Буа-Доре обогатился грабежом церквей.
— В самом деле, я припоминаю это, — сказал принц. — Не дали ли вы мне понять, что у него, в его домике, спрятано нечто вроде клада?
— Я сообщил монсиньору точные и верные подробности. Часть сокровищ аббатства Фонгомбо еще находится там.
— По-вашему, можно заставить его вернуть награбленное? Это было бы затруднительно, разве что прибегнуть к помощи законников, но медлительность правосудия позволила бы хитрому старику уничтожить состав преступления. Вы так не думаете?
— Возможно, — ответил аббат. — Господин д'Алуаньи де Рошфор, которого ваше высочество назначило душеприказчиком аббатства Фонгомбо, мог бы принять меры…
— Нет, — живо сказал принц. — Я запрещаю вам… я прошу вас ничего не сообщать ему об этом. Меня достаточно бранили за милости, которыми я вознаградил услуги господина де Рошфора: они не упустят случая сказать, что я обогащаю своих ставленников, грабя побежденных. Впрочем, Рошфора упрекают в алчности и, возможно, это отчасти верно. Я не поручился бы, что он конфискует эти вещи в пользу церкви.
«Я попал в точку, — подумал аббат. — Сокровище заставило его насторожить уши. Монсиньор станет моим должником».
Принц заметил внутреннее, слегка презрительное удовлетворение собеседника. Аббат не был жаден до денег и драгоценных камней. Он жаждал власти. Конде понял, что выдал себя и постарался быть более осторожным в разговоре.
— Впрочем, — прибавил он, — было бы обидно поднять шум из-за пустяка. Этот клад, хранящийся в каком-нибудь старом сундуке на чердаке деревенского дома, не стоит, я думаю, труда, который придется затратить на его поиски.
— И все же этот клад — живой источник роскошной жизни маркиза.
— Он уже давно черпает из него, — возразил принц. — Источник должен был иссякнуть! Я немного знал его, вашего дворянчика; это маркиз потехи ради, в духе Наваррского короля. Он был принят в узком кругу у моего доброго дядюшки!
Конде всегда говорил о Генрихе IV не иначе как с неприязненной иронией. Господин Пулен, заметив горечь в его тоне, улыбнулся, стараясь доставить удовольствие принцу.
— Титул маркиза де Буа-Доре, — сказал он, — шутка, которую этот старик принимает всерьез, навязывая всем свою глупую страсть к покойному королю.
— У покойного короля были хорошие черты, — возразил Конде, нашедший, что аббат зашел слишком далеко, — и старая тварь, о которой мы говорим, далеко не самый страшный из его зверей. Он промотал все свое состояние на смехотворные наряды: должно быть, у него ничего не осталось. Он больше не ездит в Париж, он никогда не появляется в Бурже, он живет в захолустье. У него есть старая карета времен Лиги и маленький замок, где я с трудом разместил бы своих собак. Он велел устроить у себя сады, где статуи — из гипса; все это говорит о среднем достатке.
«Вот, — сказал себе священник, — подробности, которых я вовсе не давал его высочеству. Он осведомился, он клюнул на приманку».
— Это правда, — вслух произнес он, — что человек, о котором мы говорим, — всего лишь мелкий деревенский дворянин. Известно, что у него примерно двадцать пять тысяч экю дохода, и все не без оснований удивляются, что он тратит шестьдесят тысяч, не делая долгов и не покидая дома.
— Значит, аббатства Фонгомбо все еще хватает? — с улыбкой сказал принц. — Но откуда вам известно, господин аббат, что в поместье в Брианте существует этот рог изобилия?
— Я знаю это от одной очень благочестивой девушки, которая видела там церковную утварь и облачения большой ценности. Некая детская кроватка, вся из резной слоновой кости, шедевр, происшедший от балдахина…
— Ба, ба! — сказал принц. — Что за старье! Мы займемся этим, если вы настаиваете, ради чести и блага Церкви, господин аббат; но это дело вовсе не требует большой спешки. Я должен вас покинуть, но прежде я хотел бы знать, не мог бы я оказать вам какую-либо услугу. Ваш архиепископ — мой большой друг: он назначен благодаря мне. Хотите получить лучший приход? Я могу поговорить с ним о вас.
— Я не желаю никакой выгоды в этом мире, — ответил аббат, уходя. — Мне хорошо там, где я могу позаботиться о своем спасении и молиться о благе вашего высочества.
«Это означает, — подумал принц, оставшись один, — что сундуки Буа-Доре еще полны; иначе этот честолюбец прежде всего потребовал бы у меня свое вознаграждение. Он знает, что я останусь доволен и попросит большего, чем то, что я предложил ему. Увидим».
И принц отдал распоряжения.
Вечером того же дня, когда обитатели Брианта, пожелав друг другу доброй ночи, собирались расстаться, Аристандр, охранявший ворота, прислал сказать, что некий дворянин и его свита просят приюта на несколько часов, чтобы отдохнуть. Шел дождь, ночь была темной.
Маркиз велел освещать дорогу и, завернувшись в плащ, сам отправился поднять решетку.
— Мы… — произнес незнакомый голос.
— Входите, входите, господа, — ответил маркиз, верный законам рыцарского гостеприимства. — Укройтесь от дождя. Вы назовете свои имена, если вам будет угодно, когда отдохнете.
Всадники проехали; впереди было двое или трое, один из которых, казалось, командовавший остальными, сделал вид, что хочет спешиться. Буа-Доре не дал ему этого сделать, поскольку камни были мокрыми.
Он пошел впереди с Адамасом, который нес фонарь, и вернулся во внутренний двор с ехавшим за ним гостем, не заметив свиты в двадцать вооруженных человек: один за другим пройдя по мосту, они вслед за господином вошли во внутренний двор, пока тот поднимался по ступеням вместе с владельцем замка.
Этот значительный эскорт удивил Аристандра, который, поскольку в его обязанности входил прием слуг и отпирание конюшен, предложил свите свои услуги. Но они отказались разнуздать лошадей и остались вместе с ними частью вокруг костра, зажженного для них во внутреннем дворе, частью прямо у порога дома.
Когда маркиз вместе с незнакомцем вошел в гостиную, он увидел человека лет тридцати, довольно плохо одетого и невысокого роста. Лицо было сильно затенено шляпой с опущенными полями и мокрыми перьями. Понемногу он смутно разглядел это лицо, не узнавая его или, по меньшей мере, не в силах вспомнить, где он его встречал.
— Кажется, вы совершенно не помните меня? — сказал ему незнакомец. — Правда, что мы виделись очень давно и оба с тех пор сильно изменились.
Маркиз простодушно ударил себя по лбу, прося прощения за отсутствие памяти.
— Не стану терять время, заставляя вас угадывать, — продолжал путник. — Мое имя Лене. Я был почти подростком, когда увидел вас в Париже, у маркизы де Рамбуйе, и возможно даже, что вы совсем не обратили внимания на ту незначительную особу, какой я был тогда. Я и сейчас только советник, в ожидании лучшего.
— Вы заслуживаете сделаться всем, кем только можете пожелать, — любезно ответил Буа-Доре. «Но черт меня побери, — говорил он про себя, — если я помню имя Лене и если я знаю, с кем говорю, хотя его вид смутно напоминает мне кого-то».
— Не старайтесь для меня, — продолжал господин Лене, увидев, что маркиз отдает распоряжения к ужину. — Я должен отправиться в замок, где меня ждут. Меня задержали дурные дороги, и я прошу вас извинить меня за то, в какой час я явился к вам. Но у меня было к вам довольно деликатное поручение, и я должен исполнить его.
Лориана и Марио, сидевшие в будуаре, услышали, что речь идет о делах, и поднялись, чтобы пересечь гостиную и уйти.
— Это ваши дети, господин де Буа-Доре? — сказал путешественник, ответов на поклон, которым они приветствовали его, проходя мимо. — Я всегда считал вас холостяком. Вы женаты или вдовец?
— Ни то, ни другое, — ответил маркиз. — И все же я отец. Вот мой племянник, он — мой приемный сын.
— Вот в чем дело, — продолжал, когда дети вышли, советник с благодушным видом и ласковым тоном. — Его высочество, ваш сеньор и мой, служба у которого в нашей семье переходит от отца к сыну, поручил мне разобраться В достаточно неприятном деле, касающемся вас. Я перейду прямо к сути. Вы устранили некоего господина Скьярра д'Альвимар, который был, подобно мне, вашим гостем, с той разницей, что он был без свиты, какая есть у меня, для охраны меня лично и моих полномочий. Я должен вам сообщить, что под этим окном двадцать вооруженных человек, а в вашем городке — двадцать других, готовых прийти к ним на помощь, если вы примете меня не так, как подобает принимать посланника правителя и главного бальи провинции.
— Это Предупреждение излишне, господин Лене, — очень спокойно и учтиво возразил Буа-Доре. — Вы были бы в еще большей безопасности, если прибыли в мой дом один. Довольно того, что вы были бы моим гостем, а вы к тому же под охраной поручения его высочества, которому я ни в коей мере не собираюсь выказывать неповиновения. Должен ли я следовать за вами, чтобы дать ему отчет в своем поведении? Я готов и, как видите, не волнуюсь.
— В этом нет необходимости, господин де Буа-Доре. Я обладаю неограниченными полномочиями допросить вас и располагать вами в зависимости от того, сочту ли я вас невиновным или виновным… Соблаговолите сказать мне, что произошло с господином д'Альвимаром?
— Я убил его в честном поединке, — уверенно ответил маркиз.
— Но без свидетелей? — с насмешливой улыбкой продолжал советник.
— У него был один, сударь, и из самых уважаемых. Если вы хотите услышать рассказ…
— Это долго? — спросил советник, казавшийся озабоченным. — Нет, сударь, — ответил маркиз. — Несмотря на то, что я, как мне кажется, имею право объяснить дело, где речь для меня идет о чести и жизни, я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени.
Глава сороковая
Буа-Доре вкратце рассказал всю историю и предъявил доказательства.
Советник по-прежнему казался нетерпеливым и рассеянным. И все же его внимание, казалось, сосредоточилось на одной подробности. Это было тогда, когда он слушал рассказ о предсказаниях Ла-Флеша в Мотт-Сейи.
Буа-Доре, считая, что печать его брата — последнее доказательство того, что он и жертва д'Альвимара — одно лицо, счел необходимым упомянуть об этом; но, прежде, чем он успел объяснить точно, в чем состояло незначительное чародейство метра Ла-Флеша, советник прервал его:
— Постойте, — сказал он. — Я вспомнил, что забыл рассказать вам об одном обвинении. Вас подозревают в пристрастии к магии, господин де Буа-Доре! И по этому пункту я заранее оправдываю вас, поскольку не верю в искусство гадателей и вижу в нем лишь забаву для ума. Хотите ли вы сказать мне, что случайно эти бродяги предрекли вам нечто истинное?
— Их предсказание полностью осуществилось, господин Лене! Они объявили мне, что прежде, чем пройдет три дня, я сделаюсь отцом и буду отомщен. Они объявили убийце моего брата, что прежде, чем пройдет три дня, он будет наказан, и все произошло так, как они сказали; но…
— Скажите мне, где сейчас эти цыгане?
— Не знаю. Я больше не видел их. Но мне осталось сказать вам…
— Нет. Этого достаточно, — сказал господин Лене, не оставляя ни своего слащавого тона, ни радостного вида. — Дело выслушано. Я считаю вас невиновным; но вам пришла в голову плохая мысль скрыть этот случай. Подозрения не так легко рассеять: станут, подобно мне, спрашивать, почему вместо того, чтобы объявить о том, что вы покарали убийцу вашего брата, как о поступке, делающем вам честь, вы утаили его, словно речь шла о западне. Я не смогу убедить его высочество…
Здесь Буа-Доре почувствовал желание прервать советника жестом негодования; для него сделалось очевидным, что этот человек, объявив о своих полномочиях, чтобы заставить его говорить, притворяется, будто не может сам оправдать его, желая продать ему свою помощь.
— Я признаю, — сказал он, — что, утаив смерть д'Альвимара, следовал дурному совету, сильно расходящемуся с моим собственным мнением. Мне объяснили, что его высочество — великий католик, а я обвинен в ереси…
— И это правда, бедный мой сударь. Вас считают большим еретиком, и я вовсе не скрываю от вас, что его высочество дурно расположен к вам.
— Но вы, сударь, вы кажетесь мне менее суровым во взглядах, и выразили доверие к моим словам, не могу ли я рассчитывать на то, что вы будете защищать мое дело и будете свидетельствовать в мою пользу?
— Я сделаю все возможное, но ни за что не ручаюсь в том, что касается принца.
— Что же я должен сделать, чтобы он стал благосклонным ко мне? — спросил маркиз, решивший узнать условия сделки.
— Не знаю! — ответил советник. — Ему сказали, что у вас живет итальянец… худший из еретиков, который, по-видимому, вполне может оказаться неким Люсилио Джиовеллино, осужденным в Риме последователем отвратительного учения Джордано Бруно.
Маркиз побледнел: он остался спокойным перед лицом опасности, грозившей ему; та, что грозила его другу, ужаснула его.
— Вы сознаетесь в этом? — непринужденным тоном спросил советник. — Что касается меня, я нахожу этого несчастного достаточно наказанным и не желаю ему большего зла, чем то, какое ему уже причинили. Вы можете сказать мне все. Я постараюсь отвести подозрения принца.
— Господин Лене, — ответил Буа-Доре, повинуясь внезапному вдохновению, — человек, о котором вы говорите, вовсе не еретик, это астролог самой высокой учености. Он не прибегает ни к какой магии и читает в созвездиях человеческие судьбы так искусно, что события жизни, кажется, подчиняются решениям, написанным в небесах. В его действиях нет ничего, что не подобает честному человеку и доброму христианину, и вы не хуже меня знаете, что его высочество, самый ортодоксальный католик во всем королевстве, усердно советуется с астрологами, как всегда поступают самые великие люди, и даже коронованные особы.
— Не знаю, где вы взяли то, что говорите, сударь, — пожав плечами, ответил советник. — Я был и остаюсь приближенным принца, и никогда не видел, чтобы он предавался подобным занятиям.
— И все же, сударь, — уверенно возразил маркиз, — я убежден в том, что он не станет порицать занятий моего друга, и я прошу вас сказать ему, что если он захочет испытать его знания, то останется очень доволен.
— Принц посмеется над вашей уверенностью, но я не отказываюсь поговорить с ним об этом. Займемся самым неотложным, это помочь вам выйти из положения. Я не стану скрывать от вас, что мне поручено провести обыск в вашем жилище.
— Обыск? — произнес изумленный маркиз. — Но с какой целью обыск, сударь?
— С единственной целью точно проверить, нет ли у вас каббалистических книг и инструментов; поскольку вас обвиняют в занятиях магией, и не столько в том, что вы занимаетесь вычислениями и наблюдениями звезд, сколько в подозрительных связях и чем-то вроде поклонения духу зла.
— Право же, вы оставили мне это на закуску, господин советник! Все ли это, в чем меня обвиняют, и не надо ли мне оправдываться в чем-то еще худшем?
— Не вините в этом меня, — сказал советник, поднимаясь. — Я не верю в подобные гнусности с вашей стороны; поэтому я предлагаю обстоятельно показать мне ваш дом, чтобы я мог сказать и поклясться в том, что не нашел в нем ничего неприличного и недостойного. Подумайте о том, что я мог бы заставить вас подчиниться мне; но желая обращаться с вами учтиво, я прошу вас взять факел, и самому посветить мне, и не звать никого из ваших людей, потому что я буду вынужден позвать всех моих, а я намереваюсь повести с собой только пятерых или шестерых, которые находятся у двери этой комнаты.
Луч света промелькнул в голове маркиза: они покушаются на его сокровища.
Он немедленно принял решение. Как он ни любил все эти роскошные игрушки, которые рассматривал как законные трофеи и приятные воспоминания о давних подвигах, он не дорожил ими, и хотя испытал некоторое сожаление от того, что не сможет заставить их дольше доставлять удовольствие его дорогому Марио, он не колебался между этой жертвой и спасением Люсилио, о котором беспокоился гораздо больше, чем о своем собственном.
— Пусть будет так, как вы пожелаете, сударь, — с улыбкой великодушия сказал он. — Откуда вы хотите начать?
Советник обежал взглядом гостиную.
— Здесь у вас, — непринужденно сказал он, — множество изящных и драгоценных вещей; но я не вижу здесь ничего достойного порицания, и я знаю, что вы прячете вашу чертовщину не в комнатах, открытых первому встречному. Мне говорили о запертой комнате, которую вы называете вашим складом, и куда вы допускаете не всех. Именно туда я хочу пойти, и туда вы должны повести меня без сопротивления и обмана, поскольку, помимо того, что у меня есть план вашего дома — а он невелик — у меня есть возможность все здесь перевернуть, и я был бы огорчен, если бы пришлось прибегнуть к этой крайности.
— В этом не будет необходимости, — ответил маркиз, беря факел. — Я готов удовлетворить ваше желание. Ах! И все же, — добавил он, останавливаясь, — у меня нет ключей от этой комнаты, и я не смогу впустить вас в нее без помощи моего старого слуги. Угодно ли вам, чтобы я позвал его?
— Я велю его привести, — сказал советник, открыв дверь.
И, обращаясь к своим людям, стоявшим на площадке:
— Пусть один из вас, — сказал он, — подчиняется господину де Буа-Доре. Приказывайте, маркиз. Как зовут вашего слугу?
Маркиз, видя, что с него не спускают глаз, и что он всецело во власти своего гостя, подчинился и, не выказывая излишней досады, собирался назвать имя Адамаса, когда заметил, что он стоит за копейщиками, охранявшими дверь.
— Адамас, — сказал он ему, принесите мне ключи от склада.
— Да, сударь, — ответил Адамас, — они при мне; вот они; но…
— Войдите, — сказал Адамасу советник.
И, как только тот исполнил приказание, добавил:
— Дайте мне ключи и оставайтесь в этой комнате.
Адамас выглядел потрясенным. Он порылся в кармане камзола и, поглощенный удивительной заботой, ответил советнику:
— Да, сир.
При этом слове советник, словно почувствовав головокружение, оставил свой легкомысленный вид, бросился через всю комнату и быстро толкнул дверь, остававшуюся открытой между ним и его людьми.
— С кем вы, по-вашему, говорите? — воскликнул он. — И почему вы называете меня так?
Адамас стоял, словно оглушенный, и его смятение было в высшей степени странным.
Маркиз слишком часто видел короля ребенком и те его портреты, что были написаны позже, чтобы хоть на минуту поверить в то, что стоящий перед ним человек — молодой Людовик XIII. Он подумал, что его бедным Адамасом овладел приступ безумия.
— Отвечайте же! — нетерпеливо продолжал советник. — Почему вы называете меня королевским титулом?
— Не знаю, сударь, — ответил хитрый Адамас. — Я не знаю ни что говорю, ни где нахожусь. У меня голова кругом идет из-за удивительной новости, которую я только что услышал, и я прошу вашего разрешения сообщить ее моему хозяину.
— Скажите! Говорите! Ну же! — необыкновенно властным тоном воскликнул советник.
— Так вот, мой господин, — сказал Адамас, обращаясь к маркизу, не замечая, казалось, возбуждения советника, — знайте, что король умер!
— Король умер? — снова воскликнул господин Лене, опять устремляясь к двери, как будто собирался уйти, ни с кем не прощаясь.
Но он остановился, охваченный недоверием.
— Откуда вы узнали эту новость? — спросил он, вглядываясь горящими глазами в Адамаса.
— Я узнал ее из решений судьбы… Я узнал ее от самого неба, — сказал Адамас с вдохновенным видом.
— Что хочет сказать этот человек? — снова заговорил господин Лене. — Пусть он объяснится, господин де Буа-Доре; я требую этого, понимаете? И если он сообщил мне ложную весть, горе и ему, и вам!
— Истинная или ложная, сударь, — ответил маркиз, внимательный к волнению своего гостя, — новость поразила и смутила меня не меньше, чем вас. Объясни, Адамас, откуда ты знаешь, что король умер?
— Я знаю это от астролога, сударь! Он показал мне числа, и я их знаю. Я увидел, я понял, я ясно прочел, что только что скончалась наиболее могущественная особа в государстве.
— Наиболее могущественная особа в государстве!.. — задумчиво сказал советник. — Возможно, это не король!
— Вы правы, сударь, — простодушно ответил Адамас. — Возможно, это господин коннетабли. Я недостаточно понимаю знаки… Я мог ошибиться… но, в конце концов, это король или господин де Люинь: я вам своей жизнью в этом ручаюсь!
— Где этот астролог? — живо сказал советник. — Пусть придет сюда, я хочу его видеть!
— Да, сир! — ответил Адамас, еще смущенный и озабоченный, и побежал к двери.
— Подождите, — сказал Лене, остановив его. — Я хочу знать, почему вы называете меня так. Скажите, или я вам голову проломлю!
— Не ломайте ничего, сударь! — возразил Адамас. — Разве вы не видите, что я потерял голову? Это слово сам не знаю как приходит ко мне на уста; сущая правда, как то, что Бог есть на небе: я вижу ваше лицо в первый раз. Должен ли я идти за астрологом?
— Да, бегите! И берегитесь все, если это обман или ловушка! Я подожгу вашу лачугу!
Буа-Доре мог лишь уверять, что совершенно ничего не знает. Он ничего не понимал в поведении Адамаса, и был очень этим обеспокоен.
Он ясно видел, что верный слуга слышал разговор, только что состоявшийся у него с советником, и что он пользовался, ради спасения Люсилио, выдуманным им способом выдать его, за астролога, зная, как и все, уважение, с каким принц Конде относился к мнимому искусству прорицателей. Но пойдет ли на эту уловку серьезный Люсилио? Сможет ли он сыграть свою роль?
«В конце концов, — думал Буа-Доре, — положимся на Провидение и на талант Адамаса! Речь идет только о том, чтобы выгнать отсюда врага, не дав ему захватить ни моего друга, ни меня; затем позаботимся о нашей безопасности».
Глава сорок первая
Через несколько минут появился Адамас с Люсилио. Люсилио, как всегда, был спокоен и улыбался. Он слегка поклонился советнику, глубоко — маркизу, и протянул последнему лист бумаги, заполненный неразборчивыми знаками.
— Увы! Друг мой, — сказал Буа-Доре, — я ничего в этом не понимаю.
— Говорите! — крикнул немому Лене; тот знаком показал, что это для него невозможно. — Напишите хотя бы!
Люсилио сел и написал: «Я здесь не должен ни перед кем отчитываться, кроме маркиза да Буа-Доре; я вас не знаю. Выйдите из этой комнаты, я не стану писать при вас».
— Станете, черт возьми! — вне себя вскричал советник. — Я хочу знать все, и вы ответите!
— Простите его, сударь, — сказал Адамас. — Он, как великие ученые, очень странный и своенравный. Если вы хотите, чтобы он открыл свои секреты, говорите с ним ласково.
— Он хочет денег? — спросил советник. — Он получит их: пусть говорит!
Люсилио отрицательно покачал головой.
Советник, казалось, сидел на горящих углях.
— Ну, — сказал он после минуты беспокойного молчания, — я узнаю, ученый вы или сумасшедший! Взгляните на мою руку и расскажите мне что-нибудь.
Люсилио посмотрел на руку советника, встал и, показав Адамасу свою тарабарщину, знаком велел ему говорить вместо себя.
— Да! Я это ясно вижу, — сказал Адамас. — Эти знаки говорят, что есть один человек, принц… который хочет надеть на свою голову корону Франции; но где человек, у которого этот знак на руке? Я этого не знаю.
Люсилио показал руку советника.
— Так кто же я? — спросил он, очень удивленный.
Люсилио написал три слова, которые прочел один советник, с волнением. Его лицо изменилось и голос смягчился.
— И король умер? — спросил он, дрожа всем телом, словно от страха или радости. — Вы видите теперь, что надо ответить мне?
Люсилио написал: «Король чувствует себя хорошо; но господин де Люинь умер при свете пламени, 15 числа сего месяца, в одиннадцать часов вечера».
Мнимый советник Лене едва успел прочесть эти слова, как не выказывая никакого сомнения, надвинул шляпу на голову, бросился на лестницу и, ни слова не сказав, кроме обращенного к его людям: «В путь!», снова сел на коня и поскакал во весь опор со всей своей свитой, и не подумав ни извиниться перед хозяевами Брианта, ни поблагодарить их, ничего не пообещав и ничем не пригрозив.
Адамас, маркиз и Люсилио, в молчании проводившие их до последней двери, чтобы убедиться, что ничего подозрительного не осталось ни в замке, ни в деревне, вернулись в гостиную, где нашли Лориану и Марио.
Все они были так взволнованы, что несколько минут не говорили ни слова.
Наконец маркиз нарушил молчание:
— Значит, это был принц?
— Да, — сказала Лориана. — Я видела его в Бурже три месяца назад, и я сразу его узнала, когда проходила здесь, чтобы поздороваться с ним. А вы, мой маркиз, вы, стало быть, никогда его не видели?
— Один или два раза я видел его молодым, в Париже, с тех пор — никогда. И все же, когда он назвал имя принца де Конде, объявив себя приближенным к его особе, это имя наложилось на лицо фальшивого советника Лене, и с каждой минутой я все больше убеждался, что имел дело с самим господином. Вот почему я был очень терпеливым; на мое счастье, Господи! Но как случилось, что вы придумали?..
— Господин де Люинь в самом деле умер, от горячки, 15 числа этого месяца, в то время как войска короля грабили и жгли несчастный город Монер на Гаронне. Вот письмо моего отца, которое сообщает мне об этом, и которое один из его слуг, прибывший гонцом за свитой принца, смог тихо передать мне через Клиндора.
— Вот великая новость, дети мои, и она еще раз перевернет всю политику! Но кому из вас пришла в голову мысль?..
— Мне, сударь, — сказал торжествующий Адамас. — Как только мадам Лориана сказала: «Этот чужой человек, что заперся вместе с господином маркизом, — принц и никто иной», мы все четверо спрятались в укромном месте.
— Мы беспокоились о вас, — сказал Марио, — потому что у людей этой большой свиты был подозрительный и угрожающий вид. Это Адамас сразу придумал все.
— Мэтр Жовлен не слишком был склонен на это соглашаться, — добавил Адамас, — но надо было спасать вас, раздумывать было некогда, и он ловко сыграл свою роль, не правда ли, сударь? Теперь его счастье в его руках, и если он хочет занять место или по крайней мере сделаться таким же фаворитом, как знаменитый астролог принца, того, кто предсказал ему, что он станет королем Франции в тридцать четыре года…
— Я заметил, — сказал маркиз Жовлсну, — что вы не могли взять на себя смелость сделать ему такое обещание. Вы лишь сказали ему, что у него есть это стремление. Но что мы будем делать теперь, друзья мои? Поскольку, как видите, нас подло предали, и мы подвергаемся опасностям, о которых вовсе не помышляли.
— Ничего не надо делать, будем сидеть смирно, — решительно ответила Лориана. — Принц сейчас скачет по дороге, ведущей на юг, и не так скоро вспомнит о нас.
— Это правда, — сказал маркиз, — что сейчас он несется по дорогам, чтобы первым прибыть к королю и захватить если не благосклонность, то хотя бы власть, которой располагал господин де Люинь. Это будут сильно у него оспаривать! Рец, Шимберг и Пюизье захотят свою долю, не считая того, что мадам королева-мать и ее маленький люсонский епископ доставят им много хлопот! Ну, а наши мелкие дела уже вылетели из головы нашего доброго принца и, возможно, никогда в нее не вернутся. Если он только не отдал приказаний против нас, прежде чем явиться сюда!
— Нет, сударь, вы ничем не рискуете! — сказал Адамас. — Он хотел ваши сокровища, значительность которых ему сильно преувеличили, раз из-за такой малости такой богатый принц оказал нам честь прийти к нам. Мы предупреждены: мы сумеем спрятать наше небольшое достояние и предоставить в распоряжение любопытных полные хлама сундуки. Мы будем держать в готовности потайной выход из замка и не станем доверять людям, которые являются укрыться от дождя. Но будьте уверены: если принц не вернется снова лично, никому другому это не придет в голову; потому что, если он отдал приказания, так это для того, чтобы никто другой не запустил руку в блюдо, к которому он протянул свою хозяйскую лапу.
Рассуждение Адамаса было вполне справедливым. Закончил он тем, что осыпал тысячью проклятий Беллинду, и справедливо — только она могла узнать и предать огласке настоящее имя мэтра Жовлена, смерть д'Альвимара и существование клада.
Было решено посоветоваться с Гийомом д'Арсом о том, что уместнее — умолчать или объявить о смерти д'Альвимара, и с этой целью маркиз на следующий день после обеда отправился к нему.
Гийома не было дома, он должен был вернуться только вечером.
Маркиз послал нарочного в Бриант с предупреждением, что не стоит беспокоиться, если он вернется поздно, и отправился нанести визит господину Робену де Кулоню, который в то время находился проездом в своих владениях в Кудре, красивом охотничьем королевском округе на возвышенности Верней, примерно в лье от замка д'Арс.
Робен, виконт де Кулонь, главный сборщик податей в Берри и соляной откупщик, был одним из природных врагов бывшего контрабандиста Буа-Доре; и все же их связывала тесная дружба со времен дела Флоримона Дюпюи, сеньора де Ватан.
Те, кто знаком с историей Берри, вспомнят, что в 1611 году этот Флоримон Дюпюи, известный гугенот и крупный контрабандист, похитил из ненависти к налогу на соль одного из детей господина Робена. Маркиз великодушно сам занялся возвращением ребенка отцу, рискуя поссориться с Флоримоном, который был, как говорили его друзья и враги, «очень неуживчивым человеком».
После этого приключения мятеж принял такие значительные размеры, что для того, чтобы справиться с господином Дюпюи в его замке, пришлось послать туда двенадцать сотен пехоты, роту швейцарцев и шесть пушек.
Двадцать девять его людей повесили на месте, на окрестных деревьях, а самому отрубили голову на Гревской площади. Юный Робен впоследствии стал настоятелем монастыря в Соррезе. Господин Робен-отец остался признательным и преданным должником господина де Буа-Доре и можно было подумать, что благодаря этой дружбе маркиза никогда не преследовали за его давнее соучастие и контрабандной торговле солью.
Буа-Доре частично открыл этому верному другу затруднения, какими грозило ему посещение принца, и признался, что особенно встревожен из-за доброго Люсилио, на пребывание которого в его доме ревностные святоши края смотрели неодобрительно.
— Ваши опасения кажутся мне преувеличенными, — ответил виконт. — Господин де Гроот, которого ученые называют Гротиусом, и который в своей стране был приговорен к пожизненному заключению, — не совершил ли он побег, спрятавшись в сундуке, благодаря великодушию и изобретательности своей жены, и не укрылся ли в Париже, где никто его не беспокоит и не притесняет? Почему ваш итальянец не воспользуется во Франции теми же привилегиями?
— Потому что французское правительство, которое очень мало обеспокоено тем, что может вызвать неудовольствие голландских гомаристов[102] и Мориса Нассау, пожелает понравиться папе, преследуя одну из его жертв. Кампанелла двадцать лет в тюрьме, и, хотя во Франции его жалеют и высоко ценят, ничего не делается для того, чтобы вырвать его из рук палачей; Бог знает, дали ли бы ему сейчас убежище у них под носом!
— Возможно, вы правы, — ответил господин де Кулонь. — Что ж, я одобряю вашу идею помочь бежать вашему другу при малейшей опасности, какая станет угрожать вашему замку; но я думаю, что вы должны были бы искать укрытие, куда он мог бы отправиться в случае тревоги. Позаботились ли вы об этом?
— Да, конечно, — ответил маркиз, — и хочу посоветоваться с вами на этот счет. У вас здесь недалеко есть старый необитаемый дом, который кажется мне еще вполне пригодным для жилья, хотя я никогда в нем не был. Это место достаточно близко от моего дома, чтобы человек, поспешив, мог за час до него добраться. Эти развалины находятся рядом с маленькой фермой, принадлежащей вам, и, если вы отдадите приказ фермерам, чтобы они были готовы, на всякий случай, спрятать и кормить моего несчастного беглеца. Хотите ли вы оказать мне эту услугу?
— Маркиз, — ответил виконт, — вы можете потребовать у меня мою жизнь: она принадлежит вам. Мое имущество, мои люди, мои дома по справедливости в вашем распоряжении. Но все же дайте мне обдумать, подходящее ли место, которое вы имеете в виду, поскольку речь идет о моем старом доме в Брильбо.
— Именно!
— Ну, посмотрим: он стоит очень уединенно, и дороги там отвратительные — это хорошо. Через него не проезжают ни в какой город или местечко: это тоже хорошо. Место принадлежит мне, и прево не позволит себе туда ворваться. К тому же, считается, что в развалинах водятся самые непоседливые и шумные духи, какие только бывают, и по этой причине ни один мародерствующий крестьянин туда не заглядывает, ни один прохожий не останавливается. Все лучше и лучше. Да, я вижу, что вы хорошо выбрали, и хочу сегодня же вечером отправиться туда с вами, чтобы отдать фермерам необходимые распоряжения.
Буа-Доре, со своей стороны, поразмыслив, решил, что лучше будет, если он пойдет туда один, чтобы не вызвать подозрений.
— Я немного знаком с вашими арендаторами, — сказал он. — Они когда-то покупали у меня… сами знаете что!
— Да, да, злюка! — смеясь, сказал виконт. — Они дешево покупали у вас соль! Ну хорошо; идите обратно по этой дороге; вода еще не так прибыла, и вы пройдете, не подвергаясь опасности. Вы как бы случайно скажете Жану Фароде, арендатору, о необходимости прийти ко мне ранним утром; вы взглянете на руины и хорошо осмотрите окрестности, чтобы иметь возможность дать сведения вашему другу; и даже хорошо бы прийти туда тайно следующей ночью, чтобы знать все входы и выходы. Таким образом, если он будет вынужден там укрыться, он сможет, по необходимости, незаметно исчезнуть.
— Договорились, — сказал маркиз, — и примите тысячу благодарностей за покой, который вы доставили моему духу.
Виконт оставил маркиза поужинать; после чего тот, сев в свою карету, с наступлением ночи снова направился в Арс по дороге ничем не лучше той, что вела в Брильбо; это направление было избрано потому, что он не хотел появляться в своей карете, привлекавшей всеобщее внимание, поблизости от этих развалин.
Проявив еще большую осторожность, чем советовал ему господин Робен, он вышел из кареты в четверти лье от того места, которое хотел осмотреть, приказал своим людям потихоньку ехать в Арс, и, вступив на одну из тысячи тропинок, на какие, возможно, никогда не ступала нога господина де Кулоня, но которые были знакомы старому контрабандисту не хуже, чем проходы в его заповеднике, скрылся в сырых лугах, подтянув перед тем выше колен свои высокие сапоги.
Глава сорок вторая
Ночь была довольно теплой и не слишком темной, несмотря на большие черные тучи, которые ветер гнал, открывая в небе длинные разрывы, полные звезд, внезапно смыкавшиеся, чтобы снова образоваться в другом месте.
Говорят, что наши предки — дворяне или мещане — несомненно, были крепче, чем сегодня мы, в то время как наши предки рабочие и крестьяне — напротив, были менее здоровыми.
Так считают старики моей страны, и их взгляды кажутся мне обоснованными: у зажиточных людей была привычка к свежему воздуху и к движению, современная жизнь избавила нас от этого или лишила. Дворянин, который вел образ жизни воина или охотника, до преклонных лет сохранял силу и здоровье. Бедные классы жили хуже и хуже питались, чем в наши дни, не говоря об огромном количестве несчастных, которым совсем нечего было есть и негде жить.
Буа-Доре, несмотря на свои шестьдесят девять лет и на привычку к изнеженности, сохранил хорошее зрение, грудь, не поддающуюся простуде, и достаточно легко ходил по голой земле или мокрой траве.
Несколько раз он поскользнулся у кустов, но ухватился за ветки, как человек, который умеет передвигаться на местности, где неровности почвы однородны на большом пространстве.
Благодаря своей быстрой ходьбе, он за десять минут добрался до фермы в Брильбо.
Зная боязливый и суеверный характер крестьян, он кашлянул и заговорил прежде, чем постучать; затем, постучав, назвал себя, и был принят если не без удивления, то, по крайней мере, без страха.
Хотя участь земледельцев была еще очень жалкой, в Берри она была такой в меньшей степени, говоря в нравственном смысле, поскольку это давно был край внесеньориальных владений, по сравнению со странами рабства. Кроме того, в этой части, которую называют Черной Долиной, материальные ресурсы всегда обеспечивали испольщику или арендатору относительное благополучие, сохранявшее его при больших бедствиях или больших эпидемиях.
В это время лепрозории (приюты для прокаженных) были уже пусты; чума, еще такая частая гостья в Бренне и в окрестностях Буржа, редко свирепствовала в Фромантале. Жилища в Марше и Бурбонне были грязными и смрадными, у нас же — крепкими и хорошо устроенными, как свидетельствует большое число старых сельских домов XI и XV веков, еще стоящих и легко узнаваемых по своим огромным черепичным крышам, камням, обтесанным в форме призмы, окаймляющим двери, и мансардам, над которыми возвышаются большие украшения из терракоты, отделанные мелкими фигурками.[103]
Так что маркиз смог без отвращения войти в жилище фермеров, сесть у очага и несколько минут поговорить.
«Добрый господин», всеми любимый, мог без опаски доверить Жану Фароде и его жене возможную заботу о своем друге, преследуемом, как он сказал, за охотничье правонарушение, и, когда он объявил им, что их хозяин, господин Робен, хочет видеть их на следующее утро, чтобы отдать соответствующие распоряжения, они проявили радость и готовность к повиновению, ответив привычными в этом краю словами искреннего желания и любезности: «Это можно устроить!»
И все же жена Фароде, которую называли Большая Катлин, не могла удержаться от того, чтобы пожалеть того, кому хотя бы одну ночь придется провести в замке Брильбо.
Она твердо верила, что там есть привидения, и ее муж, высмеяв ее, чтобы угодить скептицизму маркиза, в конце концов признался, что предпочел бы умереть, чем войти туда после захода солнца.
— Присутствие моего друга, — сказал маркиз, — надеюсь, успокоит вас, потому что я обещаю вам, что оно прогонит злых духов; но, поскольку вы не слишком боитесь входить туда днем, я прошу вас завтра же положить дров в камин и устроить постель в лучшей комнате.
— Мы отнесем туда все, что надо, дорогой сударь, — ответила Большая Катлин, — но несчастный христианин, который придеттуда, глаз не сомкнет. Он всю ночь будет слышать шум и потасовки, как мы это слышим. Господи! И как вы услышите сами, если только захотите подождать один часочек.
— Я не могу ждать, — сказал маркиз, — и к тому же, зная, что я здесь, духи не пошевельнутся. Я хорошо знаю их трусость, потому мне никогда не удавалось услышать в рождественскую ночь голоса, кричащие на верхушке донжона в Брианте, так же, как увидеть двери, открывающиеся сами собой в Мотт-Сейи, и белую даму, которая отдергивает полог постелей у господина Гийома д'Арса.
— Это возможная вещь, господин Сильвен, — с самонадеянным видом сказал арендатор, — что в нашем старом замке есть привидения. Известно, что и в других они могут быть, потому что нет ни одного, где не совершилось бы большое зло, или где бы его не терпели; это причиной тому, что несчастные христиане, телесно страдавшие или подвергавшиеся мучениям в этих домах, возвращаются туда душами, которые стонут и просят молитв или справедливости. Но в замке Брильбо, который никогда не был обитаем, никому не причинили ни хорошего, ни дурного, насколько я знаю.
— Надо думать, — сказала женщина, которая, продолжала разговаривать, проворно прядя пряжу, — что прежний сеньор умер вдали, трагической смертью и в грехе: вы ведь знаете предание Брильбо? Это недолгая история. Один сеньор поднял этот дом до конька кровли, и уехал в святую землю вместе с семерыми своими сыновьями, откуда не вернулся ни он сам, ни один из них. Замок продавали и перепродавали, и никому он был не по вкусу. Думали, что он приносит несчастье в семьи: поэтому во все времена он служил лишь для того, чтобы убирать туда урожай. Его покрыли крышей, которая уже прохудилась, но там есть еще две красивые комнаты и большой зал, такой большой, что два человека, встав в противоположных его концах, едва узнают друг друга.
— Можете ли вы дать мне ключи? — спросил маркиз. — Я хотел бы заглянуть внутрь.
— Ключи — вот они; но, Бога ради, дорогой господин Сильвен, не ходите туда! Это час, в который начинается шабаш.
— Ну какой шабаш, милые мои? — смеясь, сказал маркиз. — Какие они из себя, эти гадкие черти?
— Я никогда их не видел, сударь, и не желаю видеть, — ответил фермер, — но я хорошо слышу их, слишком хорошо слышу! Одни стонут, другие поют. Этот смех, и еще крики, и ругань, и плач до самого рассвета, когда все уносит ветер, потому что там хорошо заперто, и ни один человек не может войти без моего ведома или разрешения.
— Не могут ли это быть ваши батраки с фермы, забавы ради, или какой-нибудь грабитель, чтобы помешать вам обнаружить краденое?
— Нет, сударь, нет! Наши работники и слуги так сильно боятся, что ни за какие деньги вы не заставите их приблизиться к замку на два выстрела из пищали после захода солнца; и вы видите, что они даже не спят больше в нашем доме, потому что говорят, что он слишком близко стоит к проклятой постройке. Они все спят в риге, там, в глубине двора.
— Тем лучше для маленькой тайны, которая появилась у нас с вами сегодня, — сказал маркиз, — но, может быть, тем лучше и для тех, кто изображает привидения с единственной целью обокрасть вас!
— А что они могли бы украсть, господин Сильвен? В замке ничего нет. Когда я увидел, что черт зажигает там огни, я испугался пожара и убрал оттуда весь урожай, кроме нескольких жалких вязанок хвороста и десятка охапок сена и соломы, чтобы не слишком задеть их, потому что говорят, будто домовые очень любят развлекаться среди дров и корма; и в самом деле, я обнаружил беспорядок и следы, как будто там побывали пятьдесят живых существ.
Маркиз знал, что Фароде очень правдив и неспособен сочинить что бы то ни было для того, чтобы избавить себя от оказания услуги.
Так что он начал думать, что, если в старом замке показывались огни, если слышались голоса, и особенно если ноги или тела мяли и разбрасывали корм, в этих событиях было больше действительного, чем бесовского, и что замок, куда арендатор и его жена, как они признались, уже больше шести недель не решались войти, вполне мог уже послужить укрытием нескольким беглецам.
«Вызывают ли они сочувствие или они — злодеи, я хочу их видеть», — сказал он себе.
И, поместив поудобней обнаженную шпагу, держа в одной руке ключи от замка, а в другой — фонарь, он направился через луга к безмолвным руинам.
Фароде, при виде того, как его жена сетует на смелость доброго господина, постыдился оставлять его одного и решился последовать за ним.
Но, когда маркиз перешел неподвижный мост, он увидел, что несчастный крестьянин сильно дрожит, решил, что человек в таком состоянии скорее помешает, чем поможет ему, и попросил его дальше не ходить.
Большая часть замков Черной Долины, даже относящихся к раннему средневековью, расположены в самых глубоких ложбинах, вместо того, чтобы помещаться на возвышенностях, как в Марше или Бурбонне. Это отклонение имеет вполне правдоподобную причину.
В стране, где нет значительных крутых откосов, должны были искать основной способ защиты в водных путях.
Поэтому в Брильбо, как и в Брианте, как в Мотт-Сейи, в Сен-Шартье, в Мотт-де-Пресль, и так далее, замок стоит среди изгибов реки, способной питать своими проточными водами двойной ров, окружающий ограду.
Мост, через который входят за первую из этих стен, очень узкий, и опирается на ряд арок очертаний, колеблющихся между полукруглыми и стрельчатыми.
Весь замок переходной архитектуры: фасад имеет странную форму; двери и окна над лестницей на несколько метров углубились в основную кладку, словно для того, чтобы защититься от внешних нападений.
Верхняя часть здания должна была изгибаться в этом месте, но незаконченная постройка изуродована крышей, не соответствующей зданию.
Маркиз подошел к подножию замка по самой короткой тропе; стены были так разрушены и побиты столькими проломами, рвы были засыпаны в стольких местах, что не было необходимости искать ворота.
Он бесшумно отворил дверь замка, маленькую и низкую под пологой аркой, над которой поднималась украшенная цветами стрелка свода.
Там он наполовину приоткрыл свой фонарь, чтобы видеть, что у него под ногами, вспомнив предупреждения арендатора об осторожности на лестнице.
Глава сорок третья
Маркиз вступил на очень красивую лестницу в форме спирали, шириной на шесть человек и легкую, словно перья веера. Она была сделана из довольно хрупкого белого камня; многие ступеньки совершенно разбиты какой-то упавшей верхней частью здания; но те, что остались, казались только что обтесанными и на них не было ни малейшего следа порчи. При каждом полуобороте спирали начальную ступеньку поддерживали гримасничающее лицо, фантастическое животное или торс вооруженного человека, вылепленные на стене.
Маркиз развлекался рассматриванием этих изображений, казалось, шевелившихся в мерцающем свете его фонаря.
Он поднимался медленно, прислушиваясь на каждой площадке; и, поскольку не слышалось никакого другого шума, кроме ветра в кровле, поскольку двери залов, мимо которых он шел, были заперты на замок, он все больше и больше сомневался в присутствии каких-либо обитателей. Так он добрался до последнего этажа, где находились две комнаты, предназначавшиеся владельцу замка.
В средние века принято было помещаться под самой крышей и ломать лестницу, если понадобится выдержать осаду в собственных покоях, поэтому часто лестницу не доводили до конца, и владелец замка забирался к себе по приставной лесенке, которую затем убирали. Иногда ступеньки последнего этажа умышленно делали такими тонкими, что довольно было нескольких ударов кирки, и они разбивались.
Именно так было в замке Брильбо: но надломы, каких должен был остерегаться маркиз, происхождением своим, как мы и сказали, были обязаны случайностям, и он смог своими длинными ногами, без серьезной опасности, перебраться через эти просветы.
Поскольку в тех двух комнатах, о которых говорил арендатор, должен был, в случае необходимости, жить Люсилио, Буа-Доре первым делом вошел туда, чтобы посмотреть, есть ли там оконные рамы или хотя бы сплошные ставни на окнах. Все окна на лестнице, узкие и глубокие, с каменной скамьей, косо сидящей в проеме, пропускали бурные порывы ветра, от которых он с трудом защищал свой светильник.
Но перед тем, как открыть эти принадлежавшие сеньору комнаты, от которых у него были ключи, маркиз заколебался.
Если замок служил кому-либо убежищем, и этот кто-то находился здесь, то, застигнутый в месте отдыха, он станет обороняться, не дожидаясь объяснений. Так что этот осмотр требовал некоторой осторожности. Маркиз не верил в привидения и тем менее боялся живых, так как не шел к ним с дурными намерениями. Если там прятался какой-то несчастный, кем бы он ни был, маркиз решил оставить его в покое и не выдавать тайну, случайно открытую.
Но первый испуг скрывающегося мог оказаться опасным. Маркиз не произвел почти никакого шума, входя и поднимаясь, поскольку ничто не шелохнулось. Он должен был, насколько возможно, узнать правду, не позволив ни увидеть, ни услышать себя, или, по крайней мере, не показываясь внезапно.
С этой целью он вошел в комнату без двери, где царила самая глубокая тьма, поскольку все окна были забиты досками или заткнуты соломой. Пол был покрыт слоем пыли и измельченного цемента такой толщины, что он гасил шаги, словно зола.
Буа-Доре долго шел, едва видя, куда направляется. Он закрыл свой фонарь, не защищенный ни стеклом, ни рогом, но лишь полуцилиндром из кованой стали, в котором были пробиты маленькие отверстия, по обычаю этого края. Он осмелился снова открыть его, лишь достигнув конца этого огромного помещения, и вполне убедившись, что находится в совершенно спокойном и безмолвном месте.
Тогда он поставил свой светильник на пол перед собой и отступил в большой камин, находившийся рядом с ним.
Там его глаза постепенно привыкли к столь слабому свету в таком обширном пространстве, и маркиз смог различить зал, тянувшийся во всю длину замка.
Он оглядел камин, в котором стоял. Как и все остальное, он был высечен из белого камня, и угловой цоколь, входящий в кладку основания, казался вытесанным накануне, такими свежими были выступы камня; двойной багет рамы был без каких-либо выемок или пятен, как и чистый гербовый щит, венчавший колпак. На самой трубе и в неоштукатуренном очаге не было следов огня, дыма или золы. Неоконченное сооружение никогда не использовалось, это было очевидно. Никто никогда не занимал прежде и теперь эту холодную пустынную комнату.
Убедившись в этом, маркиз осмелился пойти посмотреть вблизи, почему этот огромный неф на половине своей глубины пересекается идущим поперек барьером из досок высотой по грудь. Оказавшись там, он увидел провал. Пол обвалился или был полностью разобран, так же, как и на нижних этажах, во всей этой половине здания, возможно, для того, чтобы удобнее было убирать хлеб.
Взгляд проникал в темное помещение, казавшееся большим, как церковь.
Буа-Доре находился там уже несколько минут, пытаясь составить представление об ансамбле, когда из глубин, которые тщетно исследовал его взгляд, к нему поднялся какой-то стон.
Он вздрогнул, закрыл и спрятал за досками фонарь, затаил дыхание и навострил уши, несколько тугие и способные обмануться в природе звуков.
Не была ли это дверь, ставень, раскачиваемый ветром? Он не прождал и трех минут, как та же жалоба, еще более отчетливая, повторилась, и в то же время ему почудилось, что слабый луч света, исходивший из глубины провала, осветил дно здания, по отношению к нему представлявшее буквально пропасть.
Он встал на колени, чтобы его не увидели, и посмотрел сквозь доски, служившие перилами.
Свет быстро прибавлялся и вскоре сделался достаточно ярким для того, чтобы увидеть или, скорее, угадать в неясной путанице тени и света глубину зала первого этажа, такого же большого, как тот, в котором он находился, но который до того, как обрушились промежуточные этажи, должен был намного больше возвышаться, насколько он мог судить об этом по началу стрелок свода, опиравшихся на консоли, украшенные изображениями животных и фантастических персонажей, большими и сильнее выступающими, чем те, что он уже видел на лестнице.
Вместо всякой обстановки виднелись несколько куч сухого фуража и половицы, стоявшие в глубине в виде загородки, вместе с остатками яслей. Этот нижний этаж долгое время служил стойлом для быков. Среди половиц можно было заметить остатки ярем и сошников. Затем все снова погрузилось во мрак, и свет, поднимаясь, озарил кусок стены, образовывавшей щипец здания, который маркиз видел перед собой на расстоянии сорока футов.
Этот свет, то красноватый, то бледный, шел от невидимого очага, расположенного под сводом нижнего этажа, то есть в неразрушенной части, соответствующей той, откуда маркиз наблюдал эту сумрачную и зыбкую картину.
Вдруг под этим сводом раздался шум дверей, шагов и голосов, и путаница беспокойно движущихся теней, то огромных, то приземистых, обрисовалась на большой стене самым причудливым образом, словно множество людей ходили взад и вперед перед большим очагом.
«Вот это довольно забавная игра в прятки, — подумал маркиз, — и нельзя отрицать, что замок полон блуждающих и говорящих теней. Узнаем, о чем они говорят».
Он послушал; но, среди неясного шума слов, пения, стонов и смеха не смог уловить ни одной фразы, ни даже слова.
Невероятная гулкость свода, отражавшего звуки, как тени, на противоположную стену, смешивала все голоса в один, все обращая в невнятный шорох.
Маркиз не был глухим, но у него была присущая старикам чувствительность слуха: они очень хорошо слышат диапазон умеренных звуков и отчетливо произнесенных слов, но шум, смесь голосов беспокоит и задевает без результата.
Он улавливал лишь модуляции голоса и ничего больше; то грубого и хриплого, казалось, что-то рассказывавшего, то напевающего песню, внезапно прерывавшуюся угрожающими звуками, а затем чистый голос словно насмехался и передразнивал остальных, вызывая бурю неудержимого смеха.
Иногда это были довольно длинные монологи, потом диалоги двоих или троих, и внезапно крики гнева или радости, похожие на рев. В общем, могло быть, что эти люди говорили на языке, которого маркиз не знал.
Он внушил себе, что это всего лишь шайка бродяг или безработных фокусников, живущих кражами и проводящими плохие зимние дни, укрываясь в этих развалинах, а возможно и скрываясь в связи с каким-то преступлением.
Этот смех, эти странные костюмы, вырисовывающиеся перед ним, словно в театре теней, эти длинные речи, эти оживленные разговоры, возможно, имели отношение к занятиям неким шутовским искусством.
«Если бы я находился к ним поближе, — подумал он, — я мог бы позабавиться этим; человека не могут плохо принять в самом дурном обществе, если он войдет, любезно предлагая свой кошелек».
Он снова взял свой фонарь и собирался спуститься, когда разговоры, пение и крики сменились криками животных, такими реальными и так превосходно воспроизведенными, что можно было подумать — задний двор пришел в волнение. Бык, осел, конь, коза, петух, утка и ягненок кричали все разом. Затем все смолкли, словно слушая лай своры, звук рога, все шумы охоты.
Среди всего этого пронзительно кричал ребенок, то ли подражая остальным, то ли испугавшись во сне, и Буа-Доре увидел, как прошла маленькая тень, похожая на ребенка, но двигавшаяся, как обезьяна. Затем появилась большая голова, покрытая чем-то вроде шлема, украшенного султаном, обрисовав на освещенной стене причудливый нос, затем косматая голова, кажется в скуфье, обращавшаяся к длинному силуэту, долго остававшемуся неподвижным, словно статуя.
Когда волнение улеглось, тень огромного распятия крестом перерезала всю стену.
Свет, казалось, переместился, и этот крест стал совсем маленьким; наконец он исчез, и единственное очень четкое изображение появилось на его месте, в то время как замогильный голос монотонно произносил молитву, кажется, ту, что читают над умирающим.
Глава сорок четвертая
Буа-Доре, оставшийся на месте ради забавы, которую предоставляли ему эта фантасмагория и эти странные звуки, начал чувствовать холод, заставлявший его стучать зубами, как только началось это скучное монотонное чтение.
На этот раз, решившись пойти взглянуть, что происходит, он все же задержался, остановленный невероятным сходством, какое явило ему последнее видение.
Оно делалось все более точным и определенным по мере того как заунывный голос произносил свою мрачную молитву, и маркиз, завороженный и неподвижный, не мог отвести от него глаз.
Эта голова, такая узнаваемая по своей короткой стрижке «недовольного» и обрамлявшему ее испанскому «мельничному жернову», по определенным, угловато-изящным чертам, наконец, по особой форме бороды и усов, была головой д'Альвимара, откинутой назад в своем смертном окоченении.
Вначале Буа-Доре отгонял от себя эту мысль; затем она сделалась наваждением, уверенностью, волнением, невыносимым ужасом.
Применительно к себе он никогда не верил в привидения. Он говорил и думал, что, никогда не предав никого смерти из мести или жестокости, мог быть уверен, что ни одна страждущая Или разгневанная душа никогда не посетит его; но, как большинство здравомыслящих людей своего времени, он не отрицал того, что духи возвращаются на землю и людям являются привидения, о свойствах которых рассказывали столько достойных веры особ.
«Этот д'Альвимар действительно умер, — подумал он, — и потрогал его холодные конечности; я видел, как сняли с коня его уже окоченевшее тело. Он в течение недель покоится в земле, и все же я вижу его здесь, я, который не видел ничего сверхъестественного там, где другие видели ужасных призраков. Был ли этот человек, вопреки всякой вероятности, не виновен в преступлении, в котором я обвинил его и за какое покарал? Не упрек ли это моей совести? Не выдумка ли моего мозга? Или холод этих руин охватил меня и смущает? Что бы там ни было, — подумал он затем, — с меня довольно».
И, ощущая головокружение, предвещающее обморок, он дотащился до лестницы. Там он немного пришел в себя и стал увереннее спускаться по разбитой спирали.
Но, оказавшись внизу, он, вместо того, чтобы окрепнуть духом и попытаться проникнуть в комнаты нижнего этажа, не захотел больше ничего видеть и слышать и, подгоняемый невыносимым омерзением, бросился бежать через поля, поверяя сам себе свой страх, и готовый простодушно признаться в нем любому, кто спросит у него отчета.
Он нашел арендатора, который, ни жив ни мертв, ждал его на мосту.
Для славного малого это был героический поступок — остаться там и ждать. Он был неспособен сказать или выслушать что бы то ни было и, лишь вернувшись вместе с маркизом в свой дом, решился расспросить его.
— Ну что, мой бедный дорогой господин Сильвен, — сказал он, — я надеюсь, что вы вдоволь нагляделись на их огни и наслушались их криков! Я уж думал, что вы никогда не вернетесь!
— Это верно, — сказал маркиз, выпив стакан вина, предложенный ему фермершей, который он нашел вовсе не лишним в эту минуту, — что в этих развалинах есть что-то необычное. Я не встретил там ничего способного причинить зло…
— Но все же, мой добрый господин, — сказала Большая Катлин, — вы белее, чем ваши брыжи! Погрейтесь-ка, сударь, чтобы не заболеть.
— Правду сказать, я замерз, — ответил маркиз, — и мне показалось, что я вижу вещи, которых, возможно, не видел вовсе; но ходьба укрепит меня, и я боюсь, что мои домашние забеспокоятся, если я еще задержусь. Доброй ночи вам, добрые люди! Выпейте за мое здоровье.
Он щедро вознаградил их за услужливость и отправился к своей карете, которая ждала его в условленном месте. Аристандр был встревожен, но маркиз заверил его, что ничего неприятного с ним не случилось, и славный возница вообразил, что Адамас ничего не приврал, уверяя, что у хозяина еще бывают любовные приключения.
— Должно быть, на этой ферме, — тихонько сказал он Клиндору по дороге, — есть какая-нибудь хорошенькая пастушка!
Он утвердился в этой остроумной идее, когда его господин запретил ему рассказывать о его прогулке по лугам.
Вместо того чтобы остановиться в Арсе, маркиз велел ехать, прямо в Бриант. Он был удивлен и уже немного стыдился той минуты страха, что заставила его покинуть Брильбо, ничего не узнав.
«Если я об этом заговорю, надо мной станут смеяться, — подумал он. — Будут шептаться, что я заговариваюсь от старости. Лучше никому в этом не признаваться, и, поскольку мне безразлично, кто захватил Брильбо — шайка балаганных фокусников или чародеев, я поищу для Люсилио какое-нибудь другое, более спокойное укрытие».
По мере того, как он приближался к своему дому, его отдохнувший ум вопрошал себя о том, что он испытал.
Его поразило то, что страх охватил его в минуту, когда ничто к тому не располагало, и когда, напротив, он смеялся над проделками этих домовых и над забавной причудливостью их портретов на стене.
Вследствие своих размышлений на эту тему он остановил Аристандра у лугов Шанбона и пешком спустился по короткой тропинке, что вела к хижине Мари-творожницы.
Эта хижина еще существует; в ней еще живут огородники. Это источенный червями домишко, с одного боку к которому пристроена башенка с лестницей, сложенная из камней без раствора. Красивый фруктовый сад, со всех сторон окруженный грубой изгородью и зарослями дикой ежевики, как уверяют, был подарком Мари от господина де Буа-Доре.
Он застал там брата облата[104], делившего монастырское пропитание с любовницей, а та делилась с ним вином и плодами из своего сада.
Впрочем, их союз не был открытым; они соблюдали некоторые предосторожности, чтобы их «не заставили пожениться», и таким образом не отняли льготы инвалида, какими Хромой Жан пользовался в монастыре кармелитов.
— Ничего не бойтесь, друзья мои, — сказал маркиз, нарушивший их уединение. — У нас есть общие секреты, и я только хочу сказать вам два слова…
— Есть, мой капитан! — ответил Хромой Жан, вылезая из-под стола, где прятался. — Я прошу у вас прощения, но я не знал, кто приближается к дому, а на мой счет ходит столько всяких слухов!
— Конечно, совершенно несправедливых! — улыбаясь, сказал маркиз. — Но ответь мне, друг мой; я не виделся с тобой со времени некоего события. Я передал тебе небольшое вознаграждение через Адамаса, которому ты поклялся, что в точности исполнил мои приказания. Сегодня вечером у меня есть минута поговорить с тобой без свидетелей, и я хочу узнать от тебя некоторые подробности того, как ты сделал это дело.
— Что, мой капитан? Не существует двух способов похоронить мертвеца, и я совершил христианские богослужение так же по-христиански, как совершил бы его приор моей общины.
— Я в этом не сомневаюсь, приятель; но был ли ты осторожен?
— Мой капитан сомневается во мне? — воскликнул увечный с чувствительностью, особенно усиливавшейся в нем после ужина.
— Я сомневаюсь не в твоей скромности, Жан, но немного — в твоей ловкости, с какой ты утаил это погребение; поскольку о смерти господина д'Альвимара сегодня известно моим врагам, и все же я не могу усомниться в верности моих людей, равно как и в твоей.
— Увы! Господин маркиз, не только ваши люди были посвящены в тайну, — рассудительно заметила Мари. — Люди господина д'Арса могли проговориться, и кроме того, не искали ли вы в ту ночь человека, которого хотели схватить и который скрылся?
— Это правда; я виню его одного. Я пришел вовсе не за тем, друзья мои, чтобы упрекать вас, но для того, чтобы спросить, где, когда и каким образом вы погребли это тело?
— Где? — спросил Хромой Жан, глядя на Мари. — В нашем саду и, если вы хотите видеть место…
— Меня это не занимает. Но было ли совсем темно или светало?
— Это было около… двух или трех часов ночи, — с некоторой неуверенностью ответил облат, посмотрев снова на рябую старую деву, которая, казалось, взглядом подсказывала ему ответы.
— И никто вас не видел? — снова спросил Буа-Доре, пристально изучая обоих.
Этот вопрос окончательно смутил облата, и маркиз перехватил новые заговорщические взгляды между ним и его подругой.
Для него становилось очевидным, что они опасались быть увиденными, и из страха, что их слова опровергнет достойный доверия свидетель, они не осмеливались описывать подробности того, каким образом они выполнили замысел маркиза.
Буа-Доре поднялся и повелительным тоном повторил вопрос.
— Увы! Мой добрый сеньор, — сказала Мари, упав на колени, — простите этому несчастному, увечному телом и разумом, который, может быть, многовато выпил сегодня вечером и не способен изъясняться как следует!
— Да, простите меня, мой капитан, — прибавил калека, явно растроганный состоянием собственного мозга, и тоже встав на колени.
— Друзья мои, вы обманули меня! — сказал маркиз, решивший добиться у них признания. — Вы вовсе не похоронили сами господина д'Альвимара! Вы испугались, или не решились, или испытали отвращение; вы сообщили господину Пулену…
— Нет, сударь, нет! — с силой воскликнула Мари. — Мы никогда на сделали бы подобной вещи, зная, что господин Пулен против вас! Поскольку вы знаете, что мы ослушались вас, вы должны знать и то, что в этом нет нашей вины, и что сам дьявол в этом замешан.
— Расскажите, что произошло, — продолжал маркиз. — Я хочу знать, скажете ли вы мне правду.
Садовница, уверенная, что маркиз знал об этом больше, чем она сама, очень чистосердечно поведала нижеследующее:
«Когда вы уехали, мой дорогой сударь, первой нашей заботой было перенести этого мертвеца в наш сад, где мы покрыли его большим соломенным щитом; поскольку мне совершенно не хотелось вносить его сюда и я не видела в этом никакой необходимости. Признаюсь, что я очень боялась его, и что для всякого другого, кроме вас, добрый мой господин, я не пожелала бы принимать подобное общество.
Жан назвал меня дурой и смеялся, допивая свой кувшинчик вина, якобы для того, чтобы предохранить себя от ночной прохлады, но вполне возможно, чтобы отогнать от себя печальные мысли, какие всегда приходят в голову при виде мертвеца, каким бы черствым ни было ваше сердце.
Надо признаться вам также в том, что первой заботой этого несчастного Жана, что здесь стоит, было взять то, что находилось в карманах этого покойника и в дорожной сумке, которой был навьючен конь, что принес его сюда… Вы ничего не сказали, и мы подумали, что это причитается нам, и мы сидели здесь и считали на столе деньги, чтобы в точности вернуть все вам, если вы явитесь потребовать их.
Там был довольно большой кошелек, полный золота, и Жан, продолжая пить, с удовольствием на него смотрел и перебирал. Что поделать, сударь! Такие бедные люди, как мы! Так и тянет к этому прикоснуться. И мы строили планы, как распорядиться этим богатством. Жан хотел купить виноградник, а я говорила, что лучше фруктовый сад с плодоносящим орешником; и наполовину смеясь оттого, что видели себя такими богатыми, наполовину споря о том, как поступить с нашим имуществом, мы больше не думали о мертвеце, когда стенные часы пробили четыре часа утра.
— Теперь, — сказала я этому бедняге Жану, — мне уже не страшно, и, поскольку ты не очень ловок со своей деревянной ногой, поскольку ты слегка припадаешь к тому же на здоровую ногу, я хочу помочь тебе выкопать могилу. Я никогда не пожелала зла ни одному живому существу, но, поскольку этот господин мертв, я не желаю ему воскреснуть. Есть такие люди, которые, уходя, приносят пользу оставшимся.
Я должна признать себя виновной в том, дорогой сударь, что это были все молитвы, которые мы — этот негодный Жан и я — произнесли над этим усопшим.
Таким образом, взяв заступ, мы оба вернулись в сад и подняли соломенный щит, под которым спрятали тело. Но каково же было наше удивление, сударь? Под ним ничего не было: у нас украли нашего мертвеца!
И вот мы стали искать, мы все перевернули: ничего, сударь, ничего! Мы думали, что сошли с ума, и что нам приснилось все, что приключилось в ту ночь, и я быстро побежала взглянуть, не были ли деньги видением.
И что же, сударь, если бы здесь не было вас и вы нас не расспрашивали, вы могли бы поверить, что дьявол подшутил над нами: ящик, куда я положила кошелек и драгоценности, был открыт, и все исчезло из дома, пока мы были в саду, как покойник исчез из сада, пока мы были в доме».
Заканчивая этот рассказ, Мари стала горевать о пропаже денег, и облат, только и искавший случая поплакать, стал проливать слишком искренние слезы, чтобы маркиз мог подвергнуть сомнению двойную и странную кражу, совершившуюся в их доме: полного кошелька и «усопшего мертвеца», как жалобно говорила садовница.
Глава сорок пятая
Во время этого дуэта сетований маркиз размышлял.
— Скажите мне, друзья мои, — снова заговорил он. — Не видели ли вы в вашем саду следов ног, а в вашем доме — следов взлома?
— Вначале мы не обратили внимания, — ответила Мари, — мы были слишком взволнованы; но, когда рассвело, мы как можно лучше все осмотрели. В доме не было ничего особенного. Туда могли войти, едва мы повернулись к нему спиной; мы оставили дверь и ящик открытыми, деньги на виду; здесь много нашей вины, увы!
— Значит, — заметил маркиз, — покойный ушел не сам по себе, и у него оказалось не только несколько друзей, чтобы унести его останки, но еще кто-то, чтобы вытащить его деньги и его драгоценности.
— Я предполагаю, сударь, что их было только двое для первого дела, а для последнего — один, который даже не был в согласии с остальными; потому что мы увидели на черноземе наших грядок следы двух пар ног, которые уходили к нашей изгороди, смотрящей на Бриант, и эти ноги, казалось, были обуты в сапога или башмаки, в то время как на песке нашего дворика были как будто следы босых ног, совсем маленьких детских ног, убегавших в сторону города. Но на тропинках уже стояла вода, и мы не могли ничего увидеть за нашей оградой.
Буа-Доре про себя рассуждал так:
«Сбежавший Санчо выследил нас и наблюдал за нами. Затем он отправился к господину Пулену, который кого-то послал или сам пришел вместе с Санчо за телом д'Альвимара, чтобы предать его погребению. Донос идет отсюда. Аббат не посмел, по неизвестной мне причине, показать этот труп своим прихожанам и публично изобличить меня. Возможно, он хотел дать Санчо время скрыться. Что касается денег, какой-нибудь мелкий воришка мог подслушать под дверью, подстеречь, когда они вышли из дома, и воспользоваться обстоятельствами: это мне довольно безразлично».
Затем, еще поразмыслив обо всех этих вещах и задав разнообразные вопросы, которые не привели ни к какому новому прояснению, он сказал:
— Друзья мои, когда мы привезли сюда этого мертвеца, лежащего поперек седла, мы оставили вам сумку, не думая ни о чем другом, кроме того, чтобы избавить наше зрение и руки от всего, что принадлежало нашему врагу. И все же на следующий день, подумав, что в этом чемодане могли находиться интересные для нас документы, мы потребовали их, и вы ответили Адамасу, что там не было ничего, кроме сменной одежды, небольшого количества белья, и никакой бумаги или пергамента.
— Это правда, сударь, — ответила садовница, — и мы можем показать вам еще полную сумку такой, какой она попала к нам. Вор не увидел ее в изножье постели, куда мы ее бросили, или же не захотел себя ею обременять.
Маркиз велел принести ее и убедился в правдивости утверждения.
И все же, пока он изучал и вертел этот предмет, ему показалось, что он нашел потайной карман, ускользнувший от внимания хозяев дома, и ему пришлось распороть его.
Тем он нашел несколько бумаг, которые унес с собой, вознаградив садовницу и калеку за их потерю и приказав им молчать вплоть до новых распоряжений.
Было больше одиннадцати часов, когда маркиз вернулся к себе в большой дом.
Марио не спал: он играл с Лорианой в бирюльки в большой гостиной, не желая ложиться спать, пока не увидит, что его отец вернулся.
Люсилио читал в уголке у огня, не отвлекаясь на детский смех, но чувствуя, как его, посреди его глубокой задумчивости, убаюкивает эта свежая и прелестная музыка, к которой его нежное сердце и восприимчивое к мелодии ухо были особенно чувствительны.
С тех пор как он изображал прорицателя перед его высочеством, дети прозвали его «господин астролог» и дразнили, чтобы вызвать у него улыбку. Любезный ученый улыбался, сколько им было угодно, не отвлекаясь от работы своего ума, поскольку доброжелательность характера и мягкость инстинктов были, если можно так выразиться, неотделимы от его тела и говорили через его прекрасные итальянские глаза, даже когда его душа странствовала в небесных сферах.
Адамас, который, несмотря на то, что обожал своего маленького графа, тосковал до того, что впадал в меланхолию в отсутствие божественного маркиза, слонялся как неприкаянный по лестнице и внутреннему двору, пока не услышал, наконец, звучный топот Пиманты и Скилиндра, и стоны дорожных камней, раздробленных колесами монументальной кареты, словно орехи и давильне.
— Вот едет господин! — воскликнул он, распахнув дверь гостиной с таким шумом и такой радостью, словно маркиз отсутствовал целый год, и побежал в кухню, чтобы самому принести согревающий пунш, составленный из вина и ароматических веществ, тонкое и приятное питье, секрет которого он берег и которому приписывал цветущий вид и крепкое здоровье старого своего хозяина.
Добрый Сильвен поцеловал своего сына и нежно приветствовал свою дочь, пожал руку своего «астролога», выпил подкрепляющее средство, поднесенное славным его слугой, и, удовлетворив таким образом всех своих домашних, протянул ноги почти в самый огонь, велел поставить рядом с собой маленький круглый столик и попросил Люсилио прочесть некоторые бумаги, принесенные им, пока Марио будет, как может, переводить их вслух.
Документы были написаны на испанском языке, в виде заметок, собранных для докладной записки и связанных ремнем. Не было ни адреса, ни печати, ни подписи.
Это был ряд официальных и полуофициальных сведений об умонастроениях во Франции, о предполагаемых или замеченных настроениях некоторых особ, имеющих большее или меньшее значение для испанской политики; об общественном мнении в этом отношений; наконец, своего рода достаточно хорошо сделанная дипломатическая работа, хотя и незаконченная, и частью оставшаяся в черновиках.
Из этого было видно, что д'Альвимар, в эти несколько дней его пребывания в Брианте, не переставал отчитываться перед принцем, министром или неким покровителем в своего рода тайной миссии, очень неблагоприятной для Франции и полной отвращения и презрения к французам всех классов общества, с какими он вступал в сношения.
Эта тщательная критика была неглупой, стало быть — не лишенной интереса. Д'Альвимар обладал проницательным умом и правдоподобно рассуждал. За недостатком высоких и тесных связей, каких желал бы для своего продвижения и придания себе значительности, он ловко истолковывал любое мелкое подмеченное событие, подслушанное или подхваченное мимоходом слово: предположение, слух, соображение первого встречного, где бы он ни находился, все ему годились, и в этой работе, одновременно наивной и коварной, виделась непобедимая склонность и тайное удовлетворение души, полной желчи, зависти и страдания.
Люсилио, который с первых строк догадался о том, какой интерес представляет для маркиза эта находка, поискал среди последних листков и очень скоро нашел вот этот текст, который Марио бегло, почти не задумываясь, перевел, в конце каждой фразы заглядывая прекрасными глазами в глаза учителя, чтобы быстро убедиться перед тем как продолжать, не ошибся ли он в значении слов:
«Что касается пр…. де К…е, я стану действовать таким образом, чтобы приблизиться к его особе; я получил сведения от умного и пронырливого церковнослужителя, который может оказаться полезным.
Запомните имя Пулена, приходского священника в Брианте. Он из Буржа и знает множество вещей, в особенности о вышеупомянутом принце, который весьма жаден до денег и очень слаб в политике; но он пойдет туда, куда толкнет его честолюбие. Его можно завлечь большими надеждами и воспользоваться им, как поступили с Гизами, потому что Конде он лишь по имени, и боится всего и всех.
Поэтому его труднее поймать, чем кажется. Он ни на что не пригоден лично. Его имя все еще полезно. В надежде сделаться королем он готов многое отдать святейшей И…, с тем, чтобы извернуться, если это в его интересах. Говорят, что не остановится перед тем, чтобы отделаться от К… и от его брата, и что, в случае необходимости, можно поразить высоко и сильно благодаря этому жалкому уму и этой слабой руке.
Если ваше мнение таково, что следует укреплять его в той мысли, дайте это знать вашему покорнейшему…»
— Превосходно, превосходно! — воскликнул маркиз. — У нас есть возможность поссорить нашего друга Пулена с его высочеством, и обоих — с памятью этого милого господина д'Альвимара. Богу известно, что я бы хотел оставить в покое этого усопшего; но, если нам грозят отомстить за него, мы предоставим добрым друзьям его, сожалеющим о нем, узнать его поближе.
— Это прекрасно, — сказала благородная госпожа де Бевр, — при условии, если вам удастся доказать, что эти заметки написаны его рукой!
— Действительно, — ответил маркиз. — Иначе у нас нет ничего стоящего. Но, без сомнения, Гийом сможет доставить нам какое-нибудь подписанное им письмо?
— Вероятно; и вам надо побыстрее об этом побеспокоиться, мой маркиз!
— Тогда, — сказал маркиз, целуя ее руку и желая ей спокойной ночи, поскольку она поднялась, чтобы удалиться. — Я завтра снова поеду к Гийому, а пока станем беречь наши доказательства и средства.
Назавтра, проснувшись, маркиз увидел вошедшего к нему Люсилио, который вручил маркизу написанную им для него страницу.
Несчастный немой хотел на время уехать, чтобы не навлечь на своего друга беду, угрожавшую им обоим.
— Нет, нет! — вскричал очень взволнованный Буа-Доре. — Вы не причините мне этой боли, не покидайте меня! Опасность отступила на время, это всем нам доказано, и записки господина д'Альвимара прямо предназначены для того, чтобы окончательно успокоить меня на мой счет. Что касается вас, то поверьте, что вам нечего бояться принца, так удачно объявив ему о смерти фаворита. Впрочем, как бы ни было для вас рискованно оставаться здесь, я думаю, что в другом месте опасность была бы худшей, и именно здесь я смогу действенно защитить или спрятать вас, смотря по событиям, которые произойдут. Не будем терзаться неизвестным, и, если вам тягостно увеличивать затруднительность моего положения, подумайте о том, что без вас воспитание Марио обречено на неудачу и безвозвратно потеряно. Подумайте об услуге, какую оказываете мне, превращая живого ребенка в человека с сердцем и умом, и вы признаете, что ни моим богатством, ни моей жизнью я не мог бы отплатить вам, потому что ни одно, ни другое не стоят знаний и добродетелей, которыми вы делитесь с нами.
Не без труда вырвав у своего друга клятву не покидать Бриант без его согласия, маркиз собирался вернуться в Арс, когда появился Гийом с господином Робеном де Кулонем; последний был очень удивлен тем, что рассказал ему тем же утром его арендатор Фароде, первый — тем, что не получил накануне вечером визита маркиза, объявленного его людьми.
Буа-Доре во всем признался и чистосердечно поведал о видении, какое было у него в Брильбо, все же уверяя, что до появления профиля д'Альвимара на стене, он бы уверен в том, что шум и тени, произведенные вполне реальными существами, ему не пригрезились.
Он был оскорблен, заметив недоверчивую улыбку на лицах обоих своих слушателей; но, когда он рассказал о событиях в доме садовницы и показал заметки д'Альвимара, он увидел, как его друзья вновь сделались серьезными и внимательными.
— Мой кузен, — сказал ему Гийом. — Что касается этих заметок, мне легко будет доказать их подлинность и доставить вам образец почерка и подписи господина д'Альвимара. А пока я заверяю вас, что эти страницы точно написаны его рукой. Поместите их в свой архив и ждите, пока у вас снова спросят отчета в смерти этого предателя, чтобы объявить о ней.
Господин Робен держался другого мнения. Он осуждал молчание, хранимое вокруг этого события, предосторожности, принятые, чтобы спрятать тело, и продолжение тайны в то время, когда умы в окрестности были расположены к прелестному Марио, тронутые рассказом о его приключениях, и все готовы были проклясть презренных убийц его отца.
Буа-Доре мгновенно присоединился бы к этому мнению, если бы не опасался вызвать недовольство Гийома, который упорствовал в своем первом суждении.
— Дорогой мой сосед, — сказал он. — Я склонился бы к вашему мнению и пожалел бы о совете, данном мною маркизу, не будь одного пришедшего мне в голову размышления, которое я прошу вас серьезно взвесить. Вот это размышление: маркизу нет необходимости признаваться в убийстве человека, возможно, не умершего.
Господа Робен и Буа-Доре вздрогнули от удивления, и Гийом продолжил:
— У меня есть два серьезных основания говорить и думать так: первое — то, что в сад Мари принесли человека, который мог, хотя и был пронзен хорошим ударом шпаги, не испустить последний вздох; второе — наш маркиз, чья храбрость не из тех, в каких можно усомниться, увидел в Брильбо лицо своего врага.
Господин Робен хранил молчание и размышлял; Буа-Доре собрал воспоминания о вчерашнем дне и попытался освободить их от испытанного им волнения; затем он сказал:
— Если господин д'Альвимар умер, это случилось не на месте боя, в Рошайе, и не в доме садовницы; это произошло в Брильбо, и не далее как вчера вечером. Он умер в каком-то странном и скотском обществе, но в присутствии священника, который мог быть господином Пуленом, и за ним ухаживал слуга, которым должен был быть старый Санчо. Неясные тени, какие я видел, ничего не представили мне противного этим предположениям, и, что касается того, что я видел самым отчетливым и ясным образом, это был крест, нарисованный не хуже, чем на гербе, и под правой ветвью этого креста, похудевшее и словно лишенное плоти лицо господина д'Альвимара. Это лицо казалось вначале немного беспокойным, пока голос читал погребальную молитву; слабые вздохи, которые я слышал сквозь вакханалию, еще раздавались во время молитвы. Затемэта жалоба стихла, лицо сделалось словно каменным: можно было сказать, что его черты отвердели на стене, показывавшей мне его изображение. Голова уже была не склоненной, но откинулась назад, и тогда…
— Что тогда? — спросил Гийом.
— Тогда, — простодушно продолжал маркиз, — я стал глупым и слабым, и я убежал, чтобы больше ничего не видеть.
— Ну что ж; что бы там и как бы там ни было, — сказал господин Робен, — мы осмотрим и перевернем, если потребуется, эти развалины сверху донизу, чтобы взглянуть, что они скрывают и каких людей приютили.
Гийом считал, что идти туда надо лишь с наступлением темноты, и с большими предосторожностями, чтобы проникнуть в смысл этих таинственных собраний.
Фароде дал господину Робену точные указания относительно времени, когда начинался шум, и, поскольку эти странные звуки оказались вовсе не чистым вымыслом перепуганных крестьян, следовало видеть в их регулярности и постоянстве метод, избранный для того, чтобы сеять ужас и использовать его ради некоей выгоды.
Господин Робен, помимо этого, заметил, что, по словам арендатора, эта фантасмагория происходила в Брильбо лишь в течение последних двух месяцев, то есть с того времени, на какое Гийом и маркиз указывали как на дату смерти д'Альвимара.
— Все это, — сказал он, — приводит мне на память, что в день моего последнего приезда в Кудре, на прошлой неделе, я много раз встречал на моем пути, и на большом расстоянии друг от друга, людей довольно неприятного вида, которые не показались мне ни крестьянами, ни горожанами, ни солдатами, и я удивился тому, что совершенно не знал их. Расспросите ваших людей, не случались ли у них в последнее время в окрестностях ваших домов подобные встречи:.
Вызвали слуг. Люди Буа-Доре и люди Гийома согласно заявили, что в течение нескольких недель видели, что в лесах и по безлюдным дорогам Варенны бродят некоторые подозрительные люди, и что они спрашивали себя, что эти чужеземцы могут заработать в таких пустынных уголках.
Вспомнили также о многочисленных кражах, совершенных на фермах и птичьих дворах окрестных мест; наконец, лицо Ла-Флеша мелькало, среди прочих странных лиц, на ярмарках и базарах соседних городов. Они считали, что могут, по меньшей мере, утверждать, что некий бродячий актер, наглый болтун, различными способами меняющий внешность, был тем же самым, что бродил два или три дня подряд между Бриантом и Мотт-Сейи, в то время, когда вернулся Марио.
Из этих сведений вывели заключение, что имеют дело с самыми недоверчивыми и хитрыми бродягами и разбойниками, и договорились о том, как овладеть их тайной, не спугнув их.
Поэтому решили немедленно разделиться; было вполне возможно, что эти люди заметили приезд маркиза в Брильбо, и что они оставили в кустах у дороги несколько лазутчиков в засаде.
Гийом вернется домой, возьмет с собой большое число слуг и сделает вид, что направляется в Бурж.
Господин Робен останется со своими людьми в Кудре до условленного часа.
Буа-Доре засядет в засаде у Теве, Жовелен — у Луруе.
Глава сорок шестая
С наступлением ночи слуги и вассалы под предводительством вышеупомянутых господ должны будут, образовав круг, наступать к развалинам замка, чтобы окружить его.
Эта операция назначена на десять часов вечера, до тех пор они будут двигаться молча, скрытно; пропуская всякого, кто направляется в Брильбо; а после десяти часов остановят каждого, кто попытается оттуда выйти.
Было запрещено убивать или ранить кого-либо, кроме случаев опасного нападения, поскольку главной целью было захватить пленников и добиться от них признаний.
Было также условлено, что каждая группа по отдельности выйдет из условленного места, назначенного в соответствии со стратегическим знанием мельчайших подробностей местности, каким обладали Гийом и маркиз.
Для этого Гийом отделится от своих людей в Бертену, приказав им рассеяться вдоль Иньере. Господин Робен должен отправиться к своему арендатору, пока его слуги по двадцати разным тропинкам будут преодолевать небольшое расстояние между Кудре и Брильбо, заботясь о том, чтобы охранять всю линию Сен-Шартье.
Буа-Доре, со своей стороны, прогуляется в Монлевик и оттуда отправится на место встречи один, распределив свой эскорт таким же образом, как и два его друга, чтобы рассеять подозрения любого, кто станет наблюдать за его действиями.
Приняв все эти меры, можно было рассчитывать привести в готовность и заставить с уверенностью действовать сотню крепких и очень осторожных людей. Что касается Буа-Доре, он выставлял их около пятидесяти, оставляя двенадцать хороших слуг для охраны своего замка и своей благородной гостьи Лорианы.
Чтобы выглядеть в глазах предполагаемых шпионов чуждым всякому касающемуся Брильбо плану, маркиз взял с собой в Монлевик Морио, словно они собираются навестить своих молодых соседей. Д'Орсанны были внуками Антуана д'Орсанна, королевского наместника в Берри и кальвиниста.
Маркиз и Марио провели у них час; после чего Буа-Доре поручил Аристандру отвезти ребенка в Бриант, а сам тем временем снова сел в седло, чтобы одному отправиться в Эталье, деревушку на пути из Ла Шатра в Треве, на гребне возвышенности, которая называлась Террье (логовище).
Поскольку Марио, заинтересовавшись всеми этими предосторожностями, попросил, чтобы его взяли с собой, маркиз ответил ему, что едет ужинать к Гийому д'Арсу и рано вернется.
Мальчик, вздыхая, сел на свою маленькую лошадку, потому что предчувствовал какое-то приключение; слушая разговоры дворян, хорошенький пиренейский крестьянин быстро и сам сделался дворянином, в романтическом и рыцарском смысле, еще приписываемом этому званию добрым маркизом.
Известно, с какой легкостью дети изменяются и преображаются в зависимости от среды, в какую попадают. Марио уже мечтал о славных подвигах, о великанах, которых он разрубит, и о дамах, которых он освободит от плена.
Он попытался настаивать на свой лад, повинуясь безропотно, но глядя на обожающего его старика своими прекрасными молящими глазами.
— Ни за что, мой дорогой граф, — ответил ему Буа-Доре, прекрасно понимавший его немую просьбу. — Я не могу оставить в одиночестве, ночью в моем замке доверенную мне милую девушку. Вспомните, что она — ваша сестра и ваша дама, и что, когда я вынужден бываю отлучиться, ваше место рядом с ней, чтобы служить ей, развлекать ее и в случае необходимости защитить.
Марио поддался на это лестное преувеличение и, пришпорив коня, пустил его галопом до дороге в Бриант.
Аристандр последовал за ним и должен был вернуться к маркизу, как только проводит ребенка в замок.
Как и накануне, вечер был довольно теплым для этого времени года. Небо, то облачное, то очищавшееся теплыми порывами ветра, было очень темным в ту минуту, когда юный всадник и его слуга спустились в лощину и въехали под старые деревья поселка.
Когда они быстро поднимались по одной из извилистых и окаймленных высокими изгородями тропинок, что служили улицами между тридцатью или сорока дворами, составлявшими деревушку, конь Марио, шедший первым, внезапно отскочил в сторону, тяжело и беспокойно дыша.
— Что это? — спросил мальчик, оставшийся твердо сидеть в седле. — Пьяница уснул поперек дороги? Подними его, Аристандр, и отведи к его семье.
— Господин граф, — ответил возница, проворно спрыгнувший на землю. — Если он и пьян, можно сказать, что он мертвецки пьян, поскольку неподвижен, словно камень.
— Тебе помочь? — продолжал мальчик, спешиваясь. И, приблизившись, попытался увидеть лицо вассала, не отвечавшего ни на один вопрос Аристандра.
— Не могу сказать, — произнес этот последний со своим обычным спокойствием, — местный ли он, я ничего об этом не знаю; но что я знаю, клянусь честью, так это то, что он мертв, или что он мало чем от мертвого отличается.
— Умер! — воскликнул мальчик. — Здесь, посреди города? И никто не подумал прийти к нему на помощь?
Он побежал к ближайшей хижине и обнаружил, что она пуста; огонь горел, поперек комнаты валялась опрокинутая скамья.
Марио несколько раз позвал, но никто не откликнулся. Только он собрался перебежать довольно обширный двор, чтобы заглянуть в другое жилище, раздались ружейные выстрелы и странный гул. Марио сразу же вскочил в седло.
— Слышите, господин граф? — воскликнул Аристандр, который отнес мертвеца на обочину дороги и снова сел верхом, чтобы догнать своего молодого господина. — Это идет из замка, и наверняка там происходит что-то странное!
— Поспешим туда! — сказал Марио, снова переходя на галоп. — Если это праздник, то очень шумный!
— Подождите! Подождите! — возразил каретник, удваивая скорость, чтобы остановить коня Марио. — Это не праздник! В замке не может быть праздника без вас и без господина маркиза. Там сражаются! Слышите ли вы, как там кричат и ругаются? И взгляните, вот еще один мертвый или получивший скверную рану христианин у подножия стены! Уезжайте отсюда, сударь; спрячьтесь, Бога ради; я поспешу узнать, что это значит, и вернусь сообщить вам.
— Ты смеешься надо мной! — воскликнул Марио. — Прятаться, когда нападают на замок моего отца?.. А моя Лориана? Поспешим защитить ее!
И он устремился на подъемный мост, который был почему-то опущен, несмотря на наступавшую темноту.
При свете подожженного стога соломы, Марио смутно увидел непонятное зрелище.
Вассалы маркиза бились врукопашную с многочисленным войском рогатых, щетинистых, сверкающих созданий, «во всем больше похожих на дьяволов, чем на людей». Время от времени раздавались ружейные или пистолетные выстрелы, но это не был правильный бой; это была свалка в результате какой-то внезапной и неприятной неожиданности. Видно было, как на мгновение яростно свиваются и разрушаются группы, внезапно исчезавшие во тьме, когда минутная вспышка меркла в тучах дыма.
Марио, которого каретник схватил в охапку, не мог броситься в эту схватку. Он напрасно вырывался, плача от ярости.
Наконец Аристандру удалось его образумить.
— Вы видите, сударь, — говорил ему славный Аристандр, — вы мешаете мне пойти туда на помощь! А ведь у меня силы на четверых. Но сам черт не заставит меня отпустить вас, потому что я за вас отвечаю, и я не сделаю этого ни за что, пока вы не поклянетесь мне сидеть спокойно.
— Иди же, — отвечал Марио. — Я клянусь тебе в этом.
— Но если вы останетесь здесь, и какой-нибудь отставший вас увидит… Давайте я спрячу вас в саду!..
И, не дожидаясь согласия ребенка, колосс снял его с коня и отнес в сад, вход в который был слева, недалеко от входной башни. Он закрыл его там и поспешил броситься в схватку.
Напомним читателю расположение маленького замка в Брианте.
Предположим, что мы входим через подъемный мост, переброшенный через первый пояс рвов: остановимся здесь ненадолго.
Крепостная решетка поднята. Исследуем эту систему заграждения.
«Орган», или «сарацинка», или, как тогда говорили «сарацинская решетка», была одним из видом опускной решетки, менее дорогостоящей и менее тяжелой, чем железная «борона». Это ряд подвижных кольев, независимых один от другого, и свободно ходивших, как, впрочем, и решетка, под сводом проезжей башни. Простой механизм сарацинской решетки было дольше приводить в действие, чем механизм цельной решетки, но он давал то преимущество, что довольно было одного человека, помещенного в «камере управления», чтобы поднять один из кольев и открыть проход перебежчику, в случае необходимости, не открывая слишком широкого отверстия для осаждающих.
Камера управления — это комната или галерея внутри проезжей башни, над сводом. В полу имеется отверстие, позволяющее стражникам видеть у себя под ногами любого, кто пожелает войти или выйти. Эти отверстия позволяли также стрелять или бросать снаряды в осаждающих, когда им удавалось преодолеть ров и сломать опускную решетку, и под сводом завязывался новый бой.
Эта камера управления сообщалась с «мушараби», низкой зубчатой галереей, венчавшей аркаду решетки на внешней стороне башни.
Именно оттуда на врага сыпались градом пули и камни, мешая ему разрушить решетку.
Проезжая башня Брианта, содержавшая в себе эти средства защиты, была крупным овальным строением, повернутым широкой частью и размещенной на краю рва. Ее называли башней «ворот», в отличие от «калитки», о которой мы поговорим немного позже. Ворота вели в просторный двор, обнесенный оградой, где находились ферма, голубятня, гнездовье цапель, аллея для игры шарами и т. д., неизменно называвшийся «нижним двором», поскольку он всегда располагался ниже внутреннего двора.
Слева от нас тянется высокая стена сада, прорезанная кое-где узкими бойницами, откуда еще можно было, в случае внезапного нападения, укрыться и преследовать врага, захватившего нижний двор.
Мощеная дорога ведет прямо, вдоль этой стены, ко второй ограде, той, где второй ров, наполненный водой из маленькой речки, соединялся с прудом, расположенным в глубине внутреннего двора.
Через этот ров переброшен постоянный мост, то есть очень древний каменный мост, о чем свидетельствует его наклон под углом по отношению к башне входа.
Это был средневековый обычай, который одни любители древностей объясняют тем, что осаждающие лучники, подняв руку для выстрела, открывали свой бок осажденным лучникам. Другие говорят нам, что этот изгиб неизбежно останавливал порыв штурма. Впрочем, это неважно.
Башня калитки закрывала этот постоянный мост и внутренний двор. У нее была маленькая железная цельная решетка и крепкие сплошные дубовые ворота, укрепленные гвоздями с огромными шляпками.
Вместе со рвом это была единственная защита собственно замка.
Доставив себе удовольствие разрушить старый донжон своих предков и заменить его особнячком, который называли большим домом, маркиз не без оснований сказал себе, что его усадьба, будет ли она укрепленным замком или загородным домом, и часа не продержится против самой маленькой пушки. Но против небольших средств, какими могли располагать разбойники или враждебно настроенные соседи, хороший глубокий ров с быстрым течением, маленькие фальконеты, установленные с обеих сторон калитки, и окна, снабженные бойницами, наискось прорезанными со стороны нижнего двора, могли выдержать достаточно долго. Скорее из привычки к роскоши чем из осторожности, но в замке всегда находился большой запас продуктов.
Прибавим, что рвы и стены, всегда содержавшиеся в хорошем состоянии, закрывали все, даже сад, и что, будь у Аристандра время поразмыслить, он унес бы Марио за пределы нижнего двора, в деревню, а не в сад, который мог сделаться для него тюрьмой так же легко, как убежищем.
Но всего не предусмотреть, и Аристандр не мог предположить, что враг не будет изгнан в один миг.
Славный малый не отличался воображением; для него было удачей, что он не дал смутить себя фантастическим и поистине устрашающим образам, какие явились его изумленному взгляду. Такой же легковерный, как всякий другой, он задумывался, нападая, и, уложив на месте одного или двоих, вывел философское заключение, что все это сброд, и ничего больше.
Марио, припав к решетке сада, дрожа от волнения и жара, вскоре потерял его из вида.
Горевший стог обрушился; битва продолжалась в темноте; ребенок только на слух мог следить за перипетиями боя, внимая неясным звукам.
Он решил, что вмешательство могучего и храброго Аристандра подняло дух защитников замка; но после нескольких минут неуверенности, показавшихся ему веками, ему почудилось, что осаждавшие продвигаются вперед, что крики и топот отступают к постоянному мосту, и в короткий миг ужасной тишины он услышал выстрел и шум падения тела в реку.
Через несколько секунд решетка в калитке рухнула с сильным грохотом, и залп из фальконетов заставил вступившее на мост войско отступить с ужасными воплями.
Одна из частей этой необъяснимой драмы завершилась; осажденные были втиснуты и заперты во внутреннем дворе, захватчики остались хозяевами нижнего двора.
Марио был один; Аристандр, вероятно, убит, раз бросил его среди врагов или, по меньшей мере, совсем рядом с врагами, которые с минуты на минуту могут ворваться в этот сад, выломав решетку, и захватить его.
И не было никакого способа убежать без риска попасть в лапы этих демонов! Из сада был выход только в нижний двор, и он никаким образом не сообщался с замком.
Марио испугался; затем мысль о смерти Аристандра и, возможно, еще кого-то из добрых, не менее дорогих для него слуг, вызвала у него слезы. И даже его бедная маленькая лошадка, которую он оставил с уздечкой на шее у входа во двор, пришла ему на память, и усилила его горе.
Лориана и Мерседес, несомненно, были в безопасности, и вокруг них было еще много людей, поскольку угрюмое молчание деревушки свидетельствовало о том, что люди и скот укрылись за оградой, чтобы встретить врага под защитой стен. Это был обычай того времени — при малейшей тревоге вассалы приходили искать помощи и защиты в замок сеньора. Они спешили туда со своими семьями и скотом.
— Но, если Лориана и моя мавританка догадываются, что я здесь, — думал несчастный Марио, — как они должны беспокоиться обо мне! Будем надеяться, что они не знают о моем возвращении! А этот славный Адамас, я уверен, что он словно обезумел! Только бы его не захватили в плен!
Он молча лил слезы; забившись в подстриженный тисовый кустарник, он не решался ни подойти к решетке, где его мог заметить враг, ни удалиться так, чтобы перестать видеть то, что творится в нижнем дворе.
Он слышал крики осаждающих, стоны раненых и умирающих из осажденных… Но все было смутным; от сада до фермы было довольно большое расстояние; впрочем, речушка, вздувшаяся от зимних дождей, сильно шумела.
Осажденные только что подняли затворы шлюзов и пруда, чтобы поднять воду во рве и ускорить ее течение.
Свет поднимался над дверью замка; несомненно, во внутреннем дворе тоже разожгли огонь, чтобы видеть друг друга, пересчитать людей и организовать оборону. Костер осаждавших отбрасывал теперь лишь красноватый отблеск, в котором Марио видел быстро проплывающие смутные тени.
Затем он услышал приближающиеся к нему шаги и голоса и подумал, что пришли осмотреть сад.
Он замер в неподвижности и увидел за решеткой, по ту сторону, двух проходящих мимо странно вырядившихся персонажей, которые направлялись к башне входа.
Он задержал дыхание и смог поймать обрывок диалога:
— Проклятые собаки не успеют прийти раньше него!
— Тем лучше! Нам больше достанется!
— Дураки, вы рассчитываете совсем одни захватить…
Глава сорок седьмая
Голоса пропали, но Марио успел узнать их. Это были голоса Ла-Флеша и старого Санчо.
Отвага разом вернулась к нему, хотя в этом открытии не было ничего успокаивающего.
Марио не мог долго оставаться в неведении относительно рошайского дела, и он прекрасно сознавал, что убийца его отца, беззаветно преданный д'Альвимару человек, стал теперь самым заклятым врагом рода Буа-Доре; но участие Ла-Флеша в этом нападении дало ему надежду на то, что помощниками Санчо была стайка цыган, деливших невзгоды с ребенком во время его странствий.
Он здраво рассудил, что эти бродяги должны были соединиться с другими, более смелыми бандитами; но все это казалось ему менее опасным, чем организованное властями провинции наступление, какого можно было опасаться; на минуту у него мелькнула мысль, что он мог бы склонить Ла-Флеша на свою сторону. Но недоверчивость вновь охватила его, когда он вспомнил, с каким мрачным и грубым видом цыган говорил с ним на том же месте за несколько месяцев до этого.
Тогда он принялся размышлять над словами, которые только что услышал. Он почувствовал, что потребуется ясность ума для того, чтобы понять их и при необходимости извлечь из них выгоду.
Несомненно, захватчики ожидали подкрепления, которое шло, на взгляд Санчо, недостаточно быстро. «Они не успеют прийти раньше него!» Этот «он» мог оказаться только маркизом, чьего возвращения они боялись. «Тем лучше, нам больше достанется» означало надежду Ла-Флеша пограбить. «Дураки, вы рассчитываете совсем одни захватить…» (очевидно, этот замок) — было признанием бессилия осаждавших произвести осаду замка хоть с какой-то вероятностью успеха.
Наконец, Марио, видевший раскрашенные, скрытые масками ужасные, гротескные лица, нелепые наряды, понял, что этот «маскарад» предназначался для устрашения крестьян с фермы и из поселка. Он и сам их вначале испугался, а теперь почувствовал себя спокойнее оттого, что имел дело с негодяями из костей и плоти, а не с фантастическими существами и необъяснимыми опасностями.
Единственное, что пока он мог — прятаться, а для этого он подождал, пока голоса и шаги стихнут, удаляясь от решетки, чтобы самому отойти от нее подальше и найти укрытие от ночного холода в одной из садовых построек.
Он справедливо подумал, что лабиринт, изгибы которого он так хорошо знал, поможет ему в течение нескольких минут ускользнуть от возможной погони, и вступил в него, уверенно направляясь к той маленькой хижине, которую называли метафорически дворцом Астреи.
Едва он вошел в нее, как ему послышались шаги по песку круговой аллеи.
Он прислушался.
«Это ветер играет сухими листьями, — подумал он. — Или какое-нибудь животное с фермы спряталось здесь. Но, если это так, значит, садовая решетка открыта? Тогда я пропал! Боже мой! сжалься надо мной!»
И все же шум был таким легким, что Марио решился посмотреть сквозь плющ, увивавший его приют, и увидел маленькое существо, которое нерешительно кружило, словно искало убежища в том же месте.
Марио не успел закрыть за собой дверь хижины; маленькое создание вошло и тихо сказало ему:
— Ты здесь, Марио?
— Так это ты, Пилар? — ответил ей мальчик, охваченный чувством радости оттого, что узнал свою маленькую подружку, которую считал умершей.
Но печально добавил:
— Не ищешь ли ты меня затем, чтобы выдать?
— Нет, нет, Марио! — ответила она. — Я хочу убежать от Ла-Флеша. Спаси меня, мой Марио, потому что я слишком несчастна с этим окаянным!
— Но как я могу спасти тебя, я, не знающий, как спастись самому!.. Уходи отсюда, или оставайся здесь без меня, бедная моя Пилар; потому что эти бандиты, разыскивая тебя, найдут и меня тоже.
— Нет, нет; Ла-Флеш думает, что я осталась там с мертвецом!
— Каким мертвецом?
— Они называют его д'Альвимар. Он умер прошлой ночью, и они похоронили его сегодня утром.
— Ты в своем уме?.. или я ничего не понимаю. Неважно! Ты убежала?
— Да. Я знала, что они пойдут сюда, чтобы захватить твой замок и твой клад. Я спустилась, как кошка, через совсем маленькое окошечко, и издали последовала за шайкой. Я надеялась, что Ла-Флеша убьют и тех негодяев, которые никогда не хотели меня пожалеть, — тоже.
— Каких негодяев?
— Знакомых тебе цыган, которые показывают фокусы, и потом многих других, которых ты не знаешь, они с ними сговорились. Да что там, я столько натерпелась от них в Брильбо!
— Что это — Брильбо? Не развалины ли это рядом с…
— Я не знаю. Я никогда не выходила! Они на весь день разбегались и оставляли меня с раненым больным, который все это время умирал, и его старым слугой, который ненавидел меня, потому что говорил, что я приношу несчастье господину и не даю ему выздороветь. Я очень бы хотела, чтобы он поскорее умер; потому что я тоже ненавидела их, этих испанцев! И я много раз наводила на них порчу. Наконец тот, что помоложе, умер, среди этих бесноватых, которые пили, пели и орали всю ночь и мешали мне спать. Поэтому я тоже заболела. У меня все время жар… Может быть, для меня это к лучшему, это не дает мне почувствовать голод.
— Бедная моя девочка, вот все деньги, какие у меня при себе. Если ты можешь убежать, это тебе пригодится. Но, хотя я ничего не понял из того, что ты мне рассказала, мне кажется, что для тебя было безумием прийти сюда вместо того, чтобы уйти подальше от Ла-Флеша. Это заставляет меня опасаться, что ты в сговоре с ним для того, чтобы…
— Да нет же, Марио! Оставь себе свои деньги! И, если ты думаешь, что я хочу выдать тебя, иди, спрячься в другом месте, я не стану следить за тобой. У меня нет на тебя злобы, Марио. Во всем мире я люблю тебя одного! Я пришла, думая, что, пока они станут сражаться, я смогу войти в твой замок и остаться у тебя. Но твои крестьяне слишком испугались нападавших: некоторых убили, и другие спрятались в твоем большом дворе. Твои слуги хорошо защищались, но не они оказались сильнее. Я спряталась под досками, у этой стены сада, внутри. Я видела все сквозь маленькую щелочку. Я видела, как ты верхом на коне въехал во двор; я видела, как высокий человек закрыл тебя здесь. Я не сразу узнала тебя из-за твоей красивой одежды, но, когда ты пошел к этому маленькому домику, я узнала твои шаги и последовала за тобой.
— А теперь что нам делать? Играть в прятки, как можно лучше, в этом саду, который непременно обшарят?
— Зачем, по-твоему, им приходить в сад? Все знают, что зимой не украдешь фруктов! Впрочем, эти проклятые уже нашли для себя и еду и питье в тех больших постройках; это ферма, правильно? Я знаю, что они делают прежде всего, когда входят в дом, который не охраняется. Мне незачем видеть их, чего там! Они убивают скот и жарят на вертеле; они вышибают днища у бочек; они взламывают шкафы; они набивают свои карманы, свои мешки и свои животы. Через час они все обезумеют, станут ссориться и покалечат друг друга. Ах, если бы твой слуга не запер нас здесь, было бы нетрудно отсюда выбраться! Но в этой садовой стене, несомненно, есть какая-нибудь дыра, в которую можно пролезть? Я совсем маленькая, а ты не толстый. Иногда, если влезть на дерево, можно достать до верха стены. Разве ты уже разучился лазить и прыгать, Марио?
— Совсем нет; но я знаю, что здесь нет ни дыры, ни дерева, которые могли бы нам помочь. Есть пруд, граничащий с внутренним двором, но я еще не умею плавать. С тех пор, как я здесь, было слишком холодно для того, чтобы я мог научиться. Конечно, есть маленькая лодка, которую нам могли бы прислать из замка, если бы знали, что мы здесь. Но как сделать, чтобы нас увидели и услышали? Сейчас слишком темно; шлюз слишком шумит! Ах! Мой бедный Аристандр взят в плен или убит, раз…
— Вовсе нет, мой маленький бесценный граф! — произнес снаружи грубый голос, старавшийся казаться таинственным. — Аристандр здесь, он ищет вас, и он вас слышит.
— Ах, дорогой мой Аристандр! — воскликнул Марио, обхватив руками большую голову, просунувшуюся в низкое окошко тесного убежища. — Это ты! Но какой ты мокрый, Боже мой! Не кровь ли это?
— Слава Богу, нет! Это вода, — ответил каретник, — и очень холодная вода! Но к счастью своему, я ее не хлебнул! Меня толкали наши чертовы отступающие крестьяне и увлекли помимо моей воли во внутренний двор. Я увидел, что тоже вынужден туда войти, и что я больше не смогу выйти, чтобы найти вас. Тогда я сделал свой последний выстрел из пистолета и прыгнул в реку. Шельма это река! Я думал, что никогда из нее не выберусь, тем более, что из замка в меня стреляли, принимая за врага. Ну вот, я и здесь! Уже четверть часа, как я вас разыскиваю; я подозревал, что вы в этой «чесалке для льна» (Аристандр называл так лабиринт), я знаю ее вот уже десять лет, но все еще не умею из нее выбираться. Ну, нам надо выйти отсюда, давайте попробуем! Предоставьте мне действовать! Но с кем вы здесь, черт возьми?
— С кем-то, кого тоже надо спасать, с маленькой несчастной девочкой.
— Из поселка? Ах, право же, мне это безразлично, мы спасем ее, если сможем. Прежде всего вы! Я пойду взгляну, что делается на заднем дворе; оставайтесь здесь и говорите потише.
Аристандр вернулся через несколько минут. Он был озабочен.
— Уйти отсюда нелегко, — тихо сказал он детям. — Ох, эти люди из поселка! Надо же допустить такую оплошность — позволить захватить ферму! А теперь, когда эти мерзавцы там пьянствуют, можно было бы перерезать их, как свиней, до последнего, если произвести вылазку из замка. Люди подумали, что на них напали демоны, а я говорю, что это переодетые бродяги, настоящий сброд! Послушайте только, как они кричат и поют!
— Ну что ж, воспользуемся их разгулом, — сказал Марио. — Перейдем эту часть двора, где, возможно, никого нет, и быстро доберемся до башни ворот.
— О, конечно же, да! Но они заперлись, негодяи! Они прекрасно знают, что господин маркиз может вернуться ночью, и ему придется осаждать собственную дверь!
— Да! — воскликнул Марио. — Вот почему я видел идущих в ту сторону Санчо с Ла-Флешем!
— Санчо? Ла-Флеш? Вы узнали их? Ах, как мне хочется отправиться одному напасть на этих знаменитых главарей!
— Нет, нет! — сказала Пилар. — Они сильнее и хуже, чем вы думаете!
— Но если они только заперли ворота, мы можем снова открыть их, — сказал Марио, соображавший быстрее, чем каретник. — А если они поставили сторожей… что ж, Аристандр, вдвоем мы можем попытаться убить, их, чтобы пройти. Ты раздумываешь! Видишь ли, друг мой, так надо. Надо поспешить предупредить моего отца. Иначе наши люди, поскольку они слишком напуганы, позволят захватить замок. Когда мерзавцы насытятся, они попытаются поджечь его. Кто знает, что может случиться? Ну же, Аристандр, друг мой, — прибавил храбрый малыш, вытащив свою маленькую рапиру, — бери кол, дубину, дерево, все равно что, и идем!
— Погодите, погодите, мой милый господин! — ответил Аристандр. — Здесь есть инструменты… дайте мне поискать. Вот, я держу лопату; нет! долото! Это мне больше нравится, я никого не боюсь! Но послушайте меня: знаете ли вы, где ваш отец?
— Нет! Ты отведешь меня туда.
— Да, если выпутаюсь из этого дела! Иначе вам придется отправиться туда одному. Знаете ли вы, где находится Эталье?
— Да, я там был. Я знаю дорогу.
— Вы знаете постоялый двор «Красного Петуха»?
— «Красного петуха»? Да, я два раза останавливался там. Его нетрудно найти, это единственный дом в этом уголке; и что же?
— Ваш отец будет там до десяти часов вечера. Если вы приедете слишком поздно, отправляйтесь в Брильбо! Он там будет.
— Внизу Кудре?
— Да. Он будет там со своими людьми. Путь долгий! Ты не сможешь проделать его пешком.
— Я сейчас же пойду в Брильбо, — сказала Пилар. — Я знаю дорогу, я доберусь!
— Да, — сказал возница, — беги, малышка! Ты предупредишь господина Робена. Ты его знаешь? Ты нездешняя?
— Все равно, я найду его.
— Или господина д'Арса, запомнишь?
— Я знаю его, я его видела однажды.
— Так идем! Ах, господин Марио, если бы я мог поймать вашего коня! Вы бы быстро туда добрались…
— Я могу бежать! — сказал Марио. — Не мечтай о коне, это невозможно.
— Еще минутку, — продолжал Аристандр, — и слушайте внимательно. Мост поднят; вы сумеете опустить настил? Это не тяжело!
— Это очень просто!
— Но решетка опущена! Все же не тревожьтесь, я поднимусь в камеру управления. Если там есть люди, тем хуже для них, я стану драться, убивать, я подниму кол! Не теряйте времени на то, чтобы ждать меня. Пробирайтесь, бегите, летите! Если кол упадет на малышку, тем хуже для нес: вы ничем не поможете, и я тоже. Хрцни вас Господь! Бегите, я догоню вас.
— Но если тебя…
Марио, со сжавшимся сердцем, умолк.
— Если меня отправят на тот свет, хотел ты сказать?. Что ж, как вы ни станете об этом горевать, от этого ничего не изменится. Жалея обо мне, вы потеряете голову и ноги! Вы должны думать лишь о том, чтобы бежать.
— Нет, друг мой, это слишком опасно для тебя; спрячемся здесь.
— А пока мы продолжаем скрываться, могут сжечь мадам Лориану, вашу Мерседес, Адамаса… и моих бедных лошадок из упряжки, которые там остались! Впрочем… Я пойду один. Когда путь будет открыт, вы пройдете.
— Идем! Идем! — сказал Марио. — Все, что угодно, ради Лорианы и Мерседес.
И он собрался выбежать из сада, но Пилар удержала его.
— Будь осторожнее, сюда должны прийти другие окаянные, я знаю это. Если ты встретишь их, спрячься хорошенько, потому что твой наряд с золотыми пуговицами сверкает в темноте, словно алмазы, и, чтобы заполучить твой наряд, они убьют тебя!
— Придумал! — воскликнул Марио. — Я быстро переоденусь в мои нищенские лохмотья, они здесь!
Читатель помнит о сельском трофее, сентиментальном и философском, повешенном в хижине.
Марио проворно снял его, и за две минуты, сбросив шелка, бархат и позументы, облачился в свое прежнее рубище; после чего он направился к воротам, ступая бесшумно и не говоря ни слова.
Надо было пройти всего лишь пятьдесят шагов вдоль стены вне пределов сада. Они прошли их если не в безопасности, то по крайней мере благополучно, под звуки смеха, проклятий, крики и хриплое пение, доносившиеся с фермы.
Башня ворот была темной и безмолвной. Аристандр поставил обоих детей совсем рядом с решеткой, Марио впереди, вплотную к последнему колу решетки с левой стороны. Затем он взял его руку в свою, чтобы помочь ему ухватиться за кольцо цепи, удерживавшей поднятым настил моста.
Надо было только снять это кольцо с крюка, вделанного в стену.
Больше нельзя было обменяться ни словом. Вокруг них, на лестнице, над их головами могли и должны были находиться уснувшие или невнимательные часовые.
Марио не мог сжать руки возницы в своих, уже державших снятое кольцо и натянутую цепь. Он прикоснулся губами к этой жесткой руке и быстро запечатлел на ней бесшумный поцелуй; это могло оказаться прощанием навек.
Аристандр, глубоко растроганный, тем не менее быстро отдернул свою огромную лапу, словно хотел сказать: «Ну, теперь думайте только о себе», и, быстро перекрестившись, решительно поднялся по короткой и крутой лестнице галереи управления.
— Кто идет? — крикнул глухой голос, в котором Марио тотчас же признал голос Санчо.
И, поскольку каретник продолжал подниматься и достиг левого края галереи, голос прибавил:
— Будешь ты отвечать, тупица? Ты что, пьян? Отвечай, или я стреляю в тебя!
Меньше, чем через минуту, раздался выстрел; но кол был поднят, Марио отпустил цепь, вскочил на мост и помчался, не оглядываясь.
Ему показалось, что на мушараби подняли тревогу и что он слышит свист пули; кровь так бросилась ему в голову, что он не услышал выстрела.
Оказавшись вне пределов досягаемости, он прислонился к дереву, чувствуя, что слабеет при мысли о том, что происходит между беднягой Аристандром и вражескими наблюдателями.
Он слышал громкие крики из башни и словно удары кирки о камень. Это Аристандр размахивал в темноте своим заступом; но он из осторожности хранил молчание, чтобы его принимали за пьяного цыгана, и Марио, стараясь уловить раскат его голоса среди других голосов, терял надежду, а вместе с надеждой — решимость бежать без него.
Бедный ребенок так мало думал о себе самом, что даже не вздрогнул, почувствовав, как кто-то сжал ему руку.
Это была Пилар, опередившая его во время бега. Теперь она вернулась назад, чтобы отыскать его.
— Ну, что ты здесь делаешь? — сказала она ему. — Беги же, пока они его убивают. Когда они покончат с ним, они погонятся за нами!
Чудовищное хладнокровие маленькой цыганки ужаснуло Марио. Выросшая в окружении сцен насилия и резни, она уже почти не испытывала страха и понятия не имела о жалости!
Но какое-то мгновенное соединение мыслей заставило Марио вспомнить о Лориане, и вся решимость, на какую может быть способен ребенок, вернулась в его сердце.
Он возобновил свой бег, сделав Пилар знак следовать нижней дорогой, и направился к той, что поднималась к плоскогорью Шомуа.
Через десять шагов он упал, споткнувшись о какой-то лежавший поперек дороги предмет.
Это был второй труп, на который Аристандр указал ему но дороге сюда, и на который не было времени взглянуть.
Почувствовав, что лежит на этом теле, Марио облился холодным потом: это мог оказаться Адамас! У него хватило мужества ощупать труп, и убедившись, что на нем крестьянская одежда, он встал и вновь пустился бежать.
Вид бледного неба над голой равниной немного помог ому отдышаться: темнота душила его. Он помчался по прямой; но на этой равнине его подстерегал новый страх.
Что-то белое, смутных очертаний, казалось, летело над нолями. Оно двигалось на него. Он постарался уклониться от него, но оно его преследовало. За ним гнался какой-то зверь. Ему на память пришли все деревенские сказки, какие рассказывают на посиделках о белой левретке и о домовом, кричащем: «Робер умер!»
Но внезапно животное заржало и оказалось достаточно близко, чтобы его можно было узнать. Это была славная маленькая лошадка Марио, издалека его почуявшая и вернувшаяся к хозяину.
— Ах, мой бедный Коке! — воскликнул мальчик, хватая его за гриву. — Ты вовремя подоспел! И ты узнаешь меня, бедный малыш, хотя на мне одежда, которую ты никогда не видел? Так ты очень испугался во время этого ужасного сражения? Ты убежал сразу после того, как подняли мост, и жуешь здесь сухой чертополох вместо своего овса? Ну, вперед! Мы оба поужинаем, когда у нас будет время!
Болтая так со своим конем, Марио поправлял стремена, немного поврежденные кустарником. Затем, вскочив в седло, он полетел стрелой.
Мы оставим его в пути и вернемся в Бриант, где положение осажденных внушает нам некоторое беспокойство.
Глава сорок восьмая
Когда Марио с Аристандром приехали в Бриант, не прошло и получаса со времени внезапного появления бандитов.
Лориана собиралась сесть за стол, когда в поселке послышались невнятные крики и ружейные выстрелы.
Эти звуки, которые обитатели замка и даже фермеры приняли вначале за звуки охоты деревенских жителей на какого-то крупного зверя, забравшегося в их поселение, очень скоро приняли более тревожный характер.
Каждый вооружился тем, что попало ему под руку, и молотильщики с гумна, размахивая своими цепами, побежали к башне ворот. Но их в ту же минуту оттеснили и остановили жители городка, которые, приходя со всех сторон, столпились на подступах к мосту и, в своем страхе, давили и опрокидывали людей, поспешивших им на помощь.
Банда нападавших состояла всего лишь из пятидесяти человек, сопровождаемых женщинами и детьми; но мы помним, что маркиз привел в готовность и отправил на штурм Брильбо всех крепких и отважных людей своего небольшого владения, так что население, подвергшееся нападению разбойников, состояло в данный момент лишь из женщин и детей, искалеченных стариков или тщедушных подростков.
Вид страшных и странно выряженных бандитов произвел то действие, на какое они и рассчитывали. Крестьянами поголовно овладела паника, и страх дал им ровно столько сил, сколько требовалось для того, чтобы помешать добрым слугам из замка выйти настрочу врагам.
Один из мертвых, найденных Марио на дороге, был молодым калекой, который упал и был затоптан ногами бегущих; второй несчастный славный старик, один попытавшийся выступить против врага, и Санчо убил его ударом приклада.
У слуг едва хватило времени снова перейти мост, и его не смогли поднять из-за отставших, которые приходили с криками и просьбами об укрытии для них и их скота. Враг воспользовался беспорядком, чтобы настигнуть их.
Тогда под сводом ворот завязался бой, в котором люди из замка, окруженные кричащими детьми и животными, тупыми и неподвижными или ранеными и разъяренными, вынуждены были немедленно отступить.
Едва они вернулись на задний двор, как крестьяне их покинули, бросившись на постоянный мост, и храбрецы, которых осталось не больше десятка, были вынуждены, под натиском бандитов, героически сражаясь, отойти к калитке.
Там был убит один из лучших, фермер Шарассон; двое других были ранены. Погибли бы все, потому что страшный Санчо наносил удары с отчаянной яростью, если бы пс трусость Ла-Флеша и его товарищей, «занимавшихся грабежом и нисколько не желавших получать жестокие удары».
Оставшись всемером, храбрые слуги должны были отступить во внутренний двор; это оказалось нелегко из-за тесноты, образовавшейся там. Санчо так подогревал бой, что большая часть животных осталась снаружи или, обезумев, бросилась в реку.
Во время этой жестокой, но очень недолгой битвы — она длилась едва ли десять минут — Лориана и Мерседес сначала молча и дрожа стояли на площадке малой башни входа. Когда они увидели своих людей отступающими, их охватила спонтанная смелость, какую придает страх слабым людям, и женщины побежали к фальконетам. Они поспешили зажечь фитили и держались наготове, подбадривая друг друга, и стараясь припомнить то, что показывали и объясняли, в виде упражнения, Марио и другим молодым людям. Но стрелять по врагу пока еще не было возможности, поскольку они бились врукопашную с защитниками замка.
Но что делал Адамас в этот последний час? Адамас находился в недрах земли.
Мы помним о потайном ходе, через который должны были, в случае необходимости, вывести Люсилио.
Этот подземный ход, проходивший подо рвом, вел к дороге в овраге, которую наводнения занесли песком вот уже несколько лет.
Адамас вообразил, что расчистка входа потребует нескольких часов работы землекопов. Но повреждения оказались более значительными, и после трех дней работы проходом все еще нельзя было воспользоваться.
Каждый вечер он управлялся проверять сделанную за день работу, и в то время, когда начался бой, он производил очередной осмотр, делая замеры и не догадываясь о царившем снаружи шуме.
Когда он вылез из своей норы, заканчивавшейся под лестницей башенки, несколько минут он был словно пьяный и думал, что грезит; но будучи человеком изворотливым, быстро обрел присутствие духа.
Адамас появился как раз в ту минуту, когда осажденные ворвались во внутренний двор и когда, пользуясь тем, что все потеряли голову, враг вот-вот готов был проникнуть туда же.
Проворный и всегда хорошо обутый, настоящий камердинер, каким он и был, он одним прыжком оказался у механизма решетки, чтобы опустить ее перед носом и даже немного на головы нападавшим; так, что основание этого средства заграждения не касалось земли. Он вовремя заметил это.
— Клиндор! — крикнул он растерянному пажу, готовившемуся закрыть ворота перед решеткой. — Стой, стой! Почему решетка дальше не опускается? У меня остается еще фут над желобом.
Клиндор, не отличавшийся большой храбростью, хотя изо всех сил старавшийся быть храбрым, посмотрел и в ужасе отступил.
— Еще бы! — сказал он. — Под ней три человека!
— Силы небесные! Из наших?.. Посмотри же, трижды молочный теленок!
— Нет,нет, из них.
— Что ж, тем лучше, клянусь Меркурием! Эй, скорее сюда! Поднимайтесь на верх решетки! Давите! Давите! Разве вы не видите, что эти мертвые тела послужат живым для того, чтобы пробраться под железными зубьями, и что, оказавшись под сводом, они подожгут ворота! Ну, остальные, вниз! Молотками, ногами, прикладами, бейте по головам тех, кто захочет пролезть! Срезай всех подряд твоей косой, мой славный Андош, живых и мертвых! А у тебя, Шатенье, есть ли еще заряд свинца? Стреляй в эту высунувшуюся красную морду!.. Есть! браво! Клянусь богом Тевтатом, это здорово! в самую глотку! Еще одним меньше!
Перемежая таким образом возвышенные обращения с пошлостями, до которых он опускался, чтобы быть доступным пониманию черни, Адамас с удовлетворением увидел, что решетка совсем опустилась на тела, и нападавшие отступили к началу моста.
— Теперь к фальконетам! — воскликнул он. — Побыстрее, мои Купидоны! Давайте, тысяча чертей, цельтесь, цельтесь! Приготовьте мне фрикасе из этих ночных птиц!
Небольшая артиллерия замка привела в уныние бандитов, которым нечем было отвечать, и они, унося своих раненых, решили, в ожидании лучшего, отправиться грабить и пировать на ферму.
Телят и баранов бросали живьем в горящий стог, откуда вскоре поднялся едкий запах паленой шерсти. Несчастных животных, пытавшихся избежать этой казни, вилами заталкивали обратно. Их сожрали наполовину сырыми, наполовину обуглившимися. В погребе вышибали днища из бочек. Все более или менее сильно напились, даже дети и раненые. Тело несчастного фермера бросили в огонь, и поступили бы также с двумя пленными батраками, если бы не рассчитывали на выкуп, и Санчо, желавший быть беспощадным, остался этим недоволен.
Один только старый испанец и не думал есть, пить и красть. Банда из Брильбо против его воли опередила более серьезных помощников, которых он нетерпеливо ждал, чтобы совершить свою месть. Он не боялся потерять жизнь — он заранее готов был пожертвовать ею, — но увидеть, что его операция провалилась из-за поспешности и жадности тех презренных, которые присоединились к нему, он не хотел.
Не в силах сдерживать их до того часа, когда его настоящие союзники должны были выступить в поход и повести дело, он последовал за ними.
Среди боя он, единственный исступленно смелый человек, естественно оказался во главе. Но когда битва была выиграна, он стал для них никем, и вскоре, как мы видели, должен был взять на себя труд охранять башню ворот, откуда можно было заметить приход тех, кто должен был осуществить захват и разграбление замка, а следовательно — погубить всех, кто послужил причиной или орудием убийства д'Альвимара.
Те, кто оказался в замке, принимали спешные меры, необходимые для защиты от нового штурма. Они видели и слышали оргию бандитов, и если бы захотели пожертвовать фермой, то легко выбили бы оттуда противников картечью из больших мушкетов. Но они боялись попасть в пленных, число которых было неизвестно, и в скот, которого было слишком много, чтобы он весь мог войти в желудки этих изголодавшихся.
Сосчитавшись, установили число павших или взятых в плен.
Адамас впустил в конюшни всех жалких бесполезных членов прихода. Этим беднягам дали побольше свежей соломы и велели сидеть спокойно и жаловаться потише, чего нелегко было добиться.
Лориана и Мерседес занялись тем, что перевязывали раненых и кормили детей.
Тем временем Адамас расставлял своих людей во всех уголках, подвергавшихся выстрелам нападавших, так, чтобы предупредить их огонь своим, и, чтобы никто не уснул, все время ходил от одного к другому, расточая похвалы и ободряя, выражая надежду, опасения или совершенную уверенность в развитии событий, смотря по темпераменту каждого. Мудрый Адамас, никогда не державший в руках другого оружия, кроме расчески и щипцов для завивки, явно выполнял роль «мухи на рогах у вола», роль, которую он умел сделать полезной, и которую считают необходимой те, кому знакомы беррийские медлительность и апатия.
Когда все было налажено, Адамас, изнуренный усталостью и волнением, бросился на стоявший в кухне стул, чтобы хотя бы пять минут отдышаться и прийти в себя.
У него было очень тяжело на сердце, и он ни с кем не решался поделиться своим горем. Он один знал, что Марио вовсе не должен был сопровождать своего отца в Брильбо, и что, если Марио еще не схвачен, он мог с минуты на минуту приехать и попасть в руки врага.
Ни Лориана, ни Мерседес не разделяли его тревоги; чтобы они не беспокоились, маркиз скрыл от них свои планы. По его словам, речь шла всего лишь об облаве, для которой он уводил всех своих людей. Они, конечно, предчувствовали нечто более серьезное по его озабоченному виду и переговорам, которые он вел целый день со своими друзьями и слугами; но они слишком хорошо знали его отцовскую любовь для того, чтобы опасаться, что он подвергнет Марио какой-либо опасности, и обе полагали, что он проведет ночь в замке д'Арса или в замке Кудре.
Адамас был в полной растерянности, он спрашивал себя, не должен ли он заставить всех своих людей трудиться, чтобы закончить расчистку потайного хода и пройти по нему навстречу Марио, и послать кого-нибудь, чтобы предупредить маркиза, одновременно помогая бежать женщинам. Но он слишком хорошо измерил расстояние, чтобы не знать: там еще на много часов работы, и на время этих работ замок, оставшись без охраны, может быть захвачен. Что тогда станет с ними, запертыми в этом подземелье, так как наверняка вход не ускользнет от внимания грабителей.
Его беспокойные размышления прервал приблизившийся к нему на цыпочках Клиндор.
— Что ты здесь делаешь, негодный паж? — с раздражением сказал ему Адамас.
И, забыв о том, что сам отдыхал, прибавил:
— Разве эта ночь подходит для отдыха?
— Нет! Я это знаю, — ответил паж. — Но я ищу…
— Кого? Говори скорее!
— Каретника! Вы не видели его?
— Аристандра? А ты видел его, что ты его разыскиваешь? Отвечай же!
— Я не видел его в замке; но так же верно, как то, что вы здесь, я видел его на постоянном мосту, пока там дрались.
— Погибель моя! Его вовсе здесь нет, я за это ручаюсь! Но Марио! Он должен был привести его домой! Ты видел Марио?
— Нет; я подумал о нем, я искал глазами; Марио там не было.
— Тогда слава Богу! Если бы Марио был с ним, ты не увидел бы одного без другого. Он ни на шаг бы не отошел от него. Он бы не бросился в бой! Несомненно, господин оставил при себе малыша и послал каретника, чтобы сообщить об этом. Но этот бедняга!.. Ты говоришь, он дрался?
— Как тридцать чертей!
— Я в этом уверен! А потом?
— Потом, потом… решетка упала, и я побежал закрывать ворота.
— Черт возьми! она могла упасть на… Скорее, бери этот факел, идем!
— Нет, нет. Я видел раздавленных людей. Его там не было.
— Ты плохо посмотрел, ты боялся!
— Боялся, я? Ну, нет!
— Все равно, идем, говорю тебе!
И Адамас поспешил вновь открыть ворота и с трепетом взглянуть на трупы, расплющенные железными зубьями. Они к тому же были так истерзаны, что это душераздирающее зрелище заставило пажа выронить из рук факел.
Адамас с бранью поднял факел и в его неярком свете он увидел стоящего позади него Аристандра.
— Ах, друг мой! — воскликнул он, бросаясь к нему на шею. — Марио? Где Марио?
— Спасен! — ответил возница. — И я тоже, не без труда! Скорее, стакан можжевеловой настойки или виноградной водки! У меня зубы стучат, а я не хочу умирать, черт возьми! Я еще могу здесь пригодиться!
— На кого ты похож, бедный мой друг! — сказал Адамас, быстро приведя его в кухню, где Клиндор налил ему вина. — Откуда ты вылез?
— Из пруда, черт возьми, — ответил покрытый тиной каретник. — А как еще я мог войти? Уже четверть часа я топчусь в грязи, и за мои ноги цепляется трава.
И, сорвав свою превратившуюся в лохмотья одежду, он голым устроился у огня, сказав:
— Посмотри, Адамас, не слишком ли много крови я теряю, и останови мне ее, старина, потому что я чувствую слабость!
Адамас осмотрел его; у него было около десяти ран и столько же ушибов.
— Силы небесные! — воскликнул Адамас. — Я не вижу ни одного целого места на твоем несчастном трупе!
— Сам ты труп! — воскликнул каретник, опрокидывая новый стакан. — Ты думаешь, я привидение? Конечно, я возвращаюсь издалека; но мне уже лучше: у меня шкура толстая, как у моих лошадей, благодарение Господу! Не дай мне истечь кровью, вот все, о чем я тебя прошу. Это никуда не годится, чтобы человек терял кровь своего тела.
Адамас с удивительной ловкостью вымыл и перевязал его.
В самом деле, благодаря толщине своей кожи и исполинской силе мускулов у раненого не было ничего особенно серьезного.
— А Марио? — спрашивал Адамас, одевая его в сухие вещи, за которыми сбегал Клиндор. — Значит, малыш был в опасности?
Аристандр рассказал обо всем до той минуты, как он поднял кол решетки.
— Малыш прошел, — прибавил он, — несмотря на негодяев, которые стреляли в него, но они его не задели. В эту минуту я держал за глотку мерзавца Санчо. Я мог бы задушить его, но отпустил, чтобы побежать на мушараби, и я увидел Марио, который несся, словно ветер; и тогда я наткнулся на двух других мерзавцев. У меня было только долото, но все-таки я здорово их отделал! Санчо снова бросился на меня со своей сломанной рапирой и, думаю, хотел рукояткой обломать мне рога, поскольку бил меня ею по голове и по лицу, когда не попадал в живот. Ах, бешеный старик, как он больно дерется! К тому же я уже был ранен и лишился части сил! Но это все же немного согрело меня, потому что я уже пересек пруд, чтобы встретиться в саду с моим миленьким Марио, и дрожал от холода. Все равно я не смог справиться с этим старым чертом, вот и все, что меня огорчило. Когда я услышал, что другие идут к нему на помощь, я соскользнул по рабочей лестнице и, поскольку он не так легок на ногу, как тяжел на руку, я смог добраться до сада, и он не узнал, где я прошел. После чего, право же, мне больше ничего не оставалось делать, как вернуться сюда через пруд, и вот я здесь.
— Аристандр! — воскликнул Адамас, который, в противоположность многим людям, искренне восхищался подвигами, на какие чувствовал себя неспособным. — Ты так же велик, как самые великие герои господина д'Юрфе! И, если господин мне поверит, он велит изобразить тебя на гобелене в своем салоне, чтобы увековечить память о твоей храбрости и твоем добром сердце.
— Если все дело в том, чтобы быть рослым, — ответил простодушный каретник, — могу сказать, что ростом я вышел. Но мне это безразлично, пойду взгляну на моих лошадок; после чего мы приготовимся к небольшой вылазке, чтобы освободить задний двор от этого сброда. Что ты об этом думаешь, старина?
Мудрый Адамас не вполне соглашался с этим мнением.
Пока они обсуждают планы нападения и защиты, мы вернемся к Марио, который приблизился к большому дереву, еще и сегодня венчающему логовище Эталье.
Мальчик взглянул на звезды, в которых научился разбираться за время своей пастушьей жизни; была примерно половина десятого.
В то время в этой глуши стоял всего один дом: это был трактир и вместе с тем место встречи охотников.
Возвышенность, расположенная посреди изобилующих дичью обширных равнин, часто удостаивалась чести служить местом привала сеньорам края, собиравшимся травить зайца и пообедать или поужинать под вывеской «Красного Петуха»[105].
Это объясняет, каким образом довольно небольшой трактир, расположенный достаточно близко к городу, чтобы не рассчитывать на остановку богатых путешественников, обладал, в лице метра Пиньу, трактирщика из «Красного Петуха», поваром редчайших достоинств.
Когда местные дворяне доставляли себе удовольствие ловить рыбу в прудах Теве, они немедленно посылали за метром Пиньу, который являлся, вместе со своей женой, накрыть свой стол на берегу, и подавал им, под сенью какой-нибудь прекрасной листвы, те чудесные матлоты (тогда их называли душеной рыбой), которые его прославили. Он отправлялся также в города и замки для свадеб и пиров, и мог бы поучить, как говорили, поваров его высочества.
Трактир «Красного Петуха» был построен основательно, в два довольно высоких этажа, и крыт ярко-красной черепицей, видной на версту в округе. Покровительство соседних сеньоров помогло мэтру Пиньу добиться разрешения поставить на своей крыше флюгер — дворянская привилегия, на какую он, по его словам, имел право, поскольку ему часто выпадал случай принимать у себя знать. К пронзительному непрестанному скрипу этого флюгера, казавшегося мишенью всех дуновений равнины, присоединялось постоянное хлопанье большой вывески из кованого железа, изображавшей «Красного Петуха» во всем блеске, гордо качавшегося на конце кронштейна над одним из окон второго этажа.
Напротив дома, по другую сторону дороги, находилась просторная конюшня, крытая соломой, и длинные навесы — под ними укрывалась свита, которую знатные охотники таскали за собой. Трактир предназначался для всадников.
Известно, что в те времена трактиры еще разделялись на гостиницы, ночлеги и харчевни. Ночлеги предназначались именно для ночевки, а харчевни — для обеда путников; эти последние представляли собой скверные трактиры, где приличные люди останавливались лишь за неимением лучшего, и где иногда подавали воронье и ослиное мясо, а также «Сансеррского угря», то есть ужа. Ночлеги, напротив, часто были очень роскошными.
Гостиницы кроме того делились на трактиры для пеших и трактиры для конных. Там можно было получить обед и ужин. На вывеске «Красного Петуха» большими буквами было написано:
ГОСТИНИЦА С КОРОЛЕВСКОГО ДОЗВОЛЕНИЯ
И под этим:
ОБЕД ДЛЯ КОННОГО ПУТНИКА ДВЕНАДЦАТЬ СУ;
НОЧЛЕГ ВЫШЕНАЗВАННОГО ДВАДЦАТЬ СУ
Королевские грамоты поддерживали привилегии трактирщиков. Пеший путешественник не мог остановиться в гостинице для всадников, и наоборот.
«Французские законы запрещают одному тратить слишком много, другому — не потратить достаточно».[106]
Марио, видевший освещенные окна, не удивился радостному ржанию, которое испустила его маленькая лошадка примерно в двух сотнях шагов от трактира. Он подумал, что она узнает места.
Однако его удивило то, что она внезапно свернула влево и упиралась, не желая возвращаться на правильный путь.
Мальчик насторожился, прислушиваясь.
Ему послышался топот конских копыт, идущий от трактира, еще скрытого от него ночными испарениями. Он обрадовался этому.
— Мой отец здесь, — сказал он себе. — Со всеми своими людьми; возможно, с господином д'Арсом или его свитой. Поедем скорее.
Но Коке заставил так долго просить себя двинуться вперед, что юный всадник решил: надо попробовать «понять его мысль». Он внезапно остановил свою лошадку и услышал намного ближе от себя, чем из конюшни трактира, хорошо знакомое ему ржание Розидора, верного парадного коня маркиза.
— Так мой отец здесь? — сказал он сам себе. — Не надо бы нам встречаться на дороге.
И, поскольку слева от себя он различал лишь какую-то густую поросль, он бросил повод на шею Коке, уверенный, что тот сумеет найти своего товарища.
В самом деле, Коке вошел в заросли и остановился перед покосившейся и растрескавшейся лачугой.
Это была старая гостиница «Красного Петуха», которую оставили разрушаться лет двадцать тому назад. Буа-Доре, Гийом и господин Робен дали деньги на постройку новой и подарили ее мэтру Пиньу как свидетельство того, как высоко они ценят его честность и его кулинарные таланты.
Глава сорок девятая
Марио вошел беспрепятственно, двери не было.
Он коснулся Розидора, которого узнал по его сбруе, по тонкой коже, как и по ласкающему голосу; то обстоятельство, что конь его отца спрятан в этих развалинах, заставило его призадуматься.
Маркиз, возможно, и сам скрывался. Возможно, он тоже был здесь.
Марио поискал, осторожно позвал и, убедившись, что он один, решил, что должен последовать примеру, который, казалось, был ему подан, и, привязав Коке за уздечку рядом с Розидором, пешком и бесшумно направился к новой гостинице.
Он пробрался вдоль кустов и вышел незамеченным прямо посреди группы всадников, расположившихся на этом месте; одни из них заводили лошадей в большую конюшню напротив; другие, уже вышедшие оттуда, стояли посреди дорога и вполголоса с загадочным видом обменивались непонятными для Марио словами.
Он незаметно проскользнул между ними, но, когда он оказался на пороге просторной кухни трактира, освещенный светом очага, который тот отбрасывал наружу, он почувствовал, что грубая рука схватила его за ворот и грубый голос сказал по-французски, но с сильным немецким акцентом:
— Сюда нельзя входить!
В то же время он увидел по обе стороны двери двух невысоких черных людей, вооруженных до зубов и стоявших на часах.
Тогда ему на память пришли слова Санчо и то, что Пилар сказала ему об ожидаемом бандитами подкреплении.
«Я попал в осиное гнездо, — сказал он себе. — Но я переоделся, и они примут меня за маленького попрошайку. Мне совершенно необходимо узнать, здесь ли мой отец».
Тогда он протянул руку и стал клянчить жалобным тоном, какой он слышал у цыган и каким пользовался иногда сам, смеясь исподтишка, во время своих странствий с этой «почтенной компанией».
Его сразу же отпустили, но приказали убираться, а поскольку он не понимал, ему пригрозили, изобразив, будто целятся в него.
Он собирался удалиться, твердо решив вернуться, когда другой голос, шедший из трактира, отдал приказ на немецком языке, и сразу же вместо того, чтобы оттолкнуть его от двери, его снова схватили за ворот и втолкнули в кухню.
Там, не успев ни в чем разобраться, он оказался перед длинным, сухим и темным человеком в военном мундире, который сказал ему с итальянским акцентом:
— Подойди, малыш, и если у тебя есть письмо, дай мне его.
— У меня нет письма, — ответил Марио, уверенно глядя на него.
— Значит, поручение на словах? Говори!
— Прежде, чем говорить, — сказал ребенок с большой находчивостью, — я должен знать, с кем говорю.
— Черт! — сказал чужеземец с презрительной улыбкой. — Какой осторожный мальчик; это хорошо! Вот пароль: Сакканс и Макабр![107] А тебе какое имя назвали?
— Лa-Флеш, — наугад ответил Марио.
— Эй, что это такое? — нахмурившись, сказал итальянец. — Это какая-то бессмыслица!
— Погодите! — воскликнул вдохновленный этим ответом Марио. — Это не все. Нет ли в вашем пароле слова «грабеж»?
— Это больше подходит, — ответил тот, продолжая зловеще улыбаться. — Но и это не все, маленькая обезьянка! Память вам изменяет!
— Возможно, — ответил ребенок. — Есть второе слово, я прекрасно это знаю. Не правда ли, это Санчо?
— Ну вот! Теперь сядь в уголок и не шевелись. Это я — лейтенант Сакканс; капитан Макабр будет здесь через четверть часа. Это ему ты должен передать свое сообщение, до которого мне дела мало. Эй, там, помолчите! — крикнул он всадникам, ходившим взад и вперед вокруг дома, разговаривая несколько громче, чем, видимо, было можно.
Наступила тишина, и тот, кто именовал себя лейтенантом Саккансом, обращаясь к Марио, искавшему способ проникнуть в другую комнату, чтобы поискать своего отца или кого-нибудь, кто мог рассказать ему о нем, сказал:
— Мой милый друг, хорошо бы довести до твоего сведения приказ. Всякого, кто захочет сюда войти, прогонят пли задержат; по всякому, кто пожелает выйти, будут стрелять. Ты слышал это?
— Но у меня нет причин пожелать выйти, — осторожно ответил Марио. — Я ищу, нет ли здесь чего-нибудь поесть; я голоден.
— Это мне совершенно безразлично, малыш. Мы тоже голодны, и мы ждем, когда капитан отдаст нам приказ есть.
Марио не был голоден. Он был сильно встревожен. Он видел в задней комнате, служившей буфетной и кладовой, хозяйку Пиньу и ее служанку, ходивших взад и вперед с озабоченным видом. Ему показалось, что госпожа Пиньу видела и узнала его, и даже, что она говорила со своей служанкой, словно бы предупреждая ее молчать об этом открытии.
Но все это вполне могло оказаться заблуждением, и Марио подстерегал минуту, когда Сакканс отвернется, чтобы попытаться обменяться словом или взглядом с хозяйкой. Он знал, что их с отцом здесь обожали.
Он решил притвориться, будто засыпает, и вскоре Сакканс вышел, чтобы отдать распоряжения.
Тогда ребенок бросился к госпоже Пиньу и сказал ей:
— Это я! Не говорите ничего! Где мой отец?
— Наверху! — торопливо ответила госпожа Пиньу, которая, хоть и была стара, оставалась еще крепкой и хорошо сохранившейся.
Она показала Марио на деревянную лестницу, которая вела в столовую, называвшуюся парадным залом трактира «Красного Петуха».
Но, поскольку ребенок уже полез по ней, она, удерживая его, сказала:
— Нельзя! Они не знают, что он здесь! Не двигайтесь, мой молодой господин! Они убьют его!
— Кто же эти люди?
— Это скверные люди! Знаете ли вы, что такое «репы»?
— Нет!.. Подождите!.. Может быть, вы хотите сказать… рейтары?
— Да, так! Мой слуга Жак, который прислуживал им, хорошо их узнал. Это бандиты, которые предают огню и мечу все на своем пути.
— И все же они не причинили вам зла?
— Нет; они хотят есть и пить; после чего один Бог ведает, не сожгут ли они дом и нас вместе с ним! Вот так они платят!
— Мадам Пиньу, надо, чтобы мой отец убежал отсюда! Как это сделать?
— Сейчас это невозможно! Они охраняют двери со всех сторон, а ваш отец уже не в том возрасте, чтобы выпрыгивать в окна. Впрочем, чего ради? Дом окружен, и они не позволяют нам одним пойти даже в курятник или в погреб.
— Но моего отца надо хотя бы спрятать! Ах, теперь я вполне уверен, что именно на него они покушаются! Где он?
— В комнате моего мужа, которого, к счастью здесь нет! Он отправился готовить свадебный обед в Ла Шатр и вернется только завтра. Они назвали его по имени!
— Кого? Моего отца?
— Нет, моего мужа! Подумайте, как получилась, что они его знают! Я сказала, что он болен, и сказала это очень громко, чтобы ваш отец наверху услышал это. Я надеюсь, что он догадался лечь в постель.
— А им не пришло в голову подняться?
— Напротив, они заглянули в парадный зал, и они сказали…
— Но они возвращаются? Молчим, — сказал Марио.
И он поспешил вернуться в свой уголок в кухне и снова притвориться спящим.
— Ну, старая ведьма, поторопитесь! — воскликнул Сакканс, вернувшийся в сопровождении двоих своих приспешников. — Накрывайте на стол и угощайте нас как можно лучше. Вот капитан Макабр, он идет сюда. А вы, — сказал он своим солдатам, — вы будете исполнять предписание: «Молчание и терпение!» Никто не будет есть, пока капитан не сядет за стол. Капитан остановится здесь, чтобы хорошо поужинать, и не хочет, чтобы ограбили кладовую и ничего, кроме костей, не оставили ему и его офицерам. Вспомните о тех, кого повесили в Линьере за то, что они воровали еду. Идите! Я говорил по-французски для ваших ушей, мадам мартышка, — прибавил он, обращаясь к хозяйке, как только вышли солдаты. — Это для того, чтобы вы знали, что незачем здесь хныкать и вздыхать… Старайтесь и готовьте вертел. Ну! И, если жаркое сгорит по вашей вине, берегите свои старые кости!
— А как вы хотите, чтобы я поспешила, когда я почта совсем одна должна все делать? — сказала госпожа Пиньу, не смущаясь оскорблениями. — Нас здесь всего две старухи. Верните мне моего слугу, чтобы он накрывал на стол; я же не могу быть одновременно наверху и внизу, не так ли?
— Твой слуга подозрителен, старая. Он, похоже, собирался сбежать при виде нас, и потом попытался спрятать овес. Он получил хорошую взбучку, и теперь работает на нас.
— Ну, а этот постреленок? — возразила хозяйка; она говорила, насаживая птиц на вертел. — Он из вашей шайки? Не может ли он помочь мне?
— Помоги ей, бездельник, — сказал Сакканс Марио, — и работай как следует!
Марио поднялся с притворной беспечностью, и спросил, что надо делать.
— Отправляйся-ка наверх со служанкой, — воскликнула госпожа Пиньу, — и быстренько накройте стол скатертью!
Марио поднялся и сказал служанке:
— Мой отец? В какой он комнате? Скорее!
Она отвела его на второй этаж, и мальчик легонько поскребся в дверь, запертую изнутри.
Маркиз тотчас же узнал этот знак. Только маленькая ручонка Марио скребется так же каждое утро в дверь его спальни.
— О Боже! — воскликнул он, поспешно открывая. — Ты здесь? Но что означает этот наряд? С кем ты пришел? Как? Почему?
— Мне некогда объясняться, — ответил Марио. — Я один; я хочу, чтобы ты убежал отсюда. Делай как я, отец, переоденься!
— Да, это верно! — сказала служанка. — Вот вещи нашего хозяина, оденьте их на себя, господин мар…
— Никаких маркизов! — сказал Марио. — Уходи-ка отсюда, моя милая; а вы, отец, станете мэтром Пиньу.
— Но зачем мне показываться? — заметил маркиз, начиная машинально расстегивать камзол. — Я не смогу, подобно вам, сын мой, должным образом разыграть комедию!
— Напротив! Сможете, отец! Но скажите мне, не знаете ли вы рейтара по имени Макабр? Мне кажется, я слышал от вас несколько раз это имя.
— Макабр? Да, конечно, я знаю это имя, и человека тоже, если это тот самый, кто…
— Он давно вас не видел?
— Черт возьми! Да! Лет двадцать или тридцать… Может быть, и больше!
— Ну что ж, это хорошо! Показывайтесь без опаски; изображайте трактирщика, и мы найдем способ бежать.
— Это невозможно, дитя мое, — сказал маркиз, продолжая раздеваться. — Мы имеем дело с пройдохами. Представьте себе, они пришли, произведя не больше шума, чем стадо идущих шагом мулов, которых ведет один-единственный человек. Я не остерегался; хозяйка спала в уголке у очага; я был в комнате, читая «Астрею» в ожидании, пока пробьет час.
— Спрячем «Астрею»! Повара не читают книг, переплетенных в шелк, — сказал Марио, схватив том, машинально положенный маркизом рядом со шляпой, когда расположился в комнате трактирщика.
И тем временем, как только маркиз освобождался от одной из частей своего наряда, мальчик прятал ее под вязанками хвороста на маленьком чердаке по соседству.
— Но ты, бедное мое дитя, — продолжал маркиз, — значит, они не узнали в тебе дворянина? Они не причинили тебе зла, Боже мой?
— Нет, нет; поговорим о тебе, отец мой. Значит, ты не пытался выйти до того, как они выставили своих часовых?
— Нет, конечно. Я ни о чем не подозревал! Они так мало шумели, что я думал — это привал погонщиков мулов, и только когда они окружили дом, они немного возвысили голоса, и я увидел через окно, что попал в западню, устроенную худшими разбойниками и убийцами, каких я только знаю. Я сидел спокойно, думая, что они вскоре уйдут; но я услышал и немного понял несколько итальянских слов. Они, я думаю, собираются остаться здесь до рассвета. И тогда я сказал себе, что, не увидев меня в Брильбо, где меня ждали к десяти часам, мои люди, беспокоясь обо мне, придут ночью за мной сюда, где, как им известно, я должен остановиться. Лучше было бы подождать их. Этих рейтаров не больше дюжины; я довольно точно их сосчитал, и когда я увижу наших людей, я сумею проложить нам путь добрыми ударами шпаги, раздавая их этим негодяям.
— Отец, — сказал Марио, смотревший в окно. — Их сейчас по меньшей мере двадцать пять! Потому что только что прибыла еще одна шайка. Наши люди еще и не думают идти за тобой, и с минуты на минуту эти рейтары могут обыскать дом сверху донизу, чтобы пограбить.
— Что ж, дитя мое, вот я и переоделся с головы до ног; оставайся при мне, как будто ухаживаешь за больным хозяином. Если сюда придут, нас не тронут. Истязают и грабят только хорошо одетых людей на хороших лошадях… Ах, кстати, из-за моего коня меня узнают. Они должны были видеть его!
— Твой конь спрятан, и мой тоже.
— Правда? Это, стало быть, храбрый конюх нашел способ… Но почему они так кричат, эти разбойники? Ты слышишь их?
— Это они меня зовут! Оставайся здесь, отец; не запирайся: это вызовет подозрения. Смотри, они входят в комнату внизу. Я иду туда! Слушай все: перегородки тонкие; постарайся понять, и будь полностью готов прийти, если я в свою очередь позову тебя.
Глава пятидесятая
Марио спустился, словно кошка, по маленькой лесенке, что вела из комнаты хозяина в парадный зал, и оказался перед капитаном Макабром.
Лейтенант Сакканс тоже был там, и с ним двое или трое с такими же физиономиями висельников.
Внешность человека, носившего зловещее имя Макабр, была на первый взгляд менее неприятной, чем у лейтенанта. Лицо последнего было предательским и холодным, смех — свирепым. Лицо Макабра говорило лишь о тупой грубости, старавшейся выглядеть внушительно.
На этом лице, поглупевшем от усталости и разгула, совсем не осталось места для улыбки. Мускулы, казалось, затвердели и окостенели; светлые глаза казались неподвижными, словно нарисованные. Резкие черты напоминали черты Полишинеля, но без его насмешливого и оживленного выражения. Большой шрам на челюсти парализовал один угол рта и странным образом разделил рыже-седую бороду, которая казалась растущей косо и частично против шерсти. Большая волосатая родинка увеличивала горбину сильно выдающегося носа. Пальцы до самых ногтей ощетинились серыми волосами.
Человек был маленьким и худым, но широкоплечим, и подобравшимся, словно кабан, от которого у него была и рыжая шерсть, и низко посаженная голова. Он казался очень пожилым, но его вид еще говорил об исполинской силе. Резкий голос, постоянно державшийся на повышенном, командном тоне, в устах этого глупца звучал простуженным громом и заставлял дрожать стаканы на столе.
Он был одет на манер рейтара, в полукафтан и набедренники из буйволовой кожи, латы и шлем из лакированного железа. Дрянное черное, совершенно ощипанное перо торчало на этом черном и блестящем шлеме. Он носил крепкий и широкий немецкий меч, о который легко ломалось сверкающее копье французских конных латников. «Пистоли с огненным камнем», первый образец кремневого пистолета, которому наши солдаты напрасно предпочитали еще оружие со шкивом и фитилем; короткий мушкет и перевязь, снабженная мешочками из черной кожи, содержащими заряды пороха и пуль, дополняли его полевое снаряжение.
Его личный эскорт составляли два конных разведчика, страдиота, и два оруженосца, совмещавших исполнение обязанностей пажа и кузнеца.
Кроме того, у него было семь хорошо вооруженных солдат на хороших конях, рейтаров, никогда с ним не расстававшихся и составлявших цвет его отборного войска. По крайней мере, так мы можем перевести эквивалентами, принятыми в обычае того времени, чины и звания этой роты иностранных авантюристов, где каждый из командиров менял, в силу своей власти или прихоти, организацию, снаряжение и состав.
Марио не ошибся, насчитав двадцать пять человек в банде, состоявшей из людей лейтенанта и вновь прибывших с капитаном.
— Что за грязный трактир! — презрительно крикнул капитан, очищая тяжелые подошвы своих грубых и заляпанных грязью сапог о чистые и блестящие перекладины орехового стула. — Это что, огонь для ночных путников? В этой лачуге дров не хватает?
— Увы, сударь! — ответила служанка, бросая охапку хвороста в камин, уже хорошо горящий. — Мы не можем сделать большего: мы в равнинном краю, и дерево здесь редкость.
— Вот еще худшая дура, и еще большая уродина, если только это возможно, чем ее хозяйка! — продолжал любезный Макабр. — Ну, беззубая красотка, вот как согреваются, когда дрова дороги!
И он бросил в большой камин стул, о который только что чистил сапоги.
— Так что, лейтенант, — холодно продолжал он, обращаясь к Саккансу, — вы говорите, здесь есть маленький оборванец, посланный ими…
— Вот, наконец, и ты! — ответил Сакканс, подняв сапог, чтобы подтолкнуть Марио к почтенному капитану.
Марио увернулся от удара, проворно проскочив под сапогом рейтара, и, подойдя ко второму грубияну, самоуверенно сказал ему:
— Это я, и вот мое сообщение; потому что я очень хорошо назвал вашему лейтенанту пароль. Вы не можете оставаться в этой гостинице, потому что этой ночью сюда должно прийти большое войско вооруженных людей. Вы совершенно не можете напасть на замок, его хорошо охраняют. Вам надо вернуться туда, откуда вы пришли, или дело плохо обернется для вас; это говорит вам Санчо.
— Твой Санчо — всего лишь старый осел, — ответил капитан.
И, сопровождая каждое свое слово богохульством, какое нет нужды приводить, чтобы дать представление о любезности его речи, он прибавил:
— Я не для того проделал сотню лье во вражеской стране, чтобы уйти с пустыми руками. Иди, скажи тому, кто тебя прислал, что капитан Макабр лучше него знает эти места, и что ему… наплевать на то, что называется хорошо охраняемым замком! Скажи ему, что у меня сорок всадников, поскольку за мной идут еще пятнадцать, они явятся под предводительством моей супруги, и что сорок рейтаров стоят армии. Ну, живо, убирайся и иди к черту, цыганское отродье!
— Не прогоняйте его, капитан, — сказал Сакканс, который казался здравомыслящим советчиком. — Нам ни к чему дальше переговариваться с этим сумасшедшим испанцем и с этой египетской сволочью. Совсем не нужно, чтобы этот прелестный гонец отправился сообщить им, что вы упорствуете. Они последуют за нами и будут только мешать нам и грабить рядом с нами. Делайте, как сказала вам ваша жена. Оставайтесь здесь до полуночи, и вы прибудете задолго до рассвета, потому что отсюда до Брианта нет и двух лье. Так помешаем уйти этому мальчишке. Я выброшу его в окошко, и он не сможет бегать.
— Нет! Никакой излишней жестокости! — фальцетом крикнул капитан. — Я стал кротким и человеколюбивым с тех пор, как у меня появилась жена с чувствительным сердцем… Охраняется ли должным образом дом?
— Муха не влетит без моего разрешения.
— Так поужинаем спокойно, как только прибудет моя Прозерпина… Вы отдали приказания?
— Да; но, несмотря на прекрасные обещания мадам Прозерпины насчет лакомств, какие есть в этой норе, мы, боюсь, найдем здесь скудную пищу. Великий повар, о котором вам говорили, лежит в постели и подыхает, а хозяйка теряет голову. Слуга — предатель, за которым мы должны следить, а служанка — старая перепуганная дура, которая все бьет и ни к чему не годна.
— Это оттого, что вы грубо с ними разговариваете, друг мой! У вас всегда на устах оскорбление и угроза! Тысяча чертей! Моя супруга вам часто это говорила, вы не знаете правил хорошего тона. Где она, эта несчастная хозяйка, я сейчас двумя десятками оплеух подбодрю ее!
И, тяжело протопав к лестнице, он позвал мадам Пиньу, награждая ее самыми грубыми эпитетами, очевидно, для того, чтобы дать своему лейтенанту пример мягкости и вежливости.
Весь этот разговор шел по-французски.
Макабр, немец по происхождению, родился в Бурже и провел юность в Берри. Кроме определенного набора слов, предназначенного для командования, он плохо и без удовольствия говорил на языке своих предков. Итальянец Сакканс с большей легкостью коверкал французский язык, чем немецкий. Так что им трудно было договориться, когда они хотели воспользоваться этим языком, и к тому же они настолько чувствовали себя хозяевами положения, что не снисходили до осторожности в присутствии Марио и обитателей дома. Марио, который многим рисковал, пытаясь заставить рейтаров повернуть назад, и которого в любую минуту мог разоблачить какой-нибудь настоящий гонец от Санчо или Ла-Флеша, понял, что настаивать сейчас было бы слишком смело. Он притворился безразличным и рассеянным, накрывая на стол, но не пропустил ни слова из того, что говорили два наемника.
Санчо в самом деле обещал послать нарочного в Эталье, где отметил последнюю остановку рейтаров. Но этот нарочный, такой же бродяга, как все прочие, надеявшийся захватить и разграбить замок в Брианте без помощи немцев, воздержался от исполнения поручения, и отправился мародерствовать в покинутый городок, в ожидании часа штурма замка его товарищами.
Хозяйка, так любезно призванная Макабром, поднялась и смело дала отпор.
— К чему грубые слова, капитан Макабр? — сказала она, уперев кулак в бедро. — Мы давно с вами знакомы, и я прекрасно знаю, что вы заплатите свою долю и долю этих ваших чертовых ландскнехтов[108], ругаясь и все круша. Я вовсе не ради своего удовольствия принимаю вас, и мне известно, что это скорее послужит моему разорению. Но я — женщина рассудительная, и не глупее всякой другой. Так что я мужественно перенесу неприятности и буду служить вам как можно лучше, чтобы избежать плохого обращения и быстрее избавиться от ваших физиономий… Если вы хоть немного способны рассуждать, капитан, вы скажете себе, что не надо зря досаждать мне, но надо дать мне действовать и вспомнить о том, что я не хуже всякой другой умею жарить и печь.
— А кто ты такая, старая болтунья? — спросил капитан, стараясь повернуть шею, скованную железными доспехами, чтобы взглянуть на госпожу Пиньу.
— В девичестве меня звали Мари Мутон, и я была вашей маркитанткой во время осады Сансерра, и доказательство этому то, что однажды я так изжарила вам старую шляпу, что вы потом бороду обсасывали.
— Это возможно; я вспоминаю шляпу, которая была вкусной, но не тебя, уродливую… Но, раз ты послужила правому делу, я прощаю тебе твое кудахтанье.
— А какое дело вы теперь зовете правым? Потому что у вас и ваших людей это столько раз менялось!
— Замолчите, подружка-болтушка. Я не говорю о религии с подобными вам людьми.
— Знайте, впрочем, — усмехаясь, прибавил Сакканс, — что правое дело всегда то, которому мы служим.
— Но разве время болтать, — продолжал Макабр, — когда моя Прозерпина приближается, и когда я приказываю вам поторопиться?
— Я не могу быстрее, — ответила госпожа Пиньу. — Зачем вы заставили меня подняться сюда?
— Потому что я хочу, чтобы твой муж, о котором говорят, что он — заслуживающий уважения повар, встал, околел он или нет, и принялся за работу.
— Это невозможно: мой муж разбит болезнями и уже давно не стряпает.
— Вы лжете, моя милая; ваш муж — приспешник старого… Хватит! Я вас знаю: моя супруга сказала мне…
— О каком старике вы говорите?
— Мне кажется, вы допрашиваете меня, прислуга? — сказал капитан с шутовским достоинством, которое он чистосердечно представлял.
— Почему бы и нет? — возразила хозяйка. — А ваша, как вы говорите, супруга, — кто она такая, что так хорошо нас осведомляет?
— Придержите ваш язык и, когда явится моя богиня, прислуживайте ей на коленях, — сказал Макабр с самодовольной улыбкой, от которой его кривой рот поднялся до левого глаза.
Затем, вернувшись к своей навязчивой идее, заключавшейся в том, чтобы хорошо поесть и хорошо угостить свою «богиню», он настоял на том, чтобы подняли трактирщика.
— Клянусь преисподней! — сказал Сакканс, вытаскивая шпагу, — это нетрудно. Я всегда слышал, что надо нашпиговать больные бока, чтобы расшевелить их, и я сумею выкурить этого мнимого умирающего из любой норы, в какую он забился! Идите со мной, страдиоты! И колите везде, плоть это будет или песчаник.
— Не надо, — сказал Марио, бросившись навстречу обнаженной шпаге. — Я схожу за ним; я знаю, где метр Пиньу! Я знаю его, и, когда я скажу ему, что он удостоился чести принимать капитана Макабра собственной персоной, он немедленно явится.
— Какой милый малыш! — сказал Макабр, глядя вслед Марио. — Надо подарить его моей супруге, пусть он ей прислуживает. Она каждый день просит у меня ловкого пажа.
— Вы ничего не сделаете из бродяжки, — сказал Сакканс. — У него наглый и насмешливый вид.
— Вы ошибаетесь! Я его нахожу милым, — возразил капитан, который не любил, чтобы ему слишком долго противоречили, и с которым в последние несколько дней лейтенант слишком часто не стеснялся в выражениях по причинам, о которых мы вскоре узнаем и о которых Макабр начинал догадываться.
Маркиз, беспокоясь о Марио, стоял в маленьком коридорчике рядом с парадным залом и старался все услышать, но его ухо улавливало лишь обрывки разговора, и Марио, прибежавший за ним, поспешил осведомить его обо всем в немногих, насколько это возможно, словах.
У него не было времени, да, впрочем, и желания сказать ему о том, что происходило в Брианте, он чувствовал, что с маркиза и так уже было достаточно того, что он должен выпутаться из затруднения, и не стоило смущать его слишком многочисленными опасениями.
Рейтары, как и он, не знали о преждевременном нападении бродяг, и не было риска, что маркиз узнает об этом из других уст, а не от него, когда настанет время.
Но придет ли это время? Нынешнее положение показалось бы безнадежным опытному человеку, и маркиз, знавший лишь часть его, считал его весьма серьезным. Но у Марио была счастливая вера детства: он не видел и половины опасности.
«Если мы выйдем отсюда, как я надеюсь, — думал он, — мы хорошо посмеемся, отец и я, над тем, какой вид мы имеем сейчас!»
Глава пятьдесят первая
В самом деле бедный маркиз, переодетый поваром, был очень смешон.
Он все проделал добросовестно. Он снял свой парик и прикрыл оголенный череп колпаком из просмоленной ткани в виде формы для пирожного.
Его лицо, лишенное буклей цвета эбенового дерева и перемазанное сажей, стало совершенно неузнаваемым, так же как и его большие белые руки, разукрашенные в соответствии с лицом.
Он нашел способ хорошо спрятать свою тонкую рубашку под крестьянской блузой, обулся он в скверные войлочные домашние туфли, сверх того засаленный передник скрывал его суконные штаны, не слишком яркие, поскольку для задуманного ночного похода в Брильбо он оделся очень просто, и это оказалось очень кстати в новых обстоятельствах.
Предупрежденный Марио о том, что Макабр кажется тупым и тщеславным грубияном, он понял, что должен внушить ему доверие, и с первых же слов признал, что нетрудно будет заставить его проглотить любое преувеличение.
— Знаменитый и отважный капитан, — сказал он ему, склонившись до земли, — я прошу вас извинить мою бедную дурочку-жену, которая не сообщила мне, с каким великим воином и умнейшим человеком мы имеем дело. Это правда, что я страдаю подагрой, но ваш приветливый и воинственный вид способен поднять мертвого, и я слишком хорошо помню о том, что служил под вашими знаменами, чтобы я не пожелал, даже если моя жизнь сгорит в огне моей печи, еще послужитьвам в меру скромных талантов, отпущенных мне небом.
— Хорошо! Хорошо! — сказал Сакканс капитану. — Ничто не действует так, как угрозы! Теперь они все хотят сказать, что служили под вашим командованием.
— Пусть, — ответил Макабр, — если только он станет сейчас хорошо мне служить. И в конце концов, господин лейтенант, нет ничего невозможного в том, что этот старик знал меня в давние времена, участвуя в местных войнах. Я проявил достаточную самоотверженность, чтобы каждый мог вспомнить об этом. Повар! Ты расскажешь мне о своих походах на десерт, потому что я замечаю по твоему виду и по твоей походке, что подагра не отняла у тебя солдатской выправки. Странно от тебя пахнет, — добавил он, пораженный запахом духов, которым вопреки всем его переодеваниям была пропитана вся особа маркиза. — Как будто запах варенья! Все равно! Бьюсь об заклад, ты немного побыл ландскнехтом?
— Я был им в течение года, — ответил Буа-Доре, знавший наизусть всю полную приключений жизнь метра Пиньу и достойную порицания молодость Макабра. — И даже так и вижу вас, неотступно преследующего гугенотов из Буржа во время резни в тюрьмах, вместе с этим ужасным виноградарем, которого называли Большим Уксусником…
— Что? — воскликнул итальянец, насмешливо глядя на своего капитана. — Я ведь говорил вам, что вы были великим папистом, мой капитан!
— Всему свое время, — с философским спокойствием ответил Макабр. — Мой отец, который тогда был капитаном главной башни Буржа, с покойным господином Писселу защищал бедных местных гугенотов, как мог… Я стрелял в сторону, когда не было лучшего способа. Но я вернулся на правильный путь, и действую более решительно, чем вы, господин итальянец, прячущий мощи под немецкими нагрудными латами.
Итальянец ответил язвительно, и Макабр, недовольный тем, что он повышает тон в присутствии его пажей и его разведчиков, хотя они плохо понимали по-французски, велел ему молчать и спросил у маркиза, какие блюда он может подать ему.
Буа-Доре, который напомнил о католической резне лишь для того, чтобы увидеть, в каких водах плавал с тех пор молодой Макабр, сейчас ставший стариком, почувствовал себя спокойнее. Этот главарь шайки не мог действовать под покровительством принца де Конде. У маркиза достало непринужденности на то, чтобы поговорить о кулинарии как человек, который в этом разбирается, а поскольку во время своего двухчасового пребывания в гостинице он от нечего делать обсудил этот важный вопрос с мадам Пиньу, он очень хорошо знал содержимое кладовой и запасы в погребе…
— Мы будем иметь честь предложить вам, — сказал он, — четверть туши кабана с пряностями и послушаем, что вы о нем скажете; блюдо иссуденских раков, сваренных в пиве и украшенных зеленью…
— И хорошо наперченных, я надеюсь! — сказал капитан. — Моя супруга любит изысканные блюда.
— Мы положим туда испанский стручковый перец!
И, перечислив все блюда, маркиз прибавил:
— Но не будет ли ваша прославленная дама склонна к какому-нибудь сладкому блюду после жаркого?
— Да, черт возьми! Я чуть не забыл, что она рекомендовала мне некий омлет с мускусом…
— Может быть, ваша милость хочет сказать — с фисташками? Это мое изобретение.
— Ну да! Она сказала мне, что это выдумка старого…
— Старого? Кто же осмеливается похваляться, что придумал раньше меня омлет с рисом и фисташками?
— Старого Буа-Доре, раз надо назвать имя этого главного дурака в хорошем обществе!
Буа-Доре закусил свой ус.
— Кто же, — сказал он, — оказывает маркизу честь повторять его бахвальство? Ваша супруга удостаивает его своим знакомством?
— Похоже! — ответил Макабр. — И более того, мне известно, старый шутник, что ты — покорный слуга этого трижды канальи, поддельного маркиза, твоего учителя кулинарии, но мне на это наплевать! Ты под наблюдением, и твои уши мне ответят за твою стряпню.
Маркиз понял, что у него нет выбора, он должен дурно говорить о себе самом, не щадя ни своего достоинства, ни своего характера, и даже в достаточно забавных выражениях, но все же не решился присоединить к своему проклятому и оклеветанному имени эпитет старого, каким гордо пользовался против него его ровесник Макабр.
Этот последний неприятно упирал на это.
— Дряхлый старик, должно быть, совсем разбит, — сказал он, — потому что, когда я в последний раз его видел, это была длинная шпага, без бороды, и я едва не сломал его пополам нечаянно.
— Правда? — спросил Буа-Доре, припоминая приключение своей молодости, недавно рассказанное им Адамасу. — Вы оказали ему честь помериться с ним силами?
— Нет, мой милый, я не опускаюсь до этого. Он был верхом и вез боеприпасы нашим врагам. Я взял его за ногу и, бросив на землю, решил, что с ним покончено, и завладел его грузом.
— Который состоял из пороха и пуль? — спросил Буа-Доре, который не мог не рассмеяться про себя над бахвальством человека, которого он опрокинул одним ударом ноги, и над этим знаменитым грузом боеприпасов, состоявшим лишь из детских игрушек.
— Хорошая была добыча! — ответил капитан. — Но довольно разговоров, старый болтун! Идите вниз присматривать за всем.
Буа-Доре, которого отослали к плите, вынужден был покинуть Марио, удерживаемого капитаном при себе.
Выходя, он обменялся взглядом со своим сыном и в ответ на полный тревоги взгляд получил от ребенка взгляд, полный доверия. Он чувствовал, что Макабр неплохо расположен по отношению к нему.
— Ну, малыш, — сказал капитан. — Теперь иди сюда и скажи мне, если можешь, кто ты такой!
— Ей-богу, мой капитан, я ничего об этом не знаю, — ответил Марио, не успевший забыть, как разговаривают бродяги. — Я — ребенок, украденный или найденный где-то на дороге черными страдиотами, которых называют египтянами.
— Что ты умеешь делать?
— Три великие вещи, — ответил Марио, кстати припомнивший прекрасные изречения Ла-Флеша, — голодать, бодрствовать, бегать; с этим можно далеко пойти и из всего выпутаться.
— Он не глуп, — сказал Макабр, глядя на своего лейтенанта, который, чтобы показать свое дурное настроение, повернулся к нему спиной, сев на стул верхом, оперев голову и руки на спинку, поясницей к огню.
Макабр нашел эту позу непристойной и в циничных выражениях сделал ему замечание. Сакканс, ничего не сказав, встал и вышел.
Марио наблюдал за всем, и разлад между двумя главарями показался ему добрым предзнаменованием. Он пообещал себе постараться извлечь из этого пользу, если представится случай.
Макабр возобновил разговор с ним.
— Как получилось, — спросил он у него, — что я совсем не видел тебя в Брильбо прошлой ночью?
Марио недолго затруднялся этим вопросом.
— Меня там не было, — сказал он. — Я собирал курочек в окрестностях только для того, чтобы уберечь их от лисы и от типуна.
— Ты умеешь воровать кур? Что ж, это дар природы, которым можно воспользоваться. Но скажи мне, закончил ли околевать испанец.
— Господин д'Альвимар? — спросил Марио, который начинал понимать рассказ Пилар и уже не смотрел на него, как на сновидение.
— Да, да, — сказал Макабр, — этот папистский пес, который мне всю душу вывернул своими молитвами!
— Он умер сегодня утром.
— Хорошо сделал, дурак! А Санчо? Этот получше: хоть и святоша, а понимает дело. Где он сейчас?
— Он скрывается.
— Почему он не пришел ко мне сюда?
— Я сказал вам это: здесь опасно находиться вам, и он это знал.
— Какая опасность? Старый Пиньу предаст нас?
— Нет, бедняга совершенно ничего не знает; и что он мог бы предпринять против вас?
— Но кто угрожает нам?
— Сеньоры, которые сейчас ищут вас в Брильбо и которые с большой свитой проедут здесь, направляясь ночевать в Бриант.
— Ты их видел?
— Да.
— Сколько там человек?
— Может быть, две сотни всадников! — сказал Марио, надеясь испугать собеседника.
— Значит, заговор открыт? — сказал тот, слегка дрогнув.
— Похоже!
Капитан, казалось, размышлял, насколько это возможно было понять по его каменному, вернее, затвердевшему лицу, которое могло выражать умственное беспокойство.
Сердце Марио бешено колотилось. Одно мгновение он надеялся, что его хитрость удастся и что Макабр решится повернуть назад. Но капитан стал говорить по-немецки со своими страдиотами, которые тотчас вышли, и Макабр вновь принял свою изящную позу, одна нога на верхушке тагана, другая — на стуле, покинутом лейтенантом.
Марио осмелился спросить.
— Ну что, мой капитан, — сказал он. — Вы снова отправитесь в путь?…
— На Линьер? Да нет, по правде сказать, обезьянка моя! Мои лошади устали, мои люди тоже. А я так плохо спал в Брильбо прошлую ночь, что хочу здесь набраться сил. Горе тому, кто явится побеспокоить меня здесь!
Эти планы выспаться снова возродили надежду Марио. «Если эти люди очень устали, — подумал он, — будет минута, когда мы сможем ускользнуть».
Он не рассчитывал, как маркиз, на прибытие его друзей и слуг. Пилар, предупредив их о захвате заднего двора в Брианте, должна была послужить причиной того, что сейчас они все устремились туда, рассчитывая встретить маркиза в этом же направлении; поскольку маленькая бродяжка, обладавшая большим разумом, чем допускал ее возраст, не преминет сказать им, что Марио, со своей стороны, отправился предупредить отца.
Пока он раздумывал про себя, вернулся лейтенант Сакканс и обратился к Макабру, дремавшему у огня.
— Капитан, — сказал он тоном наполовину смиренным, наполовину вызывающим, — позвольте мне сказать вам, что благодаря вашей идее заставить нас передвигаться небольшими стайками мы теряем время: ваша жена и ее люди еще не приехали, и, если вы долго засидитесь за столом, как обычно, все может провалиться. Надо не пировать, а быстро поесть, поспать два часа и идти вперед, не дав времени прохожим нести впереди нас известие о нашем прибытии.
— Уничтожайте прохожих! — спокойно ответил Макабр. — Разве это не условлено? Вам не особенно придется потрудиться, потому что мы ни одной кошки не встретили от самого Линьера, эти края пустынны. Но все это лишние слова. Я слышу голос моей Прозерпины. Она едет! Отправься к ней навстречу! — Говоря это, Макабр с усилием поднялся и спустился в кухню.
— Капитан стареет! — сказал по-итальянски Сакканс одному из кузнецов, оставшихся стоять перед дверью.
— Нет, — ответил рейтар. — Он женился, а это хуже! Тогда думают только о том, чтобы кутить, и не умеют действовать, когда понадобится.
Марио, учившийся итальянскому языку у Люсилио, более или менее понял эти слова и последовал за лейтенантом и двумя рейтарами в кухню.
Едва оказавшись там, не обращая внимания на прибывшее подкрепление, загородившее дверь, он проскользнул к Буа-Доре, который стряпал изо всех сил вместе с госпожой Пиньу, говоря себе, что, чем раньше враг сядет за стол, тем скорее представится какая-нибудь возможность побега.
— Вот и ты, дитя мое? — тихо сказал маркиз. — Они не обидели тебя?
— Нет, нет, — ответил Марио, — мы с капитаном в наилучших отношениях. Мы можем поговорить, пока они о нас не думают.
— Прекрасно, но не будем смотреть друг на друга; посмотри, как я делаю, когда говорю с хозяйкой.
— Мадам Пиньу, — крикнул он, — подайте мне масло!
И совсем тихонько прибавил:
— Кто это еще приблизился к двери, моя милая?
— Дама, она сходит с коня. Не оборачивайтесь, вдруг она случайно вас знает.
— Малыш, мускатный орех! — продолжал маркиз, хлопая Марио по плечу.
И сказал ему на ухо:
— И ты не оборачивайся.
— Мадам Пиньу, — прибавил он, склонившись к хозяйке, — постарайтесь увидеть ее лицо.
— Я не узнаю ее, — ответила госпожа Пиньу. — У нее столько волос и перьев… Здоровенная баба!
Глава пятьдесят четвертая[109]
Привели маркиза и Марио, который судорожно цеплялся за него.
Беллинда с первого взгляда узнала мальчика, и ее лицо, побледневшее от страха, залила краска неудержимой радости.
— Друзья мои, — воскликнула она, — мы поймали и вепря, и кабанчика, а теперь нам положен богатый выкуп, но только нам, слышите? С немцами делиться не будем (так она называла рейтаров капитана), с господином Саккансом и его итальянцами тоже! Мы, только мы получим Буа-Доре и мальчишку, и да здравствует Франция, черт возьми! Подать перо, бумагу, чернила, скорей! Пусть маркиз подпишет выкуп! Я знаю, чем он владеет, и, клянусь, он ничего не скроет! Каждому из этих молодцов по тысяче экю! Понял, маркиз? А мне то, что обещал…
— Тебе, злодейка, все мое состояние, — воскликнул маркиз, — лишь бы спасти моего сына. Давайте же перо!
— Погоди, — продолжала Прозерпина. — Мне не только твои богатства нужны, но и твое имя, и ты подпишешь бумагу с обещанием жениться.
Маркиз и поверить не мог, что эта дьяволица осмелилась высказать такие претензии перед свидетелями.
Рейтары, однако, ничуть не возмутились, а радостно захлопали, словно Беллинда удачно пошутила. Кровь прилила к лицу Буа-Доре, взбунтовавшемуся против гнусной и смешной роли, навязанной ему.
— Вы слишком много просите, мадам, — сказал он, пожимая плечами, — возьмите мое золото и мои земли, но мою честь…
— Это твое последнее слово, старый безумец? Ко мне, друзья! Давайте веревку, и мальчишку — на дыбу!
С этими словами отвратительная женщина показала на большой железный крюк, вбитый в свод кухни для того, чтобы подвешивать поворотный вертел.
Марио, схваченный в мгновение ока, крикнул маркизу:
— Откажись, откажись, отец! Я все перенесу!
Но маркиз ни на миг не мог допустить, чтобы ребенка пытали.
— Давайте перо! — крикнул он. — Я согласен. Я подпишу все, что потребуете!
— Давайте-ка вздернем его разок-другой, — сказал один из бандитов, привязывая Марио. — Тогда у старика перо так и полетит по бумаге.
— Давай-давай! — сказала Прозерпина. — Противный мальчишка это заслужил…
Маркиз совсем было обезумел, но тотчас же взял себя в руки, видя, как побледнел, несмотря на все свое мужество, несчастный ребенок.
Сопротивляться было бесполезно. Марио держали на прицеле. Буа-Доре упал к ногам Прозерпины.
— Не мучайте ребенка! — взмолился он. — Я уступаю, я подчиняюсь, я женюсь на вас. У вас есть мое слово, чего вам еще надо?
— Мне нужна твоя подпись и твоя печать, — ответила Прозерпина.
Маркиз дрожащей рукой взялся за перо и под диктовку этой фурии написал:
«Я, Сильвен-Жан-Пьер-Луи Бурон де Нуайе, маркиз де Буа-Доре, обещаю и клянусь Жюльетте Карка, именуемой также Беллиндой и Прозерпиной…»
В этот момент послышался жуткий грохот, и рейтары Прозерпины кинулись к двери. Охрану несли итальянцы Сакканса, которым был дан приказ никого не впускать и никого не выпускать.
Трое командиров, как и их солдаты, друг с другом не ладили. Но обычно командиры старались разделять отряды. На этот раз такого не произошло: Сакканс, услышав крики Макабра, решил, что Прозерпина собралась покончить со своим тираном; он попытался помешать немцам прийти к нему на помощь. Французы же предводительницы враждовали и с теми, и с другими. Завязалась общая драка, правда, оружие пока в ход не пустили, ограничиваясь жуткими проклятиями, кулаками и пинками.
Общая суматоха сопровождалась грохотом мебели в большом зале, где Макабр вырывался, как бешеный, пытаясь освободиться, а также воплями Прозерпины, которая подбадривала своих людей и уже опасалась за собственную безопасность в случае поражения ее сторонников.
Естественно, маркиз не стал дожидаться исхода борьбы. Он кинулся к сыну и постарался развязать его, но веревка была завязана столь искусно, что дрожащий от волнения маркиз не мог с ней справиться.
— Режьте! Режьте же! — кричала мадам Пиньу. Но у старика дрожали руки, и он боялся поранить ребенка ножом.
— Дайте я сам! — сказал Марио, оттолкнув маркиза. Ловко и хладнокровно он разрезал узел.
Маркиз схватил мальчика на руки и бросился вслед за хозяйкой и служанкой, которые бегом кинулись в буфетную.
Выбегая из зала, маркиз едва не упал на пороге: поперек двери лежал труп: это был мертвый Брешо. Он был убит, но рядом с ним лежали два рейтара: один, пронзенный вертелом, другой — с головой, наполовину снесенной кухонным ножом для разделки мяса. Устрашающее выражение застыло на его уродливой, но выразительной физиономии: он словно смеялся торжествующим смехом, выставив свои широко расставленные клыки, будто бы готовый укусить. Жак отомстил и освободил им путь.
Бросив взгляд, маркиз понял, что бедняге уже ничем не поможешь, и, прижав Марио к груди, пустился бежать изо всех сил.
— Отпусти меня, — говорил ему ребенок, — нам будет легче бежать. Пожалуйста, поставь меня на землю.
Но маркизу казалось, что позади гремят выстрелы из страшных кремневых пистолетов, и он хотел собственным телом заслонить сына.
Лишь убедившись, что пистолеты их не достанут, маркиз опустил ребенка на землю, и оба бросились к рощице, за которой пряталась старая полуразрушенная харчевня.
Вдалеке они заметили мадам Пиньу и ее служанку: на старушек жалко было смотреть. Но окликнуть их было нельзя: можно было и самим погибнуть, и их погубить. Женщины кинулись через поле: видимо, они бежали к какому-то убежищу, где надеялись спрятаться.
Прекрасные господа из Буа-Доре вскочили в седла, но не решились двинуться по дороге. Они пустили лошадей по тропе, с двух сторон обсаженной терновником, которая вилась меж огороженных участков.
С минуты на минуту рейтары могли прекратить драку. Кони у солдат были хорошие, и они вполне могли нагнать добычу; но Розидор и Коке шли по мокрой земле легким, почти бесшумным галопом. Тропа, по которой они следовали, пересекалась с другими такими же тропинками, и, чтобы настичь беглецов, преследователям пришлось бы разделиться на несколько групп.
Надо было прежде всего во что бы то ни стало оторваться от погони, поэтому господа из Буа-Доре вначале думали лишь о том, как бы сбить противника со следа, и неслись наугад по лабиринту покрытых грязью тропинок, все дальше и дальше уходивших в глубокую лощину.
Через десять минут бешеного галопа маркиз осадил коня и велел остановиться Марио.
— Стоп! — сказал он. — У тебя тонкий слух, прислушайся-ка! За нами погоня?
Марио вслушался, но ему мешал тяжелый храп усталого коня. Мальчик спрыгнул на землю, отошел на несколько шагов, потом вернулся.
— Ничего не слышу, — сказал он.
— Тем хуже! — ответил маркиз. — Они, должно быть, кончили драться и вспомнили о нас. Скорей в седло, дитя мое, и едем дальше. Надо добраться до Брильбо. Там наши друзья и наши люди.
— Нет, батюшка, нет, — возразил Марио, уже вскочив в седло, — в Брильбо в этот час уже никого нет. Едем прямиком в Бриант. Прошу вас, батюшка, не сомневайтесь, поверьте, я прав. Я совершенно уверен в том, что говорю.
Буа-Доре уступил, хотя и не понял, в чем дело. Спорить было некогда.
Они прямиком добрались до деревушки Лак через обширную, засеянную пшеницей равнину, которая в те времена полностью принадлежала сеньорам де Монлеви и еще не была поделена на отдельные разгороженные участки.
Ехали они по совершенно открытой местности; пришлось положиться на милость Божью, так как ехать быстро они не могли: во многих местах кони почти до колен проваливались во вспаханную землю.
Наши беглецы, однако, проехали уже половину пути, а никаких всадников не видели и не слышали, хотя и двигались параллельно дороге, будучи на расстоянии двух-трех аркебузных выстрелов.
Маркиз подумал, что это, пожалуй, недобрый знак. Не могла же драка так затянуться. Стоило немцам убедиться, что Макабр вовсе не убит, а только заперт, поскольку совершенно пьян, и все должно было бы утихнуть. Да и Прозерпина не из тех, кто может забыть о пленниках, обещавших ей богатый выкуп.
«Раз они не преследуют нас по торной дороге, — думал маркиз, — значит, они видели, как мы поехали через равнину, и ждут нас у рощи Вей, куда добрались по проселкам, которые Беллинда хорошо знает. Может, мерзавцы совсем близко от нас: туман густеет, и я уже не различаю, то ли там вдали кроны дубов, то ли всадники стоят, поджидая нас».
Он опять остановился и поделился своими опасениями с Марио. Марио посмотрел вдаль и сказал:
— Вперед! Едем! Нет там никаких всадников.
Беглецы снова пустились в путь. Но когда они ехали вдоль рощи, которая в те времена тянулась до фермы Обье, неожиданно справа навстречу им выехала группа всадников, громко кричавших:
— Стой!
Кричали по-французски, но ведь и бандиты Беллинды были французами.
Маркиз на мгновение заколебался. Этих людей прикрывала лесная тень, и узнать их было нелегко, а оба Буа-Доре, оказавшись довольно далеко от опушки леса, никак не могли укрыться от их взглядов.
— Едем же! — сказал маркизу Марио. — Тогда и поймем, враги они нам или нет.
— Положимся на милость Божью! — воскликнул маркиз. — Это рейтары: они бросились за нами в погоню. Скорей, скорей, дитя мое!
А про себя он подумал: «Дай, Господи, силы нашим лошадям!»
Но кони слишком долго скакали по мягкой земле и уже не могли мчать во весь опор. Преследователи же были так близко, что маркиз каждую секунду готовился услышать свист пуль над головами. К досаде Марио, он терял время, поскольку все время старался держаться сзади, чтобы принять первый залп на себя.
Один из всадников почта догнал маркиза и крикнул:
— Остановись, мерзавец, а не то пристрелю!
— Хвала Господу, это Гийом! — воскликнул Марио. — Я узнал голос.
Они повернули коней, а навстречу им кинулся Гийом и попытался выбить маркиза из седла.
— Эй, кузен! — крикнул Буа-Доре. — Неужели вы меня не узнаете?
— Да вас и дьявол не узнает в этом наряде! — ответил Гийом. — Что это у вас белое на голове и какая-то юбка развевается на поясе? Мне показалось, что я узнал ваших коней. Но решил, что какие-то воры захватили лошадей, а вас убили. Да Марио ли это? Ну вы и вырядились оба!
— Вы правы, — сказал маркиз, вспомнив, что на нем поварской колпак и кухонный фартук (у него не было ни времени, ни сил, чтобы снять их). — Я одет совсем не как воин. И вы меня очень обяжете, кузен, если дадите мне шляпу и оружие, так как у меня на поясе только кухонный нож, а с минуту на минуту нас могут атаковать.
— Берите, — сказал Гийом, передавая маркизу собственную шляпу и оружие своего верного слуги. — И поторопитесь: кажется, ваш замок в опасности.
Буа-Доре решил, что Гийом не знал, что произошло.
— Вовсе нет! — воскликнул маркиз. — Рейтары в Эталье, во всяком случае полчаса назад они были там.
— Рейтары в Эталье? — вскричал Гийом. — Нам следует поторопиться, а то мы можем оказаться меж двух огней.
Некогда было объясняться, и отряд Гийома во весь опор помчался по равнине по направлению к Брианту.
По дороге к отряду Гийома присоединились люди Буа-Доре. Они тщетно разыскивали его в Брильбо. Потом, получив известие от маленькой цыганочки, вернулись обратно, хотя и не очень-то ей поверили, решив, что их товарищи задумали какую-то хитрость.
Еще им Пилар сказала, что их хозяин предупрежден и должен вернуться, не встретившись с ними, в Брильбо. И вот тогда они решили на общем сборе, что не стоит ехать за маркизом в Эталье, поскольку так или иначе он уже предупрежден.
Глава пятьдесят пятая
Господин Робен не поверил ни одному слову Пилар. Тем не менее он двинулся в путь, сопровождаемый своими людьми.
Тревогу вызывала и судьба мэтра Жовлена: он первым отправился в Брильбо в сопровождении пяти-шести человек из Брианта.
Странно, что всадники, хотя и ехали очень быстро, так и не настигли его. Подобные мысли беспокоили каждого в отряде, хотя никто их вслух не высказывал.
Было около часу ночи, но деревню, через которую проезжали, освещали объятые пламенем постройки и фермы при замке. И было светло, как днем.
В отряде поняли все и кинулись штурмовать ворота, которые оборонял Санчо и несколько цыган.
— Зачем мы здесь, кузен? — спросил Гийом маркиза. — Тут могут без толку погибнуть наши лучшие слуги. Постараемся устроить дело иначе.
— Да, конечно, — отвечал Буа-Доре, — попытайтесь сдержать людей. Минутой позже, минутой раньше моя рига все равно сгорит: пусть уж лучше погибнет урожай, но эти добрые христиане останутся живы. Позовите их и успокойте! А я пока займусь ребенком: он беспокоит меня.
С этими словами маркиз отвел Марио в сторону.
— Сын мой, — сказал он мальчику, — дайте мне слово дворянина, что вы будете стоять здесь и не сдвинетесь с места, пока вас не позовут.
— Что вы, батюшка! — воскликнул возмущенно Марио. — Вы разговариваете со мной так же, как с Аристандром, и обращаетесь как с малым ребенком! Вспомните, вы же сами преподнесли мне сегодня урок чести и мужества!..
— Ни слова более, сударь! Извольте слушаться! — вскричал маркиз, впервые столь властно обратившись к любимому сыну. — Вы еще не достигли возраста воина, и я запрещаю вам сражаться.
Крупные слезы покатились по щекам мальчика. Маркиз отвел взгляд, чтобы их не видеть, и, оставив мальчика под охраной нескольких надежных слуг, присоединился к Гийому д'Арсу, которому удалось навести порядок в отряде и заставить солдат слушаться приказов.
— Совершенно ни к чему взламывать ворота, — сказал ему маркиз. — Два человека могут их оборонять в течение часа, мы, нападая, можем положить человек двадцать наших. Ах, кузен, конечно, очень разумно укреплять все входы и выходы в своем доме, но как это неудобно, когда необходимо самому преодолеть их и войти. Вот тут у меня, видите, ров глубиной в пятнадцать футов, а спуск к нему так устроен, что никто не доберется до воды, не получив пулю из мушкета. Знаете, что надо сделать? Смотрите, рига рухнула. Так вот, она обвалилась как раз в ров и частично перекрыла его. Вот там и можно перебраться. Я пойду с моими людьми. Вы оставайтесь здесь, делайте вид, что ищете доски и пытаетесь что-нибудь построить вместо подъемного моста. Так вы обманете противника и помешаете ему спастись бегством, когда мы начнем атаку. А мы, друзья мои, — обратился он к своим людям, — пройдем бесшумно под стеной, в тени нас не заметят, хотя вокруг и горит подожженный хлеб.
План маркиза был очень разумен, и все получилось так, как он и предвидел. Обвалившаяся рига частью рухнула в ров, а частью разрушила стену. Но надо было пройти через горящие обломки, минуя пламя и дым. Испуганные кони пятились назад.
— Спешиться, друзья мои, спешиться, — крикнул маркиз, направив коня галопом в этот ад.
Только Розидор бесстрашно кинулся в пламя, с чудесной ловкостью преодолел все препятствия, не обращая внимания на то, что уже горели и его прекрасная грива, и ленты, вплетенные в нее. Героический конь проскочил в брешь замковой стены.
На собственные волосы маркиз не обращал внимания: его прекрасная шевелюра уже обгорела в харчевне «Жео-Руж».
Храбрость хозяина воодушевила слуг, движимых желанием освободить свои семьи или отомстить за них, и многие бросились в огонь вслед за маркизом. Но в тот момент, когда большая часть отряда начала пробираться через горящие обломки, раздался крик, предупреждавший об опасности. Кричал один из крестьян, кинувшийся вслед за маркизом; остановленные этим криком слуги попятились назад.
Одна из башенок риги, чудом устоявшая, треснула, накренилась и вот-вот должна была рухнуть на любого, кто бы осмелился проскочить рядом с ней. Еще секунда — и она рухнет, тогда и можно будет пройти, пробившись через руины. Эта мысль пришла в голову всем, и нападавшие остановились. Но шли секунда, минуты, а башня все не падала.
Прорвавшись один, лишь с десятком слуг, маркиз столкнулся с целой бандой цыган человек в тридцать. В том положении, в котором он очутился, эти минуты и секунды показались ему вечностью.
Прошло уже четыре часа с момента побега Марио, и все эти четыре часа бандиты думали только о том, чтобы побольше награбить.
Первоначальное опьянение победой и удовлетворение первого аппетита вскоре сменились упрямой надеждой захватить замок. Они использовали все способы, чтобы ворваться туда внезапно. Многие погибли благодаря бдительности Адамаса и Аристандра, которых поддерживали добрыми советами и действиями Лориана и Мерседес. Видя тщетность своих усилий, бандиты подожгли ригу, надеясь заставить осажденных выйти, чтобы спасти урожай. Прибегнув ко всему богатству собственного красноречия, мудрый Адамас удерживал Аристандра, готового ринуться в бой очертя голову. Только решительное вмешательство Лорианы, доказавшей, что, если Аристандр погибнет в схватке, все несчастные, запертые в замке, будут погублены тоже, остановило Аристандра.
Рига пылала уже час. Аристандр, отчаявшись, уже исчерпал весь свой, запас проклятий и ругательств. Вынужденный бездействовать, он был крайне раздражен и проклинал Лориану и Адамаса, да и Мерседес в придачу, и Клиндора, который взывал к терпению, в общем, всех, кто мешал ему действовать. Но тут Адамас, забравшийся по винтовой лестнице на балкончик башни, крикнул ему:
— Господин! Господин здесь! Я его не вижу, но он точно здесь, клянусь! Там такая драка, и я узнал его голос среди всех.
— Да, да! — закричала Мерседес, наблюдавшая через окошечко под навесом. — И Марио здесь, его собачка Флореаль словно с ума сошла: почувствовала хозяина. Смотрите, я его и удержать не могу.
— Аристандр! — закричала Лориана. — Выходите! Все выйдем, пора!
Аристандр уже вышел. Его не интересовало, последовали за ним остальные или нет. Он кинулся к маркизу и сбил гибкого, как змея, Ла-Флеша, который, вскочив на круп коня позади маркиза и не сумев выбить его из седла, попытался задушить его.
Аристандр схватил цыгана за ногу и сбросил бандита на землю, дав ему несколько сильных пинков по ребрам. Потом, оставив Ла-Флеша, то ли мертвого, то ли потерявшего сознание, кинулся на остальных.
Все слуги выбежали из замка, даже Клиндор, даже собачка Флореаль, выскользнувшая из рук растерявшейся Мерседес. Пес кинулся под ноги маркизу, которому сейчас было не до собаки, а потом в общей сумятице помчался к Марио.
Взволнованная Лориана вооружилась и также собиралась выйти.
— Во имя неба, — произнес Адамас, преграждая ей путь, — не делайте этого. Если господин увидит, что его дорогой дочери угрожает опасность, он совсем потеряет голову и может погибнуть по вашей вине. Да и посмотрите, я один остался, чтобы закрывать двери, а это в случае чего может спасти наших. Один Бог знает, что может случиться… Останьтесь, поможете мне…
— Но Мерседес же вышла! — воскликнула Лориана. — Смотри, Адамас, смотри, эта храбрая женщина ищет Марио, она пошла за собачкой. Господи Боже мой! Мерседес, вернитесь! Вас убьют!
Но Мерседес в шуме сражения не слышала ничего. Впрочем, она и не хотела ничего слышать. Она буквально прошла через огонь и железо, она прошла бы и через гранит.
Маркиз и Аристандр, поддерживаемые храбрыми слугами, вскоре начали и теснить бандитов как со стороны развалин риги, так и со стороны ворот. Бандиты, что проскочили под накренившейся башней, не испугавшись ее возможного падения, столкнулись с пиками и колами вассалов Буа-Доре.
Многие цыгане были убиты, многие взяты в плен. Другие повернули обратно, и вся банда, отступая вдоль стен, всего не более двадцати человек, способных носить оружие, оказалась загнанной под свод ворот.
— Гасите пожар! — крикнул Буа-Доре, видя, что огонь перекинулся на другие пристройки. — И дайте нам добить этих каналий!
С такими словами он обратился к крестьянам, к женщинам и детям, что решились выйти из замка, а сам бросился со своими слугами под свод ворот, где произошла странная стычка между спасающимися бегством бандитами и Санчо, который один остался охранять выход.
У Санчо была одна мысль, мысль беспощадная. Он видел, что Марио в надежном месте, его хорошо охраняют, спрятав позади деревенского дома. Но Санчо был уверен, что рано или поздно мальчик покинет убежище и окажется досягаем для выстрела из аркебузы.
Санчо стоял наготове, ствол его аркебузы был выставлен из-за зубца башни, сам он надежно спрятался и не отрывал глаз от угла стены, откуда должен был появиться мальчик. Мрачный испанец имел перед всеми неоспоримое преимущество: никакие опасения по поводу его собственной жизни не смущали его душу и не могли отвлечь его от цели. Он не думал ни о завтрашнем дне, ни о текущем часе, какими бы опасностями он ему ни грозил. Он просил у неба всего лишь минуту, чтобы осуществить мщение и насладиться им.
И когда отступавшие цыгане с воплями метались у массивных перекладин решетки, Санчо оставался столь же неподвижен, сколь и камни свода. Напрасно отчаявшиеся голоса бешено кричали ему:
— Мост! Решетку! Мост!
Санчо оставался глух; сообщники не значили для него ровным счетом ничего.
Цыгане метались, пытаясь вырваться. Их дети и женщины жалобно кричали. На том же самом месте разыгрывалась такая же сцена страха и сумятицы, что и несколько часов назад, но лишь участники ее поменялись местами: тогда растерянно метались вассалы Буа-Доре.
Маркиз, по-прежнему верхом, в окружении своих приближенных, запер, словно в клетке, эту банду убийц и воров. Их женщины, обезумев, пытаясь защитить своих детей, с бешенством и отчаянием бросались на него.
— Сдавайтесь! Сдавайтесь все! — крикнул охваченный жалостью маркиз. — Ради детей я готов пощадить вас!
Но никто не сдавался: эти несчастные не верили в великодушие победителя, они не понимали, что такое доброта, — для сеньоров той эпохи, признаемся, подобные чувства были редкостью.
Маркизу пришлось остановить собственных людей, чтобы помешать, как он потом сказал, избиению невинных младенцев, но так ли уж невинны были эти маленькие дикари, уже обученные всяким злодействам и готовые их совершить.
Наконец, поднялась решетка, и мост опустился.
Гийом, столь же великодушный, как и маркиз, конечно, пощадил бы поверженных, но, к великому удивлению Буа-Доре, отступавшим никто и не препятствовал. Гийом и его люди куда-то пропали.
— Тысяча чертей! — воскликнул Аристандр. — Эти демоны спасутся. Вперед! Вперед! Не упускай их! Ах, сударь, надо было изрубить их в крошку, раз уж они в нашей власти…
И он кинулся в погоню, оставив маркиза одного под сводами распахнутых ворот. Но маркиз очень беспокоился о Марио, а направить коня по мосту не мог, рискуя растоптать собственных слуг, которые пешими бросились толпой через узкий проход, чтобы настичь беглецов.
Наконец, мост освободили. Победители и побежденные устремились вперед. Маркиз смог выехать и увидел, что с левой стороны навстречу ему едет Марио, который решил, что все уже кончено и можно покинуть укрытие.
Действительно, бандиты более не представляли никакой опасности: они думали лишь о том, как бы спастись, разбегались в разные стороны; некоторые ловко спрятались, и погоня промчалась мимо.
Лишь один из побежденных не сдвинулся с места, и никто о нем не вспомнил: это был Санчо, по-прежнему прятавшийся в углу верхней площадки ворот. С этой узкой площадки, где стена заканчивалась зубьями, он мог бы сбрасывать камни на бриантцев. Но Санчо боялся выдать себя. Он хотел прожить еще несколько мгновений: он видел ехавшего Марио и тщательно целился в него, но вдруг в трех шагах от моста он увидел маркиза, который оказался намного ближе к нему и гораздо уязвимее для выстрела.
В душе Санчо разыгралась настоящая буря. Какую жертву выбрать? Тогда еще не существовало ружей с двумя зарядами. А расстояние между отцом и сыном было слишком невелико, чтобы успеть перезарядить ружье!
Борясь с Аристандром, Санчо сломал один из своих пистолетов, а второй пистолет сильный противник вырвал у него из рук.
Чтобы отомстить изощреннее, Санчо выбрал Марио. Для маркиза смерть мальчика была бы самой тяжелой утратой.
Но минутное колебание нарушило его свирепое спокойствие. Он выстрелил, но пуля, пройдя на фут ниже груди Марио, сидевшего в седле на своей маленькой лошадке, попала в Мерседес, которая отыскала мальчика и теперь шла рядом с ним.
Мерседес упала, не издав ни звука.
— Ко мне, ко мне, друзья мои! — воскликнул Буа-Доре, оказавшись в одиночестве рядом с сыном, беззащитным перед невидимым врагом.
К нему бросились лишь Лориана и Адамас, которые, увидев бегство бандитов, покинули свой пост у двери, чтобы быть поближе к маркизу.
С помощью Марио они подняли с земли Мерседес. Маркиз поднял глаза и увидел на верхней площадке Санчо, выпрямившегося во весь свой исполинский рост. Санчо узнал Мерседес, из-за которой когда-то погиб его хозяин, и это послужило утешением ему, что он не попал в Марио. Он и не думал убегать, а торопливо перезаряжал оружие.
Буа-Доре тотчас же узнал его, хотя эта сторона ворот была слабо освещена пламенем пожара. Но под рукой у маркиза не оказалось заряженного оружия, и он спрыгнул с коня, решив вернуться под свод ворот и подняться на площадку. Маркиз резонно полагал, что из всех врагов, с которыми ему довелось иметь дело, этот человек, мстивший за Альвимара, пожалуй, самый страшный.
Санчо увидел, что маркиз бросился к воротам, угадал его мысли и не стал пытаться достать его камнями, которые могли пролететь мимо, а кинулся по боковой лестнице, решив поразить врага кинжалом, другого оружия у него уже не осталось.
Буа-Доре со шпагой на изготовку собрался ринуться на лестницу, но его остановило предчувствие, говорившее, что его противник очень коварен. Он опустил шпагу и острием принялся ощупывать в темноте каждую ступеньку, угадав, что Санчо где-то там спрятался, готовый броситься на него и столкнуть вниз. Одной рукой маркиз держался за перила, в другой была шпага.
Санчо, услышав постукивание острия шпаги по ступеньке, выпрямился, мощным прыжком перескочил через несколько ступеней и обрушился на Буа-Доре. Он опрокинул противника и схватил его за горло, потом придавил ему грудь коленом.
— Попался, проклятый гугенот! — воскликнул он. — Ты не дождешься прощения, ведь ты не помиловал…
Не закончив фразы, он нащупал то место, где билось сердце, и занес кинжал со словами:
— За душу сына моего!
Маркиз растерялся, когда упал, и сопротивлялся слабо. Казалось, с ним было покончено, но тут Санчо почувствовал на своем лице неуверенные движения маленьких рук, которые вдруг так крепко вцепились ему в лицо, что ему пришлось опустить руки, чтобы попытаться освободиться.
Впрочем, в голове у него мелькнула мысль, заставившая его бросить маркиза.
— Сначала я расправлюсь с мальчишкой! — воскликнул Санчо.
Марио вбежал на лестницу вслед за маркизом. Он слышал, как тот упал, и в темноте вцепился Санчо в лицо. Он на ощупь определил, что это именно Санчо, а не Буа-Доре.
Но эти слова застряли у Санчо в горле, и мысли угасли, ибо страшный удар обрушился на его голову.
По дороге мальчик вырвал пистолет из рук Клиндора и теперь, приставив дуло к затылку Санчо, выстрелил в упор.
Он отомстил за смерть отца и спас жизнь дяде.
Глава пятьдесят шестая
Маркиз не сразу понял, кто был ангел-освободитель, пришедший ему на помощь.
Он выбрался из-под тела Санчо, затем вскинул руки, готовясь захватить нового, не замеченного ранее противника.
Руки натолкнулись на Марио, который в это время пытался подняться, с тревогой спрашивая:
— Отец, мой бедный отец, ты жив?.. Ты обнимаешь меня. Ты ранен?
— Ничего страшного! Меня лишь немного помяли, — ответил маркиз. — Не понимаю, что же все-таки произошло? Что случилось с этим подлецом?
— Мне кажется, я убил его, — сказал Марио, — посмотри, он больше не шевелится.
— Не торопись с выводами, — воскликнул Буа-Доре, с трудом приподнимаясь и увлекая дорогого ему мальчика вниз по ступеням. — Пока змея дышит, она готова ужалить.
В этот момент подоспел Клиндор со светильником, и все увидели распростертого Санчо.
Он еще дышал, по лицу текла кровь, один глаз был открыт, и в хищном взгляде его читалось: «Я умираю дважды, потому что вы остались в живых!»
— Как? Мой маленький Давид, так ты убил этого Голиафа? — изумился маркиз. Он, наконец, стал приходить в себя.
— О, мой отец, если бы я убил его на две минуты раньше, — воскликнул Марио, который тоже стал приходить в себя. Память вернулась к нему вместе с болью, — думаю, что моя Мерседес умерла!
— Бедная Мерседес! Будем надеяться на лучшее, — вздохнув, проговорил маркиз.
Они снова двинулись по мосту, чтобы найти ее. А в это время Клиндор, не верящий своим глазам и терзаемый страхом, что Санчо встанет, несколько раз проткнул наконечником протазана горло ненавистного бандита.
Мерседес была жива. Несмотря на то, что она не могла держаться на ногах, она не хотела, чтобы ею занимались.
Рана была тяжелой: в момент выстрела пуля прошла через ее правую руку и вонзилась в бок. Но она беспокоилась лишь о Марио, которого не было рядом. Когда он снова появился, она улыбнулась и потеряла сознание.
Ее понесли в замок. Марио и Лориана шли рядом, взявшись за руки и горько плача, уверенные в том, что потеряли ее.
Маркиз остался.
Отсутствие Гийома показалось ему плохим предзнаменованием, и он двинулся вперед, прислушиваясь к шуму, который доносился сверху. Шум свидетельствовал о событиях более серьезных, чем пленение или сопротивление нескольких беглецов.
По мере его приближения шум усиливался. Достигнув, наконец, верхнего края оврага, он увидел группу людей, в беспорядке бегущих навстречу. Это были вассалы д'Арса и де Брианда.
— Стойте, друзья мои, — обратился к ним маркиз. — Как случилось, что такие смелые люди, как вы, вынуждены были обратиться в бегство?
— А, это вы, господин маркиз, — ответил один из бежавших. — Нужно вернуться к Вам и защищаться за стенами замка, потому что там рейтары. Господин д'Арс, которого господин Марио предупредил об их приближении, сейчас ведет схватку. Но мы бессильны против этих людей! Говорят, что один рейтар в десять раз сильнее и безжалостнее христианина и вдобавок у них есть пушка, они ее не использовали против нас только потому, что боялись попасть в своих в той неразберихе, которую устроил господин д'Арс.
— Господин д'Арс повел себя не только мужественно, но и мудро, дети мои, — заключил маркиз. — И если страх перед рейтарами заставил вас обратиться в бегство, то вы недостойны служить ни ему, ни мне. Вы можете укрыться за стенами, но предупреждаю, что, если мне придется отступить и укрыться взамке, я выгоню вас оттуда как людей, которые едят слишком много, а воюют недостаточно хорошо.
Упреки возымели действие. Немногие продолжали бегство, и почти все они были люди Гийома.
Нужно заметить, что они не были трусами, но рейтары оставили о себе в их краю такую страшную память, а молва добавила к ней такие ужасные подробности, что нужно было вдвое больше аргументов, чтобы их воодушевить.
В сопровождении лучших, которые устыдились своего бегства, маркиз быстро добрался до Гийома, в то время, как тот героически атаковал капитана Макабра.
Очень светлая ночь позволила Гийому устроить засаду и напасть внезапно, чтобы помешать рейтарам обстрелять замок. У них действительно была небольшая походная пушка, о существовании которой Буа-Доре, будучи пленником в Эталье, не подозревал. Всем известно, что достаточно одной злосчастной пушки, чтобы победить маленькие крепости, в средние века оснащенные всем необходимым против штурма, но совершенно беззащитные перед новейшей артиллерией, предназначенной для осады. Самые знаменитые замки феодалов в Берра пали подобно карточному домику, когда центральная власть во времена Ришелье и Людовика XIV решила покончить с воинственной знатью. А количество солдат и ядер, которые потребовались для этой важнейшей кампании, оказалось ничтожно малым.
Любой ценой маркиз должен был предотвратить захват подступов к своему владению. Поэтому он и бросился на помощь Гийому, который, несмотря на то, что большая часть его людей дезертировала, продолжал вести себя достойно.
Но прежде всего надо было отбить атаку рейтаров, имевших численное и позиционное преимущество на склоне холма. Партия казалась совсем проигранной, но вдруг все услышали шум боя, завязавшегося позади вражеского отряда, который теперь оказался зажатым в тиски.
Это вовремя подоспел на помощь господин Робен де Кулонь со своим отрядом. Медлительность оказала ему хорошую услугу. Если бы он начал преследовать и настиг рейтаров раньше, обстоятельства сложились бы менее благоприятно.
Даже зажатые меж двух огней, рейтары продолжали сражаться с ожесточением.
Первыми дрогнули итальянцы Сакканса, презиравшие Макабра и Прозерпину. У них не было желания отдавать свою жизнь.
Они попытались оторваться и отступить к замку, но по пути были встречены Аристандром, который бросился преследовать цыган, а об атаке рейтаров ничего не знал и наткнулся на них случайно.
Благодаря тому, что у него был небольшой, но хороший отряд, и тому, что сразу удалось захватить лейтенанта, итальянцы быстро сдались. А Аристандр, опасаясь новых милостей Буа-Доре, поспешил расправиться с пленниками во главе с лейтенантом Саккансом.
Перевязь последнего оказалась ценной, но Аристандр не захотел стать ее новым владельцем и оставил ее своим людям.
Продолжая двигаться на помощь маркизу, он встретил одного из людей, сопровождавших Люсилио в Брильбо.
— Здорово, Денисон, — закричал он, — что вы сделали с нашим Люсилио?
— Спроси лучше, что с ним сделали эти разбойники-рейтары, — ответил Денисон. — Это известно одному Богу. Мы вместе с ним направлялись в Эталье к господину маркизу, но у подножия холма на нас напали эти бандиты, заставили спешиться и увели.
Сначала они хотели застрелить из аркебузы мэтра Жовлена прямо на площади. Его молчание очень их рассердило, они решили даже, что он их ненавидит. Но там находилась дама, которая узнала его и сказала, что господин маркиз их щедро вознаградит. Тогда его связали, как и четырех других наших товарищей.
Что же касается дамы, которая была одета, как офицер, то о ней я ничего не знаю. Но, беру небо в свидетели, что-то мне подсказывает, что речь идет о мадемуазель Беллинде!
— Ладно, Денисон, нужно во всем убедиться своими глазами, — заключил Аристандр. — Для начала спасем наших друзей.
Добрый кучер собрал всех, кто остался, и ударил по флангу рейтаров. Атака оказалась умелой и своевременной.
Зажатые теперь уже с трех сторон рейтары терпели большие потери: Буа-Доре, Гийом и господин Робен убили много рейтаров, остальные покинули поле сражения вместе с лейтенантом Саккансом. В этих условиях маленький отряд рейтаров стал организованно отступать на левом фланге.
Но такой маленький отряд легко было окружить. Пушка, находившаяся в арьергарде, уже попала в руки господина Робена. Рейтары не могли даже разбежаться. Пришлось сдаться. Исключение составили лишь несколько человек, ослепленных схваткой, справиться с которыми оказалось не так-то легко.
Много времени ушло на то, чтобы разоружить и связать пленных. На слово рейтаров нельзя было положиться. Уже наступало утро, когда все, победители и побежденные, собрались, наконец, во дворе замка.
Произошедшие события стали причиной пожара на ферме. Нанесенный ущерб безусловно был велик, но маркиз о нем не думал. Усталый, пропыленный, он с волнением искал глазами тех, кто ему дорог: в первую очередь Марио, который не пришел поздравить его с победой, и это заставляло маркиза тревожиться за жизнь Мерседес; маркиз заметил Лориану, прибежавшую сообщить ему о состоянии Мерседес; затем Адамаса, восторженно его приветствующего; Жовлен и Аристандр еще не появились; маркиз ничего не знал и о судьбе своего доброго фермера; наконец, он окинул взглядом всех преданных слуг и вассалов, которых стало больше этой страшной ночью.
Он с неподдельной тревогой расспрашивал окружающих о Марио. Во время ожесточенного боя с рейтарами ему два или три раза казалось, что в сгущающихся сумерках он видит перед собой лицо мальчика. Видение появлялось и исчезало.
— Аристандр, наконец-то, — воскликнул маркиз, заметив каретника, — говори скорей, ты видел моего сына?
Аристандр пробормотал что-то нечленораздельное. Смущение и непонятное замешательство читались на его утомленном лице.
Маркиз побледнел, как полотно. Тревогу рассеял Адамас, не сводивший с него преданного взгляда.
— Нет, нет, мой господин, — сказал он, обнимая Марио, который в это время спрыгнул со Скилиндра, где был надежно укрыт за широкой спиной каретника. — Вот он живой и свежий, как роза Линона!
— Как вы очутились на лошади вместе с Аристандром, господин граф? — спросил маркиз, целуя своего наследника.
— Простите меня, мой добрый господин, я ничего не мог поделать, — ответил за него Аристандр, спрыгивая на землю. — Когда я прибежал в конюшню за Скилиндром, а без него нельзя было обойтись, ведь кони немцев — настоящие дьяволы, я увидел, что там крутится этот маленький демон… то есть я хотел сказать, ваш милый сын. Поэтому мне пришлось запереть Коке, чтобы господин граф не мог его оседлать. Я нисколько не сомневался в том, что он поспешит на помощь. Под градом выстрелов я почувствовал, что кто-то прыгнул, коснувшись моей спины. Но прикосновение было таким легким, что я поначалу не обратил на него никакого внимания. Вдруг я понял, что у меня не две, а четыре руки: две большие и две маленькие. Двумя большими я погонял коня, вел бой с противником, а двумя маленькими перезаряжал ружья и действовал пикой за двоих. Что же Вы хотите? В пылу схватки я никак не мог опустить на землю моего маленького помощника и, слава Богу, в конце ее я оказался целым и невредимым. И это после того, как я славно сражался в риге и столкнул под копыта моей лошадки, которая и в упряжке ходит, и может быть боевым конем, не одного негодяя из числа тех, кто посягал на Вашу жизнь, да хранит Вас Бог, господин маркиз! Если я плохо поступил, накажите меня, но господина графа не упрекайте, потому что… клянусь, он славный малыш… и он для Вас… знаете, как он этих… немцев бил… к скоро он станет, это я Вам говорю… прямо, как Вы, хозяин!
— Хватит, хватит похвал, друг мой, — сказал Буа-Доре, сжимая руку своего каретника. — Раз уж ты учишь молодого хозяина не слушаться меня, по крайней мере не учи его, как язычника, ругаться.
— Разве я ослушался, отец? — спросил Марио. — Вы мне запретили атаковать цыган, а насчет рейтаров ничего не говорили.
Маркиз взял ребенка на руки и, не удержавшись, с гордостью рассказал своим друзьям, как мальчик спас своего дядю из лап ужасного Санчо.
— Итак, мой юный герой, — продолжал он, вновь обнимая ребенка, — было бы лучше оставить Вас под моим присмотром, но пришло время перевернуть страницу. Вы сами в одиннадцать лет отомстили за смерть отца и заслужили шпоры шевалье. Опуститесь на одно колено перед вашей дамой, ибо вы завоевали надежду когда-нибудь понравиться ей.
Лориана, не колеблясь, как сестра, поцеловала Марио, а Марио, не покраснев, ответил на ее поцелуй. Еще не наступил тот миг, когда их святая дружба обратится в святую любовь.
Затем оба вернулись к Мерседес, довольные тем, что чудом спасшийся Люсилио вернулся и уже дежурил около раненой. Марио не собирался хвалиться тем, что участвовал в спасении друга, который тоже прекрасно проявил себя в бою.
Мерседес была так довольна заботами лекаря и приходом Марио, что не чувствовала никакой боли.
Сделав ей перевязку, Люсилио пошел помогать раненым, всем, включая пленных, которых отправляли под надежной охраной в крепость-тюрьму Ла Шартра.
Рейтары расположились во дворике рядом с обгоревшими строениями. Они имели очень унылый вид. Капитан Макабр дрался не на жизнь, а на смерть и был тяжело ранен. Теперь он хотел только одного: хлебнуть немного вина и забыться. Беллинда во время схватки так испугалась, что у нее помутился рассудок. Презрение и насмешки слуг и вассалов, которых она ненавидела и в прежние времена постоянно попрекала, ее совсем не трогали. Ее дорогой костюм притягивал к себе взгляды крестьянок и казался им совершенно ослепительным.
Вскоре маркиз отправил ее в городскую тюрьму. Несмотря на протесты Адамаса, он проявил к ней снисхождение, оставив драгоценности и деньги и предоставив лошадь. Что касается Адамаса, то, узнав о ее намерении выйти замуж за маркиза и избавиться от Марио, он стал испытывать к ней глубокое отвращение.
Все оставшиеся лошади рейтаров, которые оказались превосходными, упряжь, оружие и деньги офицеров достались храбрым слугам. Сам маркиз ничего не захотел взять из захваченных трофеев. Он поспешил прийти на помощь своим бедным подданным, пострадавшим от набега цыган.
Глава пятьдесят седьмая
Расходиться стали тогда, когда увели пленных. Сопровождать их господину Робену помогли люди из окрестных селений. Привлеченные шумом боя, они немного опоздали, но теперь оказались полезны, заменив участников схватки, которым так необходим был отдых.
Хромой Жан прибыл в числе последних и с удовольствием присоединился к эскорту. Он был уже под хмельком. Он потерял ногу, сражаясь с рейтарами, и поэтому давно ненавидел капитана Макабра.
В город Ла Шартр он вошел с высоко поднятой головой, воображая себя капитаном Фракассом. Всем, кто хотел его слушать, он говорил о себе словами из народной песни: «его доблестная шпага поразила четырнадцать врагов».
Указывая на самых сильных из пленников, он утверждал о каждом из них:
— Вот этого взял я!
Площадь была очищена от народа, но во внутреннем дворике Брианта беспорядка еще хватало.
Одноэтажные строения были предоставлены для нужд людей и животных. Столовая и кухня были открыты для всех, кто хотел поесть или просто обогреться. Сам маркиз даже присесть не хотел, не позаботившись о нуждах остальных. Люсилио и Лориана перевязывали и лечили раненых, показывая все, на что способны.
Самые разные люди и события представляли как бы живую картину.
В одном месте извлекали пули, и раненые стонали и кричали от боли; в другом — люди смеялись и шутили, вспоминая подвига минувшей ночи, а совсем рядом — оплакивали погибших.
Здесь и там можно было видеть старых женщин, которые громко кричали, разыскивая пропавшую козу или корову. Другие женщины потеряли своих детей и теперь метались с безумным взором, призывая их из последних сил.
Марио энергично помогал этим поискам, а Адамас, как всегда предусмотрительный, в это время отдавал распоряжение вырыть на соседнем поле общую могилу для убитых врагов. Погибшим местным жителям были оказаны большие почести: их погребали в отдельных могилах. Разыскивали и господина Пулена, чтобы он читал молитвы перед погребением.
Все поздравляли героев. Их было много, однако в течение этого дня в разных местах — под кучами сена, в углах риги — находили несчастных безумцев, которых страх парализовал настолько, что они могли бы сгореть заживо или задохнуться от дыма, так ничего и не предприняв.
Буа-Доре и добрый Гийом находились в гуще этих событий, участвуя как в трагических, так и в комических эпизодах.
Несмотря на то что удручающие зрелища поджидали их на каждом шагу, оба находились в состоянии некоторого возбуждения, которое возникает при благополучном исходе дела.
Ведь эти потери и огорчения были не так уж велики по сравнению с тем, что могло произойти.
Чтобы лучше исполнить свой христианский долг, Буа-Доре снова сел на коня, и далеко не все, кто видел маркиза в это время, могли его узнать.
На нем все еще был фартук, превратившийся в лохмотья, обагренный кровью врагов, и многие вассалы думали, что он подпоясан обрывком знамени в знак достигнутой победы. Его пышные усы обгорели во время пожара, а бархатная шапочка мэтра Пиньу, поверх которой Буа-Доре наспех нахлобучил шляпу, надвинулась на глаза, из-за чего окружающие думали, что он ранен в голову, и каждый считал своим долгом заботливо спросить, как он себя чувствует.
В могилы погибших были брошены первые комья земли, как вдруг один из них подал признаки жизни. Это оказался Ла-Флеш. Проходивший мимо Марио отдал распоряжение откопать несчастного, которое было исполнено не без колебаний. Благородный мальчик использовал весь свой авторитет, но никто из присутствовавших так и не согласился отнести его в лазарет. Все разбежались под разными предлогами, и Марио был вынужден разыскать Аристандра, последний не стал возражать, и они вместе вернулись на то место, где на сырой и холодной земле лежал раненый цыган.
Но время было упущено. Ла-Флеш был безнадежен, он уже не стонал, а невидящий остановившийся взгляд говорил о приближающемся конце.
— Слишком поздно, господин, — сказал Аристандр молодому хозяину. — Что Вы хотите? Ведь это я его сразил, и, поверьте, это было совсем не легко, но не я запихал ему в рот землю и камни, чтобы он скорее задохнулся, уж до этого я не додумался.
— Землю и камни? — переспросил Марио, с удивлением и ужасом глядя на умирающего цыгана. — Но ведь он совсем недавно еще говорил! Может быть, он сам хватал зубами землю, борясь со смертью?
Когда он нагнулся к несчастному, пытаясь облегчить его страдания, Ла-Флеш, покрывшийся смертельной бледностью, с усилием приподнял руку, как бы говоря: «Бесполезно, дайте мне умереть спокойно».
Затем его рука вытянулась, так, что было похоже, что он указывает пальцем на своего убийцу, и навсегда застыла в этом положении.
Не задумываясь, Марио посмотрел туда, куда указывал пугающий жест, но там никого не было.
Похоже, что перед цыганом, испускавшим последний вздох, предстало какое-то видение.
Однако Аристандр обратил внимание на еще свежие следы, оставленные на глинистой земле маленькой ногой.
Следы тянулись вокруг трупа, а рядом с головой образовывали что-то вроде нимба и удалялись в направлении, которое все еще указывала рука.
— Как жестоки бывают дети! — проговорил добрый каретник, показывая следы Марио. — Наверное, кто-то из детей Шарассона увидел, что вы хотите спасти этого наполовину покойника, и решил прикончить его вот таким способом, чтобы отомстить за отца. И хотя я сам уверен, что жизнь этих цыган не дороже жизни собаки, это дьявольский поступок, и люди правы, когда говорят, что зло порождает зло.
— Да, да, мой добрый друг, — взволнованно ответил Марио. — Понимаешь, умирающий — уже не враг. Но посмотри в кустах: по-моему, там прячется маленькая Пилар.
— Уж не знаю, — сказал Аристаццр, — кто такая маленькая Пилар, но точно вижу, что там та самая маленькая чертовка, которую я спас этой ночью. Бежит, как тощая кошка; теперь вы ее узнали?
— Да, — ответил Марио, — я знаю ее слишком хорошо и вижу, что демон вселился в нее. Пусть убегает, и подальше отсюда, так будет лучше.
— Уходите, сударь, не оставайтесь в этом дурном месте, — продолжал Аристандр. — А я предам земле жалкие останки этого безбожника, а то, по правде говоря, и собаки, и вороны уже чуют его, а господину маркизу не понравится, чтобы такая дрянь валялась на его землях.
Измученный Марио отправился немного отдохнуть. Он проспал час в кресле, рядом со своей дорогой Мерседес, которая тоже сделала вид, что отдыхает. Потом вместе с милой и самоотверженной Лорианой он принялся помогать, лечить, утешать пострадавших в деревне и в замке.
Маркиз наскоро привел себя в порядок и принял лейтенанта Королевской полиции.
Вместе с Гийомом и Робеном он изложил факты магистратам, которым было поручено свершить справедливый и быстрый суд.
Глава пятьдесят восьмая
День шел своим чередом.
Из-за того, что все устали, в деревне и в замке воцарился покой. После многих дел Марио и Лориана почувствовали необходимость подышать свежим воздухом в саду, единственном месте во всем владении, которого не коснулись разрушения и насилие.
В подробностях рассказывая юной подруге о своих приключениях, о которых Лориана хотела знать все, Марио вместе с ней подошел к «дворцу д'Астре», к тому самому лабиринту, где он провел такой нелегкий час прошлой ночью.
Была чудесная погода. Дети уселись на ступенях хижины.
Марио чувствовал легкий жар, хотя не был болен. Все, что он увидел и пережил за последнее время, сделало его взрослее, и, глядя на него, Лориана была поражена новым выражением грусти и твердости, которое сменило прежний мягкий и чистый взгляд.
— Мой Марио, — сказала она, — боюсь, ты плохо себя чувствуешь. Тебе пришлось испытать страх и напряжение, проявить мужество и силу, почувствовать одновременно и радость, и печаль этой ужасной ночью. Мэтр Жовлен ручается за жизнь Мерседес, а она клянется, что ей не больно. Ты спас жизнь нашего дорогого отца Сильвена и отомстил за твоего собственного отца. Все это сделало тебя в этот час взрослым и отважным, но не надо беспокоиться, подумай лучше о том, чтобы отблагодарить Бога за ту помощь, что он оказал тебе во всем.
— Я думаю об этом, Лориана, — ответил Марио, — но еще я думаю о том, что сказал мне утром мой отец, после его слов ты меня поцеловала и сказала: «Да, да». Так вот, об этом я теперь вспоминаю. Сразу я не понял слов отца, и ты должна мне теперь объяснить. Он сказал, что я завоевал надежду понравиться тебе. А разве до этого дня я тебе не нравился?
— Конечно, Марио, ты мне очень нравился, и я тебя очень люблю.
— Вот и прекрасно! Но когда мой отец с улыбкой говорит, что я буду твоим мужем, как думаешь, такое может случиться?
— По правде говоря, не знаю, Марио, и не очень-то верю в это. Я тебя старше года на два, на три. А когда ты будешь молодым человеком, я стану уже почти старой.
— Но, Лориана, Адамас сказал мне, что ты уже была замужем за твоим кузеном Элионом, а он был на три или четыре года старше тебя. Он же не упрекал тебя в том, что ты слишком молода для него?
— Да, иногда, еще до женитьбы, мы ссорились, когда играли.
— Так вот, я думаю, он был не прав. Ты вовсе не молода и не стара, а для меня ты всегда прекрасна, потому что я всегда буду любить тебя так, как сейчас.
— Откуда ты знаешь, Марио? Говорят, с годами сердце меняется.
— А для меня не так. Вот я считаю мою Мерседес молодой и милой, и с тех пор, как я появился на свет, мне всегда с ней хорошо. Да возьми отца: говорят, он старый, а мне с ним веселей, чем с Клиндором, а уж между мэтром Люсилио и нами и вообще не чувствую разницы в возрасте. Разве тебе скучно со мной, потому что я тебя моложе?
— Вовсе нет, Марио. Ты гораздо рассудительней и вежливей других детей твоего возраста и ты уже сейчас знаешь больше меня, хотя нам и дают уроки вместе.
— Скажи, Лориана, я тебе нравлюсь больше, чем тот твой муж?
— Я не должна так говорить, Марио. Он был моим мужем, а ты — нет.
— Значит, ты его любила, потому что он был твоим мужем?
— Не знаю. Пока он был просто мой кузен, он мне не очень нравился. Мне он казался слишком озорным и шумным. Но когда нас вместе отвели в протестантскую церковь и сказали: «Теперь вы — муж и жена, вы увидитесь вновь через шесть-семь лет, но ваш долг — любить друг друга», я ответила: «Хорошо». И я молилась за моего мужа каждый день, прося Господа дать мне благодать, чтобы я могла полюбить мужа, увидав его снова.
— И ты так и не увидела его? Ты горевала, когда он умер?
— Да, Марио. Это ведь был мой кузен, и я много плакала.
— Я тебе ни муж, ни кузен, если я умру, ты будешь плакать?
— Марио, — сказала Лориана, — не надо говорить о смерти: считается, молодым это приносит несчастье. Я не хочу, чтобы ты умирал, и, повторяю еще раз, я тебя очень люблю.
— Но почему ты не хочешь дать мне обещание, что я стану твоим мужем?
— А что даст тебе, Марио, мое обещание стать твоей женой? Ведь ты не знаешь даже, захочешь ли жениться, когда станешь взрослым.
— Мне это необходимо, Лориана! Мне не нужна другая жена, потому что ты добра и любишь все, что люблю я. Ты сказала, что любить мужа — это долг, и я уверен, что ты будешь любить меня всегда, если мы поженимся; напротив, если ты выйдешь замуж за другого, я потеряю тебя навек. Это было бы для меня таким тяжелым ударом, даже когда я думаю об этом, мне хочется плакать.
— И вот опять ты плачешь понапрасну! — сказала Лориана, вытирая ему глаза своим носовым платком. — Перестань, перестань, Марио. Говорю же, ты сегодня плохо себя чувствуешь, тебе надо поужинать и хорошо выспаться. Ты переживаешь из-за того, что еще и не случилось, вместо того, чтобы радоваться, вспоминая, какие несчастья тебя миновали этой ночью.
— Что прошло, то прошло, — сказал Марио. — Однако я вовсе не устал и не знаю, почему, но я думал о тебе всю эту ночь, каждую минуту, когда страшная опасность угрожала и мне, и отцу. «Если мы оба погибнем, — говорил я себе, — кто же защитит и спасет мою Лориану?» Правда-правда, я думал о тебе столько же, сколько о Мерседес, даже больше, чем о моей Мерседес и обо всех остальных. Знаешь, особенно часто вспоминал о тебе тогда, когда встретился с Пилар.
— А почему эта злая девчонка напомнила тебе обо мне?
Марио на минуту задумался и ответил:
— Видишь ли, путешествуя с цыганами, я часто разговаривал и играл с малышкой, которая говорит по-испански и немного по-арабски, ее больной и несчастный вид вызывал у меня жалость. Мы оба, Мерседес и я, изо всех сил старались быть к ней добрыми, и она платила нам любовью. Она называла Мерседес «моя мать», а меня «мой маленький муж». Я говорил: «Не хочу, чтобы ты меня так называла», но тогда она плакала и капризничала, и, чтобы успокоить ее, я вынужден был соглашаться: «Да, да, пусть будет так». Я уверен, что этой ночью она помогла нам; я послал ее предупредить господ Робена и Гийома, и она прекрасно справилась с этим поручением; и все же она вызывает во мне ужас с тех пор, как я увидел ее жестокость и безверие. Сердце мое возмущалось, когда она называла меня мужем, я вспоминал о нашем шутливом договоре и видел рядом с собой, с одной стороны, дьявола в ее обличье, а с другой — моего ангела-хранителя.
Когда Марио говорил, камень упал с крыши хижины так близко от Лорианы, что едва ее не ранил.
Дети поспешили покинуть хижину, решив, что она разваливается от старости. Было время обеда, и маркиз ждал их.
Глава пятьдесят девятая
А в это время все тщетно искали господина Пулена, ведь только он мог совершить заупокойную службу.
В доме оказалась одна служанка, которая сильно пострадала от нападавших бандитов. Она лежала в постели и молилась о возвращении священника. Известий о нем не было. Вот уже два дня и две ночи, как он исчез.
Наконец, вечером, когда господин Робен уехал с Гийомом д'Арсом и его людьми, оставив двоих своих раненых на попечении маркиза, появился Жан Фароде, арендовавший землю в Брильбо, и попросил сеньора немедленно принять его.
Вот его рассказ, из которого мы узнаем о том, что происходило накануне в Брильбо.
Все было так хорошо организовано, что участники встречи не сразу заметили отсутствие Буа-Доре. Они разбились на маленькие группы и в наступивших сумерках окружили таинственное строение.
Уродливое строение было исследовано от подвала до чердака и оказалось совершенно безлюдным. Но на первом этаже, там, куда маркиз не решился проникнуть один, были найдены следы недавнего посещения: угольки в камине, ветошь на полу, остатки пищи.
Был также найден подземный ход, который заканчивался довольно далеко от строения. Такие подземные ходы есть в каждом феодальном владении. Ко времени описываемых событий ход был почти полностью разрушен, но цыганам удалось очистить его и тщательно замаскировать вход.
Дальше поиски не продолжали, не только потому, что сочли их бесполезными (враг ведь уже скрылся), но и потому, что искавшие начали опасаться за жизнь господина де Буа-Доре и принялись разыскивать его по всей округе. Все уже были серьезно встревожены, когда появилась маленькая цыганочка и рассказала, как обстояло дело.
Еще какое-то время было потеряно из-за серьезных сомнений. Господин Робен считал, что маркиз попал в какую-то ловушку, и настаивал на том, что его надо искать. Господин д'Арс же считал, что рассказ ребенка вполне правдоподобен, и решил отправиться в Бриант со своими людьми. Через час господин Робен также решил последовать его примеру.
Когда все разъехались, арендатор из Брильбо, которому было поручено продолжать обследование замка, побежденный усталостью, по его собственным словам, а скорее всего не совсем избавившись от страха, отложил порученное ему на завтра.
— Как рассвело, я за дело и принялся, — рассказывал Жан Фароде, — обыскал все из конца в конец, все перевернул, старые дрова раскидал и нашел каморку, которую раньше не замечал. А в каморке человек, словно сноп перевязанный; а рот весь одеревенел от кляпа из соломы. Человек казался совсем мертвым, с ног до головы, но я его взял, к себе отнес, развязал, ему и полегчало, а уж после капельки вина он в себя и пришел.
— А что это был за человек? — спросил маркиз, думая, что речь идет об Альвимаре. — Вам он знаком?
— Конечно, господин Сильвен, — ответил арендатор. — Я его раньше видел. Это был господин Пулен, настоятель вашего прихода. Четыре часа он и слова сказать не мог, так измучился, пытаясь выпутаться из веревок. Только на рассвете он нам сказал:
— Я расскажу все только суду. Я не виновен в том, что произошло, клянусь.
— Весь день он был словно в лихорадке и метался туда-сюда. Наконец, сегодня вечером ему полегчало, и он пожелал вернуться домой, я его туда и доставил, посадив позади себя на круп моей жеребой кобылы, извините за выражение.
— Пойдем расспросим его, — сказал Гийом, поднимаясь.
— Нет, — ответил маркиз. — Пусть поспит. Ему это очень не помешает, да и нам тоже. Да и разве может он нам сказать что-то, чего мы сами уже не знаем? И в чем мы можем обвинить его? Он дал последнее напутствие умирающему господину д'Альвимару — это его долг. Узнав, что тот устроил против меня заговор, он, если и не стал угрожать ему разоблачением, по крайней мере отказался поддержать его. Вот поэтому цыгане его связали и заткнули рот кляпом.
Гийом возразил, что господин Пулен опасен для Брианта, и следовало бы по крайней мере пригрозить ему разоблачением в деле с рейтарами, чтобы он был покорен и держался ото всех подальше.
Маркиз категорически отказался мучить человека, который и так был наказан, пострадав от грубого обхождения и рискуя погибнуть забытым в своей темнице.
— Сами посудите, — сказал он, — по милости Божьей, мы одолели сорок рейтаров, хорошо вооруженных и имевших пушку; мы справились с бандой ловких и изощренных мошенников; с ужасным пожаром и выбрались из самой гнусной западни. А теперь хотим отомстить бедному священнику, который и постоять-то за себя не может.
Маркиз забыл, что опасность еще не устранена. Ведь принц, спешно отправившийся ко двору, мог быть там принят холодно, после чего он скорей всего внезапно вернется и выместит свои обиды на провинциальных вельможах. На этот случай следовало бы позаботиться о том, чтобы между маркизом и принцем не стоял человек, способный выступить на защиту деяний Альвимара.
Именно об этом напомнил маркизу на следующий день Люсилио. Буа-Доре тотчас же поскакал к господину Пулену, чтобы справиться о его здоровье.
Священник еще не вставал с кресла, так он намучился от холода, веревок и страха. Он попытался убедить маркиза, что, якобы, пострадал, упав с лошади, после чего был вынужден провести целые сутки у одного из своих собратьев.
Но Буа-Доре сразу перешел к делу и заговорил с ним твердо, но вежливо и великодушно. Он не преминул показать священнику заметки из дневника Альвимара, который слишком нелицеприятно отзывался о нем и о принце.
Господин Пулен был уже не столь горделив, и тревожные сомнения терзали его:
— Господин де Буа-Доре, — произнес он, вздыхая и смахивая со лба холодный пот, выступивший при воспоминании о пережитых мучениях, — я видел смерть так близко и думал, что не боюсь ее, но она предстала передо мной в столь отвратительном и жестоком обличьи, что я дал обет уйти в монастырь, если мне удастся выбраться из того холодного каменного мешка, куда меня живьем захоронили. Теперь я свободен и жажду поскорей удалиться от интересов этого мира и не хочу принимать ни ту, ни другую сторону. В глубоком уединении я буду думать только о спасении моей души, и, если вы соблаговолите выделить мне келью в аббатстве Варенн, в котором вы являетесь доверенным лицом, я бы не желал ничего более.
— Хорошо, — ответил Буа-Доре, — но при одном условии: вы мне правдиво расскажете о том, что же произошло в Брильбо. Не буду мучить вас ненужными вопросами: на три четверти я уже знаю то, что вы мне можете рассказать. Я хочу знать лишь одно: признался ли вам господин д'Альвимар на исповеди в убийстве моего брата?
— Вы просите меня выдать тайну исповеди, — ответил господин Пулен. — И я бы отказался, как велит мне долг. Но сам господин д'Альвимар, искренне раскаявшись в свой последний час, поручил мне все рассказать после его смерти и после смерти Санчо, который, как он полагал, ненадолго переживет его. Знайте же, что господин д'Альвимар, принадлежавший по матери к благородному роду и получивший благодаря тому, что тайна его рождения осталась нераскрытой, право носить имя супруга своей матери, на деле был плодом преступной связи его матери с Санчо, бывшим главарем шайки разбойников, ставшим земледельцем.
— Что вы говорите? — воскликнул маркиз. — Господин настоятель, вы объяснили мне последние слова Санчо. Он утверждал, что принесет меня в жертву в память о своем сыне! Но почему же господин д'Альвимар признался в этом на исповеди? Вероятно, далее он был вынужден сделать еще и другие признания?
— Господин д'Альвимар был вынужден объяснить мне свое поведение по отношению к Санчо, чтобы вырвать у меня клятву не передавать в руки правосудия того, кого он со стыдом и горечью именовал виновником своего появления на свет, а также виновником своего преступления и своих несчастий.
Именно этот жестокий и безнравственный человек сделал его сообщником смерти вашего брата, именно ему первому пришла в голову эта мысль и глубоко укоренилась в душе его, Альвимар же смирился, согласившись помочь и воспользоваться плодами преступления.
Правда, единственной целью этого преступления, исполнители которого не знали свою жертву, было желание захватить деньги и ларец с драгоценностями, который ваш брат неосторожно показал накануне на постоялом дворе.
В ту пору своей жизни господин д'Альвимар был еще очень молод и так беден, что не надеялся собрать денег даже на дорогу в Париж, где рассчитывал найти покровителей. Он был честолюбив, а это, признаю, сударь, великий грех и худшее из искушений сатаны.
Санчо поддерживал и разжигал в сыне это проклятое честолюбие. Ему пришлось натолкнуться на некоторое сопротивление Альвимара, но он победил, представив это убийство, как верный и единственный случай, какого больше не будет, для того, чтобы обеспечить свое существование и избежать унижений, обращаясь к чужой жалости.
Санчо присутствовал во время этой исповеди господина д'Альвимара, склонив голову и не пытаясь оправдаться. Напротив, когда я заколебался, не зная, отпускать ли грехи за проступок, который, на мой взгляд, еще недостаточно искуплен, Санчо, не задумываясь, взял всю вину на себя, И я вынужден признать, что было какое-то величие в страстном стремлении этой свирепой души спасти душу своего сына.
И тогда я решил, что передо мной — два христианина, оба виновны, но раскаялись; однако Санчо сразу после того, как его сын отдал Богу душу, вызвал во мне страх и отвращение.
Ужасная была сцена, сударь, и я ее до конца жизни не забуду!
Мы находились в нижнем зале этого полуразрушенного замка, где был всего лишь один камин, и, хотя помещение было довольно просторным, мы теснились у огня, где можно было хоть как-то защититься от холода, которым так и дышал рухнувший, свод.
У господина д'Альвимара вместо постели была лишь солома, а одеялом ему служил плащ Санчо и его собственный плащ. Агония, растянувшаяся на два месяца, так измучила его, что он походил на призрака.
Однако для того чтобы получить последнее напутствие церкви, Санчо одел сына в лучшие одежды, и скорбело сердце мое и глаза мои при виде этого благородного, смирившегося дворянина среди бесчестной толпы цыган-язычников.
Этих неверующих раздражало то, что они присутствуют на христианской церемонии. Они кричали, ругались и орали, насмехаясь, чтобы не слышать молитв святой церкви, которые внушают им отвращение. Так, оказывается, было постоянно в то время, когда господин д'Альвимар находился в замке.
Каждую ночь Санчо, пользуясь тем, что цыгане заснули, пытался шепотом прочитать сыну те молитвы, которые он просил, но стоило кому-нибудь из цыган заметить это, как все: женщины, мужчины, дети — устраивали дикий шум, заглушающий голос Санчо и не дающий святым словам нашей веры проникнуть в уши.
Вот так, среди этой ужасной вакханалии, где Санчо силой своего авторитета (основанного на том, что у него были припрятаны кое-какие деньги, которыми он время от времени с ними делился) иногда удавалось на минуту установить тишину, в один из таких моментов я соборовал несчастного молодого человека.
Он умер, примиренный, надеюсь, с Господом, ибо он очень сожалел о своем преступлении и попросил меня открыть, истину принцу, если тот, введенный в заблуждение, подобно мне самому, неверными сведениями об обстоятельствах и причинах вашей дуэли, будет преследовать вас по этому поводу.
— И вы решились это сделать, отец? — спросил Буа-Доре, вглядываясь в изменившееся лицо господина Пулена.
— Да, сударь, — ответил священник, — при условии, что вы искренне и резко измените ваши намерения.
— И теперь во имя высшей истины вы торгуетесь, требуя от меня засвидетельствовать правду?
— Нет, сударь, ибо то, что произошло после смерти д'Альвимара, отняло у меня всякую надежду побудить вас последовать примеру ваших врагов и раскаяться. Санчо склонился над бледным лицом сына и замер без слов и без слез. Потом он встал, произнес вслух страшную клятву, пообещав отомстить всеми способами, и позвал находившегося здесь грязного дерзкого гугенота.
— Капитана Макабра?
— Да, сударь, он носил это зловещее имя.
«Я позвал вас, — сказал ему Санчо, — чтобы дать вам возможность завладеть сокровищами Буа-Доре. Я присоединюсь к вам и обеспечу поддержку разведчиков и добровольных шпионов, которых вы здесь видите. Я обещаю вам через Беллинду хорошенькое дельце. И присутствующий здесь священник, который ненавидит Буа-Доре и в хороших отношениях с принцем, гарантирует вам безнаказанность». И вот тогда, сударь, я возразил.
— Конечно, — улыбнулся Буа-Доре, — вы прекрасно знаете, что господин принц хотел один завладеть сокровищами, а он не тот человек, который позволит сокровищам уплыть в руки таких «хранителей».
Господин Пулен молча выслушал упрек и опустил голову с выражением искреннего или наигранного раскаяния.
Маркиз попросил его продолжать рассказ, и священник поведал, как капитан Макабр предложил проломить ему без всяких церемоний голову, чтобы лишить его возможности все рассказать, и как цыгане бросились на него, чтобы содрать с него одежду.
— Эта драка, — добавил господин Пулен, — спасла мне жизнь, потому что Санчо успел передумать. Он сам связал меня и заточил в каморке, как вы знаете. Так жизнь моя оказалась спасена! Но такое спасение показалось мне страшней быстрой и жестокой смерти. Злодей, не оставив мне ни надежды, ни помощи, покинул вместе со своими цыганами Брильбо и помчался атаковать ваш замок.
— Скажите, пожалуйста, — спросил маркиз, — как поступили с телом д'Альвимара?
— Я понимаю, — ответил священник с неуверенной улыбкой, в которой, несмотря на его самообладание, еще сквозила неприязнь, — я понимаю, что вы заинтересованы найти тело, если состоится суд. Но, сами подумайте, подобная улика может обернуться и против вас. Если кому-то захочется солгать, он вполне может утверждать, что вы погребли свою жертву с помощью вашего друга господина Робена. Вашу будущую безопасность, господин маркиз, может обеспечить только моя лояльность, и я предлагаю вам мою поддержку.
— На каких условиях, господин Пулен?
— Условия? О них не может быть и речи, брат мой! С сегодняшнего дня я удаляюсь от мира. Обращаюсь к вашей доброте и молю об аббатстве Варенн.
— Ах вот как? — сказал Буа-Доре. — Об аббатстве? Вы имеете в виду ту самую келью, о которой только что молили меня?
— Неужели вы позволите погибнуть столь почитаемому аббатству и поставите каких-нибудь мужланов управлять общиной, которая должна подавать миру благой пример?
— Ну что же, я понял! Посмотрим, отец, как вы поведете себя по отношению ко мне, и если я сочту себя удовлетворенным, вы будете более чем удовлетворены. Однако вы мне все еще не сказали, где же похоронен убийца моего брата?
— Простите, сударь, — ответил священник (он был достаточно умен, чтобы не показывать, что торгуется, впрочем, он был готов устраниться от страстей и невзгод этого мира при условии, что сам от этого не очень пострадает), — расскажу вам, что я видел. Санчо поспешил убрать тело, опасаясь каких-нибудь выходок со стороны цыган. Он поднял, плиту в середине того зала, где мы находились, и там скорее всего он и похоронил сына. Что касается меня, я больше ничего, не видел. Меня утащили в мою ужасную темницу, где я промучился восемнадцать часов, то питая надежду, то впадая в отчаяние.
Маркиз и священник распрощались весьма любезно, и господин, Пулен, собрав все силы, поднялся и отправился хоронить погибших в своем приходе. Но после обряда он почувствовал себя так плохо, что приказал позвать мэтра Жовлена, будучи наслышан о чудодейственном воздействии его бальзамов и эликсиров.
Сначала он опасался препоручать свою жизнь заботам человека, которого, естественно, считал своим врагом. Но лечение итальянца так быстро помогло ему, что он почувствовал в душе что-то вроде благодарности, особенно тогда, когда Люсилио наотрез отказался от всякого вознаграждения.
Итак, священнику пришлось искренне поблагодарить прекрасных господ из Буа-Доре, которые во время его болезни помогли ему и обеспечили лечение с тем же участием, с каким помогали своим друзьям.
Глава шестидесятая
В день своего «брачного» объяснения с Марио Лориана заснула с трудом, ее весьма обеспокоило сердечное возбуждение Марио и заботы этого милого ребенка о будущем.
Хоть она и мало знала жизнь, но все-таки понимала больше, чем Марио, и предвидела, что, когда Марио достигнет возраста, в котором узнают разницу между дружбой и любовью, он все еще будет для нее слишком молод и она должна будет питать к нему лишь чувство сестринского покровительства.
Она меланхолично улыбалась при мысли о том, что стечение обстоятельств может привести ее к браку с ребенком. И она говорила сама себе, что судьба может поставить ее перед странным, может быть, трудным и фатальным выбором.
Поэтому она оставалась грустна и решила набраться решимости и противостоять тем, кто будет стремиться повлиять на нее и заставить изменить свое тушение, ибо маркиз серьезно относился к своему плану, да и господин де Бевр, хотя и подшучивал над этим в письмах, скрывал за шутками горячее желание когда-нибудь увидеть этот замысел воплощенным в жизнь.
Мечтая о счастье и браке, Лориана вовсе не мечтала о любви, но она смутно чувствовала, что странно было бы дважды выходить замуж, так и не познав любви.
Она предчувствовала, что ее нынешнее спокойствие и нежные отношения с прекрасными господами из Буа-Доре уже омрачаются легкой, но тревожной тенью.
Но уже на следующий день она успокоилась.
Марио спал крепко; розы детства вновь зацвели на его атласных щеках, его прекрасные глаза вновь обрели ангельскую ясность, и улыбка доверчивого счастья запорхала на губах. Он вновь стал ребенком.
Как только он увидел, что отец отдохнул, Мерседес успокоилась и все живы-здоровы, как тут же побежал на конюшню расцеловать свою лошадку, потом в деревню справиться о здоровье крестьян, потом в сад запускать волчок, затем на двор, где лазил по обгоревшим руинам.
Он постоянно участливо помогал своей Мерседес и сидел около нее в спальне.
Но как только все страхи рассеялись, Марио стал совершенно счастлив и поочередно с усердием предавался трудам и играм, так что Лориана могла его любить и невинно ласкать, не опасаясь завтрашнего дня.
Воистину природа оказалась благосклонна, дав милому мальчику такой характер. Если бы он не смог оправиться от тяжелых потрясений, перенесенных им в страшный час, он бы так и жил, потерянный или разбитый.
Но, надо сказать, в ту эпоху нравы были более жестокими, что делало человеческую натуру более гибкой и, следовательно, более выносливой. Чувствительность, чаще всего порожденная внешними жизненными потрясениями, притуплялась быстрее, и живые эмоции уступалиместо простому желанию выжить, выжить любым путем, которое спасает человека в моменты тревог и несчастий.
В поместье Бриант зима прошла спокойно. Велись плотницкие работы в сожженных ригах в ожидании весны, когда смогут начать работу каменщики. Расчистили ров, временно укрепили камнями обвалившийся кусок стены, наконец, Адамас расчистил и укрепил подземный ход в деревню, и, чтобы восстановить мир с двором и провинциальной церковью, некоторым местным церквям вернули, как добровольный дар, кое-что из драгоценной утвари. Принцессу Конде попросили принять в дар кое-какие драгоценности, и Адамас тщательно спрятал те из них, которые, по его мнению, должны были украсить будущую супругу Марио.
Те запасы золота и серебра в монетах, которыми располагал маркиз, ушли по большей части на ремонт построек и на покупку хлеба для дома маркиза и для его бедных вассалов. Этих же вассалов надо было обеспечить скотом взамен потерянного, ибо прекрасные господа из Буа-Доре не хотели видеть вокруг себя нищету.
Наконец, то самое пресловутое сокровище, ценность которого очень сильно преувеличивали и которое едва не навлекло на замок великое несчастье и зловещие преследования, перестало вызывать зависть и уже не было источником несчастий и тяжелых гонений, поскольку уже не лежало мертвым грузом. Все видели и знали, что двери таинственной комнаты распахнуты и оставлены открытыми.
Попытались обезопасить себя и от господина Пулена, предложив ему часть денег, но у него хватило ума отказаться, тем более он жаждал не столько материальных благ, сколько власти и влияния.
Он хотел, по его словам, не «обладать», а «быть». Поэтому он так настаивал на аббатстве Варенн, довольно бедном убежище, расположенном среди зелени на берегу маленькой речушки Гурдон.
Он не хотел иметь много земли, ему хватило бы и клочка, чтобы поселиться с двумя-тремя монахами. Его привлекал сам титул аббата и обретение убежища, где он мог бы существовать, не обременяясь каждодневными приходскими заботами.
Через месяц он уже выздоровел настолько, что помышлял уже не только о хлебе и титуле, но и о том, чтобы приблизиться к сильным мира сего и взять в руки дела дипломатические, подобно многим другим, менее способным, чем он, и менее терпеливым.
Буа-Доре понял, каково его честолюбие, и постарался наилучшим образом удовлетворить его. Он чувствовал, что рано или поздно принц, большой любитель церковного добра и аббатств, отберет и это в свою пользу, причем на своих условиях, и это был самый верный способ столкнуть интересы принца и самого господина Пулена.
Итак, господин Пулен получил аббатство и отправился за разрешением церковных властей, которое позволило бы ему оставить приход.
Господин Пулен видел, что первая часть его мечты о будущем, о которой он когда-то говорил д'Альвимару, сбывалась.
Господин Пулен рассчитывал пробить себе дорогу, воспользовавшись существовавшими вокруг него разногласиями в вопросах веры. Д'Альвимар, жаждавший денег и мести, погиб бесславно и бесполезно. Господин Пулен, умевший пользоваться доверием и переменами в ситуации, свободный от прочих страстей и готовый пожертвовать ради корысти собственной затаенной злобой, шел в жизни, как он сам выражался, верным путем. По крайней мере наиболее надежным.
Все были удивлены тем, что исчезла маленькая Пилар. Маркиз, узнав, как удачно передала она важное сообщение, хотел вознаградить ее, а Лериана говорила, что она хочет вернуть на путь добра это жалкое создание. Но никто не знал, что с ней случилось: решили, что она ушла с цыганами, которым удалось спастись.
Пленные рейтары были переведены в Бурж. Их быстро осудили.
Капитан Макабр как бандит, мятежник и предатель был приговорен к повешению, исполнить приговор надлежало без промедления.
Маркиз пожалел Беллинду, которая от тюремных тягот почти обезумела, он отказался свидетельствовать против нее, считая ее душевнобольной. Ее выгнали из города и из провинции, запретив возвращаться под страхом смерти.
Мерседес выздоровела, и Люсилио, видя, как тверда она в страданиях, которые переносила с какой-то экзальтированной радостью, начал по-особому привязываться к ней. Но он боялся показаться неразумным, признавшись ей в этом, и их взаимная симпатия, тщательно скрываемая, вся переносилась на «детей» — Лориану и Марио.
Мадам Пиньу вознаградили по-дружески, так же как и ее верную служанку. Харчевня «Жео-Руж» уцелела от пожара, потому что враги поспешили отступить.
Известия от господина де Бевра приходили все реже и реже, отчего Лориана очень страдала. Именно в это время ларошельцы и примкнувшие к ним сеньоры сделались корсарами в Океане, и задумали дерзкий план: занять устье Луары и Жиронду, и обложить выкупом всю торговлю. Де Бевр принял решение последовать за Субизом в эту опасную экспедицию.
В эти тяжелые минуты никто не мог утешить Лориану так нежно, так изобретательно и так настойчиво, как Марио. Его любящее сердце и тонкий ум находили слова ободрения, и Лориана улыбалась сквозь слезы. Когда никто не мог развеять ее мрачные мысли, она не могла удержаться от того, чтобы не позвать Марио.
Тогда она говорила Мерседес:
— Я не знаю, какой светоч вложил Господь в душу этого ребенка, но одно лишь его слово утешает меня лучше, чем речи взрослых. «Но ведь это ребенок, — добавляла она про себя, — и я еще не в том возрасте, чтобы любить его по-матерински. Но я не знаю, почему так получается, однако не могу и помыслить о том, что когда-нибудь я не буду жить рядом с ним».
В начале апреля 1622 года были получены хорошие известия.
Де Бевру пришла в голову счастливая мысль не следовать за Субизом, которого постигли «тяжелые превратности судьбы» на острове Рие, когда он выступил против самого короля. Де Бевр удовольствовался тем, что отправился пиратствовать у берегов Гаскони, по его собственным словам, и с выгодой, и безопасно.
Однако события на острове Рие тем не менее тяжело отразились на Лориане и ее друзьях из Брианта.
Принц Конде надеялся на то, что король последует его совету и бросится в опасную авантюру.
Король не преминул это сделать; храбрость была единственным достоинством, которое он унаследовал от отца. Но Конде не повезло: ни одна вражеская пуля не задела короля, его конь прошел по берегу в час отлива, не угодив в зыбучие пески, и Его Величество храбро сражался с гугенотами, не испытав ни поражений, ни ранений.
Более того, продолжая с пылом сражаться, Людовик XIII, прислушавшись к добрым советам своей матери, которая в свою очередь следовала добрым советам Ришелье, не противился идеям о примирении и о переговорах, которые положили бы конец гражданской войне.
Принц, мечтавший перепутать все карты, был огорчен и раздражен, он отвечал на письма от своих губернаторов в Берра посланиями медоточивыми, но исполненными желчи.
Он приказал, кроме прочего, подвергнуть репрессиям гугенотов в своей провинции, хотя они, в общем, вели себя очень спокойно, арестовать имущество господина де Бевра, если тог через три дня после опубликования указа не появится в Берра.
В три дня господину де Бевру, тогда находившемуся и Монпелье, было бы нелегко явиться в свои владения. В то время лишь для того, чтобы сообщить ему о принятых против него мерах, понадобилось бы в два раза больше времени.
Наместник и мэр Буржа господин Бье, который всю жизнь имел привычку держать сторону того, кто сильней, и который в молодости был ярым сторонником Лиги, решил проявить рвение и издал декрет, гласящий, что господин де Бевр не появился в назначенное время, чтобы отчитаться за свое отсутствие, и поэтому его дочь, мадам де Бевр де ла Мотт де Сейи и так далее, должна покинуть свой замок и последовать в один из монастырей в Бурже, дабы там получить наставления в государственной религии.
Глава шестьдесят первая
Был прекрасный весенний вечер. Марио и Лориана бегали по лугу перед замком и смеялись так заливисто и звонко, что им мог бы позавидовать соловей, как вдруг они увидели подбегавшую к ним испуганную Мерседес.
— Пойдемте скорей, дорогая моя госпожа, — проговорила Мерседес, обнимая молодую девушку, — попробуем бежать. Клянусь, они схватят вас только после того, как убьют меня.
— А как же я? — воскликнул Марио, подбирая с земли маленькую шпагу, брошенную во время игры. — Что случилось, Мерседес?
Времени на объяснения уже не было. Мерседес знала, что вход охраняют солдаты магистрата. Она хотела провести Лориану в замок, спрятав ее под своим плащом, а потом бежать, воспользовавшись подземным ходом, но Марио стал возражать, заметив, что калитка тоже охраняется. Пока они спорили, маркиз также находился в затруднении, людям из магистрата, которые в вежливой форме сообщили ему о своих полномочиях, он сказал, что мадам де Бевр поехала на прогулку верхом вместе с его сыном. Чтобы рассеять возникшие подозрения, от него потребовали дать честное слово. Однако маркиз не хотел давать ложную клятву, тем самым подтверждая подозрения, и после многочисленных извинений со стороны солдат был взят под охрану вход и произведен тщательный обыск в доме.
Гвардия магистрата Ла Шартра не была настолько велика и хорошо вооружена, чтобы можно было послать в Бриант большой отряд.
Солдаты и офицеры подчинялись приказам принца, которого боялись и в городе, и во всей стране. Однако они неохотно выполняли приказ и радовались тому, что их визит не очень рассердил доброго господина Буа-Доре.
Они исполнили то, что было предписано, но случись недовольство или небольшое сопротивление со стороны Буа-Доре — сразу же сбежали бы без всякого сожаления.
Маркиз понимал все это, а Аристандр уже в нетерпении сжимал кулаки, ожидая лишь сигнала, чтобы обрушиться на господ гвардейцев. Но что-то подсказывало Буа-Доре, что дело серьезное и не ограничится трепкой, устроенной каретником передовому отряду.
Имя мадам де Бевр было так скомпрометировано, что защита ее интересов воспринималась, как бунт против королевской власти, и двери, взятые под охрану «именем короля», были меньшим злом, чем появление на глазах патриотично настроенных владельцев соседних замков целой армии.
Несмотря на то, что Буа-Доре имел характер античного воина, а в душе был непоколебимым протестантом, он со времен падения Валуа считал королевскую власть воплощением Франции, и теперь, когда последние усилия реформации, преследуя совсем другие цели, тем не менее неуклонно обрекали страну на все большую зависимость от внешнего врага, Буа-Доре проникся подлинным национальным чувством.
Но, с другой стороны, ничто не могло заставить его бросить в беде дочь, своего друга.
Он знал о преследованиях, которым подвергаются в монастырях дети из протестантских семей, и догадывался о том, что Лориана своим энергичным сопротивлением лишь усугубляла бы эти преследования.
Маркиз понимал, что для спасения Лорианы необходима была какая-то хитрая уловка, и он незаметно для других поглядывал на Адамаса, призывая его проявить свою поистине гениальную изобретательность и на этот раз.
Адамас ходил по комнате, любезничал с гвардейцами, а сам перебирал варианты возможного спасения их любимицы. То он предполагал затопить внутренний двор, подняв с этой стороны щиты в пруду, то хотел поджечь дом с помощью нескольких вязанок дров, сваленных в сарае, правда, потом пришлось бы несколько подпалить себе бороду, гася пожар после того, как непрошенные гости будут изгнаны. Так он терзался в тревоге, как вдруг увидел спокойную и гордую Лориану, которая шла к нему навстречу, держа за руку бледного и задумчивого Марио. За ними следовала в слезах Мерседес. Четверо полицейских весьма почтительно сопровождали их.
Вот, что произошло. Лориана потребовала, чтобы ей объяснили, в чем дело. Она поняла, что любое сопротивление, направленное на то, чтобы спасти ее, навлечет на друзей обвинение в измене. Она прекрасно знала, что ее отец поставил на карту свою жизнь, и, увидев, что он уехал, она поняла, что рано или поздно и ее свобода окажется под угрозой. Она никому не говорила об этом ни слова, однако была готова все вынести, лишь бы не отказываться от своих убеждений.
Напрасно Марио и Мерседес страстно умоляли ее молчать, она, повысив голос, объявила, что желает сдаться, и поклялась это сделать. Когда гвардейцы, явившиеся за ней, направились к лугу, она уже шла прямо к ним.
Они не сразу решились задержать ее, она держалась так уверенно, что они засомневались, Лориана ли это.
Но она назвалась и сказала:
— Не стоит применять силу, господа, я отдаюсь в ваши руки добровольно. Позвольте мне попрощаться с тем, кто дал мне приют, и я буду готова следовать за вами.
Маркиз был потрясен ее поступком и не мог не восхищаться благородством и великодушием девушки.
— Господин лейтенант, — проговорил он, — вы видите, что я вынужден вам подчиниться, потому что такова воля мадам. Но и вам ничего не остается другого, как оказать ей все необходимые почести. Разрешите мне самому в карете отвезти ее вместе с моим сыном и гувернанткой в Бурж. Я возьму с собой двух или трех слуг, а вы организуете эскорт так, как посчитаете нужным.
Справедливое требование было принято, и семье был дан час на сборы.
Лориана готовилась к отъезду с поразительным самообладанием. Марио, смущенный и подавленный, ни о чем не мог думать и предоставил себя заботам Адамаса.
Казалось, что у него нет сил даже поднять ногу, когда Адамас натягивал на него сапоги.
К нему подошел Люсилио с запиской. В ней по-итальянски было написано: «Будьте достойны ее мужества».
— О да, — воскликнул Марио, обнимая друга, — я понимаю, что сделала она, и сделаю все, что возможно. Но не кажется ли вам, что отец попытается ее спасти?
— Если будет хоть какая-нибудь возможность, — сказал Адамас, — не сомневайтесь в этом. Адамас не оставит вас в беде. Бог милостив, он поможет. Наш господин подчинился, но он сохраняет надежду.
Маркиз распорядился, чтобы Адамас и Мерседес ехали со всеми в карете. Клиндор взобрался на место рядом с Аристандром. А также уговорились, что Люсилио доберется до Буржа один и незаметно.
— Сударь! — обратился Адамас к маркизу, как только они проехали Ла Шартр, — я нашел!
— Что ты нашел, мой друг?
— Я нашел выход! Когда мы будем в Эталье, мы попросим ненадолго остановиться у мадам Пиньу. Ее крестнице как раз столько же лет, сколько мадам Лориане. Ее то мы и возьмем с собой вместо мадам, попросив девушек обменяться платьями.
— Но вдруг крестницы там не окажется в нужное время?
— Если ее там не окажется, — вмешался Марио, поддерживая проект Адамаса, — я сам надену юбку, шарф и шляпу Лорианы, мы скажем, что я решил остаться у мадам Пиньу, а вместо меня на постоялом дворе останется Лориана, оттуда ей будет легко добраться до Гийома или до господина Робена, когда мы уедем.
— Дети мои, — сказал маркиз, — делайте то, что считаете нужным, я не очень хотел бы оказаться в положении человека, на слово которого нельзя положиться. Когда все откроется, от меня потребуют объяснений. Придумайте какой-нибудь другой способ и говорите тише, чтобы я вас не слышал.
— Вы забыли о том, что требуется еще и мое согласие, — заговорила Лориана. — Не надо больше ничего придумывать, Адамас, Марио, оставайся на своем месте. Я поклялась перед Богом покорно принять свою судьбу.
Лориана сдержала свое слово: она отказалась выйти из кареты на постоялом дворе «Жео-Руж», хотя план с переодеванием давал реальный шанс спастись.
Марио надеялся на то, что по дороге она передумает и согласится на какое-либо другое подобное предложение, но убедить ее в том, что от побега репутация маркиза не пострадает, так никому и не удалось.
— Нет, нет, — неизменно повторяла она, — никто не поверит, что маркиз был против. И кто знает, мой бедный Марио, не возникнет ли у них желание задержать тебя до тех пор, пока меня не разыщут? Что касается Адамаса, я уверена, что он попадет в тюрьму. Именно этого я не хочу и поэтому ни за что не соглашусь на побег, а если вы все же попытаетесь его устроить, я подниму такой шум, что придется меня снова арестовать.
Лориана осталась твердой в своем решении. Пришлось расстаться с мыслью о том, что удастся вызволить ее из плена. По приезде в Бурж все были подавлены и расстроены еще более, чем при отъезде из Брианта.
Приближался конец испытаниям, и он оказался вполне благоприятным.
Наместник принца, господин Бие, который рассчитывал на то, что маркиз окажет сопротивление, был очень удивлен появлением Буа-Доре и Лорианы и оказал им почести в ответ на благородство, с которым она себя вела.
Господину Бие пришлось смягчиться, изобразить сожаление по поводу жестких распоряжений принца и согласиться с тем, чтобы Лориана была препровождена в женский Благовещенский монастырь, основательницей которого была тетка Шарлотты д'Альбре, знаменитой бабки Лорианы, Жанна Французская. Там у Лорианы были подруги, и ей разрешили оставить при себе для услуг Мерседес.
Монастырь был из тех, куда еще не успело проникнуть неукротимое влияние иезуитов. Монахини, жившие замкнутой, созерцательной жизнью, не требовали от Лорианы излишнего религиозного рвения.
Маркиз имел с настоятельницей беседу, во время которой ему удалось расположить ее к юной затворнице и получить разрешение навещать ее в любой день вместе с Марио, встречаясь в приемной для посетителей в присутствии монахини.
Несмотря на эти надежды, Марио почувствовал себя несчастным, когда тяжелая дверь монастыря захлопнулась за его дорогой подругой. Ему казалось, что она не выйдет оттуда никогда, волновался он и за Мерседес, которая хотя и улыбалась при прощании, но совсем потеряла голову, как только Марио ушел и она поняла, что ей придется впервые в жизни провести ночь не в одном доме с мальчиком.
Ни она, ни Лориана не заснули в эту ночь, они говорили и плакали до утра, поскольку уже не боялись огорчить своими слезами Марио.
— Моя Мерседес, — говорила Лориана, обнимая ее, — я знаю, какую жертву ты принесла, расставшись с ребенком, которого ты любишь, чтобы утешить меня.
— Дочь моя, — ответила Мерседес, — признаюсь, утешая тебя, я утешаю и его, потому что Марио, думаю, любит тебя еще больше, чем меня. Не отрицай: я в этом убедилась, но я вовсе не испытываю ревности, ибо чувствую, что в тебе — счастье его жизни.
Никакими способами нельзя было переубедить Мерседес, что такому браку не бывать, и Лориана не осмеливалась ей возразить, особенно в такой момент.
Буа-Доре сомневался в указаниях принца, данных по поводу Лорианы.
Принц был человеком коварным, скупым и неблагодарным, но жестоким он не был, и его отвращение к женщинам не доходило до травли.
Впрочем, маркизу показалось, что, когда он расспрашивал посланца принца о якобы существующих тайных приказах насчет Лорианы, тот как-то заколебался. Маркиз надеялся с помощью убеждений и уговоров заставить отменить приказ об аресте.
Он послал нарочного в Пуату, чтобы попытаться найти господина де Бевра и уговорить его вернуться как можно скорей. Сам маркиз расположился в Бурже и для того, чтобы выполнить свой замысел по поводу господина Бие, и для того, чтобы не терять из виду свою дорогую воспитанницу.
Нарочный не нашел господина де Бевра, говорили, что тот опять отправился в море, неизвестно к каким берегам.
Прошло два месяца, а вестей от него так и не получили. Лориана оплакивала его. Ее не могли обмануть те сказки, что рассказывал маркиз, пытавшийся убедить ее, что какие-то люди где-то видели господина де Бевра и тот себя чувствует хорошо. Маркиз делал вид, что его смущает присутствие монахини и поэтому он не осмеливается в доказательство передать письма.
Лориана раз и навсегда решила оставаться спокойной, чтобы не волновать Марио, который постоянно тревожно смотрел на нее.
Глава шестьдесят вторая
Прошло лето 1626 года, а маркиз так и не смог ни просьбами, ни угрозами добиться освобождения пленницы под залог.
Господин Бие опасался, что сделал глупость, дав распоряжение подвергнуть заключению мадам де Бевр.
Долгое отсутствие и полное молчание отца очень ухудшали обстановку. Совершенно бесполезно было отрицать причины такого поведения господина де Бевра. Никто из них уже не сомневался, и на настойчивые упреки маркиза господин де Бие ответил с горькой улыбкой:
— Но почему этот дворянин не явится за дочерью? Она ему тотчас будет возвращена, равно как и управление его владениями.
Люсилио устроился в Бурже, в пригороде Сент-Амбруаз, под чужим именем. Он виделся только с Марио, который приходил пешком без сопровождения, чтобы брать уроки.
Мерседес, которая могла покидать монастырь, приходила готовить для Люсилио, иначе философ, поглощенный своими трудами, забыл бы о еде.
Господин Пулен был еще в Бурже и занимался тем, что добивался разрешения стать аббатом, и вот однажды он нос к носу столкнулся с Люсилио в маленьком садике, примыкавшем к его скромному жилищу. Встретившись, будущий аббат и Люсилио поняли, что они проживают под одной крышей. Люсилио опасался доносов и преследований, но ничего подобного не случилось.
Господину Пулену понравилось его общество, и он с большой заинтересованностью отнесся к Марио, приходившему брать уроки.
Господин Пулен был умен и смог пересмотреть свою точку зрения, поняв, сколь мало он мог положиться на принца де Конде. Ибо архиепископ Буржа отказывался назначать священника аббатом без разрешения принца, а принц, казалось, вовсе не спешил давать согласие.
Во время этого подобия изгнания в Бурже существование наших героев было довольно спокойным. Они даже чувствовали себя в большей безопасности, чем в последние дни в Брианте. Но маркиз сильно скучал, вынужденный расстаться со своими привычками к роскоши, к благосостоянию и активной жизни. Он вел себя как человек маленький и незаметный, чтобы не привлекать внимание к Лориане в городе, где еще жив был дух Лиги и где короткое, но бурное владычество протестантов оставило плохие воспоминания.
Марио, чтобы развлечь маркиза, пытался выглядеть веселым, но несчастный ребенок уже не был так весел. Он стал бледен и задумчив, однако очень усердно занимался учебой, ему доставляло удовольствие рассказывать Лориане обо всем, что они прошли и выучили с мэтром Жовленом.
Так они убивали время при своих каждодневных встречах, ибо нет худшего принуждения, чем невозможность излить душу перед человеком, которого любишь, в присутствии свидетелей.
Иезуиты, которые уже проникали везде, пытались убедить маркиза доверить им воспитание очаровательного ребенка. Маркиз мягко отклонял их просьбы, не желая откровенно рвать с ними, и оставлял им подобие надежды, но его ухищрения не обманывали иезуитов. Их стали беспокоить таинственные прогулки Марио в пригород. Они выследили его, и тогда их заинтересовал мэтр Жовлсн.
Все устроил господин Пулен, заявив, что знает Жовлена как верного сына церкви и, кроме того, сам присутствует на его занятиях с молодым дворянином.
Господин Пулен скорее боялся, чем любил иезуитов, но он чувствовал достаточно сил, чтобы водить их за нос.
Наконец, ход войны ускорился; пришло известие о подписании мира в Монпелье, и строились прожекты большого праздника в честь господина принца, который должен был состояться в его добром городе Бурже. Но пришлось отказаться от этого: принц прибыл неожиданно и в дурном расположении духа, чувствуя, что свою роль он уже сыграл.
Король провел его: во-первых, он так и не захотел умереть, а во-вторых, заключил мир за его спиной. Кроме того, королева-мать вновь вошла в доверие. Ришелье получил кардинальскую шапочку и, несмотря на все усилия принца, потихоньку подбирался к власти.
Конде ограничился тем, что проехал через провинцию и через город. В астрологию он больше не верил и от разочарования стал набожен. Он дал обет в церкви Нотр-Дам-де-Лорет.
Принц отправился в Италию, совершенно не интересуясь делами в собственной провинции. Господин Бие, чувствуя, что гугенотам собираются возвратить их права на свободу совести и что ему не стоит упорствовать с освобождением Лорианы, сам отправился с маркизом за ней в монастырь.
Монахини, полюбив ее, с сожалением расстались с ней.
В последние пять месяцев Лориана сильно страдала душевно, даже побледнела и похудела; она, не жалуясь, выполняла все религиозные обряды с твердой и внушающей уважение выдержкой, от всей души она обращалась к Господу у католических алтарей, впрочем, воздерживаясь от любых замечаний, которые могли бы задеть святых сестер Благовещенского монастыря. Но когда ей предлагали обратиться в католичество, она кивала головой, словно говоря «я слышу», и упрямо замолкала, не отвечая на обращенные к ней вопросы. Зная, что над отцом ее, может быть, навис топор палача, она не могла требовать для себя свободы вероисповедания. Она замолкала и переносила навязчивые расспросы со стоицизмом страдальца, у которого со связаны руки, а он, слыша, как мухи кружатся вокруг его головы, но не может отмахнуться от них и не хочет даже моргнуть, чтобы их отогнать.
В каждом случае она была подчеркнуто уважительна с сестрами и успокаивала их своей очаровательной предупредительностью. К счастью, среди монахинь царил действительно христианский дух. Они приносили обеты, возносили молитвы за ее обращение и оставляли ее в покое. Это было чудом, где-нибудь в другом месте Лориану, отчаявшись дождаться обращения, могли бы обвинить в колдовстве и обречь на костер: таков был последний довод, если гонимые не соглашались добровольно обвинить себя в ереси.
Наконец, 30 ноября наши герои, исполненные радости и надежды, возвратились в замок Бриант.
Вскоре получили хорошие новости и от господина де Бевра, что он вот-вот прибудет, и он действительно прибыл. Ему устроили пышную встречу, а потом пришел момент расставания.
Приличия требовали, чтобы Лориана вернулась в свой замок, а толстому де Бевру было тесновато в маленьком поместье Бриант. Лориане не подобало показывать отцу, что она испытывает сожаление, возвращаясь жить под отчий кров. Да она ничего такого и не испытывала, так она была счастлива вновь обрести отца! Однако не успела она вернуться в печальный замок Ла Мотт, как внезапно ею против воли овладела меланхолия.
Прекрасные господа из Буа-Доре проводили ее и по просьбе ее отца должны были провести с ними два-три дня.
Мерседес и Жовлен тоже приехали. Стало быть, то чувство, что охватило ее, вовсе не было ощущением одиночества: ведь все могли и должны были видеться каждый день.
Этот смутный испуг, смущавший Лориану, был ни чем иным, как подобием разочарования, в котором она и сама себе не отдавала отчета. Она всегда хотела считать своего отца героем; при мысли о том, каким опасностям он подвергался, она так тревожилась за него в монастыре, что стала относиться к отцу восторженно. Этот восторг сильно преуменыиился с тех пор, как отец вернулся. Во-первых, де Бевр, которого ожидали увидеть худым и изможденным, вернулся еще красней и еще толще, чем раньше, и жаловался, что растолстел от бездействия. И умом он тоже как-то огрубел. Его шумная веселость стала грубоватой. Он изображал из себя моряка, курил табак, ругался более, чем следовало, и уже не облекал свой скептицизм в изящные афоризмы Монтеня. Иногда он напускал на себя загадочное и лукавое самодовольство, что являлось большой неучтивостью по отношению к своим друзьям.
Разгадка своего странного поведения была дана им накануне их отъезда из замка Ла-Мотт во время беседы, которую мы должны изложить читателю.
Глава шестьдесят третья
Ранним утром все отправились на охоту, так начался день, затем был обед, а вечером обитатели замка собрались в большом зале у камина, и тут Гийом д'Арс, который после получения известия о мире очень усердно ухаживал за Лорианой, с радостным оживлением попросил слова.
Все оставили игры и беседы, а Гийом подошел к Лориане и еще раз попросил позволения говорить, она, конечно же, разрешила, не догадываясь, о чем пойдет речь. Гийом торжественно произнес:
— Дамы (в зале была и Мерседес) и господа, друзья, родные и знакомые, прошу вас выслушать мою историю. Вы видите перед собой молодого человека, видом не хуже и не лучше прочих, не очень образованного, мэтр Жовлен не даст соврать, довольно богатого и из хорошей семьи, это, конечно, не добродетели, довольно храброго, и это не хвастовство, наконец… Может, я подожду, может, кто-нибудь соблаговолит похвалить меня, потому что, как вы видите, у меня не очень-то получается хвалить самого себя.
— Ну конечно! — воскликнул маркиз со своей обычной доброжелательностью. — Вы, мой кузен, гораздо лучше, чем ваши слова, вы — цвет дворянства нашей провинции, образец рыцарства, как Альсидон, «столь уважаемый теми, кто вас знает, что нет ничего, чего бы вы по заслугам не достигли».
— Оставьте ваши глупости из «Астреи», — сказал господин де Бевр. — К чему вы это говорите, Гийом? И почему вы вдруг вымаливаете наши похвалы, когда никто из присутствующих и не думает говорить о вас дурно?
— Дело в том, мессир, что я намерен обратиться к вам с серьезным прошением и мне хотелось бы, чтобы все те, кому вы особенно доверяете, выступили перед вами как мои защитники.
— Мы готовы засвидетельствовать вашу порядочность, храбрость, воспитанность и дружелюбие, — сказала Лориана. А теперь, говорите, ибо здесь две женщины, а женщины любопытны.
Лориана еще не закончила фразу, а уже покраснела, сожалея об этих словах. А увидев восторженный и несколько самодовольный взгляд Гийома, она вдруг поняла, о чем пойдет речь.
Действительно, воодушевленный словами Лорианы гораздо более, чем она того желала, Гийом попросил ее руки, ссылаясь на поддержку присутствующих и смешивая в своем объяснении преувеличение, шутку и чувства в манере, которая в духе того времени могла считаться удачной и подходящей.
Это заявление было довольно длинным и путаным, чего и требовал обычай, но вместе с тем оставалось искренним, пылким и сердечным по отношению ко всем присутствующим.
Когда все прояснилось, на лицах слушателей появились весьма различные выражения. Господин де Буа-Доре почувствовал замешательство и глубокую досаду, впрочем, он прекрасно сдержал их. Лориана опустила глаза, она была скорее грустна, чем взволнована. Мерседес с тревогой вглядывалась в широко распахнутые глаза Марио. Заметив это, Марио отвернулся к стене, чтобы никто не видел его лица. Люсилио внимательно смотрел на Лориану.
Один господин де Бевр остался спокоен и просто размышлял. Он шевелил губами, казалось, целиком погрузившись в какой-то неуловимый подсчет.
Все хранили молчание, и Гийом почувствовал себя несколько смущенным.
Но это молчание можно было рассматривать и как поддержку, и как неодобрение. Гийом опустился перед Лорианой на колено, словно ожидая ее ответа в позе абсолютного смирения.
— Встаньте, мессир Гийом, — обратилась к нему юная дама, и сама поднялась, чтобы заставить его поскорее встать. — Вы нас застали врасплох, так как эта мысль не приходила нам в голову, и мы не можем дать вам ответ столь же быстро, сколь вы сделали предложение.
— Я сделал его не быстро, — ответил Гийом. — Вот уже два или три года, как я задумал это. Но ваш юный возраст и ваш траур внушали мне опасения, я боялся заговорить слишком рано.
— Позвольте мне в этом усомниться, — сказала Лориана, знавшая по слухам, что Гийом всегда вел веселую жизнь и еще недавно вздыхал по нескольким дамам, на которых вполне мог бы жениться.
— Дочь моя, — сказал наконец господин де Бевр, — позвольте мне сказать, что Гийом не лжет. Я знаю, что уже давно он связывает все мысли о браке с вами. Но, на мой взгляд, он немного опоздал со своим предложением.
— Немного опоздал? — воскликнул раздосадованный Гийом. — У вас есть другие планы?
— Нет, нет, — рассмеялся де Бевр, — моя дочь никому не обещана и ни с кем не обручена, разве что нашему молодому соседу, маркизу де Буа-Доре, или вот этому серьезному юноше, второму господину де Буа-Доре, который там в углу спит, пока тут просят руки его «суженой».
Марио, смущенный и обиженный, не повернулся. Все решили, что он спит, одна Мерседес видела, что он плачет. Тогда маркиз встал и ответил несколько оживленней, чем обычно:
— Дорогой сосед, ручаюсь, ваши насмешки — упрек нам за молчание, и мы прервем его. Вы меня простите, Гийом, ибо пока небо простирается над нами, я буду считать вас лучшим и честнейшим из людей, достойным быть счастливым супругом нашей Лорианы. Но, не желая наносить вам ущерб в ее глазах, я заявляю, что мое предложение предшествовало вашему и что мне подавали надежду как она, так и ее отец, так что я рассчитывал, что меня выслушают первым.
— Вас, кузен? — воскликнул изумленный Гийом.
— Да, меня, — ответил Буа-Доре, — как дядю, опекуна и приемного отца присутствующего здесь Марио де Буа-Доре.
— Присутствующего здесь? — рассмеялся господин де Бевр. — Да он спит сном невинности.
— Я не сплю! — закричал Марио, — бросившись к отцу и открыв лицо, распухшее от рыданий, которое он прикрывал ладонями.
— Ну конечно! — сказал господин де Бевр, — и он нам это говорит, несмотря на заплывшие от сна глаза.
— Нет, — продолжал маркиз, вглядываясь в лицо ребенка, — глаза у него обожжены слезами.
Лориана вздрогнула: горе Марио напомнило ей о сцене в лабиринте, и вновь у нее в сердце зашевелились страхи, о которых она уже забыла. Слезы мальчика задели ее, а взгляд Мерседес уколол ее, словно упрек.
Люсилио, казалось, также разделял эту тревогу. Лориана почувствовала, что надолго, может, и навсегда, счастье этой семьи оказалось у нее в руках. Она погрустнела еще больше, увидев, что маркиз тоже в слезах, тогда она с одинаковой нежностью поцеловала и старика, и мальчика, умоляя их проявить рассудительность и не волноваться о будущем, о котором она и сама пока не думала.
Де Бевр пожал плечами.
— Вы оба очень смешны, — сказал он, — а вы, Буа-Доре, трижды безумны, по-моему, забивая голову этого бедного мальчика вашими глупыми романами. Сами видите, куда ведет такое баловство. Он считает, что он уже мужчина, и хочет жениться, а в его возрасте ему розга нужна.
Эти жестокие слова окончательно сразили Марио и серьезно рассердили маркиза.
— Дорогой сосед, — сказал он де Бевру, — по-моему, вы излишне жестоки. Розги, на мой взгляд, не нужны в воспитании ребенка, доказавшего, что у него сердце отважного мужчины. Я знаю, что он сможет жениться лишь через несколько лет, но я вспоминаю, что наша Лориана не хотела выходить замуж, прежде чем пройдет семь лет, начиная с того самого дня, когда в этой самой комнате в прошлом году она вручила мне залог…
— Не будем больше говорить об этом ужасном залоге! — воскликнула Лориана.
— Напротив, будем и поблагодарим Господа, — ответил маркиз, — потому что с помощью этого кинжала я нашел сына моего брата. Ваши благословенные руки, Лориана, принесли счастье в мой дом, и простите, если я был столь безумен, что надеялся на то, что вы и сами войдете в него. Чем счастливей человек, тем больше счастья надо ему. Что касается вас, друг мой де Бевр, вы не будете отрицать, что поддержали мою идею. Об этом свидетельствуют ваши письма, вы в них писали. «Если Лориана согласится обождать и не будет стремиться к браку, прежде чем Марио не достигнет девятнадцати-двадцати лет, клянусь, меня бы это вполне устроило».
— А я и не отрицаю, — ответил де Бевр, — но я был бы глуп, если бы не рассматривал вопрос о браке моей дочери с двух точек зрения: и с точки зрения будущего, и с точки зрения настоящего. Будущее — вещь ненадежная. Кто поручится, что через шесть лет мы еще будем в этом мире? А потом, когда я это писал вам, дорогой сосед, положение мое было не из лучших, а теперь, я это утверждаю безоговорочно, оно улучшилось гораздо более, чем вы можете подумать.
Итак, послушайте меня, маркиз, и вы, господин д'Арс, и особенно вы, дочь моя. Я рассчитываю, что вы сохраните тайну, которую я доверяю вам как людям честным и осторожным. В последней кампании я удвоил свое состояние, это была моя основная цель, и я ее вполне достиг, служа своему делу на свой страх и риск. Я, как мог, сражался с недобрыми людьми и способствовал, как и многие другие, установлению мира, данного нам королем.
Поэтому, господин д'Арс, вы оказываете мне честь, предлагая породниться, но это касается лишь вашего имени и ваших заслуг, потому что я теперь столь же богат, как и вы.
А вы, друг мой Сильвен, если вы по-прежнему дорожите моей дружбой, знайте, что ваши сокровища меня не ослепляют, так как у меня есть мое сокровище: «три корабля на море», и все «полны золота, серебра и товаров», как поется в народной песне.
Итак, мои прекрасные и дорогие гости, вы дадите мне время подумать и ответить вам, моя дочь тоже подумает и, когда придет время, вынесет окончательный приговор.
После этих слов ничего не оставалось, как распрощаться и пойти спать.
Гийом как человек светский с улыбкой отнесся к притязаниям Марио, но не выказал ни озлобления, ни насмешки, когда Марио поднялся к нему, чтобы потребовать удовлетворения, а Гийом слишком любил мальчика, чтобы обидеть его.
Гийом удалился, питая вполне оправданную надежду одержать верх над противником, который ему и до плеча не дорос.
Марио плохо спал и утром ел без аппетита. Отец увез его, опасаясь, что он заболеет. Маркиз всю дорогу ругал себя за то, что он позволил себе и другим играть с будущим детей, да еще в их присутствии. Но эти запоздалые угрызения совести не исправили маркиза. Его романтический и странный склад, во многом схожий со складом ребенка, не мог воспринять здравых понятий времени. Как себя он считал все еще молодым, так полагал, что и Марио достаточно созрел для того типа любви, холодной и говорливой, целомудренной и манерной, который был вбит ему в голову чтением «Астреи».
Марио ничего не знал о тонких оттенках этого слова. Он чувствовал лишь мучения в сердце, глубокие и долгие.
Он говорил: «Я люблю Лориану», но, если бы у него спросили, какой любовью, он бы ответил, что любовь только одна. Чистый, как ангел, он жил истинным идеалом жизни, который заключался в том, чтобы любить ради того, чтобы любить.
Как только де Бевр и Лориана остались одни, он стал уговаривать ее дать согласие д'Арсу.
— Я не хотел огорчать маркиза, высказав мое мнение, — сказал он, — но его мечта нелепа. И я думаю, что вы не захотите еще шесть лет ходить в черном вдовьем чепце, дожидаясь, пока у этого мальчишки выпадут молочные зубы.
— Я никаких обещаний не давала, — ответила Лориана, которая становилась все грустнее и грустнее, — но боюсь, что вы, не поставив меня в известность, дали обещание маркизу.
— Да я бы посмеялся над обещаниями, — продолжал де Бевр, — но я их и не давал. Тем хуже для этого безумца и его мальчишки, если они серьезно восприняли пустые слова: пусть один утешится деревянной лошадкой, а другой — новой перевязью, потому что оба они — настоящие дети.
— Дорогой отец, — сказала Лориана, — мне уже нельзя подшучивать над маркизом. Он был для меня больше, чем отец, он был мне и отцом, и матерью, и братом одновременно: так по-отечески, с нежностью и с милым весельем обращался он со мной! Марио, конечно, ребенок, но он все-таки не такой ребенок, как другие. Он нежен и тонок и внимателен к людям, как девушка; он храбр, как мужчина, потому что вы знаете, что он сделал, и, кроме того, для своего возраста он очень много знает. Он сможет нас обоих поучить!
— Ну конечно, дочь моя! — воскликнул де Бевр, хлопнув себя по животу, — вы совсем голову потеряли из-за этих прекрасных господ из Буа-Доре. И мне кажется, что я для вас не очень-то много значу. Вас очень заботит их огорчение и мало волнует мое согласие, раз вы не желаете меня слушать, когда я говорю вам о Гийоме д'Арсе.
— Гийом д'Арс — мой хороший друг, — ответила Лориана, — но как муж он для меня стар. Ему уже скоро тридцать, он хорошо знает мир и найдет меня слишком глупой или слишком уж дикаркой. До установления мира его предложение, может быть, и польстило бы мне, он тогда бы поддержал нас своим именем, когда мы были гонимы. Но теперь никакой его заслуги в этом нет: наши права признаны и наше спокойствие гарантировано. И тем более ему не следует настаивать на своем теперь, когда мы богаче его.
Тщетно пытался господин де Бевр заставить свою дочь изменить мнение. Его раздражало мнение дочери, так как в глубине души, если бы Гийом и Марио были одинакового возраста, он все равно предпочел бы Гийома. Зять, склонный к непритязательным и беззаботным радостям, любящий физические нагрузки, подходил ему гораздо лучше, чем зять, получивший великолепное образование и обладающий характером избранного.
Лориана старательно защищалась, однако, чтобы не огорчать отца, произносила: «Ваша воля будет и моей». Но, говоря так, преследовала еще одну цель — она рассчитывала на обещание, данное ей отцом, когда она овдовела: никогда не идти против ее собственных склонностей.
Де Бевр, разбогатев, стал более властным — ему очень хотелось поймать дочь на слове и заявить: «Такова моя воля». Но он был человек не злой, и Лориана была, пожалуй, его единственной привязанностью.
Он ограничивался тем, что без конца рассказывал ей о своих материальных интересах, чем очень огорчал и печалил ее, а она-то раньше считала, что, когда он отправился в последний гугенотский крестовый поход, его это перестало интересовать.
Она не сдалась, но согласилась, чтобы не обижать Гийома, дать ему очень осторожный отказ и до новых распоряжений принимать его визиты.
Глава шестьдесят четвертая
Прекрасные господа восемь дней не появлялись. Де Бевр не хотел отпускать дочь в Бриант, заявляя, что не следует поддерживать иллюзии. Они немного поспорили Лориана волновалась и плакала, пытаясь объяснить отцу.
— Из-за вас меня сочтут неблагодарной, — говорила она. — Обо мне там так заботились, теперь я должна поехать позаботиться о Марио. По крайней мере вы-то должны туда наведываться каждый день. Они решат, что вы их забыли теперь, когда мы в них не нуждаемся! Ах, если бы я была мальчиком! Я бы могла в любой час помчаться туда на лошади, я была бы приятелем и другому бедному ребенку, я могла бы дружить с ним, не думая об узах в будущем и не опасаясь упреков.
Наконец, Лориана убедила отца поехать в Бриант. Она увидела, что Марио неплохо справился с печалью и, казалось, вновь согласилсястать ребенком. Лориана шалила со своим невинным возлюбленным и смеялась.
Маркиз был несколько задет поведением господина де Бевра. Но они не могли держать зло друг на друга. И принялись беседовать, как будто бы ничего и не произошло.
— Не надо дуться, сосед, — сказал де Бевр Буа-Доре. — Ваши идеи насчет этих детей — пустые грезы. Видите, как невинно играют они вместе! Это знак того, что любовь у них не сладится. Подумайте, слишком молодой муж ненадолго привяжется к единственной женщине, а покинутая женщина и ревнива, и злобна. Кроме того, между этими детьми есть препятствие, о котором нам следовало бы подумать: один католик, а другая — протестантка.
— В этом нет препятствия, — ответил маркиз, — можно пожениться в любой церкви, а потом каждый обратится к той, которую предпочитает.
— Да, для вас, старого безбожника, это выходит хорошо, вы принадлежите к двум церквям, а, стало быть, ни к одной. Но для нас…
— Для вас, сосед? Не знаю, какого вы вероисповедования, но я-то крепко верю в Бога, а вы не очень…
— «Может быть! Кто знает?» — сказал Монтень. Но моя дочь верит, и вы не заставите ее уступить.
— А ей и не придется уступать. Здесь она была вольна молиться, как ей угодно. Марио и она произносили вечернюю молитву вместе и не думали ссориться. Впрочем, Марио вполне готов последовать моему примеру…
— To есть заявить, подобно вам, как во времена доброго короля: «Да здравствует Сюлли и да здравствует папа!»
— Да, и Лориана, поверьте мне, не будет упорствовать в своем кальвинизме.
Буа-Доре ошибался. Чем большим скептиком проявлял себя господин де Бевр, тем больше сердце Лорианы бескорыстно привязывалось к протестантской церкви. Де Бевр, который это знал, захотел воспользоваться случаем и создать определенное препятствие, для этого за обедом он начал разговор на эту тему. Лориана высказалась вежливо, но твердо.
Маркиз никогда не говорил о религии ни с ней, ни в ее присутствии. Дело в том, что он вообще никогда ни с кем об этом не говорил и считал полугалльских-полуязыческих богов «Астреи» вполне совместимыми с собственными смутными понятиями о Божестве. Он огорчился, увидев, как непреклонна Лориана, и, не удержавшись, сказал ей:
— Ах, злючка, если бы вы нас любили побольше, вы бы так не противились идее переменить веру.
Лориана сначала не поняла, для чего отец затеял разговор. Но упрек маркиза открыл ей глаза. Это был первый упрек, обращенный к ней, что ее очень огорчило. Но страх рассердить отца помешал ей ответить так, как советовало сердце. Она опустила голову, а на ресницах задрожали крупные слезинки.
Марио, который, казалось, был занят лишь приготовлением изысканного обеда для собачки Флореаль, заметил слезинки и неожиданно сказал серьезным, почти мужским тоном, который так контрастировал с его пустяковым детским занятием:
— Отец, мы огорчаем Лориану, не будем больше об этом. У нее своя голова, и она права. Что касается меня, я бы на ее месте поступил так же и не покинул бы моих единомышленников в беде.
— Хорошо сказано, дружок, — сказал де Бевр, удивившись разумному высказыванию Марио.
— И к тому же это значит, — добавил маркиз, — что мы не снизойдем до пустых споров. Мой сын уже сейчас обладает широкими и верными взглядами, и он, конечно, не будет выступать против убеждений Лорианы.
— Выступать против, конечно, нет, — заметил Марио, — но…
— Что «но»? — живо откликнулась Лориана. — Но ты и не присоединишься ко мне, даже во имя нашей дружбы?
— О, если бы дело было так! — воскликнул де Бевр, которому эта идея неожиданно пришла в голову. — Если бы это дитя, с таким именем и с таким состоянием, согласилось бы присоединиться к нашей вере, не отрицаю, может, я и посоветовал бы Лориане пока не снимать вдовий чепец.
— Да какое это имеет значение! — воскликнул маркиз. — Когда придет время…
— Нет, нет, отец! — необычайно твердо ответил Марио. — Такое время для меня никогда не наступит. Аббат Анжорран крестил меня в католическую веру, он воспитал меня в убеждении, что менять веру нельзя, и хотя он на смертном одре не взял с меня никакой клятвы, я не смогу оставить веру, в которой он меня воспитал. Мне кажется, это значило бы отречься от него. Лориана подала мне пример, и я последую ему, каждый из нас останется тем, что есть, и все будет хорошо. Это не помешает мне любить ее, а если она меня больше не любит, это неправильно, и она злая.
— Что вы на это скажете, дочь моя? — обратился де Бевр к Лориане. — Вам не кажется, что такой муженек, когда вас будут сжигать на костре, скажет: «Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать, такова воля Папы»?
Лориана и Марио повели себя как настоящие дети, какими они и были, то есть они смертельно поссорились. Лориана дулась, Марио не отступал и в конце концов воскликнул с пылом:
— Ты говоришь, Лориана, что унизишься, если переменишь веру. Значит, если я отрекусь, ты меня будешь презирать?
Лориана почувствовала, что это замечание справедливо, и замолчала, но она была задета за живое, словно маленькая женщина, возлюбленный которой предан ей с некоторыми оговорками, и ее взгляд говорил Марио: «Я думала, что меня любят сильней».
Когда она возвращалась вместе со своим отцом верхом, тот не преминул заметить:
— Ну что же, дочь моя, теперь вы видите, что Марио, этот очаровательный ребенок, столь же убежденный папист, как и его отец, который служил испанцам против нас? И когда-нибудь, пристыженный никчемностью своего старого дяди, Марио и с нами начнет всерьез воевать! Что скажете вы тогда, когда ваш муж окажется в одном лагере, а ваш отец в другом, обмениваясь выстрелами или затрещинами?
— Право, батюшка, — сказала Лориана, — вы разговариваете со мной так, словно я уже высказала желание остаться вдовой, а я никогда об этом не говорила. Кроме того, ведь и господин д'Арс вряд ли может ускользнуть от такой судьбы, какую вы предсказываете Марио. Разве он не католик и не ярый сторонник королевской власти?
— Господин д'Арс совершенно безволен, — заметил де Бевр, — и я ручаюсь, мы заставим его следовать нашим целям в любом случае. Даже люди похитрее его меняли веру, когда протестантская церковь упрочила свое положение.
— Если господин д'Арс совершенно безволен, тем хуже для него, — сказала Лориана. — Это не пристало мужчине, а уж он-то по крайней мере достиг возраста мужчины.
Лориана не ошибалась. Гийом был совершенно бесхарактерным, но он был красивый мужчина, приятный сосед, храбрый, как лев, и великодушный с друзьями.
В отношениях с крестьянами он был добр и покладист, и его грабили все, кому не лень, но обращался он с ними, как было принято у сеньоров того времени: он оставлял их коснеть в невежестве и нищете. Ему нравилось, что вассалы Лорианы, чисто одеты и хорошо накормлены, его забавляло, что некоторые из вассалов Буа-Доре даже упитаны, но когда ему говорили, что в Сен-Дени-де Туэ крестьяне мрут, как мухи, от эпидемий, что в Шассиньоле и в Маньи они уже забыли не только вкус мяса и вина, но и хлеба, что в Бренне едят траву, а в других провинциях, еще более бедных, крестьяне едят друг друга, он говорил: «Что же тут поделаешь? Все не могут быть счастливы».
И он не ломал над этим голову и не пытался искать средство помочь крестьянам. Ему и в голову не приходило жить в своих землях, как Буа-Доре, не отделяя свое благополучие от благополучия людей, от него зависящих. Как только ему представлялся случай, он несся то в Бурж, то в Париж, мечтал о хорошей партии, что сделало бы его жизнь еще приятней, с женщиной, которую он мог сделать совершенно счастливой, при условии, конечно, что эта женщина не окажется ни чувствительней, ни умней его самого.
Он был человеком своего класса и своего времени, и никому не приходило в голову осуждать его.
Напротив, Лориану считали экзальтированной святошей-гугеноткой, а Буа-Доре — старым безумцем. Сама Лориана не судила Гийома так строго, как мы, но она чувствовала, что в нем не хватает основательности и характера, и ощущала рядом с ним неодолимую скуку. Тогда, как прекрасные грезы, у нее возникали воспоминания о днях, проведенных в Брианте. Она с удовольствием выразилась бы, использовав латинскую поговорку: «И я был в Аркадии».
Однако она не допускала и мысли о браке с Марио. В самых сокровенных мечтах она видела себя его любимой сестрой, которая гордится им и соперничает с ним. Но никто из претендентов на ее руку ей не нравился, хотя их было и немало, особенно с тех пор, как ее отец купил новые земли. Против своей воли она сравнивала своего отца, такого положительного и такого расчетливого, часто критиковавшего ее за благотворительность, с добрым господином Сильвеном, который сам жил и давал возможность жить другим. От этого разум и расчет стали ей противны, и, по словам господина де Бевра и родственников, как католиков, так и протестантов, она превратилась в самую мечтательную и самую романтичную девушку в мире. В семье посмеивались над ней и над ее смешной, по их словам, любовью к ребенку, которого только что от груди отняли.
Из-за того, что все вокруг твердили, будто бы она влюблена в Марио, Лориана неосознанно пришла к тому, что стала считать такую любовь возможной. Когда Марио исполнилось пятнадцать, она уже вполне свыклась с этой мыслью.
Но вскоре убежденность Лорианы поколебалась, потому что Марио в пятнадцать лет, казалось, еще не различал любовь и дружбу. Его манеры в обращении с ней были всегда учтивы, но одновременно в речах он был весьма свободен, как и подобает хорошо воспитанному брату. Он не сказал ни одного слова, которое позволило бы предположить, что ему известна страсть. Лишь иногда он заливался краской, когда Лориана неожиданно появлялась там, где он ее не ждал, и бледнел, когда в его присутствии обсуждали какого-то нового претендента на ее руку. По крайней мере замечавший это Адамас делился своими наблюдениями с хозяином, а Мерседес — с Люсилио. Юноша рос и много читал.
Мы мало можем рассказать о том времени, когда Марио было пятнадцать, а Лориане девятнадцать. Их жизнь, привязанная к дому, и их спокойные отношения несли на себе отпечаток счастливого однообразия, так что ничего об этом не сохранилось в наших заметках о Брианте и Ла Мотте-Сейи.
Есть лишь упоминание о женитьбе Гийома д'Арса на богатой наследнице из Дофина. Свадьбу справляли в Берра, и, видимо, отказ Лорианы вовсе не обидел доброго Гийома, так как и она была приглашена на праздник, так же, впрочем, как и господа де Буа-Доре.
Лишь на следующий год, т. е. 1626-й, жизнь наших героев становится более яркой и наполненной событиями, а толчком к этому послужил следующий факт — в этом году крестили монсеньора герцога Энгьенского (будущего Великого Конде).
Крестины состоялись 5 мая в Бурже. Юному принцу было тогда лет пять. Состоявшиеся по этому поводу торжества собрали всю знать и всех буржуазных провинциалов.
Маркиз де Буа-Доре, который к тому времени обрел если не опасную благосклонность, то по крайней мере спасительное равнодушие и Конде, и партии иезуитов, уступил желаниям Марио, жаждавшего поглядеть на мир, а также своим собственным желаниям показать своего наследника в иных, более благополучных, чем в 1622 году обстоятельствах.
Глава шестьдесят пятая
Приняв решение, Буа-Доре, который никогда ничего не делал наполовину, потратил целый месяц, призвав на помощь гений и ловкость Адамаса, на подготовку роскошных костюмов и богатого экипажа, которыми он хотел похвастаться в Париже и при дворе.
Приготовили новых лошадей и роскошную упряжь, поинтересовались последними модами. Господа де Буа-Доре готовились затмить всех. Старый сеньор, по-прежнему державшийся прямо, развернув гордо плечи, будучи, как всегда, в прекрасном здравии и молод душой, подкрашенный и завитой, пожелал одеться в такие же ткани и выбрал те же фасоны, что и его «внук».
Лориана также пожелала увидеть большой праздник, каких она никогда не видела. Ее отец не участвовал в последнем гугенотском мятеже, впрочем, три месяца назад с гугенотами заключили новый мир, так что они могли ехать без опаски. Маркиз де Буа-Доре, Марио и господин де Бевр с Лорианой решили отправиться туда вместе.
Роскошные обеды; подарки, украшенные дистихами и анаграммами в честь маленького принца; целый полк детей, прекрасно снаряженный и лихо передвигавшийся, создавал эскорт принца; сонеты, сопровождаемые музыкой; речи магистратов; поднесение ключей от города; концерты; танцы; комедия, показанная иезуитским коллежем; «ангелы», спускающиеся с триумфальных арок и подносящие подарки юному герцогу (точнее, его, отцу, который не удовлетворился бы обычными крестильными конфетками); маневры ополчения; церемонии и увеселения — все это празднество длилось пять дней.
На торжества прибыли важные персоны. Знаменитый красавец Монморанси (тот самый, которого Ришелье позднее отправит на эшафот) и вдовствующая принцесса Конде (прозванная отравительницей) представляли крестного отца и крестную мать, которыми были не более и не менее, как король и королева Франции.
Господин герцог был крещен в маленьком чепчике, расшитом драгоценными камнями, и в длинном платьице, отделанном серебром. Принц Конде был в сером наряде из льна, сплошь затканном золотом и серебром.
Господин Бие пригласил прекрасных господ из Буа-Доре разместиться на трибуне для высшей знати. Они так прекрасно выглядели, что украшали собой праздник. Костюм Марио подчеркивал его красоту. Лориана слышала, как дамы (и в их числе молодая и красивая мать маленького принца) отмечали изящество этого очаровательного юноши. Лориана впервые почувствовала себя взволнованной, словно ревнуя его ко всем обращенным на него взглядам и улыбкам.
Марио же не обращал на это никакого внимания. Он с любопытством разглядывал дитя королевских кровей, который был тщедушен и не красив, но очень подвижен.
6 мая, когда наши герои уже собирались уезжать, де Бевр, взяв маркиза под руку, отвел его к окну.
— Ну что же, — сказал де Бевр, — надо с этим кончать и пора решать.
— Да потерпите! Сейчас лошади будут готовы, — ответил Буа-Доре, решивший, что соседу не терпится вернуться в свои владения.
— Вы меня не поняли, сосед, я имел в виду, что пора решиться и поженить детей, раз уж таковы их намерения, да и наши тоже. Признаюсь, я собираюсь в еще одно путешествие. Я приехал сюда лишь для того, чтобы договориться с людьми, которые выгодно обещают мне устроить дела в Англии, а если мне еще раз придется препоручить вашим заботам Лориану, пускай уж лучше она станет женой вашего наследника. Для него это хороший шанс, ибо грузы моих кораблей преумножатся, как меня заверяют, а заключенный недавно мир должен способствовать английско-протестантскому пиратству. С точки зрения имени и денег моя дочь могла бы рассчитывать и на большее, но с точки зрения чувств лучшего для нее и не найти. Необходимость присматривать за дочерью весьма отвлекает меня от моих дел, и я желал бы, обретя свободу, вручить Лориану в надежные руки. Итак, соглашайтесь, и поторопимся.
Буа-Доре совершенно сбило с толку это предложение, тем более, что в течение четырех лет де Бевр, доведись ему услышать подобное от маркиза, вряд ли бы принял предложение. Маркизу не надо было долго размышлять, оценивая всю несуразность этого плана и эгоистичное легкомыслие отца Лорианы. Буа-Доре сам нередко бывал легкомысленен и не соразмерялся с реальностью, но он действительно был отцом, и Марио, влюбленный и женатый в шестнадцать лет, мог оказаться, с его точки зрения, в более сложном положении, чем Марио, романтичный и настроенный на брак в одиннадцать лет.
— Что вы говорите! — ответил маркиз. — Обручить наших детей я согласен, но женить их — слишком рано.
— Ну я так и предполагал! — сказал де Бевр. — Хорошо, давайте их обручим, и вы заберете мою дочь к себе. Вы посмотрите за влюбленными, а я вернусь через два-три года, и мы их обвенчаем.
Буа-Доре, настроенный весьма романтично, уже был готов согласиться, однако заколебался. Про любовь и все неприятности, которыми она грозит, он как-то не подумал. Но взгляд Адамаса, который делал вид, что складывает вещи, а сам внимательно слушал, напомнил маркизу о том, как краснел и бледнел Марио и какие страдания за этим, может быть, кроются.
— Нет-нет, — сказал он. — Я не могу держать сына на раскаленных угольях, я не позволю, чтобы он весь измучился или же нарушил законы чести. Оставайтесь в вашем замке, сосед, и будем осторожны. Вы достаточно богаты. Давайте дадим друг другу слово, на этот раз не ставя в известность детей. Зачем смущать сон и того, и другого? Через три года мы сделаем их счастливыми. А сейчас не будем волноваться.
Де Бевр почувствовал, что честолюбие и алчность чуть не толкнули его на глупый поступок. Но он заупрямился и рассердился. Он отказался дать слово и решил, что отвезет дочь в Пуату, к своей родственнице, герцогине де Ла Тремуй.
Марио едва не потерял сознание, когда садился в карету и узнал, что Лориана с ними не поедет и они расстаются на неопределенный срок. Его отец постарался смягчить удар, но де Бевр объявил обо всем без обиняков, желая проверить чувства Марио и отомстить за полученный урок осторожности, который, как ему это было ни обидно, он получил от самого неосторожного из людей. Лориана, которая ничего не знала (отец сказал ей лишь то, что они остаются на несколько дней в Бурже), сбежала с лестницы, услышав испуганное восклицание маркиза при виде побледневшего Марио. Но Марио быстро взял себя в руки, заявил, что это всего лишь судорога, и, зажмурившись, бросился в карету. Он не хотел видеть Лориану: ее спокойный вид задел его до глубины души. Он полагал, что ей все известно и она решила без сожаления расстаться с ним.
Маркиз хотел было остаться и поговорить еще раз с де Бевром. Но отказался от этого, увидев, какое мужество выказал Марио. Пока они ехали домой, маркиз пришел к выводу: что бы ни случилось, для молодого человека наступил тот возраст, когда разлука на несколько лет становится обязательной. Марио же всю дорогу делал вид, что пребывает в полном спокойствии.
В Брианте маркиз осторожно, а Мерседес напрямик расспросили Марио. Тот держался хорошо, заявив, что он очень любит Лориану, но их разлука не скажется ни на его рассудке, ни на его занятиях.
Он сдержал слово, его здоровье пострадало лишь чуть-чуть. Он выполнял все предписания врача и вскоре совсем поправился.
— Я надеюсь, — говорил иногда маркиз Адамасу, — он не будет слишком сентиментален и забудет злую девчонку, которая его не любит.
— А я надеюсь, — говорил мудрый Адамас, — что она любит его гораздо больше, чем кажется, так как, если наш Марио потеряет надежду, которой только и живет, нам предстоит много хлопот.
В 1627 году над замком Бриант нависла новая опасность.
Ришелье, окончательно укрепившийся у власти, издал декрет и приказал разрушить все городские укрепления и цитадели по всей стране. Эта решительная мера, исполнявшаяся со всей строгостью, касалась «всех укреплений в замках и частных домах, построенных в течение последних тридцати лет без особого разрешения короля».
Бриант не попадал под этот декрет, его защитные сооружения были построены еще во времена феодалов и не могли выдержать удара пушки. Но магистраты и эшевены Ла Шартра, недовольные тем, что им пришлось «самих себя разрушить», по словам бывшего парикмахера Адамаса, очень захотели снести до основания постройки всех прекрасных господ, своих соседей. Но Буа-Доре, зная, что ему необходимо противостоять бандам грабителей и бандитов с большой дороги, заставил уважать свои права. Его очень любили вассалы, и он не боялся, что они поступят, как подданные других сеньоров, охотно взявшие на себя роль исполнителей приказов Великого кардинала.
Эта мера была весьма популярна и весьма произвольна. Кардинал стремился изгнать дух Лиги даже из феодальных твердынь. Но приказ был выполнен только в протестантских провинциях, и решительный декрет остался на бумаге, как и многое другие решительные приказы Ришелье.
Провинция Берра, как всегда, «вывернулась» и обошла этот приказ. Принц не дал убрать ни одного камня в своей крепости Монрон. Устояли замки и больших, и малых сеньоров, и большая башня Буржа пала лишь при Людовике XIV.
Едва Буа-Доре оправился от этих волнений, как ему пришлось столкнуться с другими, более серьезными, но приятными.
— Сударь, — сказал ему как-то вечером Адамас, — я вам сейчас преподнесу одну историю, которую господин д'Юрфе с удовольствием вставил бы в свой роман, ибо она весьма занимательна.
— Посмотрим, что за история, мой друг! — ответил маркиз, водружая на свой лысый череп бархатную шапочку, отделанную кружевами.
— Речь пойдет, сударь, о вашем добродетельном друиде и о прекрасной Мерседес.
— Адамас, вы становитесь злоязычны и насмешливы, дорогой мой! Никакой клеветы, прошу вас, насчет моего достойного друга и целомудренной Мерседес!
— Ах, сударь, что плохого в том, что эти достойные особы соединятся узами Гименея? Знайте же, сударь, что сегодня утром, когда я приводил в порядок библиотеку ученого… он только мне дозволяет притрагиваться к книгам, для этого ведь нужен человек немного образованный… и вот я вижу, что Мерседес украдкой целует букет роз, который она каждое утро ставит ему на стол, пока он с вами завтракает. А потом, внезапно заметив меня, она побледнела, стала белей того шарфа, что у нее на голове, и убежала, словно невесть что натворила. Уже давно, очень давно, сударь, я начал кое-что подозревать. Уж очень она с ним дружна, так заботлива и внимательна. Я и подумал, что и для того, и для другого это может кончиться любовью.
— Действительно! — ответил маркиз. — Но продолжай, Адамас! — Так вот, сударь, обнаружив это, я от души рассмеялся не для того, чтобы понасмешничать, а просто от удовольствия, потому что человек всегда доволен, если о чем-то догадывается или разгадывает какой-то секрет, а раз доволен, так и смеешься. Тут пришел мэтр Жовлен в свою комнату и удивленно посмотрел на меня, не понимая, что это я так развеселился. Ну я ему все и рассказал напрямик, чтобы его развеселить тоже… и, кроме того, мне интересно было посмотреть, как он воспримет эту историю.
— И как же он ее воспринял?
— Так, словно солнце ему в глаза ударило, ни дать, ни взять — хорошенькая девица, и уж поверьте, счастливый человек и внешне меняется, у него глаза зажглись, губы заулыбались, и он со своими длинными усами показался мне прямо красавцем. Он так выглядит иногда, когда играет на своем мелодичном инструменте.
— Очень хорошо, Адамас, что ты научился выражаться красиво. Ну а дальше?
— А дальше, сударь, я ушел. Точнее, сделал вид, что ушел, а сам в приоткрытую дверь подглядел, как наш добрый Люсилио взял цветы и страстно поцеловал их, а потом сунул за пазуху, прямо все цветы с шипами, словно ему доставляло удовольствие чувствовать уколы. И он начал ходить по комнате, прижимая обеими руками к груди этот дар любви.
— Все лучше и лучше, Адамас! — заметил маркиз. — Ну а потом?
— А потом через другую дверь вошла Мерседес и спросила у него, можно ли звать Марио на урок.
— А он что ответил?
— Отрицательно покачал головой, и я понял, что он не хочет отпускать ее. Она хотела уйти, решив, что он занят своими странными делами, потому что, сударь, она с ним ведет себя, как служанка, которой и в голову не приходит, понравиться своему хозяину. Но он стукнул ладонью по столу, чтобы позвать ее обратно. Она вернулась. Они посмотрели друг на друга, но недолго, потому что она потупила взор своих прекрасных черных глаз и сказала ему по-арабски что-то. По ее виду, я думаю, вот что она сказала: «Что же ты хочешь, мой повелитель?» А он показал ей вазу, в которую она поставила цветы. Она увидела, что цветов в ней нет, и добавила: «Это, наверное, этот злой шутник Адамас забрал их, ведь я никогда не забываю ставить вам цветы».
— Она так и сказала? — улыбнулся маркиз.
— Да, сударь, по-арабски. Но я все тут же угадал. Тогда она побежала, чтобы принести еще цветов, а он бросился за ней к дверям, как человек, который сам с собой борется. Потом он вернулся и сел за стол, охватил голову руками, и, клянусь вам, сударь, сердце его было охвачено прекрасным чувством и он был готов честно признаться в своей любви.
— Но зачем же он сам с собой борется? — воскликнул маркиз. — Разве он не знает, что я буду счастлив женить его на этой доброй и прекрасной особе? Сходи за ним, Адамас, он ложится поздно и, наверное, еще не спит. Марио уже спит, и сейчас хороший момент для деликатного объяснения.
Глава шестьдесят шестая
Маркиз без труда добился признания Люсилио.
Тот наивно признался, что давно обожает Мерседес и не так давно начал подозревать, что и она любит его.
Сначала он боялся навлечь на себя гонения, которых он лишь чудом избежал во Франции. Потом, когда он убедился, что Ришелье, хотя и остается противником реформации, все-таки твердо проводит политику на поддержание Нантского эдикта и расположен сохранить свободу вероисповедания, Люсилио решил дождаться брака Марио с Лорианой или с любой другой женщиной, которую изберет его сердце. Он опасался, что его дорогой ученик может быть охвачен то надеждой, то сожалением, то спокойным ожиданием, то тайным волнением, и не хотел раздражать Марио опасным зрелищем брака по любви.
Маркиз одобрил великодушную осторожность своего друга, но с некоторыми оговорками.
— Мой добрый друг, — сказал он, — Мерседес скоро тридцать, а вам уже за сорок. Вы оба еще довольно молоды и можете нравиться друг другу, но, не хочу вас обижать, однако вы уже не дети, и не стоит оставлять незаполненными страницы в книге вашего счастья. Используйте те прекрасные годы, что вам остаются. Женитесь. Я увезу Марио в путешествие на несколько месяцев и скажу ему тогда, что это была только моя идея — брак по расчету между Мерседес и вами. Придумаю какой-нибудь предлог, чтобы объяснить ему, почему вы не дождались нашего возвращения, а когда он вновь с вами встретится, он уже привыкнет к новой ситуации. Брак сделает все весьма серьезным, впрочем, я полагаюсь на вас: вы сумеете скрыть восторги медового месяца за непроницаемой пеленой сдержанности и осмотрительности.
Итак, маркиз повез Марио в Париж. Он показал ему короля и Двор, но издалека, ибо за те пятнадцать лет, что добрый Сильвен прожил в своих владениях, мир сильно изменился. Друзья его молодости умерли или, как и он сам, оставили новое с устное общество. Те немногие из значительных персон, кто еще был жив и кого он когда-то часто навещал, теперь едва помнили о нем и, если бы не его устаревшие наряды, не узнали бы маркиза.
Однако интересное лицо и скромные манеры Марио были замечены: в нескольких изысканных домах прекрасных господ приняли тепло, но им не предложили представить их высшему свету; впрочем, ни тот, ни другой не высказывали страстного желания приблизиться к бледному солнцу Людовика XIII.
Марио испытал большое разочарование, увидев проезжавшего на коне испуганного сына Генриха IV; глядя на физиономию короля, маркиз также не ощутил желания добиваться королевской ратификации своего титула маркиза.
Каждый день появлялись новые эдикты, каравшие за узурпацию титулов, правда, эти эдикты не выполнялись, так как и новая, и старая аристократия по-прежнему присваивала себе титулы по своим владениям, хотя принадлежность земель могла быть и спорной. Безопасней было держаться в тени. Буа-Доре был вынужден признать, что это — лучшее из убежищ!
Кроме того, он узнал, что в Париже никто не может именоваться прекрасными господами, если не принадлежит ко двору. Иногда на прогулках на них обращали внимание, отмечая контраст между странно накрашенным лицом маркиза и очаровательной свежестью Марио. Какое-то время маркиз наивно думал, что его узнают, улыбался прохожим и подносил руку к полям шляпы, готовый принять знаки внимания, которые ему никто и не собирался оказывать. Из-за этого он постоянно выглядел неуверенным и растерянным, а также преувеличенно вежливым, что смешило прохожих. Сидящие или прогуливающиеся дамы говорили одна другой:
— Это еще что за старый безумец?
А если среди дам оказывался кто-то из тех домов, где принимали Буа-Доре, или кто-нибудь с той улицы, на которой он проживал, на вопрос давали и ответ:
— Это провинциальный дворянин, который бахвалится тем, что якобы был другом покойного короля.
— Какой-нибудь гасконец? Они все только и делали, что спасали Францию. Или беарнец? Они все — молочные братья доброго короля Генриха.
— Нет, старый дуралей из Берра или из Шампайи. Бахвалов и там хватает.
Как ни старался добрый Сильвен казаться значительной персоной, он выглядел бледно на фоне этой забывчивой и разряженной толпы. Маркиз говорил себе с некоторой досадой, что уж лучше быть первым в деревне, чем последним при дворе. Однако он был уверен, что с помощью хитрости и интриг он мог бы протолкнуть Марио, как и многих других, ко двору, но опасался нарваться на оскорбление из-за своего сомнительного титула маркиза.
Устав от роли провинциального зеваки, маркиз едва не заскучал, но тут Марио потащил его осматривать памятники искусства и науки, в которых для юноши и заключалась основная привлекательность королевской столицы.
Удовольствие и польза, которые получил Марио, несколько утешили старика, ибо он в глубине души считал путешествие провалом.
Он не говорил Марио обо всех своих разочарованиях. Он всегда надеялся разыскать семью его матери и добиться для него какого-нибудь громкого испанского титула, а может, и наследства.
Он несколько раз писал в Испанию, чтобы получить сведения, а также сообщить о Марио на случай, если эта самая семья проявит к нему интерес. Получал он всегда туманные, возможно, уклончивые ответы!
В Париже он решил лично посетить посольство. Его принял кто-то вроде секретаря по личным делам и сообщил, что это запутанное дело в основном прояснилось. Маркизу объяснили, что похищенная и исчезнувшая молодая дама действительно принадлежала к знатной семье из Мериды, а Марио является плодом тайного брака, который может быть признан недействительным. Молодая дама не имела никаких прав на состояние, а родственники совершенно не желают признавать молодого человека, воспитанного старым еретиком с недоброй репутацией.
Оскорбленный маркиз решил в отместку за презрение отплатить самонадеянным испанцам полным равнодушием. Ему и так многого стоило околачиваться у дверей испанского посольства, сама вывеска которого внушала ему, старому протестанту и доброму французу, ненависть.
Однако он огорчился и доверил свои мысли неразлучному Адамасу:
— Конечно, — говорил он, — жизнь сельского аристократа самая спокойная и самая почтенная, но если она подходит тем, кто за нее дорого заплатил, то для молодого сердца Марио она может показаться тягостной и даже постыдной. Я уделял столько внимания его воспитанию, благодаря его ранним способностям мы сделали из него образцового дворянина, который может все… И это лишь для того, чтобы он похоронил себя в родовом гнезде, потому что ему не надо зарабатывать себе состояние, а сердце у него доброе и отзывчивое! Может, ему стоит проявить себя на войне и в приключениях или каким-нибудь блистательным деянием завоевать этот титул маркиза? А то идеи Великого кардинала о всеобщем порядке того и гляди лишат его титула. Я знаю, он еще молод, и время пока не потеряно, но, на мой взгляд, он склонен к наукам, а я не представляю, как на этом поприще можно отличиться?
— Сударь, — ответил Адамас, — если вы думаете, что ваш сын не будет столь же отважен, как и вы, в сражениях, вы просто не знаете его.
— Я не знаю сына?
— Нет, сударь, вы его знаете недостаточно: он скрытен и любит вас так, что никогда не решится поделиться с вами мыслью, которая может вас встревожить или огорчить. Но мне-то все известно: Марио мечтает о войне так же, как и о любви, и если вы в ближайшее время не поддержите его честолюбивые мечты, увидите, он расстроится или заболеет.
— Не дай Бог! — воскликнул маркиз. — Завтра же расспрошу его об этом.
Когда в таком деле говорят о завтрашнем дне, стало быть, откладывают на неопределенное время, и маркиз отложил. Отеческая слабость одержала верх над отеческой гордостью. Марио был еще недостаточно вынослив для того, чтобы переносить тяготы войны, впрочем, предполагаемая война с Англией и Испанией, казалось, несколько отодвигалась благодаря огромным усилиям Ришелье, направленным на создание французского флота. Торопиться было некуда, время еще оставалось: рано или поздно пора придет.
Итак, в конце осени все вернулись в Бриант и обнаружили Люсилио уже женатым на Мерседес.
Марио, узнав эту новость в Париже, воспринял ее скорей с удовлетворением, чем с удивлением. Он давно уже почувствовал пламя страсти, иногда обжигавшей его, и в сдержанной пылкости Мерседес, и в нежной меланхолии Люсилио, и даже в сладких и страстных мелодиях его инструмента. При мысли о счастливой любви его сердце словно клещами сжимало, но он необыкновенно умело владел собой. Отец жил только для него, и Марио рано научился скрывать свои чувства. Иногда Адамас упрекал его за скрытность.
— Мой отец стар, — отвечал Марио. — Он дорожит мной, как мать дорожит ребенком. И моя обязанность — не сокращать его дни тревогами, небо поручило мне заботиться о его долгой жизни.
Лориана жила в Пуату, и известия от нес приходили редко. Маркизу она писала нежно и уважительно, а о Марио едва упоминала, словно опасалась его растревожить.
Напротив, она с неприкрытой нежностью обращалась к Мерседес, Люсилио и всем верным слугам дома. Казалось, что ее привязанность к этим людям выражалась за счет скрытой любви к Марио, кому эта любовь принадлежала по праву. Она писала, и не раз, с некоторым жеманством, что есть претенденты на ее руку и что скоро сна сообщит о своем решении маркизу, которого считает вторым отцом.
Странным казалось то, что каждый год она вновь и вновь упоминала о возникавших планах ее бракосочетания, но никогда не сообщала друзьям о том, какой же выбор она сделала. Она словно хотела, чтобы они поняли следующее: «Я не выхожу замуж потому, что мне так нравится, а вовсе не потому, что я кого-то жду, как вы могли бы подумать».
Действительно, именно с этой целью она и писала письма, а вот каково было ее расположение духа?
Господин де Бевр отвез Лориану, как и обещал, в Пуату к родственнице и вскоре оставил ее одну. Перед отъездом он заявил, что маркиз и его наследник, с которыми он разговаривал в Бурже, ответили ему очень холодно. Марио проявил себя рьяным католиком и поклялся никогда не вступать в «смешанный» брак. Это известие сильно растревожило сердце девушки.
Лориане не следовало бы доверять отцу, которому проникла в кровь жажда золота. Поскольку он решил уехать как можно скорее, ему было бы спокойнее на душе, будь Лориана пристроена, поэтому он и склонял ее к немедленному замужеству. Несмотря на давление отца, она отказалась выходить замуж только из-за того, что ее обидели. Однако, чтобы сильно не огорчать отца, она обещала подумать об этом. Мысли бедной Лорианы возвращались к Марио. Она полюбила его в Бурже, впервые полюбила настоящей любовью после стольких лет спокойной дружбы. И вот теперь из-за этой первой в ее жизни любви, любви, в которой она и сама себе не признавалась, ей приходилось краснеть от стыда и пытаться уничтожить это чувство. Да, в глубине души она гордо отказалась от неблагодарного Марио.
Итак, она повторила отцу то же, что искренне говорила ему раньше, то есть, что она никогда не считала этот брак возможным. И поклялась, что выйдет замуж за подходящего претендента на ее руку, если тот не будет ей противен.
Но такой претендент все не попадался. Никто из тех, кого представляла Лориане мадам де Ла Тремуй, ей не понравился, Она чувствовала в них ту же расчетливость, какая охватила ее отца, словно страсть, но страсть холодная и циничная.
Прекрасные дни протестантизма кончались, они уходили, как уходило прежнее общество предыдущего века. Протестантизм выглядел героически в великих гонениях, а Ришелье, расправляясь по роковой необходимости с последними его сторонниками, вовсе не вел себя как гонитель. Его устами к протестантам обращалась Франция. «Выбирайте себе свободно религию и не занимайтесь политикой! Обратимся вместе с нами против внешнего врага!» Протестанты хотели быть республикой, но превратились в подобие будущей Вандеи.
Кроме французских пуритан (героические, безжалостные и страшные люди, полностью принесшие себя в жертву два года спустя в Ла Рошели), французские протестанты склонялись к принципу французского единства, но многие из них решили окончательно примкнуть к этому принципу лишь тогда, когда победа обеспечит их партии выгодные долговременные преимущества.
Аристократия выторговывала себе преимущества: самые высокопоставленные хотели, чтобы им дорого заплатили, и подменяли свои потребности в религиозной свободе потребностями в деньгах и в должностях. Часть аристократии в силу обстоятельств рассуждала ошибочно, поставив себя перед выбором — или союз с заграницей, или окончательное поражение.
Лориана была возмущена видом многочисленных предательств, о которых заявляли каждый день. У нее сложилось весьма рыцарское представление о чести сторонников протестантизма. Теперь же она была вынуждена признать, что ее отец, чья алчность так ее оскорбляла, просто несколько позднее стал поступать так, как люди его поколения поступали всю жизнь. Более того, и множество молодых людей стремилось как можно скорей начать действовать в том же духе. Господин де Бевр был еще из лучших: ему не приходило в голову предать свое знамя. Он стремился лишь к тому, чтобы устроить свои дела, прежде чем это знамя упадет.
Конечно, Лориана могла встретить человека исключительного, но не встретила, может, потому, что, будучи мечтательной и рассеянной, не сумела отыскать его.
Молодость и красота горды, и горды по праву. Они ждут, что их откроют, и не хотят ничего открывать сами, боясь, что могут подумать, будто они предлагают себя.
Глава шестьдесят седьмая
Хотя мы до этого момента делали все возможное, чтобы показать жизнь наших персонажей в роли «сельских хозяев», и сведения, которые мы собрали, позволили нам немного изучить эту жизнь, мы вынуждены теперь перенестись немного вперед и поискать прекрасных господ из Буа-Доре довольно далеко от их мирного родового гнезда.
Было это, я думаю, 1 марта 1629 года. Гора Женевр, покрытая инеем, являла собой зрелище необычайного оживления как с одного, так и с другого склона, до самого входа в ущелье, именуемое Сузский перевал.
Это французская армия двигалась маршем на герцога Савойского, то есть на Испанию и Австрию, его верных союзниц.
Несмотря на жестокий холод, войско карабкалось вверх. Пушки волокли в гору по снегу. Это была величественная сцена, которая всегда удавалась французскому солдату на фоне грандиозных Альп, будь то под командованием Наполеона или Ришелье, и при Людовике XIII так же, как и при Ришелье. Солдаты не стирали в порошок скалы, что, говорят, удавалось гению Ганнибала, они двигались вперед с посохами в виде воли, отваги и бесстрашного веселья.
По одной из тропинок, пробитых в снегу параллельно дороге, два всадника поднимались бок о бок в гору по тому склону, что обращен в сторону Франции.
Один из них был молодой человек девятнадцати лет, крепкий и гибкий в движениях, он великолепно выглядел в изящном походном костюме того времени. Его снаряжение и оружие, а также то, что он передвигался не в строю, указывали, что это дворянин, участвующий в походе добровольцем.
Марио де Буа-Доре (читатель понимает, что никто другой нас не заинтересовал бы) был самым красивым всадником в армии. Его окрепшая юношеская сила ничуть не сделала грубее очаровательную мягкость его умного и открытого лица. Взгляд его был ангельски чист, но проступающая борода напоминала, однако, что этот юноша с небесным взглядом всего лишь обычный смертный, и тонкие усы подчеркивали немного небрежную, но сердечную и доброжелательную улыбку, пробивавшуюся сквозь обычную меланхолию юноши.
Великолепные вьющиеся каштановые волосы обрамляли лицо, спускаясь до плеч, а одна прядь, по моде времен Людовика XIII, падала ниже. Лицо, покрытое нежным румянцем, выглядело, однако, бледным. Изысканная внешность, совершенно естественно сочетавшаяся с изысканностью манер и одежды, вот что отличало этого юношу.
Таким увидел Марио всадник, волею случая оказавшийся рядом с ним.
Этому всаднику было лет сорок, он был худ и бледен, черты лица довольно правильные, рот подвижный, взгляд проницательный. В целом его лицо выражало некоторую хитрость, смягченную серьезной склонностью к размышлениям. Одет он был весьма необычно: в черной короткой сутане, какую носят путешествующие священники, но в военных сапогах и при оружии. Его поджарая гибкая лошадь шла быстрым шагом и вскоре поравнялась с прекрасным горячим конем Марио.
Два всадника молча поклонились друг другу, и Марио попридержал коня, чтобы дать дорогу старшему по возрасту.
Всадник, казалось, оценил такую вежливость и отказался обгонять молодого человека.
— Сударь, — заметил Марио, — наши лошади идут рядом, что доказывает, что обе они хороши, потому что я обычно с трудом сдерживаю своего коня, чтобы не дать ему обогнать других. Я вынужден пропускать вперед своих спутников, иначе бы я достиг вершины перехода раньше всех.
— То, что вы считаете недостатком своего великолепного коня, для моей лошади является достоинством. Я путешествую почти всегда в одиночестве, и никто меня не упрекает в том, что я излишне изнуряю своего коня. Но позвольте вас спросить, сударь, где я мог вас видеть? Ваше приятное лицо мне вроде бы знакомо.
Марио внимательно всмотрелся в спутника и сказал:
— Последний раз я имел честь видеть вас в Бурже четыре года назад на крестинах монсеньора герцога Энгьенского.
— Так вы, значит, молодой граф де Буа-Доре?
— Да, господин аббат Пулен, — ответил Марио и еще раз поднес руку к полям своей украшенной перьями шляпы.
— Счастлив видеть вас таким, господин граф, — сказал священник из Брианта. — Вы выросли, стали красивее и, думаю, достоинств у вас прибавилось, судя по вашим манерам. Но не называйте меня аббатом, так как, увы, я им не являюсь и, вероятно, никогда не стану.
— Я знаю, что принц никогда не соглашался на ваше назначение, но яполагал…
— Что я нашел аббатство получше, чем аббатство Варенн? И да, и нет! Ожидая какого-нибудь назначения, я покинул Берра и волею случая оказался на службе у отца Жозефа, которому предан душой и телом. Так что теперь я связал свою судьбу с кардиналом. Могу вам сказать, но между нами, что я выполняю функции посланника отца Жозефа, вот почему у меня такая хорошая лошадь.
— Я рад за вас, сударь. Служба при отце Жозефе — служба для истинного француза, а кардинал вершит судьбами Франции.
— Вы действительно говорите, что думаете, господин Марио? — спросил священник со скептической улыбкой.
— Да, сударь, клянусь честью! — ответил молодой человек с искренностью, которая одержала верх над подозрениями дипломатического посланца. — Я вовсе не хочу, чтобы кардинал знал, что в моем лице и в лице моего отца он обрел еще двух почитателей, но прошу вас, считайте нас добрыми французами, готовыми послужить телом и душой так же, как и вы, великому министру и прекрасной Франции.
— В вас я верю, — ответил Пулен, — но в вашего отца гораздо меньше. Например, в прошлом году он не отправил вас на осаду Ла Рошели! Знаю, вы были еще молоды, но там были воины и моложе вас, и вы, наверное, очень досадовали, что не смогли принять участие в славной битве рядом со всеми остальными благородными молодыми людьми.
— Господин Пулен, — строго ответил Марио, — я думал, вы испытываете благодарность по отношению к моему отцу. Все, что он мог сделать для вас, он сделал. И не его вина в том, что аббатство Варенн ушло из рук церкви и было передано принцу, этим и моему отцу был нанесен ущерб.
— О, я не сомневаюсь! — воскликнул господин Пулен. — Я-то знаю, как принц Конде может запутать счета! Так что у меня претензии только к нему. Что касается вашего отца, то знайте, сударь, я его по-прежнему безгранично уважаю и люблю. Я вовсе не хочу причинять ему огорчений, но я жизнь бы отдал, лишь бы знать, что он искренне, без задней мысли, предан интересам католицизма.
Мой отец предан интересам своей страны, сударь! Нет надобности вам говорить, что он горячо поддерживает кардинала в его борьбе со всеми врагами Франции.
— Даже в борьбе с гугенотами?
— Гугенотов больше нет! Оставим мертвых в покое!
Господин Пулен был поражен выражением достоинства на лице Марио. Он почувствовал, что этот молодой человек не такой, как другие, он серьезен и не честолюбив.
— Вы правы, сударь, — сказал священник, — мир праху защитников Ла Рошели, и да услышит вас Господь, чтобы они не возродились в Монтобане или где-нибудь еще. Раз уж ваш отец отказался от своего религиозного безразличия, надеюсь, он позволит вам при необходимости выступить против мятежников на юге.
— Отец мне всегда позволял и позволяет руководствоваться моими собственными наклонностями, но знайте, сударь, я никогда не выступлю против протестантов, разве только они будут серьезно угрожать монархии. Никогда из тщеславия или честолюбия я не обнажу шпагу против французов, я никогда не забуду, что именно протестанты, тогда победители, а теперь поверженные, возвели на престол Генриха IV. Вы были воспитаны в принципах Лиги, а теперь сражаетесь с ней всеми силами. Вы колебались между добром и злом, между ложью и истиной. А я же живу и умру, руководствуясь теми принципами, что мне внушили: верность моей стране, отвращение к интригам с иностранными державами. У меня нет таких заслуг, как у вас, мне не приходилось менять веру, но клянусь вам, я глубоко уважая право на свободу совести, я буду сражаться с союзниками герцога Савойского…
— Вы забываете, что они же сегодня — союзники протестантов.
— Скорее господина де Рогана! Господин де Роган тем самым окончательно губит свою партию, вот почему я говорю вам: «Оставим мертвых в покое!»
— Я вижу, что вы, как и маркиз, — сказал доверенный отца Жозефа, — настроены романтически и собираетесь, подобно ему, руководствоваться чувствами. Можно мне, не проявляя нескромности, узнать у вас, как поживает отец?
— Вы увидите его лично. И он будет рад приветствовать вас. Он едет впереди и мы его нагоним через четверть часа.
— Неужели? Но ведь господину де Буа-Доре — лет семьдесят пять или восемьдесят.
— И он выступил против врагов и убийц Генриха IV Это вас удивляет, господин Пулен?
— Нет, дитя мое, — ответил бывший сторонник Лиги, который силою обстоятельств обратился в горячего сторонника и почитателя политики Беарнца, — но мне кажется, он слишком долго собирался!
— Что же вы хотите, сударь? Он не мог выступить один: он ждал, пока король Франции подаст пример.
— У вас на все есть ответ! — с улыбкой воскликнул господин Пулен. — Мне не терпится поприветствовать прекрасную старость господина маркиза! Но здесь рысью не проедешь. Расскажите же, как поживает человек, которому я жизнью обязан: мэтр Люсилио Джовеллино, иначе именуемый Жовлен, великий музыкант.
— Он счастлив, благодарение небу! Он женился на любимой женщине, и они оба в наше отсутствие управляют домом и владениями.
— Женился? Неужели на прекрасной Мерседес? А ведь вы, испытывая иные чувства, помнится, предпочитали ей более юную и прекрасную подругу.
— Вы имеете в виду мадам де Бевр? — спросил Марио, и его искренность подчеркнула вкрадчивое любопытство господина Пулена. — Мне легко ответить, и я ответил бы любому. Действительно, я со всем пылом любил в детстве Лориану и всю жизнь буду уважать ее. Но она относилась ко мне со спокойной дружбой, так что можете расспрашивать меня о ней без всяких уловок.
— Она так и не вышла замуж?
— Не знаю, сударь. Мы уже несколько месяцев путешествуем, не имея вестей от наших далеких друзей.
Господин Пулен искоса взглянул на Марио. Тот был спокоен, как бывают спокойны люди с разбитым сердцем, но не выглядел изнуренным, как человек с опустошенной душой.
— А вы знаете, что господин де Бевр был у Ла Рошели, на борту английского корабля? — спросил священник.
— Я знаю, что он там погиб и что Лориана теперь — сама хозяйка своей судьбы.
— Она была в Пуату, когда герцог де Ла Тремуй, оставленный англичанами, отрекся от ереси в королевском лагере.
— Но она не последовала примеру герцога, — живо откликнулся Марио, — она попросила разрешения разделить заточение героической герцогини де Роган, которая отказалась подчиниться, а когда ей это не разрешили, собиралась вернуться в Берра, но мы в это время как раз покинули нашу провинцию.
— Я все это знаю, — заметил господин Пулен, который действительно был в курсе всего.
— Даже если бы вы этого не знали, я ничуть не жалею, что рассказал вам все, — ответил Марио. — Надеюсь вы не захотите дать принцу Конде новый повод для конфискации состояния мадам де Бевр?
— Конечно, нет! — воскликнул священник, рассмеявшись даже с некоторым добродушием. — Вы умеете рассуждать, и, действительно зная собеседника, можно позволить себе говорить столь искренно, как говорите вы. Мне вы можете доверять полностью, ведь я открыто порвал с иезуитами на свой страх и риск!
Господин Пулен говорил правду.
Через какое-то время они нагнали маркиза де Буа-Доре, и встреча была почти дружеской.
Глава шестьдесят восьмая
Маркиз, решив участвовать в военных действиях, собрал небольшой отряд добровольцев. Его лучшие люди сразу же с энтузиазмом последовали за ним.
Бесстрашный Аристандр особенно радовался, представляя, как он задаст испанцам, которых ненавидел из-за Санчо; верный Адамас ехал в арьергарде на смирной кобыле и вез с собой духи и щипцы для завивки хозяина, не более, не менее!
Впрочем, маркиз сейчас одевался столь же просто, сколь раньше блистал. Он лишь слегка завивал остатки волос на затылке, да для собственного удовольствия чуть-чуть душился. Никакого парика, никакой краски, почти никаких кружев, вышивок и галунов; широкий камзол плотного сукна с прорезанными рукавами, штаны такого же сукна, спускавшиеся ниже колен, сапоги по ноге, отделанные простым полотном по отвороту, брыжи и, наконец, подбитый мехом плащ, широкий и прочный, — вот каков был костюм прекрасного господина из Буа-Доре.
Объясним вкратце причину такой метаморфозы. Марио дрался на дуэли с нахалом, который насмехался над напудренной маской, черными волосами и нежным «румянцем» маркиза.
Марио хорошо отделал этого господина, уж он-то постарался! Но Буа-Доре, узнав задним числом об этом приключении, решил, что больше его сын рисковать собой из-за него не должен. В один прекрасный день, никого не предупредив, он отказался от краски и от парика, заявив, что господин де Ришелье прав, преследуя роскошь, и что следует подавать хороший пример. Так он смирился с тем, что стар и не красив, и героически предстал перед своими близкими. Но, к его великому удивлению, все были приятно поражены, а Мерседес наивно сказала:
— Ах, как вы хорошо выглядите, хозяин! Я думала, вы гораздо старше.
Действительно под слоем краски маркиз сохранился неплохо, и для своего возраста он был необыкновенно красив. Он не знал и так и не узнал старческой немощи. Зубы у него были целы; высокий, с залысинами лоб пересекали глубокие красивые морщины; ни коварство, ни злоба не искажали его лицо; усы и бородка, белые, как снег, красиво выделялись на желтовато-смуглой коже; его большие живые и смеющиеся глаза нежно светились под густыми кустистыми бровями.
Он всегда держался очень прямо, не сгибаясь, но уже не смущался, когда Аристандр сильной рукой поддерживал его худое колено, чтобы маркиз мог сесть на коня, однако, оказавшись в седле, он сидел на лошади великолепно.
С этого времени он получил столько комплиментов, что сам стиль его кокетства изменился: вместо того, чтобы скрывать свой возраст, он стал его преувеличивать, заявляя, что ему восемьдесят, в то время как ему было всего лишь семьдесят два. Ему нравилось поражать своих молодых собеседников рассказами о войнах прошлого, которые давно уже были похоронены в глубинах его памяти.
3 марта, то есть на следующий день после встречи прекрасных господ из Буа-Доре с господином Пуленом, королевский авангард численностью в десять-двенадцать тысяч человек расположился лагерем в Шомоне.
Маркиз спокойно улегся в первую же попавшуюся постель и уснул крепко, как человек, привыкший к тяготам войны и умеющий использовать часы отдыха: выспаться за час, если только этот час и был у него в распоряжении, а мог проспать и двенадцать часов подряд, если больше нечего было делать.
Марио же, взбудораженный нетерпеливым желанием сражаться, бодрствовал вместе с такими же молодыми добровольцами, с которыми познакомился в пути.
Они расположились на постоялом дворе, зал с низкими потолками был так забит, что и не повернуться, табачный дым висел стеной.
Регулярные армейские подразделения вели себя сдержанно, точно братство суровых монахов, компании же добровольцев были веселыми и шумными. Все пили, смеялись, распевали куплеты вольного содержания, читали друг другу эротические или шуточные стихи, говорили о политике и о женщинах, спорили и обнимались.
Марио сидел у камина и посреди всего этого шума предавался мечтам.
Рядом с ним расположился Клиндор, он обрел решимость, но робел, оказавшись в кругу дворян. Он не вмешивался в их шумные разговоры, но так и горел желанием набраться смелости и поболтать. Марио же совсем погрузился в мечты среди этого общего веселья, которое ему не мешало, но и не привлекало его.
Вдруг в зал вошло очень странное создание. Это была худая черноволосая и смуглая девочка, наряженная в немыслимый костюм: пять или шесть разноцветных юбок, надетых одна на другую; корсаж, весь расшитый галунами и блестками, разноцветные перья, воткнутые в курчавые волосы, на груди ожерелья в несколько рядов, золотые и серебряные цепочки, на руках браслеты, кольца, стекляшки даже на башмаках.
Невозможно было установить ее возраст: то ли это был рано развившийся ребенок, то ли изнуренная девушка. Она была очень маленького роста, уродливая, когда улыбалась или спокойно разговаривала, но прекрасная в гневе, впрочем, такое состояние, видимо, было для нее нормальным и обычным. Она оскорбляла слуг постоялого двора, которые не сразу подали ей еду, ругала солдат, не сразу уступивших ей место, царапала тех, кто хотел вольно пошутить с ней, разражалась жуткими проклятиями в адрес тех, кто насмехался над ее несуразным нарядом или злобным настроением.
Марио спрашивал себя, зачем такое странное существо явилось в подобное общество, но тут в зал вошла еще одна женщина: толстая, краснолицая, наряженная в жалкие, смешные тряпки и нагруженная, как мул. Она потребовала, чтобы все замолчали. Не без труда ей удалось добиться тишины, и тогда она объявила на малограмотном французском, что сейчас выступит несравненная Пилар, ее подруга, танцовщица-мориска и гадалка, которая не ошибается, обученная арабской науке.
Услышав имя Пилар, Марио очнулся от своей летаргии. Он всмотрелся в двух цыганок и, несмотря на то, что время очень изменило их, узнал в одной из них ученицу несчастного Ла-Флеша, его жертву и палача, а в другой — ту, что когда-то звалась в Брианте Беллиндой, а у капитана Макабра — Прозерпиной. Ныне же она именовала себя Нарцисса Боболина, лютнистка, торговка кружевами, при необходимости она же чинила и крахмалила кружевные отвороты.
Публика согласилась посмотреть на выступления заявленных талантов. Беллинда сыграла на лютне, весьма живо, но фальшиво. Потом, сдвинув столы, освободили место для танцовщицы, и она исполнила с необыкновенной гибкостью и дикой грацией танец, вызвав восторг у публики.
Успех Пилар у этих затуманенных вином мужчин вызвал у Марио отвращение, и он уже хотел удалиться, но из любопытства решил послушать предсказания, которые она уже начала излагать всем собравшимся, ожидая, пока кто-нибудь из них попросит ее предсказать будущее именно ему.
— Говори, говори, юная сивилла! — кричали ей изо всех концов зала. — Скажи, нам повезет в бою? Захватим мы завтра Сузский перевал?
— Так и случилось бы, будь вы все охвачены благодатью, — отвечала она с презрением, — но каждый из вас покрыт, как проказой, смертными грехами, и я очень боюсь за вашу красивую белую кожу!
— Подожди-ка! — сказал кто-то. — Есть тут у нас юноша добрый и целомудренный, прямо ангел небесный, Марио де Буа-Доре! Начнем с него, пусть он обратится к предсказательнице!
— Марио де Буа-Доре? — воскликнула Пилар, и ее сверкающие глаза словно подернулись пеленой. — Он здесь? Где же, где же он? Покажите мне его!
Марио вышел из темного угла, чтобы цыганки смогли увидеть его. Одна из них сразу же кинулась к нему и схватила за руку, а вторая потупила взор, словно опасаясь, что он узнает ее.
— Я уже узнал вас, Беллинда, — сказал ей Марио, — что касается тебя, Пилар, — добавил он, отнимая руку, которую она хотела поднести к губам, — просто посмотри на линии моей ладони, и хватит.
— Марио де Буа-Доре! — воскликнула неожиданно рассвирепевшая Пилар. — Я и так знаю линии судьбы на твоей руке! Я их столько раз видела раньше. Я никогда не говорила о твоей судьбе: тебя ждет много горя и несчастий!
— Я знаю, чего стоит твоя наука! — ответил Марио, пожав плечами. — Она зависит от твоего каприза, от твоей ненависти или твоей причуды.
— Ну что ж, можешь проверить! — ответила обиженная Пилар. — Раз ты не веришь моей науке, значит, не побоишься услышать, что тебе предначертано. Завтра, мой прекрасный Марио, ты уснешь, упав на спину на склоне рва, глаза твои будут открыты, но ты не увидишь света звезд.
— Значит, просто небо будет затянуто тучами, — спокойно ответил Марио.
— Нет, небо будет ясное, но ты умрешь! — сказала Пилар, вытирая волосами холодный пот со лба. — Хватит! Больше меня не спрашивайте! Я слишком страшные вещи буду говорить всем, кто меня здесь слушает!
— Ах, злая чертовка, возьми назад свои слова! — крикнул молодой человек. — Друзья, не выпускайте ее! Эти отвратительные колдуньи подталкивают нас к смерти, смущая наши умы! Из-за них мы, будучи в опасности, теряем ту самую уверенность в себе, что спасает нас. Заставим ее забрать обратно свои слова, пусть признается, что сказала так со злобы.
Пилар, гибкая, как змея, уже проскользнула мимо столов. Кое-кто кинулся за ней, а Беллинда спаслась через другую дверь.
— Оставьте их, — сказал Марио. — Это две злые бродяги, чью историю я вам расскажу как-нибудь в другой раз. Я не интересуюсь предсказанием: уж я-то знаю, чего стоит вся эта наука.
Марио засыпали вопросами.
— Завтра, — ответил он. — Завтра после сражения и после моей так называемой смерти. А теперь, позвольте, я схожу к отцу, посмотрю, хорошо ли его охраняют, а то эти две женщины могут замыслить что-нибудь против него.
— А мы, — ответили его молодые друзья, — обойдем лагерь, чтобы посмотреть, не прячется ли где-нибудь в засаде банда цыган, грабителей и убийц.
Лагерь осмотрели тщательно. Впрочем, в этом не было необходимости: регулярный лагерь охранялся бдительными часовыми, которые осматривали окрестности не только близ лагеря, но и далеко от него. Люди из деревни сообщили, что цыганки приехали накануне, вдвоем, и остановились в доме, на который показал Марио. Солдаты проверили и убедились, что цыганки находятся в доме. Марио решил, что следить за ними не стоит. Достаточно было обеспечить безопасность отца.
Ночь прошла очень спокойно, слишком спокойно, на взгляд нетерпеливой молодежи, которая надеялась, что ночью их разбудит сигнал к бою. Но ничего не произошло. Принц Пьемонтский, зять Людовика XIII, прибыл от герцога Савойского вести переговоры с Ришелье, а переговоры, к большому недовольству французской армии, привели к перерыву в военных действиях.
Следующий день, таким образом, прошел в лихорадочном ожидании, и сорвавшееся предсказание цыганки перестало заботить друзей Марио.
Две бродяжки собрали вещи, пересекли линию авангарда и вернулись во Францию бродяжничать дальше. Ни Марио, ни его друзьям не следовало опасаться, что цыганкам позволят вернуться, так как кардинал отдал самый строгий приказ изгонять из расположения армии женщин, детей, а особенно непотребных девиц. Против них, а также против цыганок, танцовщиц, ворожей могла быть применена смертная казнь.
Накануне 4 марта Марио был вынужден рассказать друзьям историю толстой Беллинды и маленькой Пилар. До сих пор скромность мешала ему быть на виду, его необычная история и сама трогательная, естественная и одновременно ироничная манера рассказывать заставили его приятелей позабыть о картах и о позднем часе. Конечно, он мог бы рассказать всю свою жизнь, но какое-то неопределенное чувство боязливой сдержанности помешало ему даже упомянуть имя Лорианы.
Глава шестьдесят девятая
Было уже за полночь, когда все разошлись. Каждый нашел для себя более или менее сносное и безопасное пристанище.
Когда Марио, которому Клиндор нашел приличное жилище, остался один и уже собирался войти в дом, он заметил, как едва различимая тень отделилась от стены. Неизвестный выпрямился и подошел к Марио.
Оказалось, что это Пилар.
— Марио, — проговорила она, — не бойся меня. Я никогда не причиню тебе зла, и у меня нет причин желать зла, твоему старому отцу. Я не разделяю ненависти Беллинды к вам.
— А что, Беллинда все еще ненавидит моего отца? — переспросил Марио. — Она уже забыла, что он спас ее от виселицы, где она должна была оказаться вместе с капитаном Макабром?
— Да, Беллинда забыла или, может быть, никогда об этом не знала. И уже не узнает, теперь она больше никого не ненавидит.
— Что ты хочешь сказать?
— То, что я сделала с ней то, что она надумала сделать с вами.
— Что ты сделала? Говори же!
— В этом нет нужды, Марио, если я скажу, ты уже никогда не полюбишь меня. Я ведь знаю, что ты меня презираешь.
— Никого я не презираю, — возразил Марио. — Просто я ненавижу зло, и жестокость вызывает во мне ужас. Ты так и не избавилась от жестокости, несчастная девочка. Я это понял вчера, когда увидел, что тебе доставляет удовольствие мучить меня. Знай же, что никогда ты не добьешься своего, и оставь меня в покое. Для тебя будет лучше, если я тебя забуду.
— Послушай, Марио, — сдавленным голосом воскликнула Пилар. — Я не заслужила такого к себе отношения! Заклинаю тебя, не говори так, если ты знаешь, что такое любовь! Потому что я люблю тебя и всегда буду любить! Да, я полюбила тебя еще тогда, когда мы оба были одинаково бедны, находили ночлег под любым кустом и попрошайничали на одной улице. Такова я от рождения! Ни одного дня своей жизни я не прожила без любви или ненависти, которые поглощали меня целиком. У меня ведь не было детства! Я родилась от пламени и, наверное, кончу свою жизнь на настоящем костре! Ну и что? Я такая пригожусь тебе больше, чем твоя Лориана, которая всегда смотрела на тебя свысока, а любит она по-настоящему только этих старых гугенотов… и тем лучше для нее! Тем лучше, я уверена в этом! Ведь я видела, как вы жили вместе. Дважды я возвращалась в ваши края, а один раз прошла совсем рядом, но ты меня не заметил. Ты бросил мне мелкую монетку. Посмотри, вот она. Я ношу ее на шее вместе с бусами, как самую большую в мире драгоценность. Я просверлила в ней дырочку и гвоздем нацарапала твое имя. Это мой талисман. Когда его не будет у меня, я умру!
— Ну, ну, — остановил ее Марио, — это безумные речи. Что тебе нужно сейчас? Почему ты, рискуя жизнью, вернулась сюда и поджидаешь меня здесь? Верни мне эту монетку, я дам тебе вот эти золотые, ты в них явно нуждаешься.
— Оставь свое золото себе, Марио, я в нем не нуждаюсь. Я хочу сохранить твой залог и я сохраню его, как бы ты ни стыдился того, что я ношу на груди твое имя. Я пришла, чтобы рассказать свою историю, нужно, чтобы ты ее выслушал.
— Говори же скорей: ночь очень холодная, давно пора спать.
— Но я могу сказать только тебе, а здесь нас услышит твой слуга. Пойдем отсюда вместе со мной.
— Нет. Мой слуга спит за дверью. Говори здесь и поторопись, а то я уйду.
— Слушай же, я расскажу все быстро. Ты ведь знаешь, что моего отца повесили, а мать была сожжена…
— Да, я помню, ты часто об этом говорила. И что же?
— А вот что. К несчастью, я попала в руки Ла-Флеша. Он ломал мне кости, чтобы сделать более гибкой, держал в клетке, отчего я болела и становилась злобной. Он показывал меня, как показывают загнанного зверя, который всех кусает.
— Но твоя месть была не менее ужасной?
— Да, я убила его при помощи песка, камней и земли, потому что он кричал: «На помощь! Дайте мне воды!» Одна его рука еще могла двигаться, и он попытался задушить меня. Но, спасая свою жизнь, я сделала то, чего ему едва не удалось избежать. Разве я не должна была это сделать? Это был мой долг! Возможно, вам, остальным, удалось бы его спасти. Но разве он не отплатил бы вам тем же, чем и Беллинда, которая, если бы не я, вчера отравила бы вас всех, тебя, твоего отца и слуг. И все это, по ее словам, только ради того, чтобы не пострадала моя репутация гадалки и сбылось то, что я при свидетелях тебе предсказала.
— Так, значит, ты и ее тоже…?
— И это тоже был мой долг по отношению к ней! Слушай же, слушай дальше мою историю! Отомстив Ла-Флешу, я спряталась в павильоне в саду. Я видела, что мой поступок вызвал у тебя гнев, и пережидала, пока это пройдет. Мне казалось, что ты будешь тревожиться обо мне, разыщешь и оставишь жить в замке, полюбишь. Но вечером ты пришел туда со своей Лорианой и стал ей говорить, что хочешь стать ее мужем. Она посмеялась над тобой: она считала тебя слишком юным, но, видит Бог, это она слишком стара для тебя! А потом ты сказал ей, что презираешь меня. Это я слышала очень хорошо! Тогда я сделала так, чтобы на нее упал камень. Я хотела убить ее, но вы подумали, что камень упал случайно, ушли, и я осталась совсем одна. Там я и провела ночь, страдая от голода и холода. Я была взбешена, и это меня поддерживало. Я проклинала вас обоих и себя за то, что вызвала твой гнев. Я хотела лишить себя жизни, но смелости мне не хватило. Мне казалось, что я ненавижу тебя и больше не хочу с тобой оставаться, и я пошла в Брильбо за деньгами Санчо, которые я украла для Ла-Флеша два или три месяца назад в доме в Кай-Ботте.
Я тогда не очень ценила деньги и, чтобы навредить Ла-Флешу, отдала их Санчо, который их хорошо запрятал и получил, таким образом, власть над цыганами. Им он обещал, а иногда и подкидывал один-два экю. Я же знала, где он зарыл свои сокровища. Там оставалось еще много, или мне просто казалось, что много, ведь самой мне нужно было так мало. Я несколько раз брала оттуда понемногу и прятала в разных местах.
Я вбила себе в голову, что могу жить одна, ни от кого не завися, путешествовать там, где захочу, — детские мечты! Скоро мне стало скучно, и, когда я встретила Беллинду — а она была в жалком виде, обритая, спасалась бегством, — я рассказала о моем тайном богатстве, скрыв только места, где я его укрыла. О, она очень старалась выведать это: улещивала, изводила, уговаривала и выспрашивала. Она все время надеялась вырвать у меня мой секрет, именно поэтому была по-матерински добра и изображала, что служит мне, была ласкова, чтобы потом предать.
О! Как ужасно она меня предала! Она продала, обманула меня, она не посмотрела, что я еще ребенок. Было уже поздно, когда я поняла все это; охваченная стыдом, я поклялась отомстить ей, как только будет возможно.
Сейчас ее мертвое тело, наверное, уже стало добычей ворон! Дело сделано, Бог свидетель!
— Твои преступления ужасны, несчастная девчонка, — отозвался Марио. — Надеюсь, что это конец?
— Теперь ты должен полюбить меня, Марио, или я отомщу Лориане. Я знаю, ты все еще любишь ее, только что на постоялом дворе ты отказался говорить о ней с теми господами. О! Я ведь тоже там была, спряталась в чулане и слышала все плохое, что ты там обо мне говорил.
— Если слышала, то как можешь требовать от меня любви? Это безумство.
— Я не безумна! От ненависти до любви один шаг, я это испытала на себе. Можно ненавидеть и обожать в одно и то же время. Ты ведь сам признал, что мои глаза стали красивее, а руки тоньше, что во мне появились красота и свежесть юности. Ведь так ты сказал недавно на постоялом дворе. А накануне многие из этих дворян делали мне такие предложения, что я могла бы накупить еще много других юбок из тафты и много других красивых серег. И все потому, что я, все равно, красивая или уродливая, вскружила им головы. Но мне ничего не надо ни от них, ни от тебя. У меня еще остались деньги, спрятанные в Берра, и я могу уйти, когда захочу. Бойся этого, Марио. Лориана ответит мне за тебя. Или ты возьмешь меня с собой, или останешься без нее.
— Ты сама признаешься в своих преступных замыслах, — сказал Марио, — и я вынужден тебя задержать.
Он попытался схватить цыганку, полный решимости отдать ее в руки правосудия, но смог удержать, только ее шарф: исчезающая быстрее, чем гонимые ветром тучи, она сбежала.
Он стал ее преследовать и наверняка догнал бы, но, едва повернув за угол, он услышал громкие звуки труб. Это был сигнал седлать коней, начинался бой. И Марио побежал к отцу, который уже поднялся по тревоге.
Ранним утром все были уже на марше. Сузский перевал — это ущелье длиной в четверть лье, а шириной — не более двадцати шагов, местами перегороженное обломками скал. Уловки принца Пьемонтского привели в конце концов к тому, что наша армия выступила на два или три дня позднее. Противник выиграл время и хорошо укрепился.
Ущелье было разделено тремя укрепленными баррикадами с ограждениями и рвами вокруг. На господствующих высотах с двух сторон от них в небольших редутах находились солдаты.
Пушка форта Талласс, сооруженного на соседней горе, простреливала открытое пространство между Шомоном и входом в ущелье. Это была одна на тех позиций, в которой горстка людей способна остановить целую армию.
Но ничто не могло остановить «французскую ярость»[110].
Многие блестящие историки описали для нас эти славные события, после них мы можем добавить лишь немногое. Но наша задача не в изложении истории по известным фактам, а в ее воссоздании по забытым эпизодам. Поэтому мы последуем за прекрасными господами из Буа-Доре через все перипетии битвы, оставив в стороне восторги по поводу грандиозности происходящих событий. Нам тем более необходимо так поступить, потому что сами они не имели никакой возможности созерцать происходящее.
Зрелище было великолепное! Героическое сражение на фоне величественного пейзажа!
При первом же выстреле пушки воодушевление родилось в сердце Марио. Он сам не мог объяснить, как преодолел первую баррикаду, почему нарушил данное отцу слово не удаляться от него в течение боя. Казалось, что его нес крылатый конь или дуновение самого бога огня Марса. Вся страсть его души, весь жар его крови, которые обычно сдерживались скромностью и сыновней любовью, теперь вышли наружу подобно извержению вулкана.
Он не помнил даже о том, что отец всегда следовал за ним, чтобы не терять сына из виду, подвергал себя такой же опасности.
Здесь же был Аристандр, готовый в любую минуту закрыть собой хозяина, но в самый разгар боя Марио искал среди дерущихся серый султан старика, который возвышался над всеми. Каждый раз, видя его развевающимся на ветру, он благодарил небо и снова вверял себя своей судьбе.
Напор штурмующих был так велик, что среди французов оказалось не более полусотни погибших. Это был один из тех необыкновенных дней, когда вера присутствует повсюду и нет ничего невозможного.
После того, как позиция была отвоевана, Марио бросился на Сузскую дорогу преследовать отступающих, среди которых был сам герцог Савойский. Вдруг он увидел справа от себя бегущего человека в маске.
— Остановитесь, остановитесь, — кричал ему человек. — Служба королю важнее всего! Возьмите эти донесения. Я вас знаю, я могу вам довериться!
При этих словах шевалье потерял сознание и упал на землю, его загнанный конь грузно опустился на оба колена.
Марио оказался единственным из группы наступавших, кто смог пожертвовать последней схваткой, он спрыгнул на землю, подобрал секретный пакет, который выпал из рук курьера.
Но как только он повернул поводья, направляясь в лагерь короля, группа вооруженных людей, которая, по всей видимости, не принимала участия в боевых действиях, а занималась преследованием гонца, показалась справа от Марио. Люди бросились на него, требуя отдать пакет без всякого сопротивления и обещая за это сохранить жизнь. Говорили они по-итальянски.
Марио стал звать на помощь. Но его никто не слышал. Отец был далеко позади, а товарищи за это время успели ускакать вперед. Чтобы быть услышанным, Марио сделал выстрел из ружья в направлении нападавших. Один из них упал на землю. Марио не стал дожидаться остальных. Он вскочил на коня и стрелой помчался сквозь шквал выстрелов. Пули попали в его шляпу и в склон горы, вдоль которого он скакал.
Он услышал позади шум, крики, выстрелы, но не стал оглядываться. Он не видел лица и не узнал голос посланца. Ему было очень жаль оставлять в руках врагов человека, который так хорошо проявил себя. Но прежде всего ему надо было спасти послание, и ему это чудом удалось.
Его бешеная скачка в обратном направлении вызвала у встречных удивление. Уже приближаясь к королевской ставке, Марио увидел скакавшего ему навстречу отца. Тот, увидев мчавшегося Марио, испугался, решив, что сын ранен и лошадь понесла его.
— Ничего страшного! — успел крикнуть ему Марио и исчез в вихре пыли.
К королю его не допустили, и Марио, сразу приняв решение, помчался к кардиналу.
Встретиться с кардиналом было нелегко, поскольку на него уже неоднократно готовили покушения. Но бумаги, которыми Марио потрясал над головой, и взволнованное лицо достойного молодого человека сразу же внушили доверие великому министру. Он принял Марио и взял у него пакет. Марио так спешил, что передал послание, даже не опустившись на одно колено.
Глава семидесятая
Кардинал прочел послание.
Похоже, что в нем были хорошие новости: может, сообщалось, что силы, которые собрал Гонсалес из Кордобы около Казаля, не столь уж велики, а может быть, кардинала информировали о заговоре королев против испанских властей, что могло бы спасти Францию…
Как бы там ни было, но кардинал с тонкой улыбкой сложил послание и посмотрел на Марио, сказав:
— Благосклонная судьба все устроила сегодня прекрасно, выбрав в качестве посланца архангела. Кто вы сударь и почему именно вы доставили эту депешу?
— Я дворянин-доброволец, — ответил Марио. — Я взял это послание из рук умирающего. Он передал его мне в тот момент, когда мы преследовали врага. Он сказал мне: «Служба королю важнее всего». Я не смог приблизиться к королю и решил передать Вашему Преосвященству.
— Вы решили, что это все равно, в том смысле, что у короля не может быть секретов от первого министра?
— Я решил, что у него не должно быть секретов, — спокойно ответил Марио.
— Как вас зовут?
— Марио де Буа-Доре.
— Сколько вам лет?
— Девятнадцать.
— Вы были в Ла-Рошели?
— Нет, монсеньор.
— Почему?
— Мне не нравится сражаться с протестантами.
— Вы из гугенотов?
— Нет, монсеньор.
— Но вы их одобряете?
— Мне жаль их.
— Если вы хотите о чем-нибудь попросить меня, говорите скорей: время дорого.
— Единственное, о чем я прошу, чтобы Вы, Ваше Преосвященство, чаще давали нам возможность переживать такие дни, как сегодняшний! — ответил Марио, стараясь не занимать время у кардинала, и удалился, не заметив, что тот хотел с ним еще побеседовать.
Но у первого министра было много дел, он занялся другим и забыл о Марио.
На следующий день, когда войска размещались в Сузе, Марио показалось, что на глаза ему попался господин Пулен, переодетый крестьянином. Он окликнул его, но тот не ответил.
Господин Пулен скрывался, что ему приходилось делать нередко. Он выполнял секретные поручения и поэтому старался быть неузнанным и никогда не являлся открыто к тем важным персонам, чьи поручения исполнял.
Пока король, точнее кардинал, принимал в Сузе капитуляцию герцога Савойского, что заняло несколько дней, маркиз отдыхал после пережитых волнений.
Хотя проводимая Ришелье военная кампания совсем не походила на партизанские войны эпохи молодости маркиза, Буа-Доре чувствовал себя здесь вполне уверенно, словно никогда и не покидал полей сражений, но он очень переживал в эти трудные часы за своего дорогого Марио. Сначала он опасался, что сын не оправдает его надежд, ибо с той ужасной ночи штурма Брианта и смерти Санчо Марио часто давал понять, что вид льющейся крови ему отвратителен. Иногда даже, видя, как мало сын интересуется осадой Ла Рошели, которая взволновала умы всей молодежи, маркиз, хотя и одобрял его принципы, опасался, что юноша излишне осторожен. Но когда он увидел, как Марио обрушивался на баррикады и взбирался на редуты в Сузском ущелье, он счел, что мальчик слишком отважен, и просил у Бога прощения за то, что привел его сюда. Наконец, он обрел уверенность, а узнав об истории с депешей, разрыдался от счастья на груди верного Адамаса, что-то бессвязно бормоча.
Что касается Адамаса, то все в городе отмечали его надменный вид и презрение ко всем, кроме господина маркиза и господина графа де Буа-Доре. Аристандр был очень доволен, убив множество пьемонтцев, но ему хотелось убить побольше испанцев. Клиндор также показал себя неплохо, сначала он был несколько испуган, но потом справился с собой.
А Марио не покидала тревога. Он, всегда презиравший пустые предсказания, прошедший через огонь, ни о чем таком не думая, чувствовал, что слабеет перед глупой угрозой Пилар; она вновь и вновь являлась ему в грезах, словно некий дух зла, превратившийся в невидимого и неуловимого врага. Ему уже довелось узнать, что самые слабые, но самые упорные в ненависти противники могут стать самыми опасными. Он постоянно вспоминал Лориану, ему казалось, что ей грозит смертельная опасность. Свои страхи он принимал за предчувствия.
Однажды утром он вернулся в Шомон, сказав, что решил прогуляться. Напрасно расспрашивал он всех о маленькой цыганке. Он добрался и до горы Женевр и узнал, что там утром 3 марта было обнаружено тело женщины. Сначала думали, что она замерзла, но ее губы и щеки были словно обожжены, будто бы она неожиданно проглотила какой-то яд. Крестьяне, сообщившие это Марио, предложили ему посмотреть труп. Его пока зарыли в снегу, так как земля в этих местах сильно промерзла и ее трудно было долбить.
Марио тут же убедился, что перед ним труп Беллинды. Итак, Пилар не солгала. Она избавилась от своей спутницы, она могла тем же способом избавиться и от соперницы.
Марио поспешил вернуться в Сузу и рассказал обо всем отцу.
— Отпустите меня в Бриант, — попросил он. — Если кампания продолжится, ждите меня здесь. Если же мир подписан окончательно, а это будет известно через несколько дней, вы приедете ко мне, не торопясь, чтобы вам не устать. Один я могу ехать быстрее, во всяком случае достаточно быстро, чтобы обогнать эту ненавистную девчонку, ведь у нее нет ни средств, ни сил, чтобы ехать почтовыми каретами.
Маркиз согласился. Марио тотчас же отдал распоряжения Клиндору, наметив отъезд на следующее утро.
Вечером с предосторожностями явился господин Пулен. Он был доволен и в то же время имел таинственный вид.
— Господин маркиз, — сказал он, оставшись наедине с Буа-Доре и с Марио, я уже и так обязан вам многим, а теперь я обязан своей удачей вашему милому сыну. Ценное послание, переданное мной гонцу и которое удалось спасти Марио, обеспечило мне менее опасную и более важную должность в окружении отца Жозефа, а это значит, и в окружении кардинала.
Я хочу отплатить вам и сообщить, что ваше единственное честолюбивое желание удовлетворено. Король ратифицировал ваши права на маркизат Буа-Доре при условии, что вы выстроите на ваших землях дом, которому дадите это имя. Оно, по королевской грамоте, будет передаваться вашим наследникам и потомкам. Его Преосвященство надеется, что, если военные действия будут продолжаться, вы останетесь на войне, и в первую же свободную минуту господин кардинал пошлет за вами, чтобы лично поблагодарить за великое мужество и преданность «старика» и «ребенка»: простите, но это его собственные слова. Господин кардинал отметил вас обоих и поинтересовался, как вас зовут. Особенно он отметил вас, господин граф, за то, что вы просили о единственной награде — участии в битвах.
Я, персона незначительная, имел счастье лично предстать перед ним и рассказать о превратностях моей судьбы и вашей, не преминув упомянуть, что в одиннадцать лет вы собственной рукой поразили убийцу вашего отца, затем я напомнил ему, что этому же юноше, столь же разумному, сколь и храброму, он обязан получением доброго и нужного известия. Вы встали на хорошую дорогу, господин Марио. Я мало что могу, но всеми силами готов поспособствовать вам на этом пути, если представится случай.
Несмотря на то, что маркиз горел желанием представить сына кардиналу, Марио не захотел дожидаться обещанной встречи.
Он горячо поблагодарил аббата Пулена (тот вполголоса с улыбкой сказал, что теперь его уже можно так именовать). Марио был очень рад за своего отца и за Адамаса, счастливых обретением титула. Затем он бросился на постель, проспал несколько часов, еще раз расцеловал старых друзей и на рассвете выехал в сторону Франции.
Марио хотел бы лететь на крыльях, но пришлось ехать на перекладных. В битве при Сузе его ранили, но он скрыл это, и силы ему изменили — рана воспалилась, началась лихорадка, и по приезде в Гренобль он серьезно заболел и слег. Перепуганный Клиндор обнаружил, что Марио бредит.
Бедный паж побежал за врачом. С лекарем не повезло, он лишь ухудшил своим лечением состояние. Марио стало совсем плохо. Его нетерпение и огорчение от того, что он тут застрял, усугубили дело. Клиндор решил послать письмо маркизу, но, совершенно потеряв голову, он отправил нарочного в Ниццу, а не в Сузу.
Однажды вечером, когда Клиндор совсем отчаялся и плакал на лестнице рядом с комнатой, где лежал обессиленный Марио, пажу показалось, что больной говорит сам с собой, и он бросился в комнату.
Марио был не один: худенькая фигурка склонилась над ним, словно расспрашивая его.
Клиндор испугался. Он решил, что дьявол явился, чтобы помучить его хозяина перед смертью, и он пытался вспомнить молитву об изгнании дьявола, как вдруг в слабом свете свечи узнал Пилар.
Он перепугался еще больше. Он слышал ее разговор с Марио в Шомоне. Он знал, что она влюблена в него до безумия. Он твердо верил, что она служит сатане, и страх подействовал на него, как обычно, то есть Клиндор осмелел и со шпагой в руке бросился на нее. Он едва не поранил Марио, потому что Пилар увернулась от удара.
Еще раз он не смог ударить, Пилар обезоружила его, причем он сам не понял, каким образом. Она так быстро и неожиданно прыгнула на него, что у него вдруг разжались пальцы.
— Успокойся, глупец и безумец, — сказала она, — я здесь не для того, чтобы причинить зло Марио, а для того, чтобы спасти его. Разве ты не знаешь, что я люблю его и что в нем — вся моя жизнь? Делай то, что я тебе скажу, и через два дня он встанет.
Клиндор, убедившись, что каждый рецепт приглашенного врача лишь ухудшал здоровье больного, уступил настойчивости Пилар. Хотя она и внушала ему страх, он чувствовал ее влияние; он боялся признаться в этом, но противиться не мог. Иногда он трепетал при мысли, что ей доверена жизнь Марио, но подчинялся, говоря себе, что она его околдовала.
Лихорадка у Марио была лишь результатом нервного возбуждения: один день отдыха излечил бы его рану. Но врач наложил повязку с мазью, которая отравляла все его существо. Пилар промыла и очистила рану.
Она знала «тайны» морисков и дала больному противоядие.
Его чистая кровь и здоровый организм ускорили действие лекарства. Той же ночью Марио пришел в себя и утром уже не бредил. На следующий вечер, хотя он был еще очень слаб, тем не менее понял, что спасен.
Охваченный радостным восторгом Клиндор, сам того не заметив, признался ловкой цыганочке в любви. Она не обратила на это никакого внимания. Она спряталась за спинкой кровати, чтобы Марио ее не заметил. Она прекрасно знала, что, увидев ее, он разволнуется.
На следующий день Марио почувствовал себя настолько окрепшим, что послал Клиндора купить дорожную карету, чтобы они могли продолжить путешествие. Тот, решив, что ехать рано,заявил, что кареты не нашел. Тогда Марио приказал привести лошадей и намеревался ехать на перекладных.
Его упорство огорчало Клиндора, но туг вмешалась Пилар. Марио, увидев ее и узнав, что именно ей он обязан жизнью, так рассердился, что едва не заболел снова, однако он тотчас же успокоился и заговорил с ней ласково:
— Ты откуда? Где ты была? Помнишь, тогда ты угрожала мне?
— Знаю, ты боишься за нее, — ответила Пилар с горькой улыбкой. — Успокойся, я не успела туда добраться. Я не пойду, если ты больше не будешь ненавидеть меня.
— Я не буду ненавидеть тебя, Пилар, если ты откажешься от мести, но если ты будешь упорствовать, я тебя возненавижу, возненавижу и жизнь, что ты мне вернула.
— Не будем сейчас говорить об этом, можешь быть спокоен и можешь не ехать в Берра. Ведь я здесь, рядом с тобой, и этим все сказано.
Пилар коснулась самой сути дела. Марио успокоился и согласился до выздоровления остаться в Гренобле. Ему пришлось согласиться также на то, что Пилар останется при нем. Теперь он и помыслить не мог о том, чтобы отдать в руки правосудия Пилар, тем самым вернув ее на путь истинный, ведь ей он был обязан жизнью. Он не осмеливался сердить ее, выказывая презрение, преодолевал неприязнь, которую она ему внушала, старался беспокоиться, когда ее долго не было, и радоваться ее возвращению.
Но долго так продолжаться не могло. Пилар, на которую доводы морали не действовали, хотела быть любимой. Она говорила о своей страсти с каким-то первобытным красноречием, считая это чувство вполне целомудренным, потому что не умела рассуждать, и вполне возвышенным, в чем ей помогало богатое и неподвластное разуму воображение и неукротимое упрямство. Она осыпала Лориану проклятиями, горько упрекала Марио, нисколько не стесняясь присутствием несчастного Клиндора.
Вскоре Марио устал играть навязанную ему смешную роль. Напрасны были все его старания переделать ее натуру, не способную любить добро ради него самого.
— Если бы любовь к Лориане не делала тебя слепым, — говорила она ему с ужасающим прямодушием, — ты позволил бы мне отомстить за тебя, потому что она тебя презирает и всегда будет презирать.
Глава семьдесят первая
Однажды вечером, когда Марио уже стал вставать, он вышел на улицу один, опьяненный свежим воздухом и свободой. Он был полон решимости продолжать путешествие, как бы ни пришлось поступить с Пилар: временно лишить ее свободы или взять с собой и обращаться с ней уважительно.
Обдумывая свои дальнейшие действия, Марио медленно поднимался по направлению к Визитандинскому монастырю, невольно привлеченный высотой его башен. Вдруг он очутился лицом к лицу с каким-то человеком. Оба остановились. Оба были вынуждены посмотреть друг на друга.
Это была женщина благородного происхождения, если судить по ее виду и по тому, как она была одета, небольшого роста, худая, бледная, но молодая и красивая. Так по крайней мере казалось, потому что лицо ее закрывала черная полумаска, какие высокородные дамы носили тогда во время прогулки. На ней была вдовья шапочка, черное одеяние. Светлые с пепельным оттенком волосы разделены пробором и красиво уложены на висках.
Мягкая грация и сдержанность ее походки еще издали привлекли внимание Марио. При ее приближении его поразил цвет ее волос, контрастирующий с черным цветом одеяния. Сердце Марио забилось сильнее. Наваждение не проходило. Очутившись с ней лицом к лицу, он чувствовал волнение и смущение.
Дама в маске тоже казалась взволнованной. Наконец, она прошла мимо, ответив на приветствие Марио.
Марио прошел шагов двадцать, постоянно оборачиваясь. Затем он сделал еще двадцать и остановился. «Я боюсь показаться неучтивым и встретить холодный прием, но я должен узнать, кто эта дама!» — сказал себе Марио. Он вернулся бегом и снова оказался перед дамой в маске.
Стоя друг против друга, они все еще колебались, готовые во второй раз пройти мимо, так и не осмелившись заговорить. Но дама, наконец, решилась:
— Простите меня, — сказала она с волнением, — если я не ошибаюсь, вы — Марио де Буа-Доре?
— А вы — Лориана де Бевр? — воскликнул потрясенный Марио.
— Как же вы меня узнали? — изумилась Лориана, снимая маску. — Смотрите, как сильно я изменилась.
— Да, — ответил восхищенный Марио, — раньше вы и вполовину не были такой красивой.
— Право, не считайте себя обязанным говорить мне комплименты, — сказала Лориана. — Смерть моего отца, страдания наших единомышленников, поражение протестантов сделали меня старше моих лет. Но расскажите о себе и о ваших близких, Марио!
— Конечно, Лориана, возьмите меня под руку и давайте пойдем к вам, так как мне нужно поговорить с вами. Если у вас здесь нет надежной защиты, то, знайте, я вас не оставлю.
Лориану удивил возбужденный тон Марио, она подала ему руку и сказала:
— Я не смогу, даже если бы и захотела, отвести вас в мое убежище. Я живу в том монастыре, на холме. Но вы можете проводить меня до ворот, а по дороге мы расскажем друг другу все, что с нами произошло.
Она начала первой и поведала Марио, что после взятия Ла Рошели, когда ей не позволили разделить заключение мадам де Роган, она захотела вернуться в Берра. Но ей дали понять, что принц Конде приказал вновь ее арестовать, если она вернется туда.
Ее старая тетушка, единственная преданная родственница, была настоятельницей монастыря визитандинок в Гренобле: она когда-то была протестанткой, ее заключили в этом монастыре и в конце концов убедили переменить веру, когда она была еще очень юной. Но она по-прежнему очень участливо относилась к протестантам и настойчиво приглашала Лориану спрятаться здесь, обещая защищать ее до окончания войны на юге. Лориана нашла здесь покой.
Монахини, так же как и сестры в Бурже, не преследовали ее. Из уважения к ее тетушке они даже сделали вид, что не знают о том, что Лориана еретичка. Она могла, скрыв свое лицо, выходить одна за ворота, чтобы утешать и помогать несчастным протестантам, прятавшимся в пригородах.
— Лориана, — сказал Марио, — вам не надо выходить и не надо показываться людям, пока я вам не разрешу. Лишь милосердие Провидения уберегло вас от встречи с опасным и невидимым врагом. Мы уже у дверей монастыря, поклянитесь, что не покинете его, пока я не приду повидаться с вами.
— А когда я увижу вас?
— Завтра. Мы сможем поговорить в приемной?
— Да, в два часа.
— Поклянитесь, что не покинете монастырь.
— Клянусь вам.
Марио дождался, когда дверь монастыря закрылась за Лорианой. Он считал, что она здесь в безопасности, даже если ее обнаружит Пилар. Марио внимательно осмотрелся, чтобы убедиться, что Пилар за ним не следила и не преследовала его. Он знал, что она готова будет уничтожить весь монастырь, лишь бы добраться до соперницы.
Марио вернулся к себе, но Пилар там не обнаружил. Клиндор не видел ее после ухода хозяина.
Марио почувствовал, что волнение опять проникло в его сердце. На всякий случай он вышел на улицу и тут услышал шум, заставивший его остановиться. Он увидел Пилар: ее вели лучники при свете факелов. Она кричала, кричала свирепо и жалобно. Когда она увидела Марио, она протянула к нему руки с такой мольбой и таким отчаянием, что он на миг содрогнулся.
— О, жестокосердный! — крикнула Пилар. — Вот как заплатил ты мне за мою любовь и заботы: бросил в темницу. Мерзавец! Хочешь отделаться от меня? Будь ты проклят!
Марио не стал с ней разговаривать, а обратился к начальнику стражи, уводившей Пилар:
— Скажите, вы забираете ее на ночь просто за бродяжничество или же надолго по подозрению в преступлении или каком-то проступке?
Ему ответили, что ее обвиняют в преступлении. Врач, который так неудачно лечил Марио, был недоволен тем, что ему помогла какая-то бродяжка, и обвинил ее в том, что она отбивает у него больных, причем изложил это в форме обвинения в незаконном занятии медициной. Подобное обвинение могло привести в ту эпоху к гораздо более серьезным последствиям, чем в наши дни, потому что всегда мог возникнуть вопрос о колдовстве, преступлении, за которое самые важные магистраты карали смертью.
«Что бы с ней ни случилось, — сказал себе Марио, — надо, чтобы эта опасная цыганка потеряла след Лорианы, если она уже не нашла его».
На следующий день он помчался в монастырь.
— Теперь, — сказал он Лориане, — мы можем вздохнуть свободней, но не следует забывать об опасности.
И он рассказал ей всю историю с цыганкой. Лориана внимательно его выслушала.
— Теперь, — сказала она, — я все понимаю. Знаете, Марио, почему я так разволновалась, увидев вас вчера, и почему набралась храбрости и обратилась к вам, хотя и не была уверена, что вас узнала? Знаете, почему я сначала заколебалась, решив, Что мое воображение обмануло меня? Восемь дней назад я получила анонимное письмо, полное угроз и проклятий, в котором мне писали, что вы погибли в битве в Сузском ущелье. Это известие потрясло меня. Я оплакивала вас, Марио, как оплакивают брата. Я сразу же написала вашему отцу и отправила письмо с почтой. Однако, поразмыслив, я почувствовала сомнения: уж очень подозрительно было письмо. Когда я вас встретила, я как раз направлялась в город, чтобы по возможности выяснить, кто из дворян погиб в сражении. Я решила, что, если среди убитых окажется и ваше имя, поеду к вашему отцу и постараюсь поддержать его и останусь ухаживать за ним в этом смертельном испытании. Это был мой долг, не правда ли? Ведь он когда-то был так добр со мной.
Марио смотрел на Лориану и не мог оторвать взор от ее взволнованного лица, от глаз, зажженных страданием, от следов только что пролитых слез.
— Ах, Лориана, — воскликнул он, целуя ей руку, — неужели я вам еще хоть немного дорог?
— Вы — мой друг, и я уважаю вас. Я знаю, что вы не захотели сражаться с протестантами.
— Да, никогда не хотел. Но я никогда и не говорил о главной причине! Теперь я могу ее открыть: я боялся, как бы мне не пришлось стрелять в вашего отца и в ваших друзей. Лориана, я нежно любил вас, почему же ваши письма моему отцу были такими холодными?
— Теперь я тоже могу открыть вам мое сердце, дорогой Марио. Четыре года назад, когда мы виделись последний раз в Бурже, моему отцу пришла в голову странная идея обручить нас. Ваш отец, как ему и следовало, посчитал его предложение недостаточно обдуманным. Легкомыслие моего бедного отца поставило меня в унизительное положение, поэтому я и писала вам несколько раз о планах устройства моей личной жизни, на самом же деле я об этом и не помышляла.
В то же время я на словах была холодна с вами, мой дорогой Марио, и, возможно, меня задевало, что вы предполагали во мне претензии на брак.
Сегодня же мы можем улыбнуться, забыв прошлые несчастья, и будьте ко мне справедливы, поверьте, я не думаю ни о каком браке. Мне двадцать три года, мое время прошло. Наша партия разбита, мое состояние будет конфисковано по малейшему капризу принца Конде. Мой бедный отец умер, и превратности войны отняли у него все богатства, нажитые в морских походах.
Я теперь уже не молода, не красива, не богата. Но одно радует меня: я теперь могу жить недалеко от вас, и никто не заподозрит, что я рассчитываю на что-нибудь другое, кроме дружбы.
В смущении дрожащий Марио слушал Лориану.
— Лориана, — горячо взмолился он, — не я, а вы пренебрегаете моим именем, возрастом и чувствами, предлагая возобновить спокойные дружеские отношения. Я должен сказать, что сделать это уже поздно. Я всегда любил вас возвышенной любовью, разлука и новая встреча лишь укрепили мое чувство, оно осталось таким же благородным.
На мою долю тоже выпало много страданий, Лориана. Но никогда я не отчаивался. Безысходность почти убивала меня, но я противился этому. В такие минуты Бог приходил мне на помощь, посылал вести, укреплявшие мою веру в вас и надежду на его милосердие. Это было подобно глотку свежей воды.
«Она знает, не может не знать, что я умру без ее любви, — убеждал я себя, — она полюбит меня, она никогда не полюбит никого другого, у нее такая добрая душа! Пусть я еще слишком молод, но я скоро смогу стать достойным ее. Для этого я буду много трудиться, сохраню живую душу, стану смелым, буду заботиться о счастии тех, кто меня любит. А еще я буду хорошим воином, если начнется новая славная война».
Ведь вы согласны со мной, Лориана, ведь сердце ваше осталось прежним и в нем нет любви к испанцам?
— Конечно, нет, — ответила она. — Меня мало интересуют эти события, и я осталась здесь ждать их завершения только потому, что господин де Роган решился на этот безумный, унизительный, продиктованный отчаянием союз.
— Теперь вы сами убедились, Лориана, что больше ничего нас не разделяет. Наверное, я не стал еще вполне благоразумным человеком и не знаю, каким стану, но теперь я знаю о себе не так уж мало. Например, я могу сражаться так же решительно, как мои товарищи по армии. А многим из них было двадцать пять, тридцать лет.
В своем чувстве я уверен, Лориана, и сохраню его на всю жизнь. В этом нет моей заслуги. Я, наверное, родился верным, несмотря на мой юный возраст, ни одна женщина не стала для меня такой же прекрасной и привлекательной, как вы. Мое сердце принадлежит вам с самого первого дня нашего знакомства. Видеть вас стало для меня потребностью, не было ни одного дня в Брианте, когда я не думал о вас, пренебрегая играми и развлечениями.
Часто ради вас я оставлял книга и занятия. То, о чем я думал и говорил вам восемь лет назад в известном вам лабиринте, я готов повторить сегодня.
Без вас я не буду счастлив, Лориана! Чтобы быть счастливым, мне нужно видеть вас каждый день. Я знаю, что не имею права просить вас: «Сделайте меня счастливым!» Вы свободны! Но, быть может, ваша жизнь со мной станет более радостной, чем прежнее существование с бедным вашим отцом или нынешняя одинокая, полная гонений и опасностей жизнь.
Мне не нужно ваше богатство, но если оно нужно вам, я готов защищать ваши права, как только мир будет заключен, я готов бороться с вашими врагами.
Выйдя за меня замуж, вы обретете свободу убеждений, под моей защитой и покровительством вы сможете молиться так, как считаете нужным. Мы не будем бороться друг с другом за нашу веру, как делают это на наших глазах король и королева Англии. Если вам нужен титул, вы его получите, потому что теперь уже нет никаких сомнений в том, что я маркиз. Вы стали не так красивы? Но я не вижу этого и никогда не увижу. Я заметил, что вы переменились. Сегодня вы более бледная и худая, чем были в шестнадцать лет. Но, на мой взгляд, вы стали еще лучше. Даже если бы вы никогда не были красивы, мне кажется, что я все равно любил бы вас.
А если счастье женщины в том, чтобы быть красивой для того, кого она любит, то любите меня, Лориана, и вы обретете это счастье. Не прерывай меня, моя Лориана, разреши мне говорить с тобой, как раньше. До этого дня у меня хватало и мужества, и терпения, не отнимай их у меня теперь. Если ты хочешь, чтобы я оставался пока твоим другом и братом, я готов ждать, когда ты доверишься мне. Если ты хочешь, чтобы я вернулся на войну, а это и мое желание, ты можешь приехать в лагерь как воспитанница и приемная дочь моего отца. Мы увидимся не раньше, чем ты захочешь. Мы можем не видеться до тех пор, пока ты не решишь стать моей женой. Только не покидай нас больше, потому что, с твоей любовью или без нее, мы были и хотим всегда оставаться твоей семьей, твоими друзьями, защитниками, рабами и всем тем, кем ты хочешь, чтобы мы были, при условии, что ты позволишь любить тебя и тебе служить.
В ответ на эти великодушные слова Лориана сжала руки Марио.
— Ты — ангел, — проговорила она, — и мне потребуется мужество, чтобы отказать тебе. Но я слишком сильно люблю тебя, чтобы связать твою блестящую судьбу со своей, несчастной и горестной, я слишком люблю твоего отца, чтобы доставить ему такое огорчение.
— Моего отца? Ты все еще сомневаешься в моем отце? — не выдержал Марио. — О, Лориана! Ты так и не поняла, что это твой отец обманул тебя! Скажи лучше, что не любишь меня и никогда не любила!..
В это время кто-то громко позвонил у решетки монастыря.
Спустя минуту в комнате уже находился маркиз Буа-Доре. Он заключил в объятия Марио и Лориану.
Маркиз не дождался посланного Клиндором курьера, но получил письмо Лорианы. И так как мир был уже заключен и можно было возвращаться в Берра, он приехал в монастырь за Лорианой, собираясь увести ее с собой. Теперь маркиз очень удивился, встретив Марио, он предполагал, что Марио уже вернулся в Бриант.
Произошло объяснение. Затем Марио взволнованно обратился к маркизу:
— Вы приехали вовремя, отец. Лориана думает, что вы ее не любите!
Опять последовали объяснения.
Видя волнение и огорчение Марио, маркиз улыбнулся.
Лориана поняла смысл его улыбки.
— Дорогой мой маркиз, — воскликнула она, покраснев, вся дрожа, — верните мне письмо, которое я написала вам, когда считала вашего сына погибшим! Я хочу, чтобы вы вернули его, не показывайте его…
— Никогда, — с лукавым видом ответил маркиз, протягивая письмо Марио, — никогда он его не увидит, если только не вырвет его у меня из рук, а он на это вполне способен, как видите.
Глава семьдесят вторая
Письмо было коротким и печальным. Пока Марио читал, Лориана спрятала лицо на груди старика.
Лориана, только что пережившая горечь утраты, писала маркизу, что продолжала любить Марио после разлуки с ним и будет носить траур по нему всю оставшуюся жизнь.
«С этого дня, — писала она, — я действительно почувствовала себя вдовой».
— Теперь вы не вдова и никогда ею не будете, моя Лориана, — сказал маркиз, снимая с нее черную шапочку. — Я не желаю лучшей дочери, свадьбу отметим в Брианте.
Можете себе представить, какой праздник был в замке, когда вернулись оба хозяина, Лориана, Адамас, Аристандр и Клиндор, который, чтобы сбросить чары цыганки, тут же принялся ухаживать за всеми крестьянками подряд.
Однако свадьба двух любимых детей доброго Сильвена не могла состояться, прежде чем Лориана не подчинится королю и не получит его прощения, так как в минуту отчаяния она примкнула к мятежникам.
Война на юге с протестантами была недолгой, но кровавой. Это был последний вздох протестантской партии как политической силы.
Марио с Клиндором отправились к аббату Пулену, который пользовался особым доверием у короля и мог ходатайствовать за Лориану. Аббат Пулен более, чем кто-либо, мог выпросить прощение, так необходимое ей.
В разговорах об этом прошла встреча, и, уже собираясь домой, они вышли на порог и почувствовали жуткий запах гари. Аббат, который вышел их проводить, воскликнул:
— Где-то начался страшный пожар, вы чувствуете? И мне кажется, что вот-вот запылают наши одежды.
— Вы правы, господин аббат, — откликнулся Клиндор, любивший вмешиваться в чужой разговор, — здесь чувствуется отвратительный запах горелого.
— Действительно, — заметил Марио, — похоже, за холмом горит какой-то дом. Видите, дым идет?
— Не стоит обращать внимание, — сказал аббат. — Какая-нибудь хижина, наверное. Признаюсь, господин граф, я устал от стольких несчастий. Раньше я ненавидел гугенотов, но теперь, когда они повержены, я чувствую то же, что и вы: мне жаль их. Я был свидетелем дела Прива[111]. Так вот, с меня хватит, и я призываю особо жаждущих мщения успокоиться.
— Я тоже так думаю, — со вздохом заметил Марио, — но послушайте, господин аббат, там кричат, люди там страдают, поедемте посмотрим.
Действительно, из-за холма, откуда шел дым, раздавались крики, точнее, один-единственный крик, долгий, пронзительный, жуткий. Крик длился мучительно долго, казалось, кричал ребенок. Это произвело впечатление на аббата. Клиндор не мог поверить, что это кричал человек:
— Нет-нет, — говорил он, — это пастушья дудка, а, может, режут козленка.
— Это человеческое существо умирает под пытками, — ответил аббат, — я слишком хорошо знаю такую жуткую музыку.
— Скорее туда! — воскликнул Марио. — Может, успеем спасти несчастное создание. Едем же, аббат! Подписан мир, и никто не имеет права пытать гугенотов.
— Слишком поздно, — ответил аббат. — Уже ничего не слышно.
Крики неожиданно прекратились, исчез и дым. Может быть, они ошиблись.
Тем не менее спутники погнали лошадей и быстро поднялись на вершину холма.
Оттуда они увидели в глубине долины, гораздо дальше, чем они думали, группу крестьян, возбужденно толпившихся у погасшего костра. Не успели они доехать до них, так, чтобы окликнуть, крестьяне разбежались. Только одна старая женщина осталась у дымящихся головней, она переворачивала пепел вилами, словно искала там что-то. Марио первый оказался у остатков этого пожарища, откуда шел горький, отвратительный запах.
— Что вы тут ищете, матушка? — спросил он. — Что это здесь сожгли?
— Да ничего, мой прекрасный господин! Всего лишь колдунью, которая одним взглядом наводила на людей лихорадку. Наши мужчины покончили с ней, а я смотрю, не осталось ли в пепле какого-нибудь ее секрета.
— Какого еще секрета? — возмутился Марио, которому внушало отвращение хладнокровие этой старухи.
— У нее на шее было что-то блестящее, — ответила старуха. — Когда она билась в огне, эта штука упала. И тогда она крикнула: «Я погибла, у меня ее больше нет!» Наверное, какой-нибудь амулет от всех несчастий. Вот я и хочу его найти.
— Вот она, возьмите, — и Марио подобрал с земли монетку с дыркой.
— Это она, она самая, мой прекрасный господин. — Дайте мне за то, что я так хорошо разожгла огонь.
Марио всмотрелся и, охваченный непреодолимым ужасом, отшвырнул монету подальше. Он прочел нацарапанное на ней чем-то острым имя. Талисман принадлежал Пилар. Только это и осталось от ее роковой любви к нему, да еще горстка обгорелых костей и горький запах горелого, распространившийся в воздухе.
Охваченный ужасом и жалостью, Марио торопливо отошел от костра, как его ни расспрашивал Клиндор, Марио не открыл ему эту мрачную тайну. Они поехали дальше, а он все еще оставался под тяжелым впечатлением от увиденного.
Но подъезжая к замку, как мы легко можем догадаться, он уже все забыл и думал лишь о том, какое счастье будет увидеть свою дорогую подругу, любимого отца, нежную Мерседес, доброго Люсилио, мудрого Адамаса и героического каретника, всех этих великодушных людей, которые всегда баловали его, как могли, но каким-то чудом сделали из него добрейшее и прекраснейшее существо.
Свадьба была великолепна. Маркиз открыл бал с Лорианой, счастливая Лориана не выглядела ни на день старше красавца Марио.
КОНЕЦ ВТОРОГО И ПОСЛЕДНЕГО ТОМА

Джордж Пейн Рейнсфорд Джемс
Братья по оружию
или
Возвращение из крестовых походов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА I
Семь столетий тому назад, в одно прекрасное майское утро, группа путешественников медленно поднималась на Овернскую гору Мон-Дор с южной стороны. Дорога вела через лес, раскинувшийся у подножия воры, и взорам путников то представлялись, то вдруг снова скрывались из виду голубые вершины елей, освещенные ярким солнцем. Иногда, там, где деревья расступались, образуя просеку, можно было увидеть самые отдаленности, вплоть до поворота к Ашье. Дорога то убегала вверх, открывая взорам долины, холмы и равнины, то погружалась в глубочайшие ущелья, где посреди обломков базальта, отторгнутых от скал, возвышающихся со всех сторон, лишь редкий солнечный луч, пробившийся сквозь густую листву, да чистая лазурь неба над головами путешественников напоминали о лете, которому нет места в этом краю вечных теней. Вид гор был восхитителен, и группа всадников удачно вписывалась в ландшафт, придавая ему своеобразную законченность: нарушив привычное спокойствие этой горной страны, люди своим присутствием оживили ее, пусть всего лишь на краткий миг.
Впереди, шагах в ста от остальных, на сильной лошади ехал оруженосец. Это был смуглый человек, высокий и бодрый. Черные и быстрые глаза его пристально всматривались в окрестности, стараясь не пропустить ни одного предмета. На нем были стальные латы и шлем, меч и кинжал – у пояса; но несовершенство форм и грубая отделка оружия указывали на различие между ним и рыцарями, за ним следовавшими. Оба рыцаря были молоды, а вооружение и одежда доказывали их знатное происхождение: на шее у каждого было по большому кресту и по пальмовой ветви – на шляпе.
Тот, что ехал справа, был буквально увешан оружием с золотой насечкою, исключая разве что голову да руки. Отсутствие латной перчатки и нарукавника позволяло разглядеть рукава фуфайки, род шелкового полукафтанья, и лосиные перчатки, покрывавшие его руки. На голове вместо шлема была черная шляпа, заканчивающаяся длинной кистью, доходившей почти до спины лошади. У него была прекрасная фигура; в выражении лица – благородство и достоинство, смешанные с оттенком меланхолии. Мужчина был силен и статен, но вооружение, покрывавшее его с головы до пят, не позволяло более точно определить его пропорции. Орлиный профиль и черты лица представляли, казалось, собрание внезапных и сильных страстей – предположение, которому противоречило меланхолическое спокойствие его больших темных глаз. Черный, как Германский агат, жеребец, на котором ехал рыцарь, казался не столь силен, как другой, которого вел позади оруженосец, но все же был в состоянии выдержать всадника, вооруженного подобным образом.
Второй крестоносец – ибо крест и пальмовая ветвь указывали на то, что они возвращаются из Святой земли – был полным контрастом первому. Это был человек лет двадцати пяти, с правильными чертами лица: высоким благородным лбом, волевым подбородком, большими серыми глазами, опушенными длинными ресницами, и пухлым насмешливым ртом. Казалось, этим широко распахнутым светлым глазам как нельзя более соответствовало бы выражение нежной истомы, но нет, взгляд его был серьезен и проницателен в противоположность губам, раскрывавшимся только для шуток и смеха. Костюм рыцаря был изящен для того времени. На голове – зеленая бархатная шапочка. Кольчуга из стальных звеньев, падающих одно на другое, отполированных, как кристаллы, и сверкающих в лучах солнца, как алмазы, надежно закрывала плечи и грудь. Под нее, чтобы кольца не натирали шею, была поддета тонкая шелковая рубашка. Наброшенная сверху зеленая суконная епанча с вышитым на плече красным крестом указывала на то, кем он был – французским крестоносцем.
Арабская лошадь, на которой он ехал, была белой, как снег, легкой, как ветер. Глядя на нее, с трудом можно было поверить, что это грациозное, нежное животное в состоянии нести на себе столь высокого и тяжело вооруженного воина. Но гордость, с которой она вскидывала голову, и неистребимый огонь, пылавший и глазах ее, доказывали силу и горячность неистощимую. Позади каждого рыцаря щитоносец вел боевого коня, дальше следовали пажи, которые везли разное оружие своих господ, за ними несколько арабов вели лошадей. И вся кавалькада завершалась небольшим числом стрелков. Можно было заметить, что первому рыцарю принадлежит значительно больше людей, нежели второму.
Долгое время воины ехали молча – то рядом, то друг за другом, в зависимости от ширины дороги. Тот, которого мы назовем старшим, хотя они и были почти одних лет, казался задумчивым и ехал, опустив глаза и не обращая внимания на своего товарища. Другой время от времени поглядывал на своего брата по оружию, словно хотел сказать ему что-то. Но отчужденность и холодность первого рыцаря заставляли его молчать, и он вновь отводил глаза и продолжал восхищаться живописным ландшафтом, окружавшим его со всех сторон.
Наконец, не в силах более сдерживаться, он остановил на минуту свою лошадь и воскликнул:
– Возможно ли, Оверн, чтобы вид этой дивной страны, вашей родины, не смог исторгнуть у вас ни одного взгляда, ни единого слова?!
Сказав это, он обвел рукою вокруг, словно приглашая разделить его восхищение чудесной картиной. Граф Овернский поднял глаза и посмотрел в направлении, указанном ему другом. Потом отвечал спокойно:
– Если бы хоть кто-нибудь сказал мне пять лет назад, что это случится, Гюи де Кюсси, я бы назвал его обманщиком.
Вместо ответа Гюи де Кюсси лишь пропел отрывок из баллады:
Скажи мне, о рыцарь, моя ли вина,
Что чашу страданий испил я до дна?
Я грезил: за муки – любовь мне в награду…
Но сладкое зелье отравлено ядом
Коварства, что жалит больней, чем змея.
За что так наказана верность моя?!
– Ваша баллада справедлива, Кюсси. Но с тех пор, как мы знакомы, я видел вас всегда веселым и счастливым; так стоит ли возмущать ваш покой горестями, вас не касающимися?
– Не хотите ли вы сказать, – отвечал его друг, смеясь, – что всегда считали меня скорее шутником, нежели мудрецом, лучшим другом удовольствий, а не погребальной церемонии? Вы имеете на это право, и я вынужден.согласиться с этим. Но разве то, что я, ненавидя скуку, готов разделить с вами все печали, – разве это но величайшее доказательство дружбы!
– Тяжесть моих разочарований такова, что я не хочу перекладывать ее ни на чьи плечи. Сегодня же я особенно печален: вид моей прекрасной страны пробудил воспоминания об удовольствиях и счастье, которые потеряны для меня и не возвратятся более.
– Можно во всем найти утешение, – возразил де Кюсси. – Если вы потеряли в сражении друга, то благодарите Бога: он умер как храбрый воин. Если ваш сокол не возвратился на зов – радуйтесь и скажите: эта птица плохо выучена. Если дама вашего сердца уничтожила вас своей холодностью, если она вам изменила – найдите другую, которая будет казаться верной, что, впрочем, не помешает ей обмануть вас тоже.
При последних словах щеки графа Овернского сначала побледнели, затем покраснели, а глаза загорелись недобрым светом. Но, заглянув в простодушное и открытое лицо своего товарища, вовсе не желавшего растравлять его ран, он закусил губу и сохранил молчание.
– Вы, Оверн, – продолжал Кюсси серьезно, – вы, преклонявший колена пред гробницею Спасителя, неужели не можете найти ни надежды в вере, ни утешения в страданиях Того, за крест Которого вы сражались.
– Ах, Кюсси! – заговорил Оверн с грустною улыбкою, – ваше сердце не изведало любви. И пусть никогда ее не узнает!
– Право, вы несправедливы по отношению ко мне, абсолютно несправедливы. Во всем списке европейской кавалерии едва ли найдется еще один рыцарь, способный так же часто влюбляться, как я, и так же страстно.
Пока они так разговаривали, оруженосец, ехавший впереди, вдруг остановился и закричал, обращаясь к друзьям:
– Здесь нет пути: мост сломан, дальше нам не проехать. Путешественники остановились, растерянно глядя на разрушенный мост и дорогу, которая убегала вдаль на другой стороне пропасти. Они сохраняли молчание, которое обычно предшествует решимости уступить неприятной необходимости, но минуту спустя Кюсси позвал своего оруженосца и велел подать шлем и меч.
– Во имя неба! – вскричал граф Овернский, увидев, что его товарищ надевает каску и пристегивает меч, – какая новая глупость пришла в вашу голову, Гюи?
– Я слышал голос в этом ущелье в хочу попросить показать дорогу.
– Вы безумец, Кюсси! Ваша храбрость – ничто иное, как дерзость: ни один человек, ни одна лошадь не перепрыгнет эту пропасть.
– Но вы же не знаете, на что Зербилен способен! – возразил Кюсси, ласково трепля гриву лошади.
– А вы не видите, как берег крут? На нем невозможно удержаться. К тому же ваша лошадь устала.
– Устала? Совсем нет. Дайте-ка мне место. Подвиньтесь!
Несмотря на возражения, он отъехал назад и, воткнув шпоры в бока лошади, пустил ее и галоп, понуждая к опасному прыжку. Послушное животное в минуту перескочило ров, но не найдя на крутом берегу под ногами твердой опоры, поскользнулось и покатилось вниз, на дно пропасти, увлекая всадника за собой.
– Де Кюсси! – Подбежав к краю обрыва, граф Овернский склонился над темной бездной. – Вы живы? Отвечайте же мне!
– Зербилен не ранен, – донесся слабый голос из глубины оврага.
– А вы, де Кюсси?.. Скажите мне о себе!
Горький стон был единственным ответом, который он получил.
ГЛАВА II
Тщетно граф Овернский старался рассмотреть дно пропасти, чтобы найти своего друга: густой кустарник, покрывавший берег, представлял непреодолимое препятствие. Однако Гуго де Бар, оруженосец, возглавлявший процессию, спрыгнул с лошади и стал осторожно опускаться в ров. Но тут из бездны донесся громкий голос:
– Стой на месте, остановись! Не спускайся ниже! Камни, на которые ступит твоя нога, оторвутся и убьют нас.
– Кто это говорит? – закричал граф Овернский.
– Пустынник Нотр-Дамской Мондорской капеллы, – отвечал тот же голос. – И если вы друзья этого рыцаря, то в тысяче шагах отсюда найдете тропинку, которая и приведет вас в ров. Если же вы его недруги, вынудившие его на столь опасный прыжок, то не смейте преследовать, ибо он находится у подножия креста.
Вняв совету странника, граф Овернский отправился назад и вскоре нашел тропинку, о которой тот говорил. Ступая по ней, граф быстро достиг дна оврага, где и увидел группу людей, мужчин и женщин: одни были на лошадях; другие, спешившись, толпились возле арабской лошади де Кюсси, не раненной, а только чуть-чуть исцарапанной и дрожащей после падения. Несколько поодаль стоял, переминаясь с ноги на ногу, испанский жеребец, которого держал под уздцы старый конюх.
Похоже, все эти люди служили какой-то важной особе, которой не было здесь.
На небольшом расстоянии отсюда возвышался крест, позади которого можно было различить множество людей, входивших и выходивших из пещеры. Будучи уверен, что в ней-то и находится де Кюсси, граф в сопровождении стрелков немедленно побежал туда.
Там он действительно увидел де Кюсси, лежащего на постели из сухого тростника. Рядом с ним на коленях стоял старик, высокий и худой, с ланцетом в руках. В ту же секунду кровь брызнула из жилистой руки рыцаря, поддерживаемой пажом.
В пещере странника было много людей, но только двое из них заслуживали особенного внимания. Это были старик, невысокий, но сильный, со здоровым цветом лица и хиленькими серыми глазами, полными огня, что указывало на характер живой и нетерпеливый, и молодая дама лет двадцати, с греческим профилем. Черные глаза ее, опушенные длинными ресницами, были устремлены на де Кюсси. Темные волосы локонами спадали на плечи, щеки были окрашены нежным румянцем, а белизна лица и рук девушки могла сравниться разве что с лепестками лилии. Она стояла на коленях с другой стороны постели, рядом со своим отцом, глядевшим на нее с гордостью, и в то время как пустынник поддерживал руку рыцаря, из которой струилась кровь, тонкие пальцы ее нежной и белой руки слабо сжимали другую, чтобы определить, когда он очнется. Войдя в пещеру, граф Овернский молча остановился возле пустынника. Гуго де Бар, оруженосец де Кюсси, и Эрмольд де Марей, один из его пажей, очень любившие своего господина, также вошли и стали у двери.
В эту минуту рыцарь открыл глаза и, осмотревшись, проговорил слабым голосом:
– Клянусь святым Крестом, Оверн, пожалуй, я перестарался и перескочил дальше, чем хотел. Благодарю тебя, добрый пустынник, а также и вас, прекрасная дама! Теперь я могу встать. Гуго, подай мне руку.
Но старец не позволил подняться ему с постели.
– Лежите спокойно, – сказал он ласково. – Вас отвезут в Нотр-Дамскую капеллу, это лучше, чем оставаться и пещере, и я, с помощью известного мне средства, в два дня поставлю вас на ноги.
– Добрый человек, – заговорил граф Овернский, – но не опасны ли раны этого храброго рыцаря? Я тотчас же пошлю в Монферран, к моему дяде за искусным медиком.
– Оставьте лекаря в покое, – возразил на это старец, – пусть себе врачует в Монферране: я сам берусь оказать помощь рыцарю. Медицина порой хуже незнания, и лучше уж допустить смерть, чем убийство.
– Поистине, – воскликнул вдруг невысокий старик, который во время всего разговора внимательно присматривался к Оверну, словно пытаясь воскресить в памяти забытый образ, – если зрение меня не обманывает, то предо мной граф Тибольд Овернский!
– Да, это мое имя, – отвечал граф. – И если память моя так же верна, как ваша, я узнаю в вас старого товарища по оружию моего отца, графа Джулиана дю Монта.
– Он самый, он самый! Мы с дочерью направляемся в Вик-ле-Конт, чтобы провести несколько дней с вашим батюшкой. Дорога из Фландрии была долгой и утомительной, и мы хотели бы прежде воздать благодарность в Нотр-Дамской капелле, а уж потом воспользоваться гостеприимством вашего замка. Вы, конечно, догадываетесь, что отправиться в столь дальний путь меня заставило очень важное дело. Дело политическое… – добавил он со значением, понизив голос. – Без сомнения, ваш отец говорил вам…
– Уже пять лет, как я не видел его, – отвечал Оверн. – Крест на моей груди подскажет вам, где я был. Де Кюсси и я возложили пальмовые ветви на жертвенник Святого Павлина после обета, произнесенного нами в Риме. А теперь мы готовы сопровождать вас и отправиться вместе в Вик-ле-Конт, где вам будут оказаны всяческие почести.
Между тем де Кюсси, очарованный юной красавицей, стоявшей возле него на коленях, благодарил ее за участие, но голос его был так слаб, что она вынуждена была склониться над ним. Как он сам уверял графа Овернского, де Кюсси часто влюблялся и слыл любовником смелым и находчивым. Но сейчас красноречие изменило ему, и он не находил слов, чтобы выразить свою признательность так, как ему хотелось. Вместо этого он снова и снова благодарил красавицу, и, в конце концов, Изидора приказала ему замолчать, беспокоясь, что продолжительная беседа лишит его последних сил.
Тайну женского сердца разгадать невозможно, не стоит даже пытаться. И все же нельзя было не заметить, какое впечатление производили речи молодого рыцаря на Изидору дю Монт: щеки ее розовели все больше. Когда же носилки были готовы, и на них уложили раненого, Изидора, сидя верхом на лошади, продолжала украдкой поглядывать на де Кюсси с нежностью и участием.
Тем временем Джулиан дю Монт представил свою дочь графу Овернскому. Расхваливая ее знания в области медицины, он уверял графа, что тот без опасений может вверить ей излечение своего друга. Оверн любезно ответил, что будет только рад отдать де Кюсси в столь искусные руки, затем, поклонившись, вскочил в седло и подъехал к носилкам, которые несли шестеро стрелков.
Кавалькада продвигалась гуськом – только в таком порядке можно было проехать по узкой и тесной дороге. Наконец, долина, со всех сторон окруженная скалами, расширилась, и глазам путников представился прекрасный водопад, падающий со скалы на скалу, а далеко внизу можно было разглядеть несколько пастушьих хижин. Дорога теперь пролегала через горы и стала непроходимой для лошадей. Было решено оставить их здесь вместе с большею частью свиты двух рыцарей, чтобы они ожидали их возвращения.
Наконец, преодолев все неудобства долгой и трудной дороги, путешественники достигли величайшего чуда природы – Павлинова озера, берега которого были так высоки и круты, что ни один человек не сумел бы на них взобраться. Заключенная в зеленом бассейне зеркальная гладь играла на солнце всеми цветами радуги.
Раскинувшийся с востока на юг темный необозримый лес, существующий и поныне, подходит к самым берегам озера, и старые деревья, возвышаясь на них, все так же гордо смотрятся в водяное зеркало. Во времена Филиппа Августа здесь находилась небольшая капелла, посвященная Богородице и называвшаяся Нотр-Дам Святого Павлина. Здесь же было разбросано несколько хижин, в которых жили богомольцы, часто сюда приезжавшие. Эти же хижины служили жилищем для трех пустынников, один из которых священнодействовал, а двое других, не связанные никакими обетами, помогали ему. Как только де Кюсси поместили в одну из таких хижин, пустынник попросил графа Овернского, чтобы тот, выбрав наиболее искусных стрелков, приказал им застрелить двух самых крупных серн. Распоряжение тут же было выполнено, и де Кюсси, несмотря на его сопротивление, раздели и обернули в теплую шкуру убитых животных, а затем уложили в постель из сухого мха, принадлежавшую одному из пустынников. Тем временем друг его незаметно оставил хижину, чтобы отправиться исполнять свои обеты в Нотр-Дамскую капеллу Святого Павлина.
Оставшись один, де Кюсси стал вспоминать о былых сражениях и турнирах, потом – о своих увлечениях. Перед его мысленным взором возникали, сменяя друг друга, все новые и новые образы – прелестные женщины, некогда любимые им. Но, удивительное дело, ни одна из них своей красотой не могла сравниться с Изидорой.
Ну почему, – спрашивал он себя, – не сумел он сказать ей, как она прекрасна? Прежде ему это ничего не стоило: он с легкостью находил нужные слова для изъяснения своих чувств, не смущаясь, мог выпросить браслет, перчатку или ленту, чтобы украсить ими свой шлем во время турнира. Так почему же он вел себя с ней, как школьник, заикался и краснел, словно молодой оруженосец в присутствии своего господина? В конце концов, де Кюсси пришел к весьма благоразумному выводу: все оттого, что он, пожалуй, еще не слишком в нее влюблен. И, утвердившись в этом мнении, он спокойно заснул.
ГЛАВА III
Сменим теперь декорации, оставив горам их уединение, и перенесемся в мир более живой и прозаический, но все еще хранящий в себе сельские идиллию и тишину.
Узкие окна древнего Компьенского замка одной стороной выходили на лес с заливным лугом перед ним, а другой – к берегам Уазы. Хотя Компьен и считался городом, это не лишало его сельского очарования. Его несколько примитивная архитектура радовала глаз своим разнообразием, а обложенные мхом соломенные крыши домов не были так же холодны и одинаковы, как нынешние сланцевые и черепичные; и взор разглядывающий эти причудливые произведения искусства, находил в них живописную неправильность природы.
Под узким окном в одной из просторных комнат старинного замка сидела прелестная пара, наслаждавшаяся, судя по всему, минутами первой любви. Они одни составляли друг для друга целый мир. Молодая прекрасная женщина лет двадцати, с белокурыми локонами, падавшими на плечи, опираясь склоненной головой на руку, задумчиво смотрела на расстилавшийсяза окном ландшафт, хотя мысли ее были, несомненно, прикованы к сидящему рядом мужчине, держащему в своих ладонях ее другую руку.
Ее собеседник – красивый мужчина лет тридцати двух, с орлиным носом и прекрасными и выразительными голубыми глазами. Некоторый недостаток черт его лица – близко посаженные глаза – не портил общего впечатления, а, наоборот, придавал достоинство и мужественность его облику. Огонь, которым блистал его взор, выражал живость и проницательность ума, видящего одновременно как сами опасности, так и средства их избежать.
Весь его вид выражал доброту, спокойствие и достоинство, но не в ущерб мужественности и отваге, а простая, зеленого цвета, охотничья одежда подчеркивала правильность и красоту его фигуры гораздо более, нежели царская мантия. Это был Филипп-Август.
– Вы очень задумчивы, любезная Агнесса, – сказал он, прерывая мечтания Агнессы Мераннийской, своей супруги, – слишком задумчивы. На что устремлены теперь ваши мысли?
– Они далеко, очень далеко отсюда, Филипп, – прозвучал ответ королевы, бросившей на него исполненный нежности и признательности взгляд. – Я думала об отце, о его любви ко мне и о моей, любезной сердцу, Штирии, стране, где я родилась.
– И, без сомнения, желали бы оставить своего Филиппа для тех, которых любите более? – сказал король с улыбкой, в которой скрывалась уверенность в ожидаемом ответе.
– О, нет! – ответила Агнесса. – Я хотела бы только, чтобы мой Филипп был не король, а простой рыцарь. Тогда он смог бы, отложив все дела, сесть на лошадь, и мы вместе отправились бы ко мне на родину.
– Ответьте, Агнесса, если бы вам сказали, что завтра вы можете оставить меня и вернуться к своему отцу, уехали бы вы?
– Оставить вас?.. Никогда! Даже если бы вы меня вдруг выгнали, я бы вернулась и бродила по коридорам замка в ожидании случайной встречи.
В это время дверь залы отворилась, и вошедший паж доложил о приезде королевского министра Стефана Гереня, вернувшегося из Парижа.
– Ну, Герень, – обратился Филипп к вошедшему вслед за пажом министру, – чему обязан, что вижу вас здесь? Мне казалось, что я оставил вам много важных дел.
– Причиной тому – письмо из Рима от его святейшества папы Целестина, полученное вчера, – поклонившись, ответил Герень.
– Прошу простить, любезная Агнесса, – государственные дела, но вы подождите меня.
– Пройдемте в мой кабинет, Герень, там я и прочту, что пишет нам Его Святейшество.
Филипп, поцеловав свою супругу, отправился Длинным коридором в одну из башен замка, где находился его личный кабинет. Герень, отдав низкий поклон королеве, поспешил за ним. Войдя в кабинет, король сел в мягкое кресло и протянул руку за письмом.
– Ни слова королеве! – потребовал он от министра. – Я не хочу, чтобы она вообразила, что существуют какие-то препятствия в разводе с Ингельборгой. Ну что ж, посмотрим, что пишет нам Целестин…
– Государь, он угрожает вам отлучением.
– Ба, напугал! – вскричал Филипп с презрительной улыбкой. – Он не в силах этого сделать. Скажу вам более: если бы я испросил развод в Риме, а не у своих епископов, то мне не угрожали бы ни анафемой, ни проклятьем.
Прочтя письмо, Филипп бросил его на стол и продолжил:
– Комар не имеет жала! Добрый Целестин неспособен на зло.
– Это справедливо, государь. Он не может его причинить – он умер. Выбор нового папы пал на кардинала Лотория, и этот Лоторий теперь Его Святейшество Иннокентий III. О, это крепкий орешек! Он так же тверд в своих решениях, как и смел в их осуществлении. Он любим дворянством и могущественен. Государь, умоляю вас, подумайте, что можно предпринять, если Иннокентий представит дело о разводе в том же виде, что и Целестин.
Филипп встал и несколько минут молчал, погруженный в размышления. Вдруг глаза его заблестели, губы задрожали, он схватил своего министра за руку и почти прокричал:
– Он ничего но сделает! Нет, не посмеет! О, Герень! Если бы я мог только положиться на своих вассалов!
– На их помощь не стоит сейчас рассчитывать. Во главе оппозиции вам, государь, графы Бульонский и Фландрский, а также их искренний друг Джулиан дю Монт. Кстати, он по-прежнему вами недоволен и сейчас направляется в Оверн с тем, чтобы настроить против вас старого графа, который и без того вас не очень-то любит.
– Они разбудят льва! – вскричал король, ударив кулаком по столу. Да, они разбудят льва! Пусть дю Монт поостережется. Он провозглашает свои древние права, а жители города Альбера просят хартию. С завтрашнего дня я ее им дам. Таким образом, рядом с его прекрасным поместьем возникнет вольный город со своими правами, которые не слишком-то совпадают с теми, что провозглашает он. Думаю, для сира Джулиана это будет не совсем приятное соседство. Что же касается остальных, то, что бы ни случилось, я не позволю никому распоряжаться, даже на родовых землях, так, как им хочется…
– Молчать! – прикрикнул Филипп, видя, что Герень хотел и уже было решился заговорить. – И сверх того, господин министр, королева ничего не должна знать, у нее не должно возникнуть даже подозрения о каких-либо неувязках. Я, Филипп, король Французский, говорю, что развод мне нужен, и он будет утвержден.
Сказав это, король вышел из кабинета и возвратился в залу, где оставил королеву. Как ни кратко было отсутствие Филиппа, глаза Агнессы засияли от радости, когда она его вновь увидела. Она старалась прочесть в чертах лица своего супруга, какое впечатление произвело на него полученное им известие: обрадовало или опечалило, – но не увидела ничего, кроме обращенного с нежностью к ней взгляда короля.
Филипп повернулся и посмотрел на вошедшего за ним следом Гереня с упреком: мол, видишь сам, что своими делами ты отвлекаешь любящие сердца друг от друга. Герень же, прекрасно понимая, как трудно королю было разлучаться с любимой супругой даже на минуту, с почтением поклонился и вышел из комнаты.
ГЛАВА IV
В другой части Оверна, не в той, где мы оставили наших рыцарей с их свитой, проезжал человек, одетый весьма странно. Его костюм, который, правда, нельзя было бы назвать абсолютно шутовским, был так же пестр, как кафтан арлекина. На нем были шелковые панталоны огненного цвета и суконное верхнее платье лазоревых тонов, не достававшее до колен и стянутое в талии желтым кожаным поясом. На голову была нахлобучена черная шапка. Он восседал на серой крупной кобыле в позе нелепой и постыдной для мужчины в те времена.
Фигура этого человека никак не согласовывалась с его странным нарядом, и, если уж говорить об образце силы и бодрости, не много можно было найти мужчин с таким же крепким мускулистым телом, как у него. Лицо его тоже было весьма примечательно: очень длинный нос с таким гибким хрящом, что когда он делал внезапные движения, желая придать своему лицу еще больше безобразия, его нос отвратительно путешествовал направо и налево. Большие серые глаза, сопровождавшие движения носа, никогда не были обращены на одни предмет: они всегда смотрели в разные стороны, словно ненавидели друг друга. Подбородок был покрыт густой черной бородой, а ужасный толстогубый рот с рядом белых и длинных, как у волка, зубов, напоминал темную бездну, когда он зевал.
Какое-то время он ехал очень спокойно, но вскоре заметил, что его подстерегают человек двадцать стрелков: те, спрятавшись за кустарником шагах в пятистах от него, затаились в ожидании поживы. И одного взгляда на них было бы достаточно, чтобы определить род их занятий: они зарабатывали на жизнь грабежами на больших дорогах.
Наш путешественник, хотя и понял цель мародеров, все же но отступил и продолжал ехать вперед. Первое, чем он решил их отвлечь, было последовательно повернуть нос направо и налево, но видя, что это не произвело нужного впечатления и что один из стрелков в него целится, он прижал голову к седлу и задрал ноги вверх. Так он и продолжал свой путь. Как ни проста подобная демонстрация проворства и силы, но в те времена считалось, что человек, способный проделать такое, находится в тесной связи с сатаною. Или же сам сатана…
– Демон! – вскричал испуганный стрелок и бросил стрелу. Другие последовали его примеру. Но был один, не столь суеверный, который сказал:
– Мне все равно: дьявол он, или святой. Был бы только с деньгами.
Он натянул тетиву, но едва лишь стрела взвилась в воздух, как путешественник упал поперек седла, словно куль с мукой, и стрела пролетела мимо, не задев его. Всадник вновь устроился и седле по-прежнему и, подъехав к разбойникам, с сверхъестественным хохотом вскричал:
– Ха! Как вы глупы! В силах ли вы ранить своего покровителя! Разве не узнали вы вашего начальника и господина – дьявола? Ладно, глупцы, я брошу вам кость: ступайте ко рву, что между графством Вик-ле-Конт и Павлиновым озером, и дожидайтесь там богомольцев с их свитой.
Один из разбойников, полагая, что это действительно сам сатана, перекрестился. Этот жест не ускользнул от внимательного путешественника, и он, притворившись испуганным, завопил:
– Ах, вы гоните меня! Но мы увидимся еще, добрые друзья, увидимся. Уж положитесь на меня: я приготовлю вам теплую поживу. Ха! Ха! Ха!
С этими словами и ужасной гримасой, напугавшей разбойников еще больше, он поскакал, дьявольски хохоча, и скрылся из виду.
ГЛАВА V
Пустынник сдержал свое слово: через пару дней Кюсси, хотя боль и напоминала ему об ужасном падении, все же мог держаться в седле и считал себя в состоянии владеть оружием. Вечером прибыла в капеллу странная особа, описанная нами в предыдущей главе. Де Кюсси привычно не обращал внимания на злой нрав и дикие выходки этого дуралея, который всегда старался вредить другим, даже не извлекая отсюда для себя никакой пользы.
Когда-то он был шутом, сопровождавшим второй крестовый поход в Святую землю, где был взят в плен и выкуплен де Кюсси. Галон – так его звали – был одарен чрезвычайной силой и в совершенстве владел оружием.
Он явился к своему господину, и рыцарь приказал ему отчитаться, как было выполнено возложенное на него поручение.
– Моя поездка не имела успеха, – ответил шут. – Ваш дядя умер.
– Умер!.. Как? Он умер? Когда? Где?
– Никто не знает: как, когда и где. И теперь король Французский и герцог Бургундский оспаривают его владения. Именно это Видам Безансонский поручил сообщить вам.
Граф Тибольд посоветовал рыцарю самому поехать в Бургундию, либо отправить туда другого посла, доказывая, что Галон зол и мог просто все выдумать, но Кюсси не соглашался ни на то, ни на другое. Так и не сумев убедить своего друга, Оверн тайно решил, как только представится случай, поехать в Безансон или Дижон, где располагались поместья графа Танкервиля, чтобы лично осведомиться обо всем.
На следующее утро все общество, оставив берега озера, отправилось к пастушьим хижинам, где их дожидалась свита, и уже оттуда продолжило свой путь и Вик-ле-Конт – резиденцию графов Овернских. Отшельник, познания которого так помогли де Кюсси, сопровождал их на муле.
Сир Джулиан и граф ехали впереди, а за ними – Изидора рядом с де Кюсси. Поначалу рыцарь напрасно старался ее разговорить: явно смущаясь, она отвечала кратко и неохотно. Но когда речь зашла о графе Таркервиле, друге, которого потерял де Кюсси, беседа их стала более оживленной. Так они и ехали, не умолкая ни на минуту, и Бог знает, как долго это продолжалось бы, если бы Гуго де Бар не остановился и не показал на густой кустарник, росший невдалеке.
– Эти кусты клонятся против ветра, – сказал он.
– Ах! Ах! Ах! – послышался голос сзади. – Ах! Ах! Ах!
Все пришло в движение: оруженосцы подводили к рыцарям боевых лошадей, подавали им щиты, каски, копья, помогая вооружиться. Стрелкам было приказано быстрее двигаться вперед. Но пока шли приготовления, стрелы уже сыпались на рыцарей, и одна ранила бы Изидору, если бы де Кюсси не прикрыл ее своим щитом.
Он приказал Галону вооружиться и оберегать дочь дю Монта, а сам, подняв тяжелый бердыш и размахивая им над головой, поскакал догонять Оверна и сира Джулиана.
Лошадь графа летела стрелой и вскоре доставила его к месту, где разбойники перегородили дорогу тяжелой железной цепью. Его боевой конь не сумел перескочить через цепь, и на Оверна обрушилась лавина стрел грабителей, прятавшихся в густом кустарнике. К счастью, ни одна не задела графа. Вовремя подоспевший де Кюсси, одним ударом бердыша разбив цепь, устранил это препятствие. Его лошадь помчалась дальше, и другой удар пал на голову разбойника. Тот распростерся на земле.
Де Кюсси, воспламененный мыслью, что на него смотрит Изидора, превзошел самого себя: он не наносил ни одного удара, который не сбил бы с ног противника. Да и граф Овернский со своими оруженосцами также показывали чудеса храбрости, и разбойники готовы были уже отступить.
Они изыскали минуту, чтобы сплотиться позади кустарника, где движение на лошадях было трудно и небезопасно, но в то же мгновение откуда-то сзади раздался ужасный вопль: «Ах! Ах! Ах!». Это Галон на своей лошади, с щитом и копьем господина бросился на них, сопровождая каждый удар, криками «ах, ах, ах!». Его фигура и выражение его лица были таким кошмаром, что даже де Кюсси едва не принял его за союзника сатаны, а уж разбойники, еще больше уверившись, что это и есть сам злой дух, в страхе обратились в бегство. С криками «дьявол! дьявол!» они бросились к скалам, недоступным для верховых.
Тогда Галон соскочил с лошади и, бросив на землю щит и копье своего господина, занялся грабежом, оставляя убитым разбойникам только то, что не мог взять.
Де Кюсси, застав его за таким занятием, подъехал к нему и спросил:
– Где дама, которую я поручил тебе и велел защищать?
– Я оставил ее с женщинами в пещере, – ответил шут, – а сам поспешил сюда на помощь.
Рыцарь приказал Гуго де Бару взять щит и копье и вернулся к месту, где началось сражение. Он убедился, что Галон не соврал, говоря, что оставил Изидору в безопасности в одной из пещер, которых так много в горах Овернских. Здесь же находился и ее отец, который возбужденно рассказывал о стреле, пролетевшей совсем рядом, но все же не задевшей его.
Когда раны стрелков были перевязаны и все несколько успокоились после стычки, путешественники поехали тем не порядком, что и прежде. Миновав несколько долин с прекрасными видами, они достигли плодоносных равнин Лимана и, пройдя их, оказались в графстве Вик-ле-Конт. Тибольд, оглядевшись вокруг, в минуту забыл обо всех своих горестях и, простирая руки, воскликнул:
– Вот моя родина!
Викская долина с двух сторон была ограничена горами, В центральной части этой прекрасной равнины и располагался город Вик-ле-Конт, построенный у основания холма, позади которого на некотором возвышении виднелся старый замок. Тибольд, не желая проезжать через весь город, велел повернуть направо, и уже через несколько минут наши путешественники находились в каких-нибудь пятистах шагах от замка. Прямо перед ними возвышалось великолепное здание с причудливыми башнями различной величины и формы: одни были круглыми, другие квадратными, без какого-либо порядка в устройстве. В центре замка возвышались еще две башни: одна – квадратная, которая была раза в четыре шире, чем остальные, другая – узкая и самая высокая. Днем и ночью на ее площадке можно было увидеть стража, обязанностью которого было трубить или звонить в колокол, если он замечал чье-либо приближение.
Так и случилось. Не успели путешественники проделать и ста шагов, как с башни раздался звук рога, который был тысячекратно повторен другими стражниками, находившимися во внутреннем дворе. Оверн ответил тем же, и вдруг все стрелки, подражая его примеру, заиграли славное bien venu auvergnae, которому вторило эхо стен, башен и гор.
В ту во минуту ворота замка открылись, и несколько человек выехало навстречу нашим путешественникам. Впереди ехал старик, одетый в бархатное шитое золотом платье. Его глаза не лишились еще огня молодости, и только седина, снегом покрывавшая его почтенную голову, напоминала о тех семидесяти зимах, которые он прожил. Старик и юноша одновременно сошли с лошадей. Сжимая сына в своих объятиях и плача от радости, отец вскричал: «Сын мой, любезный мой сын!».
Старый граф Овернский созвал весь свой двор и пригласил множество рыцарей отпраздновать возвращение своего сына.
Тысяча комнат были заполнены гостями. Во всю длину огромного зала замка простирался стол, накрытый дамасским полотном, на котором перед каждым из приглашенных стоял прибор, закрытый салфеткой, с ножом и вилкой сбоку. Когда лучи солнца перестали проникать в комнату, обед наконец закончился, и старый треф Овернский, наполнив чашу вином, предложил выпить за здоровье де Кюсси, который трижды спасал жизнь его сына.
После застолья гости вместе с хозяином спустились в сад, где, окружив графа, поочередно пели баллады, сопровождая их игрой на арфе. И один из них, граф де ля Рош Гюйон, пропел серенаду Изидоре, не сводя с нее пламенного взора и выказывая таким образом ей свою любовь. Наконец, когда все баллады были пропеты, пир прекратился, и гости с хозяевами отправились отдыхать.
ГЛАВА VI
Вернувшись в Париж, Филипп, сидя под окном древнего замка, построенного на берегу Сены, беседовал со своей любимой Агнессой о церемонии, которую он намеревался устроить. Как раз в эту минуту в комнату тихо вошел министр Герень, недавно возведенный в сан епископа. Он стал возле короля, раздававшего приказания, и молчал до тех пор, пока тот не отпустил всех слуг.
– Снова бал, государь! – с упреком сказал епископ. – А между тем финансы в совершенном упадке.
– Значит, у меня есть источник, о котором вы не имеете ни малейшего представления, – Филипп указал на свою шпагу. – Вот источник поистине неистощимый. Деньги, которые нам так нужны, находятся в кошельках моих возмутившихся баронов. К тому же разве ты не знаешь, Герень, что все мои действия имеют несколько иную цель – гораздо более важную, чем некоторые полагают.
– Я никогда в этом не сомневался, но сегодня утром, когда я получил отчет о доходах да еще услышал о бале и турнирах, мне стало страшно. И я боюсь даже представить, что вы почувствуете, узнав о состоянии дел.
– Как! – воскликнул Филипп, – неужели дела так плохи? Я хочу сам проверить этот отчет, Герень. Дай его мне, я тебе приказываю.
– Его нет со мной, – ответил Герень. – Но я тотчас пришлю писаря, который его составлял, и он сможет дать вам все сведения по этому вопросу.
С этими словами Герень покинул комнату. Король в нетерпеливом ожидании стал расхаживать взад и вперед, обеспокоенный и почти разгневанный. Вошел писарь и, по приказанию короля, начал читать отчет, однотонно и протяжно, со всеми подробностями, несносными для живого и нетерпеливого характера.
– Зачем мне подробности? Что остается в казне?
– Двести ливров, государь.
– Ты лжешь, негодник! – в ярости вскричал Филипп, вырывая из рук отчет и ударив писаря кулаком. – Как! Значит я нищий? Этого не может быть! Ладно, – добавил он, поостыв, – мне жаль, что я тебя ударил. Ступай, позови Гереня.
Министр не заставил себя долго ждать и, явившись, нашел своего господина совсем не в том расположении духа, в котором его оставил.
– Герень, – обратился к нему король спокойно и даже заботливо, – ты всегда был моим лекарем. Лекарство, которое ты мне дал, было горько, но спасительно: я его выпил до дна.
– Да, государь! Я бы желал взять на себя все тяготы правления, но это невозможно, и потому я обязан подносить вам чашу, которую бы хотел выпить сам. Бог свидетель, что мое единственное желание – верой и правдой служить вам.
– И все-таки, Герень, необходимо, чтобы бал и турнир состоялись: вовсе не для того, чтобы насладиться великолепием и царским величием, нет. Но я хочу стать истинным царем. Я часто спрашивал себя, неужели Франция не может иметь короля, который вознес бы трон на ту же высоту, что и Карл Смелый?.. Не пугайся, Герень, я вовсе и не надеюсь сравняться с этим великим монархом, но хочу ему следовать. Да, я на многое способен, и уже сделал немало.
Филипп замолчал, размышляя о средствах, предпринятых им для переустройства феодальной системы.
– Когда скипетр оказался и моих руках, Франция была республиканской, и власть государя здесь мало что значила. Монарх имел лишь то преимущество, что вассалы кланялись ему, но и он сам должен был уважать их и их владения. Против этого-то и был направлен мой первый удар.
– Я не забыл этого урока, государь! Этот удар был столь же славен, сколько и важен. Простым росчерком пера король объявил, что не должен быть и не будет ничьим вассалом, и что земли, доставшиеся каким бы то ни было образом короне, перестают быть чьим-либо владением и становятся собственностью короля. Именно вы установили различие между монархом и его великими вассалами. Таков был ваш первый удар, а второй состоял в том, что любой феодальный спор должен решаться в Париже. Даже самые непокорные очень скоро почувствовали, что над ними – король.
– Я освободил чернь, возвысил духовенство, подчинил вассалов своему двору, вызвав тем самым их ненависть. Я любим мелкими баронами, духовенством и поселянами, но мне этого мало: мне нужен один из сильных вассалов, и пусть . тогда другие возмущаются, если, конечно, посмеют. Филипп Шампаньский именно тот человек, на которого почести действуют сильнее, чем истинное расположение – ему будет достаточно, если я устрою пир да еще усажу его рядом с собою. А Филипп де Куртене мечтает только о рыцарских подвигах, значит, неплохо бы заинтересовать его турниром и сражениями. Пойми же, Герень, чтобы поймать пару мух, надо налить хоть чуточку меда…
– Знаю, государь, для великого дела все средства хороши; но не представляю, где достать денег. Впрочем, я подумаю еще, что можно выудить у добрых парижских граждан.
– Думай, любезный. А я тем временем отправлюсь к Венсенскому пустыннику. Это редкого ума человек, а с того времени, как он оставил свет, думаю, он стал еще мудрее. Он найдет средство все поправить. Но прежде, чем уеду, я должен сделать все распоряжения относительно пира.
Оставив своего министра в одиночестве, Филипп поспешил к себе, чтобы подготовиться к путешествию.
ГЛАВА VII
Филипп выехал из Парижа с бесчисленной свитой, но, достигнув Сен-Манденского леса, он оставил ее и отправился один по дорожке, извивающейся между деревьями и ведущей к древней гробнице, находившейся в глубине леса. Здесь он увидел шалаш, а вскоре – и самого пустынника; опираясь подбородком на руку, Бернард сидел на ступеньке гробницы. Другой рукой он держал раскрытую книгу, а у его ног валялся осколок урны, изящно отделанной.
Когда Филипп приблизился, пустынник на секунду оторвался от книги, но тут же опустил глаза, как будто бы никого не заметил. Зная характер отшельника и не желая прерывать его мыслей, король, ни слова не говоря, опустился на тот же камень. Пустынник по-прежнему не обращал на него внимания.
– Над чьим прахом поставлена эта гробница? – спросил наконец старик.
– Не знаю, почтенный отец, и думаю, во всей Франции нет человека, который смог бы ответить на ваш вопрос.
– Та же участь ждет и тебя. Ты совершишь великие дела, насладишься удовольствиями, перенесешь все тяготы, выиграешь сражения, завоюешь страны и станешь прочить себе бессмертие. Но конец – он для всех один: ты умрешь и будешь забыт. И кто-то из праздношатающихся, посетив твою гробницу, спросит вот так же: «А кто в ней покоится?
– Я не ищу бессмертия, – возразил король, – но живу для настоящего.
– Как! Ты смотришь всего лишь на несколько дней вперед? Настоящее! Что такое настоящее? Исключи часы сна, труды умственные и телесные, тоску о прошедшем, беспокойство о будущем, исключи все заботы – и что же останется для настоящего? Минута преходящей радости, крошечная точка в безмерном пространстве мысли, капля воды, выпитая жаждущим с восторгом и упоением. Но этот восторг – на мгновение, и тотчас позабыт.
– Справедливо, – сказал король, – и, ступив на эту дорогу, я готов пожертвовать всем, даже короной, лишь бы сохранить мир и согласие.
– Этого не может и не должно быть, – прервал пустынник. – Люди нуждаются в тебе. Я не привык льстить, государь: конечно, и ты не лишен недостатков, но вместе с тем именно ты достоин быть королем. Самолюбие ли, истинная ли любовь к ближнему заставляют творить добро – не все ли равно. И если твое честолюбие на пользу тебе подобным – оно уже добродетель, поддерживай его. Ты, государь, многое сделал для Франции, но будешь полезен еще, и именно поэтому ты должен царствовать до тех пор, пока Небо не призовет Тебя к другому назначению. Да, ты должен царствовать, как ни тяжело покажется бремя правления, чтобы, избавив подданных своих от ига тысяч тиранов, закончить творение, начатое тобой. Взгляни на меня – чем но пример? Я, не чуравшийся светских развлечений, вняв твоему совету, тут же оставил Оверн, чтобы заняться судьбами человеческими.
– Я бы хотел освободить свой народ от ига тиранов, но не имею на это средств; моя казна абсолютно пуста, а сам я – венценосный нищий.
– Так вот в чем причина вашего посещения! Я бы и сам догадался об этом. Но скажи мне, как срочно нужны деньги, теперь или после?
– Сейчас же, немедленно! Я ведь уже признался тебе, почтенный отец, что я – коронованный нищий.
– Этому можно помочь, – сказал отшельник. – Войди в мою келью, сын мой.
Следом за пустынником Филипп вошел в келью, стены которой были земляными, а окном служило крошечное четырехугольное отверстие, почти не пропускавшее света. В комнатке не было никакой мебели, кроме постели из соломы, настланной прямо на земле. Отодвинув от стены свою постель, пустынник, к удивлению короля, извлек на свет два туго набитых мешка, которые явно не были пустыми.
– В каждом из этих мешков – по тысяче марок. Один – для вас, второй – для других целей.
Филипп хотел было поблагодарить отшельника, но тот прервал его словами:
– Напрасно. Не стоит благодарить меня за вещь, которая для меня бесполезнее, чем солома, ее покрывавшая. Поговорим лучше о будущем. До меня дошли слухи, что граф Танкервильский умер, и герцог Бургундский предъявил свои права на его владения. Справедливо ли это?
– Все не так. Граф Танкервильский в Святой земле. Правда, вот уже почти десять лет, как я не имел от него никаких известий, но даже если он и умер, что маловероятно, то герцог Бургундский не вправе претендовать на его земли, поскольку они, с моего согласия, завещаны племяннику его жены – Гюи де Кюсси, храбрейшему из храбрейших.
– Хорошо, сын мой! Но слух, что граф умер, возник неспроста. Последуй же моему совету: вели осмотреть владения Танкервиля, прикажи дать отчет о доходах, полученных в течение этих лет, и употреби их на благо Франции и для уничтожения войн и грабежей, произведенных баронами, и…
– Но, почтенный отец мой, следуя твоему совету, не окажусь ли я сам в роли грабителя?
– Делай, что говорю. Если слухи неверны и Танкервиль жив, его мщение падет на мою старую голову; если же он умер, то Кюсси, обязанный мне многим, счастлив будет заплатить сполна той суммой, которую ты получишь.
В то время как они мирно беседовали, рассуждая о политике, в лесу вдруг раздался звук охотничьего рога. Король покраснел от негодования, полагая, что кто-то осмелился поохотиться в царских угодьях. Он приказал нескольким воинам отправиться и отыскать смельчака, но случаю было угодно, чтобы он сам носом к носу встретился с нарушителем порядка.
Едва лишь Филипп ступил на тропу, ведущую в Венсен, как снова услышал звук, все более и более к нему приближавшийся, а вскоре увидел такое, что привело его в замешательство. Серая кобыла, на которой, по-видимому, никого и ничего не было, кроме двух человеческих ног, параллельно торчавших над ее головой, галопом неслась по лесу. Когда лошадь была уже близко, Филипп разглядел всадника, лежавшего на ее спине, как на постели, который, прикладывая время от времени рог к губам, и производил звук, так разгневавший короля. В двух шагах от государя лошадь вдруг остановилась, и Галон-простак, – а это, разумеется, был он, – сидя теперь уже в седле, стал по обыкновению поводить из стороны в сторону своим длинным носом.
– Дьявол ты или человек? – спросил монарх. – И что это ты здесь расшумелся?..
– Я ни то, ни другое, – ответил Галон. – А если уж вам угодно знать, что я здесь делаю, могу сообщить, что заблудился в этом лесу.
– Ни то, ни другое… что это значит? Должен же ты быть хоть чем-нибудь.
– Ладно, скажу: я не человек. Мудрый Тибольд, граф Овернский, частенько говаривал храброму Гюи де Кюсси, что разум – принадлежность человеческая; у меня же его нет, следовательно, я и не человек. Ха-ха-ха!
– Стало быть, ты шут?
– Отнюдь нет! Меня называют скоморохом Гюи де Кюсси.
– А где теперь Гюи де Кюсси? И где граф Овернский, о котором ты говоришь?
– Наш милый граф три дня назад отправился в Париж волочиться за королевой, у которой, как говорят, прелестные маленькие ножки. Ха-ха-ха!
– Негодник! – вскричал Филипп. – Счастье твое, что тебя не слышит король: он приказал бы отрезать тебе уши. А где сир де Кюсси?
– Этот сидит под дубом в доброй миле отсюда и сочиняет баллады, восхваляющие мудрость старика Джулиана и прелести его дочери. Ха-ха-ха! Вы понимаете?
– Нет, ничего не понял. Что ты хочешь сказать?
– Неужели? Вы так и не догадались, что мой господин, я и пятеро пажей и оруженосцев, отправившись провожать старого сира Джулиана из Вик-ле-Конта в Санлис, заблудились в этом лесу, и что хозяин послал меня отыскать дорогу? Ха-ха-ха! Такая прелестная история! Сир де Кюсси непременно положит ее на стихи и станет распевать, аккомпанируя на старой расстроенной арфе. И услышав, как он клянется ради прекрасных глаз Изидоры изменить своему королю, все разрыдаются. Ха-ха-ха!
И, подперев щеку рукой, шут начал гримасничать и кричать разными голосами.
Филипп просил, приказывал, умолял, чтобы он замолчал, но шут лишь пронзительно хохотал в ответ. Наконец, растянувшись на лошади, Галон-простак поскакал прочь, трубя в рог изо всей силы, чтобы не слышать криков рассерженного монарха.
Филипп продолжал свой путь в Венсен и, – странная человеческая природа! – хотя он и понимал, что столкнулся с безумцем, к тому же злым, он не мог позабыть о том, что сказал Галон. «Волочиться за королевой…» и «клялся предать короля…» – эти слова не давали ему покоя. «Но это же просто дурак, шут, – успокаивал сам себя король, – и все его речи не стоят того, чтобы я о них думал».
Но Филипп не мог не думать о них.
ГЛАВА VIII
Гюи де Кюсси и граф Овернский ехали узкими улицами Парижа, направляясь к полям Шампаньским, где должен был быть турнир. Они двигались друг за другом – теснота переулков не позволяла им ехать рядом – и не могли перемолвиться даже словом, поскольку их разговор все равно заглушили бы выкрики торговцев, приглашавших что-нибудь купить.
Улучив момент, де Кюсси поравнялся со своим товарищем и, обращаясь к нему, сказал:
– Мне показалось, что король принял нас несколько холодно.
– Вряд ли король ненавидит меня больше, чем я его, – отвечал на это Тибольд.
– Но, – удивился рыцарь, – именно ты убедил своего отца отклонить предложения, сделанные сиром Джулианом от имени графа Фландрского.
– Да, потому что ценю его как монарха, что не мешает мне, впрочем, не уважать его как человека.
– Граф Овернский! – раздался тут голос сзади. – Не забывайте: кто слишком высоко летает, тому больнее падать. Как-то наш славный де Кюсси убил своего сокола, напавшего на орла, поскольку именно орел – царь птиц.
Краска залила лицо Тибольда. Он оглянулся назад, но никого не увидел, кроме старого пирожника и женщины, торговавшей голубями. Голос показался ему знакомым, и он подумал было, что это Галон, но де Кюсси уверял, что тот отправился на турнир. И в самом деле, невдалеке от места состязаний они повстречали Галона, шутками и кривлянием забавлявшего толпу.
Увидев своего господина и зная, что тот не любит, когда он кривляется, Галон покинул площадь и опрометью бросился домой, чтобы оказаться там гораздо раньше своего хозяина.
Задолго до назначенного часа трибуны были полны. Все в нетерпении ждали прибытия монарха, и взгляды людей были обращены в ту сторону, откуда он должен был появиться. Наконец трубы возвестили о его приближении. Впереди шли герольды – по двое в ряд, за ними на прекрасной лошади ехал Монжу. На нем была короткая туника без рукавов, распахнутая спереди и открывавшая взору бархатное фиолетовое платье, шитое золотыми лилиями. Голову его венчала корона, а в руках он сжимал некое подобие скипетра. Его манера держаться в седле была поистине царской. Народ приветствовал своего любимца криками: «да здравствует Монжу Сент-Дени!» и «да благословит Небо сира Франциска де Русси!». Дальше следовал отряд телохранителей, в позолоченных шлемах и с длинными луками; в руках у каждого была тяжелая палица, прислоненная к плечу. Наконец явился и сам Филипп. Он ехал на вороном жеребце, поступь которого была так величава, словно конь понимал, какую важную особу он на себе несет.
За королем, в окружении прелестных дам и юных баронов, на белой как снег лошади следовала его любезная Агнесса Мераннийская. С удивительной ловкостью она управляла горячей лошадью, грациозные движения которой лишь увеличивали красоту королевы. Монарха и его супругу сопровождала бесчисленная свита роскошно разодетых, как это и подобает на турнирах, дам и баронов. Они вступили на поле сражения с южной стороны, и король, подъехав к царской ложе, великолепно украшенной, помог Агнессе сойти с лошади и усадил ее в ложе.
Трубы возвестили начало турнира, и рыцари, проезжая мимо короля и королевы, приветствовали их, опуская копья. Время от времени Агнесса спрашивала имена рыцарей, ей незнакомых, либо тех, чьи лица были скрыты забралом.
– Кто этот рыцарь, Филипп, – спрашивала она, – тот, у которого дракон на шлеме и красный шарф? Ах, как он ловко сидит на лошади!
– Это Карл де Турнон, благородный рыцарь, прозванный Красным Графом. А вот и Вильгельм де Макон, – добавил король с лукавой улыбкой. – Как всегда, с розою на щите – все из любви к тебе.
– Глупец! – сказала Агнесса. – Лучше бы он объяснялся той, на чью любовь мог бы надеяться. А кто это следом за ним едет с зеленым щитом?
– О, это славный и храбрейший рыцарь де Кюсси, а с ним – Тибольд Овернский, тоже не менее знаменитый.
И сказав это, король внимательно посмотрел на свою супругу.
– Граф Тибольд Овернский? – повторила она с чистой улыбкой и без малейшего замешательства. – О! Я прекрасно знаю его. Отправляясь в Святую землю, он несколько месяцев жил при дворе моего отца. Он первый, от кого я услышала похвалу моему Филиппу, когда еще и не надеялась стать его супругой. Мне было тогда только пятнадцать лет, но я не забыла этой похвалы. Ах, он был искренним другом моего любимого брата, умершего в Палестине.
– Шут солгал! – подумал Филипп. – Ее глаза, ее голос и сердце – сама чистота, сама откровенность. Да, безумец солгал, и это стало причиной, что я так холодно принял благородного рыцаря и могущественного барона.
И чтобы загладить свою вину перед ним, король приветствовал рыцаря благосклонным кивком головы и наградил его дружелюбным взглядом.
– Возможно ли! – вскричала Агнесса. – Я его не узнала – так он переменился. Когда-то, в Штирии, его лицо дышало свежестью и здоровьем, а теперь он как будто бы болен. Какая ужасная, должно быть, эта Святая земля! Поклянись мне всеми Святыми не ездить туда никогда.
– Клянусь, Агнесса, клянусь! Достаточно и одного раза в жизни побывать там.
Только когда все рыцари проехали с приветствием мимо короля, тогда и начался турнир.
Гюи де Кюсси и граф Овернский побеждали всех, и многие дамы уже сожалели, что ни один из братьев по оружию не был украшен их цветом. И каждая из красавиц какой-нибудь женской хитростью старалась привлечь к себе внимание доблестных рыцарей, втайне надеясь, что в следующий раз один из них украсит свой шлем ее сувениром.
До окончании турнира барьер, отделяющий царскую ложу от трибун, был снят, и священник с крестом в руках, а также кардинал и свита монахов приблизились к государю. Став напротив короля, кардинал торжественно начал:
– Филипп, король Французский! Мне, кардиналу Святой Марии, поручено от имени Его Святейшества Папы Иннокентия .сказать вам…
– Остановитесь, кардинал! – вскричал король. – Мы можем объясниться у меня в кабинете. Я не привык принимать послов на поле брани.
– Но, государь, – отвечал легат, – повелением высшей власти я призван выразить вам публичное порицание. Знайте, что святая церковь с неодобрением смотрит на то, как король Французский, забыв о благочестии, оставляет свою законную супругу, Ингельборгу Датскую…
– Этот человек сведет меня с ума! – воскликнул король. – Неужели никто не заставит его замолчать?
Многие рыцари стали между легатом и королем. Но кардинал сделал им знак удалиться, зная, что суеверное почтение к его сану не позволит им применить против него силу. Они расступились, и кардинал продолжал:
– Зная также, что под предлогом беззаконного развода, произведенного вашими слабовольными епископами, вы приняли на свое ложе женщину, которая не является да и не может являться вашей законной женой…
Выкрики возмущения, вырвавшиеся из уст придворных дам, прервали прелата. Глаза всех были устремлены на королеву.
Сначала Агнесса лишь удивилась, глядя на человека, осмелившегося противиться воле того, кому все повиновались беспрекословно, но мало-помалу смысл сказанного дошел до нее, и она похолодела от ужаса: губы ее задрожали, щеки побледнели, а при последних словах прелата, ранивших ее, казалось, в самое сердце, она упала в бесчувствии на руки дам, ее окружавших.
– Клянусь небом, старик! – воскликнул Филипп разгневанно, – несмотря на твою седину, я убью тебя собственными руками! Уведите его!.. Заткните ему рот, чтобы он не произнес больше ни слова!.. Сюда, мои верные стражи, ко мне! Выведите его отсюда. Агнесса! – вскричал он, обращаясь к королеве, – не бойся: ничтожные слова выжившего из ума старика не смогут убить мою любовь и нежность, которую я к тебе питаю.
Между тем телохранители, вывели прелата и его свиту. Дамы, окружив королеву, старались привести ее в чувство. Все рыцари, все бароны стали на сторону Агнессы Мераннийской. Перебивая друг друга, они кричали, что признают ее своей повелительницей, королевою всех королев, красотою своей затмившей всех дам.
Филипп-Август радостно взирал на энтузиазм своих подданных. Сжимая в своей руке нежные пальцы Агнессы, другой рукой он указал на ее безжизненное лицо и вскричал громким голосом, чтобы все, находившиеся на поле сражения, могли его слышать:
– Рыцари и бароны французские! Должен ли я отказаться от своего счастья в угоду капризам гордого папы Иннокентия? Нет, я не боюсь папского гнева и не оставлю любимой мною супруги. Вы, храбрые рыцари, вы одни можете меня судить. Клянусь Небом, вы единственные мои судьи!
– Да здравствует король! Да здравствует король! – кричали бароны, как будто становясь под королевское знамя во время сражения.
Филипп объявил закрытие турнира и уверил своих подданных, что как только Агнесса будет в состоянии, она возблагодарит их преданность. Потом он пригласил всех на пир, который устраивал в четыре часа, а также сообщил, что для опоздавших будет приготовлен отдельный стол в Луврской башне.
Агнесса так и не пришла и сознание, и было решено отнести ее во дворец на носилках. В скорбном молчании ее сопровождала та же свита, которая окружала ее по дороге на турнир.
Едва печальная процессии исчезла из виду, де Кюсси приказал герольдам трубить и вызвать на бой с ним тех, кто скажет хоть слово против Агнессы. Однако и после третьего вызова никто не явился сразиться с ним, и все, покинув ристалище, отправились во дворец. Пир уже начался, и каждый под действием возлияний с жаром отстаивал права королевы, хотя ее тут и не было. Слушая эти хмельные речи, Филипп еще больше уверился в преданности своих баронов и возомнил себя в состоянии справиться с папским гневом. Но об одном он забыл: все обещания, вызванные Щедрою пищей и обильным питьем, недорого стоят и забываются сразу же после застолья. Однако сейчас каждый старался перекричать остальных, Доказывая свою приверженность королю и готовность тотчас же стать на его защиту. Один только Тибольд молчал. Он испросил позволения посетить королеву, чтобы воздать ей почести и сообщить новости, привезенные им из Штирии. Король согласился и пригласил его в Компьен, где должны были издаваться очередные указы относительно связей между Францией и новой Константинопольской колонией. Приняв приглашение, Оверн поблагодарил короля и вместе с де Кюсси покинул дворец.
Прием, оказанный легату, и все, что с ним было связано, в точности было пересказано папе. И горячность баронов, ставших на сторону королевы, заставила трепетать Его Владычество. Чтобы добиться неограниченного влияния, нужно немало времени. Папская же власть, основанная на бесконечных и неутомимых интригах, была еще не настолько сильна, поэтому Иннокентий опасался, что церковь не перенесет рокового удара, если Филипп будет сопротивляться успешно.
Предусмотрительный и честолюбивый Иннокентий видел в Филиппе достойного противника, столь же решительного и могущественного, как и он сам. Но, отдавая должное мудрости и дипломатическим способностям своего соперника, не мог не понимать, что могущество Филиппа большей частью зависит от успехов ума: успехов медленных и многотрудных. В то время как его собственная власть, основанная на вековых суевериях, была утверждена всеми привычками, сковывающими сердце человеческое во тьме невежества.
Как ни зол он был на Филиппа за пренебрежение церковной властью и отказ исполнить его, Иннокентия, волю, Его Святейшество постарался ни словом, ни жестом не обнаружить своего негодования: все его письма к королю, твердые и решительные, по-прежнему отличались умеренностью и хладнокровием. В то же время кардинал святой Марии получил от него приказ созвать французских епископов с тем, чтобы отлучить Филиппа от церкви, а на государство наложить духовный запрет. Столь строгий подход огорчил епископов, и, по их просьбе, легат отложил на время исполнение этого указа, втайне надеясь, чтокакое-нибудь пожертвование поможет обезоружить гнев церкви.
Между тем Филипп, посвятив все свое время заботам о любимой супруге, не оставлял ее ни на минуту. Чтобы отвлечь ее от грустных воспоминаний о досадном происшествии, которое так сильно подействовало на королеву, он старался занять ее охотой, разъезжал с ней по загородным дворцам и наконец добился того, что она готова была забыть о случившемся. Но все-таки он не сумел излечить ее полностью, и временами Агнесса впадала в такую глубокую задумчивость, из которой ее трудно было вывести.
А в это время граф Овернский, решив, что пора бы уже, воспользовавшись приглашением короля, посетить Компьен, собирался в дорогу. Но неожиданные обстоятельства круто изменили все его планы. Из Оверна, его родового поместья, прибыл с горестной вестью посол, который и сообщил молодому графу о том, что отец его тяжело болен. И Тибольд отправился в Вик-ле-Конт.
Приехав, он застал отца своего на смертном одре. Как ни горестно было для Тибольда это несчастье, он перенес его с мужеством. Исполнив последние обязанности и приняв почести от своих новых вассалов, он возвратился в Париж, поручив управление Оверном своему дяде, графу де Гюи, славившемуся своим веселым нравом, а еще тем, что никогда не отказывал себе в удовольствии попользоваться чужим добром.
ГЛАВА IX
Вернемся теперь назад, к тому времени, когда граф Овернский еще только собирался отправиться в свое родовое поместье. Его отъезд был назначен на утро. Оба друга, Оверн и де Кюсси, стояли на крыльце, прощаясь, и Тибольд, обняв своего товарища, тихо шепнул ему на ухо: «Мешки с деньгами, что мы привезли из Святой земли, спрятаны у меня в комнате. Как братья по оружию мы должны делиться всем, что у нас есть, а значит, то, что принадлежит мне, в равной степени принадлежит и тебе. Помни об этом. По возвращении я надеюсь застать тебя здесь; если же задержусь, то пришли гонца».
– Прощай, Оверн! – сказал де Кюсси. – Не знаю, увидимся ли мы с тобой снова.
Братство по оружию предписывало рыцарям всем делиться между собой. Как только они менялись оружием, все становилось общим: не только имение и участь, труды и удовольствия, но даже сама жизнь и смерть. Их долг был помогать друг другу словом и делом, и если один умирал, не отомстив своему врагу, то другой обязан был занять его место и поддержать честь своего брата, сражаясь с его противником. В Святой земле де Кюсси делил с Оверном все, но теперь, понимая как много денег потребуется для двора и турниров, он, будучи чересчур щепетилен в денежных делах, не мог заставить себя воспользоваться состоянием Тибольда.
Опечаленный расставанием, де Кюсси тихо прошел в свою комнату. Гуго де Бар, его оруженосец, видя задумчивость своего господина, попытался отвлечь его от грустных мыслей, но напрасно. Тогда он, зная, что де Кюсси влюблен в Изидору, вынул из кармана золотой браслет и показал его своему хозяину.
– Посмотрите-ка, сир Гюи, какая прелестная вещица! Не знаком ли вам этот браслет? – спросил он, лукаво улыбаясь. – Я уговорил служанку Изидоры, чтобы она его похитила.
– Как ты мог, Гуго! – возмутился рыцарь. – Как осмелился ты на такую дерзость!
– Если вы считаете, что я поступил дурно, то я его верну. Но послушайте-ка, что я скажу вам: прекрасная Изидора знала, что горничная хочет получить этот браслет, и знала, что для меня, , а следовательно, могла догадаться, в чьи руки он попадет. Но мне-то что за нужда – я, пожалуй, его верну.
– Дай его мне, добрый Гуго. Вот уж не думал, что ты так искусен в этих делах. А не влюблен ли и ты? Отвечай скорее.
– Похоже на это. Мы договорились с Алисой, что, если вы победите ее госпожу, я женюсь на горничной. Потому-то и решили вам помогать.
– Хорошо. А теперь вели седлать лошадей, пора бы и мне навестить родное гнездо.
Оруженосец отдал браслет своему господину и вышел. Оставшись один, де Кюсси стал целовать столь драгоценную для него вещицу, восторженно восклицая при этом:
– Она видела, что горничная его похитила, и знала, что для меня!
Затем, не сводя глаз с браслета, стал напевать любовную балладу, импровизируя страстно и вдохновенно. Он хотел было снова прижать к губам драгоценный залог, но тут от двери раздался насмешливый голос, прервавший его приятные мечты. Конечно же, это явился Галон-простак.
– Ха-ха-ха! – хохотал Галон. – Мой господин превратился в шута! Он забавляется золотой безделушкою и напевает ей баллады! Право, я откажусь от своего ремесла: оно уже непочтенно, коль всякий дурак за него берется.
– Берегись, как бы тебе не отсекли уши! – ответил де Кюсси. – Уж я-то знаю, что ты лишь прикидываешься дураком, когда тебе нужно. А теперь отвечай мне, но только правдиво, чем ты был занят сегодня утром?
– Я был на компьенской дороге, – отвечал Галон важно. – Ходил посмотреть на волка в овчарне да на сокола в голубином гнезде. А теперь вот спрашиваю себя: будет ли доволен пастух обращением господина волка с госпожами овцами, и еще…
– Что ты хочешь сказать, хитрец? – перебил Де Кюсси. – Довольно с меня намеков, отвечай как положено, если не хочешь, чтобы тебе подпортили шкуру. Еще раз спрашиваю тебя, что ты имеешь в виду?
Он схватил шута за руку, собираясь ударить.
– Хорошо, хорошо! – испугался Галон. – Я ходил во дворец, чтобы узнать у своего искреннего друга, кто же это пленился моей красотой, не удержался он от насмешки. А еще я хотел узнать у него, правда ли то, что великодушный Филипп овладел поместьями вашего дяди. И удостоверился, что это действительно так, и что он приказал собирать все доходы в казну. О, он великий правитель! И очень скоро приступит к делу. Ха-ха-ха!
– В добрый час. Пусть он владеет ими и заботится о них. Я предпочел бы отдать свои земли в руки монарха, нежели герцога Бургундского, и готов поделиться доходами, если они пойдут на укрепление власти нашего короля, а не на обогащение влиятельного вассала, и без того уже сильного. Но ты не ускользнешь от меня. Ну-ка, рассказывай, что ты еще хотел пронюхать?
– Да ничего особенного. Просто хотел повидать графа Тибольда Овернского и королеву Агнессу Мераннийскую. Ха-ха-ха! Что в этом дурного?
– Этого не может быть! – воскликнул де Кюсси, пораженный таким ответом. – Нет, это невозможно, невероятно!
– Вы все еще сомневаетесь? – Галон чуть не задохнулся от смеха. – Так вспомните, как он был весел до тех пор, пока не получил известие о браке Филиппа с Агнессою. Не побледнел ли он, как полотно палатки и не стал ли худ и печален после этого?
И, чтобы избежать побоев, он вырвался из рук своего господина и, хохоча, выскочил из комнаты.
– Как это могло случиться, – рассуждал сам с собой де Кюсси, – что я в продолжение двух лет не замечал того, о чем дурак догадался в одну минуту. Что ж, Оверн, я буду верен тебе. Пусть я и не захотел поделить твое имение, но разделю опасности. И да поможет нам Бог!
Его размышления были прерваны приходом оруженосца, сообщившего, что лошади готовы и положившего на стол небольшой туго набитый кожаный мешок.
– За что эти деньги? – спросил де Кюсси.
– Рыцари, которых вы победили на вечернем турнире, прислали выкуп за оружие и лошадей.
– Ну так заплати тем двоим, кто ухаживает за арабскими скакунами, приведенными из Оверна.
– Не уверен, нужны ли им деньги. Я слыхал, они просят двух лошадей, да в придачу оружие, чтобы стать под ваши знамена, если вы им позволите.
– Я бы позволил, Гуго, – ответил рыцарь. – Но чем я их стану кормить? А впрочем, свита не так уж и увеличится. Ладно, ступай с ними к оружейнику и выбери каждому саблю, щит, латы и шлем. Я же поеду не торопясь, и выполнив свое дело, ты догонишь меня с двумя новыми солдатами.
Сказав это, он спустился с крыльца и, оседлав лошадь, отправился в путь.
Замок Кюсси-Магни, где жили его предки, был построен на холме и со всех сторон окружен высокими башнями, делавшими его неприступным. Когда де Кюсси, отправляясь в Святую землю, покидал родные стены, они уже были почернены временем, но каких же быстрых успехов в разрушении добилось время в течение кратких десяти лет! Высокая четырехугольная башня, гордившаяся своей правильностью, осталась без одного угла; окна и бойницы до половины заросли вьющимися растениями.
Де Кюсси лишь грустно вздохнул, приблизившись к замку. Едва он подъехал к воротам, как услыхал характерный стук отодвигаемых засовов, и тут же раздался сердитый голос старика:
– Не смей, Шарль! Остановись! Или ты хочешь отдать замок мародерам? Не отворяй, я тебе говорю, если не хочешь, чтобы я разбил тебе голову! Наверняка, это шайка разбойников!
– Онфроа! Онфроа! – крикнул рыцарь. – Отвори ворота. Это я, де Кюсси!
– Мне незнаком этот голос, – отвечал старик. – Голос молодого господина был приятен и нежен, а ваш походит на колокольный звон. Я вас не знаю – все это обман. Шарль, прикажи укрепить стены и бей тревогу!
– Пусть ты не узнаешь мой голос, – сказал де Кюсси, – но не можешь же ты не вспомнить звук моего рога.
– Протрубите еще раз: если вы де Кюсси, звук вашего рога я различу и за десять миль.
Де Кюсси протрубил.
– Да, это он! Это он! – обрадовался старик. – Отворяй дверь, Шарль. Будь благословенна Богородица! Это он, мой господин! Быстрее дай мне ключи, я отопру сам.
И едва лишь ворота открылись, как он бросился на колени перед молодым хозяином, жестом приглашая его в замок.
– Въезжайте, мой господин. Владейте всем, что вам принадлежит по праву. Вот ключи от вашего замка, – продолжал старик, утирая слезы. – Но я с трудом узнаю того молодого Гюи, который до отъезда отсюда едва доставал мне до плеча, и которого я учил ездить верхом и стрелять из лука. Как же он возмужал и окреп!
– Да, это я, Онфроа, – сказал де Кюсси. – И пусть ключи остаются у тебя: здесь они будут в надежных руках. Но войдем. Я надеюсь, что у тебя остались еще какие-нибудь припасы и ты пригласишь нас поужинать. Нас хоть и мало, но мы очень голодны.
– Тотчас же прикажу заколоть свинью, – отвечал Онфроа. – Со времени вашего отъезда я их много завел: они неприхотливы в еде, могут питаться одними желудями, и содержание их ничего не стоит. Что же касается коров, баранов и кур – они обходятся дорого, и я вынужден был почти всех их продать. Деньги же, вырученные за них, я отослал вам, все до копеечки, когда вы требовали в последний раз.
– Мы не привередливы, – сказал де Кюсси, – хоть какой-нибудь был бы ужин.
И пошел в замок.
Шарль зажег факел. Уже начинало смеркаться, и в покоях становилось темно и мрачно. Лишь только свет факела распространился по комнате, слуги, побуждаемые любопытством, пришли взглянуть на молодого господина. Скудная обстановка, старые потемневшие стены, летучие мыши, бьющие крыльями под потолком, – все настраивало на грустные размышления. Гюи де Кюсси, распорядившись разжечь огонь в камине и принести арфу, тяжело опустился в кресло и глубоко задумался, подперев голову рукой; и можно было с уверенностью утверждать, что мысли его не заключали в себе ничего приятного. В этот момент у ворот замка раздался звук трубы.
– Отворите и узнайте, кто приехал, – распорядился де Кюсси. – Клянусь крестом, посещение в такой поздний час кажется мне, по меньшей мере, странным!
– Именем Святой Девы умоляю вас не отворять дверей. Вы и не представляете, какой опасности подвергаетесь. Бароны, ваши соседи, выгнали разбойников из своих владений, и теперь они поселились в здешнем лесу. Ради Бога, будьте благоразумны.
У ворот замка снова протрубили.
– Ступай отопри, – повторил де Кюсси, обращаясь к Шарлю. – Хотел бы я посмотреть, кто из бродяг осмелится сделать хоть шаг в эту комнату, когда де Кюсси защищает свое жилище.
Он подошел к окну. Слабого мерцания факелов оказалось достаточно, чтобы можно было разглядеть незваных гостей, – они были в латах, украшенных золотом.
– Нет, это не бродяги, Онфроа.
Он быстро сбежал по лестнице.
– Могу я узнать, кому это вдруг понадобился Гюи до Кюсси? – спросил он у рыцаря, слезавшего с лошади.
– Мое ими Вильгельм де ла Рош Гюйон, – отвечал чужестранец. – Я заблудился в этом лесу и вынужден просить у вас гостеприимства. Постойте, мне кажется, что мы уже виделись прежде, доблестный рыцарь…
– Да, это так. В замке Вик-ле-Конт. Прошу простить, но и я сам прибыл сюда всего полчаса назад после десятилетней отлучки, и боюсь, что не в состоянии принять достойно такого почетного гостя. Однако, Онфроа, подай нам все лучшее и поскорее.
– Ха-ха-ха! – Рассмеялся Галон, выглядывая из полуотворенной двери. – Лев потчует лисицу, а лисица, уж будьте уверены, выберет лучший кусок. Ха-ха-ха!
– Я тебе кости переломаю за твою дерзость! – И обращаясь к де ла Рошу, который удивленно наблюдал за этой сценой, де Кюсси сказал:
– Это всего лишь шут, которого я выкупил когда-то у иноверцев.
Вскоре ужин был подан. Но Кюсси сидел за столом рядом со своим гостем, а тот всячески расхваливал вино, которое действительно было превосходным, и с завидным аппетитом уплетал котлеты и кур, которые всего час назад еще прогуливалась на заднем дворе.
Постепенно де Кюсси, забыв о своей бедности, развеселился и, смеясь, стал отвечать на шутки гостя. Он позвал Галона, чтобы тот на натянутом канате проделал разные трюки, демонстрируя свое мастерство и силу.
– У него накладной нос? – спросил де ла Рош.
– Нет, его собственный, по крайней мере мне не доводилось видеть у него другого, – отвечал де Кюсси.
– Не может быть! Я никогда не видал ничего подобного и с трудом верю, что этот нос настоящий.
– Галон, подойди к нам, – позвал де Кюсси, – и докажи, что это твой собственный нос.
Галон спрыгнул с каната и, приближаясь к рыцарю, стал крутить носом, как слон хоботом, доказывая, что он полностью ему повинуется. Де ла Рош схватил его за нос, с силой сжав его пальцами, и, убедившись, что тот настоящий, удивленно сказал:
– Вот уж поистине чудный экземпляр, придающий столько достоинства его физиономии!
– Достоинство безобразия. Но берегитесь: Галон мстителен, как обезьяна.
– Ничего, я дам ему несколько золотых. За одну лишь возможность дотронуться до такого носа не жалко отдать все сокровища храма Соломона.
Де Кюсси повел наконец своего гостя в спальню, сохранившую еще свое прежнее великолепие. Богатая драпировка стен, постельные занавеси, прекрасное стеганное одеяло, хотя и несколько полиняли от времени, но все же доказывали, что фамилия де Кюсси-Магни была некогда весьма знатной.
На следующий день с восходом солнца Вильгельм де ла Рош Гюйон отдал распоряжение готовиться к отъезду. Де Кюсси старался как мог удержать его еще хоть на несколько дней, но тщетно. Представив ему тысячи причин, де Кюсси надеялся, что одна из них убедит де ля Роша погостить еще хоть немного.
– Мне сообщили, что во время моего отсутствия в этом лесу поселилась шайка разбойников. Я собираюсь вытеснить их отсюда, и был бы счастлив, если бы такой храбрый рыцарь, как вы, присоединился ко мне.
Де ла Рош покраснел, но ответил отказом, уверяя, что весьма важное дело вынуждает его торопиться. Но если хозяину замка будет угодно, он оставит здесь свою охрану, а сам отправится в путь с теми слугами, которые не вооружены. Де Кюсси, не приняв предложения, поблагодарил очень сухо, но все же проводил своего гостя и выпил с ним прощальный кубок. Пожелав счастливого пути, он вернулся в свой замок.
Вильгельм де ла Рош молча ехал впереди своей свиты, пока не достиг основания холма, на котором построен был замок. Здесь он дал знак приблизиться своему оруженосцу и, въезжая в лес, произнес:
– Клянусь небом, Филипп, даже у нищих ты не отведал бы такого ужина, каким нас вчера угощали. Мой желудок так разболелся от этих мерзких котлет, что я всю ночь не мог заснуть. А слышал бы ты, как молодой хозяин потчевал меня! Точно хотел, чтобы я совсем задохнулся. Нет, избави нас Боже от нищих владельцев! Хоть бы они и вовсе не возвращались из Палестины.
– Что я и говорил, – поддакивал оруженосец, – и если они снова захотят туда отправиться, то мы пожелаем им попутного ветра.
– А эти роговые чаши, Филипп, а деревянные блюда – приметил ли ты? О! Столовая посуда полностью соответствовала угощению!
– Об этом я вас и предупреждал: владелец и замок, ужин и блюда – все очень подходит одно к другому.
– И думать при этом, что я пойду с ним против храбрых разбойников, не сделавших мне никакого зла; что подвергну опасности свою лошадь, а может, и собственную жизнь; что потеряю время для освобождения его владений от группы людей, не менее смелых, чем он, да к тому же еще и богатейших! Это верх безрассудства!
– Я это предвидел, – поддакнуло его эхо. – Вы достаточно умны, чтобы но вмешиваться в дело, которое вас не касается.
– Ха-ха-ха! – донеслось тут откуда-то сверху.
Все как один подняли глаза. То, что они увидели, удивило бы и любого: Галон-простак раскачивался на дереве, уцепившись ногами за сук и опустив руки к земле. Покачавшись немного вниз головой, шут обхватил ствол руками в ловко спрыгнул на землю в двух шагах от Вильгельма.
– А! – вскричал де ла Рош, вынимая кошелек из кармана. – Царь шутов сам явился за своей наградой! Лови!
Одну за другой он подбросил вверх две золотые монеты, которые Галон поймал в воздухе.
– Ах, ах! – кривлялся Галон. – Спасибо, господин, спасибо! Теперь я скажу тебе новость, которой бы ты никогда не узнал без этого золота: та, кого ты любишь находится сейчас в замке Монморанси. Отправляйся скорее туда – и она твоя. Ты меня понял?.. Склони на свою сторону ее отца. Расскажи о своих поместьях, богатых дворцах: сир Джулиан так любит золото, как будто дорога на небеса выложена им. А вам и желать нечего: ваши богатства чрезмерны. А если к ним вы присоедините еще и графские!.. Это давно уже в порядке вещей: мы любим делать подарки тем, кто в них не нуждается; нищим же мы плюем в лицо. Ах, ах! Это будет прекрасный подарок! И кто скажет теперь, что я глуп?..
Сказав все это, он бросился прочь и скрылся в чаще леса. Едва он достиг укромного места, где ему не грозила опасность быть настигнутым, шут бросился на землю и в радостном восторге стал кататься по траве.
– Я отомщен! – вскрикивал он. – Я отправил быка на бойню, где мясником будет де Кюсси. Ха-ха-ха! Молодой осел поспешит выпросить согласие у старого и, конечно же, получит его. Но будет ли довольна прекрасная Изидора? Разумеется, нет, о чем она и уведомит де Кюсси. И тогда мой хозяин вызовет его на бой: молодой глупец не посмеет отказаться, и мой господин, мой храбрый рубака наградит его славным ударом так же легко, как ястреб расправляется с жаворонком. Ха-ха-ха! Это навсегда отучит его трясти меня за нос. Проклятое лицо! Проклятая фигура! – он с ненавистью ударил себя по лбу. – Нет ни одного существа на земле, которого кто-нибудь не любил бы, не холил. Меня же вое избегают: все смеются надо мной, презирают, ненавидят… да и я сам ненавижу себя! За что?.. Разве я дьявол?.. А если я Дьявол, так станем и действовать по-дьявольски… И горе тому, кто меня презирает!
ГЛАВА X
Агнесса Мераннийская сидела в своей комнате. В окружении дам своего двора она вышивала что-то, по-видимому, рыцарский плащ. Да и остальные были заняты подобной работой.
– Где Артур? – спросила королева. – Мне надо знать, какие он хочет эполеты: шитые золотом или шелком.
В ту же минуту дверь отворилась, и красивый молодой человек, лет пятнадцати, вошел в комнату.
– Я всегда рядом, прекрасная кузина, – сказал он, склонившись перед королевой и целуя руку, трудившуюся для него.
– Скажите мне, принц, какие вам надобны эполеты – золотые или шелковые?
– Шитые золотом, – отвечал Артур.
В это время вошел паж и объявил о приезде канцлера. Королева побледнела. Предчувствуя, что это посещение принесет ей одни неприятности, она тем не менее велела пажу пригласить министра. Все тут забегали, засуетились, поспешно убирая шитье, и сокол, который, вцепившись в кольцо, внимательно наблюдал за всей этой суматохой, решил, видно, что его хотят взять на охоту, и пронзительно заклекотал.
– Уберите эту птицу, Артур, – сказала Агнесса. – Ее крик действует мне на нервы.
Артур повиновался и вышел из комнаты.
Явился канцлер, но не один, а вместе с пустынником Бернардом. Канцлер поклонился ей, а пустынник благословил.
Сердце Агнессы билось так сильно, что она и слова не могла вымолвить, а лишь показала молча на два стула, стоявшие возле нее.
– Государыня! – обратился к ней Герень, – мы пришли сообщить вам нечто очень важное, но эти сведения не для чужих ушей.
– Выйдите все в приемную, – приказала королева своим придворным, – и не входите до тех пор, пока я вас не позову. А теперь, милостивый государь, сообщите мне о причине вашего визита.
– Смею заверить вас, что, руководствуясь исключительно государственными интересами, мы с отцом Бернардом решились на этот шаг: довести до вашего сведения все, что касается истинного положения дел, рискуя, быть может, задеть вашу гордость и навлечь на себя гнев короля, который тщательно все скрывал от вас.
– Если для блага Филиппа и его государства потребуется все мое мужество, я готова перенести любые удары, но если вашей слова порочат честь монарха и противоречат его воле, то королева повелевает вам молчать. Я считаю Филиппа человеком достойным, а его волю законом.
– Государыня, – продолжал Герень, – после того происшествия на турнире вам, полагаю, известно, что папа объявил ваш брак незаконным, а развод Филиппа с Ингельборгою – недействительным. Нужно ли говорить о последствиях, ожидающих Филиппа в случае неповиновения?
Побледнев еще больше, Агнесса молча показала на чашу с питьем, стоявшую на столе. Министр подал ей воду. Сделав пару глотков, она прикрыла глаза рукой и сидела так некоторое время, потом снова взглянула на канцлера и голосом более твердым спросила:
– И что же прикажете делать мне? Предложите оставить короля, обесчестив тем самым имя свое?!
– Не спорю, бесчестие – вещь тягостная и жестокая, – произнес пустынник. – Но подумайте и о том, дочь моя, с каким уважением будет говорить история о женщине, которая ради величия государства и освобождения короля от анафемы способна на поступок, достойный всяческих похвал; о женщине, которая, вырвавшись из сладкого плена, возвращает этим поистине геройским подвигом былую славу монарху, мир его государству и спокойствие в лоно церкви. Подумайте, какой славы удостоится имя ее в веках, и какая награда уготована на небесах!
– Довольно, отец мой! Остановитесь! – воскликнула Агнесса. – Дайте немного подумать.
И, опустив свои прекрасные глаза, задумалась и молчала. Наконец, взглянув на пустынника, она ответила ему:
– Я все понимаю, отец мой, и искренне верю, что ваши слова продиктованы исключительно обеспокоенностью за судьбу короля и государства; и все же я не могу сделать то, чего вы от меня ждете. Нет, не могу! Я продолжаю считать себя законной супругой Филиппа, короля Французского, и не приму на себя позора, согласившись, что была всего лишь его любовницей с того времени, когда он пред престолом дворца, в присутствии всех прелатов и епископов королевства получил мою руку. Я опорочу имя свое и имя моего ребенка, если стану думать иначе. Супружеский долг повелевает мне ни при каких обстоятельствах не оставлять добровольно своего супруга и во всем повиноваться ему; и я никогда не признаю себя его незаконной женой и никогда не воспротивлюсь его воле.
Королева говорила решительно, но спокойно, и только блеск ее глаз да мертвенная бледность, разлившаяся по лицу, выдавали ее волнение.
– Но, государыня, наш разговор не окончен, – вмешался тут Герень. – Дайте еще минуту, послушайте…
– Я не желаю вас больше слушать! – прервала его королева. – Я так решила, и ничто в мире не сможет поколебать моей твердости. Мне что-то нездоровится, господа, – добавила она, бледнея. – Прошу вас, оставьте меня.
Герень поклонился и хотел было выйти, но вынужден был остаться, чтобы подхватить королеву, теряющую сознание. Тут же были вызваны придворные, которые занялись Агнессой, стараясь привести ее в чувство.
Выйдя из комнаты, Герень и раздумье спускался по лестнице.
– Что же нам делать теперь? – спросил он пустынника.
– Ничего, сын мой, – ответил тот. – Я не намерен терзать сердца себе подобных и не стану больше вмешиваться в это дело. Прощай! Я отправляюсь в замок де Кюсси-Магни навестить этого безумца, которому, похоже, без пользы спас жизнь. Это меня пугает.
– Надеюсь, вы не пойдете пешком? – сказал Герень. – Путь далек: возьмите лошадь или мула из моей конюшни.
– А почему бы и не пешком? И наш спаситель ходил, когда был на земле.
ГЛАВА XI
В одно прекрасное июньское утро в лес, прилегающий к замку Кюсси, вошел человек в латах и шлеме и с саблей у пояса. Все его оснащение сверкало на солнце так, словно только что было взято из лавки оружейника. Держа тугой лук наготове, он внимательно всматривался в каждый куст, и, глядя, как он рыщет по лесу, легко было принять его за охотника, идущего по следу оленя.
– Проклятые дуралеи! – бормотал он себе под нос. – Они что, не могли сделать лучших заметок? Как я буду искать их в этом лесу?.. А, вот наконец и другая!
Беседуя таким образом сам с собой, он остановился и взял в руки ветку, наполовину переломленную. Тщательно осмотрев ее, он свернул с тропинки и вошел в заросли кустарника, продолжая выискивать новые заметки. И всякий раз, найдя очередную сломанную ветку, он оставлял ее с правой стороны.
В конце концов, этот след вывел его на поляну, буквально усыпанную переломленными сучьями: здесь он остановился, внимательно огляделся и свистнул. Ему ответили тем же, а минуту спустя из-за кустов раздался голос:
– Это ты, Жоделль?
– Да, это я, – отвечал тот.
Из гущи кустарника вышел человек, вид которого яснее слов говорил, к какому племени он принадлежит – племени людей, занимающихся нечестным ремеслом.
– Идем, Жоделль, идем! – позвал он, приближаясь. – Пойдем же в наш лагерь. Мы давно тебя поджидаем. Итак, рассказывай о своих подвигах. Что ты сделал за это время: перерезал ли глотку дьяволу, или отнял деньги у рыцаря? Какие новости ты принес: плохие или хорошие?
– Сначала придем на место, – ответил Жоделль, – там все и расскажу.
Оба разбойника углубились в лес и вскоре достигли лагеря. Здесь было много людей, различно одетых и коротающих время за самыми разными занятиями: одни вырезали луки, другие чистили сабли и точили кинжалы. Приход Жоделля прервал их занятии, глаза всех были устремлены на него. Большинство, казалось, признали в нем одного из своих главарей, другие же смотрели на него как на незнакомца.
– Твой приход как нельзя кстати, Жоделль, – сказал один из них. – Мы нуждаемся в твоей помощи и совсем уж было собрались послать за тобой.
– Да, без меня вам пришлось бы туго. – Жоделль приосанился. – Знали бы вы, какая участь вас всех ожидала, если б не я! Да не вцепись я в полы платья молодого хозяина, вас всех бы изжарили на костре, как цыплят, или развесили бы, как белье, на веревках. Да-да, Гюи де Кюсси теперь здесь, в своем замке, и всем, кого он найдет в этом лесу, грозят меч и веревка. Это он убил моего брата в Оверне, и я поклялся тогда, что умру, но отомщу. Убью и его, и того предателя, который посоветовал нам напасть на вооруженных рыцарей, уверяя, что это всего лишь беззащитные богомольцы. Обет дан Богу, и будет исполнен!
– Однако, Жоделль, ты не слишком-то преуспел в этом деле. Следуя за Кюсси из Оверна в Париж, а из Парижа сюда, ты не дотронулся даже пальцем ни до слуги, ни до господина.
– Хотел бы я знать, кто из вас смог бы сделать это! – рассердился Жоделль. – Справиться с шутом – невелика трудность, но господина убить не так-то легко, как вы думаете. Да будет вам всем известно, что он расстается с оружием, лишь когда спать ложится, но и в это время его жизнь охраняют паж и оруженосец, подкупить которых нечего и пытаться. И все же я найду, как ему отомстить. Дослушайте-ка, какой план я составил. Война вот-вот начнется, и де Кюсси, конечно же, пожелает возглавить войско… Но где ему взять солдат? Тут-то я и предложу ему ваши услуги; таким вот образом мы и проникнем в стан врага. О, это прекрасный план! И мы не только отомстим, но еще и хорошенько погреем руки: де Кюсси так же щедр, как и отважен, и в добыче у нас не будет недостатка. По окончании же войны я исполню свой обет. Что вы на это скажете?
– Чудесно! Превосходно! – хором поддержали разбойники.
Чтобы уйти от преследования де Кюсси они решили укрыться в соседнем лесу и разделились на две шайки, которые объединялись бы только для кражи лошадей, чтобы быть в полной готовности, если рыцарь примет их услуги.
– Теперь принимайтесь за дело, – сказал Жоделль. – И помогите мне выследить лань: должен же я хоть что-то принести в замен, чтобы объяснить свое отсутствие.
Вскоре они нашли стадо ланей. Жоделль убил лучшую и, взвалив ее себе на плечи, отправился в замок. Ворота были отворены, а сам де Кюсси стоял на подъемном мосту, поджидая Жоделля.
– Где тебя носит в такую рань? – спросил он сердито. – И разве я позволял когда-нибудь оставлять замок без моего разрешения? А если б понадобились твои услуги?
– Но у меня не было дел, и от скуки я решил поохотиться, – оправдывался Жоделль. – Ведь отсутствовал я недолго, хоть мне и пришлось в поисках дичи зайти дальше, чем я собирался.
– Так ты умеешь стрелять? И с какого же расстояния ты попал в эту лань?
– Да шагов так со ста шестидесяти. И скажу вам, не хвастаясь, что если на таком расстоянии и не попаду в яблоко, то позволю шуту Галону перерезать тетиву моего лука.
– Что ж, я испытаю тебя сегодня же. А целью для твоих стрел будут головы тех бродяг, что поселились в моем лесу.
– Мне жаль этих бедолаг, – сказал Жоделль с состраданием. – Гоняют их с места на место, как диких зверей; а ведь среди них есть много хороших солдат.
– Ах, мерзавец! Да как ты смеешь защищать разбойников и бродяг!
– А я и не защищаю, просто жалею. Во время войны они проливают свою кровь за одну из сторон, но только война закончится – и они никому не нужны. Их бросают, как ставшие ненужными латы. И никого не волнует, как они будут жить и чем питаться. А сам я?.. Что бы я делал, если бы вы не приняли меня на службу?
– Разве ты воевал с бродягами? – спросил де Кюсси.
– Не стану вам лгать, рыцарь: когда-то я командовал двумя сотнями этих отчаянных головорезов. Мы служили тогда под знаменами короля Ричарда.
– И где же они теперь? – расспрашивал де Кюсси с возрастающим любопытством.
– Кто где.
– Что с ними стало?
– Слыхал я, что после моего отъезда они предлагали свои услуги Филиппу. Он им отказал – тогда ведь не было войны. Теперь же, кто знает… должно быть, шатаются из стороны в сторону, подыскивая себе хозяина, какого-нибудь барона, который принял бы их на службу и дал бы им денег.
– В последнем они, вероятно, больше всего и нуждаются… – презрительно бросил рыцарь и пошел в замок.
Уже через час, возглавив добрую сотню преданных ему людей, де Кюсси был готов к облаве.
Хотя он и был доверчив, но время от времени все же посматривал на Жоделля, который так разоткровенничался с ним этим утром. Заметив, что Жоделль улыбается, де Кюсси подъехал к нему.
– И что же означает ваша улыбка, сеньор бродяга?
– А означает она, мой господин, что я ваш слуга и готов поплатиться за вас даже собственной жизнью, – ответил хитрец. – И если бы те, кого мы преследуем были бы моими лучшими друзьями, я все равно не стал бы на их сторону. Таков закон: я ваш раб, и буду верой и правдой служить вам. Смотрите-ка… Видите вы этот изломанный сук? Это их метка – знак, что они неподалеку отсюда.
– Должен признать, что ты ориентируешься в этом лесу не хуже, чем в чистом поле. И когда только ты успел так хорошо изучить повадки и тайные знаки лесных бродяг?..
– Я не первый день на охоте, и знаю лес, как свои пять пальцев, – отвечал Жоделль смело. – И со знаками разобраться не так уж трудно, тем более мне: я и сам когда-то пользовался такими же.
– Стойте! – воскликнул де Бар. – Я вижу следы, человеческие и лошадиные. И они совсем свежие.
– В каком направлении они ведут? – спросил Де Кюсси.
– Да кто ж его знает, – - ответил оруженосец. – Их тут столько!..
Не теряя времени, де Кюсси со своим войском отправился по открытому следу и вскоре увидел поляну, на которой еще совсем недавно был лагерь разбойников. В центре поляны в землю было воткнуто копье с привязанным к нему пергаментом. Де Кюсси развернул бумагу и прочел:
«Доблестный рыцарь! Узнав о вашем возвращении, мы добровольно уходим из ваших владений: не из боязни, а только из уважения к лучшему и храбрейшему рыцарю Франции, Гюи де Кюсси».
– Ах, хитрецы! – расхохотался рыцарь. – Как они меня провели! А как учтивы! Ну, ладно, коль уж они оставили мои земли, то и Бог с ними.
И с этими словами он повернул обратно. Так и закончился этот поход.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА I
Воздав последние почести своему отцу, Тибольд, граф Овернский, стал собираться в обратный путь – у него еще оставались дела в Париже. Поручив управление имением своему дяде, он покинул Вик-ле-Конт с многочисленной свитой. По пути он смог наконец исполнить свое давнее намерение заехать в Дижон, где с прискорбием узнал, что Галон говорил правду: Филипп действительно завладел всеми землями графа Танкервильского.
Но была и другая причина заглянуть в этот славный город. О Дижонском соборе в последнее время носилось столько слухов, причем, слухов абсолютно противоречивых, что и любой на месте Тибольда захотел бы лично удостовериться, какие из них более соответствуют истине.
В полночь он был. разбужен звоном колоколов. Встав, Тибольд наскоро завернулся в плащ, надвинул на глаза шляпу и, выйдя на улицу, смешался с толпой. Вместе со всеми он вошел в собор, где было собранно в эту ночь все духовенство. Начали петь meserere, по окончании которого легат объявил, что отныне во Франции запрещены все обряды, приказал запереть церковные двери, а иконы и кресты покрыть занавесами. Было запрещено венчать, хоронить и отправлять все церковные празднества до тех пор, пока Филипп не откажется от Агнессы и не вызовет свою законную жену Ингельборгу. И в заключение было произнесено проклятие Филиппу.
– Да будет проклят в городах, селах и на дорогах, как в этой, так и в будущей жизни! И будут прокляты его дети, его стада и поместья! Да не назовет никто его своим братом и да не дарует ему дружеского поцелуя! Ни один священник да не молится за него! Да избегают его все люди в продолжение жизни и да будет лишен он надежды и утешения на смертном одре! Да останется он без погребения и солнце убелит его кости! Да будет проклят он в этом и будущем мире, и во веки веков!
Все молящиеся вместе с духовенством хором произнесли: аминь.
В ту же минуту глубокое молчание воцарилось в церкви, свечи и факелы были погашены, и толпы народа, покинув собор, растворились во тьме.
Мрачное уныние распространилось по всей Франции; союз объединявший ее с другими государствами, был расторгнут. Церкви были заперты, образа покрыты черным сукном, колокола не призывали верующих к молитве. Ежеминутно и ежечасно все напоминало о более и более ужасных последствиях отлучения. Первыми начали действовать епископы и священники Дижона и его окрестностей, и постепенно прекращение всех церковных обрядов распространилось по всей Франции. Однако в северной части королевства, а особенно в предместьях столицы, духовенство медлило еще повиноваться столь строгому определению; и, прежде чем отлучение утвердилось на берегах Сены, прошло какое-то время, в течение которого немало перемен произошло в жизни Гюи де Кюсси.
Как раз в это время сир Джулиан должен был проезжать через лес, принадлежавший храброму рыцарю. Желая хоть каким-нибудь образом заманить старика Джулиана в свой замок, и полагая, что тот добровольно не согласится погостить у него несколько дней, де Кюсси решил под видом разбойника захватить его, якобы в плен, и силой доставить в замок. А после он объяснит своим гостям, что это была всего лишь веселая шутка – подобные розыгрыши считались безобидными и были весьма распространены в те времена.
Не теряя времени, де Кюсси приступил к осуществлению своего замысла. Он приказал одному из воинов подняться на сторожевую башню, чтобы тот подавал сигналы, как только заметит кого-нибудь из проезжающих, а сам со свитою, переодевшись в лохмотья, отправился на дорогу, по которой должны были ехать сир Джулиан с дочерью. Он затаился, укрывшись в густых зарослях, и стал терпеливо ждать, внимательно вглядываясь вдаль. Но вот уже первые тени легли на землю. Близилась ночь. Будучи уверен, что граф не отважится в такой поздний час путешествовать по стране, наводненной разбойниками да бродягами, де Кюсси со своими воинами в задумчивости отправился назад. Но каково же было его удивление, когда, подъехав к замку, он увидел здесь большую группу людей, мужчин и женщин. Рыцарь остановился в растерянности. В первое мгновение ему показалось, что все эти люди ему незнакомы, но минуту спустя заметил среди них Изидору, и радостно поспешил навстречу.
Войдя во двор, он увидел оруженосцев, прогуливающих лошадей, а вскоре показался и сир Джулиан. Он попросил приютить их на эту ночь, а также сказал, что у него к де Кюсси есть дело, срочное и весьма важное.
– Но что это за маскарад, сир Гюи? – удивился старик. – В честь чего вы так нарядились?
– Узнав, что вы будете проезжать здесь, – отвечал де Кюсси со всей откровенностью, – я приказал своим людям переодеться разбойниками и устроить засаду, чтобы, сделав вас своим пленником, заставить поохотиться в моем лесу да послушать баллады. Словом, чтобы вы отрешились от тех проблем и важных занятий, которыми всегда утружден ум ваш.
– Какая прелестная шутка! – восхитился сир Джулиан. – Но пойдемте со мной. Это юным красоткам, таким, как моя Изидора, нравится восторгаться прекрасными видами, я же любому ландшафту предпочитаю разговор о политике.
Де Кюсси кивнул, соглашаясь, и быстро стал подниматься по узкой лестнице на смотровую площадку.
– Помедленней, сир Гюи, подождите меня! – взмолился старик. – Вы идете так быстро, что я за вами не успеваю.
Де Кюсси должен был умерить свое нетерпение и подождать Джулиана. Наконец они вышли на площадку, где находилась Изидора. Едва она увидела рыцаря, как краска разлилась по ее щекам, а глаза радостно заблестели. Но, не желая выдавать своих чувств к нему, девушка отвечала на все вопросы ровно и даже чуть-чуть небрежно.
Между тем барон рассказал своей дочери о неудавшемся маскараде и, весело рассмеявшись, добавил:
– Как бы то ни было, но мы теперь в замке. И сир Гюи приглашает нас погостить у него несколько дней. Я согласен. А что скажешь ты, Изидора?
– Не беспокойтесь, батюшка, – отвечала она с напускным безразличием, – я как покорная дочь буду рада любому жилищу, которое вам понравится.
Мы не станем рассказывать, как прошел этот вечер и весь следующий день, лишь только упомянем о том, что сир Джулиан выкроил-таки время объяснить де Кюсси свои намерения. Он сообщил, что несколько весьма влиятельных баронов, возглавляемых Иоанном, английским королем, и Фердинандом, графом Фландрии, объединились с целью противостоять усилиям Филиппа-Августа, а также сказал, что был бы рад, если бы и де Кюсси присоединился к заговорщикам. На рассмотрение этого вопроса он дал рыцарю два дня, чему тот был очень рад, поскольку боялся прогневить графа немедленным отказом.
Ранним утром следующего дня молодой рыцарь и красавица Изидора прогуливались в прекрасной роще, прилегающей к замку. Горничная Алиса, сопровождавшая свою госпожу, то и дело удалялась, – она то собирала цветы, то гонялась за бабочками, – и влюбленные получили наконец возможность поговорить наедине.
– Ах, де Кюсси, если бы я была уверена, что эти чувства навсегда останутся в вашем сердце! Но они так слабы, так легковесны…
– Поистине, милая Изидора, – отвечал рыцарь, – вы не справедливы к моему сердцу. А оно совершенно не такое, каким вам кажется. Не знаю уж почему, но я всегда скрывал свои чувства. Возможно, я делал это из опасения быть осмеянным… Возможно. Я знаю лишь одно: с раннего детства я привык быть скрытным, уже тогда я умел прятать свою грусть за фальшивой улыбкой, и эта привычка вошла в мою плоть и кровь. Но верьте мне, Изидора, я никого, кроме вас, не любил. Мои надежды, мое счастье и даже сама жизнь зависят от вас. Вы верите мне?
В глазах Изидоры блеснули слезы.
– О, не пугайтесь, мой рыцарь, это не горестные слезы, нет. Я плачу от радости. Быть любимой вами – мое единственное желание. Но меня беспокоит, как к этому отнесется мой отец. Боюсь, он не даст своего согласия: он богат, а у вас почти ничего нет. Ах, если бы это зависело лишь от меня, я, не раздумывая, отдала бы руку и сердце рыцарю, который так меня любит. Но мой отец… Смею ли я противиться его воле?..
– Как! Не хотите же вы сказать этим, милая Изидора, – вскричал де Кюсси, – что согласны идти под венец с первым же богачом, которого представит вам ваш отец? Неужели покорность ваша столь велика, что вы готовы стать невольницей человека, которого не любите, в то время как сердце ваше принадлежит другому?
– Нет, вы не так все поняли, де Кюсси. Я лишь хотела сказать, что никогда не выйду замуж без согласия моего отца: долг дочери – повиноваться родителям. Но я не отдам руки никому… никому, кроме того, кого люблю.
– Добавьте еще одно словечко, прекрасная Изидора, – взмолился рыцарь, – что сказанное вами относится ко мне.
– Согласна, – отвечала она так поспешно, словно боялась, как бы слова эти не замерли на ее губах. – Никому, кроме вас. Довольны ли вы? Даже если отец заточит меня в монастыре, что, однако, я думаю не случится, так как он любит меня, то я все равно останусь вашей и мыслями и душой. Однако, отец может угрожать и настаивать на моем браке с кем-либо из рыцарей по его выбору, поэтому, прошу вас, де Кюсси будьте осторожны в разговорах с ним, чтобы он не отказал вам в моей руке: что сир Джулиан скажет раз, того уже не изменишь, даже если он будет видеть нас умирающими у его ног.
– Я буду сдержан и осторожен в разговорах с графом, – обещал де Кюсси. Он сел рядом с Изидорой на дерновую скамейку около дуба, созданную самойприродой, и излил в словах, подсказанных ему пламенной страстью, всю свою любовь к девушке. Глаза смотрели в глаза, руки девушки доверчиво лежали в руках рыцаря: они были полностью поглощены друг другом.
Это сладкое забвение двух любящих сердец, прервал голос Алисы. Они отвели взгляд друг от друга и увидели перед собой сира Джулиана.
– Очень хорошо! Превосходно! – воскликнул старый рыцарь. Ступай в замок, Изидора; и ты также, Алиса. Я задержусь. Мне надо поговорить наедине с нашим благородным хозяином.
Изидора повиновалась в молчании. Уходя, она бросила умоляющий взгляд на де Кюсси как бы напоминая ему об обещании сохранять терпение и не раздражать дю Монта.
– Не ожидал, сир Гюи, что вы такой прыткий! Вот так гостеприимство! Что ж, спасибо за урок. Нечего сказать, порадовали старика. Теперь мне понятно, для чего вы устроили этот спектакль с переодеванием. Но говоря, что сделали это из благих побуждений, вы так и не открыли истинной причины. Правда же заключалась в том, что вы без моего ведома хотели жениться на моей дочери, – не так ли? Да что говорить… еще раз покорнейше благодарю за горький урок. Впредь буду знать, с кем водить дружбу…
– Вы ошибаетесь, сир Джулиан, – отвечал де Кюсси спокойно. – В моих намерениях и поступках не было злого умысла. Если вы в чем и правы, так только в одном: да, я беден… Но разве бедность – такой уж тяжелый грех? Так уж случилось, что мы с Изидорой полюбили друг друга, и мне бы хотелось надеяться, что вы, узнав о наших взаимных чувствах, не откажете нам в согласии.
– Что?! – гневно прервал старик. – Да как вы посмели вообразить такое! И что вы можете предложить взамен десяти тысяч марок ежегодного дохода, который унаследует моя дочь? Ваш ветхий замок? Или вот этот старый жиденький лес? Нет уж, увольте: я не столь великодушен, как вам могло показаться. И, чтобы впредь не возвращаться к этому разговору, хочу сообщить вам, – добавил он важно, – что я обещал руку моей дочери Вильгельму де ла Рош Гюйону, человеку благородному да и богатому к тому же.
– Вы обещали ему ее руку! – вскричал де Кюсси. – Какая несправедливость! Клянусь крестом, я вызову на поединок этого предателя, и он заплатит мне жизнью за эту измену!
– Нет, вы не сделаете такой глупости, сир Гюи. Лучше послушайте, что я вам скажу, а главное, хорошенько запомните: если Вильгельм де ла Рош будет убит вами, то вам не видать моей дочери никогда, – Бог в том свидетель. Если же она решится выйти за вас без моего согласия, то проклятие мое будет тяготеть над ней всю жизнь. И даже если он умрет не от вашей руки, а будет убит на предстоящей войне, то и тогда я соглашусь на ваш брак только в том случае, если вы в состоянии будете представить десятину за десятину против моих земель. Надеюсь, вам все стало ясно? Или вы по-прежнему намерены удерживать меня в своем замке?
– Нет, граф, на такое я не способен: мост будет опущен по первому вашему требованию. Но позвольте хотя бы надеяться, что…
– Не тратьте слов зря, сир Гюи: я никогда не меняю своих решений!
Сказав это, сир Джулиан пошел в замок и распорядился готовиться к отъезду. Вскоре лошади были поданы. Гюи проводил их и, помогая Изидоре взобраться в седло, тихо шепнул ей на ухо: «Будьте верны мне. Может быть, мы будем счастливы».
Едва гости покинули замок, вошел оруженосец и вручил де Гюи небольшой конверт. Рыцарь тотчас же распечатал его и нашел внутри прядь черных волос и записку. «Твоя до смерти!» – писала ему Изидора. Он спрятал конверт на груди и вошел в замок.
– Ах-ах-ах! – кривлялся Галон, забавляясь над этой сценой. – Ах-ах-ах!
ГЛАВА II
Возвратимся теперь к Артуру. Он был сыном Готфрида из династии Плантагенетов, старшего брата Иоанна Безземельного. Нам трудно без долгих отступлений объяснить, почему английские бароны предпочли самозванца законному наследнику. Достаточно сказать, что Иоанн царствовал в Англии и владел многими землями во Франции: Нормандией, Пуату, Анжу. Своему племяннику он оставил только Бретань, да и то лишь потому, что земля эта принадлежала его матери.
Артура возмущало собственное бесправие. Негодуя, он наблюдал, как его милый дядюшка распоряжается чужим добром. Воспитанный при французском дворе, он не переставал умолять Филиппа, на руках которого умер его отец, о помощи в восстановлении законных прав. Но недостаток в средствах, равно как и боязнь прогневить влиятельнейших баронов, поддерживающих
самозванца, мешали Филиппу выполнить просьбу Артура. И вот наконец представился случай, давно ожидаемый монархом.
Преданный ежедневным распутствам, Иоанн, увидев однажды Изабеллу Ангулемскую, невесту Гюга ле Брюна Люцина, графа Ламаншского, приказал ее похитить. Бароны, возмущенные такой дерзостью, прибегли к защите Филиппа, требуя наказать этого сластолюбца за оскорбление. Многие из них открыто взбунтовались против Английского короля, и, переметнувшись на сторону Артура, готовы были признать его своим законным государем. Артур привил их предложение и обратился к Филиппу с просьбой дать ему кавалерию. Французский король, хотя и предвидел все трудности этого опасного предприятия, все же не мог не воспользоваться случаем и с готовностью согласился на просьбы молодого принца. Артура возвели в звание рыцаря. Церемония была великолепна. По окончании ее Филипп произнес речь:
– Храбрые рыцари и благородные бароны Анжу и Пуату! Согласившись избавить вас от тиранства самозванца, присвоившего себе власть, даю вам законного государя. Любите его так, как любите собственного сына. Будьте ему верны. Артур – ваш законный государь: он сын Готфрида, старшего брата Иоанна, и власть принадлежит ему по праву. Итак, я, Филипп, французский король, стоящий надо всеми вами, приказываю воздать должные почести вашему государю и повелителю.
Каждый из баронов двух этих провинций по очереди преклонили колена пред юным принцем. Они произнесли присягу. Видя у своих ног этих храбрых рыцарей, Артур несколько растерялся. Покраснев, он поднял каждого за руку и поцеловал.
– Теперь, благородные бароны, – торжественно продолжал Филипп, хочу сообщить, что я, хотя и не сомневаюсь в вашей смелости, намерен всячески содействовать своему родственнику. Объединив наши усилия, мы, несомненно, одержим победу, изгнав этого самозванца Иоанна с его шайкой из Анжу, Пуату и Нормандии. Итак, мой юный рыцарь, слово за вами: выбирайте, кто из моих подданных будет вам более полезен. Но не забывайте при этом, что вам нужны не просто храбрые воины, – храбрость у всех одинакова – а те, чьи поместья находятся ближе к месту сражения, и те, у кого больше сил.
– Раз уж вы столь великодушны, что позволяете мне сделать свой выбор, то первым, кого я назову, будет Гюи де Кюсси, – ответил Артур.
– Согласен. Я тотчас пошлю в его замок гонца с приказом собрать войско и явиться сюда. Думаю, все это не займет слишком много времени. А сам, между тем, соберу всех баронов графа Танкервильского, чтобы отдать их под начало Гюи де Кюсси. Но кого еще вы выберете?
– Гуго Дампьерского и сира де Боже, если, конечно, они не возражают.
– Я одобряю ваш выбор. Это достойные люди и храбрые воины, – сказал король. – А что вы сами на это ответите, господа?
– Я всегда рад вступиться за правое дело, – отвечал Гуго Дампьерский. – Но мне нужно дней двадцать, чтобы собрать своих вассалов и привести в порядок войско, после чего я немедленно явлюсь в Тур защищать нашего принца.
– Надейтесь и на меня, сир Артур, – произнес граф де Невер. – Герваль де Донзи протягивает вам руку – руку друга. И пусть меня назовут изменником, если я через двадцать дней не приведу в Тур сотню рыцарей. Вот все, .что я вам скажу.
Окрыленный поддержкой столь влиятельных людей, Артур сердечно поблагодарил их за готовность помочь. Филипп же тем временем диктовал письмо к де Кюсси, призывая его в Париж и требуя собрать войско, какое только он сможет, чтобы быть в полной готовности, если, конечно, храбрый рыцарь намерен вступиться за права Артура.
Между тем в огромном зале дворца собралось духовенство. Архиепископ Реймский и епископ Парижский молча сели в свободные кресла.
– Вы прибыли слишком поздно, почтенные отцы, – мягко укорил их Филипп. – Церемония окончена, и совет вот-вот разойдется.
Они ничего не ответили государю, лишь что-то тихо шепнули друг другу да обменялись беспокойными взглядами. Судя по всему, их привело сюда вовсе не желание присутствовать на церемонии, а какое-то другое, куда более важное дело. Еще через несколько минут вошли два монаха: черты лица, одежда, манера держаться – все выдавало, что они итальянцы. Филипп, диктуя послание, склонился над писарем, а потому и не заметил, как они появились. Сколь же велико было его удивление, когда он услышал произнесенное на латинском языке проклятие – себе и всему королевству.
– Клянусь Святой Девой! – воскликнул Филипп. – Это невероятная дерзость! Кто осмелился возложить проклятие на мое государство?
Архиепископ Реймский, побелев от страха и беспокойства, ответил тихо, но достаточно отчетливо:
– Наш святейший отец, папа Иннокентий, не сумев кротостью добиться вашего послушания, решился на строгие меры. Как добрый отец частенько бывает обязан…
– Как! – вскричал король громовым голосом. – И вы смеете мне говорить такое? Вывести этих людей, – приказал он своей страже, указывая на итальянцев. – И если они откажутся выйти в дверь, то вышвырните их в окно! Хотя нет… Они всего лишь презренные исполнители… Ладно, обращайтесь с ними вежливо, но уберите их с глаз долой. А теперь, архиепископ, ответьте мне: как могли вы согласиться с такой дерзостью, с тем оскорблением, которое нанес мне папа Римский?
– Что же я мог возразить, государь? – униженно оправдывался архиепископ.
– Что вы могли возразить? – задохнулся Филипп от возмущения. – А не правильнее ли спросить, что вы должны были делать? Ладно, отвечу, коль вам невдомек: защищать французское духовенство, поддерживать права короля, а не потакать капризам нашего честолюбивого прелата. Он чересчур возомнил о себе, полагая, что вся власть принадлежит ему одному. Не будет этого! Пусть распоряжается в собственной епархии – вот его дело. А вам я вот что скажу: я вовсе не призываю противодействовать ему во всем, но повинуйтесь ему и законных повелениях, а не в стремлении превысить свои права. Именно это вы могли и должны были сделать! И, клянусь Богом, вы горько раскаетесь, что поступили иначе!
– Но, государь, – начал было епископ, – папа Римский, наш святой отец…
– Отец? – гневно прервал его Филипп. – Разве отец отбирает права у своих детей? Скажите лучше, что он – жестокосердный отчим, желающий лишить детей моей второй жены их собственного наследства. А теперь выслушайте меня, французские прелаты, а особенно вы, архиепископ Реймский. Не вы ли на совете в главном синоде торжественно подтвердили мой развод с Ингельборгой?
– Справедливо, государь, – сказал архиепископ. – Я его подтвердил, но…
– Но! – передразнил король. – Никаких «но», государь мой! Я не намерен выслушивать теперь возражения. Я знаю одно: вы объявили развод! И у меня есть свидетельство, подписанное вами собственноручно – этого мне достаточно. А вы, епископ Парижский, и вы, епископ Сакссонский?.. А все остальные? Разве хоть на секунду вы усомнились тогда в законности этого акта? – продолжал он, переводя взгляд с одного на другого.
Все молчали, поскольку каждый из них способствовал разводу, свершившемуся несколькими годами раньше. Филипп продолжал:
– Итак, клянусь всемогущим Богом, в ваших же интересах отстоять вынесенное вами решение, и вы его отстоите! Если же вы ошиблись, то вам и сносить наказание, а не мне и не той, которую я люблю больше жизни. И коль найдется во Франции хотя бы один епископ, , не соглашавшийся с общим решением, то пусть он и соблюдает обряды отлучения, раз уж ему так хочется, но только и пределах собственной епархии. А вас я хочу предупредить: если хоть кто-то из вас, подписавших определение, епископ или аббат, вздумает последовать этому примеру, то я выброшу его из епархии, лишу земель и поместьев, звания и богатства, и выгоню навсегда из своего государства. Запомните это хорошенько и не забывайте никогда! Клянусь, я выполню данное слово, и это так же верно, как то, что я король! Бароны и рыцари! – объявил он, вставая. – Заседание совета закончено.
И вышел из зала, сопровождаемый Артуром и большей частью баронов.
ГЛАВА III
После отъезда из замка графа дю Монта де Кюсси предался грустным размышлениям. Бесчисленные вопросы, на которые он тщетно пытался ответить, роились в его мозгу. Когда он снова увидит Изидору? Но забудет ли она его? Будет ли верна ему всю жизнь? А если она и сохранит для него свое сердце – что тогда? Эти его раздумья были прерваны приходом пустынника. Де Кюсси чрезвычайно обрадовался неожиданному визиту человека, которого он не без основания считал своим спасителем, бросился навстречу и, подав руку, помог подняться по лестнице.
– Милости прошу, святой отец! – пригласил он. – По какому случаю вы посетили мое жилище. Мимоходом ли заглянули сюда, или собираетесь погостить у меня несколько дней?
– Я пришел удостовериться, живы ли вы, – отвечал старец, – и не пресекло ли какое-нибудь новое безрассудство нить вашей жизни.
– Нет, пока нет, – рассмеялся рыцарь. – И я чрезвычайно счастлив, что вижу вас у себя. Я тотчас же прикажу подать завтрак.
– Спасибо, – поблагодарил отшельник, – пусть мне принесут салат и чашу воды.
– Как, добрый пустынник! Даже после столь долгого и утомительного путешествия вы все же отказываетесь от более основательной пищи?..
– Пусть подадут мне то, что я просил. Никакой иной пищи я не признаю. Я не из числа тех, кто наслаждается, пожирая мясо невинных животных.
Рыцарь велел слугам выполнить просьбу старца, а сам завел разговор с ним о своей несчастной любви и попросил совета, как ему действовать дальше. В это время доложили о приезде королевского гонца. Де Кюсси согласился его принять. Вошел гонец и, вежливо поклонившись, передал рыцарю письмо короля.
Дождавшись, когда он уйдет, де Кюсси поспешно распечатал пакет и прочел следующие строки:
«Моему верноподданному, любезному сиру
Гюи де Кюсси.
Решившись помогать Артуру Плантагенету, Бретаньскому герцогу и моему родственнику, в справедливой и законной войне против Иоанна Анжуйского, называющего себя королем Английским, я обещал своему крестнику, что приложу все усилия, чтобы склонить вас на его сторону. Итак, я прошу вас, как только король может просить, собрать немедленно ваших вассалов, рыцарей, оруженосцев, солдат – словом, всех, кто может владеть оружием, – и прибыть с ними в Париж. Мы с Артуром будем ждать вас. Сроку на сборы даю вам десять дней, считая от нынешнего числа. В случае необходимости можете воспользоваться наемными войсками. Это письмо послужит вам разрешением на получение государственного пособия для оплаты наемников.
Писано в Париже, в среду, накануне Рождества Богородицы, покровительству которой мы вас вручаем».
Король.
Искренней радостью светились глаза молодого рыцаря, пока он читал послание короля. Но вот последняя строчка была прочтена, и настроение де Кюсси снова ухудшилось. Он не мог не понимать, что подобное предприятие ему не по карману: для исполнения воли короля требовалось немало денег, а у него не было ни гроша. Рука, в которой он сжимал письмо, безвольно опустилась.
– Проклятая нищета! – вскричал он с досадой, забыв о присутствии пустынника. – Передо иной открываются такие возможности для завоевания счастья почестей и любви, а у меня нет ни монеты, чтобы снарядить свою свиту, в рубище возвратившуюся из Палестины:
– Вы так огорчены, сын мой! – сказал пустынник. – Что вас встревожило?
– Еще бы! Дорога надежд, подвигов и славы открыта передо мной, а я не могу ступить на нее. И виной всему – проклятая бедность, эта непреодолимая преграда, которая всегда стоит на моем пути. И видя, что счастье было почти у меня в руках… Да что говорить! Прочтите это письмо, добрый пустынник, и сами все поймете. От себя же могу добавить, что вместо войска, требуемого королем, я могу выставить только десять человек, да и те – пешие, без оружия, ничем не снаряженные. Мне стыдно возглавить такое войско!
– Не стоит отчаиваться, сын мой, – сказал старец спокойно. – Иногда следует пожертвовать немногим, чтобы приобрести все. Будьте умеренны в расходах: чтобы поддержать вас и вашу свиту до сражения, нужно не много денег. А в бою вы докажете, что не богатство побеждает, а храбрость.
– Не много денег! – повторил де Кюсси печально, я говорил уже вам: у меня нет их совсем.
– Значит, надо продать что-нибудь, и у вас будет нужная сумма. Например, этот вот перстень, сияющий на вашем пальце…
– Нет, никогда! Лучше мне лишиться руки, чем этого перстня. Когда я отправлялся в Святую землю, он был подарен мне храбрым и благородным человеком, графом Танкервильским. Надевая его на палец, добрый граф благословил меня и напутствовал мудрыми советами, которым я стараюсь следовать и по сей день. И хотя, как вы слышали, смерти разлучила нас, я и за золотые горы не расстанусь с этой драгоценностью.
– Я знаю одного ювелира, который заплатил бы хорошие деньги за эту вещицу, но коль вы отказываетесь ее продать, то и говорить не о чем.
– Ни за какие сокровища! Но вот что я вспомнил: у меня есть прекрасный изумруд, купленный когда-то у еврея. Надеюсь, вас не затруднит, почтенный отец, показать его ювелиру, и, если камень ему понравится, попросите прислать деньги как можно скорее.
Пустынник согласился на это предложение и, немного передохнув, отправился в обратный путь. Едва он скрылся из виду, как де Кюсси пригласив к себе Жоделля, приказал ему собрать и привести в замок двести человек, которыми тот прежде командовал. Жоделль повиновался с радостью, поскольку это распоряжение полностью соответствовало его тайным замыслам.
Не прошло и трех дней, а он уже снова вернулся в замок с докладом, что товарищи его здесь и готовы служить под знаменами столь благородного и храброго рыцаря как де Кюсси. Смотр войска был назначен на тот же день, и де Кюсси в сопровождении оруженосца и пажа отправился на опушку леса, где были собраны наемники. Сомкнув ряды, они стояли в таком порядке, что издали даже опытный глаз рыцаря обманулся: только подъехав ближе, он смог разглядеть, что лишь некоторые из них были в латах или в кольчугах, основная, же масса этих свежеиспеченных солдат одета была во что попало. Представив, что с таким «войском» ему придется явиться к Филиппу, де Кюсси впал в отчаяние.
Но случилось то, чего он никак не ожидал, и что должно было существенно поправить его дела. В то время, как он осматривал свое оборванное войско, тропу пересек пожилой человек, который вел за собой осла, навьюченного мешком. Судя по всему, этот крестьянин направлялся в замок.
– Что везешь ты в Кюсси-Магни, добрый человек? – остановил его рыцарь.
– Песок для владельца.
– Песок? Клянусь Богом, это небесный дар! Нам он пригодится для чистки заржавленного оружия. Но для чего же так много? И не ошибся ли ты адресом, мил человек?
Крестьянин подмигнул лукаво и, приблизившись, шепнул на ухо:
– В этом мешке тысяча марок серебра.
– За что и от кого эти деньги?
– Святой пустынник Бернард посылает их сиру де Кюсси. Мне он сказал, что это плата за изумруд.
– Похоже, наши дела идут на поправку! – обрадовался рыцарь. – Гуго де Бар, поезжай скорее в Верной, а ты, Эрмольд де Марей, мой верный паж, отправляйся в Жизор. И пришлите ко мне всех оружейников со всем снаряжением, какое у них найдется. Тысяча марок серебра! Клянусь Богом, у меня будет прекрасное войско!
ГЛАВА IV
В одну из ветреных мрачных ночей по тропинке, пролегающей через Сен-Манденский лес, шел человек плотного сложения, завернутый в длинную епанчу. Его сопровождал мальчик, освещавший дорогу факелом, который от сильного ветра в любую минуту готов был погаснуть.
– Не сбились ли мы с пути? – испуганно спрашивал толстяк. – Помоги господи, я не хотел бы погибнуть в этом лесу.
– Не беспокойтесь, сир, – отвечал мальчик. – Я знаю дорогу так хорошо, что, и закрыв глаза, проведу вас.
– Ладно, коль так. И все-таки мне жутко. Я не люблю ночной лес дьявол силен во мраке. А кроме того, есть и другие опасности.
Говоря это, он налетел и темноте на пень, лежавший поперек дороги. Он споткнулся и упал бы, если бы не ухватился вовремя за плечо мальчика.
– Мерзкие пни да коряги! Да будут прокляты они в этом и будущем мире! – вскричал он в исступлении. – Да будут прокляты в сегодняшней жизни и в вечности! Аминь! Прости, Господи, мое прегрешение, – тотчас же спохватился он. – Я опять повторяю проклятие. Похоже, оно будет до конца дней преследовать меня. Мальчик, долго ли нам еще идти? Постой-ка, что это за странный звук?
– Это ветер шумит в ветвях. Кто незнаком с лесом, тот и представить себе не может, какие причудливые звуки умеет порой производить самый обычный ветер.
– Нет, это злые духи, мальчик, – в страхе причитал толстяк, – это демоны, говорю я тебе! Ну-ка, взгляни вон на тот кустарник: по-моему, там кто-то прячется. Вот опять ветка шелохнулась… Ох! Не дикий ли зверь там затаился?
И, опасаясь чрезвычайно привидений, которые мерещились ему на каждом шагу, он с силой схватил мальчика за руку и стал читать псалмы покаяния.
В это время луна, показавшись из-за облаков, осветила на долю секунды то место, где находились сейчас наши путники. Толстяк, прервав свою молитву, быстро огляделся по сторонам и заметил невдалеке развалины гробницы, а чуть левее – келью пустынника.
– Слава Богу! – воскликнул он. И, пользуясь светом луны, он бросился к двери с такой поспешностью, какую только позволяла ему его тучность.
– Брат Бернард! Брат Бернард! – кричал он, изо всех сил барабаня в дверь кулаками. – Отвори мне! Скорее открой дверь, пока луна снова не скрылась за облаками!
– Кто ты, прерывающий мои молитвы? – спросил отшельник. – И почему так боишься, что луна скроется? Или она просветляет твой разум?
– Это я, брат Бернард, твой друг и помощник в делах господних, – кричал путешественник, стуча все сильнее. – У нас с тобой общее дело в этом бедном государстве. Говорю же тебе, я – твой друг!
– Все мои друзья давно уже на небесах, – отвечал пустынник, отворяя дверь. – Как! Это вы, епископ Парижский?
– Тише! Тише! Не нужно, чтобы мальчик знал, кто я. Я прибыл сюда с тайной миссией и, должен сказать, по очень важному делу.
– Как сказал один из мудрейших: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». И где же будет мальчик во время нашей беседы? Если он также трусит, как ты, то вряд ли захочет остаться за дверью.
– Нет, я не боюсь, святой отец, – ответил мальчик. – Я привык к лесу. Да и что со мной может случиться так близко от твоей хижины…
– Коль так, любезное дитя, – сказал отшельник, погладив его по голове, – посиди у порога. Я лишь притворю дверь, и, если тебя что-нибудь испугает, то войди.
Мальчик послушался, а пустынник вошел в келью вместе с епископом и предложил ему отдохнуть немного прежде, чем они приступят к серьезному разговору. Опустившись на скромное ложе отшельника и переведя дух, епископ начал:
– Я пришел к тебе, брат Бернард, за мудрым советом. Это проклятие, тяготящее наше государство…
– За советом? – перебил его затворник. – Но разве вы сами не знаете, епископ, что предписывает вам ваша должность?
– Выслушай же, да не перебивай. Знаешь ли ты Иоанна д'Арвиля, каноника святой Берты? Он человек умный, тихий, святой…
– Наслышан о нем, – поморщился пустынник, всем своим видом выражая, что он не лучшего мнения об этом человеке. – Весьма наслышан. И что же далее?
– Так вот, несколько дней назад молодой граф Овернский, направлявшийся со своей свитой в Париж, заехал в монастырь святой Берты. Он хотел исповедаться, но так как в его собственных владениях обряд отлучения уже соблюдается, и весьма строго при этом, то граф мудро решил, что можно исповедать грехи свои Иоанну д'Арвилю. Едва покаяние закончилось, каноник поспешил ко мне, чтобы открыть тайну, которая поможет залечить раны государства.
– Как! – возмутился пустынник. – И он посмел нарушить тайну исповеди?
– Нет же! Нет! Вы ошибаетесь, брат Бернард! Это было сказано ему не на исповеди, а в личном разговоре, который происходил уже после покаяния. Итак, граф признался монаху, что Агнесса была обещана ему ее братом, вместе с которым они совершали паломничество в Святую землю. Но брат ее умер, и отец, герцог Штирии не зная об обещании сына, отдал руку своей дочери Филиппу. И вот теперь старый герцог, прослышав, что брак этот признан недействительным Римской церковью, возложил на Оверна, храброго рыцаря и искреннего друга своего умершего сына, обязанность уведомить тайно Агнессу, что он повелевает ей оставить Францию и вернуться домой. И молодой граф поклялся исполнить просьбу отца, чего бы ему это ни стоило. Ради Агнессы он готов на все; и никакие препятствия – ни возможность потерять все свои поместья, ни угроза собственной жизни – не остановят его. Согласилась бы только Агнесса оставить Филиппа – вот в чем вопрос. Именно это каноник узнал от графа, и не на исповеди, как вы было подумали, а в простом разговоре. И вот какой план придумал сей почтенный монах. Ему, как и всем нам, известно, что Агнесса любит Филиппа и что, считая себя его законной супругой, она не покинет его добровольно. Но знает он и то, что королева – гордячка. Если она заметит хотя бы малейшую холодность со стороны Филиппа, то не останется с ним, а уедет к отцу, решив, что король либо неверен ей, либо опасается последствий папского гнева. Для исполнения этого хитрого замысла нужно совсем немного: заронить в сердце Филиппа зерно ревности, намекнув, что его дорогая супруга чересчур любезна по отношению к графу Оверну. Уверяю, этого будет вполне достаточно. Король непременно выкажет свое пренебрежение каким-нибудь жестом или поступком, и Агнесса, не ведая всей правды, потребует возвращения к отцу. Филипп, ревнивый и уязвленный, согласится, а наш: почтенный каноник отправит ее к отцу и, если это угодно Богу, будет награжден за услугу, оказанную Франции. Не правда ли, весьма хитроумный план?
– Ух-ух-ух! – пронзительно заухало в окошко кельи.
– Господи, спаси и сохрани нас, грешных, и защити нас от дьявола, шатающегося в ночи, – пал на колени епископ.
– Что вы так испугались? Это всего лишь филин, – успокоил его пустынник.
Погруженный в раздумье, он замер на несколько минут, опустив плаза и не обращая больше внимания на причитания прелата, распростершегося на полу и бормочущего с перепугу молитвы, перемежаемые проклятьями.
– Должен признаться, этот план настолько же хитроумен, как и жесток, – молвил наконец пустынник. – Но благо Франции для меня превыше всего, и, коль уж вам требуется мое мнение, то скажу: из двух зол выбирают меньшее. А еще я посоветовал бы вам открыть всю правду Гереню – доблестному рыцарю и почтенному епископу. Филипп страшен в гневе: если он заподозрит что-то неладное, должен же кто-нибудь объяснить ему истинную причину такого поступка. Но кто? Я удалился от мирских дел, вы и так слишком заняты своими прихожанами, а канонику святой Верты доверять нельзя. Герень, пожалуй, ближе других к королю, а раз так, значит, ему и осуществлять этот замысел. И он, с присущим ему благоразумием, сделает это. Да, план ваш жесток, но у него есть то преимущество, что, хотя он и разобьет сердце короля и его несчастной супруги, но не допустит кровопролития, возмущений и междоусобной войны, а, может быть, и посодействует снятию проклятия, гнетущего наше бедное государство.
Едва пустынник произнес все это, как с улицы снова донесся вопль, похожий на стон ночной птицы, но еще более дикий и пронзительный. Епископ бросился на колени. Мальчик, испуганно тараща глаза, вбежал в келью и закричал, заикаясь от страха:
– Я не могу оставаться там дольше: дьявол сидит на дереве.
– Где? – воскликнул пустынник. – Даже если это и впрямь сам сатана, я не боюсь его.
С этими словами он вышел из кельи и приблизился к полуразрушенной гробнице, рядом с которой рос огромный развесистый дуб, почти закрывавший ее своими ветвями. И тени испуга не было в его глазах, а лишь удивление, когда он заметил странное человеческое существо, издающее дикие гортанные крики и скачущее с ветки на ветку с быстротой дикой кошки.
– Прочь, сатана, повелеваю тебе именем торжествующего Христа! – крикнул пустынник и поднял небольшой крест, висевший на четках.
– Ах! Ах! Это проклятие! Проклятие! – словно бы испугался наш мнимый дьявол. И, то стеная, то хохоча, он скрылся с такой быстротой, что пустынник не заметил, где именно тот исчез.
– Поднимитесь, отец епископ, ну же, вставайте! – сказал Бернард, входя в келью. – Злое порождение ночи исчезло, растаяло, словно дым. Должен сказать, он никогда не показывался здесь прежде, а теперь, видно, явился, чтобы воспрепятствовать вашему плану. Дьяволу явно не по нутру, что мир и спокойствие хотят возвратить в лоно церкви. Впрочем, все уже позади. Да встаньте же, говорю я вам, и не бойтесь.
Говоря это, пустынник нагнулся и помог прелату подняться с пола.
– Меня никогда не беспокоили подобными посещениями, да и сегодня, мне стоило только показаться – и враг исчез. В этой хижине вы в безопасности. Чего вы боитесь так?
– Ах, брат Бернард, – пролепетал епископ, жмурясь от страха, – ведь мне еще предстоит возвращаться. Признаюсь, мне жутко идти одному через этот лес. А мальчик – разве он сможет меня защитить?
– Не беспокойтесь, я провожу вас, – сказал отшельник. – Путь недалек, я видел у мальчика факел, вот мы его и зажжем.
Все трое отправились в путь. Пустынник, поддерживая епископа под руку, шел с одной стороны, а мальчик, освещая дорогу факелом – с другой. Дойдя до ближайшей деревни, они расстались, и пустынник поспешил в свою келью, чтобы продолжить прерванную молитву.
Между тем, солнце показалось на горизонте, и едва лишь его лучи позолотили верхушки деревьев Венсенского леса, как Галон спустился со старого дуба, росшего в доброй миле от жилища отшельника.
Распрямив затекшие плечи, он громко расхохотался.
– Ха-ха-ха! – давился он от смеха. – Мой храбрый и добрый хозяин запретил пускать меня в замок, если я вернусь за полночь. Но он и не подозревает, какую великую тайну я узнал, будучи вынужден ночевать под открытым небом. И хотя у меня девяносто девять причин не открывать ее, но не достает сотой, а значит, я все ему расскажу. Когда он узнает о заговоре, то либо сам расстроит его, либо уведомит обо всем короля и Оверна; и тогда злоумышленники повиснут, как желуди, на деревьях. Ха-ха-ха! Я не позволю избавиться от проклятия – такого желанного, такого приятного проклятия! Я словно бы наяву вижу мертвых, валяющихся, как собаки, без погребения. Ха-ха-ха! Да, я люблю, я обожаю это проклятие – оно точно так же портит лицо государства, которое могло бы быть прекрасным, как этот длинный противный нос уродует мою физиономию. Да, мой нос это мое проклятие! – Он захлебнулся от злобного хохота. – А де Кюсси я найду еще средство отомстить за то, что он вынудил меня заночевать в лесу. Я и так сыграл с ним злую шутку, подослав сира Джулиана в тот момент, когда наш любвеобильный рыцарь любезничал с его дочерью. Ха-ха-ха!
И, беснуясь подобным образом, он что есть силы помчался в город.
ГЛАВА V
Погожим сентябрьским утром по прекрасной Турской равнине шествовала торжественная процессия. Это был отряд рыцарей, разодетых со всем великолепием. Их костюмы из дорогих тканей были вышиты золотом; щиты, шлемы и латы с золотой чеканкой сверкали в лучах восходящего солнца. Они представляли собой живописную группу. Впереди всех на лихом скакуне выступал сам Артур. Справа от него ехал де Кюсси, сопровождаемый пажами и оруженосцами, а слева – Савари де Молеон, знаменитый рыцарь и славный трубадур. За ними следовали рыцари, не столь именитые: одни были друзьями или вассалами Савари де Молеона; другие же, недовольные королем Иоанном, пришли в отряд с целью отстаивать законные права его племянника. Их скакуны были надежно защищены непроницаемой броней, а длинные копья могли отразить любое, даже самое жестокое, нападение. И замыкал это шествие отряд наемников, облеченных в новые доспехи. На их лошадях были только железные нагрудники. Да и сами кавалеристы были оснащены значительно хуже, чем те, которые ехали впереди. Все их снаряжение – латы, щиты и шлемы – было легким и ненадежным, но зато позволяло метко целиться и стрелять. Это была самая подвижная и, пожалуй, самая полезная часть войска. И возглавлял ее Жоделль, давний приятель, а теперь еще и начальник этих новоиспеченных солдат. Рядом с Жоделлем ехал Гуго де Бар, крепко сжимая в ладонях знамя сира де Кюсси. Галон-простак, сменивший свою любимицу кобылицу на вороного коня, гарцевал вдоль рядов, гримасничая и забавляя разными прибаутками столь разношерстную публику. Но никто, пожалуй, не веселился больше и не обращался ласковее с шутом, чем Жоделль.
– Эй! – подозвал де Кюсси одного из своих оруженосцев. – Прикажи Жоделлю, чтобы он со своими всадниками проверил вон тот угол леса. Мне показалось, что что-то сверкнуло в той стороне. И сам отправляйся с ними.
Приказание было выполнено, и через несколько минут отряд возвратился с донесением, что конница неприятеля движется тихо вдоль леса и приближается к ним. Блеск же, замеченный де Кюсси, отражается от бесчисленных копий, которыми вооружены солдаты. Одних рыцарей в этом отряде человек сто, а вместе с оруженосцами, солдатами и прочими число людей доходит, пожалуй, и до шестисот.
– Шлем и копье! – приказал де Кюсси. – Вам, Савари де Молеон, поручаю заботу о принце, а сам я вместе с наемниками подожду этих господ. Надеюсь на ваше благоразумие: вы ведь не вздумаете выступить против такой армады – слишком уж силы у нас неравны. К тому же, мы не имеем права подвергать жизнь принца опасности.
– Ни в коем случае! – ответил Савари де Молеон. – И все-таки, я бы остался с вами.
– Нет, нет и нет! – отрезал Кюсси. – Ваша обязанность – оберегать принца, прикройте его на пути до Тура. И ни рыцарям, ни вассалам не позволяйте отлучаться ни на минуту: возможно, вам потребуется их помощь. Неприятель не дальше нас от города, но знайте, если он выйдет из леса раньше, чем через четверть часа, это будет означать, что меня уже нет в живых. Прошу вас, рыцарь, согласитесь! Награды, почести, слава – все будет принадлежать тому, кто благополучно доставит принца в Тур. Разве этого вам недостаточно? Вам предстоит почетная должность.
– А вам опасная, – покачал головой Савари.
– Не думайте об этом.
Отдав все необходимые распоряжения, де Кюсси оседлал лошадь и, держа копье наготове, поскакал впереди отряда к дальнему краю леса. Не доезжая до неприятеля, он велел своим воинам остановиться, а сам пошел в разведку. Численность врагов была так велика, что нечего было и надеяться на успех, сразившись с ними. Оставалось единственное средство: открыв стрельбу, замедлить их продвижение, обезопасив тем самым путь принца. Де Кюсси отдал распоряжение выстроиться шеренгой вдоль опушки леса и выставить вверх концы копий, чтобы неприятель мог подумать, что за первой линией есть еще подкрепление.
– Копья в землю! – приказал он. – Натянуть луки, прицелиться и быть готовыми к стрельбе по первому моему зову. Но, заклинаю, ни единого выстрела – без приказа!
Солдаты повиновались. Де Кюсси выехал несколько вперед, чтобы удобнее было наблюдать за передвижением неприятеля. И как же он удивился, когда увидел человек двенадцать рыцарей с распущенным знаменем Готфрида Лузиньяна, приближавшихся к нему и кричавших: «Артур и Анжу! Артур и Анжу!»
– Отставить! Отставить! – крикнул де Кюсси своим стрелкам, знаками приказывая им остановиться. – Вышла ошибка: это друзья…
Он приблизился к рыцарям и узнал от них, что отряд, причинивший все беспокойство, был выслан в подкрепление Артуру. Прослышав, что Артур идет с небольшим войском, в то время как Иоанн с многочисленной армией опустошает окрестности, они вышли из Тура, чтобы встретить и охранять принца. Ошибка же наемников была вполне естественна: им ведь не было известно, что некоторые нормандские рыцари, уставшие повиноваться столь развращенному и презренному тирану, каким был Иоанн, переметнулись на сторону Артура, убежденные в законности прав юного принца. Возглавляемые графом Раулем Журденом, они соединились с войсками Гюга ле Брюна и Готфрида де Лузиньяна для защиты и возвращения прав человеку, которого они решились признать государем. Вот так все и произошло.
Очень скоро они догнали небольшой отряд Савари де Молеона, сопровождавший Артура. Встреча произвела обоюдную радость, и рыцари Анжу и Пуату завели между собой оживленную беседу, но все их разговоры сводились только к одной теме – скорейшему открытию военных действий.
Наемники, составлявшие арьергард, шли за объединенными войсками. Жоделль ехал несколько впереди, и, не имея возможности перемолвиться словом со своими давними приятелями, он то заговаривал с Гуго де Баром, то шутил с Галоном, стараясь изо всех сил завоевать их доверие и дружбу.
– Ха-ха-ха! – расхохотался Галон, показывая на отряд, присоединившийся к ним. – Подумать только, как много пленников у моего господина! Однако, – добавил он с откровенной насмешкой, – иногда он предпочитает не брать в плен, а расправляться на месте, как это было недавно в Оверне. Мне случалось видеть, как ловко наш храбрый рубака рассекает головы своих врагов. Незабываемое зрелище, должен я вам сказать.
Не сдержавшись, Жоделль схватился за саблю и пробурчал что-то себе под нос. Но раскосые глаза Галона всегда были настороже: одним он зорко следил за рукой Жоделля, а другим уставился прямо ему в лицо.
– Ах, сир Жоделль! – продолжал он, хохоча, как безумный. – Если б вы только видели, как он расправился с мародерами, напавшими на него по дороге в Вик-ле-Конт. Не сомневаюсь, вам бы это понравилось… Или, может быть, нет?
Тут он наклонился к Жоделлю и прошептал ему на ухо, словно заговорщик:
– А что, ремесло ваше, должно быть, самое прибыльное?
– Ремесло – неудачное слово, синьор Галон, – отвечал Жоделль, прикинувшись простаком и скрывая свой гнев под внешним спокойствием. – Наша должность почетна – воинская должность.
– Ой-ой, – кривлялся Галон, – словечко ему, видите ли, не понравилось. Вот так умора! Да если вы не воспользуетесь случаем и не обратите свою «почетную должность» в прибыльное ремесло, то будете последним глупцом в государстве. Имея и руках такой товар, да не воспользоваться?.. Нет, мне этого не понять! Я должен сказать вам, сир, что в таком случае вы ни на что не способны. Итак, вы решительно отказываетесь от купли-продажи?
– …купли-продажи? – повторил Жоделль. – Похоже, я действительно нынче туп. И что же я могу продать… или купить?
– Да все это! – вскричал Галон, разводя руками. – Да-да, все это стадо баранов, которое вы видите перед собой, вместе с их вожаком в золотом руне, выступающим так горделиво. Вот уж не думал, что есть в мире еще один человек столь же глупый, как я и мой господин. Что он может продать! – не успокаивался Галон. – Да разве есть на свете товар лучше, чем этот? Его бы и предложить Иоанну, – добавил он, подъехав к Жоделлю вплотную, чтобы никто из посторонних не смог их подслушать. – А сколько серебра, сколько золота можно выручить за него! И что может быть лучше английского золота, спрошу я вас?
Жоделль пытливо глядел ему в лицо, стараясь разгадать истинные намерения шута, ведущего подобные речи. Но черты лица Галона оставались бесстрастными, даже нос его на время застыл в неподвижности; и шальные глаза, горевшие все тем же безумным огнем, ни на секунду не выдали, с какой целью давал он свой дьявольский совет.
– Но присяга… но честь… – возразил Жоделль, продолжая изучать лицо шута.
– Твоя присяга! Твоя честь! – Галон задохнулся от смеха. – Вот так шутник! Вот так потеха! Ой-ой, держите меня, не то упаду…
И, делая вид, что падает с лошади, он поскакал вперед, воя, мыча и мяукая, и произвел столько шума, что все как один обернулись и посмотрели в ту сторону, откуда доносился весь этот визг.
Де Кюсси, разгневанный дикими выходками шута, хотел было отругать его, но Артур, которого эти проделки чрезвычайно позабавили, милостиво поманил его к себе; и Галон, чувствовавший себя среди знати так же свободно, как и среди простого народа, продолжал потешать публику, паясничая и отпуская порой такие двусмысленности, которые были недопустимы и обществе, его окружавшем.
Жоделль, опасаясь последствий своего разговора с шутом, чутко прислушивался к каждому выкрику этого бесноватого, и забылся настолько, что готов был поехать следом за ним, но вовремя спохватился. Услышав, что тот сменил тему и говорит теперь о другом, Жоделль окончательно успокоился и занял свое прежнее место в арьергарде. Все войско в том же порядке продолжало медленно продвигаться к Туру.
Вечером этого же дня во дворце был устроен пир в честь возвращения принца. Галон; сменивший на время маску, изо всех сил старался не раздражать Гюи де Кюсси: шутки его были не слишком бестактны, а анекдоты – вполне приличны. Весь вечер он не отходил от своего хозяина, развлекая его небылицами, слог которых был более связен, чем обычно. И в заключение он рассказал де Кюсси, причем, очень точно и ясно, о разговоре, подслушанном им возле кельи пустынника Бернарда.
Пораженный таким оборотом дел и опасаясь последствий, которые могли навредить его другу, де Кюсси тут же черкнул несколько строк и приказал своему пажу срочно ехать в Париж, чтобы вручить письмо графу Овернскому, где бы тот ни был, даже если он у самого короля.
ГЛАВА VI
На следующий же день в Туре состоялся первый военный совет. Выслушав благоразумный план де Кюсси, Артур полностью с ним согласился решив дожидаться, оставаясь на месте, подкреплений, тем более, что они должны были скоро подойти. После минутного размышления, Артур опустился на трон и обратился к окружавшим его рыцарям и собственным вассалам с речью:
– В этом зале собрались именитейшие, известнейшие рыцари Франции,чья беспримерная храбрость и одновременно благоразумие и богатый военный опыт прославили графства Анжу и Пуату. Моя молодость не дала мне еще такой возможности испытать себя в войне, командуя столь доблестным воинством, и поэтому я обращаюсь к вам за советом; что возможно предпринять в сложившейся ситуации, дабы не только не потерпеть поражение, но одержать славную победу, тем самым завершив успехом наше славное предприятие. Не буду скрывать, здесь, в Туре, сейчас не более ста рыцарей. Мы ожидаем подкрепления, но даже если они быстро подойдут, то наши силы достигнут двух тысяч человек. Под знаменами моего дяди Иоанна, находящегося отсюда в нескольких милях, собрано до двух тысяч рыцарей и около десяти тысяч солдат. Чтобы хоть как-то уравнять наши силы, мой великодушный и благородный отец и брат король Филипп направляет на помощь своих союзников и вассалов: Герваля де Донзи, графа Неверского; храброго Гуго Дампьерского, с которым прибудут все Беррийские рыцари, и Эмберта, барона де Боже, который приведет с собой большую часть рыцарей с другого берега Луары. Этот отряд должен уже сегодня прибыть в Орлеан, и, значит, дня через три они будут здесь. Всегда остававшееся мне верным герцогство Бретаньское отправляет пятьсот храбрых рыцарей и четыре тысячи солдат, которые завтра будут в Нанте. Я думаю, и надеюсь, что испытанные и храбрые соратники поддержат меня, что лучший план, которому мы должны следовать, состоит в короткой, не более четырех дней, отсрочке военных действий. Именно эта отсрочка, может принести нам величайшие выгоды. Вспомним также, что мой вероломный дядя всеми силами старается захватить меня, дабы я не мог требовать возвращения по праву принадлежащей мне короны, и не мог освободить находящуюся в его руках свою сестру. Вы знаете его жестокость, и, клянусь небом, лучше мне пасть от кинжала друга, чем попасть живым и руки этого ненасытного кровопийцы.
Вчера я получил письмо от его августейшего величества короля Филиппа и узнал, что Иоанн захватил Дольскую крепость, перебил весь гарнизон и распял захваченных в плен рыцарей и солдат. Король уведомляет меня также о том, что Иоанн направился к Туру и советует мне действовать осмотрительно и осторожно, а главное, дождаться подкреплений, после чего под нашими знаменами соберется войско в полторы тысячи рыцарей и тридцать тысяч солдат.
А теперь, – продолжил после непродолжительного молчания Артур, – я хотел бы послушать вас, мои верные соратники, о том, что лучше предпринять в данный момент.
Едва принц замолчал, Савари де Молеон тотчас начал:
– Принц, ждут слабые, храбрые, действуют. Вы говорите Иоанн идет против нас? Пусть идет! Я обрадуюсь, увидя его знамена в окрестностях Тура. Это значит, что в нем еще осталась малая толика храбрости. Но нет, нет! Он не придет! Он всегда избегал выступать против нашего оружия, ибо может только вероломно нападать из-за угла большими силами на горстку храбрецов. Но и та может дать ему отпор. Он трус, сир. Вы храбры, и это воодушевляет ваше войско. И если мы будем действовать решительно и быстро, то сможем нанести ему чувствительный удар там, где он не ожидает. Прежде чем Иоанн узнает, что мы выступили в поход, предлагаю захватить замок Мирабо, где находится его мать, королева Элеонора, эта развращенная и достойная своего сына женщина. Гарнизон, охраняющий этот замок, невелик. И хотя там командует Вильгельм Длинный Меч, граф Саллисбюри, если мы не откладывая выступим в поход, то прежде чем Иоанн узнает о наших действиях, королева-мать будет в наших руках. И даже если замок окажет серьезное сопротивление, то наши подкрепления могут присоединиться к нам под его стенами, и успех нам в этом предприятии будет обеспечен.
Гул одобрения встретил эту страстную речь, и план был тотчас же принят. Как ни старался де Кюсси заставить соратников подождать хотя бы день, для присоединения к войску рыцарей и солдат из земель графа Танкервильского, ему это не удалось.
Сам Артур, несмотря на то, что только что предлагал ожидать подкреплений, увлекся такой перспективой, обрисованной столь детально и красноречиво. При мысли о том, что Элеонора, всю жизнь преследовавшая его мать, сделается, наконец, его пленницей, глаза принца ярко заблестели, и нетерпение охватило его.
Де Кюсси видел все это и понимал, что все его слова прозвучат впустую и сопротивляться принятому решению бесполезно, и поэтому решил употребить все свои силы и опыт, чтобы способствовать успеху предприятия, в душе им не одобряемого.
Анжуйские рыцари были нимало удивлены, когда де Кюсси, еще недавно советовавший дожидаться подкреплений, энергично взялся за организацию и подготовку похода. Он стал душой этого предприятия. Кюсси успевал везде и всюду; его глаза все подмечали, его ум и богатый военный опыт позволяли ему ответить на любой вопрос о подготовке к походу. Он успел организовать рекогносцировку местности, где предстояли военные действия, запасти продовольствие и разослать в разные стороны разведывательные отряды. Все, что требовали обстоятельства в условиях войны, было им учтено и сделано с невероятной быстротой.
Как только отряды рыцарей прибыли к замку Мирабо, наскоро собрали военный совет. Он был краток. Ни одного лишнего слова не прозвучало во время разработки плана штурма замка, ибо здесь собрались истинные профессионалы своего дела.
– Каждый предводитель части солдат должен штурмовать одни из ворот.
– Гюг ле Брюн, я соединюсь с вами. Мы нападем с юга. Сир де Молеон, с какой стороны вы собираетесь атаковать?
– Я собираюсь штурмовать большие ворота, если это будет угодно принцу.
– Конечно, господа, конечно, – сказал принц, – все это прекрасно, но я думаю, что успех будет более полным, если штурм начнется одновременно по единому сигналу, а значит, все войска должны быть к тому моменту готовы и находиться на своих местах.
– Справедливо, справедливо! Прекрасно! Хорошая мысль! Вы прекрасно разбираетесь в военном деле, принц! – раздались одновременно несколько голосов.
– Сир де Кюсси, а с какой стороны вы намерены идти приступом? – спросил один из рыцарей, участвовавших в этом коротком военном совете. – Я вижу, что ваши люди готовят для штурма большие щиты, крючья и топоры.
– Я намерен захватить эту башню, – отвечал Кюсси, указывая на огромную, крепкую башню, с которой, судя по всему, когда-то и началась постройка всех остальных стен и башен замка и города Мирабо.
– А! – вскричал де Молеон, – вы хотите прибавить еще одну башню к тем, что нарисованы на вашем щите? Но у вас ничего не получится: нет осадных лестниц. Лучше нападем вместе на большие ворота. Впрочем, как вам будет угодно. Сир Готфрид де Лузиньян, советую со всеми вашими солдатами штурмовать замок с обратной стороны. Только когда будете готовы, дайте сигнал горящей стрелой. А вы, принц, где будете вы во время сражения?
– Я бы посоветовал принцу, – сказал Гюг ле Брюн, – с частью отряда объезжать вокруг города и оказывать помощь там, где она будет нужна.
– Или вы, принц, можете остаться на вершине этого холма, откуда вам будет видна полная картина боевых действий, и, таким образом вы смогли бы координировать наши усилия, – сказал де Лузиньян.
– Благодарю вас, господа, – принц наклонил голову, и, рыцари приняв это как сигнал к действию, отправились, каждый, к намеченным местам штурма, где уже располагались их отряды. Только де Кюсси остался рядом с принцем, – башня, которую он хотел штурмовать вместе со своим отрядом, располагалась напротив того места, где только что закончился самый скоротечный военный совет.
– Я понимаю, что они, движимые заботой обо мне, хотят воспрепятствовать мне принять участие в сражении, – сказал Артур, обращаясь к Кюсси, – но не могу пойти на это. Прошу вас сир де Кюсси, как доблестного и верного рыцаря, позволить мне сражаться под вашим почетным знаменем.
– Как вам будет угодно, принц, – отвечал Кюсси. – Клянусь небом, мне было бы стыдно охлаждать вашу благородную страсть!
– Гуго де Бар, – продолжал рыцарь, обращаясь уже к своему оруженосцу, – соберите людей и приготовьте большой щит.
– Все готово, сир Гюи, – ответил оруженосец, – мы даже запаслись большим количеством заступов и топоров, да и другим инструментом, который может понадобиться для того, чтобы эта треклятая башня рухнула.
– Тогда вперед! – вскричал рыцарь, сходя с лошади. – Я сам поведу моих людей. Капитан Жоделль, прикажите спешиться вашим солдатам. Они должны залпами стрел прикрывать наше приближение к башне.
– Но еще не было сигнала, – возразил Артур. – Не лучше ли подождать?
– Просигналить – дело нехитрое, застать же неприятеля врасплох задача куда сложнее, – отвечал де Кюсси. – Нет, мы не станем медлить. Вряд ли нормандцы догадываются, насколько серьезен будет наш удар. Видя, что основные силы направлены против башни, которая выглядит намного надежнее стен, они и не предполагают, какой угрозе подвергаются. Они не воспринимают всерьез нашу атаку, но как же они ошибаются! Видите трещину в самом низу башни – это и есть их уязвимое место! Вы оставайтесь здесь, принц; я же когда вернусь, буду сражаться рядом.
Рыцарь приблизился к Гуго де Бару и еще трём воинам, поддерживавшим на плечах огромный тяжелый щит, которые находились всего на расстоянии выстрела от стен. Под щитом было еще четверо человек, снабженных всеми орудиями, необходимыми для взламывания и подкопа. Едва де Кюсси подошел к ним, как все тотчас же отправились к стенам, а наемники обрушили лавину стрел на площадку башни, отвлекая тем самым внимание на себя.
Де Кюсси со своими помощниками, прикрываемые щитом, благополучно достигли подножия башни. Но их маневр, несмотря на старания Жоделля с товарищами, добросовестно исполнявшими свои обязанности, все же был замечен осажденными. С высоты стен на них полетели огромные камни и тяжелые брусья, и, если бы не щит, им пришлось бы, пожалуй, туго.
Дело принимало нешуточный оборот. Меткие лучники обрушили на головы осажденных такой шквал стрел, что для тех было бы более разумным просить пощады, а не сопротивляться. Но они продолжали стоять не на жизнь, а на смерть, и, хотя под рукой у них почти не осталось камней, а новые им никто не подносил, из опасения быть убитым на месте, они не сдавались. Вот только камни сыпались на щит все реже и реже, а потом и вовсе прекратились.
Тем временем де Кюсси трудился без отдыха, делая со своими помощниками подкоп под основание башни. Широкая трещина, образованная временем, во многом сопутствовала их успеху. С каждым новым ударом, отделявшим массу камней, она становилась все больше, постепенно превращаясь в глубокий пролом.
И вот наконец с другой стороны города был дан сигнал общей атаки: в воздух взвилась стрела с привязанной к острию горящей паклей. В ту же минуту равнина огласилась криками: радостными – осаждающих, и воплями ужаса тех, кто защищал город.
Артур, горя желанием участвовать в сражении и будучи уверен, что де Кюсси не упрекнет его за непослушание, во весь опор поскакал к тому месту, где рыцарь неутомимо трудился, продолжая подкоп под башню. Охваченный жаждой боя, юный принц, впервые оказавшись так близко к месту сражения, в минуту забыл обо всех опасностях, видя перед собой лишь конечную цель. Сердце его рвалось из груди от радости и надежды. Он подобрался к стенам так близко, что стрелы касались его но отлетали, к счастью, от непроницаемой брони.
Невдалеке он заметил Кюсси, который работал так напряженно, что ничего не видел вокруг и не подозревал об опасности, реально угрожавшей как ему, так и его помощникам. Мгновенно оценив ситуацию, Артур хотел было броситься им на помощь, но силы покинули его, и он остался на месте, в растерянности наблюдая за происходящим.
Огромные камни, отторгнутые от основания башни, произвели столь широкий пролом, что следовало, и как можно быстрее, подпереть стену брусьями, чтобы она не обрушилась и не задавила работавших. Все усилия де Кюсси и его товарищей были обращены на это, и они не заметили, как прямо над их головами, на смотровой площадке, появился вооруженный рыцарь, а с ним – еще несколько человек. По-видимому, догадавшись о происходившем на этом пункте, они пришли его защищать. Рыцарь отдал распоряжение, и на площадку втащили большой деревянный крюк, к, которому был подвешен толстенный пень с воткнутым в него острием копья. Эта махина была поднята над самым щитом, прикрывавшим де Кюсси и его товарищей.
– Осторожно, сир Гюи! Берегитесь! – закричали разом солдаты и принц.
Но прежде чем рыцарь смог их услышать и понять, тяжелая громадина обрушилась на щит и раздробила его на мелкие куски. Гуго де Бар и трое солдат были ранены, а четвертый – убит. Де Кюсси же отделался легким испугом: он и еще трое работников находились в этот момент в выкопанной под башней яме и остались невредимыми.
– Назад! – закричал де Кюсси. – Гуго, подай мне факел и бегом к принцу.
Оруженосцы повиновались и, отдав рыцарю зажженный факел, отступили под градом стрел неприятеля. Де Кюсси, оставшись один, спешил закончить свою работу. Его доспехи во многих местах были пробиты стрелами, но, позабыв об опасности, он продолжал с удвоенным упорством долбить и долбить камень.
Воин, наблюдавший за ним с верхней площадки, не зная, как остановить его разрушительную работу, всячески поощрял своих людей:
– Награда тому, кто его убьет! – обещал он. – Бросайте камни! Не подпускайте его к тем связкам хвороста, иначе всем нам конец! Нет, я не допущу, чтобы башня и город погибли. Дайте мне лук!
Сказав это, он прицелился, да так метко, что стрела лишь случайно не достигла цели.
– Ты искусный стрелок, Вильгельм Саллисбюри! – похвалил де Кюсси, взглянув на него. – Но дам тебе дружеский совет: немедленно оставь башню. Еще три минуты – и она рухнет. Я не питаю к тебе ненависти, храбрый рыцарь, ведь мы когда-то были товарищами.
Произнеся эти слова, он поджег несколько связок хвороста, разбросанных тут и там, и медленно стал отступать к принцу.
– Теперь, благородный принц, помогай вам Бог, – сказал он Артуру. – Вы первым войдете и крепость. Судя по крикам, оглашающим воздух, ни одни ворота еще не взяты.
Он обернулся к оруженосцу.
– А ты, Гуго, если рана тебе позволяет, собери солдат; они пойдут за нами. О, Боже! Я вижу, лорд Саллисбюри не собирается покидать башню. Чего же он ждет? Пока она рухнет? Смотрите, смотрите! Он все же пытается погасить огонь. Нет, не успеет: столбы уже занялись… Слышите, как они трещат?
Граф Саллисбюри, видя, что все усилия усмирить пламя оказались тщетными, оставил наконец свой пост.
Когда столбы, подпиравшие стены, сгорели наполовину, они подломились под тяжестью камня; и башня, зашатавшись, рухнула с треском, подобным грому. Равнина покрылась дымящимися развалинами.
– Вперед! Вперед! – торжествовал де Кюсси, – мы будем у стен прежде, чем ветер рассеет пыль.
И уже через минуту они с принцем входили в пролом, образовавшийся после падения башни.
– Смелее, мой юный принц! – поощрял он Артура. – Вы удостоены чести первым войти в город. Станьте же на мое колено.
И он помог молодому рыцарю перебраться через развалины, заграждавшие путь. Артур с мечом в руках гордо шествовал впереди, но тут из-за угла вынырнул Вильгельм Саллисбюри, прозванный Длинным Мечом, и преградил дорогу. Одолев двух солдат, защищавших проход, де Кюсси, опасаясь за жизнь Артура, бросился ему на помощь.
Принц отразил умело первые пять ударов, но шестой угодил ему в плечо с такой силой, что доспехи в этом месте разошлись и обнажили тело. Граф поднял меч для завершающего удара. Артур, наполовину оглушенный, сделал усилие для защиты; в ту же минуту де Кюсси загородил его и принял удар своим щитом.
– Честь и хвала вам, принц! Вы сражались, как храбрый рыцарь! – вскричал он. – Теперь путь свободен. Ступайте вперед с вашими солдатами и предоставьте мне закончить дело.
– Помнишь ли ты, Вильгельм, мой старинный друг, как мы делили с тобой невзгоды тогда, в Палестине? – обратился он к лорду. – Мы были с тобой товарищами, теперь же стали врагами. Мне искренне жаль, что судьба развела нас по разные стороны, но коль уж так вышло, то защищайся, мой отважный недруг!
– Храбрый Гюи, – отвечал ему граф, – я готов помериться с тобой силами!
И в то же мгновение нанёс ему сильный удар мечом, но удар был отражен. Два противника были столь искусны и сохраняли такое хладнокровие, что сражение затянулось. Мечи сверкали с быстротой молнии, удары сыпались градом; каски и латы были разбиты, а подлатники уподобились рубищу, покрывающему нищего.
– Клянусь небом, лорд Саллисбюри! – воскликнул Кюсси. – Ты смелый воин! Но вот что кончит сражение!
И в ту же минуту нанес такой ужасный удар, что граф зашатался.
– Благодарю за науку, – сказал Саллисбюри. И, став крепче на ноги, он заплатил своему противнику ответным ударом.
Их поединок был прерван внезапным шумом, донесшимся с улицы. Это войска Вильгельма, теснимые наемниками, беспорядочно отступали, оставляя свои позиции. Толпы горожан, не зная, где укрыться, в страхе метались по площади.
– Неприятели!.. Неприятели!.. Главные ворота взяты… – неслось отовсюду.
– Итак, город взят. – Даже в такой момент хладнокровие не изменило Вильгельму. Обернувшись к своему оруженосцу, он приказал бить отступление.
С каждой минутой в рядах нормандских солдат смятение все усиливалось. Толпы граждан, оставив площадь, искали убежища в замке; туда же спешили воины, защищавшие ворота, взятые сиром де Молеоном. Де Кюсси без опаски перешел через улицу и, взяв из рук оруженосца свое знамя, водрузил его на вершине городского фонтана.
Лорд Саллисбюри, вынужденный и во время отступления отражать удары, старался как мог провести в замок свои рассеянные войска. Как ни странно, эта задача не оказалась такой уж трудной: хотя Гюи и Артур беспокоили его арьергард, но большая часть наемников уже разбежалась по городу в поисках наживы.
Ужасная сцена происходила у входа в замок. Он был окружен толпой мужчин, женщин и детей, просивших убежища. Но Элеонора была столь жестока, что велела закрыть ворота и приказала стрелять в первого же, кто попытается их открыть. Несколько человек стали жертвой ее жестокости.
Когда Саллисбюри приблизился со своим войском к замку, горожане, стремясь пройти вместе с ними, настолько сдавили солдат, что те вынуждены были мечами пролагать себе путь. Вильгельм последним вошел на подъемный мост. Две женщины высшего общества бросились перед ним на колени, умоляя пропустить их в замок.
– Я не смею! – в отчаянии прокричал Вильгельм. Он обернулся и, увидев в нескольких шагах от себя де Кюсси, обратился к нему, как я лучшему другу:
– Сир де Кюсси, если ты все еще уважаешь своего старинного военного товарища, то помоги насколько возможно этим несчастным. Я умоляю тебя об этом!
– Будь по-твоему, Саллисбюри! Я выполню твою просьбу! – отвечал де Кюсси. – Принц Артур, позволите ли вы мне это?
– Поступайте, как вам угодно, мой храбрый и достойный друг! – ответил Артур. Он сделал знак рукой, приказывая наемникам, со всех ног мчавшимся к испуганной толпе, остановиться. – Прочь, говорю я вам!
И, бросив перчатку на землю, добавил:
– Кто переступит сей знак, тот станет мне личным врагом.
– Деньги этого безмозглого стада принадлежат нам по праву! – возмутились некоторые из солдат. – Нас хотят лишить законной добычи!
Один из них выбился из рядов и перешел означенную границу. Де Кюсси подбежал к нему и, не спрашивая имени, размахнулся и нанес ему по лицу такой удар эфесом меча, что тот зашатался и, не удержавшись на ногах, мешком свалился на землю. Кровь полилась у него изо рта и носа. Никто из дружков не вступился за него, и Жоделль – а это был, конечно же, он – встал и поспешил укрыться среди своих товарищей.
На площади, у большого щита, поставленного сиром де Кюсси, собрались Савари де Молеон, Готфрид де Лузиньян и несколько баронов с тремя пленными нормандскими рыцарями. Едва рыцарь и Артур подошли к ним, как де Молеон, протянув руку своему противнику в совете, вскричал:
– Честь и хвала тебе, де Кюсси! Ты сдержал слово и до захода солнца водрузил свое знамя на площади. От лица всех воинов провозглашаю тебя храбрейшим рыцарем дня!
– Нет, в том не моя заслуга, – отвечал де Кюсси. – Слава принадлежит тому, кто первым вошел в крепость и, обнажив меч, сразился с Вильгельмом Длинным Мечом; тому, кто первым стремился участвовать во всех нынешних подвигах! Вот он – герой дня! – указал он на юного принца. – И пусть взятие Мирабо станет славным началом в его дальнейших завоеваниях!
– Честь и хвала! Слава! Слава! – подхватили рыцари разом. – Трубите трубы! Трубите! Да здравствует Артур, король Английский!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА I
Через шесть дней после событий, описанных нами в предыдущей главе, министр Герень, о котором уже так часто упоминалось, прогуливался по одной из аллей старого парка, разбитого у опушки Компьенского леса и отделенного от замка глубоким рвом и частоколом. Чтобы попасть на эту аллею, а потом и в сам лес, следовало сделать немалый крюк, минуя территорию замка и даже часть города. Впрочем, был сюда и более короткий путь – через калитку сада и по подъемному мосту. Но калитка была заперта, а ключ король хранил у себя, и Герень вынужден был идти в обход, чтобы добраться до этого места.
У него была веская причина выбраться сюда на прогулку: душная атмосфера старинного замка давила на него, мешая думать, и здесь, на свободе, он мог наконец предаться своим размышлениям, не рискуя быть прерванным в любую минуту. Предметом его тяжких раздумий было недавнее совещание с епископом Парижским, человеком добрым, но слабовольным. Тот слово в слово пересказал свою беседу с отцом Бернардом, пустынником Венсенским, и Герень теперь ломал голову, не зная, как отнестись к столь странному сговору.
Министра, который был облачен в костюм рыцаря, сопровождал паж, несший его меч, с которым Герень не расставался ни на минуту, даже спустя несколько лет после того, как был наименован епископом Нантским. Но юный паж, хотя он и изучил достаточно характер своего господина, не замечал ничего необычного в его поведении, кроме разве что важности, сопровождавшей, как правило, глубокие размышления министра.
В то время как он прогуливался, беседа двух человек, находившихся в саду, позади густого частокола, достигла его слуха. Их голоса, мужской и женский, то удалялись, то приближались настолько, что министр мог бы различить каждое слово, если бы не заглушал разговор шелестом своей тяжелой походки. Он замер на месте, но запоздал – уже ничего не было слышно.
– Это голос королевы, – подумал вслух Герень. – А ее собеседник, если я не ошибаюсь, граф Овернский. Как раз вчера он прибыл в Компьен по приглашению короля, который и сам собирался вернуться из Турне накануне ночью, да, видно, не смог. Помоги ему, Бог! Похоже, все бароны ополчились против него. Может, епископ Парижский прав, и осуществление столь коварного плана все же послужит на пользу королю, примирив его с недругами. Ах, если бы он вернулся в эту минуту и застал свою супругу с графом Овернским… Ревность взыграла бы в его сердце, я в том уверен. Но нет, не стоит даже надеяться: коль он не приехал вчера, то вряд ли появится здесь раньше нынешнего вечера.
Так разговаривал сам с собой Герень, когда юноша в зеленой тунике, спешивший навстречу, остановился перед ним и, обращаясь к пажу, сопровождавшему министра, спросил:
– Не подскажете ли, как мне пройти в сад замка?
– Для этого вам придется вернуться назад, – отвечал тот. – Когда вы пройдете не меньше полумили, то окажетесь в городе, а оттуда до замка рукой подать. Но кого вы хотите найти в саду?
– Мне нужен граф Овернский, – ответил юноша, – по очень важному делу. Меня уверяли, что эта дорога намного короче. Будь прокляты те, кто послал меня сюда! Мерзкие обманщики! – возмущенный, он повернул назад.
Герень не уловил ни слова из этого разговора, настолько занят был он другим диалогом.
– И именно таковы приказания моего отца? – спрашивала Агнесса, и Гереню показалось, что королева была смущена.
– Точно так, государыня, – подтвердил граф. – И он заклинает вас выполнить свой дочерний долг. Он заклинает всеми обетами, самыми драгоценными, самыми священными…
Продолжение разговора было потеряно для министра, поскольку собеседники вновь удалились и шли теперь по другой аллее. Он продолжал прислушиваться еще несколько минут, но ничего не услышал, кроме топота копыт скачущих по лесу лошадей. Удивленный, он обернулся и увидел короля, которого сопровождали двенадцать вооруженных воинов. Судя по всему, они направлялись в замок.
Не доезжая до места, где находился Герень, Филипп спешился и передал своего коня одному из оруженосцев.
– Я пройду через сад, – сказал он, – а вы отправляйтесь в обход. Но, заклинаю, ведите себя как можно тише и не привлекайте к себе излишнего внимания горожан. Я боюсь, что добрые жители, узнав о моем возвращении, завалят меня жалобами. Если бы не это проклятое отлучение!..
Он был уже в нескольких шагах от Гереня, но так и не заметил его, настолько был занят своими нелегкими думами.
– Счастливый Саладин! У тебя нет такого жреца, который посмел бы возмутить твой домашний покой!.. Клянусь небом, я приму твою веру и стану мусульманином! – скрестив на груди руки, вскричал он в отчаянии.
Тут он поднял глаза и встретился взглядом с глазами министра.
– А, это ты, Герень, – удивился король. – Неужели проклятие выгнало и тебя из города?
– Нет, не это, мой государь. Я пришел сюда по другой причине, – ответил министр. – Хотел побыть в тишине, чтобы спокойно обдумать кое-какие проблемы. – Отправляйся-ка в замок, – сказал он своему пажу. – Мне нужно поговорить с королем, и разговор этот не для чужих ушей.
Он подождал, пока паж не скрылся из виду, затем продолжил:
– Известно ли вам, государь, что, не менее чем в пятидесяти провинциях нашего королевства, народ берется за оружие. Подстегиваемые многими и многими баронами, они готовят вооруженное восстание, и боюсь, государь, что их действия направлены вовсе не в вашу пользу.
– Мы остановим их, Герень! – твердо сказал король. – Мы выступим против них и докажем низким вассалам, что у них есть еще повелитель! – бросил он на ходу, направляясь к саду.
Но, словно вспомнив о чем-то важном, он вдруг остановился и, пошарив в кармане, достал из него листок пергамента.
– Эту бумагу я нашел на своем столе, в Гурне. – сказал он, передавая листок министру. – Хотел бы я знать, кто мне ее подсунул. Поступок нелепый и странный, скажу я вам. Похоже, у графа Овернского, как и у меня, тоже есть тайные враги, действующие исподтишка. А этот-то чем не угодил?..
Герень взглянул на записку и тотчас узнал почерк каноника святой Берты. «Сир король, – прочел он вслух, – остерегайтесь графа Овернского!» Но не успел он сделать каких-либо замечаний по поводу этой записки, как из сада вновь донеслись голоса, которые с каждой минутой становились слышны все отчетливее. Филипп замер, насторожившись: он не мог не узнать голос своей супруги.
– Королева? – удивился и обрадовался он. – Конечно же, это Агнесса!
При одном только имени, столь для него драгоценном, все его печали, все неприятности рассеялись в тот же миг, как исчезает роса под лучами жаркого солнца. Морщины на лбу разгладились, а черты лица приняли добродушное выражение.
– Но что я слышу! – снова насторожился он, – она не одна? Кто ее собеседник? Вам знаком этот голос, Герень?
– Я думаю… мне кажется, государь… – мямлил министр, явно смущенный, – мне кажется, это граф Овернский.
– Вы думаете!.. Вам кажется!.. – вознегодовал король. Кровь бросилась ему в голову, и голубые вены яснее обозначились на его лбу. – Граф Овернский?.. Но что же вас так смутило, епископ? Вы покраснели, словно юнец, тогда как, казалось бы, ничто не должно вас смущать!.. Что все, это значит? Молчите? Ладно… Клянусь богом, я сам доберусь до правды!
Разгневанный, он выхватил из кармана ключ и быстро пошел к калитке. Но в эту минуту голоса приблизились настолько, что каждое слово звучало вполне отчетливо. Не сумев побороть искушения, Филипп остановился и прислушался.
– Запомните это раз и навсегда, Тибольд! – взволнованно говорила Агнесса. – Не предавайтесь иллюзиям и не принуждайте меня более. Я ценю вашу откровенность, но несмотря ни на что, невзирая даже на собственные мои чувства, я не предам короля и буду верна ему до конца. Он мой супруг – этим все сказано. Долг связывает меня подчиняться ему во всем, потакать малейшим его капризам и не покидать его никогда. Вы поняли, граф? Я никогда не оставлю своего мужа!
Эти слова, равно как и подозрительное смущение министра, произвели сильное впечатление на Филиппа, лишив его рассудка. Он сжал кулаки, вне себя от ярости. Вспомнилось все: и странное предупреждение, которое он получил в Турне, и то, что говорил ему шут в Венсенском лесу.
– Она не любит меня! – не смог удержаться он от горькой обиды. – Нет, не любит! И это после всего, что я для нее сделал, чем ради нее пожертвовал. Но он-то, он… Клянусь, он не уйдет от меня! Я отомщу за свой позор и не успокоюсь, пока не увижу его окровавленный труп у своих ног!
Эти пламенные взоры, сжатые кулаки, вены, вздувшиеся на лбу, яснее ясного говорили о том, в каком состоянии находился сейчас король. А последняя фраза, которую он обронил против своей воли, прозвучала настолько отчетливо, что Герень лишь утвердился в своих подозрениях. Он бросился на колени перед монархом, загородив собой путь к калитке, и, крепко обхватив его ноги, умоляюще взглянул на Филиппа.
– Кто-то идет, граф! – испугалась Агнесса. – Уйдите! Оставьте меня! Я не принимаю этого предложения и не хочу больше о нем слышать. Ступайте, прошу вас, Тибольд!
– Пусти же, пусти меня! – вырывался король из рук Гереня. – Я понял все: ты хочешь его спасти! Ты – жалкий поверенный в любовных делах этого негодяя! Ах, подлец! Ах, изменник! Ты предал меня, своего повелителя, и, клянусь, заплатишь за это! Пусти, говорю тебе, или я расправлюсь с тобой сейчас же!
При этих словах он обнажил меч и замахнулся им на министра.
– Разите, государь! – крикнул Герень, еще крепче сжимая колени разъяренного монарха. – Убейте вашего верного слугу: его кровь принадлежит вам – пролейте ее! Разите! Пусть ваше оружие пронзит мое сердце, я не страшусь этого – ваши слова ранят куда больнее. Но знайте, пока я жив, я буду стоять между вами и вашей яростью. Слепой яростью! Вы заподозрили меня в бесчестии… А разве не бесчестие для короля – умертвить человека, которого вы сами и пригласили во дворец? И, даже не разобравшись, виновен он или нет…
– Пусти меня, Герень, – прервал его речь король, голос которого звучал теперь более спокойно, хотя и был все еще исполнен горечи. – Повторяю, пусти меня. Разве ты не видишь, что я спокоен? Да не хватай же меня так за ноги!
Герень встал, продолжая молить:
– Заклинаю вас, государь, успокойтесь прежде. Вам не следует так спешить…
Но Филипп, освободившись из сильных объятий, уже бежал по подъемному мосту. Он отворил калитку и прошел в сад.
Не выпуская меча из рук, он мчался по аллее к замку так, словно за ним гнались. С силой толкнув дверь, он вихрем влетел в приемную и одним взглядом охватил всю огромную залу. Находившиеся здесь воины тотчас прервали свои занятия, удивленные неожиданным появлением короля.
– Не видел ли кто графа Овернского? – спросил Филипп с притворным спокойствием, но голос выдал его волнение.
– Всего минуту назад он прошел здесь, государь, – отрапортовал сержант. – Похоже, очень спешил. И с ним был еще паж в зеленой тунике, который до этого искал его не меньше часа, наверное.
– Найти его и привести ко мне! – приказал король тоном, не допускающим возражений.
Всех словно ветром сдуло. Воины, опрометью выскочив из приемной, разбежались в разные стороны.
Спустя несколько минут епископ Герень вошел в приемную залу и тихо приблизился к королю. Филипп стоял посреди комнаты и напряженно о чем-то думал, наморщив лоб и устремив глаза в землю. Казалось, он не заметил прихода министра, Герень подошел к нему вплотную и почтительно, но не без твердости, взял его за руку, и король был вынужден обратить на него свой взгляд.
– Оставьте меня, Герень! Я не намерен сейчас говорить с вами, – сказал король. – И не пытайтесь меня успокоить – я не верю вам больше. Что же вы медлите? Я приказываю вам уйти!
– Каковы бы ни были последствия вашего гнева, государь, я готов вынести все, – отвечал министр. – Презирайте меня, если вам угодно, но выслушайте. Как вам известно, граф Овернский был не только товарищем по оружию брата вашей супруги, но и искренним другом ее отца. Вы ведь сами писали ее отцу о том, что святое судилище не признало развода и объявило ваш брак незаконным, и спрашивали, каким будет его решение в связи со всем этим. Вот я и думаю, что старый граф поручил Тибольду передать Агнессе свои требования и настоять на ее возвращении в отчий дом. Так кто из нас прав: я или вы, государь?
– Ах! – вскричал король, приложив руку ко лбу, – дайте подумать! – и после минутного размышления он добавил: – Ты абсолютно прав, друг мой. Я понимаю теперь, что послужило поводом для беседы между Агнессой и графом. Я сожалею, что усомнился в тебе. Прости меня, Герень, я обидел тебя неумышленно: в том виновата ревность, помутившая мой разум. Если б ты только знал, как я несчастлив!
И он протянул руку министру. Тот почтительно коснулся ее губами.
Мир между ними был восстановлен.
ГЛАВА II
Мы с вами знаем уже, что де Кюсси посылал своего пажа с письмом к графу Овернскому, знаем также, что юноша выполнил поручение и в Касиньоле отдал письмо графу. Но здесь мы вынуждены сделать небольшое отступление, чтобы внимательно проследить за возвращением юного посланника, который был столь медлителен на обратном пути, что трудно даже вообразить. Прежде всего он решил заглянуть к своей милой подружке, Элеоноре, что и сделал, не раздумывая. Мы не станем рассказывать, как проходил те дни свиданий и сколько их было, скажем лишь то, что было их несколько и прошло какое-то время, прежде чем юный паж, вспомнив о своих обязанностях, решил возвратиться к Кюсси. Но по дороге ему попалась маленькая харчевня, которая выглядела так привлекательно, что Эрмольд де Марей не смог побороть искушения и заглянул туда, чтобы пропустить стаканчик вина.
Эта харчевня славилась тем, что в ней подавали хорошие вина, а еще тем, что здесь был камин, необычайно красивый и такой огромный, что на каменной скамье, окружавшей его, свободно могли разместиться пятнадцать, нет, даже шестнадцать человек.
В уголке этой длинной скамьи и примостился наш юный герой лет восемнадцати от роду, которого добрая хозяйка потчевала сладким вином, чтобы заставить своего постояльца забыть о заботах долгого дня. И было это поздним вечером, в конце сентября.
– Но скажите мне, добрая женщина, крепко ли заперты ваши двери? Или я вас об этом уже спрашивал? – беспокоился юноша.
– Спрашивали, и я вас уверила, что закрыты на все засовы. Но чего вам бояться, дорогое дитя? Бьюсь об заклад, вы не из числа друзей короля Иоанна; нынче же у меня были только те, кто настроен против него. И слава Богу! Эти несчастные англичане да нормандцы всегда одержимы жаждой и хлещут все, что бы я им ни подала. Я люблю, когда постояльцы хвалят мои напитки; этим же водохлебам все равно – луарское это вино или божанси. Прости, господи, их грешные души! Вам нечего здесь бояться, паж.
– Клянусь моей честью, вы заблуждаетесь, добрая хозяйка! – вскричал Эрмольд де Марей. – Если бы англичане с нормандцами, о которых вы только что упомянули, зашли бы сюда и узнали, что я паж де Кюсси, он бы повесили меня на первом же дереве. И напрасно вы думаете, что их здесь нет – они где-то рядом. По дороге сюда я заметил пятерых рыцарей, переодетых солдатами. Уверен, что они – приспешники Иоанна. С ними были еще стрелки – человек, наверное, двадцать. Все они бросились за мной в погоню и преследовали не меньше мили. Слава Богу, что у меня быстрая лошадь, да и места эти я знаю прекрасно: только поэтому они не сумели меня догнать. Ах, если бы только они!.. Скажу вам, хозяйка, что с высоты холма я видел еще одну группу всадников.
– Должно быть, тех самых солдат, которых поджидает иностранец, поселившийся и комнате наверху.
– У вас живет иностранец? Но только сегодня утром вы уверяли меня, что у вас никого нет.
– И сказала вам правду, сир. А вот и ваше вино… Да не трясите так кубок – вино прольется. Да-да, будьте уверены, я не солгала тогда вам. Но через полчаса после вашего приезда прискакал еще всадник; к седлу его лошади была привязана огромная бутыль – по крайней мере, в пять пинт. Да будут прокляты все эти бутыли! Каждый старается привезти с собой собственное вино и останавливается в гостинице только за тем, чтобы освежить лошадь.
– Итак, этот иностранец… Что вы скажете о нем, добрая хозяйка? И как выглядит этот человек?
– О! Это такой здоровяк! Высокий и крепкий. Выше вас, паж, вершка, наверное, на три. Должно быть, не так давно он о кем-то поссорился: глаз у него заплыл и закрыт пластырем, а нос почернел и распух. Крепко, скажу вам, ему досталось! Он не хотел быть замеченным, и потому я отвела ему верхнюю комнату. Он назвался Алберином. Всего через час после его прибытия о нем уже спрашивал какой-то человек, может быть, и нормандец – кто ж его знает… Они долго разговаривали между собой, но так тихо, что невозможно было понять, о чем шла беседа.
В этот момент с улицы донесся цокот копыт.
– Вы слышите, добрая хозяйка? Слышите? – испугался паж и, вскочив, стал метаться по комнате. – Кто-то едет сюда! Где мне спрятаться?
Он поспешно бросился к лестнице, ведущей в верхние комнаты.
– Не туда! Да постойте же, не бегите! – крикнула старуха. – Сам лезет к черту, в пасть! Или забыли, что наверху этот Алберин? Спрячьтесь вон там.
И, схватив пажа за руку, она вытолкнула его из кухни и открыла чулан, заваленный дровами и хворостом. Старая женщина не раз наблюдала подобные сцены, а потому нисколько не удивилась и этому происшествию. Невозмутимо прошествовала она к столу и допила вино, оставленное пажом, а затем подсела к камину и принялась за вязание.
Между тем топот копыт становился все громче, а через минуту кто-то забарабанил в дверь харчевни.
– Это тот самый дом, – сказали снаружи. – Да, я уверен, он самый. Откройте же, отоприте!
Женщина встала и распахнула дверь. Вежливо поклонившись, она пропустила внутрь незнакомцев, которые бесцеремонно протопали в кухню.
– Храни вас Бог, благородный рыцарь! – сказала она первому. – И вас тоже, сеньоры, – обернулась она к другим. – С тех пор, как здесь прошло войско доброго короля Иоанна, я не видала таких нарядных кавалеристов.
– Что я слышу! Ты знаешь короля Иоанна? – спросил первый незнакомец, хлопнув ее по плену, словно старую знакомую. – Мне говорили, что он безобразен.
– Безобразен?.. Да простят вас господь и святой Лука! Я видела его всего несколько раз, но, готова ручаться, что нет на свете мужчины прекраснее…
Тут подошел еще один гость, чтобы позубоскалить, но первый прервал его на полуслове:
– Довольно, господа, довольно! Займемся делами. А ты Вильгельм Де ла Рош, еще успеешь полюбезничать с этой старой проказницей. Итак, любезная дама, – добавил он вроде бы вежливо, но с нескрываемой издевкой, – если ваши коралловые уста удостоят открыться и обронить несколько слов, вы сможете сообщить бедному рыцарю, проделавшему в этот вечер не меньше пяти миль, живет ли сир Алберин, как он изволил себя представить, в вашем великолепном ни дворце?
– А откуда мне знать? – отвечала старуха, ничуть не смущаясь насмешками своих гостей. – Я никогда не спрашиваю имен у своих постояльцев. Мне достаточно и того, что они посещают мою гостиницу. А что, он вам так уж и нужен?
– Заткнись, старая дура! – крикнули с лестницы. – У этих господ есть ко мне дело, а у меня – к ним.
И в ту же секунду наш старый знакомый Жоделль, капитан наемного войска Гюи де Кюсси, быстро сбежал вниз по лестнице.
– С вашего позволения, милостивый господин, – обратился он к первому незнакомцу, – я попросил бы убрать отсюда всех посторонних. – Он посмотрел на хозяйку харчевни, не скрывая презрения. – Это относится прежде всего к тебе, старая ведьма. Вон отсюда! Оставь нас наедине!
– Как! Вон из моей же кухни? – вскипела трактирщица. – Вы, должно быть, забылись! Вы хоть подумали, о чем говорите?
– Я хорошо подумал, а потому повторяю: вон отсюда! – ответил Жоделль. – Не беспокойся, ты недолго будешь за дверью.
И, бесцеремонно схватив ее за руку, он вытолкнул женщину на улицу и накрепко запер дверь.
– А теперь, – сказал он, засовывая ключ в карман, – проверим, нет ли здесь шпионов.
Тщательно обыскав все углы на кухне, он отворил дверь чулана, в котором прятался бедный паж, дрожащий, как осиновый лист, и едва смеющий дышать.
– Ну-ка, поворошим этот хворост, – усмехнулся он и проткнул несколько раз мечом большую связку веток, наваленных в углу чулана. К счастью для пажа, острое лезвие ни разу не задело его и даже не поцарапало.
– Итак, Алберин, – важно произнес первый незнакомец, – обращаясь к Жоделлю, – какого черта ты посылал за мной? Или у тебя и правда есть ко мне дело?
– О, господин, – бросился тот на колени, – если слух не обманывает меня, то предо мной сам король Английский…
– Допустим, что так. Продолжай!
– Государь, ходят слухи, что единственное ваше желание – обуздать непокорного: вашего племянника, принца Артура. Так ли это?
– Без сомнения! – вскричал Иоанн. – Ты не ошибся: это действительно самое большое мое желание! Но где он? Где этот юный бунтовщик? Уж не привел ли ты сюда этого слабоумного?
– Нет, государь, но ваше желание легко может быть исполнено, – отвечал Жоделль. – И я готов вам продать его вместе со всеми его потрохами, но прежде хотел бы узнать, какое будет вознаграждение.
– Ты прав, Алберин, – согласился король. – И как только мог я забыть, что любой человек на земле имеет свою цену! – воскликнул он, потирая лоб. – Но как высока твоя, проказник? Говори!
– Цена умеренная, государь. И коль вам угодно знать, каковы мои требования, то вот они: вы заплатите мне десять тысяч ливров серебром;можно наличными, а можете дать расписку, чтобы я получил их из вашей казны. Это во-первых…
– Святой Боже! – воскликнул король. Но, обернувшись и мельком взглянув на лорда Пемброка, он тотчас же заулыбался и добавил:
– Что ж, будь по-твоему! Я выполню эту просьбу и хоть сейчас напишу своему казначею. Какие еще будут требования?
– И когда вы дадите мне эту расписку, – продолжал Жоделль, ничуть не смущаясь, хотя он и понял значение улыбки Иоанна, – то, уверяю вас, я найду способ получить деньги от ваших друзей… или от неприятелей, усмехнулся он, – если вдруг ваша сокровищница окажется так же пуста, как луговины зимой.
– Довольно, я понял тебя. Но что же ты требуешь еще? Если я верно расслышал, ты ведь сказал «во-первых» – не так ли?
– А во-вторых, вы издадите указ, заверенный личной печатью, – продолжал Жоделль еще более самоуверенно, – о том, что мне позволяется набрать тысячу копьеносцев под свое начало и содержать это войско за ваш счет. Мне вы назначите высокое жалованье и будете выплачивать его в течение десяти лет. И наконец последнее: вы не станете препятствовать моему посвящению в рыцари, более того, сами назначите день и час этой церемонии.
– Вас – в рыцари? – возмутился лорд Пемброк. – Клянусь небом, если королю будет угодно причислить к рыцарскому ордену столь низкого и подлого изменника, то этот день станет последним в жизни такого негодяя, как ты! Лучше уж я велю конюху разбить мои шпоры в знак своего бесчестия, чем увижу хоть раз золотую цепь на тебе, мерзавец!
– Смею уверить, что когда и я буду носить шпоры, лорд Пемброк, – возразил Жоделль, – то не побоюсь встретиться с вами с глазу на глаз и отплачу презрением за презрение.
Пемброк, взбешенный подобной наглостью, хотел было что-то ответить этому негодяю, но король жестом остановил его.
– Милая шутка, – сказал Иоанн иронично. – А ну-ка, проказник, ответь мне, что же ты сделаешь, если я откажу тебе в твоих дерзких требованиях? Что тогда будет?
– А ничего, – отвечал Жоделль очень спокойно. – Просто оседлаю коня да отправлюсь туда, откуда приехал.
– Ты даже не спрашиваешь, отпустим ли мы тебя. А что если я прикажу повесить тебя вон на том вязе, который растет у ворот?
– В таком случае вы нарушите свое слово, ведь вы обещали и пальцем меня не тронуть. Да и зачем вам мой труп? Я нужен вам как помощник, поскольку именно от меня зависит исполнение самого заветного из ваших желаний. Разве мертвый может говорить? А я мог бы вам кое-что рассказать, государь.
– Похоже, тебе неизвестно, что есть еще пытки, способные расшевелить и мертвеца. Да ты сам будешь рад рассказать нам все, что знаешь, прежде чем сдохнешь, как собака. И даже смерть покажется тебе великим благом в сравнении с пытками; ты сам призовешь ее на помощь.
– Вот уж в чем я не сомневаюсь, государь, – отвечал Жоделль уже не так спокойно. – Я не был еще удостоен чести узнать вкус пыток, но думаю, что он достаточно горек, и могу даже предположить, что хватит и одного взгляда на инструменты, чтобы выболтать все, что мне известно. Но чего вы этим добьетесь? Выведаете мой план, но и только. Без меня вам никогда не осуществить его, поскольку вольные стрелки, которыми я командую, не сделают и шага без моего приказа и если меня не будет среди них. А помощь этих людей будет вам крайне необходима. Без их поддержки вам легче схватить жаркое солнце голыми руками, чем взять в плен принца Артура и сира Гюи де Кюсси.
– Этот плут забавен, милорды! Клянусь душою, он очень хитер! Отойди-ка в сторонку, приятель, я хотел бы переговорить со своими друзьями наедине. А ты, Вильгельм Гюйон, присмотри за ним, чтобы он не сбежал ненароком.
Совещание длилось несколько минут. Иоанн что-то тихо втолковывал рыцарям, сопровождавшим его на это необычное свидание, а те реагировали на доводы короля весьма неодинаково: одни внимательно слушали, не говоря ни слова; другие возражали, сопровождая свою речь столь красноречивыми жестами, что их нельзя было не понять; Пемброк в своем возмущении дошел до того, что невольно обронил несколько фраз, да так громко, что и Жоделль их услышал. «Бесчестие для рыцарства…», «бесславие для английских баронов…», «невыразимое унижение…» вот те обрывки фраз, которые уловил своим чутким ухом капитан мародеров.
Наконец совещание закончилось, и король знаком подозвал Жоделля к себе.
– Решение вынесено, – торжественно произнес он. – И ты, приятель, можешь выбрать любую из двух крайностей, которые мы тебе предложим. Ты получишь расписку на получение десяти тысяч марок серебром из государственной казны, но только в том случае, если в течение десяти дней поможешь прибрать к рукам этого непокорного. Я не дам тебе ни дня больше; и за этот короткий срок ты должен схватить и выдать мне Артура Плантагенета, живого или мертвого.
Он сделал особенное ударение на последнем слове и, сдвинув брови, уставился на Жоделля, полуприкрыв глаза, словно бы опасаясь, что открытый взгляд выдаст его истинные намерения.
– Мы соглашаемся также на твои условия относительно содержания и оплаты наемного войска, которым ты станешь командовать, – продолжал король. – Что же касается посвящения в рыцари – мы не хотим и не сделаем этого даже и за подобную услугу. Если тебя это не устраивает, то взгляни-ка вон на тот вяз… В твоей воле выбрать либо то, либо другое.
– Выбор незатруднителен, – отвечал Жоделль. – Меня больше устраивает первое предложение, и вы, государь, можете смело считать принца Артура своим пленником. Послушайте же, что я вам скажу: скачите со весь опор к Мирабо, там и найдете этого своевольника. Артур занял крепость и корчит из себя короля, а все эти его подпевалы хором вторят ему. С одной стороны город охраняет де Кюсси со своим отрядом: они расположились лагерем на высоте, называемой Мондье-Шато. Мое же войско стережет город с противоположной стороны. Сюда-то и должны подойти ваши солдаты, но желательно, чтобы они проделали все бесшумно и в темноте. И не нужны никакие знаки, достаточно одного имени «Жоделль», чтобы мои приятели отступили и пропустили ваших солдат в самое сердце крепости. Артур и его приближенные разместились в доме приора: вломитесь туда, и вы возьмете их голыми руками. Ну как вам мой план?
– Клянусь моей короной и честью! – воскликнул Иоанн, в глазах которого зажглись искорки возбуждения. – Если твой план будет выполнен так же легко, как и задуман, я готов присоединить алмаз в тысячу марок к вознаграждению, уже обещанному. Рассчитывай на это, старый плут. Я на всю жизнь стану твоим должником, если столь хитроумный замысел осуществится. Да-да, я твой должник, Алберин!
– Жоделль к вашим услугам! Алберин – всего лишь вымышленное имя. Теперь, государь, я должен сесть на коня и скакать что есть силы: мне предстоит одолеть двадцать миль до рассвета.
– Бог в помощь, Жоделль! Счастливого пути! – напутствовал король, вставая. – Я не заставлю себя ждать и примчусь в Мирабо столь же стремительно, как орел падает на свою добычу. Ступайте, милорды. На лошадей!.. Я твой должник, добрый Жоделль, – повторял король, вдевая ногу в стремя, – рассчитывай на меня!.. – И, пустившись в галоп, добавил сквозь зубы:
– Будь уверен, уж я постараюсь, чтобы тебя повесили так высоко, как даже ворон не вил гнезда. Да, ты вправе рассчитывать на это!
ГЛАВА III
Едва лишь Жоделль, а за ним и король со свитою, уехали из гостиницы, как Эрмольд де выбрался из своей темницы.
– Боже праведный! – не удержался он от восклицания. – Что же мне делать? Если я признаюсь сиру Гюи, что пренебрег его приказанием вернуться как можно скорее ради свидания с Элеонорой, он убьет меня тут же, на месте. Да он свернет мне шею или раскроит голову своим бердышом, узнав об истинной причине такой медлительности! Он непременно сделает это, чтоб другим было неповадно, и будет, конечно, прав. А если я не вернусь… что тогда? Торжество изменника, падение моего доброго и благородного господина, уничтожение всех надежд принца – вот каковы будут последствия такого поступка. Решено, я возвращаюсь! Да, я вернусь, чтобы рассказать своему хозяину все без утайки, чего бы мне это ни стоило. И пусть он меня убьет, если ему будет угодно, но я спасу его жизнь, я разрушу коварный заговор. Но как быть с Элеонорой? Сердце ее разорвется от горя, если меня не станет! – нечаянная слеза сползла по его щеке. – А впрочем, она ничего не потеряет, кроме любовника, которому так просто найти замену. Смею надеяться, что она скоро утешится и будет счастлива.
– Выпейте, паж, – сказала трактирщица, подавая ему стаканчик вина, – это облегчит ваши страдания.
Эрмольд пригубил вино, думая, вероятно, как думают и другие, что если истина скрыта на дне колодца, то храбрость – на дне стакана.
– Теперь я должен спешить в Мирабо. Подскажите, добрая женщина, какая дорога самая короткая?
– Та, что слева, сир. Но этот путь небезопасен для вас. Постойте… – крикнула она ему вслед. Но Эрмольд не мог ее услышать: он уже мчался во весь опор по указанной ею дороге.
Он ехал без передышки целую ночь, и когда занялась заря, он был уже на прекрасных долинах Турских. Около восьми утра он въехал на измученной лошади в небольшую деревеньку; и первое, что он увидел, была лошадь, привязанная к изгороди у входа в трактир. Эрмольд сразу узнал коня, на котором обычно ездил Жоделль. Он возблагодарил святого Мартына Турского за эту встречу, которую он счел для себя счастливым предзнаменованием, и в ту же минуту составил план нападения. Надо сказать, что Эрмольд де Марей, несмотря на молодость, был храбр и отважен. У него было бесстрашное сердце, и, если требовалось, он готов был вступить в бой с любым – даже с тем, кто был бы и в десять раз неустрашимее Жоделля. Единственным человеком, которого он боялся, был его господин, Гюи де Кюсси, но и эту боязнь мы не вправе были бы назвать трусостью, а скорее – безграничным благоговением.
Заставляя свою лошадь идти как можно тише, чтобы не спугнуть Жоделля, он подъехал к харчевне и, не желая иметь никаких преимуществ перед своим противником, спешился и привязал лошадь к кольцу, вбитому в изгородь. Убедившись, что меч и кинжал легко скользят в ножнах, он подошел к крыльцу. В ту же минуту дверь харчевни распахнулась, и Жоделль, который, по-видимому, куда-то очень спешил, показался на пороге.
Как только он появился, Эрмольд бросился навстречу, крича: «Негодяй! Изменник!». Он с силой ударил Жоделля кулаком и тотчас же отскочил назад, поджидая своего противника с мечом и кинжалом и обоих руках.
Жоделль мгновенно узнал пажа Гюи де Кюсси и не раздумывал ни секунды, что делать дальше. Для него было очевидно, что юноша подозревает его в чем-то, хотя он и не догадывался, что именно послужило поводом для подозрений. Как бы то ни было, присутствие здесь Эрмольда де Марей было весьма некстати. Капитан наемников распустил слух, что удар, нанесенный ему де Кюсси, удерживает его в постели, и рыцарь этому верил. Но теперь эта ложь грозила выйти наружу: ведь если паж, вернувшись к своему господину, расскажет о встрече с Жоделлем, его отсутствие не останется незамеченным. Возникнут справедливые подозрения, и все предприятие, так хитро задуманное, рухнет в одну минуту. Одним словом, Жоделль точно также был заинтересован в смерти пажа, как и его юный противник, готовивший ему равную участь. Таковы были намерения с той и другой стороны перед началом сражения.
На первый взгляд, такой поединок между восемнадцатилетним юнцом и зрелым мужчиной тридцати пяти лет казался очень неравным, и все преимущества должны бы быть на стороне последнего. Но это предположение, если и справедливо, то только в отношении возраста. Будучи пажом столь знаменитого рыцаря, как де Кюсси, Эрмольд де Марей знал толк в сражениях. С младенчества он мог уже объяснить любому, в чем преимущество того или иного вида оружия, а со временем научился владеть им с той легкостью, какую дают лишь годы и годы практики. И если Жоделль имел преимущество в физической силе, то Эрмольд вознаграждал ее недостаток чрезвычайным проворством. Но на Жоделле была гибкая кольчуга, которая, прикрывая тело, не препятствовала ни одному из движений, а его голову защищал железный шлем, в то время как бедный паж был одет только в зеленую тунику да бархатную шапочку, украшенную ярким пером.
Звон оружия привлек многих поселян к месту сражения, но подобные сцены не были редкостью в ту эпоху, и вмешиваться в них было не только не принято, но и опасно для всякого, кто решился бы на этот поступок. И все-таки нашлось несколько женщин, осмелившихся крикнуть, что это бесчестно и не годится зрелому мужчине, вооруженному с головы до пят, сражаться с беззащитным молодым человеком, почти мальчиком.
Однако это неудобство не устрашило Эрмольда, и он продолжал ловко отражать удары и возвращать их с лихвою, хотя и без особого успеха. Отчаявшись, он решился на риск и бросился к своему противнику с намерением перерезать ему шею кинжалом и кончить сражение.
Но этот бой был прерван совершенно неожиданным обстоятельством: отряд кавалерии въехал в деревню быстрым галопом, и его начальник заинтересовался происходящим у входа в харчевню.
– Ах, хорошо, господа! – вскричал он на ломанном французском, потирая руки от удовольствия. – И что это – поединок? А кто здесь за Францию, кто за Англию? – Он пригляделся к сражающимся. – Но что я вижу! Силач против дитяти, стальная кольчуга против суконной туники! Фи!.. Так не пойдет, друзья, сражение должно быть равным! Разними их, Робин, и приведи ко мне: я рассужу их спор.
При этих словах английский рыцарь – а он принадлежал именно к этой нации – спешился и вошел в трактир, из которого всего несколькими минутами раньше вышел Жоделль. Он тяжело опустился на скамью и приступил к допросу, поочередно глядя на каждого из противников, которые по его приказанию были приведены к нему.
– Ты, человек в кольчуге, – обратился он к капитану наемников с той неприязнью, которую люди порой испытывают инстинктивно к тем, кто зол и непорядочен, – отчего ты, будучи вооружен до зубов, обнажил меч против мальчика почти безоружного?
– Хотя я и не признаю за вами права допрашивать меня, – ухмыльнулся Жоделль, – но все же отвечу – лишь для того, чтобы сократить разговор. Я поднял меч на него потому, что он враг моего повелителя, короля английского.
– Но ты ни тот ни другой: не англичанин и не нормандец. Я почти пятьдесят лет, можно сказать, с самого младенчества, ношу оружие в этой стране и знаю все наречия, на которых говорят от Руана до Пиренеев, и смею утверждать, что ты француз. Да-да, держу пари, что ты француз и провансалец или твой выговор меня обманул?
– Я могу быть кем угодно и служить королю английскому.
– В таком случае, да пошлет ему Бог лучших слуг, нежели ты! – Он обернулся к юноше: – А что скажешь нам ты, милое дитя? Не беспокойся, я не собираюсь вредить тебе.
– Но вы уже нанесли мне вред, помешав расправиться с этим злодеем и вернуться к моему господину, чтобы известить его об измене.
– Но кто твой господин: англичанин он, или француз? И как его имя?
– Разумеется, француз. Это самый отважный воин на свете, а зовут его Гюи де Кюсси.
– О, он действительно храбрый рыцарь, и я бы даже сказал – знаменитый рыцарь! Мне доводилось слышать, как герольды восхваляли его подвиги. Это ведь он был и крестовом походе? Говорят, что он молод и мужественен, и, скажу откровенно, я счел бы за честь преломить с ним копье.
– Это зависит от вас, господин. Он будет сражаться с вами хоть пеший, хоть конный, когда и где вам будет угодно, и тем оружием, какое вы изберете. Поручите лишь мне передать ваш вызов, и он не замедлит явиться.
– Это достойный ответ! Именно такой паж и должен служить столь благородному господину, – отвечал старый воин. – И, говоря по совести, я последую твоему совету.
С этими словами он снял со своей руки одну из перчаток и протянул было ее Эрмольду, но вмешательство Жоделля остановило его.
– Знаете ли вы, сир, подпись короля Иоанна?
– Что за вопрос! Конечно знаю, и очень хорошо – намного лучше, чем свою собственную. Должен признаться, давненько я не видел своих каракулей, лет этак сорок, и дай Бог никогда их и не увидеть. Боюсь, я не слишком-то грамотен, именно поэтому мое завещание, составленное два с половиной года назад клерком святой Анны, запечатано вместе с эфесной шишкой моего меча, на том основании, что первую половину букв своего имени я напрочь забыл, а вторую прочесть невозможно. Но что касается подписи короля – я узнаю ее среди десяти тысяч других.
– В таком случае, вы не можете не узнать ее здесь, – произнес Жоделль, протягивая старому воину лоскуток пергамента. – И в силу этой подписи я требую отпустить меня на свободу, а этого сосунка взять под стражу как врага короля. И вот еще что я хотел бы вам сообщить… – сказал он, приближаясь к рыцарю.
Старый воин какое-то время внимательно слушал, что шептал ему на ухо капитан наемников, но вдруг, отшатнувшись от него, вскричал с величайшим презрением:
– Скорее откройте все двери, приказываю вам, или я задохнусь! Клянусь Богом, мне невмоготу находиться в такой маленькой комнате вместе с этим мерзавцем! Выпустите его! И не марайте об него руки! Клянусь небом, я предпочел бы остаться в одном бараке с прокаженным, нежели с этим исчадием ада!
Английские солдаты, с трудом понимая, чего от них требует командир, все же расступились и пропустили Жоделля, который в ту же минуту сел на коня и поскакал прочь быстрым галопом.
– Фу! – облегченно вздохнул старый рыцарь. – К черту!
С нескрываемой симпатией он посмотрел на молодого человека и сказал:
– Боюсь, мне придется тебя задержать, милый мальчик. Я искренне сожалею об этом, но таков мой долг. Меня разжалуют, если я тебя отпущу. Но если честно, я не хотел бы задерживать такого отважного юношу и дать свободу низкому предателю. Досадно, что я вынужден был отпустить его, а тебя взять в плен… Но вот что я скажу тебе: если ты умудришься улизнуть отсюда, то я и представить себе не могу, где нам тебя искать…
Он подмигнул лукаво и, повысив голос, крикнул одному из своих солдат:
– Робин, отведи-ка его в соседнюю хинину и поставь к дверям пару надежных товарищей – пусть следят, чтобы он не сбежал. Я же тем временем отправлюсь в ближайшую деревню, чтобы подготовить жилье для лорда Пемброка и его свиты. И вот что еще, – добавил он еле слышно, окно хижины оставь открытым и дай его лошади двойную порцию сена… да привяжи ее к дереву точь-в-точь под окном. Вот тебе золотой – выпей с товарищами за здоровье короля Иоанна. Хорошо ли ты понял меня?
– Куда уж лучше! – осклабился тот. – Смею уверить, что постараюсь выполнить ваш приказ.
– Это честный и храбрый юноша! – продолжал старый рыцарь, словно бы в оправдание. – А другой – подлый изменник, которого все равно рано или поздно повесят… разве что ни одного дерева не останется во Франции!
Сказав это, он хлопнул дверью и отправился со своим отрядом в соседнюю деревушку, оставив Эрмольда с Робином и двумя его помощниками.
Робин отвел пажа в другую комнату и, весьма прозрачно намекнув пленнику, что тот может дышать свежим воздухом сколько душе угодно, широко распахнул окно.
Бедный паж, ослабленный сражением, усталостью и бессонницей, не слишком прислушивался к тому о чем говорили между собой старый рыцарь и трое охранников, а потому уловил только то, что было приказано во весь голос – охранять его и не дать улизнуть. Ему и в голову не могло прийти, что побег так легко осуществить. Он хотел было выглянуть в окно, чтобы определить местоположение своей мнимой темницы, но смех солдат, которые как раз привязывали под окном лошадь, лишил его всякой надежды. Он сел на постель; глаза против его воли стали слипаться, и он погрузился в глубокий сон.
Он спал очень крепко не менее трех часов, до тех пор, пока старый рыцарь не возвратился из соседней деревни. Тот спешился у дверей трактира, где пировали Робин со своими приятелями, держа каждый перед собой по большой кружке хмельного напитка.
– Эй, Робин, – окликнул рыцарь, входя в харчевню, – как там наш пленник? Надеюсь, он сбежал? – И он подмигнул левым глазом.
– Я тоже надеюсь, сир рыцарь! – отвечал ему в тон Робин. – Нет, это невозможно: я накрепко запер дверь, как вы и приказывали, и только потом отправился в этот трактир. По правде говоря мы не покидали этой комнаты до вашего приезда…
Старый воин все же решил проверить, как обстоят дела. Он прошел к хижине, в которой был заключен паж, и, отворив дверь, был несказанно удивлен, увидев юношу, который, еще не совсем проснувшись, протирал глаза.
– Вот дуралей! – проворчал сквозь зубы старик. – Ну, совершенный тупица!
Прикрыв за собой дверь, он подошел к Эрмольду и сказал:
– Мне приятно, доброе дитя, что ты не искал случая уйти. Ты прилежный юноша и не имеешь недостатка в терпении. Но если ты сумеешь обмануть нашу бдительность и скрыться из-под охраны, то не забудь засвидетельствовать мое почтение своему господину и сказать ему, что сир Артур Букингем горит желанием преломить с ним копье. Надеюсь, что ты сам отыщешь нужные слова, чтобы передать все, мною сказанное, с должной учтивостью. – Он посмотрел юноше прямо в глаза и, в который уж раз, повторил: – Боюсь, если ты все же сбежишь отсюда, нам вряд ли удастся тебя поймать – ищи ветра в поле!
Паж широко раскрытыми глазами уставился на него, словно бы с трудом понимая, что тот ему втолковывает.
– Тьфу! Если он и этого не понимает, значит, уж точно дурак! – буркнул рыцарь себе под нос.
И все-таки, чтобы не оставить молодому пажу никаких сомнений, он подошел к окну и, облокотившись на подоконник, постоял так несколько минут.
– Не ваша ли это лошадь? – спросил он, подозвав Эрмольда к себе. Какое прекрасное животное! И, должно быть, быстра, как ветер… Будьте спокойны, уж я постарался, чтобы она получила сегодня свою порцию. Ну, будьте здоровы, паж!
Тут он вышел из комнаты и запер дверь ключом. Эрмольд стоял в растерянности, но это продолжалось не больше минуты. Он выпрыгнул из окна, которое от земли было не выше двух метров, огляделся по сторонам и, никого не заметив, тотчас вскочил в седло и поскакал во всю прыть.
Он ехал почти без отдыха, остановившись всего лишь раз, чтобы дать остыть лошади, которая до того устала, что просто падала с ног. Ближе к вечеру, едва только солнце стало садиться, он вынужден был свернуть с пути, поскольку заметил невдалеке отряд кавалерии. Яркие лучи заходящего солнца слепили глаза, не позволяя ему разглядеть, чьи это знамена полощутся в воздухе – англичан или французов.
Ему пришлось изменить направление, но ехал он очень уверенно, поскольку дорога лежала на юг, а еще в Палестине он научился определять путь по звездам. Ночь была тихая, лунная, и в звездах не было недостатка. Наконец, одолев все препятствия, он приблизился к Мирабо. Только-только начинало светать, а колокола ближней церкви уже вовсю звонили, сзывая верующих на утреннюю молитву. Знамена и флюгера играли с утренним ветром. Эрмольд подъехал ближе и с минуту смотрел на эту картину, но вдруг, побледнев как смерть, резко свернул направо и бросился прочь так скоро, как только могла скакать его утомленная лошадь.
Все было кончено – Жоделль опередил Эрмольда. Английское знамя с вышитым на нем львом развевалось на главной башне крепости. Это могло означать только одно: Артур попал-таки в руки своего дяди, Иоанна Безземельного, а Гюи де Кюсси стал пленником Вильгельма Саллисбюри.
ГЛАВА IV
После свидания с Агнессой граф Овернский пребывал в сильном душевном волнении. Грустные мысли роились в его мозгу, не оставляя ни на минуту в покое и ослабляя и без того уже пошатнувшийся разум. Столько дней и ночей, не замечая ничего вокруг себя, он жил только этой встречей, призывая на помощь всю силу, всю энергию своей души, чтобы с честью выдержать это испытание. И что же? Да, он встретился с той, что являлась ему во сне, с единственной, кому отдал он свое сердце, но это свидание лишь добавило горечи. И мог ли быть он счастлив, видя ее супругой другого, понимая, что причиняет ей боль, предлагая оставить Филиппа, которого она так беззаветно любит! Он вновь и вновь возвращался мыслями к этой сцене: вот она перед ним, невольная виновница его страданий, прекрасная и недоступная; он видит ее, чувствует ее дыхание, слышит ее голос. Тибольд поежился, как от холода, вспомнив, с каким презрением она отчитывала его. А этот ледяной тон! Скольких усилий стоило ему это хладнокровие, это внешнее спокойствие, в то время как сердце его разрывалось на части!
Он был так измучен этими воспоминаниями, терзавшими его душу, что совершенно забыл о письме, которое доставил паж Гюи де Кюсси, и оно лежало на столе, невскрытое и никому не нужное. Прошло какое-то время, прежде чем Тибольд снова заметил его и, взяв в руки конверт, вскрыл и прочел письмо. Вряд ли он мог осознать то, что в нем сообщалось, и обдумать, какие меры нужно принять. Разум отказывался служить ему, и из всего прочитанного Оверн понял только одно: его ожидает какое-то новое несчастье. Не отдавая себе отчета он подозвал пажа и приказал подать лошадь.
– Что прикажете делать нам, сир? – спросил оруженосец. – Следовать за вами?
– Что?.. Ах да, конечно, – рассеянно отвечал Тибольд, – следуйте за мной…
И, оседлав лошадь, он бросился вперед, даже не заметив, что по-прежнему сжимает в руке письмо, переданное ему пажом Гюи де Кюсси.
Жара стояла невыносимая. Лучи полдневного солнца, отвесно падая вниз, пекли голову и туманили взор, что, конечно же, только ухудшало и без того тяжелое состояние Тибольда. Именно в этот день паж Гюи де Кюсси присоединился к его свите и, заметив, что граф держит в руке письмо его господина, робко приблизился и сказал:
– Есть ли какая-нибудь надежда, граф Оверн, что вы сумеете помочь сиру Гюи?
– Сир Гюи? – удивился граф. Пришпорив коня, он посмотрел на Эрмольда взволнованно и с беспокойством, словно ему стоило большого труда собрать свои мысли воедино и понять суть того, о чем ему говорили. – Сир Гюи… О ком вы говорите? Кто этот сир Гюи?
– Неужели вы не узнаете меня, граф Тибольд? – удивился юноша. – Я Эрмольд де Марей, паж сира Гюи де Кюсси, который, как вы можете догадаться, теперь в плену у англичан.
– Он пленник? – содрогнулся граф и, пристально посмотрев на Эрмольда, он добавил через минуту: – Ах, да… это правда. Я, кажется, что-то слышал об этом. Пленник… Что ж, я освобожу его.
– Нет, сир, не забывайте, что он в руках пятнадцатитысячной английской армии, и даже всего могущества Франции недостаточно для того, чтобы вызволить его из плена. Один только выкуп может вернуть ему свободу.
– Так заплати. Я дам тебе денег… Сколько просит султан?
– Султан, сир Оверн? Какой еще султан! Он пленник английского короля, и мы во Франции, а не в Палестине.
– Как это – не в Палестине! Ты просто болван! Разве я не чувствую на своем челе палящего солнца Сирии?.. Но к делу. Мы, кажется, говорили о выкупе… Так сколько просит султан? Де Кюсси… Мой храбрый товарищ… Думал ли кто, что ты станешь пленником неверных!..
Он снова взглянул на Эрмольда и сказал с досадой:
– Что ты стоишь, как истукан! Отвечай же, какую плату требует этот презренный султан?
Эрмольд лишь удивленно взирал на графа. Поняв наконец, что переубедить его будет напрасной тратой времени, он махнул на это рукой и кратко ответил:
– Не знаю точно, но думаю, что не меньше десяти тысяч крон.
– Подумаешь – десять тысяч! – воскликнул Тибольд, ум которого все больше и больше слабел от напряжения и бесполезных попыток вникнуть в суть разговора. – Я дам тебе вдвое больше! И на остаток ты сможешь купить себе стадо овец… Удались же в пустыню, где нет ни мужчин, ни женщин, и останься там, пока годы не убелят твои волосы, пока смерть не унесет тебя. Следуй за мной в Иерусалим, и я дам тебе золота, сколько нужно. Что же касается меня, то я дал обет принести покаяние в пустыне, в горах Ливана. Следуй за мной, говорю тебе, и у тебя будет золото.
Несмотря на путаницу в мыслях, граф Тибольд уверенно направлял свою лошадь по дороге в Париж. Он не заблудился в улицах и бесчисленных переулках этого города и благополучно добрался до монастыря святой Берты. Спешившись у ворот, он пригласил Эрмольда следовать за собой и быстро прошел в комнаты, которые занимал.
С минуту он постоял у двери в помещение, где хранились деньги, предназначенные на издержки по возвращении из Палестины, затем решительно распахнул дверь и, взяв у своего казначея ключ, открыл большой железный сундук, полный золотых и серебряных монет.
– Возьми их, – сказал он, обращаясь к пажу. – Бери, сколько тебе нужно. И скажи своему господину, что я рад бы прийти ему на помощь, – добавил он прерывающимся голосом, так, словно каждая фраза стоила ему невероятных усилий, – да, я хотел бы помочь ему лично… и сделал бы это, если бы только мог освободить сам себя. Но… но Оверн уже не тот, что был прежде … Мое сердце не очерствело, но моя голова… моя голова… Нынешним утром жгучее солнце пустыни… И Агнесса… да, Агнесса… ее холодность… Ну, бери же! Чего ты ждешь? Ступай к своему господину! Бери побыстрее золото да отправляйся…
Эрмольд не стал дожидаться иных указаний и, склонившись над сундуком, постарался ухватить как можно больше кошельков, полных звонкой монеты, и стал набивать ими карманы. Когда карманы раздулись от денег, он выпрямился и вопросительно поглядел на графа, словно бы спрашивая позволения уйти.
– Ты все еще здесь? – гневно вскричал граф, топнув ногой.
Эрмольд, будто он только и ждал этих слов, тотчас сбежал с лестницы и, оседлав лошадь, отправился на восток. Но едва он выехал из Парижа, как переменил направление, и поехал по дороге, ведущей на запад.
– Судя по ярлыкам на кошельках, у меня теперь не меньше двенадцати тысяч крон золотом, – рассуждал он сам с собой. – Дороги же кишмя кишат разбойниками, бродягами и прочим воровским отребьем. Мой конь устал, и, если на меня нападут, я вряд ли сумею спастись. Скоро уж ночь, а я даже не знаю, где мне придется заночевать. Что же делать? Если я буду возить это золото с собой, пока не отыщу своего господина, то подвергнусь большой опасности. Нет, я не могу рисковать. Поеду-ка лучше к Венсенскому отшельнику и вверю ему золото; пусть сохранит его до тех пор, пока я наверняка не узнаю, сколько требуется заплатить за моего господина и у кого он пленником.
Утвердившись в своем намерении, он без особого труда отыскал хижину пустынника Бернарда.
Старец ласково принял пажа и выслушал его рассказ, не перебивая. Эрмольд в точности изложил ему все, что случилось с тех пор, как он оставил своего господина, не утаив от него ни малейших деталей. С особенным жаром описал он свою встречу с Жоделлем и то, какие усилия предпринял, чтобы предупредить измену. Он с такой живостью изобразил отчаянье, овладевшее им, когда, приблизившись к высотам Мирабо, он увидел город и крепость во власти англичан, и был так простодушно искренен, что старец уже не осуждал его за медлительность, а посматривал на него с явной симпатией.
– И вы не встретили никого, кто избежал бы плена? – спросил отшельник участливо.
– Никого, кроме шута. Только ему посчастливилось спастись. Но стрела и его настигла, и он был так занят своей раной, что я не смог добиться от него ни одного путного слова. Когда же я стал упорствовать, Галон-простак завопил, как ненормальный, и, вскочив на коня, бросился прочь, да так быстро, что моя утомленная лошадь никак не могла догнать его. Тогда я отправился в Тур и за одну крону упросил клерка написать пару строк графу Овернскому, чтобы уведомить его, в каком положении находится мой господин. Я нисколько не сомневался, что благородный граф тотчас поспешит на помощь своему брату по оружию и, если понадобится, не поскупится и заплатит требуемый выкуп. Клянусь небом, он непременно сделал бы это, но… – юноша помедлил, подбирая слова, чтобы выразить как-нибудь помягче то, что он собирался сказать. – Но я нашел графа не совсем в том состоянии, в каком оставил, – выпалил он наконец.
– Я ничего не понял! Что ты хочешь этим сказать, юноша? Неужели достойный граф отказался помочь? Говори яснее!
– Увы, святой отец, разум больше не подчиняется ему. Я слышал от его оруженосцев, что это случилось с ним по возвращении из Касиньоля. Еще накануне вечером он был трезв и спокоен, как никогда, но, видимо, в замке короля произошло нечто такое, что окончательно выбило его из колеи, и он снова стал задумчив и мрачен, как это уже было с ним два или три года назад. Вернувшись домой, он не находил себе места от беспокойства, а наутро окончательно тронулся умом.
Пустынник молчал. Скрестив руки на груди и наморщив лоб, он стоял, погруженный в глубокие раздумья, и прошло минут, наверное, десять прежде, чем он ответил:
– Какое печальное стечение обстоятельств! Поистине, злой рок преследует храброго Кюсси. Подумать только!.. Он пленник, а его брат по оружию не в состоянии протянуть ему руку помощи… Но не отчаивайся, милый юноша, мы не оставим в беде твоего господина, и, если дело только в деньгах, мы отыщем нужные средства, чтобы заплатить выкуп. С божьей помощью мы найдем их…
– Они уже найдены, святой отец. Хотя благородный граф и потерял рассудок, но не забыл о дружбе с сиром Гюи: чувствуя себя не в состоянии доставить вынул лично, он дал мне, чем заплатить. У меня в карманах двенадцать тысяч крон золотом, и, опасаясь путешествовать с такой суммой, я попросил бы вас, святой отец, приберечь деньги до пори до времени. Я же отправлюсь в путь, чтобы переговорить с графом Саллисбюри. Он хоть и на стороне англичан, но был когда-то дружен с моим господином, и я надеюсь, что он подскажет мне, в чьих руках теперь сир Гюи де Кюсси. Завтра же утром, с восходом солнца, я брошусь на поиски своего хозяина и, клянусь, найду средство освободить его. Но знайте, если по истечении двух месяцев я не вернусь сюда, то это будет обозначать только одно: смерть от руки какого-нибудь бродяги все же настигла меня. Тогда, святой отец, явитесь к королю Филиппу и попросите его отдать выкуп за сира Гюи.
– Постой, добрый юноша, не горячись! Мне понятны твои намерения, но вряд ли такая спешка послужит на пользу дела, – сказал пустынник. – И вот тебе мой совет: отправляйся-ка лучше в Париж и отыщи там сира Франциска де Русси Монжу, начальника стражи; расскажи ему обо всем и попроси себе в помощь телохранителя. От этого будет двойная выгода: ты сможешь рассчитывать на успех своего предприятия, да и охранник, я думаю, не останется без награды.
Паж внял мудрому совету и, оставив себе на дорогу несколько золотых монет, остальные деньги отдал пустыннику. Он поблагодарил старца и, приняв благословение, отправился в путь.
ГЛАВА V
В прежние времена на берегах Сены возвышалась огромная крепкая башня, составлявшая с наводной стороны одно из внешних укреплений города Руана. Давно уж она разрушена, но и беглого взгляда на эти руины достаточно, чтобы понять, что это было за место – место пыток и преступлений.
Недолгим было правление юного принца, всего-то несколько дней. Вскоре город вновь заняли англичане, и Артур Плантагенет вместе с Гюи де Кюсси были схвачены и заточены в башню, о которой мы и упомянули выше. Вот уже четыре месяца, как они находились здесь.
Мрачная обстановка отведенной им комнаты не располагала к веселью. Это была темная каморка площадью не больше десяти квадратных метров и высотой метра и два с половиной, сводчатый потолок которой поддерживался несколькими мощными колоннами. Тут не было ни одного окна, за исключением крошечного отверстия под потолком, пропускавшего слишком мало света, чтобы рассеять мрак и позволявшего лишь с трудом различать предметы.
У самой стены лежала связка свежей соломы, служившая де Кюсси постелью, а прямо напротив было устроено ложе для принца Артура. Это была настоящая постель, покрытая двумя коврами. Тут же стояли два стула – роскошь невиданная тогда в темницах – и небольшой деревянный столик на каменных немках.
За столом, подперев голову руками, сидел принц Артур. Было это в один из прекрасных февральских дней, и блестящий луч света, пробившись сквозь узкое оконце, освещал роскошную одежду и прекрасные белокурые волосы юноши, в беспорядке строившиеся по его щекам.
Чуть в стороне от него устроился де Кюсси. Он с явным сочувствием поглядывал на своего товарища по темнице, участь которого казалась ему тяжелее его собственной. В первые дни плена хитрый Иоанн вел себя с узниками вполне дружелюбно и даже ласково, но поступал он так отнюдь не по доброте душевной, а лишь потому, что Вильгельм Саллисбюри, лорд Пемброк да и другие влиятельные сеньоры, находившиеся при дворе, не потерпели бы грубости к пленнику королевской крови. Но очень скоро английский король нашел случай под разными предлогами удалить их от себя, и с того дня жизнь пленников круто изменилась.
Долгое пребывание в руанской крепости подорвало здоровье Артура, и неблагоприятно отразилось на его настроении. Его надеждам не суждено было сбыться, и он все чаще впадал в уныние. Холодный мрак, царивший в темнице, питая мысли безрадостные и угрюмые, только усугублял это тягостное состояние. На все попытки Гюи де Кюсси хоть как-то расшевелить его, Артур лишь отмалчивался, печально опустив голову и вспоминая о днях более счастливых. Целые дни принц проводил, предаваясь горестным размышлениям, и слезы стали для него единственным утешением.
Но иногда, по вечерам, де Кюсси удавалось разговорить принца; и когда в наступающих сумерках им приносили лампы, своим желтовато-красным светом рассеивавшую окружающий их мрак и создававшую какую-то теплоту и своеобразный уют, Артур отрешался на время от своих грустных размышлений и слушал де Кюсси. В такие минуты сир Гюи, не прерываясь, рассказывал о своих приключениях в Святой земле: о сражениях, в которых участвовал, об опасностях, подстерегавших христианских рыцарей, о их мужестве и благородстве. В рассказах присутствовали та живописность и романтизм, которые и придают величие войнам этого века и самому рыцарству.
Тогда щеки Артура покрывались румянцем; он с жадностью внимал этим, порой надолго затягивавшимся рассказам, и, сопереживая вместе с Гюи, говорил, что желал бы вместо войны за родительское наследство, за трон, посвятить свою жизнь служению Кресту и избавлению гроба Господня и Святой земли от неверных.
В ту минуту, о которой мы говорим, рыцарь хотел было начать очередной рассказ, но звуки чьего-то голоса за маленькой дверью, которая вела в коридор, удержали его. Де Кюсси стал прислушиваться.
– Ты дерзок, да еще и продолжаешь дерзить! – говорил кто-то, подошедший почти к самой двери, громким раздраженным голосом. – Не напоминай мне о других пленниках! Именно тебе было приказано посадить его одного в темнице. Что мешало тебе поместить Гюи де Кюсси вместе с пятьюдесятью другими пленниками?.. Убирайся! Пошел! Ты больше не тюремщик этой темницы. Не возражай, и отдай мне ключи от камер. Эй, Гумберт, останься здесь со стражей. И не вздумай подслушивать; но и далеко не отходи, на случай если я позову тебя. Понял ли ты, бестолочь? Если я заговорю громким голосом, ты сейчас же войдешь в эту комнату.. Но только в этом случае, запомни!
Загремел, поворачиваясь, ключ в замке, загромыхали отодвигаемые запоры, дверь отворилась, и вошел Иоанн, король Английский. Он на минуту приостановился и проеме двери, внимательно оглядел темницу, а затем таким же внимательным и холодным взглядом посмотрел на Артура, который встал, ожидая, пока затворится дверь. Легкая улыбка скользнула по губам короля, когда он заметил болезненное состояние, до которого плен и отчаяние довели юношу, буквально за несколько месяцев до этого отличавшегося силой и здоровьем.
Но эта улыбка тотчас исчезла с лица человека привыкшего скрывать все что творилось в душе. Затем он с минуту смотрел на Гюи де Кюсси, как бы прикидывая на глаз расстояние, отделявшее его от рыцаря. Но тот остался сидеть на своем соломенном ложе и даже не шелохнулся.
Наконец Иоанн снова обратил свой взор на Артура.
– Что я вижу, любезный племянничек! – воскликнул он с едкой иронией. – Неужто вы все же решились откликнуться на мои просьбы и почтить сей скромный двор своим благородным присутствием! Надеюсь, вы оценили радушие, с которым вас приняли здесь, и не питаете больше на этот счет никаких иллюзий. От себя же добавлю: уж я-то не выпущу вас из своих крепких объятий. Можете пользоваться моим гостеприимством всю оставшуюся жизнь, дорогой родственник. Да-да, дорогой, ибо ваше присутствие здесь влетело-таки мне в копеечку. А кстати, как вам понравились эти хоромы? – обвел он взглядом темницу.
Артур ничего не ответил, а лишь бессильно опустился на стул и, казалось, зарыдал.
– Каков негодяй! – возмутился Кюсси. – Ты еще более жесток, чем о тебе говорят. Твои поступки достаточно красноречивы – неужели так уж необходимо добавлять к ним еще и пытку словами? Заклинаю тебя, злой человек, оставь это место бедствий. Пожалей своего племянника, дай ему хоть минуту покоя, если только это возможно в темнице.
– Кто это тут такой жалостливый? – продолжал Иоанн все с той же издевкой. – Не тот ли отважный рыцарь, который провозгласил в Мирабо Артура Плантагенета королем Англии? О, да! И как только мог я не узнать сразу этого храброго рубаку, этого непобедимого воина! Ну что, де Кюсси, доволен ли ты теперь участью своего юного друга? Не правда ли, у него прекрасное королевство! – обвел он руками комнату. – И такое обширное! Должно быть, он тебе очень благодарен! И есть за что, ибо только благодаря твоим пагубным советам, как и советам тебе подобных, Артур Плантагенет оказался в столь бедственном положении. – Иоанн хмурился все больше и вот-вот готов был сорваться на крик. – Да, именно вам обязан он своим пленом. Вы напитали его душу ядом и вдохнули в этот еще не окрепший ум бредовые идеи и нелепые притязания. Изо дня в день вы внушали ему, что он законный наследник, восстановив тем самым против ближайшего из родственников – и вот результат: он в плену и ввергнут в темницу.
Не и силах более сдерживаться, он выдохнул последнюю фразу почти на крике. И тотчас дверь комнаты отворилась, и на пороге возник один из стражников, а за ним и другие. Но Иоанн сделал им знак удалиться и продолжал, обращаясь на этот раз к Артуру:
– А вам я вот что скажу, любезный племянник: я мог бы дать вам свободу и возвратить в тот прекрасный мир, который отвас теперь так далек, но при одном условии… Решайтесь! Дорога открыта, и все зависит только от вас.
Артур поднял голову.
– И какова цена?
– О, сущий пустяк! Откажитесь от своих притязаний на земли, которыми вам все равно не владеть, оставьте бесплодные надежды – и вы свободны хоть завтра. Я подарю вам герцогство Бристольское – удел, достойный Плантагенета, и обниму с любовью как сына моего брата. Чего же желать вам более? Сам король английский предлагает вам свою дружбу и покровительство.
– Дружбу? Ну нет, увольте! – Артур аж привстал от возмущения, в минуту припомнив о всех низостях своего вероломного дядюшки. – Хоть и бытует мнение, что худой мир лучше доброй ссоры, я не согласен с этим и предпочту вражду подобному покровительству. Не сомневаюсь, что неприязнь ваша будет похлеще, чем даже гнев французского короля, который известен своим необузданным нравом, и все-таки отвергаю вашу опеку. Да, даже вражда Филиппа была бы не так страшна для меня, – повторил он задумчиво, – поскольку в нем не угас еще дух истинного рыцарства.
– Вот глупец! Вот упрямец! – вскричал Иоанн, и глаза его заблестели от гнева. – Да разве не знаешь ты, что короли Франции – наши исконные враги!
– Филипп мне не враг, он – мой крестный по оружию, – возразил Артур, придвигаясь к Кюсси и как бы ища у него защиты, – и я скорее доверюсь ему, нежели человеку, который так трогательно напомнил мне сегодня о том, что мы родственники. И с чего это вдруг вы вспомнили о родстве, которому никогда не придавали особого значения? А не вы ли, любезный дядюшка, опорочили славное имя вашего старшего брата, Ричарда Львиное Сердце, и отобрали законные владения у Готфрида, также вашего брата и моего отца? А кто клялся перед баронами, что не станет держать меня взаперти и отнесется ко мне с должной почтительностью? Даже в такой малости вы не сдержали слова! Все ваши посулы – сплошная ложь! Нет, я не верю вам, Иоанн Анжуйский! Тот, кто солгал хоть раз, не вправе называть себя рыцарем и государем, и настоящее имя тебе клятвопреступник и подлый вор!
Ярость захлестнула Иоанна. Стиснув зубы, он стал лихорадочно шарить руками в складках пурпурной мантии, выискивая хоть какое-нибудь оружие. В ту же минуту де Кюсси резко шагнул вперед и, загородив собой принца, принял оборонительную позу. Его лицо пылало решимостью, и он не раздумывая, бросился бы на тирана, если бы тот дерзнул напасть на юношу.
Но Иоанн был слишком труслив, чтобы вступить в единоборство со столь храбрым рыцарем. Имея скверную привычку наносить удары из-за угла, он, даже вооруженный до зубов, никогда бы не согласился на честный поединок с де Кюсси, пусть даже и безоружным. Притворившись, что был занят всего лишь поисками платка, он незаметно опустил кинжал в ножны и небрежно смахнул со лба несколько капель пота.
– Клянусь святым Павлом, ты вынудил меня потерять рассудок, Артур, – сказал он заметно спокойнее. – И если бы ты не был сыном моего брата, то я не поскупился бы на добрый удар кинжалом. Ты не прислушался к моему совету, что ж, пеняй на себя. Мне не впервой усмирять непокорных! Кроме этой, есть и другие темницы, куда более глубокие, а еще существуют цепи, крепкие и, пожалуй, слишком тяжелые для такого изнеженного тела, как у тебя.
– Ни темницы, ни цепи, ни даже сама смерть не устрашат меня, – отвечал юный принц решительно, – и не заставят отказаться от того, что принадлежит мне по праву. Англия, Анжу, Пуату, Нормандия – все это владения моего отца, а Бретань – наследственное герцогство моей матери. И пусть обвинят меня в повторении, но я не устану твердить, что не уступлю никому своих прав на наследство, а если умру, то и из могилы буду взывать к возмездию. Я верю в высшую справедливость и знаю – наступит час, и тебя назовут твоим настоящим именем, а имя тебе – самозванец!
– Да полно! – сказал Иоанн, ухмыляясь. – Жужжишь, да не жалишь. Но коль ты так рвешься в могилу, пусть будет по-твоему.
Он повернулся и хотел было выйти, но де Кюсси преградил дорогу.
– Минуточку, государь, не надо так торопиться. Я тоже хотел бы сказать вам пару слов от своего имени. Помнится, когда я отдал свой меч Вильгельму Саллисбюри, вашему благородному барону, то взамен получил обещание, что обращаться со мной будут со всей почтительностью, как, собственно, и положено относиться к любому из рыцарей. Он также заверил меня, что возьмет и с вас подобное обещание. Не знаю, кто из вас не сдержал данного слова, но, клянусь, докопаюсь до истины и, узнав имя лжеца, опозорю его на всю Европу.
Иоанн выслушал все до конца, но ничего не ответил, а лишь пожал плечами и, с нескрываемым презрением взглянув на Кюсси, молча вышел из комнаты. Дверь затворилась за ним, запоры были задвинуты. Артур и Кюсси снова остались вдвоем, отделенные от всего остального мира.
В однообразном молчании проходили часы вплоть до той минуты, когда по обыкновению приносили узникам лампу. Артур нетерпеливо задвигался и, подняв голову, выжидательно посмотрел на дверь.
– Энгеранд что-то запаздывает сегодня, – сказал он. – Ах, да, – спохватился он тотчас, – как же я мог забыть, что мой дядя говорил об его отставке… Боюсь, новый тюремщик лишит нас последнего удовольствия… Но нет, прислушайтесь! Чьи-то шаги… приближаются… Без сомнения, это зажигают свет в галерее.
Принц не ошибся: шаги послышались на лестнице. Тот, кто шел, остановился на долю минуты, затем решительно приблизился к двери и отодвинул засов. Артур и Кюсси увидели перед собой незнакомца. Его лицо лишь с большой натяжкой можно было бы назвать симпатичным, но, во всяком случае, в нем не было ничего отвратительного. Голос его дрожал, когда он обратился к принцу: – Прошу следовать за мной, господин, – сказал он тихо и не совсем уверенно. – Мне поручено проводить вас в лучшее помещение. Сир Гюи останется здесь, пока для него не подготовят другую комнату.
Страх охватил Артура.
– Я не оставлю его! – воскликнул он, бросившись к рыцарю и схватив его за руку. – Эта комната меня вполне устраивает, и я не желаю другой!
– Твои руки дрожат, – сказал де Кюсси тюремщику, – дай мне лампу.
Он подошел вплотную и, взяв у него лампу, поднес ее к лицу охранника.
– Твои губы трясутся, а щеки белее савана. Отчего?
– Это следствие лихорадки, подхваченной на болотах Клерских, – отвечал тюремщик. – Но причем здесь моя болезнь, и почему вы спросили меня об этом?
– Причина проста, глупец: мы опасаемся измены. А твой неуверенный тон не внушает доверия. С какими намерениями ты здесь, добрыми или злыми?
– Да будь я настроен против вас с принцем, стал бы я так церемониться? – ответил он вопросом на вопрос, и голос его теперь звучал тверже. – Достаточно пары стрел, пущенных из-за двери, чтобы разом покончить с вами обоими.
– Пожалуй, ты прав, – согласился Кюсси. – Как вы считаете, принц? – спросил он Артура, который все еще судорожно хватался за его руку.
– Мне некогда выслушивать мнение принца, – возразил тюремщик. – Я выполняю приказ и должен срочно предоставить ему другую комнату – вот все, что от меня требуется. Могу сказать только, что многие влиятельные бароны прибыли ко Двору. Иоанн не ждал их так скоро и теперь беспокоится, как бы они не нашли принца Артура здесь. Именно поэтому так необходимо, чтобы он следовал за мной. Если он не захочет идти сам, я позову стражу, и его выведут силой.
– Но кто эти бароны? – спросил Артур.
– Откуда мне знать, – отвечал тюремщик беспечно. – Слышал только, что приехал лорд Пемброк, да сказывали еще, что граф Саллисбюри вернулся; а других имен я не запомнил.
Артур посмотрел на Кюсси, как бы спрашивая совета.
– Удивительно быстро справился ты с приступом лихорадки, – придирчиво оглядел тот тюремщика. – Надеюсь, что ты не солгал. Но если в душу мою закрадутся сомнения, то клянусь, что разобью твою голову о стены этой темницы..
Он никак не мог избавиться от подозрительности – слишком уж вероятной казалась измена. Несмотря на то, что история, рассказанная охранником, прозвучала вполне достоверно, он не верил ей до конца, хотя и не знал почему.
– Думаю, мне следует вас оставить, сир Гюи, – сказал Артур. – Я предпочел бы остаться здесь, но боюсь, всякое сопротивление будет бесполезным.
– И я опасаюсь того же. Прощайте, принц! Мы и в разлуке будем часто вспоминать друг о друге. Прощайте!
Он крепко обнял Артура, словно родного брата, и этот по-мужски скупой жест лучше всяких слов выразил то отчаяние, которое он испытывал, расставаясь с другом. Смутные предчувствия, что они не увидятся больше с Артуром, терзали его, и потому последнее напутствие прозвучало, как прощание с умирающим.
Тюремщик отворил дверь.
Артур помедлил у порога и смущенно взглянул на Кюсси. Казалось, какое-то новое подозрение закралось в его душу. Но тут же сделал нетерпеливый жест рукой, как бы отметая сомнения, и решительно шагнул к двери.
Но едва он переступил порог, как вдруг остановился с криком: «Здесь мой дядя!». Он было ринулся назад, но тюремщик загородил ему дорогу и, не дожидаясь, пока де Кюсси опомнится и нырнет на помощь принцу, запер дверь и задвинул засовы.
– Ну что, молодой бунтарь, – услышал Кюсси голос короля Иоанна, станешь ли теперь так храбриться, как несколько часов назад? Удались, – сказал он, обращаясь теперь к тюремщику. И едва шаги охранника стихли в конце коридора, как он вновь разразился громом проклятий и ругательств адрес Артура. Такое поведение могло преследовать лишь единственную цель, о которой легко было догадаться.
Подобно льву в клетке, метался Кюсси по комнате, пытаясь отыскать хоть что-нибудь, чем можно было бы выломать дверь, но так и не нашел ничего подходящего. Дверь была двойная, железная, и даже силы Геркулеса не хватило бы, чтобы сорвать ее с петель. Исполненный ужаса и негодования, прислушивался он к происходящему в галерее. Нисколько не сомневаясь в кровавых намерениях монарха и будучи не в состоянии предупредить преступление, которое предвидел, рыцарь крикнул изо всех сил:
– Иоанн Анжуйский, тиран кровожадный, остерегайся исполнить свой подлый замысел! Не обольщайся, что тебе удастся скрыть от людей свое преступление. Я узнал твой голос, трусливый убийца, и, если хотя бы волос упадет с головы принца, я всему миру поведаю о твоих злодеяниях. Клянусь, что публично объявлю о твоем позоре, и тогда даже самые преданные из баронов не подадут тебе руки!
Но шум борьбы заглушил его слова, и эта пламенная речь прозвучала впустую. Снаружи происходило что-то страшное: казалось, принц отчаянно сопротивляется, пытаясь освободиться из цепких лап своего мучителя, но эти попытки, как видно, не увенчались успехом. Через минуту Кюсси услышал голос Артура, который молил о пощаде, но ни мольбы, ни слезы не тронули сердца жестокого негодяя. Вдруг галерея огласилась ужасным криком, за которым последовало падение и несколько громких стонов. Затем кто-то быстро сбежал по лестнице. Какое-то время был слышен говор нескольких голосов, потом плеск весел лодки, удалявшейся от башни, и наконец все стихло.
ГЛАВА VI
Филипп Французский не находил себе места от беспокойства. Казалось, все несчастья, какие только могли быть на свете, свалились вдруг на его голову. С разных концов королевства поступали тревожные вести о мятежах, готовых вспыхнуть в любую минуту. Коварство баронов тоже не вызывало сомнений: воспользовавшись проклятием папы, освобождавшим их от присяги законному государю, они спешили вооружить отряды, цель которых была очевидна. И в это тревожное время пришло печальное известие о гибели Артура и о готовности Иоанна Английского развязать войну.
Видя все это, Агнесса Мераннийская не могла оставаться дольше возле Филиппа. Пожертвовав собственным благополучием и своими чувствами ради спасения любимого ею супруга, она покинула роскошный дворец и поселилась в замке, который находился в нескольких милях от Парижа. Понимая разумность такого поступка, Филипп не воспротивился ее решению и дал свое молчаливое согласие. С горечью в сердце и жаждой мщения в груди он старательно изображал покорность: скрыв до поры до времени свои истинные чувства и делая вид, что полностью подчинился папе, он лелеял тайную мысль, что, расправившись со своими врагами, вновь обретет независимость.
Трудно словами выразить то оживление, которое охватило все королевство, когда первый удар колокола возвестил, что проклятие снято и Франция вновь заняла свое место среди христианских государств. Сердца людей были открыты друг другу, и глаза светились радостью и надеждой. И города, и селения дышали покоем и счастьем, и казалось, будто спасение впервые сошло на землю. Можно с уверенностью сказать, что во всем королевстве было лишь два человека, которых не радовал колокольный звон. Едва заслышав его, Агнесса Мераннийская бросилась на колени и оросила своими слезами камни. Филипп-Август, до боли сжав голову ладонями, в бешенстве метался по комнате. Звон этот был невыносим для его ушей. «Они радуются моему несчастью, – говорил он сам с собой, – и этот веселый звон празднует мое поражение. Но их торжество преждевременно: каждый удар колокола – всего лишь новое звено в цепи, соединившей нас теперь, но которой я непременно воспользуюсь для своего мщения. И пусть остерегаются они сами! Этот радостный звон станет погребальным для многих бунтовщиков, и мне безразлично, кто это будет – барон или рыцарь!»
– Эй, кто там? – окликнул он, заслышав чьи-то шаги.
В комнату вошел паж.
– Рад тебя видеть, Жильберт! Подойди ближе, – милостиво пригласил монарх. – Ты благородного происхождения и, несомненно, честен и скромен. Я полагаю, ты хорошо усвоил обязанности пажа и знаешь, что примерный слуга никому не откроет тайн своего господина, а иначе он опозорит себя. Так вот, если ты будешь скромен и молчалив, эта рука возведет тебя когда-нибудь в степень рыцаря, но если злоупотребишь моим доверием, то эта же рука обрубит тебе уши, и ты станешь работать в поле, словно презренный раб. Надеюсь, ты понял, что я имею в виду?.. А теперь ступай в оружейную залу и принеси мне все снаряжение, которое найдешь возле третьего окна слева от двери. Иди и исполни, что тебе приказано.
Гордый тем, что король поручил ему дело, считавшееся обязанностью первых оруженосцев, паж со всех ног бросился в оружейную комнату и мигом вернулся с кольчугой и шлемом. Ему пришлось сделать еще два захода прежде, чем он принес все, что требовал Филипп. Это были стальные доспехи, самые примитивные и ничем не украшенные, подобные тем, какие носили рыцари в первых крестовых походах, когда всякое украшение считалось излишним.
С помощью одного только пажа, руки которого дрожали от радостного волнения при мысли, что он впервые удостоился такой чести, Филипп облачился в доспехи. Не желая быть узнанным, он выбрал шлем с неподвижным забралом, который, имея лишь небольшое отверстие в виде креста, чтобы можно было дышать и видеть, совершенно скрывал черты его лица. Затем написал на куске пергамента: «Король желает остаться один!» и, передав эту записку пажу, приказал ему сходить в конюшню за лошадью и привести ее к подъемному мосту. Филипп выждал несколько минут, чтобы дать пажу время выполнить поручение, а потом спустился по лестнице, самой уединенной во дворце.
Проходя двором, он встретил нескольких солдат и оруженосцев, которые не обратили внимания на человека, одетого простым рыцарем; и нахмурился, – такова уж сила привычки – когда не заметил знаков почтения, к которым он так привык.
В назначенном месте Жильберт уже поджидал его. Филипп приложил палец к губам, напоминая пажу о скромности, и, оседлав лошадь, поскакал галопом.
Увидеть Агнессу – именно эта мысль заставила короля предпринять путешествие в сорок миль. Верный долгу, он не хотел нарушить обета, но не мог отказать себе в удовольствии хотя бы издали и не будучи узнанным взглянуть на ту, которая жила в его сердце. Стараясь избегать мест оживленных, он ехал, так быстро, что через три часа уже достиг холмов, которые окружали замок Агнессы. Долго и пристально смотрел он вдаль и был разочарован, не заметив никого, кроме часовых на караульных башнях. Наконец на одной из площадок промелькнуло белое платье, развевающееся под ветром. С первого взгляда он узнал Агнессу Мераннийскую. Привязав свою лошадь к дереву, Филипп подался вперед, чтобы лучше разглядеть ту, что была так дорога для него.
Уверенный, что его нельзя узнать в таком облачении, он рискнул приблизиться к замку и казался в нескольких шагах от Агнессы, продолжавшей прогуливаться по платформе. В какой-то момент она обернулась, и Филипп увидел ее лицо. Ее щеки были смертельно бледны, а черные брови еще больше оттеняли эту бледность.
Стараясь быть незамеченным, Филипп сделал еще несколько осторожных шагов ей навстречу, но звон кольчуги выдал его присутствие. Агнесса вздрогнула и, обернувшись, посмотрела на рыцаря в упор. Трудно сказать, узнала ли она Филиппа, во всяком случае, тотчас остановилась. Протянув к нему руки, и, пробормотав что-то невнятно, она упала на руки горничной, сопровождавшей ее.
Король рванулся к воротам с намерением войти в замок, но, вспомнив об обещании не беспокоить свою супругу и не входить в ее жилище в течение полугода, он вовремя одумался и остановился. Но этот порыв не ускользнул от взгляда прево, который беседовал в это время со стражниками, охранявшими внутренний двор. И он, и солдаты удивленно смотрели на рыцаря в доспехах, который был так стремителен, но вдруг замер в нерешительности, не переступив порога.
– Что вам угодно, сир? – окликнул прево.
– Я хотел бы справиться о здоровье королевы, но мне запрещено переступать порог этого замка. Будьте любезны, пошлите кого-нибудь узнать о ее самочувствии.
Прево согласился на эту просьбу, хотя и был несколько удивлен странным отказом рыцаря войти во двор замка. Посланный быстро вернулся и сообщил, что королева была без сознания, как это уже случалось, но теперь все позади, и она чувствует себя значительно лучше.
– Она сама сказала мне это, – уточнил посланник, – и это самое верное доказательство, что она здорова и в хорошем настроении; будь то иначе, она вряд ли заговорила бы со мной.
Услышав этот ответ, Филипп лишь кивнул угрюмо. Он долго стоял неподвижно, предавшись своим размышлениям, затем, не сказав ни слова, повернулся ко всем спиной и тяжело зашагал к лесу, где была привязана лошадь. Сев в седло, он пустился в обратный путь.
– Вот невежа! – не удержался от восклицания один из оруженосцев. Даже не поблагодарил как следует за услугу!
– Ручаюсь, что он – сумасшедший! – подхватил другой.
– Нет, это не сумасшедший, – задумчиво сказал прево. – Закройте-ка рты да придержите свои языки. Сдается мне, я уже слышал не раз этот голос.
И, покачав головой, он с таинственным видом покинул солдат, предоставив им самим докапываться до сути.
Вернемся теперь к Филиппу. Занятый мыслями то приятными, то печальными, он продолжал свой путь и наконец подъехал к пещере, возле которой рос старый дуб. Подвешенная к ветке перчатка раскачивалась от ветра. Подстегиваемый любопытством, Филипп хотел снять ее, чтобы разглядеть получше, но едва лишь дотронулся, как она с шумом упала на землю.
На этот звук из пещеры вышел человек высокого роста и приблизился к королю. Он был в доспехах, потемневших от ржавчины, но все еще со следами позолоты, некогда украшавшей их. Наличие шпор и золотой цепи указывало на то, что незнакомец был рыцарем. Спеша навстречу Филиппу, он на ходу пытался распутать ремни шлема, как будто торопился надеть его. В его черных спутанных волосах кое-где мелькала уже седина. Лицо было бледное и истощенное, а по странному блеску этих впалых бездонных глаз легко было догадаться, что в них пылает огонь безумия.
Король сразу узнал его, хотя и отказывался поверить, что этот человек, лишенный рассудка, был Тибольдом Овернским, которого он знал как человека спокойного и хладнокровного.
Тем временем граф Оверн, в спешке дергая за ремни, запутал их окончательно, что привело его в бешенство.
– Не спеши, беззаконный рыцарь! – завопил он наступая на короля. Подожди немного! Я расправлюсь с тобой, чтобы доказать справедливость того, что защищаю. Да, я заставлю тебя признать, что Агнесса – истинная королева Франции и законная супруга Филиппа. Дай только мне надеть шлем, и я в два счета докажу, что ты лжец! А ну признавайся, не папа ли Иннокентий подослал тебя? Нет, ты не убьешь меня, злодей! Я стою за правое дело, и тебе не одолеть меня!
Вспомнив о былой ненависти к графу, Филипп готов был вспылить, но вовремя спохватился и, сменив гнев на милость, с жалостью посмотрел на Оверна, которому нельзя было не посочувствовать в его теперешнем состоянии.
– Я не за тем пришел, чтобы убить вас, – мягко сказал он. – Я чужестранец, и оказался здесь случайно…
– Вы низкий лжец! – прервал его граф. – А перчатка? Ведь это вы сбросили ее на землю, следовательно, приняли вызов. И не известно ли каждому в этих местах, что всякий умрет от руки моей, кто только осмелится отрицать законность прав супруги Филиппа? Если ты не станешь защищаться, то я проткну тебя мечом как отступника от истинной веры и провозглашу изменником, трусом и подлецом от Иерусалима до Аскалона, пред войсками луны и креста. Саблю в руки, если ты благороден и рыцарского звания.
Сказав это, он швырнул шлем на землю и, обнажив оружие, с яростью льва набросился на Филиппа. Король вынужден был защищаться, поскольку отлично знал, что имеет дело с опытнейшим из воинов, который, хоть и лишился рассудка, но не растерял ни сил, ни сноровки, так, он в свою очередь, выхватив меч из ножен, принял оборонительную позу.
Сражение продолжалось достаточно долго и было нелегким. Хотя король и имел известные преимущества, будучи в шлеме в отличие от своего противника, но природное благородство не позволяло ему воспользоваться таким превосходством, и он умышленно не направлял ударов на открытую голову своего соперника. Но эта совестливость чуть не стоила ему жизни: сильным ударом граф рассек его латы над левым плечом и, обрадованный столь метким выпадом, стал теснить своего недруга с новой яростью, нисколько не заботясь о собственной безопасности. Пыл и продолжительность боя рассердили монарха, и видя, что совестливость подвергает его жизнь опасности, он оставил снисхождение к графу. Прикрываясь щитом, он взмахнул мечом над головой Тибольда Овернского, бедствия которого окончились бы вместе сего жизнью, если бы удар, угрожавший ему, не был остановлен неожиданным обстоятельством, о котором мы не вправе сообщить, не рассказав о некоторых других происшествиях.
ГЛАВА VII
В просторном зале Руанского герцогского дворца сидел король Иоанн теперь уже бесспорный обладатель английского трона. Несмотря на то, что руки его были обагрены кровью невинной жертвы, он был очень спокоен, и на лице его играла улыбка беспечности и легкомыслия, которая была еще более отвратительна для тех, кто знал о всей развращенности его натуры. Роскошно одетый, он восседал на троне из слоновой кости, под балдахином из червленого бархата, и был окружен бесчисленной свитой своего королевства. Справа от него находился граф Пемброк, смотревший на Иоанна с нескрываемым презрением и досадой. Точно такое же выражение можно было заметить на лицах графа Эссекса, лорда Багота да и других сеньоров.
Иоанн невозмутимо наблюдал за ними, ничуть не смущаясь их мрачным и недовольным видом. Перед королем на ковре, покрывавшем ступени трона, стоял капитан Жоделль, одетый в богато расшитую пурпуровую тунику, с золотой перевязью, на которой был укреплен тяжелый меч с украшенной алмазами рукояткой.
– Я вижу, Жоделль, – обратился к нему король, – вы сумели воспользоваться моим позволением и хорошенько погрели руки на грабежах добрых граждан. Ну-ка, признайтесь, скольких жителей Пуату оставили вы без денег? Глядя на вас, трудно предположить что-либо иное. Помнится, когда я впервые увидел вас, вы выглядели куда скромнее. Но как говорит известная пословица: «Хорошую птицу видно по оперению». Не так ли, лорд Пемброк?
– Не совсем, государь, – отвечал гордо граф. – Случалось мне видеть и коршуна в орлиных перьях.
– Как всегда, сплошные метафоры. Вы гоняетесь за сравнениями, любезный граф, словно кот за лесною мышью. Не кажется ли вам, Жоделль, что все эти сеньоры удивительно остроумны? Сказать по совести, я бы на вашем месте держался подальше от этих людей – похоже, они не слишком вас любят.
– Я никого не боюсь, государь, – отвечал Жоделль так спокойно, словно он и но заметил иронии короля. – Пользуясь вашим покровительством, я не страшусь ничьих нападок.
– И у вас для этого есть основательные причины, – усмехнулся король. – Вы и представить себе не можете, на какую высоту хотел бы я вознести вас.
Он пристально оглядел рыцарей, пытаясь угадать, как им понравилась эта острота. Несколько льстецов угодливо захихикали, но остальные, а их было немало, сохраняли угрюмое молчание.
– А теперь, любезный сир, ответьте нам, – продолжал Иоанн насмешливо, – в честь чего это вы решили осчастливить нас своим посещением. Не сомневаюсь, что помыслы ваши, как и обычно, чисты и благородны вполне в духе рыцарства, и вы пришли сюда по очень важному делу. И что же за предприятие вы теперь замышляете – какой-нибудь новый подвиг?
– Всегда рад служить вам, государь! – отрапортовал Жоделль. – А пришел я за тем, чтобы напомнить, что нанятому мной войску пора уже выплатить жалованье, которое было обещано.
– Мы немедленно удовлетворим эту просьбу. Сказать по правде, войска Филиппа теснят нас со всех сторон, и нам нужна крепкая армия. Да, мы нуждаемся в людях и будем рады пополнить свои ряды свежими силами… и безразлично, кто они будут – наши вассалы, или наемники. А что еще хотели вы мне сообщить, Жоделль?
– Ваш казначей отказывается заплатить по векселю на том основании, что он не подтвержден вами вторично.
– Дайте-ка мне его, – протянул Иоанн руку. И Жоделль, хотя и против воли, был вынужден вернуть расписку на десять тысяч крон, которую получил в свое время и качестве платы за измену.
– Итак, покончим с этим делом, ибо скорое правосудие – первая заповедь королей. Сначала о том, что касается войска, которое возглавляет сей доблестный капитан. Вильям Гумст, – обернулся он к одному из своих людей, – я вам приказываю отослать их немедленно к нашему главнокомандующему. Скажите ему, чтобы принял их в свой отряд – пусть позаботится об их содержании и выплатит жалованье. Они станут служить нам верой и правдой.
– Но, государь, – Жоделль побледнел как смерть, – это против…
– Без возражений! – прикрикнул на него Иоанн. – Потерпите еще минутку, выслушайте меня до конца, а уж я постараюсь угодить всем. Так вот, эту расписку следует отправить в казначейство. Джон де Винконтон, подойдите! Вы, кажется, супрево нашего войска?
Человек невысокого роста, но атлетического телосложения, выйдя вперед, встал рядом с Жоделлем и слегка поклонился, как бы соглашаясь с таким утверждением.
– Поскольку здесь нет казначея, необходимо, чтобы хоть кто-то его заменил, – продолжал монарх. – Итак, сир, за неимением лучшего, я временно назначаю вас помощником казначея.
Джон де Винконтон прекрасно понял намек короля Иоанна – подобные выходки были ему не в новинку. Еще раз поклонившись, он поднял вверх два пальца левой руки, делая знак стражникам, а правой ухватил за плечо Жоделля. Подоспевшие в ту же минуту двое солдат обступили капитана наемников с обеих сторон, не позволяя ему сделать ни шагу. Но эти предосторожности были излишни: одного только прикосновения этого коренастого крепыша оказалось достаточно, чтобы Жоделль растерял всю свою самоуверенность. Силы мгновенно оставили его: руки повисли, как плети, колени подогнулись, а губы задрожали от страха.
– Выведите этого несчастного! – нахмурившись, гневно вскричал Иоанн. – Он метил так высоко, что я рад услужить ему. Повесьте его в горах, что между Нормандией и Францией, и пусть жители обоих стран полюбуются, как высоко он вознесся. Только злая необходимость заставляет меня время от времени пользоваться услугами таких негодяев, как этот, но это вовсе не означает, что я хочу, чтобы их племя росло и множилось. Клянусь, он получит по заслугам! Выведите его!
– Государь! Государь! Выслушайте меня! Ради Бога, выслушайте! – отчаянно вопил Жоделль, вырываясь из рук тащивших его стражников.
Но король словно бы и не слышал этого крика. Его внимание в эту минуту было приковано к человеку, который только что вошел и расчищал себе дорогу между стражами, стоявшими у дверей. Его доспехи были покрыты пылью, как после долгого путешествия. Следом за ним вошли еще два-три человека, как видно, его сопровождавшие.
Без каких-либо церемоний и даже не поздоровавшись, граф Саллисбюри – а это был он – прошел в зал и, поднявшись по ступенькам королевского трона, склонился над Иоанном, что-то гневно шепча ему на ухо.
Его появление и не слишком уважительное обращение с королем произвело на присутствующих действие электрического разряда. Новая волна недовольства прокатилась по залу. Все бароны, сплотившись еще теснее, принялись что-то доказывать друг другу, энергично жестикулируя и враждебно поглядывая на Иоанна. Вопреки желанию короля, слух об убийстве принца Артура достиг-таки их ушей, и у них были веские основания полагать, что преступление это совершено не просто с согласия кровожадного тирана, но, скорее всего, при его непосредственном участии. Побуждаемые гневом, ясно читавшимся на челе побочного брата Иоанна, они сошлись небольшими группами и стали у трона, в то время как Вильгельм Длинный Меч продолжал донимать короля своими вопросами.
Не слишком смущенный этим допросом, Иоанн не мог не следить со страхом за группой разъяренных баронов. Ему доподлинно было известно, что все они, за исключением горстки льстецов, его ненавидят, а уж он-то знал, что именно в такие минуты всеобщего беспокойства и предпринимаются самые крутые меры. Видя сверкающие глаза и нахмуренные лица своих сеньоров, слыша их возмущенные речи, он чувствовал, как корона шатается на его голове. Спасти в этой ситуации могло только одно – чувствительность и доброта его побочного брата. Не отвечая на все упреки Вильгельма, он лишь крепко сжал его руку и, указав глазами на разъяренных людей, теснившихся возле трона, сказал еле слышно:
– Взгляните, Вильгельм, на лица этих бунтовщиков. Они готовы разорвать меня на части! Неужто и вы предадите меня?
– Нет! – отвечал тот решительно. – Ни за что! Я не оставлю вас в беде, ибо вы – сын моего отца, прямая ветвь нашего родового древа и единственный наследник престола, но должен сказать…
И он прошептал что-то на ухо Иоанну, но так тихо, что окончания фразы не расслышал никто, кроме того, к кому она относилась. Впрочем, его разгневанный вид и реакция короля на эти слова не оставляли сомнений, что все сказанное никак нельзя было бы назвать комплиментом льстеца. Предоставив королю самому разобраться в том, что о нем думают, Вильгельм быстро сошел по ступеням трона и, подойдя к баронам, поочередно пожал всем руки.
– Друзья мои, успокойтесь, прошу вас! Такие вопросы не решаются сгоряча. Обещаю, мы еще вернемся к этому делу, но решим его с должным хладнокровием и благоразумием. А теперь разойдитесь, заклинаю вас нашей дружбой.
– Только из уважения к вам! – дружелюбно улыбнулся лорд Пемброк. – Клянусь небом, лучший из королей, восседавших когда-либо на английском троне, был побочный сын, и я не понимаю, Саллисбюри, почему бы еще одному побочному сыну не занять это место. Думаю, что сын Росмонды Вудстокской столь же достоин носить корону, как и Вильгельм Завоеватель. А как считаете вы? – обратился он вдруг к баронам.
– Ни слова об этом, друзья! Умоляю вас, тише! – Граф отлично понял намек. – Я не соглашусь за все сокровища мира нанести обиду сводному брату, впрочем, я и не рвусь к престолу. Прошу, успокойтесь и займите свои места. Мне придется оставить вас ненадолго – есть одно дело, которым я должен заняться немедленно.
Так и не придя к общему мнению, бароны остались стоять полукругом у трона, в то время как граф Саллисбюри, легко взбежав по ступеням, вновь обратился с речью к слабому и кровожадному тирану.
– Государь, – торжественно начал Вильгельм Длинный Меч, – когда мы прощались с вами в Туре, я поручил вашему покровительству моего благородного пленника, сира Гюи де Кюсси. Помня о вашем обещании содержать его должным образом и отпустить на свободу за тот выкуп, какой я назначу, я хотел бы узнать теперь, намерены ли вы сдержать свое слово. Не стану выяснять, по каким причинам не выполнили вы первой части нашего договора – относиться к сему доблестному рыцарю со всем уважением, которого он заслуживает – это на вашей совести. Но буду настаивать на втором пункте этого обязательства. Из уважения к собственному имени и чтобы смыть пятно, которое вы на него наложили, я готов сей же час и без всякого выкупа отпустить столь славного воина, но боюсь, что он сочтет этот жест недостойным и даже оскорбительным. Как бы то ни было, я назначаю выкуп в семь тысяч крон. Здесь его паж, и он готов сию же минуту заплатить за свободу своего господина. Я требую от вас немедленного решения, поскольку узнал, что он все еще томится в той роковой башне, которая останется вечным пятном на чести Англии. Надеюсь, что он в добром здравии и что не нашлось никого, кто бы осмелился посягнуть на жизнь моего пленника?..
– Граф Саллисбюри! Да как вы смеете! – прикрикнул было король. Но, встретившись с суровым взглядом Вильгельма и заметив нескрываемое презрение в глазах баронов, он прикусил язык и изменил тактику, небезосновательно полагая, что притворство – его обычная защита – будет в этом случае гораздо полезнее. – Граф Саллисбюри, – повторил он более мягким тоном, – кому как не брату знать обо всех моих слабостях? Да, признаюсь, я слаб, но не изверг, как думают многие из тех, кто меня плохо знает. А вы-то… Наслушавшись всяких толков, вы вздумали вдруг судить меня! За что? За то, что какой-то безумец, неверно истолковав мои повеления, совершил в стенах этой крепости ужасное преступление, которое клеветники хотели бы свалить на меня. Не знаю, случайным ли было убийство, или умышленным, но я в этом не замешан и готов доказать в сем и каждому, что не отдавал такого приказа. Да, я сделаю это по собственной воле, хотя и не следовало бы королю обращать внимание на злые наветы клеветников, я докажу… но не сейчас, и при других обстоятельствах.
Заметив, что все слушают его очень внимательно, Иоанн продолжал с еще большим воодушевлением:
– Что же касается моего времяпрепровождения в тот роковой день, когда не стало моего любимого племянника, то я готов расписать его по минутам, хотя и считаю, что королю не пристало отчитываться перед своими вассалами. Большую часть времени, можно сказать, весь день я провел за чтением депеш, доставленных из Германии и Рима графом Арунделем и лордом Баготом.
– За исключением двух утренних часов и трех вечерних – от шести до девяти, – уточнил лорд Багот. – Когда я вошел к вам вечером, на вас лица не было, и мне показалось, что вы смутились, – подозрительно посмотрел он на Иоанна.
– Можно узнать об этом у Вильгельма Гюйона, – тотчас нашелся король. – Не правда ли, любезный друг мой, – с заискивающей улыбкой обратился он к одному из своих приближенных, – что все это время мы провели с вами вместе?.. Вы подтверждаете это, сир?
– Точно так, государь, – ответил тот, заикаясь, – но…
Все бароны, услышав это «но», затаили дыхание, устремив свои взоры на молодого рыцаря, в надежде, что тайна вот-вот откроется. Но король, воспользовавшись его замешательством, продолжал как ни в чем не бывало:
– … но тем утром вы были со мной в башне, где содержался мой бедный племянник – ведь именно это вы собирались сказать, не так ли? Да, это так, милорды. Не тушуйтесь, Гюйон, расскажите им все, что знаете. Вы ведь слышали, как жестоко бранил я смотрителя за то, что он поместил Кюсси и Артура в слишком тесную комнату, духота которой могла повредить их здоровью. Разве не за этот проступок я уволил тюремщика? А заодно поведайте, уходил ли я вечером из дворца… Ну, отвечайте, я вам приказываю!
И он предупреждающе посмотрел на молодого человека.
Вильгельм де ла Рош Гюйон, побледнев, словно полотно, нашел-таки в себе силы подтвердить слова короля, и Иоанн обнаглел еще больше.
– Мы вернемся еще к этому делу, а на сегодня достаточно, – заявил он. – Но когда мое оправдание будет полным, я никому не позволю больше клеветать на меня, и горе тому, кто на это осмелится!
– Забудем пока об этом, – вмешался граф Саллисбюри, – и поговорим о вашем пленнике. Прежде чем он окажется на свободе, я хотел бы…
– Знаю, знаю, любезный брат, – перебил его Иоанн. – Все будет так, как вы хотите. Сразу же после обеда я напишу приказ о его освобождении.
– Ха-ха-ха! – донеслось из глубины зала. – Вот так ловкач! Будто не знает, что до обеда можно раз десять отправить Кюсси на тот свет!..
– Клянусь честью, шут прав! – воскликнул Вильгельм Саллисбюри. – Государь, поскольку уже имеется неоспоримое доказательство того, что в стенах одной из ваших темниц творятся ужасные вещи, то я собираюсь, с вашего позволения, навестить этого храброго рыцаря немедленно. Я сам отправлюсь к нему.
– Граф Саллисбюри! – одернул его король. – Если вы и не уважаете меня, то соблюдайте хотя бы внешние приличия – дождитесь, пока я отдам приказ. Клерк! – позвал он громко. – Займитесь этим, и поскорее.
Клерк повиновался, и Иоанн стал диктовать, но делал это так неохотно и медленно, что новое подозрение зародилось в уме Саллисбюри. Наконец Иоанн подписал приказ и передал его графу.
– Отнесите его сами, раз вам так хочется, – сказал он с притворной улыбкой. – И дай Бог, чтобы он успел пообедать, – процедил Иоанн сквозь зубы так, чтобы его не услышали.
Граф Саллисбюри быстро прошел через зал и был уже возле двери, когда король снова его окликнул:
– Вильгельм, подождите! А где же паж? Вы сказали, что он должен заплатить… Отдаст ли он деньги в ваше отсутствие?
Граф вынужден был вернуться.
– Вон паж, – сказал он, показывая на Эрмольда де Марея, который в окружении герольда, Галона-простака и двух охранников, доставивших золото, все это время стоял в конце зала. – Он тотчас же отсчитает нужную сумму, если вам так не терпится. А теперь мне пора. Я мигом вернусь – отсюда до башни не больше десяти шагов.
И, заметив, что Иоанн вновь собирается его задержать, добавил:
– Все вопросы – к пажу.
– А этот длинноносый? – не удержался монарх от насмешки. – Вон тот, со свиным рылом и хоботом, как у слона, – кто он?
Но Саллисбюри уже вышел, и Галон-простак, по обыкновению, вызвался отвечать:
– Коль уж вам так любопытно, я мог бы и сам ответить. Я – двойник Иоанна Безземельного. Мы слеплены из одной глины и обжигались в одной и той же печи, но одного природа сделала более мерзавцем, чем дураком, а другого – более дураком, чем мерзавцем. А так как голову одного она украсила короной, то другому, в виде вознаграждения, подарила ольховый сук вместо носа.
– Хоть ты и дурень, но все же забавный, – расхохотался король. Хотя насмешки шута и задевали его самолюбие, он был рад, пусть даже таким образом, скоротать время до прихода Саллисбюри и не замечать хмурых лиц своих баронов.
– Иди-ка сюда, дурак! А теперь скажи, шут гороховый, не хочешь ли поступить ко мне на службу? Что ты предпочитаешь: служить королю или нищему рыцарю?
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Галон. – Я и впрямь был бы дураком, если б надумал переметнуться к королю.
– Прикуси-ка язык! – вспылил Иоанн. – Тоже мне важная птица!.. Уж и не знаю, была ли такая даже у самого Ноя в ковчеге…
– Как?! А разве не он выпустил голубицу? – спросил Галон с таким простодушным видом, что и бароны не выдержали и заулыбались.
– А! Так ты думаешь, что похож на голубя? Разве что этим своим клювом… И правда, тут у вас с ним большое сходство!
– Такое же, как и у вас со львом, – отвечал Галон дерзко. – Вот я и думаю, с какой это стати прозвище «Львиное Сердце» дали не вам, а старшему брату, и почему злые языки утверждают, что вы и внешне, и своими повадками больше напоминаете подлого и трусливого шакала. Ха-ха-ха!
И он отскочил назад, словно испугавшись, как бы Иоанн его не ударил.
Но оставим их перепалку и последуем за графом Саллисбюри в темницу к Гюи де Кюсси.
Час, в который обычно обедали, был уже близок, и когда граф вошел в мрачное обиталище славного рыцаря, то увидел его сидящим перед столом, уставленным разными блюдами и кубками с напитками.
Роскошный обед мог польстить вкусу даже самого привередливого человека: угощение, приготовленное умелыми поварами, выглядело очень аппетитно, но Кюсси ни к чему не притрагивался, хотя за последние месяцы и не пробовал ничего, кроме воды и хлеба.
– Длинный Меч! – воскликнул рыцарь, увидев графа. – Вильгельм, вы ли это?
– Спокойно, Кюсси! Тише! – граф крепко сжал его руку. – И не спешите винить меня, не выслушав. Я лишь недавно узнал об истинном положении дел и до последнего времени слепо верил, что король держит свое обещание. Поверьте, Кюсси, он клялся мне, что отнесется к вам с должным почтением и будет считать вас не столько пленником, сколько другом. Негодяй! Он солгал мне! Да если бы только мне!.. Но к делу! Должен сказать, ваш паж с завидным постоянством следовал за мной из города в город, пока я занимался вашими поисками, но все попытки разыскать вас долгое время не имели успеха. И лишь недавно из Англии пришло известие о вашем местонахождении. Опасаясь какого-нибудь вероломства, я тотчас отправился в путь. Клянусь, я очень спешил, чтобы спасти вас, поскольку достаточно изучил повадки своего братца – благодарю Бога, что я побочный! В каждом из городов Нормандии, которые я проезжал, я узнавал какую-нибудь очередную подробность о недостойном поведении Иоанна, но лишь по прибытии сюда мне стало известно о смерти этого несчастного юноши. Бедный Артур! Кто знает, как и кем он убит… и где похоронен…
– Я подскажу вам это, Вильгельм, – сказал де Кюсси, глядя ему в глаза. – Вы отыщете его тело на дне Сены. Вы понимаете, что я сказал?.. На дне Сены!
– А я еще сомневался, – опечалился граф. – Но известно ли вам, кто совершил это преступление? Говорят, что вы занимали с ним общую комнату?
– Знаю ли яубийцу? Разумеется! Это Иоанн Анжуйский – ваш брат и его дядя… Именно он погубил Артура!
– Но не собственноручно? – в ужасе отшатнулся Вильгельм.
– Готов поклясться, что это преступление не просто на его совести, но совершено им лично, или, по крайней мере, в его присутствии.
И Кюсси рассказал обо всем, чему сам был свидетелем.
– Вы все еще сомневаетесь в подлости вашего брата? Взгляните на этот роскошный обед, – добавил он. – Не правда ли, угощение, достойное королей? Как думаете, почему именно сегодня Иоанн вдруг расщедрился? Причина проста: чтобы избавиться от свидетеля, он решил отравить меня, словно крысу, но просчитался – я не притронулся ни к чему, кроме хлеба. А узнайте-ка у меня, чем потчевал сей радушный хозяин своего гостя вплоть до этого часа!..
Возразить было нечего. Опустив голову, граф сокрушенно молчал.
– Бегите отсюда! Бегите! – взяв рыцаря за руку, вымолвил он наконец. – Клянусь честью, мой благородный друг, прозрение досталось мне слишком уж дорогой ценой! Даже если бы мне отсекли правую руку, не было бы так больно, как в минуты ваших откровений! Но надо спешить; выкуп уплачен, и ваш паж дожидается в зале дворца. Только прежде зайдем ко мне, чтобы выбрать оружие, какое вы пожелаете. В моих конюшнях есть скакуны, быстрые, как ветер; выбирайте из них любого, а потом в путь! Пусть и не очень гостеприимно торопить вас с отъездом, но дело приняло такой оборот, что я не рискну задерживать вас. И дай вам Бог оказаться как можно скорее вне пределов Нормандии!
Приняв предложение графа, Кюсси спустился с ним по лестнице и, оказавшись на воле, стал дышать полной грудью, наслаждаясь каждым глотком чистого воздуха. Он шел твёрдым шагом свободного человека. Окружающий ландшафт был для него приятным зрелищем, а свежий ветерок истинным счастьем. Когда же из рук графа он получил доспехи и оружие, к которому так привык, то ему показалось, что одновременно к нему вернулись вся храбрость, вся сила и прежнее мастерство.
Де Кюсси и Вильгельм быстрым шагом взошли по дворцовой лестнице, но у двери в зал рыцарь остановился и, взяв своего спутника за руку, решительно произнес:
– Вильгельм, у меня есть одно обязательство, выполнить которое мой рыцарский долг!
– Так сделайте это! – отвечал твердо Саллисбюри, который прекрасно понял, что имеет в виду его друг. – Выполняйте его! И избави Бог, чтобы я воспрепятствовал этому поступку!
Сказав это, он распахнул дверь в зал.
Иоанн все еще шутил с Галоном-простаком, а бароны, окружившие короля молчаливо слушали их беседу. У стола, за которым сидел казначей, стояли Эрмольд де Марей и герольд, внимательно следившие за расчетом. Золотые монеты, собранные в аккуратные столбики, были наконец сочтены, и клерк приготовил уже мешок, чтобы сложить в него деньги.
Подойдя к столу, Кюсси приветствовал своего пажа дружеской улыбкой. В то же время герольд, стараясь привлечь внимание окружающих, вскричал громким голосом: «Слушайте, сеньоры, слушайте!» И, объявив, что выкуп доставлен полностью, он потребовал освобождения Гюи де Кюсси. С подобающей случаю торжественностью деньги были приняты, и рыцарю вручили пропуск через все владения Английского короля, от Руана и до границ Франции.
По окончании церемонии Кюсси отошел от стола и решительным шагом направился к королю, сопровождаемый герольдом, прибывшим из Парижа вместе с Эрмольдом. Предчувствуя, что с минуты на минуту должно произойти нечто из ряда вон выходящее, и не дожидаясь распоряжений Кюсси, герольд шагнул к трону и громко провозгласил:
– Слушайте, Иоанн, король Английский! Слушайте!
Иоанн поднял глаза и окинул рыцаря мрачным взглядом. Но Кюсси был не из тех, кого можно устрашить взглядом, и не боялся ничьих угроз, даже самого короля.
– Иоанн Анжуйский! Изменник, лжец и убийца! – сказал он спокойно и твердо. – Я, Гюи де Кюсси, обвиняю тебя здесь, в этом дворце и пред твоим троном, в убийстве племянника, Артура Плантагенета – законного короля Англии; и называю тебя в лицо человеком без веры и совести, разбойником, рыцарем беззаконным и королем бесчестным! И если найдется среди твоих приближенных хотя бы один, кто вступится за тебя, отрицая причастность твою к убийству, я назову его гнусным обманщиком и вызову на поединок! Знай, я готов сразиться с любым, кто бы то ни был, и доказать свою правоту боем – схваткой один на один, по законам рыцарства!
– Вокруг меня столько баронов и рыцарей, – вскричал Иоанн, – так неужели среди них нет ни одного смельчака, который бы наказал этого правдолюбца, этакого Радаманта французского, за оскорбление, нанесенное их королю?!
Вопреки ожиданиям короля, из множества рыцарей, находившихся и зале, лишь несколько человек откликнулись на его призыв и выступили вперед. Де Кюсси бросил перчатку на пол, вызывая желающих поднять ее; но тут вмешался лорд Пемброк.
– Остановитесь, милорды! Остановитесь, рыцари! – простирая к ним руки, воскликнул он. – Мы не станем чинить суд и расправу – разве в этом храбрость истинного воина? Государь! – обратился он к Иоанну. – Вам хорошо известна отвага английских рыцарей и их беспримерная готовность посвятить свою жизнь защите короля и отечества. Здесь, в этом зале нет ни одного, кто не поддержал бы справедливое дело и, веря в свою правоту, не сразился бы с храбрейшим из французов, когда-либо носивших меч. Готов поручиться, что как только вы докажете всем ложность этого обвинения, тысячи рыцарей обнажат оружие с тем, чтобы встать на вашу защиту, и в этом случае я как лорд-маршал Англии требую первенства.
Он поклонился королю, кусавшему от досады губы, и затем обратился к рыцарю:
– Сир де Кюсси, я принимаю ваш вызов и обязуюсь встретиться с вами с оружием в руках по истечении трех месяцев или раньше, если сочту убедительными доказательства в том, что слова ваши несправедливы и дерзки; если же нет, то я передам ваш залог всякому, кто, не погрешив собственной совестью, решится сразиться с вами, отстаивая это дело. Ну а коль таких не окажется, я готов лично вернуть вам залог, со всем своим уважением. А теперь слушайте меня, рыцари и бароны! – выкрикнул он. – Слушайте и запоминайте! Я, лорд Пемброк, никогда не был трусом и готов сойтись в поединке с любым из воинов, но не подниму меча, если тень Артура Плантагенета будет шептать мне на ухо: «Ты защищаешь несправедливое дело!»
И с этими словами он поднял перчатку рыцаря. Де Кюсси, на прощание одарив короля Иоанна презрительным взглядом, учтиво поклонился графу Пемброку и вышел из зала.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА I
Оставим без внимания все безумства Галона, в которого, несмотря на природную склонность его к вредительству, возвращение де Кюсси вселило прилив энтузиазма, и не уточним даже, что именно так обрадовало шута; отложим в сторонку правдивый и подробный отчет Эрмольда де Марея обо всех его приключениях; не скажем ни слова о том, с каким наслаждением вдыхал храбрый рыцарь воздух свободы и как он был огорчен, узнав о печальной участи графа Овернского; и поведем нашего читателя вслед за героями этого романа на гору, известную под названием Пон-де-Ларш. Эта горная дорога по пути из Руана в Париж быстро спускается к маленькому и неопрятному городку.
Если и есть что-либо в мире более непостоянное, чем улыбка красавицы, то это границы государств. Пределы Франции, подвергшиеся стольким переменам в продолжение последних веков, находились тогда, то есть, в тот день, о котором мы говорим, у подножия Пон-де-Ларша.
И поскольку эта гора являлась также конечным пунктом владений короля Иоанна и Нормандии, то именно здесь и должен был состояться суд над Жоделлем. Как раз в ту минуту, когда де Кюсси и его свита приближались к этому месту, Джон де Винконтон, супрево английского короля намеревался со всей добросовестностью привести в исполнение приговор Иоанна и, в соответствии с указаниями, выбрал самый высокий из вязов, росших поблизости, чтобы повесить жалкого труса и изменника.
Жоделль, окруженный шестью или семью стражниками, стоял тут же, под деревом, и со страхом наблюдал за поведением этих головорезов, без сомнения, мастеров своего дела, один из которых, взобравшись на вяз, обматывал прочной и толстой веревкой самый высокий и крепкий из сучьев. Но шея мародера пока еще не была обвязана роковым галстуком.
К чему не ведет надежда! При виде приближающегося Кюсси, которого сам же и предал, Жоделль был готов зарыдать от радости. Он бросился на колени и, протягивая руки, умолял рыцаря о прощении, заклиная вырвать его из рук палачей.
Супрево и его люди схватились было за оружие, но ответ рыцаря доказал им, что он не намерен вмешиваться, и они вновь занялись своим делом.
– Презренный! – вскричал Кюсси. – Если бы я и вздумал освободить тебя, то лишь для того, чтобы лично посадить тебя на кол. Смерть принца Артура на твоей совести, подлый изменник! Каждая капля его крови взывает о мщении!
– Ха-ха-ха! Вот мы и встретились, сир Жоделль! – обрадовался Галон-простак. – Ну же, капитан, сбрасывай свой галстук – тебе дадут более подходящий, который лучше приляжет к шее. Ха-ха-ха! Жалкий наемник!.. Ползай, ползай перед сиром Кюсси, мерзкий червяк, моля о пощаде, или лучше обратись ко мне с этой просьбой… Только один человек здесь способен помочь тебе. Ха-ха-ха! Да, я мог бы спасти тебя, разумеется, если бы только захотел.
– Я верю в твои возможности, дьявол! Ты способен на многое, но отказываешься помочь мне! – отвечал Жоделль, бросая на него взгляд, в котором смешались бешенство, страх и слабая надежда на избавление. – Да, ты сам сатана, – выкрикнул он дрожащим голосом, почувствовав, как тугая петля обвилась вокруг его шеи, – ибо один только дьявол может так радоваться, зная, какая участь меня ожидает!
– Я польщен! Так ты уверен в этом? – рассмеялся Галон. – Что ж, за эту веру я, пожалуй, спасу тебя.
Подойдя к супрево, шут шепнул ему на ухо несколько слов, которым тот, казалось, не слишком поверил.
– Все, что я сказал тебе – правда! – возмутился Галон. – Я сам слышал, как отдавали приказ. Взгляни-ка туда! Не видишь ли ты в долине гонца, спешащего к нам? Ну и глупец! Неужели ты мог всерьез вообразить, что король Иоанн согласиться расстаться о мерзавцем, столь ему полезным?
Супрево посмотрел в указанном направлении и тотчас же сделал знак своим людям приостановить казнь; а Галон, подмигнув Жоделлю и пронзительно расхохотавшись, бросился догонять де Кюсси, который отправился дальше, так и не дождавшись окончания разговора между шутом и мародером. Спеша покинуть пределы английского королевства, рыцарь остановился лишь у черты, разделяющей Францию и Нормандию, и обернулся, надеясь увидеть бывшего капитана наемников болтающимся на дереве, но был несказанно удивлен, заметив, как двое охранников подсаживают Жоделля на лошадь.
– Клянусь святым Павлом! – воскликнул Кюсси. – Ты, должно быть, большой ловкач, коль сумел вырвать из рук палача этого разбойника!.. Но хочу заметить тебе, Галон, что ты употребляешь во зло свои способности…
– Смею уверить, что вовсе не я спас его от возмездия, а наш добрый приятель, Иоанн Анжуйский, которого, видно, замучили угрызения совести, – кривлялся Галон. – И могу сообщить вам, де Кюсси, что сей добрый монарх приглашал и меня на службу. Так что смотрите, сир, как бы я ни согласился на его предложение, если вы будете дурно обходиться со мной и лупить меня, как это частенько случалось. Ха-ха-ха! Как вам это понравится? А есть и другой вариант, – продолжал он, входя в раж и испытывая огромное удовольствие от собственного злословия. – Мне легко отыскать моего преданнейшего друга, Вильгельма де ла Рош Гюйона. Он без памяти влюбился в мой нос и готов, как вы помните, отдать за него все сокровища мира. Ха-ха-ха! Почему бы мне не воспользоваться такой щедростью и не пойти к нему и услужение? К тому же я не прочь всегда находиться подле прелестной Изидоры дю Монт, которую добрый король Иоанн обещал выдать за любезного графа Вильгельма. «…В качестве вознаграждения за оказанную поддержку!» – вот его собственные слова, подслушанные мной нынешним утром. Хочу похвастать, сир Кюсси, что, хотя беседа и велась очень тихо, я уловил все до малейших деталей, потому что у меня ухо так же чутко, как длинен мой нос. Ха-ха-ха!
Услыхав эту новость, Кюсси натянул поводья и, остановив лошадь, внимательно посмотрел на Галона, пытаясь понять, что это – правда, злая выдумка или просто глупая шутка.
– Что ты имеешь в виду? Во имя неба, добрый Галон, ответь мне, есть ли хоть капля правды в той, что ты сообщил?
– Добрый Галон! Ха-ха-ха! Если все так пойдет, то он, пожалуй, назовет меня еще и милым!.. – гримасничал шут. – Вы глупец, де Кюсси!
– Да ты кого угодно выставишь дураком! Ради всего святого, Галлон, скажи хотя бы раз в жизни настоящую правду! Что говорил король-убийца этому изнеженному отпрыску из рода Гюйонов?
– Сказать вам всю правду? – уточнил Галон, разыгрывая возмущение. – Так вы считаете меня лжецом? Или полагаете, что я недостаточно умен, чтобы в точности передать все услышанное? Смею уверить, у меня нет недостатка в разуме и я повторяю вам собственные слова короля так же верно, как если бы они были сказаны мне самому. «Вильгельм де ла Рош, – говорил он с довольным видом, словно кот, лакающий сливки, – вы поддержали меня в трудную минуту, и я не забуду этого!»
И, говоря это, Галон-простак с такой точностью воспроизвел жесты и интонации монарха, что невозможно было усомниться в искренности его слов.
– А еще, – продолжал шут, – сей великий правитель посоветовал нашему слабовольному юнцу похитить прекрасную Изидору из замка Мулино, что вблизи Руана, в котором мудрый отец прячет ее, полагаясь на покровительство леди Плюмдумплинг. Прошу простить, но если я и соврал, называя имя этой достойной дамы, то лишь потому, что до сих пор так и не разобрался в этих мудреных английских фамилиях. Так вот, Иоанн Анжуйский милостиво позволил Вильгельму увезти Изидору, куда ему будет угодно и как можно скорее. Могу добавить еще, что этот любезный властелин, желая до конца осчастливить своего подданного, предложил ему выбор: либо жениться на благородной красавице, если Вильгельм влюблен еще и во владения ее отца, либо сделать ее наложницей.
– Клянусь небом, насмешник, я заставлю тебя раскаяться, если ты мне солгал! Берегись, если ты сам сочинил эту историю! Нет, я отказываюсь поверить, что сир Джулиан решился расстаться со своей дочерью – этого не может быть!
– Боюсь, что так все и было, – вмешался Эрмольд де Марей, который, приняв живейшее участие в освобождении своего господина, завоевал себе право говорить с рыцарем почти на равных. – Мне пришлось много ездить в поисках выкупа, и в каждом из городов я узнавал что-нибудь новое о намерениях сира Джулиана. Могу сообщить, что вскоре после взятия Мирабо англичанами он оставил двор короля Иоанна с тем, чтобы вооружить своих вассалов и объединиться с войском, которое, как говорят, должно выступить против Филиппа-Августа. Именно по этой причине он оставил свою дочь на попечение леди Плинлиман Корнуэлльской, хозяйки замка. Да, то, что сказал Галон, вполне вероятно.
Все это время, пока паж говорил, шут неотрывно и с каким-то особенным удовольствием следил за выражением лица де Кюсси. Реакция рыцаря не замедлила проявиться, что дико обрадовало злого насмешника. Давясь от хохота, Галон завопил громко:
– Вот это да! Посмотрите, как он взбешен! Ну, храбрый воин, какая же казнь ожидает теперь Вильгельма Гюйона? Какой из способов вы изберете: рассечь его от плеча до пояса или разбить его безмозглую голову? Ха-ха-ха! Думаю, второй вариант понадежнее. Расколите эту ореховую скорлупку и оставьте в ней мозга не более финиковой косточки. Ха-ха-ха!
ГЛАВА II
Группа путешественников, проезжая плодородными долинами и живописными холмами, разбросанными между Пуаси и Рильбуазом, медленно и осторожно продвигалась вперед. Во главе процессии можно было заметить несколько тех воздушных платьев, которые, развеваясь по воле ветра, во все века придают нежным созданиям, носящим их, необычайную легкость и еще большее сходство с бабочками, внушая мужчинам страстное желание поймать их в свои сети. И казалось, что только боязнь спугнуть этих грациозных прелестниц заставляла облаченных в доспехи воинов, следовавших за ними, ехать так тихо.
Вся кавалькада состояла человек из пятидесяти, среди которых лишь трое или четверо, судя по их обмундированию, были рыцарями; прочие же выглядели куда скромнее и имели при себе либо мечи и щиты оруженосцев, либо луки и колчаны простых воинов.
Впереди всех на сильной лошади выступал наблюдатель, следом за ним, как мы уже сказали, ехали прелестные всадницы, и замыкал всю группу отряд воинов, не слишком большой, но достаточный, чтобы защитить своих очаровательных спутниц.
Один из рыцарей, в великолепном вооружении, богато украшенном золотой насечкой, и шлеме с необыкновенно красивым пером, время от времени приближался к молодой и прекрасной девушке, ехавшей несколько впереди всех и заговаривал с ней мягким приятным голосом. Он, то спрашивал, не устала ли она, и предлагал отдохнуть, устроив привал, то интересовался, не холодно ли ей. Но чаще он рассыпался перед ней цветастыми комплиментами, касающимися цвета ее лица, губок и прелестных молочно-жемчужных зубок.
Если на первые вопросы со всей возможной учтивостью, односложно и суховато еще отвечала, то что касается комплиментов рыцаря, иногда весьма сомнительных, ответом на них был лишь взгляд больших черных глаз выражавших негодование пополам с прозрением. Впрочем, наш рыцарь был отнюдь не из тех подлинных рыцарей духа, и подобной, в его понимании, безделицей, его было не смутить. В свою очередь дама обратилась к своему спутнику только с одним единственным вопросом: где и когда она встретится со своим отцом. Услышав, что они его найдут пятьюдесятью милями далее, близ Дре, она удовлетворилась этим ответом, по-прежнему храня молчание и по поддерживая попытки рыцаря ее разговорить.
Дорога стала часто поворачивать, следуя изгибам Сены, и просматриваясь лишь до следующего поворота. Рыцарь с сожалением покинул свою прелестную спутницу и подъехал к отряду воинов.
– Не мешало бы удвоить осторожность и выдвинуть вперед разведчиков, – сказал рыцарь и отдал соответствующие распоряжения. – Осмотрительность не помешает, раз мы едем еще по вражеской территории, – продолжил он.
– Эй, Арпельт! Посмотри, не увидишь ли где парома, – крикнул рыцарь. – Да смотри хорошенько. Нам необходимо переправиться как можно быстрее.
– Паром должен стоять за этим мысом, который так зарос густым лесом, – отвечал оруженосец. – Отсюда не далее как полмили. Здесь нет ни села, ни деревни, и никто не помешает нам переправиться.
После этого ответа всадники продолжили движение по дороге, с одной стороны которой рос густой лес, а с другой поднимались высокие холмы.
Рыцарь подъехал к основному отряду, который следовал в нескольких шагах за всадницами, и заговорил со своими воинами.
Неожиданно прямо из леса выехал отряд и с такой быстротой напал на охрану, что сразу отрезал весь конвой от своих прекрасных подопечных.
Можно было решить, что это быстрое отчаянное нападение, не более как безумие, так как весь отряд нападавших состоял из семи человек. Но, видимо, значительное численное превосходство противника их не смущало. Всадник, скакавший во главе с громовым криком: «Де Кюсси, де Кюсси!» как молния обрушился на нашего рыцаря и одним ударом копья выбил его из седла. Оруженосца Арпельта ожидала та же участь, так же как и еще одного из воинов конвоя. Нападавшие сражались с такой храбростью, воодушевляемые своим доблестным предводителем, что и первые же минуты на траве оказалось несколько убитых охранников, а оставшиеся оттеснены в сторону леса. Но замешательство обороняющихся скоро прошло. Несколько рыцарей и воинов, находившихся в авангарде, увидели, что они имеют дело лишь с небольшой горсткой людей. Трое из них тотчас же напали на де Кюсси, в то время как еще один собрал своих, рассеянных внезапным нападением солдат, для организации ответной атаки. Теперь в свою очередь уже сир Гюи должен был отступать и защищаться, что он и делал, с большой ловкостью отражая сыпавшиеся на него удары и временами атакуя одного из противников.
Между тем, девушка, о которой мы говорили, и сопровождавшие ее женщины, двигаясь вперед по дороге, старались побыстрее удалиться от этой неожиданной и кровавой сцены. Однако ехавший рядом с ними стражник, как и они отрезанный от конвоя нападавшими, увидев начавшееся сражение, схватил лошадь молодой леди под уздцы и придержал.
– Госпожа! О, моя госпожа! – воскликнула одна из девиц, сопровождавших даму, – мне кажется, что это сир де Кюсси. Я уверена, что слышала именно его военный клич, к тому же я узнала его пажа Эрмольда де Марея, который только что сбил с лошади воина в два раза больше себя. Да ниспошлет им Господь победу! – продолжала простодушная девица.
– Молчи, глупая, молчи! – отвечала дама, повернув голову, и стараясь лучше разобраться в доносившемся до них шуме сражения.
– Да, они приближаются сюда, – проговорила дама и, обернувшись, обратилась к солдату, державшему повод ее лошади: – Отпусти лошадь, солдат! Оставь мою лошадь, говорю я тебе!.. Жалкий раб! Как ты смеешь удерживать меня против моей воли? Ты будешь горько раскаиваться, какая бы сторона ни одержала победу.
Но на солдата, видимо, получившего на этот случай соответствующие инструкции, ни угрозы, ни просьбы не произвели никакого действия, и это стоило ему жизни. Спустя мгновение из-за поворота появился де Кюсси и мощным ударом, направленным в шлем рыцаря, находившегося перед ним, поверг того на землю. Оторвав свой взгляд от поверженного, он поднял голову, посмотрел на девушку и ее свиту и закричал:
– Бегите, Изидора, бегите! Вы в руках предателей! Поезжайте направо; там на горе стоит замок, где вы сможете укрыться.
Только тут он заметил солдата, державшего за повод лошадь Изидоры, и старавшегося, развернув лошадей, поставить девушку между собой и де Кюсси. С быстротой молнии сир Гюи развернул коня, одновременно уклонившись от удара противника, и одним скачком оказался около Изидоры. Нужно было иметь мужественную душу и твердую руку, чтобы решиться нанести удар солдату, находившемуся вплотную к любимой женщине. Однако де Кюсси решился: меч просвистел в воздухе и пал как раз между шеей и плечом несчастного. Выпустив повод солдат трупом свалился с лошади рядом с Изидорой.
– Бегите, Изидора, бегите! – повторил сир Гюи, разворачивая своего коня, чтобы оказаться лицом к двум рыцарям преследовавшим его. – Бегите направо, в замок на горе, – в последний раз прокричал Кюсси, вступая в новую схватку.
Изидора не заставила повторять предложение в третий раз. Она подстегнула свою лошадь и быстро поскакала направо, в то время как де Кюсси сдерживал нападавших, напрягая для этого все свои силы. Его беззаветная храбрость в сочетании с опытом воина, помогли Изидоре скрыться; однако де Кюсси не питал иллюзий, что сможет долго с успехом противостоять многочисленным противникам, храбрость и опыт которых не многим уступали его собственным, а их вооружение ничем не отличалось от его. Все, что он мог сейчас сделать, это собрать воедино силы своего маленького отряда; и ему это удалось. Довольный уже тем, что удалось освободить Изидору, он вместе с горсткой храбрецов, отчаянно защищаясь, начал медленное отступление, сдерживая нападавшего противника и давая тем самым Изидоре дополнительное время скрыться. Однако перед лицом многочисленных врагов, к тому же знавших, что они сражаются на чужой территории и не могут терять ни минуты времени, это отступление становилось очень затруднительным.
Четверка рыцарей, жаждущих мщения, и возглавивших ответную атаку, яростно нападала на де Кюсси, адресуя ему большинство ударов.
Вооружение сира Гюи во многих местах было помято и разбито, щит рассечен ударом палаша, решетки забрала перерублены, и забрало больше не прикрывало лицо. Но несмотря на все это де Кюсси продолжал удерживать позицию, лишь медленно, шаг за шагом, отступая, и стараясь все время держаться к противникам лицом. Время от времени Кюсси испускал свой боевой клич, воодушевляя своих спутников, и ни на минуту не прекращая отражать и наносить удары своим не знающим промаха мечом.
Однако приближалась минута, которая могла бы стать роковой для Гюи. Отражая одновременную атаку трех рыцарей, Кюсси хотел осадить лошадь назад, но она споткнулась о пень и присела на задние ноги. «Де Кюсси! Де Кюсси!» вновь испустил рыцарь свой клич, терзая бока своего скакуна шпорами и пытаясь заставить его подняться, и то время как трое противников осыпали его ударами, от которых он едва мог защищаться. В эту гибельную для де Кюсси минуту на месте сражения появились два новых воина, отвлекшие внимание рыцарей на себя. Это были Филипп-Август и граф Овернский.
Сражаясь и отступая, Кюсси приблизился к месту, где в поединке сошлись король Франции и граф, о котором рассказывалось в предыдущей главе. Последний военный клич рыцаря достиг их ушей, и они тотчас же, не сговариваясь, прекратили бой и бросились на помощь. Впереди мчался граф Овернский, узнавший клич своего друга. С непокрытой головой, как был, он кинулся в сечу, и со всей силой, которую иногда придает безумие, опустил свой меч на рыцаря, более других теснившего де Кюсси. Этим мгновением воспользовался сир Гюи и сумел поднять своего коня. Король, примчавшийся следом, увидел по форме и вооружению, что нападавшие – нормандцы, а следовательно, подданные его врага, короля Иоанна, не раздумывая бросился в середину сражения нанося тяжелые удары мечом, который редко давал промах. Он вступил в битву не размышляя и не считая своих врагов, с тем истинным духом рыцарства, с каким когда-то всего с двумя сотнями рыцарей напал на целую армию короля Ричарда.
Сражение, с вмешательством Филиппа и графа, стало носить менее неравный характер, однако на чьей стороне окажется победа, сказать было невозможно. Все сомнения рассеял показавшийся отряд всадников, скачущих в галоп по дороге, ведущей из замка. Нормандцы, которые следовали за Вильгельмом де ла Рош Гюйоном, понимая, кому спешит на помощь приближающийся отряд, немедленно начали отступление, успев однако подобрать своего, поверженного графом, товарища. Они были тоже опытные воины и отступали в строгом порядке, пока не оказались у того места, где под деревом около дороги, в разбитых доспехах, до сих пор оглушенный своим падением, лежал поверженный ударом копья де Кюсси Вильгельм Гюйон.
– Ха! ха! ха! – раздался смех с верхушки того самого дерева, в то время как нормандцы помогали Вильгельму сесть на лошадь. – Ха! ха! ха! снова раздался смех нашего старого знакомца и обладателя достопримечательного носа Галона, который запустил одной из своих огромных перчаток прямо в лоб рыцарю, и увидев, что она рассекла кожу и потекла кровь, просто исходил в конвульсиях от смеха. Галон ничем не рисковал, издеваясь над Вильгельмом Гюйоном: у нормандцев для мести времени не было. Де Кюсси, заполучив в помощь целый отряд всадников, немедленно начал преследование воинов Иоанна, и только наступившая ночь остановила его.
За все время преследования отступающего неприятеля де Кюсси и его товарищи не успели обменяться даже словом. Приближающаяся ночь заставила их прекратить преследование. Они предоставили возможность уносить ноги бегством остаткам вражеского отряда, а сами, спешившись, наконец-то могли заговорить друг с другом.
Два брата по оружию приблизились друг к другу и с жаром пожали руки. «Оверн!» – вскричал де Кюсси, смотря на своего друга, лицо которого было в крови, текшей из раны на лбу.
– Де Кюсси, – воскликнул в ответ Тибольд, глядя на разбитое забрало, открывавшее лицо рыцаря. Затем, потирая рукой лоб, и как бы стараясь собраться с мыслями, он повторил: – Де Кюсси! Мне очень плохо, Гюи, с тех пор как мы расстались с тобой; палящий жар солнца в пустынях Сирии, холод Агнессы, когда я честно исполнял поручение возложенное на меня ее отцом, повредили мой рассудок.
– Ах! – воскликнул, стоящий рядом Филипп, – так вот в чем дело!.. – И он, не договорив, умолк. Однако тут же спохватившись, продолжил. – Нам пора поискать какое-нибудь убежище, где мы могли бы отдохнуть, – проговорил он, желая сменить столь тягостную для него тему разговора. – Сир рыцарь, – обратился он к командиру отряда всадников, прибывших из замка, – мы благодарим вас. Ваша помощь оказалась очень кстати.
– Вы мне ничем не обязаны, сир, – ответил с поклоном рыцарь. – Благородная леди, прискакавшая в замок, рассказала нам о том, что здесь происходило, и нашей обязанностью было взяться за оружие во славу Франции.
– Вы хорошо поступили. А теперь послушайте меня, сир рыцарь! – и, подойдя к нему, Филипп прошептал ему на ухо несколько фраз.
– Ваше приказание будет исполнено, – ответил начальник отряда, низко поклонившись.
– Сир Гюи, – сказал король обращаясь к Кюсси, – ваши нынешние действия достойны ваших прочих подвигов, совершенных как в Святой земле во славу Господню, так и в других местах. Вы, без сомнения, направляетесь в Париж, и я прошу разрешения сопутствовать вам. Этот храбрый рыцарь, – прибавил Филипп, показывая на предводителя отряда всадников, – сообщил мне, что дама, которую ваша храбрость освободила из рук вероломного Вильгельма Гюйона, находится в безопасности под и покровительством королевы Агнессы, и, следовательно, ни один человек без воли королевы не проникнет в замок, который к тому же защищает столь мощный гарнизон. Так что вы можете быть уверены, что благородная девушка находится теперь под надежной охраной.
– В таком случае, – ответил Кюсси, – я повинуюсь воле королевы, и уступаю необходимости. Отправимся сей же час в Париж, – продолжал он, – потому что я должен немедленно доставить королю, как это ни прискорбно, печальные известия.
– Что это за известия? – встревожено воскликнул Филипп, но, тут же спохватившись, закончил иначе: – Не являются ли новости тайной, и может ли их знать иностранец?
– Сир рыцарь, – ответил Кюсси, казалось, не заметивший обмолвки короля, – известия таковы, что скоро распространятся везде, но уши короля должны первые услышать их от меня. – Оверн! – обернулся он к графу, – прошу вас позволить моему пажу перевязать вашу рану: кровь продолжает течь из нее.
– Нет, мой достойный друг, нет! – отвечал Тибольд, который в продолжение всего разговора хранил молчание, прислонившись спиной к дереву, и устремив задумчивый взгляд в землю перед собой. – Нет, мне кажется, что с каждой каплей вытекающей крови, ослабевает огонь, пожирающий мой мозг. Я знаю, дорогой де Кюсси, что мой рассудок поврежден, но сейчас мне становится легче. Более того, я припоминаю, что не далее как сегодня, я оскорбил этого достойного рыцаря, оказавшего тебе столь действенную помощь. Прошу простить меня, сир рыцарь! Простите меня! – повторил Оверн, подходя к Филиппу и протягивая ему руку.
– От всего сердца, – с чувством отвечал король, сжимая руку графа, и с облегчением признаваясь себе, что неприязнь, к Оверну, поселившаяся в его душе, и о которой никто из присутствующих не подозревал, после всего, что он только что узнал, отступает, уступая место благородству и справедливости, – от всего сердца! Но вы шатаетесь! Вы не можете стоять!.. Эй! Кто-нибудь! Перевяжите его рану, остановите кровь.
Филипп говорил властным голосом, показывающим, что он привык повелевать. Казалось, он не намерен более скрывать свое инкогнито. Рану графа Овернского перевязали, но прежде чем смогли унять струившуюся кровь, рыцарь потерял сознание. Его отнесли в пещеру и уложили, заботливо укрыв теплой одеждой.
ГЛАВА III
Тем читателям, кто не знает или забыл сущность феодальной системы, может показаться странным и несообразным тот факт, что король одной страны мог заставить другого сильного и независимого монарха явиться к своему двору, чтобы судить его как преступника. Однако именно так оно и было. Каждый рыцарь, барон, граф и даже герцог, будучи полноправным хозяином собственных поместий, являлся в то же время вассалом верховного государя, который, даруя им эти наделы (ленные земли), предъявлял одновременно ряд условий, обязательных к исполнению владельцами данных ленов. Если же вассал отказывался выполнять эти требования, то поместья неподчинившегося рыцаря вновь отходили в вотчину короля.
В основе феодальной системы лежал и такой закон: вассал мог быть осужден только равными ему по положению людьми, также, как и он, зависимыми и подчинявшимися верховному государю.
На основании этого закона Иоанн и должен был явиться ко двору Филиппа-Августа. Явиться не как король Английский, а как герцог Нормандский, Анжуйский, Пуату и Гиень, поскольку все эти провинции издревле принадлежали французской короне.
В день, назначенный для суда, Луврский дворец наполнился придворными и являл собой великолепное зрелище. Каждый из феодалов, не желая, чтобы кто-либо из равных превзошел его в роскоши, собрал самых знатных и богатых своих вассалов, чтобы в окружении многочисленной свиты предстать пред очами монарха. Огромный зал, где должно было состояться осуждение, был убран с подобающей случаю торжественностью и пышностью. Без преувеличения можно было сказать, что здесь собрался весь цвет общества – самые богатые, знатные и могущественные французские феодалы. Голову каждого венчала корона, означавшая его титул. Глядя в их строгие, серьезные лица, нельзя было сомневаться, что все они понимают важность события, по поводу которого собрались здесь.
В конце зала, на высоком троне, украшенном всеми знаками царского величия, восседал Филипп-Август, истинный монарх по духу и происхождению. Вместо короны его голову плотно охватывал широкий золотой обруч, усеянный драгоценными камнями и увенчанный лилией. Величие блистало в его глазах, а привычка повелевать выказывалась в каждом жесте, и, хотя в этом зале находилось немало принцев, ни один из них не мог быть принят за государя.
Поскольку далеко не все пэры прибыли ко Двору, следовало для начала выяснить, почему они не смогли явиться, и только потом приступать к делу. К Филиппу по очереди подходили послы, чтобы сообщить, по какой причине отсутствует тот или иной вассал. Их донесения были внимательно выслушаны и признаны законными.
Когда эта часть церемонии закончилась, Филипп приказал главнокомандующему прочесть просьбу, поданную французским пэрам герцогиней Констанцией, после чего, сопровождаемый герольдами, он приблизился к распахнутым дверям зала и громко объявил, что вызывает Иоанна, герцога Нормандского, явиться и ответить на обвинение герцогини Бретаньской.
Как и предписывал обычай, он трижды повторил воззвание, сопровождая каждое из них продолжительной паузой, чтобы дать время для ответа. Через несколько минут хранитель оружия ввел в зал двух депутатов, присланных королем Иоанном, один из которых был епископ, другой же – рыцарь, Губерт де Бург.
– Милости прошу, господа депутаты! – приветствовал их король. – Сообщите всем нам, по какой причине Иоанн Анжуйский не явился в собрание, чтобы, следуя обычаю, ответить на обвинение – согласиться с ним или опровергнуть. Разве он смертельно болен? Или не признает власти моего двора?
– Нет, не болен, – отвечал епископ, – и не отвергает власти французских пэров; но он опасается появиться в городе, где у него столько недоброжелателей, и испрашивает, чтобы король Французский поручился прежде за его безопасность.
– Охотно, – согласился Филипп. – Пусть не беспокоится, я ручаюсь, что ему не причинят здесь вреда.
– Но гарантируете ли вы ему также и безопасное возвращение? Каков будет ваш ответ?
– Готов поклясться, что не стану чинить препятствий, но только в том случае если собрание сочтет его невиновным, а обвинение – необоснованным.
– И все-таки… если пэры вынесут обвинительный приговор, даруете ли вы ему грамоту, с которой он мог бы благополучно вернуться в свои владения?
– Нет! Ни за что! – вскричал Филипп громовым голосом. – Клянусь небом и землей, я не сделаю этого! И если совет лордов, разобрав заявление герцогини, сочтет ее жалобу справедливой, то Иоанн получит по заслугам. Я не отступлю ни на шаг от вынесенного решения.
– В таком случае, государь, – произнес епископ невозмутимо, – должен сообщить вам, что Иоанн, король Английский, вряд ли сможет прибыть во дворец. Он не захочет подвергать свое королевство опасности. Ведь если совет лордов осудит его, то найдется немало английских баронов, которые поспешат воспользоваться его поражением.
– Какое мне дело до того, что мой вассал, герцог Нормандский, боится потерять свои земли! – гневно вскричал Филипп. – Разве это освобождает его от обязанности подчиняться верховному государю?! Нет, я не намерен жертвовать ради него своими правами! Клянусь Богом, не бывать этому! Монжу! – обратился он к одному из приближенных. – Возьми себе помощника и отправляйтесь на мосты, улицы и перекрестки с воззванием, чтобы Иоанн Анжуйский лично и без промедления явился на суд пэров.
Прелат и его помощник тотчас же удалились.
– Сир епископ, – продолжал король, – вы выполнили свою миссию и можете быть свободны, но если подождете около часа, то услышите приговор, вынесенный собранием. Не смею задерживать вас, но должен заметить, что не возражал бы, если б вы вдруг решили остаться и выслушать мнение пэров.
Епископ почтительно поклонился, соглашаясь, а де Бург досадливо поморщился, словно присутствие на церемонии казалось ему бесполезным и невыразимо скучным, и, беззаботно повернувшись спиной ко всем, вышел из комнаты.
В течение нескольких минут зал напоминал разбуженный улей: бароны совещались между собой, стараясь прийти к общему мнению. Между тем Филипп пристально наблюдал за каждым из них, желая предугадать их приговор. Мало-помалу тишина восстановилась, и пэры, снова заняв свои места, молчаливо ожидали возвращения хранителя оружия и герольдов. Наконец двери зала отворились, и появившийся на пороге Монжу сообщил всем, что в точности выполнил поручение, но Иоанн Анжуйский не откликнулся на его воззвания и не объявился.
Какое-то время в зале царило глубокое молчание. Вдруг Филипп выжидающе посмотрел на герцога Бургундского. Это был человек в летах, чрезвычайно тучный, черты лица которого были весьма примечательны. Густые темные брови низко нависли над черными как угольки глазами. У него был орлиный нос и красиво очерченный маленький рот. Этот мужчина с каким-то особенно мрачным и даже строгим видом наблюдал за происходящим. Он первым встал, откликнувшись на молчаливый призыв короля, и, приложив руку к сердцу, твердым и внятным голосом произнес:
– Я объявляю Иоанна Анжуйского предателем, виновным в убийстве, и называю его жестоким и развращенным негодяем! В наказание за все преступления его владения должны быть конфискованы в пользу верховного государя, а сам он заслуживает смерти, клянусь в том своею честью!
Выкриками одобрения был встречен такой приговор. Бароны и рыцари, каждый по-своему, спешили высказать личное мнение на этот счет, но все были едины в своем решении: виновен! Тишина, царившая в зале вплоть до этого момента, была взорвана гулом многоголосья. Но достаточно было одного жеста короля, чтобы вновь восстановился порядок. Все смолкли, приготовившись слушать монарха.
Филипп величественно встал, вынул из ножен свой меч и положил его на стол.
– К оружию! К оружию! – воскликнул он. – Благородные пэры Франции, ваше определение произнесено, а значит, оно должно быть исполнено. Мечи в руки! К оружию, призываю я вас! Не станем терять ни минуты в пустых разговорах. Соберите своих вассалов. Филипп Французский идет против Иоанна Анжуйского и требует того же от каждого из баронов. Мы стоим за правое дело, и справедливость будет восстановлена! Пусть трусы меня оставят, а храбрые следуют за мной! Клянусь, не пройдет и года, как я накажу изменника!
И в заключение добавил:
– Главное собрание будет через десять дней, и назначается под стенами Гольярдского дворца.
Сказав это, он простился со всеми и вышел из зала.
Филипп-Август не терял времени даром. Отправив герольда в Руан, чтобы тот сообщил Иоанну Анжуйскому о решении, принятом на совете пэрами Франции, он немедленно занялся укреплением собственных позиций, для чего лично составил множество депеш, разосланных в разные концы королевства, чтобы, заручившись поддержкой влиятельнейших баронов, выставить против Иоанна мощную и боеспособную армию.
Такой расклад сил был явно не в пользу английского короля, бароны которого, недовольные его низкими действиями, либо вовсе отказывали в повиновении, либо помогали, но так слабо и неохотно, что вряд ли можно было рассчитывать на победу. Во французских же его владениях большинство вассалов открыто вступились за Филиппа, предложившего им свою дружбу и покровительство. И хотя самые большие города Майна и Нормандии все еще держали сторону Иоанна, оказывая некоторое сопротивление, но превосходство сил Филиппа, его военные достоинства и политические переговоры переманили большую часть баронов под знамена французского короля.
Война началась, по обыкновению того времени, всякого рода грабежами, которые особенно распространились в Нормандии. Войска мародерствовали, опустошая и разрушая все на своем пути; не щадили ни пола, ни возраста и своими поступками вынуждали народ прибегать к покровительству Филиппа, который один мог даровать ему защиту, что и старался делать. Филипп обещал городам свободу, баронам – поддержку их прав и привилегий, народу – мир и безопасность. И почти повсеместно такая политика короля, поддерживаемая к тому же сильной многочисленной армией, гарантировавшей защиту, имела успех. Французская корона торжествовала.
Иоанн Английский сбежал в Гиень, в то время как граф Саллисбюри, командуя небольшой армией и вынужденный отступать, старался сдержать продвижение французских войск. Избегая решительного сражения, в котором французы, без сомнения, одержали бы победу, граф организовывал засады и нападения на отдельные отряды Филиппа-Августа.
Именно здесь и представилась де Кюсси возможность приобрести славу талантливого военачальника. Командуя вассалами графа Танкервильского,составлявшими цвет всей армии, он смог проявить свой военный гений, долго остававшийся невостребованным. Имя де Кюсси гремело и прославлялось во всех дворцах и замках, стоило лишь в разговоре затронуть военную тему.
Другой герой нашего романа, граф Овернский, полностью излечился от ран телесных. Его оруженосцы, пажи и слуги, узнав от де Кюсси о местонахождении графа, отправились к нему. Их неустанная забота и тщательный уход, сделали свое дело: физические силы вернулись к графу, но не рассудок. Ясность мысли и суждений, вернувшаяся к Оверну после ранения, вновь покинула его, Слуги, любившие его всей душой, несмотря на излишнюю холодность и строгость, продолжали заботиться о нем, однако рассудок оставил графа, казалось, навсегда. Однажды, с хитростью душевнобольного человека, усыпив бдительность своих придворных ласковым обращением, Оверн скрылся. Граф исчез не оставив никаких следов, и найти его не смогли.
Все эти события произошли в конце июня. В это же время, совершенно перестав беспокоить набегами королевскую армию, вместе со своим отрядом исчез и граф Саллисбюри, оставив Нормандию без защиты. Во французском лагере распространялись слухи один нелепее другого, и только вернувшийся один из шпионов Филиппа, привез достоверные сведения своему королю.
Монарх находился в своей палатке, читая письма, когда ему доложили о прибытии перебежчика, и король приказал его немедленно ввести.
– Государь, – начал тот, склонившись в низком поклоне, – со всей точностью я могу утверждать, что армия графа Саллисбюри двигается по дороге на Булонь. Я затесался в ряды их солдат, подражая их языку и переодевшись, и узнал, что войско идет во Фландрию.
– Так скоро! – вскричал Филипп, не сдержавшись и невольно выдавая беспокоившие его мысли. – Я не думал, что у них уже все готово, – продолжил он и замолк, поняв, что сказал больше, чем нужно.
Чтобы понять это восклицание короля, нам придется рассказать о событиях, происходивших в это время за пределами Франции. Пока Филипп в частых стычках с английскими войсками отвоевывал Нормандию и праздновал победы, его враги готовились к контрнаступлению. К ним примкнули и отдельные вассалы французской короны, недовольные политикой короля.
ГЛАВА IV
Пока шла война в Нормандии и на Майне, Иоанне отнюдь не бездействовал. Бездарный полководец, то чего он не мог достичь силой, он добивался интригой, хитростью.
Монархам соседних с Францией государств не слишком нравились успехи Филиппа-Августа, и английский король этим воспользовался, заключив сначала союз с германским императором Оттоном, а затем и с другими государями. К этому союзу примкнули и вассалы французской короны, недовольные ущемлениями своих прав. Иоанну этот союз давал надежду на возвращение потерянных владений в Нормандии, в случае если войска Филиппа будут разгромлены союзной армией, и в то же время не слишком связывал ему руки.
Дело в том, что германский император Оттон видел в Филиппе своего непримиримого врага еще с давних пор. Филипп противился в свое время его избранию на престол Священной Римской империи, а также, пользуясь ссорой между Оттоном и папой Иннокентием, поддержал его противника Фридерика Сицилийского, который и стал государем Верхней Германии. Жажда мщения одолевала императора, и Иоанну не стоило большого труда уговорить Оттона взяться за оружие.
К этому союзу присоединился и Ферранд, граф Фландрский, забывший о том, что он вассал французского короля. Могущественный граф, владея обширными землями, но уступавшими богатством землям Филиппа-Августа, долгое время с завистью следил за возрастанием влияния своего сюзерена. Уже несколько раз он отказывался выполнять вассальные обязанности, только и ожидая удобного случая для разрыва всех отношений с верховным государем. Множество причин побудило вступить в этот союз и герцогов Брабантского и Лимбургского, а также графов Голландского, Нимурского и Булонского.
О существовании данного союза Филиппу было известно, но приготовления к военным действиям велись в такой тайне, что стали известны французскому королю только тогда, когда он узнал о выступлении войск графа Саллисбюри во Фландрию на соединение с союзной армией.
Сто пятьдесят тысяч солдат выставили союзники против Филиппа. Замки и крепости сдавались один за другим, и флаг императора Оттона развевался отныне на их башнях. Более двадцати крепостей сдались Иоанну, находившемуся в это время в Пуату. Да и внутри самой Франции, особенно в Лангедокских провинциях, было неспокойно. Родственники и еще недавно ближайшие друзья французского монарха готовы были переметнуться на сторону неприятеля. Письма с подобными неутешительными известиями ежедневно ложились Филиппу на стол.
Силы французской армии, хотя и уступали в численности союзнической, вряд ли уступали ей в боеспособности. Под стены Суассона к королю прибыли рыцари со всей Франции. Филипп возглавлял отряд, сформированный в его собственных владениях, но со своими отрядами прибыли и оставшиеся верными своему государю властители собственных земель: герцог Бургундский с целой свитой рыцарей и множеством солдат, набранных в его владениях, не уступавших размерами иному королевству; юный Тибольд Шампаньский, сопровождаемый своим дядей, явился во главе целой армии; графы Дре, Оксерн, Пуатье, Сент-Поль со своими отрядами; наш герой де Кюсси, во главе войск графа Танкервильского; наконец наемные войска и добровольцы. Проведенный смотр войск, когда они с распущенными знаменами проходили перед своим монархом, внушал уверенность и давал надежду на победу. Хотя достигавшая восьмидесяти тысяч человек армия Филиппа и уступала в численности, но ее выучка и мощь давала надежду на победу.
Глаза Филиппа блестели, обозревая проходящее войско. Никогда еще он не собирал под своим стягом столь великолепную армию, и разве могла теперь удача от него отвернуться. Он не сомневался в победе.
Отрядив часть войск против Иоанна, находившегося в Пуату, Филипп, не теряя ни минуты, выступил во Фландрию навстречу неприятелю. Союзническая армия, численность которой, вместе с вспомогательными силами, достигла почти двухсот тысяч человек также двигалась навстречу королю Франции. В нескольких милях от городка Турне армии расположились лагерями. И хотя жажда битвы была велика с той и с другой стороны, сражение не начиналось. С момента смотра французских войск в Суассоне граф Фландрский и германский император вели через своих доверенных лиц подрывную работу и среди вассалов французской короны и успели поколебать одних в их верности монарху, других же поссорить между собой. Это не удивительно, если вспомнить, что, несмотря на внешнее единство, армия в средние века оставалась все-таки сборищем самостоятельных отрядов того или иного графа. Зачастую эти отряды не подчинялись единому верховному командованию, считая полководца недостойным командовать ими, или в силу собственной гордыни, и действовали на свой страх и риск, не следуя единому плану битвы даже в сражении.
Расположившись лагерем близ Турне, Филипп? узнал, что император Оттон со всеми своими силами находится в десяти милях от этого города. Понимая, что время работает против него, и раздоры в рядах его армии могут усилиться, король хотел дать сражение немедленно. Хотя его войска и уступали противнику численностью, но Филипп совершенно справедливо полагал, что военное искусство его рыцарей и солдат стоит целой армии неприятелей.
Наступил вечер. Все приготовления к предстоящему сражению были сделаны. Король ждал своих баронов на последний военный совет. Филипп сидел в большом зале старого дворца в Турне и размышлял, отдав приказ служителям не беспокоить его. Разные мысли одолевали короля. То он представлял, как будет печалиться Агнесса, узнав, что ее любимый супруг пал под ударами неприятелей, то в своих мечтах он видел радость королевы, когда, увенчанный лаврами победителя, сожмет ее в своих объятиях. Он представлял себе, как попирая ногами своих врагов и презирая римских церковников, теперь бессильных мешать ему, вернется в Париж и еще раз назовет свою царственную возлюбленную королевой перед людьми и богом и его служителями на земле.
Его метания были прерваны вошедшим человеком, с порога заговорившим с ним:
– Государь! – Подняв глаза, он увидел Гереня, стоявшего перед ним.
– Ну, Герень! – сказал король с нетерпением, – что нового?
– Если я осмелился вас беспокоить, государь, то лишь потому, что только что из неприятельского лагеря прибыл человек с важными, как он утверждает, новостями, и я надеюсь, что вы его выслушаете.
– Знаешь ли ты этого человека, Герень? Я не люблю шпионов.
– Я не могу точно утверждать, однако, кажется черты его лица мне знакомы. Он говорит, что в Туре поступил на службу к принцу Артуру, и с такими подробностями рассказывает о взятии Мирабо и последовавших за этим несчастьях, что невозможно сомневаться в его словах. Он рассказывает, что, попав в плен, стал конюхом у графа Саллисбюри, но узнав, что французская армия находится поблизости, сумел убежать.
– Хорошо, Приведи его, Герень. Все, что он говорит, похоже на правду.
Герень тотчас вышел, и вскоре привел с собой хорошо сложенного человека средних лет, коротко стриженного, но с длинными усами и бородой. Во всяком случае на француза он был совершенно не похож, и неудивительно, что Филипп смотрел на него с недоверием.
– Каков хитрец! – воскликнул король, – тоже мне, француз! Ты верно какой-нибудь поляк, или иная заморская птица. Во всяком случае, с такой бородой и стрижкой ежиком ты на француза не похож.
Однако речь человека и характерный выговор, тотчас доказали королю Франции, что перебежчик имел полное право называть Францию своим отечеством, тем более, что с его слов стало ясно, что такую стрижку и бороду он носит по приказанию графа Саллисбюри.
– Ладно, ладно, я тебе верю, – проговорил Филипп, – а теперь рассказывай, какие известия ты принес из вражеского лагеря, и стоят ли они того, чтобы так спешить?
– Когда граф Саллисбюри прибыл на военный совет, то я по должности обязан был держать его лошадь и дожидаться у императорской палатки. Это и дало мне возможность услышать часть разговора, состоявшегося между ними. Сначала они говорили тихо, и я ничего не слышал, но потом император возвысил свой голос и вскричал: «А я вам говорю, что он перейдет в наступление – я знаю Филиппа; и тогда в тесном проходе Марке, мы разобьем этих французишек в пух и прах. Я верю слову де Кюсси и рыцарям графа Танкервильского, что во время наступления они останутся в арьергарде и займут второй выход из лощины, тем более, что я обещал Кюсси руку его возлюбленной, дочери графа дю Мента, если мы останемся победителями». «Если Филипп узнает о его измене, то прикажет отсечь ему голову, и тогда ваш план не сработает», – прервал его граф Саллисбюри. После этого, ваше величество, мне ничего не удалось услышать, потому что вышедший граф отослал меня от палатки подальше, – закончил свой рассказ перебежчик.
Король долго сидел в молчании потрясенный услышанным. Затем, наградив доносчика кошельком с золотом, он его отпустил, приказав, однако, наблюдать за ним. Видно сомнения в правдивости услышанного все-таки одолевали короля, однако приказ об аресте де Кюсси он отдал.
Вернувшись в палатку короля, которую уже заполнили бароны, Герень подошел к Филиппу и, наклонясь к нему, тихим голосом доложил, что в лагере нет ни Гюи де Кюсси, ни его пажа и оруженосца, ни отряда копейщиков, ушедших куда-то с де Кюсси. Король выслушал его в молчании, устремив взгляд в стол, стоявший перед ним, и когда Герень закончил говорить, поднял голову, подумал с минуту и объявил свое решение.
– Мы выступаем в поход завтра на рассвете и, прикинувшись, что идем на Лилль, обойдем неприятеля сбоку и нападем неожиданно. Прошу вас, благородные рыцари, позаботьтесь о том, чтобы уже спозаранку все войска были собраны и готовы к походу. А пока прощайте. Завтра увидимся.
На другой день знамена уже развевались. Король на превосходной лошади, сопровождаемый блистательной свитой, остановился посреди линии. Сняв шлем, он подозвал двух священников, которые поднесли ему кувшин вина и благословенный хлеб на металлическом блюде. Филипп разрезал мечом хлеб на мелкие куски и, положив их в бокал, наполнил его вином.
– Бароны и рыцари! – произнес он громко. – Прошедшей ночью ко мне явился доносчик и сообщил, что в нашем совете есть изменники и предатели. Я отказываюсь этому верить! Впрочем, я весь перед вами, и если кто-то считает, что я недостоин французской короны, тот может оставить меня и смело перейти на сторону неприятеля вместе со свитой. Даю королевское слово, что не стану чинить препятствий и не сделаю ему ни малейшего зла. Но те, кто решится сражаться и умереть за своего государя, пусть приблизится и в знак нашего союза выпьют со мной это священное вино и съедят хлеб. С этой минуты мы – братья по оружию, и пусть будет проклят тот, кто нарушит обет и забудет о братстве!
Эта речь была встречена одобрительным гулом, и все без исключения устремились к Филиппу, чтобы принять боевое крещение. Вокруг короля образовалось плотное кольцо, через которое никак не мог пробиться худощавый человек в почерневших доспехах. Наконец он сумел протиснуться и потребовал:
– Чашу мне! Дайте мне чашу!
Забыв о том, что на нем шлем с закрытым забралом, он поднес было чашу ко рту, но тотчас не спохватился, поняв свою ошибку, и поднял забрало. Все с удивлением и жалостью наблюдали за действиями безумца, которым оказался Тибольд, граф Овернский.
– Филипп, король Французский, – пригубив чашу, торжественно произнес он, – я ват до смерти!
Он постоял несколько минут, пристально глядя на монарха, затем повернул коня и поскакал к своему войску, расположившемуся неподалеку от основной линии.
– Бедняга! – посочувствовал король и, обращаясь к Гереню, добавил: – Вели присматривать за ним, и пусть кто-нибудь возьмет его на свое попечение.
Герень выполнил приказ короля, после чего, чтобы удостовериться в искренности намерений Тибольда, переговорил с его воинами, от которых узнал, что граф Овернский прибыл сюда из благих побуждений – защищать права Филиппа.
ГЛАВА V
В то самое утро, когда Филипп делал смотр своим войскам, по узкой дороге, пролегающей между горами, ехали два человека. Первый, одетый в кольчугу, со шлемом на голове, оставлявшим открытым только лицо, и командирскими знаками отличия на груди был Жоделль; другой, ехавший рядом с ним, одетый в платье всех цветов радуги и черную шляпу с павлиньим пером – Галон.
– Зачем ты преследуешь меня, шут? – раздраженно говорил Жоделль. – Ты, дьявольское отродье. Оставь меня одного. Но если ты следуешь за мной из дружеской привязанности, – с кривой усмешкой на лице продолжил Жоделль, – то, смею заверить тебя, мы скоро увидимся, А сейчас оставь меня, – повторил Жоделль, – я тороплюсь, Проклятые саксонцы, – размышлял он вслух, – почему они позволили тебе уехать, когда я строго наказал им присматривать за тобой?
– Ха! ха! ха! – со смехом ответствовал Галон, – какой ты неблагодарный, сир Жоделль! Можно ли даже подумать, чтобы мародер, разбойник был неблагодарен, – и Галон опять разразился смехом. – Не я ли за эти дни открыл тебе все тайны де Кюсси? Не я ли пять месяцев назад избавил твою шею от веревки? А теперь, неблагодарная собака, ты отказываешь мне в своей любезной компании, мне, готовому путешествовать в твоем обществе хоть на край света, мне, который тебя так нежно любит! Ха! ха! ха! Более того, что же я слышу? Ты приказал своим жестоким саксонцам меня стеречь, а может, и убить, если я попытаюсь избавиться от такой опеки. И если бы им захотелось сжечь на костре меня и мою кобылу, ты постарался бы уверить их, что она такая же чертовка, как и я черт. Но они, пленясь моей красотой, открыли все, и отпустили меня из любви к моему носу. Ха! ха! ха! Никто не может остаться равнодушным к моим прелестям. Ха! ха! ха! – покатывался Галон со смеху. – Но я еще помучу тебя и не оставлю до тех пор, пока не узнаю, что ты сделаешь с тем письмом, которое прячешь за пазухой. Я припомнил де Кюсси все полученные от него в свое время побои, не забуду и про тебя. Да, да! не забуду. Уже не забыл. Ха! ха! ха! Думаю, теперь мы с тобой квиты, и кое-чем я могу теперь услужить своему господину.
– Ты не будешь ему более служить, дурак! – вскричал Жоделль, глаза которого сверкали от ярости. – Я тоже расплатился с ним за полученный удар и за прочие причиненные мне неприятности. Его голова не так уж крепко держится теперь на плечах. Приказ о его аресте нынешней ночью – дело моих рук. Способен ли ты, шут, на такую проделку? – в свою очередь зло рассмеялся Жоделль.
– Ха! ха! ха! – захохотал в ответ Галон содрогаясь всем телом, а его нос шевелился сам по себе. – Безмозглое животное, осел, старый пень! Да в моей одной извилине ума больше, чем во всей твоей башке. Клянусь Богом, немного надо мозгов чтобы сложить такую нелепую сказку. Ха! ха! ха! Неужели ты думаешь, что предоставив тебе материал для доноса на сира Гюи и возможность говорить с канцлером, я не позаботился о безопасности моего господина, этого убийцы быков, рыцаря с железным кулаком? Правосудное небо! Какие же ослы эти мародеры с большой дороги!
– Не такой осел, как ты думаешь, дьявол! – в ярости вскричал Жоделль хватаясь за рукоятку кинжала и бросая злобный взгляд на ехавшего рядом Галона.
Однако тот всегда, по крайней мере, одним глазом следил за своим сотоварищем, и Жоделль убеждавшийся не раз в силе и чрезвычайной ловкости Галона, струсил и не решился на открытое нападение. Он заглушил бушевавший в нем гнев и решил при первом удобном случае отделаться от шута, которому до конца не доверял никогда. Чтобы такой случай представился, Жоделль, спрятав преступный умысел в тайниках своей черной души, сделал вид, что юмор Галона ему нравится, и расхохотался.
– Ты довольно злой насмешник, сир Галон, – сказал он, смеясь, – поистине, злой насмешник! Однако мне хотелось бы знать, каким образом ты заставил де Кюсси покинуть армию своего короля перед самым сражением.
– Ха! ха! ха! не было ничего легче, – отвечал шут. – Что ты делаешь, когда приманиваешь птицу, сир Жоделль? , Ты кидаешь ей крошки хлеба, не так ли? Вот и я выманил де Кюсси басней об отряде врага, который, как я сказал пажу Эрмольду де Марею, оруженосцу Гуго и сиру Гюи, хочет напасть на фланг королевской армии. И теперь наш доблестный рыцарь рыщет вдоль реки этот отряд. Ха! ха! ха! – в который раз засмеялся чрезвычайно довольный собой шут.
– Клянусь Святым Петром, ты открыл все, что я рассказал тебе ночью за столом, сидя за бутылкой, – вскричал Жоделль. Дурак! Я заставлю пожалеть тебя об этом, если ты не будешь осторожнее, и как-нибудь награжу тебя ударом кинжала.
– Прекрасно сказано, сир! – не скрывая насмешки ответил Галон, – но неужели ты думаешь, что я сказал де Кюсси правду? Ты глуп Жоделль! Я рассказал сиру Гюи, что Джулиан дю Монт и Вильгельм де ла Рош Гюйон заходят с фланга с отрядом в десять тысяч человек. Ха! ха! ха! Как тебе это нравится, господин разбойник? И не говори мне об ударе кинжалом, сир мародер, не то я воткну тебе свой под пятое ребро и брошу труп на дороге, как издохшую лошадь бросают в ров. Ха! ха! ха! Тебе нравится мой юмор?
– Я думал, – продолжал Галон, – что де Кюсси отправится со всеми своими силами и переломает ребра этому хлыщу, столь гордому на вид, осмелившемуся некогда коснуться почтенного монумента моей красоты. – Говоря это, Галон дотронулся до своего феноменального носа. – Но оказывается сир Гюи с несколькими воинами отправился только на разведку. Ведь он мог разгромить отряд, прикончить воздыхателя, припереть папашу к стенке и жениться на наследнице! И он еще называет меня дураком!.. Прекрасно!
– Но куда же ты едешь, сир Жоделль? Не отвечай. Я знаю и так. Я видел всю императорскую армию, двигавшуюся походным строем к Бувинскому мосту, а значит, ты везешь приказ сиру Джулиану, графу Гюйону и герцогу Лимбургскому напасть на арьергард французов и уничтожить. Арьергард изрубят в куски. Люди будут похожи на фарш для пирога! Ха! ха! ха! Надобно и мне там быть: я стану обдирать мертвых.
Так, не умолкая, разглагольствовал Галон, переходя от одной темы к другой, но показывая при этом столь точное знание планов неприятельской армии, что Жоделль приписывал это магии и еще более убеждался, что шут знается с чертом. Однако Галон узнал все это, проведя предыдущую ночь в лагере императорской армии и со старанием прислушиваясь к разговорам солдат, одновременно забавляя рыцарей и оруженосцев своими шутками и кривляньем.
Так за разговорами они доехали до перекрестка с другой дорогой, точно также зажатой меж высоких холмов. На вершине наиболее высокого холма, в месте скрещения дорог, рос вяз, на который Галон сразу же обратил внимание.
– Ха! ха! ха! – зашелся он в хохоте, и тут же с восторгом поспешил поделиться мыслью, вызвавшей такую реакцию, со своим спутником. – Ха! ха! ха! сир Жоделль, этот вяз точь-в-точь похож на тот, на котором тебя чуть было не повесили, если бы я не спас. Ты еще этого не забыл?
– Это не ты меня спас, дурак! – возразил Жоделль. – Король Иоанн, подумав, отменил свой приказ. Как бы дешева ни была моя жизнь, я не хочу быть обязанным ею презренному шуту. Король Иоанн сохранил мне жизнь для свершения мщения, и я это исполню прежде, чем умру. А там посмотрим; рассчитаемся и с королем.
Глаза мародера заблестели, когда он вслух стал излагать свои планы, существовавшие до этого только в его воображении.
– Постой! – вскричал Галон, прерывая размечтавшегося разбойника. – Слушай! До меня донесся лошадиный топот. Это, без сомнения, императорская армия. Я влезу на дерево и посмотрю.
Произнеся эти слова, он молниеносно спрыгнул с лошади и через минуту уже был на вершине дерева. Галон проделал это с такой быстротой и ловкостью, что Жоделль, только и ждавший удобного случая, чтобы нанести шуту удар кинжалом, не успел даже схватиться за рукоятку. Поневоле он начал расспрашивать шута о том, что открылось его взгляду с вершины дерева.
– Что я вижу? – вскричал Галон, и сам же ответил. – Поистине, когда я смотрю в эту сторону, вижу немецких ослов, фландрских лисиц, английских собак и нормандских лошаков, которые двигаются вдоль реки, стараясь это делать как можно осторожнее. Когда смотрю в другую сторону, то примечаю стадо французских обезьян. Но когда смотрю себе под ноги, – прибавил он, показывая пальцем на Жоделля, – то вижу провансского волка, жаждущего грабежа и крови.
Сказав эти слова, шут стал спускаться с дерева. В эту минуту послышался стук копыт приближавшихся лошадей. Жоделль повернулся, как бы желая посмотреть, кто приближается, в то же время осторожно вынув меч из ножен. Галон приметил это движение и поспешил влезть опять на дерево, но не успел. Хотя Жоделль только ранил Галона в ногу, но боль была столь сильна, что шут выпустил ветвь, за которую держался, и упал к ногам мародера. Меч разбойника опустился сверху вниз и проколол шута насквозь.
Смертельно раненый Галон, не говоря ни слова, не издав даже стона, из последних сил вцепился в ноги лошади, не давая ей двинуться с места. И как Жоделль ни старался, терзая шпорами бока своего коня, он не мог заставить лошадь освободиться от вцепившегося в нее мертвой хваткой шута. Между тем отряд рыцарей приближался, и вид перьев, развевавшихся на шлемах, заставлял Жоделля искать спасения в бегстве. Встреча с всадниками не сулила ему ничего хорошего.
Три раза лошадь мародера наступала ногами на тело несчастного шута, а Галон все еще удерживал ее. Постепенно силы оставили его и с возгласом «де Кюсси! де Кюсси!», перешедшим в смех, он выпустил ноги лошади из своих ослабевших рук. Увидев, что лошадь свободна, а последнее восклицание Галона более чем справедливо, Жоделль развернулся и погнал коня в галоп.
Де Кюсси, а это был именно он, еще издали разглядел и узнал Жоделля и, увидев Галона, распростертого на земле в луже крови, догадался, что произошло. Не останавливаясь ни на минуту, не опустив забрала и не взяв щита, он вырвал копье из рук оруженосца и поскакал за мародером. Преследование длилось недолго. Скоро де Кюсси настиг убегавшего и, с силой ударив копьем, пробил латы насквозь. Пронзительный крик, перешедший в стон, вырвался из груди Жоделля, словно камень рухнувшего с лошади. Жизнь этого разбойника, предателя и убийцы закончилась. Сир Гюи хотел вытащить застрявшее в теле копье, но видя, что не сходя с лошади этого сделать не удастся, приказал исполнить это своему оруженосцу, а сам поскакал туда, где оставил умирающего Галона в окружении своей свиты.
– Де Кюсси! де Кюсси! – выговорил умирающий шут слабым голосом, – Галон собирается в дальний путь. Приблизьтесь к нему и скажите перед разлукой несколько слов.
Рыцарь сошел с лошади и дал знак своей свите отойти на несколько шагов, а сам в сопровождении пажа и оруженосца приблизился к раненому, смотревшему на него с нежностью, что было, кажется, в первый раз.
– Мне жалко расставаться с тобой, де Кюсси! – заговорил Галон. – Но теперь, когда приблизился мой конец и я вижу, что скоро предстану перед Богом, я понял, что люблю тебя более, нежели думал. Дай мне свою руку.
Гюи сказал ему несколько ласковых слов и протянул руку. Шут схватил ее и осыпал поцелуями.
– Я очень часто противоречил тебе, де Кюсси, и теперь об этом сожалею; ибо никто мне не оказывал столько милостей, сколько ты. Веришь ли ты мне? Простишь ли ты меня?
– Конечно, мой бедный Галон. Я не знаю, вредил ли ты мне когда-нибудь; но если это и правда, я прощаю тебе от всего сердца.
– Да вознаградит тебя небо!.. Послушай меня, де Кюсси, я хочу оказать тебе последнюю услугу. Но мои силы тают… Эрмольд, дай мне вина, и я расскажу сиру Гюи, чем ему вредил и как можно исправить содеянное. Скорее! Вина! Вина! Силы оставляют меня.
Сделав несколько глотков из фляжки, поднесенной Эрмольдом, шут стал рассказывать о ложном доносе, касающемся владений графа Танкервильского.
– Перед лицом близкой кончины клянусь, что я говорю правду, и только правду! Видам Безансонский поручил мне сказать вам, что граф Танкервиль при свидетелях вручил королю Филиппу II Августу хартию, выражавшую его волю. По этой хартии все поместья трефа Танкервиля принадлежат вам, сир Гюи. И видя вас во главе войск и вассалов графа, сир Видам решил, что вы вступили во владение наследством. Он не знает, что вы командуете отрядом танкервильцев по воле короля. Он также не знает, жив ли еще граф Танкервиль, но считает, что подобные сведения могут быть у пустынника Бернарда.
– Я ничего не могу понять, – сказал Гюи.
– Потом, потом! Не спрашивайте меня, сир! Я чувствую, что сил остается все меньше, а мне нужно еще так много рассказать вам, – продолжал Галон.
– С этого дерева я видел, что армия короля Филиппа движется к Бувинскому мосту; но он не знает, что неприятель следует за ним буквально по пятам. Если Филипп вздумает начать переправу – он погиб. Этой ночью мне удалось узнать, что граф Брабантский с надежным человеком должен послать в отряд, которым командуют герцог Лимбургский, Джулиан дю Монт и Вильгельм де ла Рош, разработанный накануне план ведения боевых действий. Если вы, сир Гюи, сопоставите данные, получаемые от ваших разведчиков, то убедитесь, что неприятель следует в точности этому разработанному плану нападения. Граф Брабантский отправил с этим письмом человека, хорошо знающего расположение французских войск. – Стон вырвался из груди Галона, но он собрал остатки сил и продолжал. – Де Кюсси, де Кюсси! Я уверен, что этот человек, разбойник Жоделль. Я уверен, что это он. У него должен быть пакет. – Голос шута слабел и прерывался. – Мне плохо, где вы, де Кюсси?.. Не возвращайтесь в лагерь. Король думает, что вы ему изменили. Не возвращайтесь: он велит отрубить вам голову. К чему вы без головы будете годны? Ха! ха! ха!
И с этой последней шуткой в присущем только ему стиле Галон испустил дух.
– Он умер! – сказал де Кюсси. – Но возможно ли, что наша армия оставила Турне и сейчас движется к Бувину? Неужели король изменил свои планы? Это надо проверить. Эрмольд, влезь на это дерево и осмотрись. Оно достаточно высокое и с него должно быть все видно. Туго, ступай и обыщи мародера. Скорее Эрмольд. Видно ли тебе что-нибудь?
– Да! Наша армия действительно движется вдоль реки, а ее авангард уже переходит мост.
– А теперь посмотри направо, Эрмольд. Во имя Бога, быстрее. Что ты там видишь? – вскричал де Кюсси.
– Я вижу несколько разрозненных отрядов копьеносцев, а в долине огромное облако пыли. Но, может быть, это не пыль, а утренний туман. Подождите, я влезу повыше. О, Боже! Копья, копья! Я вижу как блестят их наконечники. Целый лес копий. Вся неприятельская армия движется сюда.
– Немедленно спускайся, Эрмольд. Все на лошадей, – вскричал де Кюсси, обращаясь к своей свите. – Ну, Гуго, что ты нашел у разбойника? – прибавил он, обращаясь к подошедшему оруженосцу.
– Вот, – отвечал тот, подавая рыцарю запечатанный конверт.
– Ладно, потом посмотрим, а сейчас нельзя терять ни минуты. На лошадей! На лошадей! – продолжал командовать Кюсси. – Мы должны присоединиться к авангарду королевской армии прежде, чем все отряды достигнут моста. Надо остановить переход и дать сражение немедленно, иначе все погибло! – И, сопровождаемый небольшим отрядом, де Кюсси поскакал во весь опор к Бувинскому мосту.
Через несколько минут бешеной скачки сир Гюи столкнулся с маленьким отрядом, во главе которого ехали Герень и виконт Меленский. Они были отправлены королем на разведку и должны были узнать оставила ли неприятельская армия свой лагерь близ деревушки Мартен.
– Рад, что встретил вас, сир Гюи, – сказал Герень, останавливая лошадей одновременно с де Кюсси. – Хочу сообщить вам довольно неприятную новость, – продолжал он. – Прошлой ночью на вас поступил донос. Вы обвиняетесь в измене королю. Я этому не верю, Кюсси. Однако король отдал приказ о вашем аресте, но вас не оказалось в лагере.
– Служба королю и французской короне – вот причина моего отсутствия, – отвечал де Кюсси. – Однако почему изменились планы и армия выступила в поход раньше?
Герень попытался ответить, но де Кюсси продолжал:
– Впрочем, сейчас это уже неважно. Я должен немедленно видеть короля. У меня в руках план сражения наших противников. Мне нужно спешить. Я надеюсь остановить переход наших войск на эту сторону реки. Мы должны дать сражение, оставаясь на том берегу. Если вы, Герень, спросите почему, то ответ заключен в этом конверте. Но для полноты картины, взобравшись на один из этих холмов, а еще лучше на дерево, вы сможете сами увидеть неприятеля – настолько он близко.
С этими словами де Кюсси откланялся и, дав шпоры, пустил лошадь в галоп.
Скачка закончилась, когда сир Гюи заметил короля в окружении рыцарей, спешившихся и расположившихся в густой тени раскидистого дерева. Он слез с коня и направился к Филиппу. Король не спускал взора с подходившего рыцаря.
– Государь, – начал Кюсси, – прикажите остановить войска, идущие вдоль берега, и возвратите те, которые переходят мост. Противник в тылу нашей армии, всего в полумиле отсюда. Одновременно с этим, большой отряд под предводительством дю Монта и де ла Роша готовится к нападению с этой стороны реки. Прежде чем вся армия переправится сюда, вы будете окружены, и тогда поражение неминуемо.
Де Кюсси произнес все с горячностью человека, знающего, что нужно делать.
– Сир Гюи, – произнес, выслушав рыцаря Филипп, – знаете ли вы, что вас обвиняют в измене? Так должен ли я следовать советам такого человека?
– Государь, – отвечал Кюсси, – пусть Бог вам пошлет побольше таких изменников. Впрочем, сейчас не время оправдываться. В этом конверте находится план вражеского наступления, по крайней мере, я так думаю, хотя и не вскрывал его. – С этими словами Гюи протянул пакет королю. – По печати вы можете видеть, что письмо от герцога Брабантского, а адресовано оно герцогу Лимбургскому, графу дю Монту и Вильгельму Гюйону. Их отряд, как я выяснил, численностью до пятнадцати тысяч человек находится в трех милях отсюда.
Король взял пакет и разрезал шелковую перевязь кинжалом. Лишь только он прочел первые строчки, сразу понял замысел неприятеля и последствия для его армии.
– Клянусь Богом, ты успел вовремя, Кюсси, – вскричал король и немедленно отдал приказ остановить переправу.
– Ну, Герень, – продолжил Филипп, увидев бегущего к нему министра, – видел ли ты вражескую армию?
– Да, государь! – не далее как в полумиле отсюда.
– Мы их разобьем! Мы их разобьем, Герень! – вскричал Филипп, вставая. – К оружию, воины! К оружию!
Король вставил одну ногу в стремя, а рукой оперся о шею лошади, и оставался в таком положении несколько минут, раздавая окружающим приказы, обнаруживающие быстрый ум, который все предвидит и ничего не забывает:
– Орифламму перенести через мост! Ренольт, немедленно возврати знаменосцев! Гуго, скачи к графу Сент-Полю и передай мой приказ остановиться! Де Кюсси, я незаслуженно обидел тебя, но прошу, забудь об этом и сражайся нынче также отважно, как и раньше. Герень, немедленно разворачивайте войско в боевой порядок. Постарайтесь расположить в центре наши верные и лучшие части. Всем рыцарям выдвинуться вперед насколько это будет возможно. Евстафий, разыщи графа Бомонта, и скажи ему, чтобы он перешел реку в брод и расположился со своим отрядом на правом фланге, сильно не удаляясь от реки. Герень, надо, чтобы солдаты начали сражение первыми и прорвались бы в неприятельские ряды прежде, чем конные отряды начнут атаку. Де Кюсси, вы во главе войск графа Танкервильского, – я надеюсь на вас. Сир Вильгельм, вы останетесь при мне.
Отдав приказы Филипп-Август вскочил на коня, надел шлем и быстро поскакал на вершину близлежащего холма. Там он остановился и стал внимательно наблюдать за передвижением своих войск по дороге ведущей, с одной стороны, к Бувинскому мосту, а с другой – к Турне. Заросшие лесом холмы скрывали от его взора уже переправившийся арьергард.
ГЛАВА VI
Глубокое молчание царило на поле предстоящей битвы. Армии расположились одна против другой и только ожидали сигнала к началу кровавой сечи. Достаточно было одного слова, одного знака, одного сигнала трубы, и эти две жаждущие крови массы кинулись бы одна на другую. И чувствуя тяжесть этой роковой минуты и ответственность, ложащуюся на них, каждый монарх медлил, тянул до последней секунды с отдачей страшного приказа, понимая, что потом только оружие будет решать вопросы жизни и смерти.
Во всяком случае, наверное, именно такие мысли занимали Филиппа-Августа, ибо он сказал обращаясь в Вильгельму де Мартемору:
– Пора начинать сражение. Видит Бог, я совсем не жажду их крови, но имею полное право защищаться. Они объединились, чтобы меня уничтожить; так пусть кровь, пролитая сегодня, падет на их головы. Где орифламма? – спросил он, отыскивая глазами главный стяг французской армии.
– Еще не перенесли через реку, государь, – ответил Жерар Скафье.
– В таком случае мы не будем больше ждать, – сказал король и сразу же продолжил. – Генрих де Барре, передайте приказ Гереню начать сражение. Пусть он отправит несколько отрядов солдат для атаки стоящей против нашего правого фланга тяжелой фламандской конницы, и только потом пусть вступают в сражение рыцари.
Молодой граф поклонился и поскакал. Его появление послужило сигналом к началу боя. Тучи стрел взлетели в воздух и градом посыпались на выстроившихся французов. В ответ прозвучали трубы, и отряд солдат, человек в двести, выполняя приказ Филиппа, напал на конницу графа Фландрского.
Замысел Филиппа увенчался успехом. Французы, с копьями наперевес, бросились в середину выстроившихся фламандских рыцарей, а те, возмущенные, что их атаковали простолюдины, накинулись на них, избивая, но при этом нарушили порядок своих рядов.
Скоро все лошади под французскими солдатами были убиты, но те, приученные сражаться и пешими, мужественно вступили в рукопашный бой с конными рыцарями и произвели немалое опустошение в центре левого крыла императорской армии. В эту минуту отряд рыцарей, предводительствуемый Сент-Полем, бросился на помощь солдатам и, выбивая длинными копьями своих противников из седел, рассеял фламандцев, которые так и не смогли восстановить строй и теперь отступали под яростным натиском французов.
Сражение, начатое таким образом на правом крыле королевской армии, развернулось и в центре, где на небольшом холме, обозревая все поле битвы расположился Филипп-Август. И хотя левый фланг армии тоже вступил в битву, взоры монарха продолжали обращаться направо, где граф де Сент-Поль и герцоги Бургундский и Шампаньский еще продолжали бой с фламандцами.
Бой затягивался, а когда на помощь фламандским рыцарям подошли подкрепления из второй и третьей линий построения, то счастье явно стало поворачиваться к воинам графа Фландрского. Французы были оттеснены и прижаты к реке.
– Клянусь Богом! Герцог Бургундский в опасности! – вскричал король. – Мишель, скачи к сиру де Кюсси и передай ему, чтобы он со своими танкервильцами поспешил на помощь герцогу.
Исполняя королевский приказ, оруженосец поскакал во весь опор к де Кюсси, который со своим отрядом находился в резерве.
– Клянусь небом! – вскричал Филипп, спустя несколько минут, обращаясь к Гереню. – Герцог разбит. Я больше не вижу его знамени! Этот де Кюсси и не думает спешить. Клянусь Святым Денисом, неприятель обойдет наш фланг! Рыцарь либо глуп, либо трус, либо изменник. Ступай, Герень, ступай и скажи ему, чтобы он сражался, если дорожит своей честью.
Но король, хоть и находился на холме в центре сражения, не мог видеть того, что заметил де Кюсси. Как раз в это время резервный отряд союзнических войск перебазировался на другой фланг и начал медленно продвигаться в тыл фламандцев. Если бы де Кюсси ударил раньше, то он, раскрыв свой резерв, поставил бы его сразу же под ответный удар передвигавшегося отряда и тем самым подверг бы опасности окружения весь правый фланг. Итак, несмотря на критическое положение войск герцога Бургундского, он дождался, когда отряд противника полностью окажется в тылу фламандцев, и только тогда нанес удар. Предводительствуя своим отрядом, он опрокинул фламандцев, которые, в свою очередь отступая, вклинились в ряды резервного отряда императорской армии и расстроили его ряды.
Французские рыцари, рассеянные во время сражения, воспользовались моментом и вновь соединились вокруг своих вождей: герцогов Бургундского и Шампаньского.
– Браво, де Кюсси! – воскликнул Филипп, которому только теперь стал понятен смысл маневра сира Гюи. – Браво! – снова воскликнул Филипп. – Ты храбрый рыцарь и отличный стратег! Посмотрите, как все уступают ему! А вот и герцог Бургундский. Я его вижу. Он стоит около своего развевающегося знамени. Но что это за отряд приближается к месту сражения? Пыль препятствует мне рассмотреть знамена.
– Государь, – ответил де Барре, – это ополчение из городов Компвень и Абвиль. Они только что подошли и, желая немедленно принять участие в сражении, напали на саксонцев, которые сомкнутым строем пытались атаковать наш: центр.
В то время как он это говорил, городские ополченцы, желая отличиться в глазах короля, который даровал городам многочисленные свободы, прорвали первые ряды неприятеля и врезались в плотный строй немецкой пехоты. Однако те легко отразили натиск небольшого отряда и вскоре оттеснили горожан к подножию холма, на котором расположился Филипп.
Рыцари и солдаты, окружавшие короля, увидев близкую опасность, устремились на саксонскую пехоту и длинными мечами изрядно опустошили ее ряды. Однако на помощь пехоте подоспели немецкие рыцари, и сражение закипело как вокруг холма, так и на нем. Филипп продолжал оставаться на вершине холма вместе с графом де Монтиньи, державшим знамя, и Евгением де Лонгшаном, не пожелавшим покинуть своего короля. Филипп, казалось, не обращал внимания, что сражение кипело уже буквально вокруг него.
– Из любви к Богу, поберегитесь, государь! – проговорил Лонгшан. – Если вас ранят, все погибло.
– Поберечься! – воскликнул Филипп. – Сейчас? Нет, сир, и еще раз нет! – И увидев трех или четырех немецких рыцарей и нескольких пехотинцев, приготовившихся к атаке, он опустил забрало своего шлема и, вынув меч, прибавил: – Мы прежде отправляли свою должность по-королевски, теперь должны отправлять ее по-рыцарски.
– Я также последую вашему примеру, – сказал де Лонгшан и, взяв копье наперевес, поскакал к немецкому рыцарю и с такой силой нанес удар копьем, что пронзил того насквозь. В этот момент другой еще не принявший участия в этом мини-сражении рыцарь нанес мечом удар в грудь лошади Лонгшана. Животное упало и увлекло седока за собой. Сойдя с лошади, немецкий рыцарь оперся коленом на грудь Евгения де Лонгшана.
– Монжу и Сен-Дени, помоги! – испустил клич Филипп, увидя поверженного Лонгшана, и поспешил ему на помощь. Но было поздно. Немецкий рыцарь успел снять шлем с Евгения, потерявшего сознание от падения, и воткнул ему в горло кинжал. Встать он уже не успел. Пылая местью, король, не успевший помочь своему товарищу по оружию, с такой силой нанес удар по склоненной над Евгением голове рыцаря, что шлем того не выдержал, и меч короля, перерубив шею, полностью отделил голову от тела.
Подоспевшая немецкая пехота, вооруженная короткими пиками, окружила короля со всех сторон. Рядом с Филиппом остался только один рыцарь де Монтаньи, державший королевское знамя. Вокруг себя они видели только лица саксонских копейщиков, постепенно сжимавших круг и с жадностью смотревших на золотую корону на шлеме монарха.
Однако Филипп сражался с отчаянной храбростью, врываясь в ряды солдат и нанося удары, заставлявшие их несколько раз отступать.
Монтаньи также показывал чудеса храбрости. В левой руке он держал знамя, которое то опускал, то поднимал, давая знать тем, кто это видел, что король находится в опасности. Правая рука, вооруженная длинным мечом, сеяла опустошение в рядах неприятеля.
Однако тщетно король и его знаменосец показывали чудеса храбрости, каждым ударом меча убивая своих противников. На месте павших солдат появлялись новые, и круг, в котором сражались рыцари, смыкался все теснее.
Многие саксонские рыцари, увидев королевское знамя,поспешили на холм, горя желанием захватить его.
В одно из мгновений солдат, оказавшийся за спиной короля, нанес удар и тяжело ранил лошадь. Филипп почувствовал, как зашатался под ним конь, и в следующую секунду они оба оказались на земле.
Несколько рук с кинжалами одновременно пытались пробить доспехи, стараясь добраться до заключенного в них уязвимого человеческого тела. Казалось, только воспоминание об Агнессе и краткая молитва оставались Филиппу, когда внезапный крик «Оверн! Оверн!» раздался в его ушах и возвратил к жизни, с которой он уже простился. Склонив голову к луке седла, получая тысячи ударов, но не останавливаясь для их отражения, в совершенно разбитом вооружении, на лошади, покрытой кровью и пеной, Тибольд Овернский продрался сквозь толпу неприятелей и соскочил с лошади возле упавшего короля, и его знамени. Несколько солдат с кинжалами, искавшие щель в броне, защищавшей Филиппа, пали мертвыми. Остальные отступили, но поняв, что перед ними всего лишь один человек, бросились злобной стаей на него. Однако длинный меч графа Овернского разил всех, пытавшихся приблизиться к нему или Филиппу. Немало смельчаков заплатили жизнью за такую попытку. Видя, что к воину не подступиться без риска потерять голову, пехотинцы отошли, но их заменили прискакавшие рыцари. Бой разгорелся с новой силой. И в этом бою один человек противостоял многим.
Победа всей французской армии, жизнь, смерть или плен короля, участь Франции, а может быть, и всего мира зависела в эту минуту от руки человека, лишенного разума. Но этот человек был одним из храбрейших и опытнейших воинов. Латы Оверна были изрублены, кровь струилась из многочисленных ран, и ежеминутно он получал новые, но граф не отступал ни на шаг, закрывая собой короля, пока на помощь не прискакали французские рыцари, увидевшие наконец бедственное положение своего монарха.
Однако численное преимущество было все еще на стороне саксонцев, как вдруг крик «де Кюсси! де Кюсси» раздался у подножия холма, показались длинные копья танкервильцев. Порядок, царивший в их рядах, дисциплина и вера в своего командира помогли им одержать верх над противником и вовремя прийти на помощь своему королю. Саксонские копейщики были буквально раздавлены тяжеловооруженными всадниками де Кюсси. Немецкие рыцари тоже не выдержали натиска и вынуждены были отступить. Отряды Компьенских и Абвильских городских ополченцев соединились у подножия холма, и почти часовое сражение вокруг королевского знамени закончилось победой французской армии.
Де Кюсси сразу же бросился к королю. Филиппу помогли освободиться от придавившей его лошади, он встал и, не садясь на подведенного ему нового коня, спросил:
– Где граф Овернский? Я обязан ему жизнью.
– Вот он, – воскликнул кто-то из свиты короля, – в черных латах.
– Де Барре, вы чуть не наступили ему на грудь.
Это действительно оказался Тибольд. Множество ран покрывало его тело, которое больше не защищали разбитые латы – от них остались одни обломки. Оверн лежал на груде тел, сраженных его мощной рукой.
С него сняли остатки шлема, и сам король преклонил колена и приподнял голову своего защитника, не в силах поверить, что столь доблестный рыцарь, пожертвовавший жизнью за своего монарха, мертв.
Однако Оверн был еще жив. Его губы шевельнулись, но ни одного звука не донеслось до короля.
– Оверн! – с грубоватой мужской нежностью произнес король. – Оверн! Если ты умрешь, я потеряю лучшего из своих подданных!
Собрав остатки сил, граф прошептал что-то, но так тихо, что Филипп не расслышал. Он склонился над умирающим так низко, что ухо его почти касалось губ Тибольда.
– Скажите ей… – прошептал граф слабым прерывающимся голосом, – скажите ей, что я умер, спасая вам жизнь… Я сделал это ради нее… и из любви к ней…
– Я передам ей это, – обещал Филипп. – Клянусь честью, я все передам! И плохо я ее знаю, Тибольд, если она не прольет по тебе слез!
Слабая улыбка появилась на губах умирающего. Он благодарно взглянул на Филиппа, и в ту же минуту огонь, горевший в его глазах, потух навсегда.
– Прощай, Оверн! Прощай, храбрый и верный рыцарь! – сказал король. – Де Барре, вели похоронить его со всеми почестями. Где теперь происходит сражение? – обратился он к воинам. – Похоже, вы не теряли времени даром. Левое крыло неприятеля обратилось в бегство – или зрение меня обманывает?
– Вы правы, государь, – ответил Генрих де Барре. – И Ферранд, граф Фландрский, взят в плен герцогом Бургундским.
– Слава Богу! – воскликнул Филипп и, быстро оглядев поле боя, добавил: – Мне кажется, неприятель в растерянности. Где императорское знамя? Где Оттон?
– Он чуть было не попался, но ему посчастливилось ускользнуть. Но что это, государь: у вас в латах обломок копья…
– Не заботьтесь об этом! – перебил король. – К делу! Армия Оттона в смятении, ее ряды разорваны. Еще один бросок – и мы победим, Де Кюсси, вперед! Рыцари, поддержите свою честь! Бургундцы, сражайтесь за Отечество! Монжу, Сент-Дени! Вперед, господа! В бой!
Это была критическая минута. Оттон мог бы собрать свои силы, которые вдвое превосходили армию французов, и контратаковать. Тем более, что правый фланг союзнической армии оказывал сильное сопротивление. И хотя граф Саллисбюри опрокинутый ударом копья, нанесенным ему де Бове, выбыл из сражения, оставшийся на правом фланге во главе англичан граф Булонский сражался отчаянно и не отступал ни на шаг.
Атака, предпринятая французами через центр – здесь ряды противника были расстроены – принесла успех и позволила им зайти в тыл к храбро защищавшимся на правом фланге англичанам.
Немцы и их союзники англичане обратились в бегство. Император Оттон едва избежал плена, но зато его военачальники оказались в руках своих противников. Союзники потерпели полное поражение.
Когда длившееся более шести часов сражение наконец закончилось, пленных оказалось так много, что король Филипп был вынужден остановить преследование отступающего противника: победители могли остаться в меньшем числе, нежели побежденные.
В пять часов вечера трубы сыграли отбой. Так закончилась знаменитая битва при Бувине, подобной которой еще не было в истории. Битва, значительно упрочившая положение Франции и лишившая Иоанна Английского почти всех его владений на континенте.
ГЛАВА VII
Сражение закончилось, порядок воцарился, и победоносная армия расположилась лагерем на берегу реки. Филипп-Август, удалившись в свою палатку, провел там в уединении около часа, после чего позвал оруженосца и велел пригласить военачальников, наиболее отличившихся на поле брани. Вечер был восхитительный, и лучи заходящего солнца проникали в палатку.
Во всем блеске королевского величия Филипп принимал дворян и вельмож своего государства. И тени высокомерия не было в его лице, когда он по-отечески ласково беседовал с воинами: одних благодарил за поддержку, других хвалил за подвиги.
– Благодарю вас, храбрый герцог Бургундский! – говорил монарх, держа его за руку. – Мы одержали полную победу, и ваша заслуга в том несомненна. А вот и епископ де Бове. Ей Богу, он так же превосходно владеет палицей, как и пастырским посохом. Надеюсь, святой отец, что есть в Писании текст, в котором позволяется священнику проливать кровь неприятеля, защищая свое Отечество.
– Это не кровожадность, государь, – отвечал воинственный прелат. – И есть некоторое различие: сразить в бою – не значит зарезать.
– Как бы то ни было, – улыбнулся король, – но именно с вашей помощью разрушили мы вероломный союз, направленный против Франции.
– А! Вот и молодой герцог Шампаньский! Герцог, вы ныне законно заслужили шпоры.
– Генрих де Барре, вы один из лучших воинов и сравнимы с легендарными рыцарями Круглого стола короля Артура. Я жалую вам пятьсот десятин земли в моей Суассонской долине.
– Де Кюсси, мой храбрый де Кюсси! Дай мне руку. Я незаслуженно обидел тебя перед сражением, но ты ответил на обиду своему монарху истинно по-рыцарски.
– Приветствую вас, Сент-Валери, вы как всегда кстати. Я рад видеть вас также, как и утром когда вы пришли ко мне на помощь в той битве на холме.
А теперь господа мне хотелось бы познакомиться с нашими пленниками, сделав это со всей возможной тактичностью, дабы не унизить побежденных в честном бою и решить их участь.
Первым ввели графа Саллисбюри.
Пленных было так много, что охрана, опасаясь, вынуждена была связать им руки за спиной. В таком положении и предстал граф перед Филиппом-Августом.
– Мне искренно жаль видеть вас здесь, граф, пленным, а не гостем. Я всегда с уважением относился к вам, – откровенно сказал король. – Но к чему эти веревки? Кто смел так поступить с достойным и храбрым рыцарем?.. Немедленно развязать! Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя пленным, дорогой граф.
– Я был связан, государь, очевидно, из боязни, чтобы побежденные не перевязали своих победителей, – ответил Саллисбюри. – А впрочем, я не в обиде.
– Однако, – сказал король, – в силу традиции надо, чтобы кто-нибудь поручился за вас, и тогда вы будете пользоваться свободой, пока мы не решим, какой назначить за вас выкуп.
– Если позволите, государь, – сказал де Кюсси, приближаясь, – моя жизнь и мое имение, как бы мало оно не было, будет залогом за графа.
– Благодарю тебя, мой старый друг и собрат по оружию, – сказал Вильгельм Длинный Меч и, помолчав, добавил: – Мне жаль, что мы не встретились с тобой в сражении, а то непременно обменялись бы несколькими хорошими ударами.
Длинной вереницей пленные проходили перед королем, и со всеми он старался разговаривать доброжелательно и обещал, что их участь не будет тяжела и вскоре они обретут свободу. Но когда ввели Ферранда, графа Фландрского, монарх преобразился. Нахмуренные брови, суровый взгляд – гнев явственно читался на лице Филиппа.
– Ну, мятежный вассал, чего заслуживает твоя измена? Не змея ли ты, пригретая на нашей груди? Разве не оказывали мы тебе гостеприимство во время прежних приездов в Париж? Разве тебя недостаточно почетно встречали, что у тебя появились мысли и желание завладеть наследством твоего монарха? Клянусь Богом, ты снова побываешь в Париже! Ты вступишь в нашу столицу, но сопровождать тебя будет не свита, шуты и скоморохи, а неподкупная стража.
Услышав эти слова, граф Фландрский побледнел от страха, но все-таки нашел в себе силы ответить королю.
– Надеюсь на ваш здравый смысл, государь. Вы не можете поступить со мной так строго. Ведь в конце концов я ваш вассал только по Фландрским землям, которые принесла мне в приданое жена, француженка. Я сын независимого государя, и моя жизнь…
– Твоя жизнь! – вскричав, перебил графа Филипп. – Можешь не дрожать за свою недостойную жизнь. Я не палач. Но клянусь, ты больше не взбунтуешься. А сейчас уходи. Уведите графа, – сказал Филипп уже более спокойно.
Следующим за графом Фландрским появился граф Булонский, неоднократно выступавший против своего сюзерена прежде, но всегда получавший прощение.
Филипп долго смотрел на этого гиганта и наконец заговорил дрожавшим от возмущения голосом:
– Скажите граф, сколько раз вы уже получали прощение за свои выступления против меня, вашего властелина?
– По совести, государь, я никогда не был силен в вычислениях, – отвечал граф, – но помню, что часто, чего признаться я не заслуживал.
– Когда ты все-таки их сочтешь, то прибавь еще одно, – проговорил Филипп. – Но клянусь останками всех святых, помни, что это последнее!
– Я не забуду, государь, и прошу не беспокоить их костей: я решил отныне быть верным вассалом вашего величества и, как говорит мой добрый друг сир Джулиан дю Монт, мои слова также незыблемы, как центр земли.
– А! Граф Джулиан! Вы здесь? Милости просим! Вы более всех старались возмутить против меня вассалов, и, следовательно, никто более вас не достоин виселицы и плахи! Однако мы можем принять и иное решение. Мой достойный друг и храбрейший рыцарь сир Гюи де Кюсси просит руки вашей дочери. Благоволите ответить согласием, и ваша голова останется на плечах.
– Это невозможно, государь! – с твердостью ответил старый граф. – Я уже отказал рыцарю и готов повторить: мои слова неизменны, как центр земли. Я скорее лишусь жизни, чем откажусь от своих слов.
– Хорошо, – воскликнул в сердцах Филипп, видя такое упрямство, – пусть топор палача сделает свое дело!.. Но знай, подстрекатель и возмутитель моих вассалов, седины тебя не спасут, и, наказав тебя за измену, я, как верховный государь, отдам этому храброму рыцарю и твое имение, и твою дочь. Увести его!
Лицо сира Джулиана побледнело, и на этом фоне выделялись ярко блестевшие глаза. Он кусал губы, но не сказал ни слова, чтобы умилостивить монарха.
В это время де Кюсси приблизился к королю, и сказав, что старый граф взят в плен его солдатами, попросил позволения сказать несколько слов сиру дю Монту.
– Говорите, де Кюсси, я разрешаю вам изложить упрямцу условия и попытаться убедить его, – ответил король. – Но говорю вам, если он не согласится отдать вам руку дочери, то пойдет на плаху. Посмотрим, чем вы сможете его убедить.
– Что я сказал, то свято! – продолжал бормотать сир Джулиан, мое решение неизменно…
– Граф, – начал де Кюсси, – вы как-то сказали мне, что я могу просить руки вашей дочери, если Вильгельм де ла Рош умрет, если вы будете моим пленником, и если я буду не менее богат, чем вы. Так знайте, что Вильгельм Гюйон убит, убит одним из моих воинов, в то время, как он бежал с поля битвы. Счастье улыбнулось мне – вы мой пленник. И мне кажется, что власть, подаренная мне милостью нашего короля, возвратить вам жизнь и свободу, стоит вашего богатства. Все три условия совпали. Ваше решение?..
– Нет! – ответил старый граф, – нет! – Он снова запел ту же песню. – Что я сказал, то… – но был прерван королем, гнев которого уже успокоился, и сейчас он скорее забавлялся этой сценой.
– Подождите, сир Джулиан! Подождите! Мне кажется, что вы не соглашаетесь только потому, что сир Гюи не так богат как вы; но этому можно помочь. В нашей власти сделать сира де Кюсси даже богаче вас, а уж знатностью он вам не уступает. Высокородные бароны, подойдите поближе! Слушайте наше решение!
Французские дворяне, бывшие свидетелями этой сцены, приблизились к королю, и Филипп продолжал:
– Граф Джулиан дю Монт, я, Филипп Второй Август, король французский, в присутствии и с согласия наших пэров, обвиняю вас в оскорблении королевского величества, и объявляю, что все ваши земли, поместья, замки и прочие владения, а такие все ваше движимое имущество конфискованы в пользу французской короны, которая распоряжается отныне всем, чем вы владели.
– Король высказал вам наше решение, граф, – прозвучало одновременно несколько голосов присутствовавших дворян, и сир Джулиан, несмотря на свою твердость, переменился в лице.
– Теперь, граф дю Монт, – продолжал король, – у вас нет ни одного клочка земли, ни одной монеты в вашем распоряжении, в то время как сир де Кюсси владеет своей землей. Вильгельм де ла Рош Гюйон убит, а вы пленник сира Гюи. Все условия выполнены и мы требуем, чтобы вы сдержали ваше слово и дали согласие на брак вашей дочери Изидоры с рыцарем де Кюсси.
– Что я сказал, то свято. Мое решение так же твердо, как и центр земли, – снова начал граф, и у короля от гнева кровь прилила к лицу, но продолжение последовало иное. – Сир де Кюсси, я обещал вам свою дочь при соблюдении определенных условий; они исполнены, и она ваша. Однако мне прискорбно отдавать свою дочь за нищего, хоть и благородного, рыцаря.
– Нищего! – вскричал Филипп, и отступивший гнев, после согласия дю Монта на брак, снова зазвучал в его голосе. – Знайте, что хотя одной его храбрости достаточно, чтобы сделать рыцаря достойным руки дочери принца, но он вдвое богаче, нежели вы когда-нибудь были.
– Да, де Кюсси, земли, владения, все прекрасные поместья на берегах Роны, принадлежавшие графу Танкервильскому, мужу сестры вашего отца, теперь ваши, в силу завещания, подписанного графом. Я был вынужден пользоваться доходами с этих земель, но обязался возвратить их вам, если граф умрет, или ему самому, если он вернется из Палестины, куда, как говорили, он отправился. Я следовал, поступая именно так, советам мудрого старца Бернарда, Венсенского пустынника, умершего десять дней тому назад. Мне также стало известно, что этот благочестивый отшельник и был сам граф Танкервиль. За несколько часов до смерти он написал и отправил мне письмо, полное мудрых советов и наставлений. Он также просил отметить вас, Гюи, нашей дружбой и покровительством. Но это излишне, так как я питаю к вам чувство дружбы уже давно. Таким образом, согласно завещанию, вы, Кюсси, оказываетесь богаче старика, на дочери которого женитесь, и в наказание за его упрямство я отдаю вам и вашим наследникам все его конфискованные владения и предоставляю вам право назначить опальному графу содержание.
Граф Джулиан опустил голову. Однако, забегая вперед, мы можем сказать, что после заключенного вскоре брака прекрасной Изидоры и сира Гюи, он никогда не жалел, что король отдал его владения в распоряжение зятя.
* * *
Спустя шесть дней после событий описанных нами в двух предыдущих главах, Филипп-Август ехал впереди группы рыцарей, пажей и оруженосцев. Он спешил разделить свою радость с Агнессой и сказать ей, что после столь блистательной победы над врагом, он сможет диктовать свои условия даже церковникам и добиться от них утверждения его развода и подтверждения брака с ней. Эти мысли, радовали Филиппа. Весел был и де Кюсси, ехавший рядом с ним и мысленно уже обнимавший свою ненаглядную Изидору.
Царило прекрасное июльское утро, и легкие облачка пробегавшие по небу несколько смягчали солнечный зной. Вскоре облачка сгустились, потемнели, несколько первых крупных капель упали на лошадей и всадников. Де Кюсси, посмотрев вверх, обратил внимание короля на голубя, летевшего над их головами.
– Государь, – сказал рыцарь, – это не простой голубь, это посланник. Такой вид связи часто использовался в Палестине. Взгляните, государь, у него на шее привязано ленточкой письмо.
– Есть ли у кого-нибудь сокол? – вскричал король. – Я бы отдал тысячу монет за сокола!
Один из пажей королевской свиты вез на руке сокола. Услыхав восклицание монарха, он снял с птицы колпак, отвязал и пустил. Сокол расправил крылья, взвился, заметил голубя и начал преследовать свою добычу.
– Браво, молодой человек! – сказал король. – Как твое имя?
– Губерт, государь, – отвечал паж, не поднимая взгляда.
– Губерт! – повторил Филипп. – Как! И больше ничего?
Паж молчал.
– Итак, – торжественно проговорил король, – отныне ты будешь зваться Губерт Дефоконпре.
Пока они так разговаривали, сокол набрал высоту, молнией упал на голубя, схватил его и вернулся к хозяину. Паж освободил несколько потрепанного голубка от когтей охотника и подал королю. Филипп развязал ленту, которой крепилась записка на шее птицы, приласкал голубя и отпустил.
Лицо короля, едва он начал читать записку, смертельно побледнело. Не говоря никому ни слова, он пришпорил свою лошадь и во весь опор поскакал к Рильбуазскому замку. Его свита пустилась за ним вдогонку, не зная, чему приписать столь неожиданную перемену в короле.
Проезжая подъемный мост, Филипп видел бледные и беспокойные лица.
– Королева! – вскричал он. – Королева! Здорова ли королева? – и не дождавшись ни от кого ответа, въехал на двор замка, соскочил с лошади и почти бегом направился через передние комнаты, заполненные стражей, к спальне Агнессы. Перед дверью комнаты, в которой он жил с Агнессой в первые месяцы супружества и которую она особенно любила как воспоминание о прежних счастливых временах, Филипп в нерешительности замер. Стараясь успокоиться, он стоял перед дверью и пытался уловить доносившиеся из-за нее тихие голоса. Ему не удалось разобрать ни слова; он приоткрыл дверь, вошел и остановился на пороге. Приближалась ночь, и в комнате сгустились сумерки, но восковая свеча, горевшая в дальнем конце, разливала свет, состязавшийся с уходящим дневным светом. В глубине комнаты в неверном освещении можно было разглядеть широкую постель, бывшую когда-то супружеской постелью королевской четы, а сейчас походившую на смертный одр. Ее окружали священники, вполголоса возносившие молитвы к небу; стоявшие рядом женщины, плакали. Одна из них, молодая и красивая, лицо которой показалось Филиппу знакомым, склонясь над постелью, поддерживала голову лежащей женщины. Смертельная бледность покрывала лицо лежащей.
Король с трепетом приблизился. Возможно ли, чтобы бледная, худая, с ввалившимися щеками, посиневшими губами, погасшим взглядом женщина, которой не доставало только савана, представшая перед его глазами, была прекрасная Агнесса, столь нежно и горячо любимая Агнесса, его Агнесса!
Восклицание, вырвавшееся из уст узнавших его людей, привлекло всеобщее внимание и достигло слуха умирающей. Искра жизни еще не погасла в королеве. Ее глаза открылись и радость блеснула во взгляде, обращенном Агнессой на своего супруга. Нежная улыбка скользнула по ее губам, и, сделав последнее усилие, она протянула ему руку. Филипп, покрыл руку поцелуями и, проливая горестные слезы, обнял умирающую и прижал ее к своему сердцу. Голова Агнессы склонилась на грудь короля, и она испустила последний вздох.
О слава! О победы! О могущество! О блестящая суета сует человеческих! Вы ничто иное, как водяные пузыри, поднимающиеся над рекою времени.
Джулиан Рэтбоун
Короли Альбиона
От автора
«Короли Альбиона» это роман, то есть вымысел, действие которого происходит в пятнадцатом веке. Если читателей смутят анахронизмы и другие неточности, я прошу их подумать, не составляют ли эти «огрехи» часть авторского замысла. Если же такой ответ их не удовлетворит, остается вообразить, что события происходят на «параллельной Земле», двойнике нашей Солнечной системы, расположенной в весьма отдаленном уголке Вселенной.
Нельзя сказать, чтобы я совсем не пользовался научной литературой. Решив направить небольшую группу людей с Востока в Англию, причем в наиболее мрачный период нашей истории, я призадумался: из какой именно страны должны явиться мои путешественники? Сперва я выбрал Бирму и обратился к Ричарду Блертону, работающему в отделе восточных древностей Британского музея, с просьбой предоставить мне основные сведения по средневековой Бирме. Выслушав мой план, он ответил:
— Джулиан Рэтбоун, Вам нужна не Бирма, а Виджаянагара.
— Что это такое?
Как и большинство будущих читателей этой книги, я понятия не имел, о чем идет речь. Ричард Блертон подробно ответил мне, а также снабдил необходимой литературой. Оказывается, в конце тринадцатого века княжества Южной Индии объединились, и возникшая в результате империя Виджаянагара просуществовала до 1565 года, после чего была завоевана султанами Бахмани. Прежний слой культуры был полностью уничтожен: библиотеки были сожжены, величественные здания и города лишились скульптур и настенной росписи, местное крестьянство попало в крепостную зависимость. В течение нескольких веков единственным источником наших знаний об утраченных сокровищах культуры служили хроники и путевые заметки португальских торговцев и путешественников, проникших в империю в XVI веке, после того как к ней был присоединен порт Гоа. Лишь сравнительно недавно археологи предприняли масштабные раскопки, и постепенно из осколков начали складываться современные представления о некогда великой цивилизации.
Виджаянагара как нельзя лучше соответствовала моим планам: страна, гораздо более культурная, нежели Европа XV века, и поскольку о ней мало что было известно, моему воображению предоставлялась полная свобода. Разумеется, подлинные знатоки Виджаянагары будут возмущены, и я приношу извинения Ричарду Блертону за то, что вовлек его в эту авантюру.
Из книг мне особенно пригодилось «Искусство Индии» (Видья Дехиджа, издательство «Фейдон»).
Братьев Свободного Духа я обнаружил в книге Грейла Маркуса «Следы помады» (издательство «Пикадор»), а подробнее изучил эту секту по труду Нормана Кона «В ожидании конца света: учения о миллениуме и мистические анархисты Средневековья» (издательство «Меркьюри»). Эти классические труды доставили мне истинное наслаждение. О Гассане ибн Саббахе я прочел впервые у Уильяма Бэрроуза (у него же я позаимствовал семейство Джонсонов), но вообще-то ассассины встречаются во многих приключенческих романах (я немало прочел их в детстве, в том числе и «Мистера Бикулла» Эрика Линклейтера, где действуют душители).
Кое-где я прибегаю к коротким, но узнаваемым цитатам из «Сердца тьмы» Джозефа Конрада и «Золотой ветви» Джеймса Фрэзера. Проповедь брата Питера в значительной степени позаимствована из книги Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация», с той страницы, где сам автор цитирует Ницше и Шина О'Кейси. Что же касается Али бен Кватара Майина и князя Харихары Куртейши они оба представляют собой смесь (в разных пропорциях) из Алана Квотермейна и сэра Генри Куртиса, двух персонажей знаменитого романа «Копи царя Соломона» Генри Райдера Хаггарда.
Вполне вероятно, что в книге обнаружатся и иные цитаты, которых сам я не заметил, — такое часто случается с начитанными и не слишком молодыми писателями.
Англия XV века здесь так же мало похожа на историческую реальность, как Виджаянагара. Я не обращался к первоисточникам, зато перечитал всю популярную литературу об этом периоде, какую смог найти в книжных магазинах и библиотеках. В конечном счете я остановил свой выбор на книге Элисон Вейр «Ланкастер и Йорк. Война Роз» (издательство «Пимлико») — на мой взгляд, это наиболее ясное и чрезвычайно подробное изложение событий той эпохи. Я постоянно прибегал к нему и хочу здесь же выразить благодарность автору. Приводимые в тексте стихи даны в современном английском переводе Брайна Стоуна («Средневековая английская поэзия» из серии «Пингвин Классике»).
Но главным, постоянным, всегда удовлетворявшим мое любопытство источником при написании «Королей Альбиона» была Британская энциклопедия (11-е издание 1911 года). Я унаследовал эти тома от отца, они стоят в небольшом шкафу справа от рабочего стола, и почти каждые полчаса я прерывал работу над книгой, вытаскивал с полки очередной том и погружался в чтение.
Дж. Р. Декабрь 1999
Часть I
Глава первая
Эту историю поведал мне Али бен Кватар Майин («Можешь звать меня Измаил, если хочешь, но мне больше нравится имя Али»), ушедший на покой торговец, человек, видевший много необычного, нечто вроде Синдбада наших дней. Многочисленные странствия не принесли ему богатства; только в последнем, том самом, о котором он мне так подробно рассказал, Али заработал достаточно денег, чтобы его сыну Гаруну (Али называл его Гареем) хватило на учебу в медицинской школе Миср-аль-Каира, или просто Каира, как называют столицу Египта христиане, а сам Али приобрел дом и мог покупать до конца своих дней столько бханга или гашиша, сколько ему требовалось. Он нуждался в гашише: после двух зим, проведенных на краю земли, Али страдал от мучительной боли в суставах, особенно в коленях и фалангах пальцев. Боль усиливалась в сезон дождей, а в семьдесят лет против этого недуга нет иного лекарства, кроме бханга. Я сказал в семьдесят лет? Не знаю точно. Сам Али то уверял, что ему всего шестьдесят, то склонялся к мысли, что ему вот-вот стукнет семьдесят пять.
Насчет сезона дождей: каждый год в Мангалоре в течение двух месяцев идут проливные дожди, и Али утверждал, что эта влага (как будто он не пропитался ею прежде, в Ингерлонде, причем холодной, а не теплой, как здесь) проникает в его суставы, заставляет их разбухать, причиняя такую боль, словно между фалангами пальцев и в колени искусный палач втыкает ему раскаленные докрасна иглы. Однако дожди длятся не так уж долго, и бханг помогает. На эти два месяца Али улетал на крыльях гашиша высоко-высоко, как те бумажные змеи, что любят запускать у вас в Китае. Боль никуда не уходила, но ее вроде бы испытывал кто-то другой. А во все остальное время года Али считал Малабарское побережье Индии, принадлежащее империи Виджаянагара, земным раем.
Он обзавелся парой жен — молоденькими сестричками (по его подсчетам, им не исполнилось еще и двадцати лет). Девушки прекрасно готовили туземную пищу, следили, чтобы слуги как следует убирали дом, купали и кормили своего господина, выводили его посидеть в патио у фонтана, где цвели лотосы и розы, приглашали в гости друзей Али, таких же купцов и путешественников, как он сам, и тогда мужчины развлекались беседой о прежних приключениях. Когда Али чувствовал себя получше, и если денек выдавался не слишком жаркий, он потихонечку спускался в порт, устраивался выпить лимонаду в каком-нибудь арабском кафе и смотрел на большие торговые суда под треугольными парусами, возвращавшиеся в гавань со всех четырех концов нашего круглого мира. В порту его привлекала также арабская девчушка, игравшая на гитаре и певшая ангельским голосом песни о родной Гранаде. Там я и познакомился с Али.
Вечером жены провожали старика в постель и сами ложились по обе стороны от него, чтобы старые кости впитали тепло и жизнь их юных податливых тел. Он хвастался, что спит как младенец.
Завидно, а?
Кто я такой? О чем я рассказываю? Разве вам не сказали? О, извините. Меня зовут Ма-Ло, я родился в Мандалае, в Рангуне был карманным воришкой, ушел юнгой в море на корабле, принадлежавшем малайским арабам… Однако я хочу поведать об Али, а не о себе. Что касается меня, я выучился морскому делу, ходя под парусами от островов на запад до Порт-Суэца и обратно, а затем выдал себя за араба-мусульманина и сам сделался капитаном торгового судна под флагом малайского султана. По торговым делам я добрался до Нанкина на реке Янцзы, а тамошний губернатор и князь, или мандарин, заявил, что секретные сведения не менее ценный товар, чем копра, и отослал меня сюда, в Камбалук, он же Пекин.
А теперь вернемся к Али.
В Мангалоре никому не возбраняется быть арабом-мусульманином. Как большинство портов, этот город допускает смешение рас и вер: христиане тут обосновались с самого момента возникновения этой религии, своим обращением они обязаны Фоме Близнецу, лично знавшему Иисуса и донесшему слова Учителя до местных жителей; есть здесь и евреи, не знавшие Иисуса и так и оставшиеся евреями; и, разумеется, сами индийцы различаются и внешностью, и происхождением — светлокожие арийцы и индусы, меднокожие дравиды (к этому племени принадлежали жены Али), смуглые тамилы. Моряки здесь по большей части арабы, а сейчас в порт начинают проникать также европейцы, они пересекают Средиземное море, спускаются по Красному и выходят в Аравийское море. На последнем этапе пути им приходится нанимать арабские суда. Я слышал, португальцы намерены в один прекрасный день проплыть вокруг всей Африки, не заходя в Аравийское море, и таким образом они рассчитывают на всем протяжении поездки использовать свои собственные корабли… Впрочем, я отвлекся. Проявите терпение, со стариками такое бывает. И, конечно же, в Мангалоре есть китайцы — как вы сами.
Я уже сказал, что быть мусульманином в Мангалоре вовсе не беда, хотя Виджаянагара вот уже сто лет воюет с мусульманскими государствами, с княжествами Бахмани. Они располагаются примерно в двухстах милях к северу от Гове, или Гоа, как зовут этот порт португальцы. Война идет только за территорию, а не за религию — никаких глупостей вроде джихада или крестового похода. Среди офицеров и солдат в армии императора немало наемников-мусульман. Али скорее уж мог нажить неприятности из-за того, что был купцом, чем из-за своей веры. Купцы, как известно, шпионы, а то и двойные агенты, за вознаграждение поставляющие тайные сведения обеим сторонам. В этом обвинении есть доля истины: ведь для всякого купца заманчиво купить товар по дешевке и перепродать его на том же самом рынке. Можете мне поверить — я сам такой.
Последнее приключение Али, которое я собираюсь пересказать, принесло ему кое-какое состояние: он купил имение у подножия Западных гор, отличная земля для выращивания специй и пару примыкавших к нему деревушек, послал изрядную сумму своему сыну Гарею и помаленьку расходовал остаток.
Когда мы начали записывать его повесть, сложилось обыкновение: я приходил к нему, во внутренний дворик, три-четыре раза в неделю. Что-то вроде тысячи и одного вечера разумеется, на самом деле их было гораздо меньше, впрочем, как и ночей Шахразады. Али утверждал, что ему нравится рассказывать о себе, что таким образом ему удастся оставить людям какую-то память о себе. Али не верил ни в загробное существование, ни в переселение души в какое-нибудь животное или насекомое, о чем толкуют индусы высшей касты (они называют себя браминами[112]), ни в мусульманский рай, где питаются амброзией и нектаром, любуясь прекрасными гуриями, — Али говорил, что свою долю красивых женщин и сладостей он получит еще на этом свете.
Он с наслаждением воскрешал в памяти радости и мучения своей долгой жизни, покачиваясь в плетеном кресле под тенью благоухающих коричных деревьев, удобно откинувшись на подушки, попивая лимонад и закусывая пирожком с бхангом (бханг способствовал перевариванию обеда из баранины, жаренной на кокосовом масле и приправленной куркумой, кориандром и имбирем). Домашние его предались послеобеденному сну, даже пестрые рыбки в пруду едва шевелились.
— Я теперь не ложусь спать днем, — сообщил он мне, когда я в первый раз устроился рядом с ним и приготовился записывать. — В старости сон не идет к человеку, а мои девочки не хотят ложиться со мной до ночи, говорят, слишком жарко, к тому же я после еды то и дело пускаю ветры.
Скорее всего, это просто предлог, и они сейчас совокупляются со своими любовниками. А если нет — зря теряют время. В их возрасте я бы ничем другим не занимался. С чего же мы начнем? — С начала.
Али бен Кватар Майин родился в маленькой горной деревушке неподалеку от Дамаска. Ему только что исполнилось восемь лет, и он прошел первое посвящение в таинства той исламистской секты, к которой принадлежало его племя (это было какое-то ответвление шиизма[113]), но тут местный халиф, суннит[114], решил истребить инакомыслящих среди своих подданных. В одно мгновение Али лишился своего счастливого, хоть и не слишком сытого детства. Обстоятельства истребления его семьи могли бы показаться слишком ужасными, если б мы не становились свидетелями подобных же событий по всему миру. Только Виджаянагара избавлена от этого кошмара, а так повсюду одно и то же: во имя Господа люди рассекают себе подобных на части, подвергают пыткам, изобретают все более жестокие и изощренные способы причинить боль и смерть. В каком-то смысле родных и близких Али можно даже почесть счастливцами они были изнасилованы, избиты и буквально разрублены на куски, но все это произошло очень быстро. Не сравнить с теми нескончаемыми страданиями, которым подвергают друг друга приверженцы различных христианских сект, когда им попадется в руки кто-нибудь из еретиков.
В тот день, перевернувший его жизнь, когда он словно вторично явился на свет, на глазах у Али его отец и мать, другие жены отца, родные и сводные братья и сестры были изувечены и убиты. Вернее, это произошло бы у него на глазах, но он сразу же крепко зажмурился, чтобы ничего не видеть.
— Сколько лет тебе было? — переспросил я.
— Мне было всего шесть лет, я убежал и попытался спрятаться.
— Только что ты говорил, что тебе было восемь.
— Разве? Только что? Нет, ты ошибаешься. Конечно же шесть. Уж я-то знаю. Я бросился в самое надежное убежище, какое только знал: укрылся под бабушкиными юбками. В восемь лет я бы этого не сделал.
Что ж, подобные неточности встречаются у любого рассказчика.
По словам Али, воин-суннит отрубил бабушке голову одним ударом острого, как бритва, ятагана. Старуха резко наклонилась вперед, из обрубка, оставшегося на месте ее шеи, фонтаном брызнула кровь, заливая ее одежду и подушки, среди которых она сидела, а в следующее мгновение она повалилась на пол (голова так и лежала у нее на коленях), и воин вновь взмахнул ятаганом, на этот раз нацелив удар в Али — бабушкины юбки больше не скрывали мальчика. Этот удар должен был перерубить мальчика пополам наискосок, справа налево, но в последний момент Али отклонился, и лезвие ятагана прошло мимо, только самый кончик задел его. «Задел», — деликатно говорит Али; на самом деле острие вонзилось в тело примерно на дюйм, повредило правый глаз, вырвало ноздрю, обезобразило рот заячьей губой, разрубило ему правую ключицу, вдавило грудину, вырвало слева четыре ребра и обнажило плоть на левом боку. Царапина, да и только.
Отшатнувшись назад в момент удара, Али упал навзничь и потерял сознание. Рана оказалась столь тяжкой, что мальчик впал в некое подобие транса, который вызывают у себя индусские йоги: все телесные функции замедлились, но не прекратились, сердце билось, быть может, только раз в минуту, и потому кровь, хлынувшая было из раны, тут же начала сворачиваться и остановилась, прежде чем он истек кровью. Он потерял примерно два кувшина крови, не более.
Стояла зима, дело было в горах, так что ночь выдалась холодная, и мальчик очнулся только на следующее утро. Убийцы, желавшие, чтобы деревня навеки осталась необитаемой, засыпали поля солью, ограбили свои жертвы и стащили тела всех родных и соседей Али к колодцам. Они сбросили трупы в воду, рассчитывая таким образом отравить ее трупным ядом.
Следовало ли Али воздать хвалу Аллаху за то, что его бросили в колодец последним и потому он оказался на самом верху этой груды тел? Возможно, и следовало, если только забыть, что и само насилие творилось во имя Аллаха.
Он пришел в себя, когда солнце коснулось его обнаженной спины и начало припекать. В запекшейся крови, и своей, и чужой, страдая от жестокой боли — все тело онемело, — Али сполз с груды трупов на край колодца и огляделся по сторонам. Он был здесь единственным живым существом, не считая потихоньку собиравшихся мух и крыс. Овец и коз угнали, собак уничтожили столь же безжалостно, как и их хозяев. Али обратился в бегство. Он задержался в своей деревне лишь для того, чтобы подобрать какие-то лохмотья, все еще украшавшие огородное пугало, а затем, прихватив межевой шест вместо посоха, Али поспешил прочь.
Сперва он смог уйти совсем недалеко, но, по мере того как его рана заживала, он уходил все дальше и дальше. Возможно, вся его жизнь была бегством, во всяком случае, пока он не нашел себе приют в Мангалоре. В те годы он спал мало, урывками, и ему снилось, как он бежит. Он добрался до Багдада, до Тавриза, до Кабула. Он шел пешком, ехал верхом, плыл по морю.
Нищим странником Али добрался до Золотого пути, ведущего в Самарканд, присоединился к каравану — погонщики, носильщики и конюхи лучше своих господ помнили завет Пророка об обязанностях верующего по отношению к бедным. Вместе с караваном он добрался до Шелкового пути, а по нему — до Каракумов и Крыши мира. Он проходил по этому маршруту несколько раз, совершенствуясь в искусстве клянчить, а затем и в искусстве торговать. Он знал уже все приемы, с помощью которых нечестные купцы надувают своих партнеров, и, когда тот же караван в пятый раз снаряжался в путь с грузом шелка, ляпис-лазури и золота, Али сделался ближайшим помощником купца-парса, склонявшегося к шиизму и доброжелательно относившегося к бедному юноше.
Нельзя сказать, что с этого началось процветание Али, но, по крайней мере, он получил средства к жизни. Десять лет он работал на парса в качестве мальчика на побегушках, посредника, секретаря. Он научился читать и писать, складывать и вычитать, вести бухгалтерию. Состарившись, парс ленился покидать свой дом и склад товаров, и Али стал его доверенным лицом, торговым агентом. Ему легко давались языки — эта способность пригодилась Али еще в детстве, когда он просил милостыню и как-то уживался с людьми разных наречий. Но, занятый по горло делами, Али находил время для глубокого изучения тайн шиизма и даже, оставив на время работу, посвятил год, а то и два общению с мудрецами, жившими в горной общине к северу от Гиндукуша.
Приняв посвящение, Али возвратился к своему парсу — тот был тогда примерно в том же возрасте, какого ныне достиг сам Али. Али рассчитывал, что парс сделает его своим партнером и предоставит ему заем, который позволил бы Али вести торговлю от имени этого купца, но парс предпочел полностью устраниться от дел. Дочери, мечтавшие выйти замуж за знатных людей той страны, побудили парса распродать весь товар, выкопать припрятанное на черный день золото и купить плантации фисташковых деревьев и абрикосов таким образом, он сравнялся с землевладельцами. Али продолжал служить ему посредником, продавая за пределами страны сушеные абрикосы и зеленые орешки, и искал себе нового покровителя, поскольку, за отсутствием капитала, не мог начать собственное дело.
Как появился на свет Гарей? Суннитский фанатик изувечил Али, а разбогатеть ему так и не удалось, так что казалось маловероятным, чтобы Али не то что вступил в брак, а хотя бы завел сколько-нибудь прочные отношения, помимо покупных и кратковременных развлечений. Красив он отнюдь не был, а с возрастом становился еще непригляднее. Левая сторона тела постепенно съеживалась, левая рука сохла (по-видимому, был задет жизненно важный нерв), однако он мог пользоваться тремя пальцами. Лицо Али напоминало подгнившее яблоко: с одной стороны достаточно гладкое, но с другой темное, бесформенное, оплывшее и ноздреватое, как губка. На людях он старался прикрывать эту часть лица краешком старой накидки (он не расставался с ней много лет), выставляя напоказ лишь левую половину.
Однако вскоре после того, как парс ушел на покой, Али завязал отношения с неким египтянином, выращивавшим хлопок. Долгоносики нанесли серьезный ущерб урожаю, и купец остался в долгу перед Али. А надо сказать, что люди, живущие на берегах Нила и его каналов, часто страдают от какой-то местной болезни, вызывающей слепоту, и у этого купца была дочь, красивая собой и здоровая, но слепая. На ней и женился Али, передав ее разорившемуся отцу все свое имущество. Семья поселилась в Искендерии, Али нашел себе работу торгового посредника в порту. Гарун, он же Гарей, стал единственным плодомэтого союза; вскоре после рождения сына мать скончалась от родильной горячки. Али передал ребенка на попечение родственнице его матери и отправился в очередное путешествие. Он неизменно оставлял деньги на содержание сына, хотя видел его крайне редко, проезжая через те места когда раз в год, а когда и в два. Во всяком случае, он дал Гарею хорошее образование и профессию, так что юноша сумеет заработать себе на жизнь, не подвергаясь тем опасностям, через которые прошел его отец.
Довольно. Я снова отвлекся. Али хотел построить свою повесть не как утомительный перечень тысячи дорожных происшествий, а как историю одного большого приключения, достигшего завершения. Именно такую историю вы и услышите от меня. Этот рассказ превзойдет все прочие, он длиннее и увлекательнее, он страшнее и чудеснее, он полон драматизма и ужаса, а порой и счастливых поворотов судьбы. Из этой книги вы узнаете немало о других народах и странах и не пожалеете о деньгах, которые заплатили за эти сведения.
Все началось и закончилось в Ингерлонде — в той части страны, что расположена на Европейском континенте. Значение этого небольшого участка английской земли посреди Франции — он называется Кале обусловлено тем, что сей порт — морские ворота острова и почти вся торговля с Ингерлондом ведется через Кале. Я слыхал, как Ингерлонд именуют задницей христианского мира, а Кале — дырой в этой заднице. Али не оспаривал это мнение.
Главная статья экспорта из Кале — шерсть и шерстяные ткани. Больше англичане (так они именуют себя в честь одного из варварских племен, осевших на острове) не производят в избытке никакого годного на продажу товара, если не считать свинца и олова. Иностранцам разрешается покупать английскую шерсть только в Кале, поскольку так легче следить за уплатой пошлины, и торговцы часто называют между собой этот город попросту «Рынок». Шерстяная ткань здесь высокого качества, хотя и уступает кашмирской, она пользуется большим спросом в тех краях, где слишком холодно, чтобы шить одежду из шелка или ситца. Англичане умеют прясть тончайшую, как шелк, шерстяную нить, по-разному окрашивая ее и придавая тканям различный узор. Эта тонкая шерсть называется камвольной, за ней Али и приехал в Кале, рассчитывая выменять сколько-то тюков на привезенные из Московии соболя.
Он остановился в гостинице, или на постоялом дворе, в квартале между гаванью и рынком. Как и все южане в этом климате, он страдал от простуды, его нос протекал как мочевой пузырь восьмидесятилетнего старика, грудь хрипела, и сипела, и ходила ходуном, точно ведро, наполненное сырой известкой, и потому в тот вечер он рано отправился спать. Накануне ему пришлось, по обычаю этих далеких от цивилизации мест, разделить широкое ложе с двумя бродячими лудильщиками, которые всю ночь пихали друг друга, а также с неким дворянином, женой дворянина и двумя их детьми они ехали ко двору герцога Бургундского. Дети ныли и хныкали, пока их мать не упросила Али показать им свое лицо. Она сказала детям, что перед ними сам дьявол и что он унесет их, если они немедленно не заткнутся. Подействовало.
В этот вечер, страдая от лихорадки, Али улегся в постель, пока все остальные еще ужинали, так что в комнате, которую хозяин имел наглость именовать лучшей из гостевых спален, он был один, когда послышался стук в дверь.
В этот момент своего рассказа Али бен Кватар Майин заерзал в кресле, затем сдвинул его в сторону так, что прутья кресла жалобно заскрипели, отвернулся от заходящего солнца и посмотрел прямо на меня.
— Стоит ли продолжать? Я еще не утомил тебя?
— Нет-нет. Ни капельки.
— Ты зевнул.
— Да, минуту назад, когда ты так подробно описывал Кале. Но сейчас я вновь угодил в сети твоего повествования, подобно тому как царь ТТТяхрияр — в сети, сплетенные Шахразадой. Но если ты, Али, устал, я вернусь завтра, чтобы услышать, кем оказался посетитель, разыскавший тебя в той мрачной гостинице.
— Да, так будет лучше. Я слышу, в доме уже все проснулись. Скоро мои жены присоединятся ко мне они всегда приходят, когда спадает дневная жара.
Глава вторая
Назавтра после полудня я вернулся в прекрасный дворик, где в бассейне играли разноцветные рыбки, и птички распевали в клетке, и сладко пахло кардамоном. Али продолжил свой рассказ. С тех пор как ятаган рассек ему лицо, миновала целая жизнь, и все же тот удар сказался на его речи — Али говорил медленно, помогая себе плавными жестами здоровой руки.
Я нащупал кинжал, спрятанный под простыней, высвободил его из ножен и крикнул:
— Входите!
По серой рясе с капюшоном я признал в ночном госте нищенствующего монаха-проповедника из ордена францисканцев. Жирная сальная свеча в его руке давала больше дыма, нежели огня; моему воспаленному лихорадкой воображению померещилось, что деревянная обшивка жалкой комнатушки колеблется взад и вперед, словно парус стремительной лодки-дау. Я отметил на одеянии незнакомца маленькую красную заплату в форме сердца чуть повыше пояса, но в то время я не ведал значения этой метки. Он проскользнул между стеной и кроватью, встал у меня над головой — бедная моя голова, покоившаяся на грязном валике, набитом непромытыми оческами овечьей шерсти! — и поставил свечу на полку. Я цеплялся за серебряную рукоять кинжала, ладони, к моему ужасу, сделались скользкими от пота. Странный человек заметил мой испуг.
— Я не причиню вам вреда, — произнес он, усаживаясь на краешек кровати и сбрасывая с головы капюшон. Истощенное, посеревшее лицо, недавно выбритое, но уже поросшее короткой щетиной. Две глубокие морщины сбегали от края крупного носа к уголкам рта. Аскетизм в этом лице сочетался с выражением привычной меланхолии. Темные глаза даже при этом освещении казались проницательными.
— Полагаю, вы и есть Али бен Кватар Майин, торговец, прибывший с Востока? — продолжал он.
Я кивнул.
— Насколько мне известно, вы являетесь также членом тайного братства, в котором вы носите имя…
Но тут уж я забеспокоился и вытащил кинжал так, чтобы незнакомец мог его видеть.
— Не смейте произносить имя вслух, иначе это будет последнее ваше слово! — пригрозил я.
— Отлично. — Его узкие губы растянулись в улыбку, выражавшую и насмешку, и удовлетворение. — Имя это сила, оно заслуживает уважения. Тем не менее я должен дать вам понять, что пришел к вам в качестве члена подобного же братства, разделяющего большинство убеждений вашей секты. Я рискую жизнью, признаваясь в этом, но таким образом я надеюсь завоевать ваше доверие. Я прошу вас оказать нам услугу. Быть может, это в ваших силах, а может быть, и нет, но никто другой с этим поручением заведомо не справится.
Я молча ожидал продолжения.
— Моим собратьям принадлежит дом на северо-востоке Ингерлонда. Его местонахождение держится в тайне. Среди нас есть человек, который, как и вы, явился издалека, с Востока. Это было много лет назад. Он младший брат князя некоей восточной страны, князь послал его за границу с определенной миссией. Ныне он хотел бы вернуться, однако не может пуститься в путь во-первых, потому, что обе его ноги отрезаны по колено, а во-вторых, в силу принятого им обета. Этот человек поручил мне разыскать путешественника из его краев и передать ему вот это…
Незнакомец протянул мне пакет. Длиной он был с растопыренную ладонь, от ногтя большого пальца до ногтя мизинца, а в ширину немного меньше; толщина его была вдвое меньше толщины большого пальца.
Пакет был обернут в черную промасленную ткань и перевязан кожаными ремешками, по цвету напоминавшими ржавчину.
— Что это? — прохрипел я. Я преуспел в качестве разведчика торговых путей главным образом благодаря ненасытному, как у кошки, любопытству. Говорят, любопытство погубило кошку, но ведь Аллах благословил эту тварь девятью жизнями. Из своего резерва я уже восемь истратил.
— Я не вправе ответить, — сказал мой гость. — Вскрыть этот пакет может лишь тот человек, которому он адресован, или его наследник. Более того, брат Джон так называем мы этого человека, поскольку мы не в силах выговорить его подлинное имя на его родном языке, — заклял страшным проклятием всякого, кто посмеет развязать эти ремешки. Судя по весу и размеру послания, я предполагаю, что в нем содержатся листы пергамента, то есть некое важное сообщение или завещание. Вы возьметесь его доставить?
К этому моменту, невзирая на лихорадку и прочие описанные мной симптомы, не говоря уж о жестокой боли в коленях, роковое мое любопытство уже пробудилось, как хищный лев — или, скажем скромнее, как кошка.
— Прежде всего скажите, кому предназначено это послание, — потребовал я.
Глаза незнакомца загорелись еще ярче, язык быстро облизнул краешек губ. Он был уверен, что я попался на крючок. Он не ошибся.
— Князя, которому вы должны доставить это послание, зовут Харихара Раджа Куртейши.
Я был знаком со своим собеседником считанные минуты, но все же предпочел не возражать против категорического «должны», хотя сразу же заподозрил, что, того и гляди, соглашусь на куда более дальнее путешествие, чем входило в мои планы. Откашлявшись, я проглотил мерзкую слизь, забивавшую мне горло.
— Где его страна?
— Он живет в Виджаянагаре. Этим царством правит двоюродный брат Джона, великий император Малликарджуна Дева Раджа.
Я со вздохом откинул голову на зловонный валик. Пах он не лучше собачьего дерьма.
— Виджаянагара это другой край света. Дальше этой страны только Катай, — проскрипел я. — Проделав путь в полгода длиной, я доберусь до страны, где я родился, — вы называете ее Святой землей. Оттуда мне придется ехать еще столько же, пока я достигну Виджаянагары.
— Один венецианец побывал в Катае, и многие одолели этот путь вслед за ним. Кажется, он даже заглянул на обратном пути в Виджаянагару.
— Марко! — фыркнул я. — Он приехал туда вместе со своим отцом Никколо, когда ему едва сровнялось двенадцать, а вернулся человеком средних лет. Мне сейчас столько же лет, а то и больше, сколько было ему, когда он возвратился.
В этот миг на первом этаже и внизу, под окнами, на узкой улочке раздались крики. Отблеск факелов проник сквозь щели слухового окна в мою маленькую комнатку. В те времена я знал английский язык гораздо хуже, чем нынче, но смысл этих выкриков, коротких, отрывистых команд, был совершенно ясен: в гостиницу вломились вооруженные люди и возглавлявший их офицер объявил хозяину, что в его доме скрывается подлый безбожник, отъявленный еретик, прикинувшийся бродячим монахом.
Пришелец побледнел как смерть. Быстрым движением он сунул черный пакет под мою подушку и бросился к окну. Не успел он отодвинуть ставни (полагаю, их не открывали с лета и потому их заклинило), как в комнату ворвались трое мужчин в кольчугах и стальных шлемах на шлемах у них были такие ободки, вроде как на тазиках цирюльников — и схватили его. Правда, я-то могу только догадываться, что они его схватили: на всякий случай я спрятался под вонючими простынями, накрывавшими огромную кровать. Даже кошки иной раз способны подавить в себе любопытство, чтобы остаться в живых.
Я пробыл в Кале дольше, чем собирался. Сперва нужно было избавиться от инфлюэнцы — «влияния звезд», как называют эту болезнь венецианцы, затем, когда я вознамерился продать московских соболей, я обнаружил, что они трачены молью.
Понадобилось время, чтобы найти ингерлондца, который показался мне глупее обыкновенного и которого я сумел убедить, что в Московии эти дыры в большой моде и придают цену мехам. На самом деле провел-то он меня: всучил мне в обмен тюки шерстяной ткани с такими же точно отверстиями: «Английские кружева, китаеза!» — и похлопал меня по спине.
В итоге прошел целый месяц, прежде чем я смог продолжить свое путешествие. У меня не было ни малейшего желания отправляться на южную оконечность Индийского полуострова, но я все-таки спрятал в своем багаже завернутый в черную ткань пакет.
Я направлялся в Брюгге и потому выйти из города должен был через восточные ворота. Когда я проходил через площадь, там как раз раскладывали костер. Мне не хотелось становиться свидетелем подобного варварства, но толпа напирала со всех сторон, и пришлось дожидаться конца зрелища. Как вы, наверное, уже догадались, жертвой был мой лжефранцисканец. Его привязали к столбу, высоко над толпой, так что я видел его раздавленные пальцы (руки ему сковали спереди) и понял, что он подвергся пытке на колесе. Тем не менее в изломанном теле еще теплилась жизнь и сознание происходящего: этот человек плюнул на распятие, которое норовил прижать к его губам доминиканец, призывавший покаяться. На шее «преступника» висела дощечка, гласившая: «Сознавшийся, но не раскаявшийся брат Свободного Духа».
Вспыхнул огонь, поднялись клубы дыма, и мне показалось, что глаза, по-прежнему блестевшие умом и таинственным знанием, встретились с моими, я увидел в этом взгляде напоминание о нашем договоре и последнюю надежду. Мгновением позже монах вдохнул всей грудью дым, повисший у него над головой, глаза его закатились и все тело обмякло. Я распознал приметы экстаза, высшего из всех переживаний, дарованных человеку, — экстаза смерти, единения с заключенным внутри нас божеством.
Запах горящей плоти еще неделю преследовал меня.
Глава третья
В следующие три дня Мангалор музыкой, танцами и фейерверками отмечал брак Богини, Царицы Моря, с Вишну[115]. На четвертый день я возвратился в большой дом Али, уселся возле него в саду, и он продолжил свое повествование, словно и не прерывал его.
В последующие два года я неуклонно смещался к востоку, словно душа моя превратилась в кусок намагниченной стали, а притягивавший ее магнит располагался на том конце земли. Отчасти причиной этого был наш договор, я купец, и для меня обещание имеет силу подписанного контракта, — но еще сильнее действовала духовная связь с тем францисканцем. Братья Свободного Духа, отвергающие и Бога и Дьявола, по своим убеждениям сродни той исламской секте, к которой я принадлежу. Я учился у ног последователей Горного Старца, Хассана ибн Саббаха, я считаю себя адептом этой веры или, скорее, неверия — и потому обязан помогать тем, кто разделяет наши убеждения, независимо от того, происходят ли эти люди из среды мусульман, христиан или индуистов.
В этот момент Али заметил наконец мое беспокойство и умолк, вопросительно приподняв над здоровым глазом изогнутую, словно черный полумесяц, бровь. Я решился задать вопрос.
— Итак, ты ассассин?[116] — неловко пробормотал я.
Большим и указательным пальцем здоровой руки Али раздавил орех и уцелевшими пальцами пострадавшей руки тщательно выбрал мякоть.
— Можешь называть меня и так, если не будешь приписывать нам обычаи, порожденные воображением толпы. Да, я часто принимаю гашиш, а слово «ассассин» произошло от «гашишин», то есть «любитель гашиша», и порой у меня находилась достаточно убедительная причина для того, чтобы ускорить переход кого-либо из смертных к высшему блаженству. Однако это вовсе не вошло у меня в привычку.
С чувством некоторого облегчения я попросил Али возобновить рассказ.
В первый раз на побережье Малабара меня привело дело, которое я затеял в Южной Аравии, на южной оконечности Красного моря, в маленьком порту под названием Мокка. Я выторговал у бедуинских вождей коврики из верблюжьей шерсти в обмен на слитки серебра, и после заключения сделки мы все угостились напитком, который мне никогда прежде не доводилось отведать. Этот напиток назывался k'hawah и получался из размолотых зерен или косточек небольших, похожих на вишню плодов приземистого кустарника, росшего на склонах гор, обращенных к Красному морю. Меня удивило благотворное действие кавы, бодрящей, но не опьяняющей, исцеляющей головную боль и возбуждающей работу ума и духа. Кроме того, если положить в чашку сахар (его добывают в виде кристаллов из сока растущего на соседней равнине тростника), то и вкус будет изумительный.
Этот отвар произвел на меня столь благоприятное впечатление, что я тут же закупил полдюжины мешков с бобами кавы и отвез их в Венецию, где продал с большой выгодой для себя. Успеху моего предприятия способствовало искусство одного известного мне венецианского алхимика, который сумел улучшить напиток, пропуская сквозь размолотые зерна кавы пар и собирая его в закрытую реторту — таким образом усиливались и аромат, и действие напитка. Венецианец продавал его на площади Сан-Марко, беря изрядные деньги за маленькую чашечку.
Я решил, что мне наконец-то удастся сколотить состояние, и вновь поехал в Мокку, но тут выяснилось, что, пока я отсутствовал, местные имамы объявили k'hawah опьяняющим напитком, то есть запрещенным согласно Корану, и никто больше не занимается выращиванием этих бобов. Я так легко не сдаюсь. Я принялся расспрашивать купцов, где найти местность, похожую по климату на юго-западные склоны Йеменских гор, и выяснил, что лучше всего мне подойдут Западные ущелья у Малабарского побережья Южной Индии, в особенности та часть побережья, которая примыкает к гавани Мангалор. Почти за бесценок — ведь теперь кусты кавы никому не требовались — я купил четыре дюжины ростков в горшочках и вместе с ними отплыл на дау[117] к зеленым от пальм берегам Мангалора. Там я уговорил землевладельца, выращивавшего корицу, имбирь и кардамон, уступить мне четверть акра наименее плодородного, расположенного выше по склону горы участка, где земля и впрямь напоминала почву Йеменских гор. Здесь и были высажены мои драгоценные сорок восемь кустов кавы. Хозяина устраивала совсем малая арендная плата — ведь этот кусок земли обычно не приносил вовсе никакого дохода; кроме того, я посулил ему долю в грядущих прибылях.
Однако требовалось ждать не менее двух лет, прежде чем это предприятие начнет окупаться, и пока что я вернулся в Аравию, разузнав предварительно, в каком товаре наиболее нуждаются жители Виджаянагары и за что они готовы наиболее щедро заплатить.
Лошади — вот на что там был спрос.
Единственным видом кавалерии в Виджаянагаре в то время был полк отборных воинов, восседавших на слонах. В разумно устроенных и почти бескровных войнах, привычных индусам, роль этого отряда понятна и общепризнанна: когда приближаются вражеские слоны, пехота должна немедленно отступить. Но султаны отнеслись к военному делу серьезнее и угрюмее, они выяснили, что слоны боятся лошадей и, столкнувшись с ними, в смятении обращаются в бегство, топча свои же ряды и сбрасывая сидящих на них воинов. Настолько существенным было это преимущество врагов Виджаянагары, что султаны, держись они заодно, могли бы уничтожить империю еще десятки лет назад, но они воевали друг с другом с еще большим ожесточением, чем против соседних держав, а Виджаянагара тем временем начала обзаводиться собственной конницей, сохранив боевых слонов исключительно для торжественных церемоний. Лошадей не хватало, и кровного жеребца, даже невыезженного, но достаточно сильного, чтобы нести на себе воина в полном вооружении и обрюхатить кобылу, ценили на вес кориандрового семени или имбиря. А в Москве или Стокгольме за пряности давали тот же вес серебром или янтарем.
И вот — в который уже раз? — я решил, что богатство в моих руках. У меня не хватало денег на закупку лошадей и пришлось одолжить изрядную сумму в Адене, у местных евреев. Я приобрел восемнадцать лошадей, в том числе шесть чистопородных кобыл, которые должны были вот-вот ожеребиться, и, пренебрегши советами людей, хорошо знавших здешние воды, поспешил отплыть в Мангалор. Даже капитан нанятого мной судна, хотя тоже имел много долгов и хотел поскорее заработать, предлагал мне выждать несколько недель, но я никого не слушал. Северо-восточный муссон подхватил наш корабль и выбросил на коралловый островок в районе Лаккадивы. Там мы прожили пять недель, питаясь кониной, пока нас не подобрали охотники за жемчугом и не доставили в Мангалор.
Я остался без гроша, и в Йемен возвращаться не было смысла кредиторы посадили бы меня на кол в предостережение всем злостным должникам. Из всего имущества у меня чудом сохранился лишь тот черный пакет, что двумя годами ранее вручил мне брат Свободного Духа, да пригоршня припрятанных за пазухой червонцев. Я заглянул на склад к агенту одного египетского купца, с которым как-то вел дела далеко от Мангалора. К счастью, управляющий складом слыхал обо мне и дал все необходимые сведения: князь Харихара Раджа Куртейши приходился близким родственником императору, имел высокий чин в войске и, само собой, жил в Граде Победы, а туда как раз должен был через несколько дней отправиться большой караван во главе с губернатором (здесь он назывался «наяк»), и к этому каравану я мог присоединиться за умеренную плату.
Через несколько дней я выехал из Мангалора вместе с караваном, и впрямь многочисленным. Мы направлялись в область по ту сторону горного прохода. Впереди шли брамины и монахи, кто в расшитых драгоценными камнями одеждах, кто в простых платьях цвета выжженной солнцем земли, дуя в позолоченные трубы, ударяя в гонг и звеня маленькими бубенцами на пальцах. Воздух вокруг них наполнялся ароматами курений, на плечах они несли носилки с бронзовой позолоченной и ярко раскрашенной статуей танцующего четырехрукого Шивы[118], как полагается, окруженного языками огня, окутанного шелками и украшенного венками и ожерельями. Сразу вслед за монахами ехал на слоне губернатор, спешивший в Град Победы на праздник Маханавами этим праздником отмечают завершение сезона дождей и ветров, а значит, и того самого муссона, который погубил моих лошадей и разорил меня.
За слоном, на котором ехал губернатор, следовало еще пятеро, и все они были покрыты бархатными чепраками с золотой канителью и бахромой; далее ехали верхом воины, числом около дюжины, все с копьями полированного дерева и щитами, отделанными золотом, серебром, медью и перламутром — солнечные лучи так и играли на них. Солдаты сопровождали караван лишь потому, что это подобало званию губернатора, ведь султаны никогда не продвигались в своих набегах так далеко на юг, а у местных жителей не было ни малейшего повода нападать на своих правителей. В том благословенном краю даже разбойников не водится.
Вслед за почетной гвардией брело два десятка осликов, большинство из них были нагружены дорожными припасами, а на одном ехал ваш покорный слуга. Жители Запада почему-то презирают тех, кто садится верхом на осла, и используют длинноухого исключительно в качестве вьючного животного, хотя главная их богиня как раз на осле проделала весь путь из Палестины в Египет, а позднее и ее сын, пророк Иисус, оседлал осла для торжественного въезда в Иерусалим. Меня соображения престижа ничуть не тревожили, особенно с тех пор, как я достиг возраста, когда ехать гораздо приятнее, чем идти пешком. За ослами шли мулы и верблюды, на чьих спинах покачивались товары со всего света. Муссон кончился, и в Мангалоре возобновилась торговая жизнь.
Извини, что я так подробно описываю это путешествие. Был в моей жизни период, когда, чтобы прокормиться, мне пришлось рассказывать на углах и на постоялых дворах сказки о приключениях в дальних странах, а с подобными привычками расстаться нелегко.
Мы оставили за спиной суету и шум Мангалора (любой порт, как бы хорошо ни было налажено дело, полон суматохи, не правда ли?) и сперва пересекли небольшую долину, примерно тридцать миль шириной, озерный край, полный болотных птиц, рыбацких лодок, плотов и целых плавучих деревень. Там, где почва немного приподнималась, росли кокосовые и банановые пальмы. Дорога, довольно узкая, часто скрывалась под сплошным ковром лотосов. Из этих цветков деревенские женщины и девушки, тамилки, плели гирлянды, украшая ими и самих себя, и путешествовавшее вместе с нами божество. Они пели и плясали, музыка струнных инструментов и тоненькое завывание флейт приветствовали наше появление и тут же растворялись в тумане, когда мы проходили мимо.
Миновав лагуны, мы вступили в край, где земля также была влажной, но уровень воды поддерживался продуманной системой дренажа. Здесь раскинулись рисовые поля, в эту пору года они приобрели голубовато-зеленый оттенок и на фоне окружавшей их зеленовато-синей воды слегка переливались, точно дорогой мех. Земля становилась все тверже, и копыта слонов, ослов и верблюдов уже не чмокали, а цокали по ней. Мы видели пальмы, плантации риса, лагуны с водяными лотосами. В первую ночь мы раскинули лагерь на краю деревни, расположенной посреди посадок кориандра. Сладкий, густой и пряный аромат цветков и семян кружил голову, смешиваясь с более острым запахом листьев, раздавленных ногами прохожих.
Еще более острый и пряный аромат доносился с холмов, возвышавшихся над деревней, с плантаций кардамона, мимо которых мы проходили на следующее утро, оставляя за спиной побережье в переливчатой дымке тумана. Я подумал было — где-то поблизости находится и моя делянка с кустами кавы, но я понимал, что нельзя покидать караван и отправляться на поиски арендованного мною участка.
Мы видели вокруг не только кардамон, но и рощи коричных деревьев, и перечные гроздья, а возле полноводных ручьев, струившихся между холмами, — посадки имбиря. Для просушки его толстые корневища развешивали на стенах тростниковых беседок, также встречавшихся нам по пути. Посреди делянок с пряностями попадались цитрусовые сады, плоды светились среди похожих на звезды цветов, точно золотые лампы в зеленой морской ночи. Здесь выращивали и более сладкие разновидности этих плодов, завезенные из Китая.
На вторую ночь мы остановились, чуть не доходя до начала горного прохода, возле высокой и узкой расселины, по которой устремлялась в долину одна из множества рек, питавших уже знакомые нам озера. Вода в них не пересыхает и тогда, когда сезон дождей давно уже пройдет. Воздух становился прохладнее, мы поднялись довольно высоко, к тому же в ущелье и над округлым подножием горы бушевали ветры, сталкиваясь и сражаясь друг с другом. Эту местность покрывали нетронутые леса, где охотились ягуары, а над нашей головой пролетали орлы. Здесь, на укромных полянах, можно было найти не только дикий мед и прелестные цветы, но и маленьких оленей, кабанов и даже диких слонов.
Однако ты, наверное, предпочтешь, чтобы я побыстрее покончил с этой частью путешествия. Итак, начиная со следующего дня подъем по узкому ущелью становился все более и более трудным и страшным, проход был очень узок, порой мы шли по краю обрыва, а склоны внизу казались все круче и все выше, пока наконец мы не дошли до такого места, откуда смогли сверху полюбоваться орлами и другими хищными птицами. Над нашими головами вновь открылось небо, и дальше нас ждала уже не тяжкая и опасная тропа вниз, но приятная прогулка по возвышенной местности, переходящей порой в долины, а затем и в бескрайнюю равнину только нависавшие по краям утесы еще напоминали о тяготах пройденного пути. Эта просторная, разнообразная по ландшафту земля простиралась на восток, и туда же сквозь Восточный проход стремились великие реки, спеша к побережью Коромандела.
Эта равнина, пересеченная реками, разорванная ими на части, оказалась самой плодородной землей, какую мне когда-либо приходилось видеть. Те области, которых вода не достигала естественным путем, орошались с помощью сложной системы каналов и акведуков, пробитых в скале или сложенных из точно пригнанных друг к другу каменных блоков. Любой злак процветал на этой благодатной почве под теплыми лучами солнца, и урожаи были столь изобильны, что местным князьям удалось сохранить для охоты большие участки леса, не ущемив при этом права своих подданных.
Еще пару дней тропа петляла, повторяя извивы реки, пока мы не достигли того места, где наша река сливалась с большим потоком, с одной из двух главных рек империи Тунгабхадрой. На следующий день, когда, следуя за течением Тунгабхадры, мы обошли большую скалу, моим глазам предстало самое прекрасное зрелище, какое им только доводилось видеть, — Град Победы.
Нет на свете другого города, столь огромного, столь красивого, столь гармоничного и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения обустройства жизни его обитателей. Памятники Византии и Рима могут сравняться со статуями и зданиями Града Победы, но отнюдь не превзойти их, а численно они значительно уступают им, к тому же оба древних города стали жертвами множества войн и прошедших веков, а столица Виджаянагары была заложена всего сто лет назад, и строительство еще продолжается, особенно в пригородах и на вершинах соседних холмов. Только Камбалук имеет столь же величественные храмы и площади, но Камбалук недоступен для обычных смертных.
Различные религии увлекают людей прочь от истинной цели жизни поисков счастья на земле. Нам сулят блаженство в небесном граде, якобы недоступное для этого мира. Если б жрецы и пророки этих учений могли наведаться в Град Победы, они бы признали свою ошибку.
Глава четвертая
— Мой дорогой Ма-Ло, ты, конечно же, побывал там. Зачем я отнимаю у тебя время, рассказывая о том, что ты и сам знаешь?
— Мой дорогой Али, ты, верно, не слыхал о новом законе.
— Что это за новый закон, Ма-Ло?
— После очередного нападения султанов Бахмани всем чужакам и иноземцам было запрещено покидать побережье. Торговлю с внутренними территориями теперь можно вести лишь через одобренных правительством посредников.
— Я этого не знал. Какая жалость! Стало быть, я не утомил тебя описанием нашей столицы? Ну что ж, тогда я продолжу рассказ.
Град Победы расположен в низине, через которую течет река. Возвышающиеся вокруг города отвесные скалы защищают его от нападения со всех сторон, кроме восточной. К скалам примыкают массивные стены из тесаного камня, а ворота в этой ограде, отчасти природного, отчасти рукотворного происхождения, расположены так, что и торговому каравану, и вражеской армии приходится несколько раз круто сворачивать, проходя под нависающими уступами, с которых защитники города могут обрушить на головы нежелательных гостей стрелы, копья и кипящую смолу. В воротах устроена таможня, где взимаются налоги и пошлины — основной источник богатства и блеска города. Град Победы и сам потребляет немало товаров, выменивая на доходы от пряностей, алмазов и золота предметы роскоши со всего света, и служит центром транзитной торговли — купцы с Востока и Запада предпочитают встречаться здесь, не подвергая себя опасному переходу через пустыни, горы или владения князей-разбойников к северу от Гималаев. Во всяком случае, так обстояли дела во время моего первого путешествия в те места.
У огромных Западных ворот мы простились с губернатором Мангалора, с его свитой и приближенными — нам, в особенности тем, кто и внешне отличался от жителей империи, предстояло пройти обычную процедуру: ответить на вопросы чиновников, назвать свое имя и цель прибытия, уплатить пошлину за право войти в город и так далее. Такова тяжкая доля каждого, кто пытается заработать себе на жизнь торговлей. Мне пришлось подробно рассказать о своем деле: я, мол, принес князю Харихаре Куртейши некий пакет и намереваюсь в ближайшие дни разыскать его высочество и вручить ему это послание.
Должен признать, что в Виджаянагаре (этим именем называется и вся страна, и главный город) формальности при въезде отправляются с вежливостью и искренним расположением к людям, чего в других местах мне наблюдать не доводилось. Таможенники были вежливы и точны, и притом неподкупны, поскольку их жалованье ничуть не уступало доходам других жителей земного рая. Они даже проявили истинное человеколюбие, чего я уж и вовсе не ожидал от людей, занимающих подобную должность, а именно: когда по их приказу я сбросил с себя плащ, мое лицо и тело, изувеченные шрамами, вызвали у них не страх или насмешки, как то бывало в иных местах, но сочувствие. Они весьма деликатно расспросили меня, каким образом я получил столь ужасные ранения, а затем посоветовали устроиться в маленькой гостинице при храме, где гостю обеспечен радушный прием и с него не требуется никакой платы, кроме тех денег, которые он по собственному разумению сочтет возможным пожертвовать. И вот наконец меня пропустили в большие ворота и, следуя указаниям таможенников, я начал подниматься на гору, углубляясь в Священный квартал и направляясь к храму с гостиницей.
Большая река разделяет город на две части. Обе они возведены на склонах холмов, а посреди, вдоль русла реки, остается незастроенной широкая долина. Над рекой уступами идут поля, засеянные преимущественно хлопком, а выше фруктовые сады, плантации пряностей, парки и сады. Они изобильно снабжаются водой с помощью системы каналов и резервуаров. Излишков воды хватает и на большие, богато украшенные фонтаны, устроенные на террасах, с которых жители могут любоваться видом на долину и уходящую на восток неровную линию гор, сливающуюся вдали с дымкой тумана.
Священный квартал составляют храмы той религии, которую, как я вскоре выяснил, вовсе не следует называть индуистской. Самые большие здания предоставлены Шиве, Вишну и богине Пампе, которая и есть река. Я не сумею передать словами красоту и величие огромного храмового комплекса, роскошное убранство, изобилие красок, сложный, изысканный орнамент. Было здесь немало поразительных статуй и у подножия лестницы, и по стенам, ограждавшим ее многочисленные пролеты. Тигры и слоны казались почти живыми, даже страх пробирал — как бы не оказаться под тяжкой стопой великана, не почувствовать между лопаток когти гигантской кошки.
В стенах открывались ниши и далеко уходящие галереи. Сотни тысяч образов в лепнине и красках повествовали о подвигах, приключениях и любовных союзах богов и богинь, в том числе в их героических аватарах[119]. Шива здесь мчался верхом на быке; Рама, земное воплощение Вишну, разыскивал свою жену Ситу, похищенную Раваной; далее я увидел продолжение этой легенды — Хануман, царь обезьян, вел свои косматые полки против Раваны. Там, где стены не прерывались очередной нишей или входом в святилище еще одного божества, их покрывали барельефы и фрески, изображавшие танцующих мужчин и женщин, принцев и принцесс, богов и богинь. Многие из них откровенно и радостно предавались акту любви, символизировавшему плодородие этой местности и желание людей и богов наслаждаться жизнью и разделить земные удовольствия друг с другом.
Статуи и барельефы были щедро раскрашены во все цвета радуги, особое предпочтение оказывалось алому, розовому и глубокой синеве ляпис-лазури, а также золоту. Я не упоминал еще, что золото было тончайшим слоем напылено на купол храма, а на барельефах и фресках оно сверкало в коронах и рукоятях мечей, которые, кстати, нередко украшались и настоящими алмазами из принадлежащих империи копей. И повсюду были цветы на клумбах, в воздушных корзинах, в горшках и в живых гирляндах, обвивавших шеи статуй. Белые, желтые, красные, пурпурные цветы. Их аромат смешивался с благоуханным дымом курений, плавно, невесомыми колечками выплывавшим из тысяч бронзовых кадильниц.
К югу от квартала храмов и священных участков и чуть пониже его располагается не уступающий ему в роскоши и величии ансамбль Императорского дворца, а далее, на том берегу реки, где виднеются сады и парки, начинается уже и сам город. Городские кварталы не защищены природой, как построенные на высоте храмы и дворцы, но там имеются крепостные стены, внутри которых надежно упрятались рынки, лавки и мастерские ремесленников, купеческие дома и казармы.
Храм, где ожидал меня приют на ночь, был посвящен Ганеше, слоноголовому сыну Шивы и его супруги Парвати[120] — она же Пампа, божественное воплощение великой реки Тунгабхадра. Я уже говорил об этом? Что ж, я предупреждал — иногда я впадаю в рассеянность. Один из спутников сказал мне, что Ганеше принято молиться при начале любого предприятия, и я подумал, что, стало быть, именно в его храме мне и следует остановиться в день прибытия в Град Победы: ведь мне, по всей видимости, предстояло совершить путешествие на край света и обратно.
Храм был невелик, едва ли превосходил размерами большую беседку. Ему придали форму восьмиугольника; резная крыша сандалового дерева покоилась на восьми изящных колоннах. В центре храма (крыша в этом месте резко уходила вверх, превращаясь в вершину пирамиды) на восьмиугольном же возвышении сидело божество. Статуя из красной глины изображала довольно полного мужчину с обнаженным торсом, ноги, одетые в панталоны, были удобно подогнуты и покоились на подушке, лежавшей внутри цветка лотоса. В четырех руках Ганеша сжимал ожерелье, топор, небольшой серп и цветок лотоса. Слоновье лицо сияло искренним добродушием, золотая корона была ухарски сдвинута набок. В короне опять-таки переплетались цветы лотоса. Шея, руки и ноги бога были украшены многочисленными браслетами, запястьями, перевязями, ожерельями из золотых цепочек с жемчугами и сапфирами. Со всех сторон статую окружали приношения верующих гирлянды цветов, тарелочки с едой, сладости, курильницы. Пока я стоял там, любуясь этим образом, столь домашним и милым, но в то же время внушающим уважение, в святилище вошла семья — муж, жена и трое симпатичных детишек, — принесшая богу свои дары.
Должен отметить, что религия дравидов не требует совместного посещения богов большими толпами прихожан и участия в продолжительных церемониях, потому им и не нужны такие большие храмы, как соборы христиан и мусульманские мечети. Верующие приходят, когда сами пожелают, поодиночке или с родными, приносят незатейливые дары и не через молитву, а через посредство безмолвной медитации вступают в общение с тем или иным божеством, героем или аватарой бога.
Этот прелестный храм был окружен садом, полным роз, жасмина и тех огромных ярких цветов, которые не имеют имени на моем или твоем языке, ибо они растут лишь в тех местах, где всегда тепло и нет недостатка в воде. В небольшом пруду цветы лотоса раскачивались под порывами вечернего ветра на уходящих глубоко под воду стеблях, и их тени колебались, пересекаясь с серебристыми и золотыми блестками игравших под водой карпов. Среди кустов и внизу у подножия пальм пели и свистели, порхали и важно расхаживали птицы с прекрасным переливчатым оперением. Одни из них — размером с палец ребенка, другие огромные, гордо раскрывавшие веером свой яркий, нарядный хвост.
К одной стене сада примыкал павильон. На полу его были разложены тюфяки, набитые хлопком. Они предназначались для путешественников и паломников, однако прежде, чем мы отошли ко сну, к нам явились смуглые девушки с глазами газелей, закутанные в розовые и изумрудно-зеленые шелка. Они принесли нам пиалы с рисом и приправленными пряностями овощами, а также пирожные с гашишем — наша доля в приношениях, доставшихся Ганеше. Девушек сопровождал небольшой оркестр. Музыканты играли на ребеках[121] и особых барабанах в виде горшков, девушки танцевали, звеня серебряными бубенчиками на руках. Гибкие, плавные движения, полные жизни и, должен признать, соблазна. Танцовщицы, особенно те из них, кто постарше, охотно подсаживались к понравившимся им гостям, вступали в легкую беседу, флиртовали и, если все слаживалось, тут же и отдавались на шелковых простынях, покрывавших наши тюфяки.
Глава пятая
Я проснулся на рассвете и позавтракал спелыми плодами манго и хлебом с пряностями — еду мне оставили возле тюфяка. Умывшись над мраморной раковиной, вделанной в заднюю стену павильона, я попрощался с храмовыми служительницами и двинулся вниз по широкому, усаженному пальмами бульвару в Императорский квартал. Вскоре я оказался во все более сгущавшейся толпе людей, спешивших на площадь. В центре площади было устроено каменное возвышение со стороной более чем в сто шагов и высотой в тридцать локтей. В граните, из которого была сооружена эта платформа, посверкивали зеленые кристаллы. Тонкие ткани и драгоценные камни украшали постамент, со всех сторон к нему крепились пока еще не зажженные факелы. По пути я разговорился с юношей, чья скромная одежда и бритая голова в сочетании с горделивым выражением лица навели меня на мысль, что я имею дело с только что посвященным жрецом какого-либо культа.
На урду — различные народы общаются здесь на этом языке — молодой человек объяснил мне, куда все спешат, и меня настолько заинтересовал его рассказ, что я, прислушиваясь, последовал за ним до центральной площади с подготовленной к празднику платформой, вместо того чтобы свернуть в Императорский квартал.
— Сегодня, — говорил мой спутник тихим, мелодичным, однако отнюдь не лишенным мужественности голосом, — сегодня первый из девяти дней праздника Маханавами, знаменующего конец сезона дождей. Люди собираются заранее, надеясь занять на площади лучшие места, откуда можно будет любоваться прекрасным представлением, которое начнется с наступлением темноты. — Тут юноша принялся подробно описывать предстоявшее празднество и процессию танцоров, выставляемых каждым из городских кварталов. Я же пока внимательно изучал его наружность.
На вид ему было лет двадцать или чуть более; невысок, но хорошо сложен этого не могло скрыть даже его свободное одеяние, — длинные пальцы, изящные ладони и ступни. Круглая голова была обрита не наголо, ее покрывал короткий ежик волос, а посреди, от лба к шее, бежала дорожка более длинных волос, заканчивавшаяся коротеньким хвостиком. Большие темные глаза глубоко сидели под густыми сросшимися бровями, порой их взгляд сосредотачивался на некоем отдаленном или, быть может, внутреннем видении, но затем вновь оживал и сиял радостью и готовностью любить. Голос, как я уже сказал, был глубок и мягок, ни одной резкой ноты.
Я посетовал, что пропущу зрелище или, во всяком случае, окажусь на самом краю площади, поскольку большую часть дня мне придется провести в поисках князя Харихары Раджа Куртейши, однако мой новый друг настаивал, чтобы я пошел вместе с ним и посмотрел, какое место он займет в толпе, тогда вечером я смогу разыскать его и к нему присоединиться. Он обещал, что, как только выберет себе удобный наблюдательный пункт, он укажет мне, как пройти к тому дворцу, вернее, к той части дворцового ансамбля, где я сумею найти князя. Я полагал, что мне предстоит подать прошение об аудиенции и пройти через различные препоны и формальности,которыми знатные люди обычно ограждают себя от докучливых посетителей, но мой спутник сообщил, что в Виджаянагаре подобные трудности мне не грозят. Все члены императорской семьи и первые среди его советников и придворных каждый день по многу часов посвящают приему просителей. Быть может, мне придется долго ждать своей очереди, но в любом случае еще до наступления темноты я смогу поговорить с князем.
По пути я расспрашивал своего проводника обо всем, что удивило меня в увиденном сегодня. Две особенности праздничной толпы поразили меня: во-первых, зажиточные, хорошо одетые люди свободно общались с работниками, ремесленниками и крестьянами, а во-вторых, я нигде не замечал солдат, вооруженной стражи, должностных лиц, силой водворяющих порядок. Как отличалось это от известной мне Индии, сохранившей свои обычаи и под властью ислама! Ни каст, ни жестких правил, определяющих положение человека согласно его профессии или происхождению, ни надменной гордыни, объявившей многие группы людей неприкасаемыми.
Мой новый знакомый, его звали Сириан — сообщил мне, что река Кришна (она протекала на севере страны, и Тунгабхадра была ее притоком) является не только границей между Виджаянагарой и султанатами Бахмани, но также южным пределом, до которого много веков назад распространилось вторжение арийцев. Немногочисленные, но воинственные и хорошо вооруженные арийцы навязали покоренному населению Центральной и Северной Индии законы, согласно которым только сами завоеватели и их потомки получали право владеть землей и оружием и отправлять священные обряды. Со временем эти законы были освящены в качестве традиции браминов, то есть беспощадная система угнетения превратилась в дарованный богами мировой порядок. Тем не менее к югу от Кришны под властью дравидских царей, а ныне при благодатном правлении династии Дева Раджа сохраняются прежние обычаи.
— Так что же такое индуизм? — спросил я, пытаясь скрыть свое невежество. Юноше все, что он мне рассказывал, казалось само собой разумеющимся.
— Прежде всего, — сказал он, — это слово из языка парси, а не из дравидского языка. Арийцы переняли нашу религию, и потому в наших верованиях и обрядах есть теперь много общего. Мы чтим одни и те же образы божества Вишну, Шиву, их супруг и детей, — однако часто мы называем их другими именами, а главное, не наделяем такой жестокостью, как арийцы. В их пантеоне мужское и женское начало поменялись местами — ведь мы-то чтили богиню, особенно в облике прекрасной Парвати, превыше мужских божеств. Кроме того, мы поклоняемся духам местности, деревьев, источников, времен года, и большинство из них также принадлежат к женскому началу. Сам я являюсь приверженцем культа Рати, мчащейся верхом на лебеде, ее супруга, бога любви Камы, Сканды верхом на павлине и Сарасвати — это богиня музыки и мудрости.
— Ищете ли вы союза с божеством и духовного совершенства путем реинкарнации?
— Ни в коем случае! — с отвращением воскликнул Сириан. — Все эти боги и богини, о которых я говорил, созданы самими людьми, это внешние проявления богини, заключенной в нас самих. Все наши духовные упражнения направлены на достижения экстаза, который позволит нам объединиться с божеством.
Это очень напоминало верования и религиозную практику той ветви ислама, в которой я воспитывался, покуда мое детство не оборвали жестокий удар меча и гибель всех, кого я любил. Позднее я нашел наставников той же веры в ущельях Гиндукуша. Мне показалось, что Сириан говорит о более глубоком экстазе, чем тот, что был знаком нашим дервишам, до упаду кружившимся в безумной пляске.
И вот мы добрались до угла большой площади. Портик дома, замыкавшего в этом месте площадь, позволял укрыться от палящего солнца. Сириан удобно прислонился спиной к высокой линге, то есть столбу, представлявшему Шиву в виде фаллоса, и здесь я расстался с ним, пообещав вернуться до заката. Я без особого труда нашел дорогу к дворцу — все прохожие охотно останавливались и указывали мне нужное направление, — и уже внутри дворцового ансамбля привратники и низшие придворные чины с той же готовностью помогали мне.
Глава шестая
Как и предсказывал Сириан, единственным препятствием на пути к князю оказалась необходимость прождать несколько часов. Вестники и искатели места, попрошайки и поставщики оружия, изобретатели и прочие лица всякого звания входили и выходили, являлись поодиночке и группами; между рассевшимися в ожидании людьми сновали продавцы дынь, холодной воды и кокосового молока. Я принялся расспрашивать слуг, охранявших двери во внутренние покои, получу ли я аудиенцию у князя Харихары, и если да, то когда. Меня любезно заверяли, что вот-вот наступит и мой черед переговорить с вельможей, но, обнаружив, что такой же ответ получают и все остальные посетители, я решился расстаться со своим драгоценным свертком, который вот уже более двух лет не выпускал из рук.
— Отнеси это князю, — попросил я придворного, охранявшего дверь. Это был немолодой человек приятной наружности. Знаком его должности служил жезл слоновой кости с серебряным навершием. — Если князь пожелает подробнее расспросить об этом послании, пусть призовет меня до наступления темноты.
После чего я спокойно уселся спиной к дверям и принялся ждать.
Примерно часом позже я увидел, как этот служитель прокладывает себе путь сквозь толпу, и догадался, что он ищет меня. Я поднялся на ноги, чтобы привлечь его внимание.
— Вот ты где! — с облегчением воскликнул он. — Я уж боялся, что ты ушел. Князь Харихара хочет тебя видеть.
Жезл слоновой кости был, несомненно, знаком достаточно высокой должности все двери раскрывались перед нами, привратники уступали нам путь. Мы шли через галереи и внутренние дворики, не столь величественные, как та часть дворца, которая предназначалась для приемов, но отнюдь не лишенные красоты и достоинства. Я любовался изящными колоннами, сложной резьбой деревянного потолка, маленькими бассейнами с фонтанами. Здесь вольно порхали певчие птицы и бабочки кружили над клумбами с пурпурными, пахнущими миндалем цветами. Из незастекленных окон открывался вид на город и дальше, на большую долину. Дворец отчасти напоминал Альгамбру на горе над Гранадой, но там, согласно предписаниям Корана, все украшения сводились к лишенному образов орнаменту и бесконечным повторениям каллиграфически выведенной мантры «Ва-ла гхалиба илла-Лла», что означает: «Нет победителя, кроме Бога», а здесь настенная роспись и барельефы подробно представляли плотские радости земного рая.
Мы добрались наконец до большой беседки у пруда. В проемах сводчатых окон виднелись горы, которые наш караван пересек накануне. В глубокой нише окна стоял князь Харихара Раджа Куртейши. Мы вошли, и он повернулся нам навстречу.
Это был высокий, крепко сложенный человек; темная кожа князя блестела, как у большинства представителей его расы. Богатое платье из тонкого хлопка, желтого, точно масло, и расшитого серебром, подчеркивало изящество его движений. Ожерелье из оправленных в золото драгоценных камней я счел украшением, хотя, возможно, оно служило также знаком высокой должности. Длинные волосы, черные с отливом, падали на плечи князя словно львиная грива, руки его были большими и на вид сильными. Этот вельможа казался почти божеством, полным благодати и величия. На расстоянии двадцати шагов ему можно было дать не более тридцати лет, и, лишь подойдя поближе, я разглядел глубокие впадины на его лице, особенно выделявшиеся возле губ, чересчур резкие очертания щек и скул, сеточку морщин в уголках глубоко посаженных глаз, изборожденный раздумьями лоб, узкую линию губ. Князь часто улыбался, но в улыбке сквозила печаль. Словом, ему было примерно пятьдесят лет, то есть он был на десять, если не на пятнадцать, лет моложе меня.
Он приветствовал меня вежливым кивком:
— Ты Али бен Кватар Майин, купец? Я подтвердил.
— Ты доставил мне это послание? — Легким движением руки князь указал на столик, где покоился заветный пакет. Выцветшие красные кожаные ремешки были развязаны, промасленная ткань раздвинулась, обнажая скрывавшиеся внутри листы пергамента. Я вновь склонил голову в знак согласия.
— Нам есть о чем поговорить.
Нередко случалось так, что и мое благополучие, и сама жизнь зависели от способности быстро и точно распознать человека, с которым сталкивала меня судьба, а главное — подметить его слабости. И теперь я сразу же пришел к выводу, что князь Харихара гордится своей наружностью и весьма высоко (быть может, излишне) ценит свой ум и деловые способности. Я и раньше наблюдал подобные свойства у младших братьев и кровных родичей правителей. Эти люди достигают высоких должностей по праву рождения, но предпочитают думать, что всем обязаны только собственным заслугам. Греясь в лучах светила, еще более яркого, чем они сами, они тщеславятся своим положением и все же не вполне им довольны.
А что за человека видел перед собой князь?
Пришелец скорее напоминал собой огородное пугало. На голове — большой засалившийся тюрбан; тело обернуто широкой черной тряпкой, где порванной, где выцветшей почти до белизны и сплошь покрытой пятнами от еды и питья. Страшный рубец пересекал пополам его лицо; клочковатые усы и бороденка также не добавляли ему красоты. Из-под черного рубища торчали тощие ноги, ногти на пальцах обутых в старые сандалии ног подогнулись вовнутрь, точно птичьи когти. В правой руке чужестранец держал палку с облезшей корой, побелевшую от старости. На этот посох он налегал всем своим весом, склонившись влево, так что тело казалось причудливой ломаной линией на фоне безупречно прямых колонн портика. Словом, Ма-Ло, князь видел перед собой того самого человека, какого видишь сейчас и ты, разве что еще не до конца разрушенного годами и ревматизмом.
Я подумал, что князь Харихара вряд ли готов поверить моему рассказу. Скорее всего, он сочтет его нелепой выдумкой, сочиненной, чтобы утаить простой факт: либо я украл эту посылку у другого путника, либо случайно набрел на нее в какой-нибудь гавани Леванта. И все же его высочество согласился выслушать бродягу — это кое-что говорило о важности доставленного мной послания.
Несомненно, князь уже заглянул в листы пергамента, иначе он бы не стал тратить на меня свое время, а тем более предоставлять личную аудиенцию. Теперь же, удостоверившись, что именно я доставил это послание, он принялся расспрашивать, каким образом пакет попал в мои руки, и наконец, так и не выразив вслух сомнение в достоверности моего рассказа, князь сказал:
— Полагаю, ты рассчитываешь на вознаграждение?
Пожав плечами, я пробормотал:
— От Кале до Виджаянагары путь неблизкий. Но важнее всего для меня было исполнить поручение человека, который передал мне это послание.
— Следовательно, за столь короткий срок он сумел произвести на тебя глубокое впечатление?
Я наклонил голову в знак согласия, но в подробности входить не стал.
— Что тебе известно о содержимом этого пакета?
Я бросил быстрый взгляд на стол.
— Когда я передавал пакет твоему управителю, мой князь, кожаные ремешки были завязаны. Я ни разу не развязывал их. Меня предупредили, что в противном случае я навлеку на себя проклятие.
Князь Харихара извлек связку пергаментных листов, провел пальцем по их краям, и овечья шкура пергамента жалобно заскрипела. Князь брезгливо поморщился.
— Ты много путешествовал, — проворчал он.
— Я побывал всюду, за исключением лишь южной оконечности Африки и неведомого материка Винланда — говорят, есть такая земля к западу от Европы и к востоку от Азии.
— Ты умеешь читать?
— На всех языках понемногу.
— На английском умеешь? Ученые мужи из нашей библиотеки уже сообщили мне, что большая часть листов написана на этом наречии, но они недостаточно знакомы с ним, чтобы перевести текст. Ты можешь его прочесть?
— Я разберу описание груза на корабле или правила, касающиеся ввоза и вывоза товаров. Могу договориться о комнате в гостинице, заказать еду, получить корм для животных, которых везу с собой, расспросить о дороге и поболтать со спутниками, кто бы они ни были.
Князь протянул мне верхний лист из связки. Я увидел перед собой английский текст и принялся читать его вслух:
As John the apostel hit syy with syght I syve that cyty of gret renoun Jerusalem so new and ryally dyght As hit was light fro the heven adoun The birgh was al of brende golde bryght As glemande glas burnist broun With gentyl gemmes anunder pyght Wyth banteles twelve of tiche tenoun Uch tabelment was a serlypes ston…
— Довольно! — прервал меня князь. — Что все это значит?
— В этом языке, как и в здешнем, есть множество диалектов, — сказал я. — Я торговал в юго-восточной части Ингерлонда, а это, я полагаю, северо-западный диалект.
— Но ты должен понимать хотя бы, о чем тут речь.
— Мне кажется, это описание города. Богатого города.
— Продолжай.
— Здесь сказано, что этот город сияет золотом, драгоценными камнями… Драгоценными камнями двенадцати видов, если я правильно понял.
— И что там дальше? Какие именно камни? Они названы здесь? — Князь передал мне следующий лист.
— Яшма, сапфир, халцедон, изумруд…
— Прекрасно, прекрасно.
— Агат, рубин…
— Ты уверен, что здесь сказано «рубин»?
— «The sexte the rube». Конечно же, rube — это рубин.
— Я спрашиваю потому, что все утверждают, будто рубины имеются лишь в Бирме и Мандалае. Продолжай же.
Я вел пальцем по строкам, выбирая слова, к которым князь проявлял особый интерес, а все остальное пропуская:
— Хризолит, берилл, топаз, хризопраз, гиацинт, аметист.
— И все? Это все?
Я перевернул страницу.
— Дальше говорится о том, что улицы города сделаны из золота и все wones— должно быть, это жилища украшены драгоценными камнями. Это большой город, площадь его составляет примерно полторы квадратных мили.
Князь вздохнул. Глубокий вздох, выражающий полное удовлетворение. Воцарилось молчание, лишь вода легонько звенела в фонтане да птица напевала в клетке.
— Где этот город? — спросил он наконец.
— Здесь упоминается Иерусалим, но там я бывал — ничего похожего на то, что описывается в этом послании.
— Может быть, где-то в Ингерлонде? Ты сказал, это северо-западное наречие. Может быть, там? — Я только пожал плечами и выпятил нижнюю губу к счастью, она меньше всего пострадала от удара меча. Но князь настаивал: — Тебе доводилось когда-нибудь слышать о таком городе? Ведь вы должны знать о нем, если такое место и вправду существует.
— Кое-что рассказывают, — рискнул я ответить. — Но я никогда не бывал в той части Ингерлонда.
В задумчивости князь принялся грызть ноготь большого пальца. Он не сразу сообразил, как ему действовать дальше.
— Если ты хочешь получить плату за оказанную мне услугу, и вообще, если ты хочешь получить разрешение на торговлю в нашей столице, — так ему показалось надежнее, — ты должен завтра до полудня явиться к моему управляющему. А теперь можешь идти. Повеселись на празднике!
С этими словами вельможа отвернулся и принялся перечитывать те три листа пергамента, в которые он не позволил мне заглянуть. Полагаю, эти страницы содержали письмо от его брата Джона, вернее, Джехани, и были составлены на языке телуга тем тайным письмом, которым пользуются в личной переписке правители этой страны.
Глава седьмая
Вернувшись на площадь, я убедился, что встреченный мной утром монах или послушник оказался человеком слова: он сумел сохранить для меня удобное местечко, несмотря на все усиливавшийся напор толпы. Более того, юноша даже припас для меня кусок пресной лепешки, посыпанной специями, и купил у уличного разносчика кокосовую скорлупу с айраном. Этот напиток, кислое коровье молоко его здесь называют «ласси», — утоляет жажду лучше любого другого.
Как я ожидал, празднество оказалось грандиозным и довольно утомительным. Так ведь оно обычно и бывает. Каждый квартал города выставил своих танцоров и музыкантов, состязавшихся друг с другом и богатством одежд, и сложностью представления. Все это, вероятно, чрезвычайно интересно для знатоков, способных обсуждать малейшие подробности, которыми выступление одной труппы отличалось от другой. Да, все актеры выглядели просто замечательно в пышных разноцветных одеяниях и театральных костюмах, преимущественно из шелковой ткани с вышивкой золотом, их лица закрывали лепные маски, отделанные драгоценными камнями, покрытые листовым золотом, над головой у них колебались перья экзотических птиц. Одни артисты показывали толпе невероятно длинные ногти, кажется, даже искусственные, другие вступали в ритуальный поединок, размахивая ятаганами, третьи топали ногами в такт музыке, а четвертые изгибались и извивались, пытаясь изобразить многорукое и многоногое божество. Музыканты дули в трубы, били в гонг, играли на гитарах и пронзительно свистели на флейтах.
Не прошло и часа, как я уже изнемогал от шума и впечатлений, а четыре часа спустя, когда в факелах начал наконец угасать огонь, я почти засыпал, и тут, к моему огорчению, догоравшие факелы начали заменять новыми, и, по моим прикидкам, это означало, что веселье продлится до утра. Я принялся зевать и, извинившись перед Сирианом, сослался на дорожную усталость после стольких дней пешего пути, а перед тем — многих месяцев непрерывного плавания, напомнил, что и этот день был полон хлопот, а я уже не так молод…
— О, извини меня! — тут же воскликнул он. — Я проявил невнимание. Мы сейчас же пойдем ко мне домой, поужинаем, и я уступлю тебе свою постель. Нет-нет, я настаиваю! Мне тоже вполне достаточно того, что я уже видел. Празднество продолжается семь дней, мы можем вернуться сюда завтра. Ничего существенного мы не пропустим. — И он, не допуская возражений, увлек меня с площади, повел под гору, мимо огромных конюшен, где содержались дворцовые слоны, мимо парков, где и ночью горели фонари с ароматными маслами, к широкому каменному мосту через реку. Под взглядом гранитных львов мы перешли на другой берег.
Сириан попросил прощения за скудность предстоявшего мне угощения, пояснив, что, хотя его родители землевладельцы, готовые предоставить сыну любую роскошь, он выбрал аскетический образ жизни. Он говорил об этом без гордыни или ханжества напротив, он восхищался блеском и роскошью вельмож и с сочувствием относился к земным радостям. Как он уже поведал мне, излагая свое вероучение, большинство жителей Виджаянагары полагали, что о посмертном существовании человеку известно крайне мало, а потому высшее блаженство, на которое смеет рассчитывать мужчина или женщина, достигается уже здесь, на земле, в мучительном и страстном восторге единения духа и тела с обитающим внутри божеством.
Кроме того, Сириан предупредил, что живет вместе со своей сестрой-близнецом по имени Ума.
Он провел меня в свои покои — ряд маленьких комнат на втором этаже большого, немного нелепого здания. На первом этаже располагались мастерские и лавки торговцев, публичные бани и даже внутренние дворики, подсвеченные бумажными фонариками. Посреди каждого дворика в бассейне, точно проблески света, мелькали крошечные рыбки, а над водой в кадках росли лимоны.
Стены комнат Сириана были обшиты панелями — а то и построены целиком — из серебристого ароматного дерева, потолки искусно отделаны резным узором из огромных цветов и тех поразительных кристаллов, которые можно найти под сводами пещер. Стены закрывали тонкие шелковые ковры и гобелены, по большей части представлявшие разные приятные и радостные сцены — пир, охоту, танцы и совокупление. Мне показалось, что подобное помещение плохо вяжется с аскетическим образом жизни, хотя, вероятно, по сравнению с богатством и роскошью родительского дома Сириан воспринимал все это как уютное и скромное жилище.
И тут произошло нечто странное. Пока я осматривал центральную комнату я как раз принялся пристально изучать резьбу на потолке, — Сириан внезапно зашел со стороны моего слепого глаза и — растворился в тени.
— Моя сестра Ума позаботится о тебе. Мне нужно заниматься, — и был таков.
Через несколько минут за шелковым занавесом, который, как я теперь понял, отделял вход в длинный коридор, замелькал свет. Светильник приближался, и вскоре я смог уже разглядеть державшие его руки, и сам светильник серебряный сосуд с топленым маслом, — и лицо, казалось, парившее в воздухе над кругом света.
Как прекрасна была Ума! Кожа цвета темного меда, длинные густые черные волосы с блестками огня и меди — не знаю, природа подарила эти искры ее волосам или искусство. Миндалевидные очи, неожиданно светлые, золотисто-карие, порой даже с зеленоватым отливом. Высокий лоб, длинная крепкая шея, плечи, блестящие, словно густое масло. Грудь ее была открыта, груди словно гранаты, соски обведены алой краской, губы полные, яркие, манящие к поцелую. Поскольку девушка оставалась дома и не ожидала гостей, выше талии на ней были надеты лишь украшения, а голову венчала высокая золотая диадема в форме улья, отделанная драгоценными камнями. Ниже пояса спускалась изумрудно-зеленая юбка из тончайшего шелка с золотой нитью. Эта юбка из единого куска ткани обхватывала бедра, оставляя на виду нижнюю часть округлого живота. Застежка скрепляла ткань на самой косточке таза, а ниже края расходились, обнажая нижнюю часть бедра. Единственным изъяном — если это можно назвать недостатком — были сросшиеся брови, точь-в-точь как у Сириана.
Девушка вежливо приветствовала меня, поцеловала мне руку, усадила на приземистый диванчик. Из ниши она извлекла кувшин с ароматизированной водой, омыла мне ноги, затем поднесла бодрящий напиток из рисового вина с лечебными травами. Когда девушка опустилась на колени передо мной и я увидел, как завитки волос спускаются по ее шее и вниз по спине, когда ее мягкая грудь на миг коснулась моего бедра, я почувствовал, как давно забытое желание вспыхнуло в моих ветхих чреслах.
Закончив омовение, хозяйка предложила мне простую трапезу из риса, приправленного куркумой и другими пряностями, жареных фисташек и грибов, а на десерт фрукты, тщательно подобранные по цвету и вкусу острое и сладкое, мед и мускус.
Мы приступили к еде, и тут Ума подняла взгляд и заговорила со мной голосом, слишком низким для женщины, но мягким, точно соболиный мех:
— Али бен Кватар Майин, ты прожил много лет, ты побывал во всех концах земли и видел много странных и необычных вещей, а мы с Сирианом стоим на самом пороге взрослой жизни, наши головы склонились под притолкои, наши ноги ступили на первую ступень. Детство позади нас, огромный мир — впереди. Я бы сочла за честь и за удовольствие, если бы ты передал мне что-нибудь из своих знаний, а также поведал о том, что привело тебя в такую даль от внутреннего моря, за океан, в Виджаянагару.
И я начал рассказ. Постепенно сгущались ночные сумерки, я говорил час или чуть дольше, пересказывая те события, о которых я рассказывал тебе, дорогой мой Ма-Ло, в последние дни. Настойчивые и ласковые расспросы помогли мне преодолеть первоначальное нежелание выступать в роли наставника, и я поведал девушке свои мысли о кратковечном существовании человека — то, что я выучил на коленях отца, а позднее в горах Центральной Азии. Да, я посвятил ее в тайное учение шиитов, от которых я унаследовал основу своей веры.
Как я уже говорил, эти убеждения во многом совпадали с тем, что Сириан рассказывал мне о сокровенном учении своей религии, — совпадало не с точки зрения догмы или внешнего проявления, но на более глубоком уровне разумения. Ума попыталась облечь эту мысль в слова.
— Мы применяем духовное упражнение панчамакара, чтобы достичь состояния кулы. Кула наступает тогда, когда разум и чувство едины, утрачивается различие между органами чувств и воспринимаемый ими объект совпадает с вызванными им ощущениями. Только это и можно именовать подлинным экстазом, только к этой цели и следует стремиться, только так нам открывается скрытый внутри бог или богиня.
— А какими же способами можно достичь этого состояния? — поинтересовался я.
— Способов много, — отвечала Ума, раскладывая в углу комнаты подушки и удобно располагаясь на них. — Каждый из них открывает нам иной аспект богини, и открывает его более или менее глубоко. К примеру, музыка и церемониальные танцы, которые ты наблюдал ныне, лишь слегка приоткрывают завесу; более глубоко проникает раса, то есть созерцание резных и рисованных образов. Наш город заполнен такими украшениями, и благодаря им мы могли бы считать себя счастливейшим народом. Брамины уверяют даже, что высочайший экстаз достигается через расу, через созерцание того, что сделали или совершают у нас на глазах другие люди. Однако, по-моему, эта нелепая точка зрения порождена их уверенностью, будто люди, зарабатывающие трудом своих рук, ниже тех, кто посвящает себя работе ума. На самом деле те, кто танцует, поет и играет на музыкальных инструментах, повинуясь мистической гармонии, получают большее откровение, чем те, кто им внимает, и это же относится к ремесленникам, рисующим, вырезающим и лепящим образы. На нижнем уровне мы помещаем удовольствия от пищи и питья, как те, что мы с тобой получили сегодня, и все же, — тут она рассмеялась смехом, подобным серебристым переливам храмового колокольчика, — и все же я получила больше удовольствия от приготовления ужина, чем ты — от еды.
— Но как прийти к высшему, совершенному экстазу, к полному слиянию с пребывающим внутри божеством?
Я задал этот вопрос, и на миг девушка словно ушла от меня, скрылась в свой внутренний мир, а затем, возвратившись, вновь рассмеялась.
— О, ученые мужи, садху, только об этом и спорят. По-видимому, нет такого упражнения, которое само по себе могло бы полностью преодолеть ту стену, что отделяет каждого из нас от его бога. Очевидно, однако, что одни пути более годятся для постижения, нежели другие. Некоторые ученые говорят, что божественный восторг наступает во время танца или созерцания танца, другие утверждают, что необходимо принять какое-либо лекарственное средство. Несомненно, бханг, который вы называете гашишем, служит подспорьем, но отвары иных растений, плодов и цветов, приготовление и назначение которых известны лишь жителям гор, могут совершить еще больше. Есть и такие, кто достигал просветления, сжигая высушенный сок мака и вдыхая дым. Разумеется, для многих наиболее благоприятным путем оказывается половое совокупление, если оно совершается умело и должным образом.
Я беспокойно зашевелился на подушках, и пряная пища в сочетании с блаженной расслабленностью исторгла из моих недр негромкий звук, от которого я бы предпочел воздержаться. Ума улыбнулась мне, точно мать.
— Лучше из себя, чем в себя, — пошутила она. Я продолжил свой рассказ, отчасти и затем, чтобы скрыть смущение:
— Я побывал в странах Запада, где люди ищут откровение не путем удовольствий, но путем воздержания и умерщвления плоти. Я видел многотысячные толпы людей, избивавших друг друга бичами, и это длилось часами, пока кровь не начинала ручьем струиться по улицам. Я знал людей, которые удалялись в горные пещеры или запирались в крохотных часовнях и питались водой и черствым хлебом, истощая свои тела. Когда глаза их становились огромными и блестящими, на щеках проступал чахоточный румянец, а на губах — пена, они начинали утверждать, что видели добрых и злых духов, а то и самого Бога. Разумеется, большинство этих людей составляли христиане ты, наверное, слышала, что из всех религиозных фанатиков эти самые безумные. Почти во всем, что они говорят, не отыщешь ни складу, ни ладу.
Ума кивнула:
— В Индии тоже есть мистики, подобными средствами стремящиеся достичь просветления. К примеру, факиры бегают босиком по горящим углям, спят на гвоздях, придают своим членам нелепое и противоестественное положение, чтобы войти в транс, когда все телесные функции замирают на много часов, а то и дней. Кто знает, быть может, эти люди достигают желанного экстаза, но мне кажется глупостью прибегать к столь болезненным средствам, если можно получить то же самое благодаря удовольствию.
Я согласился с ней. Сказать по правде, величайшее мучение, пережитое мной в детстве, — та ночь, проведенная в колодце на куче обезглавленных тел, — отнюдь не способствовало ни духовному, ни какому-либо иному союзу с божеством.
Последние слова, произнесенные Умой, еще звучали в моих ушах, но тут я подметил, что со мной, с моим разумом и моим телом, происходят перемены. Я не мог противиться: стены комнаты сдвигались и раздвигались, точно занавес, в ушах гудел яростный ветер, пальцы, а затем и ступни, и даже губы онемели, на лбу проступил пот. Комнату заполнила тьма, стены с висевшими на них гобеленами отступили, растворились в тени, и тут я увидел точку белого света — разгораясь, эта точка приобрела красный оттенок, начала вращаться, мелькая вокруг меня точно крохотная комета, разбрасывая во все стороны искры света. Она мчалась все быстрее и быстрее, и я начал растворяться в ней, меня втягивало в ее орбиту, и вот я уже стал частью этого огненного шара, сам сделался огнем и услышал голос, повторявший: «Все, что есть, — это я». Быть может, то был мой собственный голос. Во мне нарастала тревога, но вместе с ней нарастало ощущение небывалого счастья. И вдруг ничего, только тьма. Мне показалось, это длилось бесконечно долго.
Но вот из сумрака выступила темная фигура, чернокожая женщина с четырьмя руками. Ладони ее и глаза были красны как кровь, кровь капала с высунутого длинного и острого языка, шею украшало ожерелье из черепов. Диадема из лотосов венчала ее голову, но и цветы были пурпурно-красными, а одеяние — черным как ночь, расшитым серебром звезд. Над головой богини восходила луна. Вокруг ее пояса вились змеи, но она пела ласковым, призывным голосом: «Приди в мои объятия, приди с радостью, и ты познаешь все, что следует знать».
Я очнулся от звуков струящейся воды и звенящих где-то вдали колоколов. Солнце согрело мою кожу, в ноздрях остался сладкий, напоминающий жасмин аромат. Я открыл глаза веки отяжелели, как у человека, только что оправившегося от лихорадки, — и обнаружил, что лежу под невысоким апельсиновым деревом, чьи сочные листья, почти черные на фоне жемчужного рассветного неба, заслоняли от солнца мое лицо, но не тело — тело и ноги грелись в первых солнечных лучах, только что засиявших на скалах к востоку от города, но уже даривших тепло. Душа моя наполнилась блаженством, я не стал задаваться вопросом о том, как я попал сюда, и позволил себе вновь соскользнуть в сон, но уже в иной — целительный, теплый, счастливый покой.
Проснувшись вновь, я резко сел, и второй — или то был уже третий — мой сон растаял без следа. В этот раз я снова грезил о женщине, но совсем о другой. Новая гостья моих сновидений была белоснежно-белой, обнаженной, с золотыми волосами. Она ждала меня в ледяной пещере. Она исчезла в тот самый миг, когда я оторвал от земли верхнюю часть туловища, причем листья зашуршали по моему тюрбану, а здоровенный плод стукнул меня по голове. И таково было обаяние этого призрака, что я, старик, ощутил жгучее тепло в чреслах и почувствовал запах своего семени.
Я подхватил упавший с дерева апельсин, разорвал ногтем кожуру и впился в него зубами. Ни один фрукт не доставил мне в жизни такого удовольствия, как этот, чей сок тек по моему подбородку, пока глаза мои насыщались зрелищем сводов, стен и подобных горам башен окружавшего меня со всех сторон города. Я видел прекрасные здания и справа, и слева, на той стороне долины. Там и сям крыши сверкали позолотой или мозаикой. Между зданиями, садами, парками города прокладывала себе путь река и уходила в поля и леса, растворявшиеся в тумане где-то вдали, куда уже не досягал взгляд.
Я не переставал гадать, каким образом очутился в этом месте. Следовало ли мне и вечер, проведенный в обществе Сириана и Умы, посчитать за такой же сон, как явление обнаженной белокожей красавицы? Что ж, во всяком случае, никакого зла мне не причинили, напротив, я приобрел немало приятных воспоминаний, однако теперь мне следовало поторопиться, чтобы получить обещанную плату от князя Харихары.
Глава восьмая
На этот раз домоправитель с серебряным, отделанным слоновой костью жезлом заранее поджидал меня и сразу же проводил к князю Харихаре. Князь предпочел встретиться со мной в одном из внутренних двориков, под пальмами. Он сидел в мраморном кресле за мраморным восьмиугольным столом. Судя по множеству трещин и пятен на этом столе, он служил князю в часы наиболее важных размышлений. Перед князем стояло серебряное блюдо с финиками, он то и дело рассеянно брал длинными пальцами свежие, спелые плоды; рядом с блюдом лежала та связка листов пергамента, которую я доставил ему с другого края света. Я отметил, что красные ремешки вновь затянуты, хотя и небрежно.
Князь принялся подробно расспрашивать меня о прежних поездках в Ингерлонд, о том, насколько хорошо мне известен тамошний язык и обычаи и сумею ли я разыскать убежище его брата Джехани. Я пришел к выводу (как потом выяснилось, ошибочному), что князя интересует не только местонахождение брата, но и город из золота и драгоценных камней.
Я старался по возможности честно отвечать на все вопросы, но, чувствуя, что мне вот-вот предложат выгодное дельце, и не имея никаких средств к жизни, после того как кораблекрушение унесло моих лошадей, я постарался ничем не выдать своего далеко не совершенного знания английского языка, не говоря уж о еще менее совершенном знакомстве с самой страной и ее обычаями.
Затем князю понадобилось разузнать о воинском искусстве и снаряжении англичан, но тут я сознался в полном невежестве. Я мог поделиться лишь общим впечатлением: и знать, и простонародье сражались с подчас нелепой отвагой и умело владели оружием, однако в последнее время им не хватало разумных вождей. В прежние времена королям, претендовавшим по праву наследования на многие города и обширные земли материка, удалось выиграть немало великих сражений у франкских королей, но в недавние годы они утратили почти все, что прежде приобрели. Это произошло потому, что королем их стал младенец, и прошло долгое время, прежде чем он сделался юношей, но тут он обнаружил слабость воли или даже — по мнению некоторых — слабоумие, в то время как франков возглавила неистовая воительница, одержимая духами и вдохновившая соратников на подвиги отваги и хитрости. Англичане схватили ее и предали огню как ведьму — ведь обычная женщина не могла бы одержать столько побед.
— Но сведущи ли они в новейших изобретениях, усовершенствовавших воинское искусство? — настаивал князь Харихара. Я был бы глупцом, если б не догадался, какого ответа он ждет. Я, конечно, не царедворец но стоило ли спорить с князем, раз он уже сделал вывод?
— Они сражаются верхом? Я подтвердил.
— Они умеют строить крепости?
Я припомнил стены и крепостные башни Кале и отвечал утвердительно.
— А порох? Они знают этот состав? Я имею в виду — они употребляют его не только как зажигательную смесь, но и в артиллерийских орудиях?
В гавани Кале я видел чудовищного вида трубы на колесах. Их называют пушками. С виду они напоминают стократно увеличенные полые тростинки, в которые любят подудеть мальчишки. Мне говорили, что эти орудия изрыгают огромные камни или железные слитки на вражеские корабли, французские или просто пиратские, которые осмелятся показаться невдалеке от порта. Итак, я снова ответил своему собеседнику «да».
Допрос продолжался еще с полчаса, но, даже не догадываясь об истинных намерениях князя, я понимал: он уже узнал все, что ему требовалось, и принял какое-то решение, а разговор затягивал лишь для того, чтобы никто не счел, будто князь принял ответственное решение не подумавши. Наконец он соизволил объявить мне свою волю, и, признаться, мне стоило немалых усилий скрыть изумление.
Откашлявшись, князь откинулся в кресле, укрывая лицо от прямых лучей солнца. Глаза его засверкали, в них замерцали солнечные зайчики, отразившиеся от поверхности пруда. Длинными пальцами он обхватил подбородок и заговорил негромким, твердым голосом:
— Я решил самолично отправиться в Ингерлонд, разыскать моего брата Джехани и возвратить его домой. Я обсудил это с императором, и тот согласился — при условии, что я займусь попутно и другими делами, имеющими государственное значение. Чтобы осуществить эту миссию, мне понадобится проводник, знакомый с языком и обычаями страны. Полагаю, ты подойдешь.
Заметьте, он не сказал: «Я хотел бы» или «Согласишься ли ты?» Князь был уверен, что не встретит отказа. Мне стало не по себе от его настойчивости; кроме того, меня смущало, что князь сам отправится в эту поездку. Такого я не ожидал: ведь он был членом императорской семьи, занимал важный пост в правительстве должность министра военных дел. К тому же, учитывая его возраст и образ жизни, я сомневался, выдержит ли он тяготы столь долгого путешествия.
Однако князь правильно оценил мои обстоятельства и знал, что я не откажусь от выгодного предложения. Вопрос был в том, как выразить согласие. Будь передо мной калиф или султан, все было бы просто: следовало упасть на колени, облобызать его руки и, если удастся, окропить их слезами благодарности, но принцы из дравидской династии предпочитали менее формальные, хотя и более утонченные знаки почитания. Они столь же горды, как арабские, монгольские или индийские властители, и не меньшее значение придают этикету, однако этикет не должен проявляться открыто, он ощущается подспудно, а внешне разговор князя с подданным выглядит почти как беседа равного с равным. Итак, я наклонил голову и через пару секунд ее поднял. Этого было достаточно.
— Хорошо, мы обо всем условились. Управляющий Аниш позаботится о тебе. С его помощью ты займешься приготовлениями к поездке. Я хочу отправиться в путь как можно скорее. Караван должен соответствовать моему статусу я представляю особу императора, — но не следует излишним великолепием вызывать у соседей зависть или подозрения. Все детали вы обсудите с Анишем.
Взмах руки — и управляющий уже стоит возле меня. Я и не слышал, как он подкрался. Его господин изящным жестом положил в рот еще один финик. Аудиенция была закончена, вельможе предстояли другие дела.
Через три месяца мы отплыли — не из Мангалора, а из северной гавани Гоа (арабы называют ее Синдабур). Тем самым мы на пятьдесят миль сократили сухопутный переход из Града Победы и на столько же удлинили плавание по морю до Йемена.
Все это время я числился на службе у князя и занимал комнату в той части дворцового ансамбля, в которой располагались личная резиденция князя, официальная приемная, помещения для слуг и придворных. Я получил маленькую чистенькую комнатку, единственным недостатком которой было соседство с кухней. Я все время дышал ароматами растительного масла, чеснока и пряностей. Однако жалованье было весьма изрядным, тем более при полном отсутствии расходов. Я скопил некоторую сумму и вверил ее еврею ювелиру на той стороне реки — я свел с ним знакомство за это время. Эти деньги стали начатком небольшого состояния, обеспечившего мою старость.
В эти месяцы я ни разу не встречался с Сирианом и Умой. В тот самый день, когда я заключил договор с моим ювелиром, я долго бродил по деловой части города, высматривая дом, где провел сказочную ночь, но, к несчастью, я натыкался на десятки похожих зданий, не обнаружив ни одного, в точности соответствующего моим воспоминаниям. В конце концов я сдался и вскоре почти убедил себя, что все события того вечера были порождением фантазии, разыгравшейся из-за усталости, непривычного окружения и, отчасти, из-за не вполне угасшего желания.
Правда, мне удалось найти храм не в Священном квартале, а чуть в стороне, между рекой и кварталом торговцев. В этом святилище стояло изваяние богини из моего сна — если то был сон: чернокожая, украшенная черепами, окровавленная. Местность вокруг казалась заброшенной и зловещей, но кто-то продолжал поддерживать здесь чистоту и порядок. Никто из прохожих не желал ответить, что это за богиня, все бросались прочь, стоило мне задать вопрос, а иные даже делали жесты, весьма напоминающие те, с помощью которых мы, арабы, защищаемся от дурного глаза. Наконец пришла маленькая девочка с соломенной сумкой, наполненной лепешками, и сказала, что черная богиня — это Кали, Бхадра-Кали, богиня смерти, согласно легенде, одолевшая Шиву[122].
Я наслаждался многими красотами и удовольствиями Виджаянагары, не уставая восхищаться огромными зданиями, предназначенными для общественных и религиозных нужд, а также для пользы или развлечения горожан, в особенности мне запомнились Королевские бани, храм Шивы с поразительной, сводящей с ума настенной росписью, бассейн, обрамленный каменными террасами с сиденьями, похожими на полуразвалившиеся пирамиды, — здесь, у прохладных вод, любой горожанин мог передохнуть в часы полуденной жары, — а также стойла для императорских слонов с высоким позолоченным сводом. Мне казалось, что все жители здесь — поэты и музыканты, начиная с самого императора (он же — аватара Кришны), воздавшего в стихах хвалу этому божеству, то есть самому себе, и вплоть до последнего грузчика на фруктовом базаре.
Плодов и риса хватало на всех, они были до смешного дешевы, можно сказать, их отдавали даром; молоко, масло, сыр, яйца и рыба немного превосходили их в цене, но не слишком. Мяса почти не ели, это считалось вредным для здоровья и противным предписаниям религии, хотя аристократы охотились в горах на оленей и диких коз и их добыча украшала праздничный стол. И жилья всем хватало, поскольку строительных материалов — камня, кирпича, дерева — было в избытке. Словом, дорогой Ма-Ло, я провел три месяца, усердно подготавливая экспедицию и наслаждаясь столь гармоничным и изысканным устройством жизни.
Нам следовало опасаться в пути лишь происков султанов, владевших землями к северу от реки Кришны, и их сатрапов, а также союзников султанов, правящих в областях, находящихся под властью браминского закона. Эти властители больше сражались друг с другом, чем с дравидской династией, но порой какой-нибудь воинственный князек, укрепившись на севере и разбив своих соседей, отваживался пересечь реку и вторгался во владения императора, грабя и губя все на своем пути, покуда дравидам не удавалось собрать достаточно сильное войско для отпора. В такие времена улицы города заполняли раненые и изувеченные воины, храмы превращались в госпитали, а площади — в лагеря беженцев.
Управитель Аниш, владелец серебряного жезла, оказался ценным помощником, опытным введении переговоров и одаренным практической сметкой. Ему пошел шестой десяток, он отличался невысоким ростом и крепкой полнотой, имел глазки щелочками, словно у китайца. Прекрасно разбираясь в слабостях своего господина, он оттого не менее уважал его. Когда Анишу приходилось делать нелегкий выбор, он принимался поглаживать маленькую шелковистую бородку, едва ли в дюйм длиной — она шла от уха до уха, точно петля. Эта привычка раздражала меня, но в целом мы отлично ладили.
Однажды, когда мы томились в ожидании, пока чиновник казначейства выдаст нам очередную сумму на расходы, я спросил Аниша, какова истинная цель нашей поездки и в чем заключалась миссия Джехани.
Обычно веселое лицо управителя омрачилось. — Исторически гибель Виджаянагары предопределена, — сказал он. — Если ее не захватят султаны, это сделают орды монголов с дальнего севера. Наши просвещенные императоры из поколения в поколение делают все возможное, чтобы отсрочить этот страшный конец. — Аниш прошелся по приемной перед кабинетом казначея, огляделся, словно опасаясь доносчиков, и, доверительно подхватив меня под локоть, увлек в дальний угол. — Вот в чем суть проблемы. Наши мусульманские наемники будут сражаться с братьями по вере лишь до тех пор, пока удается соблюсти два условия: во-первых, мы должны платить им больше, чем могут предложить враги, а во-вторых, они должны быть уверены в победе, причем с минимальными потерями — какой смысл в большом жалованье, если тебе предстоит погибнуть. Нам нужно либо нанимать все больше солдат, либо снабжать их лучшим оружием и учить правильно и эффективно им пользоваться. Второй путь, разумеется, предпочтительней. До нас донеслись слухи, что англичане, будучи наименее цивилизованным, самым, можно сказать, варварским народом на земле, тем не менее при хорошем руководстве не знают поражений, и не только благодаря своей отваге и силе, но и благодаря особому вооружению. Джехани был послан на Запад именно с целью проверить эти сведения, в надежде, что ему удастся доставить в империю секреты военного искусства и техники англичан, а также специалистов, которые обучили бы наших солдат. Однако здесь были замешаны и личные отношения Джехани и князя. Между ними вспыхнула ссора — конечно же, из-за женщины. Все это давно миновало. Та женщина умерла вскоре после того, как Джехани уехал, и теперь Харихара мечтает найти брата, помочь ему успешно выполнить поручение и вернуться домой вместе с ним.
Вот что поведал мне Аниш. Дальнейшие события подтвердили правдивость его слов, и к тому же выяснилось, что Джехани в Англии присоединился к секте гедонистов-безбожников, признававших лишь божество внутри человека и полагавшихся на голос собственной совести, не нуждающейся в посредничестве священников и в наставлении священных книг. То были братья Свободного Духа; у братства есть отделения по всей Европе и его члены состоят в переписке со своими единомышленниками на Востоке. Они повсюду вербуют приверженцев, в основном из нижних слоев, и повсюду подвергаются беспощадному преследованию. Человек, передавший мне послание Джехани и казненный на площади в Кале, был из их числа.
Во время подготовки к путешествию меня очень заботил вопрос о выборе одежды. Ни князь, ни Аниш не могли даже вообразить холодный дождь, мороз, пронзительный леденящий ветер все прелести климата, ожидавшего нас на островах Запада. Когда я попытался рассказать им об этом, они заявили, что в случае надобности наденут на себя два шелковых или хлопковых одеяния вместо одного.
В конце концов я понял, что придется подойти к этому вопросу с другой стороны. Я предложил отложить небольшое количество каких-либо ценных, но не громоздких товаров и запечатать их в отдельных мешках, с тем чтобы все члены экспедиции поклялись не притрагиваться к этому запасу, пока не наступит пора купить одежду, принятую у местного населения и служащую для защиты от тамошнего климата.
В качестве такого легкого, но ценного товара мои будущие спутники предложили взять с собой специи, но мы уже набрали с собой изрядный багаж этого добра, и я опасался, что резерв, предназначенный для покупки одежды, смешается с общей массой и люди соблазнятся выменять какую-нибудь диковинку, совершенно бесполезную в Ингерлонде. В итоге мы остановили свой выбор на жемчуге. Жемчуг здесь не в диковинку: он часто встречается на побережье Виджаянагары и многих маленьких островов по соседству, однако на севере за него дают много денег, особенно если он отличается большим размером или непривычной окраской. Итак, каждый из нас захватил в путь мешочек с жемчужинами и обещал пустить их в ход только для покупки теплой одежды и обуви.
Наведавшись в небольшой двор позади конюшни, куда сносили всю нашу экипировку, я наткнулся на еще одну проблему: две дюжины кожаных футляров, в том числе позолоченных или раскрашенных, с причудливыми завязками и ручками, длиной от трех до десяти футов[123], различной формы, по большей части цилиндрической. Тут же лежали груды оперенных стрел, столь же разнообразных по длине и отделке. Разумеется, стрелы подсказали мне, что именно содержится в футлярах, хотя Аниш счел своим долгом пробормотать объяснение:
— Арбалеты! — проворчал он. — Его высочество коллекционирует их.
— Мы не можем взять их с собой! — решительно возразил я. — Нам понадобится для этого шесть дополнительных мулов и два погонщика, а стало быть, еще и седьмой мул, чтобы везти их пожитки, не говоря уж о том, что такого количества самострелов хватило бы на целый отряд лучников. Кто ж признает нас за мирных купцов, если мы явимся с таким вооружением!
— Боюсь, князь будет настаивать.
— С какой стати?
— Он увлечен не самим оружием, а охотой. Это его страсть. Князь берет с собой арбалеты и стрелы для самой разной дичи. Вот эти маленькие, из Китая, весят чуть больше фунта[124]— их стрелы, длиной в шесть дюймов, годятся для мелкой дичи, а из огромных непальских арбалетов стрела летит на три сотни шагов и поражает горного козла. А вот это чудище, — и он в сердцах пнул огромный мешок, весь в выступах, словно там свернулся здоровенный акробат, — придется еще собирать из деталей. Нужно три человека, чтобы произвести выстрел, — один подставляет спину, другой с помощью особого механизма натягивает тетиву (тетива, между прочим, вырезана из обработанной шкуры буйвола), а третий, сам князь, целится и пускает стрелу.
— И кого он таким образом убивает? Слона?
— Нет, крокодила.
Я потыкал посохом в этот мешок.
— Нет, это никуда не годится. Не говоря уж о том, как это громоздко и какой помехой будет в пути, арбалеты нам даже не понадобятся.
— Почему?
— Вельможи Ингерлонда не используют стрелы на охоте. Они охотятся верхом, с собаками.
— И каких же зверей они травят собаками?
— Оленей, зайцев, лис, волков.
— Они едят лис? — В голосе Аниша прозвучало отвращение.
— Нет. Но это хороший предлог для того, чтобы проскакать по полям, и плевать, что лошади вытопчут урожай.
Вопреки всем моим настояниям князь Харихара прихватил с собой большую часть арбалетов — конечно же, не без содействия Аниша.
Итак, через три месяца после того, как я добрался до Града Победы, мы отправились в Гоа. Кроме нас троих в экспедиции участвовали четыре повара, десять погонщиков мулов, десять солдат в полном боевом снаряжении, пара секретарей-казначеев, предсказатель, буддийский монах (он сказал Анишу, что пойдет с нами, поскольку ему больше нечем заняться), четверо приближенных слуг его высочества (сменяясь попарно, они ехали рядом с ним, держа над головой князя огромные зонтики), две прачки (их называют дхоби), обязанные содержать в порядке нашу одежду, факир или фокусник и трое музыкантов всего сорок два человека, столько нее верховых мулов и еще столько же обозных.
Багаж, кроме личных вещей, состоял в основном из сушеных пряностей имбирь, кардамон, перец, зерна кориандра, гвоздика, корица, мускатный орех.
В мешках с пряностями были запрятаны жемчужины и алмазы, а также несколько рубинов, в том числе пара корундов длиной и толщиной с большой палец взрослого человека, великолепной кристаллической формы — сочетание призм с шестиугольными пирамидами и ромбоэдрами.
Разумеется, тут было много ненужного. И людей, и имущества — всего чересчур. По крайней мере, мне удалось отказаться от слонов. Его высочество изъявил недовольство дескать, как же обитатели тех стран, через которые нам предстоит проезжать, и жители Ингерлонда распознают в нас высокопоставленных лиц, если мы явимся к ним без слонов? Он уступил только в надежде нанять или купить африканских слонов, когда мы прибудем в Каир.
Порт Гоа, расположенный на границе с султанатами Бахмани, являет собой еще более пеструю смесь людей и народов, чем Мангалор. Хотя эта гавань также принадлежит дравидам, здешние купцы ведут торговлю с обеими империями, и мы могли выбирать для своего плавания любые корабли и экипажи, в том числе венецианские и генуэзские, португальские, малайские или китайские.
Я посоветовал нанять арабское судно, средних размеров дхоу вместимостью сто пятьдесят тонн. Вся команда состояла из арабов, они только что доставили «черное дерево» с невольничьих рынков Занзибара и готовились к обратному рейсу к берегам Красного моря. На нижней палубе «Луны ислама» имелось множество кроватей из твердого дерева скорее это были широкие полати, — предназначенных, разумеется, для рабов, но они отлично годились для всей нашей компании и багажа.
Князь выбрал для себя и своих приближенных — то есть для нас с Анишем — место на корме под навесом из тростника и соломы. В передней части судна был такой же навес. «Луна ислама» была окрашена в зеленый цвет, ее недавно заново оснастили и как следует просмолили швы. Разумный купец входит во все эти подробности, если, конечно, располагает достаточным запасом времени и денег, — а если нет, он идет на риск и подчас попадает в беду, как и вышло у меня с теми злосчастными лошадьми.
Почему я предпочел судно с таким водоизмещением? Капитаны меньших кораблей не решаются выпустить из виду береговую линию и, чуть что, спешат укрыться в порту, даже в это время года, когда погода достаточно надежна и дует постоянный ветер с северо-востока. К тому же, если бы мы выбрали небольшое судно, для нашей экспедиции потребовалось бы целых два доу. Мы и так оставили на берегу мулов, рассчитывая нанять вьючный скот в Сувайзе, порту возле Мир-ал-Каира, он же Каир, столица Египта.
Глава девятая
Даже старый путешественник вроде меня испытывает трепет в моменты отплытия и прибытия в новую страну. Попытайтесь вообразить, как мы отплывали из гавани корабль тянули за собой весельные лодки, — как мы выходили в устье реки, оставляя за спиной золоченые своды храма Шивы, минареты мечети с черным мраморным портиком, а затем, по мере того как устье, расширяясь, принимало нас, мы проплывали и мимо здания таможни и жилища начальника порта. На берегу стояли домочадцы князя, провожавшие его вплоть до Гоа, — среди них было множество женщин, не говоря уж о десяти слонах. Играл оркестр, в воздухе мелькали платки и шарфы, слоны трубили, а погонщики поощряли их, угощая спелыми плодами манго.
На другом берегу реки лес подходил почти вплотную к воде, лишь узкая полоса белого песка отделяла зеленые деревья от влажного изумруда.
Здесь отдыхали вытащенные на берег лодки рыбаков, а чуть подальше, в рыбацких деревушках, вился дымок из коптилен, где заготавливалась впрок пойманная рыба, еще дальше, сразу же за кивающими верхушками пальм, гораздо ближе к берегу, чем в Мангалоре, виднелись на фоне почти безоблачного ярко-голубого неба пики Западных гор. В вышине северо-западный ветер, которому предстояло нести нас через Аравийское море, отщипывал от последних тучек узенькие полоски «волосы ангела».
Мы уже миновали деревеньки, но еще не вышли из устья реки, и вдруг увидели дюгоней, щипавших в изобилии росшие тут водоросли. Мы подивились, как похожи на людей эти морские коровы, кормящие своих малышей. Я спросил, каким образом стадо могло отважиться подойти так близко к поселению рыбаков и почему оно уцелело, ведь мясо дюгоней весьма высоко ценится. Аниш пояснил, что в здешних местах эти животные находятся под защитой, ибо считаются слугами богини в ее ипостаси Царицы Моря.
На нашем корабле кипела работа. Большая часть экипажа столпилась у мачты, натягивая с помощью канатов огромный парус, остальные закрепляли все подвижные предметы, пассажиры, за исключением меня и Аниша, бегали по палубам, выискивая местечко за планширами или за фальшбортом, где можно было укрыться от волн. Каждый отмечал облюбованную им территорию тюком одеял или сумкой из ротанга. Мало кто хотел спускаться вниз, там было чересчур тесно от нашего багажа и мешков с пряностями.
Мы оставляли за собой след, напоминавший хвост кометы, — это чайки и прочие морские птицы летели за нами, оглашая воздух сердитыми и требовательными криками, похожими на мяуканье. Мы покидали гавань; наш корабль дрогнул, закачался на волне, брызги пены полетели на палубу. Матросы, стоявшие на носу корабля, отцепили канаты, прощаясь с буксирными лодками, те, что ждали сигнала в центре судна, натянули парус, и треугольное полотнище наполнилось ветром, раздулось, точно брюхо беременной женщины, брюхо судьбы, беременной новыми приключениями.
Мы слышали под собой ровный ритмичный гул бурунов, проносившихся мимо к удалявшемуся от нас побережью Малабара. Прошло совсем немного времени, и земля скрылась из виду. Лишь самые вершины Западных гор, смыкавшиеся с небесами, да стая морских птиц провожали нас до самой ночи.
И вот уже мы вышли из полосы прибоя, нет больше волн с белыми гребнями, во все стороны бесконечно простирается иссиня-черное море, но это отнюдь не безжизненная пустыня: в воздухе просверкивают летучие рыбы серебристые блики с острыми, как бритва, краями, — за ними гонятся дельфины, играют, словно котята, оскаливают зубы, неуклюже, будто щенки, пытаясь ухватить рыбку, на фоне моря отчетливо выделяется их блестящая кожа пронзительно-черного, как уголь на изломе, цвета. В отдалении отдыхают три кита, пыхтят, выпуская пенящуюся, издали похожую на дым струю воды.
В такие моменты всегда испытываешь душевный подъем и какое-то пьянящее легкомыслие. Да, всякий понимает, что рано или поздно путешествие по бескрайним водным просторам завершится берегом, если только не прервется преждевременно и не подарит отважному могилу на дне моря, но все же на день или два, а то и на неделю человек освобожден от всех забот, освобожден даже от власти времени. Он впитывает в себя небесную голубизну и свежесть ветра, запах смолы и пеньки, выдержанного дерева, из которого построен корабль, он чувствует под ногами неторопливый подъем палубы, а затем она плавно ныряет вниз, словно в церемонном танце, и качается в такт линия горизонта корабль, ветер и волны вершат свой ритуал.
Так чувствовал я, но Аниш и многие другие отнюдь не разделяли моего восторга: их томила морская болезнь. Боюсь, и князя Харихару она не миновала, во всяком случае, вельможа предпочел уединиться под навесом на корме.
А я расхаживал себе по палубе, опираясь на свой добрый старый посох и кутаясь от сырости в свой добрый старый плащ. Пятеро погонщиков мулов столпились возле повара, который, склонившись над металлическим чаном, заполненным горящими углями, шлепал на железный противень лепешки теста и переворачивал их, как только они начинали пузыриться и на них появлялась темноватая корочка. Вился синеватый дымок, пропитанный запахами свежего хлеба и специй; наши арабские матросы, хорошо осведомленные о том, насколько опасен открытый огонь на корабле, посматривали с тревогой, один стоял наготове, раскачивая на канате ведро: случись беда, он тут же зачерпнет забортной воды и зальет угли.
Я двинулся дальше и вскоре набрел на факира, собравшего вокруг себя несколько матросов, пару слуг и четырех солдат из свиты князя. Фокусник напрягал тощее тело так, что проступали жилы на шее, и щелкал пальцами, кажется, пытаясь загипнотизировать зрителей. Все его одеяние составляла грязноватая набедренная повязка и тюрбан, на основании чего я принял его за собрата-мусульманина, хотя и индийского происхождения.
Сержант, второй по рангу офицер в нашем отряде, здоровенный парень, чей ятаган выглядел особенно устрашающим из-за дополнительного шипа на рукояти, пробурчал мне в ухо:
— Он не хочет показать нам левитацию или трюк с веревкой. Говорит, пока он будет висеть, ветер унесет корабль слишком далеко, а он так и останется в воздухе над морем.
Я не удержался от смеха.
— Ладно, подождем, пока ветер стихнет или пока мы не доберемся до суши.
Факир развлекал публику, вытаскивая гирлянды связанных друг с другом платков из ушей зрителей и множество крутых яиц из собственного рта. Совсем неплохо, если учесть, что верхняя часть его туловища была обнажена.
Я направился к носу корабля и там обнаружил буддистского монаха. Заметив мое приближение, монах, одетый в ярко-желтый балахон, скорчился в предписанной правилами йоги позе, поднял к небу лицо с закрытыми глазами и принялся твердить очередную бессмысленную мантру. Голова монаха была обрита; рядом с ним лежали нехитрые атрибуты его звания кружка для подаяния, глиняный барабан, цимбалы и маленькие колокольчики, которые крепились к пальцам. Он был хрупкого сложения, имел длинные изящные ступни и пальцы, а брови у него отсутствовали напрочь, хотя на том месте, где им полагалось быть, кожа казалась красной и воспаленной. Вообще же кожа монаха была гладкой и безволосой, за исключением темной щетины, пробивавшейся на голове. Я подумал, уж не евнух ли передо мной. Монах был смуглее большинства моих спутников, не так темнокож, как жители Африки, но все же отчасти напоминал их. Погрузившись в экстаз, или медитацию, или что там полагалось по его религии, он не обращал на меня ни малейшего внимания, не открывал глаза, не шевелился, лишь губы чуть заметно двигались, повторяя монотонный напев. Я прошел мимо. Про себя я решил, что это сингалезец с острова Шри-Ланка — об этом говорила и его внешность, и его вера.
Тут посреди палубы вспыхнула свара, окончательно отвлекшая мое внимание от монаха. Сержант ухватил факира за горло, придавил его к борту, запрокинув голову и плечи фокусника за планшир, и, похоже, собирался одним толчком вышвырнуть его в море. Я кинулся назад к мачте, подлез под нижним углом паруса и концом посоха ткнул сержанта в плечо.
— Прежде чем сбросить его в море, ты должен, по крайней мере, объяснить мне, чем он заслужил смерть, — заявил я.
Повернув голову, сержант приблизил свою бычью физиономию вплотную к моему лицу, дохнув на меня ароматами рисовой водки, чеснока и копченой рыбы.
— Он смошенничал, — рявкнул сержант, — хитростью выманил у меня золотое кольцо.
Мое вмешательство все-таки отвлекло его, и крепкие пальцы, сжимавшие горло несчастного, слегка разжались. Факир принялся жадно глотать воздух.
— Все было честно! — выкрикнул он. — Он поставил золотое кольцо против моего обещания провести полгода у него на службе. Ему следовало лишь угадать, в какой руке кольцо. Да пусть забирает его! На что оно мне сдалось! — Факир протянул сержанту перстень, и тот с готовностью схватил его. Крупное кольцо в дурном вкусе — голова льва с крохотными рубинами вместо глаз. Насадив кольцо на средний палец правой руки, сержант далеко отвел руку, словно натягивая тетиву лука, и со всего размаха ударил факира в лицо. Я успел схватить фокусника за руку и тем самым спас его от падения за борт. Покачнувшись, факир выплюнул вместе с кровью выбитый зуб.
— Так-то! — орал сержант, оглядывая поросячьими глазками всех присутствующих — толпа вокруг нас становилась тем временем все гуще. — Вот как я разделаюсь со всяким, кто попытается меня одурачить.
Но на этом дело не кончилось. Когда наступила ночь, ветер стих, кораблик наш тихонько покачивался под безлунным небом, и на вахте оставались лишь два человека кормчий, умевший править по звездам, и дозорный на носу. Никто из них ничего не слышал, разве что в самые темные часы ночи тишину иногда нарушали плеск и фырканье проплывавших поблизости дельфинов или китов.
Затем пришел рассвет, и сержанта не оказалось на борту. За ужином он много пил, затем погрузился в глубокий сон, свалившись возле самого борта и неловко уткнувшись головой в сгиб локтя, а утром выяснилось, что сержант исчез. Кое-кто пытался обвинить факира, но за него вступился буддистский монах — дескать, факир всю ночь спал рядом с ним. Они устроились на нижней палубе, разделив общую постель и одно одеяло на двоих, и вплоть до утра никто из них не вставал и не тревожил сон соседа. Что до меня, я спал на палубе у самого входа в беседку, где поселились князь Харихара с Анишем, и я тоже слышал дельфиний всплеск, вернее, то, что принял за обычные звуки моря. Только вот за минуту до этого я наполовину проснулся, услышав, как кто-то с силой, звучно мочится в море, затем послышался быстрый, резкий хруст, словно сильный мужчина переломил прут о колено, короткий вздох и — всплеск. Раздался ли этот всплеск оттого, что дельфин выпрыгнул из воды или небольшой кит ударил плавниками по воде? Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Но делиться своими соображениями я ни с кем не собирался.
На корабле верховная власть принадлежит капитану. Капитан вместе с помощником отговорили князя от более детального расследования обстоятельств, при которых он лишился одного из своих подчиненных. С сухопутными крысами такое случается, особенно если они напьются и позабудут об элементарной осторожности, — так рассуждали моряки. И все же кое-какие вопросы оставались без ответа, и главный из них: почему сержант даже не вскрикнул? Но хозяин корабля лишь презрительно пожимал плечами. Он прожил немало лет, так и не вкусив опьяняющих напитков, однако, бороздя океан от Кадиса до Сурабайи, он насмотрелся, как действует на пьяниц вино. Разве такие люди способны на сколько-нибудь разумное поведение? И на этом инцидент был исчерпан, а если у кого-то, кроме меня, и были подозрения, этот человек также промолчал.
Убить намеченную жертву несложно. Нужно подкрасться сзади и, приблизившись к несчастному на расстояние вытянутой руки, накинуть ему на шею длинный шелковый шарф. Затем, держа оба конца шарфа в руках, следует упереться стопой ему в затылок, сгибая колено под прямым углом, и резко выпрямить ногу. Чтобы осуществить это, требуется быстрота сокола, отвага, предприимчивость и специальная подготовка, которую проходят приверженцы определенной секты. Я имею в виду тагов, «душителей», совершающих ритуальные убийства во славу богини Кали. Возможно, среди нас затесался «душитель». Факир? Вполне вероятно, но таги очень хитры, как правило, они действуют парами или небольшими группами, используют совершенно невинного с виду человека для прикрытия и предоставления им алиби. С тех пор я каждую ночь засыпал, сжимая в руках рукоять верного дамасского кинжала, а по утрам прятал его в набедренную повязку так, чтобы выхватить его при первых же признаках опасности. Я тоже разбираюсь в таких делах.
Глава десятая
Больше ничего в этом плавании не произошло. Погода стояла замечательная, лишь один день дул сильный ветер. Через пару недель мы вошли в Баб-эль-Мандебский пролив и начали долгий путь по Красному морю, нам предстояло одолеть примерно такое же расстояние, как то, которое мы уже оставили за спиной. По пути мы заглянули в маленькую гавань Мокка; я обнаружил, что имамы уже отменили запрет на каву, который четырьмя годами прежде помешал мне сколотить состояние. По моему совету князь Харихара выменял на золото два мешка зерен кофе. Я заверил его, что в Европе они пойдут по цене кориандра. В той же гавани мы пополнили запасы воды и некоторых припасов, в том числе лимонов.
К счастью, в эту пору года дули попутные нам ветры с востока и юго-востока, правда, порой наступал полный штиль, и тогда жара в сочетании с влажностью становилась почти невыносимой. В такие моменты я освежался, плавая в теплых водах Красного моря, кружа вокруг изумительно красивых коралловых рифов; порой я уходил с головой под воду и проделывал ногами лягушачьи движения, чтобы погрузиться еще глубже, и мимо меня мчались стайками рыбки-радужки. Мое старое, изувеченное и покрытое шрамами тело не мешало мне плавать с необычайной ловкостью — не только пассажиры, но и наши матросы взирали на меня с завистью и почтением. Обычно этим искусством владеют лишь люди, выросшие на берегу моря или реки, но я в молодости старательно учился плавать, потому что знал, что значительную часть жизни мне предстоит провести в морских путешествиях.
Тот день в далеком детстве, когда я уцелел после удара ятаганом и провел ночь на трупе обезглавленной матери, пробудил во мне неистовую жажду жизни, но также и готовность приобретать навыки, способствующие спасению в той или иной ситуации. Более того, этот страшный опыт научил меня с радостью принимать большое или малое удовольствие, которое приносит нам каждый момент бытия. Я жадно вбирал в себя любое ощущение: от мимолетного, почти незаметного — легкого прикосновения красного паучка, пробиравшегося между черных волос по моей руке, — до ослепительно великолепного заката, когда солнце садится в тучу над океаном.
Кстати, я уговорил князя купить по дешевке губки — нам предложили этот товар юноши, подплывшие во время штиля на маленькой лодочке с недалекого аравийского берега.
Труднее всего дались нам последние двести миль. Как обычно бывает на этом маршруте, на последний отрезок пути ушло четверть всего времени, что мы провели в Красном море. С обеих сторон от нашего корабля смыкались берега Кхали Ас Сувайс, Суэцкого пролива, и западный ветер приносил тяжелую, душную пыль пустыни, небо заволок бесформенный серый туман, слегка подкрашенный охрой, капитан и матросы нервничали, им приходилось все время маневрировать, разворачивая корабль к ветру и притом неуклонно пролагая путь вперед. Дельфины и летучие рыбы покинули нас, откочевав к югу; на палубу то и дело обрушивалась, растекаясь, грязноватая пена, и ходить стало скользко и неудобно. Когда залив сузился еще больше, нам начали мешать также и другие корабли одни, шедшие в том же направлении, что и мы, пытались нас перегнать, спеша захватить наиболее удобную «дорожку», особенно перед наступлением ночной темноты, а те, кто стремительно вылетал нам навстречу из залива, подгоняемый попутным ветром на четверть румба, ругали нас за то, что мы загородили им путь, и проходили борт о борт с нами, забирая ветер из наших парусов. В такие моменты наше судно начинало дрейфовать прочь от берега, отгоняемое противным бризом.
И все же, как я и говорил князю, на сорок второй день после выхода из Гоа мы прошли Суэц. Теперь мне предстояло организовать следующую часть путешествия — ведь в нашей группе я был не только единственным человеком, знакомым с Ингерлондом, конечной целью нашего предприятия, но и единственным арабом, знающим язык этой местности, все правила и цены, все уловки и ловушки, которые подстерегают здесь путешественника.
Прежде всего мне следовало найти гостиницу, а затем нанять верблюдов, чтобы переправить людей и багаж в Ал-Искандерию, названную так в честь знаменитого Искандера[125], покорившего много веков назад полмира во всяком случае, так про него рассказывают. Первоначально мы собирались обойти стороной Миср-аль-Каира, миновать дельту Нила, не обращая на себя ничьего внимания, и покинуть Египет. Этот план меня не слишком радовал, поскольку прежде я надеялся разыскать здесь моего сына Гарея, который учился в Египте, и провести с ним какое-то время. Однако князь Харихара, блуждая по базару, набрел на магазинчик, где торговали шкурами диких животных. Тут обнаружилась одна шкура, довольно пыльная и рваная, но с хорошо сохранившейся мордой и жесткой черной гривой, по которой сразу можно было признать льва.
Князь тут же подозвал меня:
— Али, ведь это лев?
Я готов был прибегнуть к какой-нибудь хитрости, можно было бы переговорить по-арабски с тощим торговцем, одетым в красный халат и красную феску, однако без тюрбана, попросить его солгать и отрицать очевидное, но я быстро догадался, к чему клонится внезапно вспыхнувший интерес князя, — и с какой стати мне было чересчур спешить добраться до Ингерлонда? В конце концов, мы ехали на поиски брата Харихары, а не моего родственника. К тому же я сообразил, что у меня все-таки появится возможность повидаться с Гареем.
— Да, мой повелитель.
— Значит, в Египте водятся львы?
— Полагаю, что так, повелитель.
Он стоял крупный, статный вельможа в пыльном сумраке лавчонки, лучи солнца, проникшие сквозь зарешеченное окно, заставляли его щурить глаза, пока князь, позабыв про шум и суету, оставшиеся по ту сторону двери, засыпал меня настойчивыми вопросами. Отбросив на плечи свои пышные черные волосы, слегка напоминавшие львиную гриву, князь задумчиво поглаживал гладкий, словно мрамор, подбородок.
— Какие еще животные водятся здесь?
— В Ниле крокодилы, а выше по течению реки, кажется, гиппопотамы… Еще есть крупные птицы. Пеликаны, аисты, журавли.
Князь быстрыми шагами вышел из лавки, увлекая меня за собой. Хозяин едва успел ухватить меня за рукав.
— Он что-нибудь купит, а? Разве твой хозяин ничего не хочет купить? Я могу уступить в цене! — проверещал он.
— Мой хозяин собирается сам добывать шкуры, — ответил я, осторожно высвобождая рукав.
Организовать выезд на охоту было не так-то просто. Во-первых, пришлось отказаться от первоначального плана путешествовать инкогнито. Мы все-таки поехали в Миср-аль-Каира и явились ко двору халифа. Нас приняли доброжелательно, как представителей одной из богатейших империй мира (князь не поскупился на подарки, благо он прихватил с собой немало сокровищ), и разместили в той части дворца, которая предназначалась для почетных гостей. Затем последовала неделя всевозможных празднеств, после чего князь снарядился в охотничью экспедицию в пустыню.
Один из самых печальных дней всего этого путешествия выпал мне, когда я наведался в дом Га-рея и выяснил, что всего лишь месяцем ранее мой сын уехал в университет города Карнатта-аль-Яхуд, который христиане называют Гранадой, чтобы там под руководством врача-мавра заняться изучением недугов, вызывающих слепоту, и способов ее излечения.
Нас поселили в большом павильоне с колоннами посреди розового сада, вблизи от прямоугольного пруда, закованного в базальт. К несчастью, места было маловато, так что все мы повара, слуги, казначеи, фокусник и монах — теснились в небольшом вестибюле. Только князь и его домоправитель получили отдельные каморки, и то вплотную к общей купальне. Но когда наступила пора охотничьей экспедиции — она должна была продлиться неделю, — я попросил уволить меня от этого развлечения. На лошади я держусь плохо, верблюдов от души ненавижу, и вообще староват для таких забав. Князь Харихара думал, что не сумеет обойтись без меня, но я разыскал среди музыкантов халифа флейтиста, который прежде играл в военном оркестре одного индийского князька и вполне мог объясняться на хинди. Итак, князь не нуждался в данный момент в моих услугах переводчика. Я хотел не только избежать крайне неприятной и болезненной для меня верховой езды, но и просто отдохнуть. Что ни говори, я был намного старше всех остальных участников нашего предприятия — я ведь еще не упоминал об этом, верно? — и трудности путешествия уже начали сказываться на моем здоровье.
Я проследил, как отправляется в путь охотничья партия, как тащат слуги различные арбалеты, в том числе и тот чудовищный механизм, предназначенный для охоты на крокодилов. Высокие, сходящиеся аркой ворота захлопнулись за ними, пыль улеглась, и я вернулся в покои, остававшиеся в полном моем распоряжении.
Ах, какое это удовольствие улучить хоть немного времени для себя, остаться в одиночестве в приятной местности, и притом располагая удобствами и возможностями по-настоящему насладиться отдыхом! Я притащил к берегу пруда целую груду подушек, пристроил на них свои старые усталые колени и так, сидя по-турецки, от души позавтракал перепелиными яйцами, баклажанами в йогурте из лошадиного молока, лепешками с кунжутом, а на десерт угостился миндалем и медовыми пирожками. Чашечка кофе пришлась бы как нельзя более кстати, но для приготовления этого напитка потребовалось бы чересчур много времени и хлопот, так что я довольствовался, как обычно, стаканом ласси, приправленного щепоткой мускатного ореха из наших запасов.
Какое-то время я бездельничал, слушая певчих птиц и любуясь их ярким оперением. Они разгуливали по саду с высокими стенами, словно по птичнику; жившая здесь же изящная серая кошечка с широким и плоским лбом и крупными ушами относилась к пернатым обитателям сада дружески и не трогала их — то ли из лени, то ли на опыте убедившись, что их не поймаешь. Время ползло потихоньку, жара становилась все ощутимее. Позолоченные купола и минареты, поднимавшиеся над крышами располагавшихся поблизости домов, отражали лучи солнца, и посреди этих бликов я заметил две черные точки это были стервятники, свободно парившие в глубокой синеве неба, лишь изредка взмахивая белыми с траурной черной каймой крылами. Скорее всего, они кружили над майданом центральной площадью, где совершались публичные казни. Только эти птицы напоминали о присутствии по ту сторону стен большого, шумного и грязного города — здесь, в саду, и запах угля, и вонь отбросов заглушались нежным ароматом роз и апельсиновых деревьев в цвету со сладким привкусом миндаля от пурпурного плюща, вившегося по стенам.
Я подумывал взяться за письмо Гарею, рассказать о нынешнем путешествии и перед отъездом оставить послание в его доме, но меня уже охватила сладостная лень, которой так приятно отдаться, зная, что нет надобности куда-либо спешить, и я предпочел пойти в купальню.
Над большим прудом поднимался павильон с отверстием в куполообразной крыше, множеством отверстий в стенах. Проникавший в эти отверстия солнечный свет казался особенно ярким и горячим на фоне бархатного сумрака, окутывавшего купальню. В тех местах, куда не падали солнечные лучи, вода переливалась как густые чернила, а в свете лучей она становилась изумрудно-зеленой и покрывалась мраморными прожилками. Края бассейна были обрамлены серым гранитом, в нем тоже посверкивали прожилки на этот раз из кварца. К пруду примыкали ниши, или альковы, для переодевания, занавешенные полотнищами из хлопка. В пруд можно было спуститься по лестнице с перилами, у подножия которой напряженно вытянулись две каменные львицы, изваянные в натуральную величину, — присели на задние лапы, закинули головы, пригнули могучие плечи с рельефно вылепленной мускулатурой, насторожили круглые уши.
Я постоял на пороге круглого купального зала, дожидаясь, пока мой уцелевший глаз привыкнет к скудному освещению, позволяя праздному слуху насытиться ритмическим плеском воды о камень и о воду, легким ее перезвоном и шелестом. Я снял сандалии, чтобы не занести пыль и грязь на мраморный пол, и направился в альков, не в самый ближний, а в следующий за ним (вы когда-нибудь видели, чтобы человек выбирал ближайшую к себе кабинку?). Здесь я собирался оставить накидку, набедренную повязку и тюрбан. Я воспользовался нишей не из скромности — ведь я полагал, что, кроме меня, тут никого нет, — а потому, что пол возле бассейна был сыроват, а в нише имелась каменная полочка. Итак, я распустил и размотал тюрбан и стащил через голову накидку. Как раз в этот момент я скорее ощутил, чем услышал, какое-то движение, и моя правая рука поспешно скользнула в набедренную повязку, где был спрятан кинжал. Затем я разглядел новоприбывшего — это был буддийский монах — и успокоился, поскольку этого человека я считал безвредным. Правда, мне стало досадно, что мое чудесное уединение нарушено.
Монах снял сандалии и широкую рясу, оставил их у самого края воды, прошел мимо охранявших лестницу львов и ступил в пруд.
Он загораживал собой свет, а отблески, игравшие на поверхности воды точно бриллиантовые грани, позволяли различить лишь силуэт. И все же один солнечный луч, отчасти растворившийся в тумане крошечных капелек, притянутых его теплом, заиграл за спиной монаха. Прошло еще мгновение, прежде чем мой разум осознал то зрелище, которое открывалось моему здоровому глазу. Странно, не правда ли? Мозг подчас отказывается признавать свидетельства органов чувств, если они противоречат его ожиданиям. В таких случаях мозг готов принять кислое за сладкое и горячее за холодное что же касается меня, в данной ситуации мозг все еще пытался доказать, что чуть покатые, податливые плечи, талия, казавшаяся особенно тонкой над широкими бедрами с ямочками и пышными ягодицами, должны принадлежать мужчине.
Но мозг отказался от бессмысленных потуг, когда девушка слегка наклонилась и прекрасным женственным жестом зачерпнула воду, чтобы омыть себе грудь. Грудь я пока разглядеть не мог. Купальщица сделала еще несколько шагов, вода достигла ее подмышек, и тут она повернулась, дав мне возможность убедиться, что передо мной, вне всякого сомнения, женщина. Я узнал это смуглое тело, то была Ума, молодая женщина, я чуть не сказал богиня, принимавшая меня в первую ночь в Граде Победы.
Глава одиннадцатая
— Али? — Как сладостно она пропела два слога моего имени! Голос ее ласкал и воздух вокруг, и воду, но призыв, несомненно, был обращен ко мне. — Али бен Кватар Майин? Войди в воду, не смущайся, иди ко мне.
Я заметил, что правой рукой все еще сжимаю рукоять кинжала. Выпустив оружие, я оставил его в складках набедренной повязки, прихрамывая, выбрался из своей ниши и остановился на лестнице между двумя львицами. Здоровой рукой я ухватился за ухо каменного зверя. Сердце мое билось, словно только что пойманная птица. Уже двадцать лет, с тех пор как мать моего Гарея поведала мне, что ждет ребенка, я не видел полностью обнаженную женщину.
Ума была прекрасна. Две-три родинки на спине — любитель мраморных изваяний мог бы счесть их изъяном — лишь добавляли ей то главное качество, без которого тело не будет совершенным, они сообщали девушке индивидуальность, особенность, отличающую подлинно прекрасное от банальности, рабски воспроизводящей образец. Эти родинки говорили о двух столпах, на которых покоится здание жизни: об изменчивости и смертности плоти. Тебя удивляет, что я рассуждаю подобным образом? Многочисленные странствия, физическое увечье, ненасытное любопытство и склонность к рассуждениям о том, что как устроено, дали мне возможность много читать и общаться с великими умами.
Бритая голова Умы начала обрастать легким пушком, придавшим ей какую-то милую уязвимость — так и тянуло ласково погладить ее. Черты лица проступили отчетливей, глаза, эти темные озера с изумрудными искрами, сделались больше, щеки не так выдавались, ярко-красные губы казались полнее. В ту первую нашу встречу Ума накрасила веки голубовато-зеленой краской с серебряным отливом, обвела губы, украсила руки и шею ожерельями, цепочками из золота и драгоценных камней все это способствует полету фантазии, но исключает человеческую нежность.
Девушка шла мне навстречу, раздвигая телом толщу воды, переходя с более глубокого места на более мелкое, ближе к берегу, на ее темной коже сменялись золотившие ее блики солнца, сумрачная тень и вновь свет. Вода льнула к ее телу, сперва иссиня-черным бархатом, затем плавленым золотом облекая округлую грудь, изящные очертания живота, бедра и то, что между бедрами. На темных волосах, скрывавших тайну, капли воды сверкали точно бриллианты.
— Иди сюда! Иди! — Она призывно раскрывала мне объятия, вверх ладонями, более светлыми, чем тыльная часть руки, призывала к себе.
В первое мгновение теплая вода с непривычки показалась холодной, обвилась петлей вокруг моей лодыжки, и я вздрогнул, остановился, отыскивая надежную опору на скользком дне бассейна.
Когда я вошел в воду, Ума немного отступила, а затем вновь двинулась мне навстречу, вода поднялась гребнем между нами, когда девушка с силой прижала меня к себе, коснувшись щекой моей груди. Она дрожала, но я понимал, что не мной вызвана эта дрожь.
Отступив на шаг, молодая женщина сделала то, чего никто никогда для меня не делал ни шлюхи, которых я частенько навещал, прежде чем женился на матери Гарея, ни моя жена, ведь она была слепой, а сам я не стал бы принуждать ее к этому: Ума вложила палец во впадину, отделявшую мои ребра от бедра, в эту глубокую расщелину со сморщенным шрамом, где остановился шестьдесят лет назад ятаган суннита. Медленно, медленно каждая частичка кожи чувствовала ее прикосновение, и теперь меня тоже сотрясала дрожь — Ума проследила пальцем кривой зигзаг, тот путь, который сталь проложила среди моих ребер, и выше, к неровно сросшейся ключице, срезанному подбородку, разорванным губам, прошлась по щеке, коснулась лишившейся глаза глазницы. И тут она рассмеялась, ее смех серебряным колокольчиком заметался под яйцеобразным куполом.
Она прижалась ко мне еще теснее, и я почувствовал легкий аромат корицы так пахла ее кожа, — заглушавший запах воды, поднимавшейся из потайных недр земли, из глубокого источника. Ума просунула обе руки между моими руками и телом, подняла их высоко, почти касаясь моих подмышек. Моя скрюченная рука немного мешала, но Ума провела руками по моим бокам до самых бедер, а затем ее ладони вновь двинулись вверх, но на этот раз она слегка царапала меня ногтями, и я внезапно ощутил прилив желания. Ума улыбнулась мне, положила руки мне на плечи, и я почувствовал, как там, внизу, мой лысый старичок твердеет, соприкоснувшись с ее животом. Обеими руками, и здоровой, и той, что напоминала когтистую лапу, я обхватил груди девушки, тяжелые, крепкие груди коснуться их казалось почти святотатством, но груди лежали в моих ладонях спокойно и гордо, словно наливные яблоки.
Руки Умы заскользили по моей шее, кончики пальцев проследили вздутые жилы, дразняще потянули обвисшую старческую кожу, дернули за морщинистые мочки, стали подниматься по шее вверх, к затылку, забираясь под седые волосы, которые я предпочитаю прятать под тюрбаном. И вновь этот смех, совсем тихий, едва ли громче вздоха.
— Али, ты сильный? Давай-ка посмотрим.
Она повисла у меня на шее и начала подтягиваться вверх. С тела ее ручьем стекала вода. Бедрадевушки обхватили мою талию, лодыжки сомкнулись у меня за спиной. Она была легонькой, к тому же и вода помогала, и все же я боялся рухнуть вместе с ней.
— Держи меня крепче, глупыш!
Что мне оставалось делать? Я подхватил ее здоровой рукой под ягодицы, искривленной левой рукой обнял за талию. Ума принялась извиваться, и мои пальцы скользнули между ягодиц в темную, теплую влажность потайных женских местечек. Она уже почти перестала дрожать. Опустив подбородок мне на плечо, Ума покусывала меня за ухо. Потом она вновь задвигалась, и ее грудь оторвалась от моей груди с забавным чмоканьем, словно кто-то резко втянул щеки и пришлепнул губами.
— Али, тебе надо помыться, верно? Отнеси меня к бортику, там есть мыло.
Я только теперь разглядел деревянный поручень, опоясывавший бассейн пониже его каменного края, у самой поверхности воды. Там возле ступенек — вода здесь едва доходила мне до колен — стояла маленькая бутылочка из алебастра и рядом лежала губка, быть может, одна из тех, что мы купили у парнишек в лодке, когда плыли по Красному морю. Я подсадил Уму на край бассейна, протянул ей бутылочку и губку. В бутылочке переливалась какая-то густая мазь, Ума вытряхнула несколько капель ее на губку и покрепче ухватила губку правой рукой.
— Иди сюда. Встань между моих ног.
Она была уверена в своей власти, эта красивая молодая женщина.
Она принялась размазывать по моим плечам, груди и животу это вещество, жемчужно-белого цвета и припахивавшее лавандой.
— Ближе, так я не дотянусь.
Она забавлялась, намыливая мне перед, зачерпывая пригоршнями воду и поливая меня, так что все мое тело покрылось пеной. Сперва я напрягся.
— Спокойнее. Я хочу доставить тебе удовольствие. Тебе будет приятно.
Я наклонился, уперся ладонями в край бассейна, как бы заключив Уму в плен своих рук. Тела наши вновь сблизились, ее дыхание коснулось моего уха, и я вновь ощутил частое биение своего сердца. Руки девушки заскользили по моей спине, в одной была губка, другая касалась моего тела открытой ладонью, сжимала тощие ягодицы, морщинистые, точно скорлупа грецкого ореха.
— Расставь ноги. Не стесняйся. Мама или няня делали с тобой то же самое, когда ты был маленьким.
И вновь лысый старичок у меня внизу поднялся, прижимаясь к телу девушки, однако на этот раз он был горячим и совсем твердым, и ягодицы тоже затвердели от прикосновения ее пальцев. В глазах у меня стояли слезы радости и благодарности, сердце разбухло, словно губка, я чувствовал себя как беззащитный звереныш, нашедший наконец убежище, словно после шестидесяти нелегких лет я вернулся домой. Правая рука Умы вынырнула у меня из подмышки, скользнула между нами. Она теснее прижалась животом к моему старичку и принялась ласково растирать его, двигать по нему пальцами вверх и вниз. Жар становился нестерпимым.
— Тонкий, — пробормотала она, — тонкий, как костяная рукоятка ножа, и такой же твердый и длинный. Только чувство позволит нам подлинно насладиться жизнью, — — продолжала она, — не забывай, у тебя пять чувств.
Я вдыхал запах ее разогретого тела, чуть-чуть металлический, с отдушкой корицы и мыла; упершись подошвами в скользкие камни на дне бассейна, я ощущал кожей воду, окружавший нас влажный пар, дуновение воздуха, овевавшего мне спину, капельку слез на моих ресницах, жар собственного тела средоточием его теперь стал мой огненный прут; я чувствовал тепло ее груди и легкое прикосновение ее пальцев; я слышал шепот ее дыхания, водяную капель, шуршащий прибой волны у края бассейна, но громче всего — грохот пульсирующей в голове крови; ее кожа имела соленый привкус, моя растерянность отдавала железом; единственный глаз, как в тумане, различал просвет неба в высоком окне в центре купола и алмазные вспышки на воде. И вот все смешалось в едином, шестом чувстве — чувстве радости.
Я опустился на колени, погружаясь в воду, преклоняясь перед Умой, я обнял ее, прижался к ней лицом. Ума опустила ягодицы на мраморный край бассейна, раздвинула бедра, обхватила руками мой затылок, притянула мои губы к тем скрытым, жемчужно-влажным губам. Подталкивая меня, она приговаривала: «Ешь мою плоть, пей меня!»
Я повиновался. Ума изогнула спину и вскрикнула, но сквозь ее крик я различил вдали нарастающий вопль толпы, протяжный, словно вой, внезапно зловеще оборвавшийся. Этот вопль вырвался разом из тысячи глоток, из той реальности, от которой мы оба пытались уйти. Ума задрожала, но то не была дрожь только что пережитого восторга.
Одевшись, мы вернулись в сад, к павильону, где белые камни, раскаляясь на полуденном солнце, слепили взгляд, а черные тени омрачали его. Певчие птицы затихли, лишь голуби продолжали ворковать. Ума опустилась в кожаное кресло, расставив ноги, наклонив голову вперед и набок, пристроив ее на ладонь правой руки. Эта мужская поза, предназначенная для глубокого раздумья, подсказала мне, что буддийским монахом была не Ума, а Сириан, вернее, Ума была и Сирианом, и монахом, она выбирала маскарад, позволявший ей затеряться в толпе или отправиться на край света, не подвергаясь опасностям, которые всегда грозят одинокой женщине.
— Я была на площади, — пробормотала она, — смотрела, как сажают на кол. Не стала дожидаться второй партии. Ты слышал, как орала толпа, когда их прикончили?
Я замер от ужаса, представив себе, чему она только что была свидетельницей на месте казни.
— Без толку, — продолжала она. — Они упустили свой миг. Какая жалость!
Я начал понимать.
— Струсили? — осторожно спросил я.
— Еще как. Кричали, отбивались, обделались с перепугу. Им представился шанс достичь величайшего блаженства, мощнейшего из всех экстазов. Если б они подготовились к этому ощущению, в муках и агонии им бы открылся миг вечности. Более чем миг. А так… просто бойня.
Я немало лет прожил в Миср-аль-Каире и в других арабских государствах. Я хорошо знал, что означали крики толпы: там, на центральной площади, сажали на кол пойманных разбойников. На бревне закрепляли здоровенные крюки, похожие на те, которые используют мясники, чтобы подвешивать туши быков. Преступников насаживали на острый конец крюка, протыкая им спину, внутренности и, наконец, живот. В этом положении они оставались, пока не умирали медленной смертью.
Странная религия Умы побудила девушку пойти посмотреть на эту расправу она ожидала, что, подобно телам, и души казненных будут пронзены шипами мучительного экстаза.
Трубите, трубы! Гремите, барабаны! Вот и миновала неделя. Охотники вернулись с триумфом. Они прошли через большие двойные ворота, прикидываясь, будто славно развлеклись, но всякому было видно, что они устали до изнеможения, пропитались пылью пустыни, все в синяках и царапинах, едва передвигают ноги после многодневной поездки верхом на верблюдах, покрыты засохшей кровью — и своей собственной, и убитых ими животных. Вслед за охотниками тащились четыре повозки, на них были навалены какие-то туши, облепленные черными мухами. Так они и ехали по раскаленной, непереносимой жаре.
Князь Харихара, желавший во что бы то ни стало отпраздновать свой успех, несколько мрачно следил, как в нашем тихом, мирном дворике, усаженном розами и лимонными деревьями, с прямоугольным прудом посредине, сгружаются помятые, утратившие форму туши, кровавое месиво из волос и перьев, привлекательное разве что для насекомых. Князь разгуливал между своими трофеями, тыча в них тупым концом охотничьего копья, ладонью свободной руки упираясь в серебряную рукоятку малайского кинжала, висевшего на покрытом драгоценными камнями поясе. Длинные, когда-то густые и блестящие волосы вельможи сейчас были спутаны и грязны, одежда разорвана, на подбородке проступила щетина.
— Два буйвола, Али, ты только посмотри, какие зверюги. Шесть песчаных лис. Восемь куропаток, четыре тетерева, три газели, гиппопотам, крокодил и, самое главное — три льва. Неплохо, а?
Обычно князь не требовал от меня похвалы — что толку в ней, когда ее предлагают низшие? — но сейчас поблизости не было других зрителей.
Н-да. Белые буйволы, рога расходятся в стороны футов на шесть, высокий подгрудок. Полагаю, в тот момент, когда в них ударили стрелы из арбалета, эти труженики ярма не тащили повозку, однако именно таково было их обычное занятие. Лисы. Собаки, которые, как шепнул мне потом Аниш, выбежали им навстречу из деревни, мимо которой проходил охотничий отряд. Куропаток поймали на манок местные птицеловы и оставили в качестве приманки для других; тетеревов этой породы здесь держали в курятниках. Гиппопотам и крокодил — совсем малютки, их взрослые родичи успели спастись бегством. Из львов один тоже оказался детенышем, с ним была львица-мать, подставившая себя под выстрелы охотников в отчаянной попытке спасти малыша, а самец был старый, тощий и беззубый. Только газели на что-то годились их подстрелили, сидя верхом и пользуясь обычными луками, вождь бедуинов и его сыновья, чьими гостями оказались наши горе-охотники, заблудившись в пустыне.
— О да, мой повелитель, ты — второй Нимрод, великий ловец перед Аллахом.
— Нимрод? Кто такой Нимрод, Али?
— Знаменитый охотник, князь, — пояснил я, стараясь не выдать легкого раздражения.
— А!
После чего князь со всеми спутниками отправился мыться. Я не заходил в купальню еще двадцать четыре часа, дожидаясь, пока проточной водой смоет всю грязь и кровь, нанесенную охотниками.
Вместе с Анишем я наблюдал, как чистят и укладывают обратно в футляры арбалеты и слегка поубавившийся запас стрел.
— Худшее приключение в моей жизни, — бормотал домоправитель. — Мы покинули пределы цивилизованного мира.
Я прикинул, что он видел до сих пор и сколько ему еще всего предстоит.
— Аниш-бей, — обратился я к нему на арабский лад ведь я сам араб и мы находились в арабской стране, — по-моему, мы еще не покинули эти пределы. Приблизились к ним, пожалуй, но эту страну еще вполне можно назвать цивилизованной.
— А публичные казни? Эти крюки? Не говоря уж об охотничьих забавах.
— Поверь мне. То ли еще будет.
Глава двенадцатая
В тот вечер мы ужинали в саду перед павильоном, при свете огромной, напоминавшей цветом апельсин, луны, поднимавшейся из-за вершин минаретов, и серебряных ламп, висевших в арочных проемах самого павильона и на деревьях вокруг нас. Притворяясь, будто мы лакомимся перепелами и мясом газели (на самом деле протухшую дичь закопали, а к ужину купили на рынке цыплят и козлятину), мы втроем князь, Аниш и я обсуждали, каким путем будем добираться до Ингерлонда. Я предлагал плыть вдоль побережья до Шебты, пересечь пролив в районе больших скал, именуемых Джебел Тарик, и дальше следовать в Карнатта-аль-Яхуд. Я утверждал, что такой маршрут позволит нам как можно дольше оставаться в пределах цивилизованных стран (разумеется, я надеялся заодно повидать Гарея, но об этом я предпочел умолчать). Однако Аниш тоже не терял времени даром и, разыскав и расспросив какого-то купца из Бомбея, выяснил, что торговля между центрами цивилизации и западными варварами ведется исключительно через посредство двух городов-государств, Венеции и Генуи, и что венецианцы, опасаясь пиратов, всегда отправляются в плавание целыми флотилиями; кроме того, их суда снабжены не только парусами, но и веслами, а потому штиль и даже встречные ветры не могут задержать их в пути. В итоге мне поручили на следующий же день отправиться в Искандарию и зафрахтовать в тамошнем порту галеру, с тем чтобы плыть в Венецию. Я хорошо знал порт и царящие в нем нравы и с легкостью разыскал подходящее судно.
Как раз в это время Ума попросила меня научить ее английскому языку. Я начал давать ей уроки, пользуясь любой предоставлявшейся для этого возможностью. Она оказалась удивительно способной ученицей, и ее успехи далеко превосходили достижения князя и Аниша, которые порой присоединялись к этим занятиям.
Постепенно мы продвигались в глубь варварского континента. Венеция глядит на восток и в своей архитектуре воспроизводит немало наших открытий, не говоря уж о прямом воровстве. Собор Святого Марка внешне выглядит как мечеть с минаретом, но мало этого: многие камни этого здания вывезены из арабских стран и Оттоманской империи. Город-республика гордится замечательными художниками; среди них действительно есть и такие, кто мог бы, по признанию самого князя, сравниться с творцами Виджаянагары, если б только они дали волю воображению и не ограничивались изображением своего бога в младенчестве, его матери и его кошмарной смерти. Здешние обитатели, однако, еще способны воспринимать и чисто человеческие радости; но чем дальше мы продвигались на северо-запад, тем меньше находили людей, понимающих толк в земных удовольствиях.
В Венеции я разыскал того алхимика, который сумел улучшить вкус напитка, получаемого из зерен кавы. Этот старик был еще жив, хотя и находился в весьма стесненных обстоятельствах. Он очень обрадовался двум мешкам кофе, и мы тут же отправились вместе с ним к одному еврею, жившему на холме Джудекка и дававшему деньги в рост. Отведав напитка, он одолжил алхимику изрядную сумму денег, так что тот смог вновь открыть кофейню на площади Сан-Марко. Вырученных денег хватило, чтобы покрыть все расходы по нашему пребыванию в городе каналов. С этим евреем по имени Шейлок произошла интересная история: несправедливый приговор, вынесенный верховным судом этого города, принудил его принять христианство. Однако он мужественно пережил эту беду и еще более десяти лет продолжал заниматься своим ремеслом. Должен отметить, что с нами он обошелся с безукоризненной честностью.
Мы преодолели уже более половины расстояния до конечной цели нашего пути, но на дорогу до Кале у нас ушло особенно много времени. Всевозможные приключения и препятствия, встретившиеся нам по пути, не имеют отношения к основной теме моей повести, так что их я опущу.
В Местре мы наняли мулов и ослов и вошли в долину По в Северной Италии. Мы миновали города Верону, Милан, Турин. В этих местах немало красивого и замечательного, но постоянная война между городами и даже между враждующими партиями внутри одного и того же города отравляет жизнь местным обитателям. Часто кровными врагами становятся купеческие семьи: вместо того чтобы ограничить свое соперничество пределами рынка, улучшая качество товара и снижая цены, они прибегают к мечам или яду. Особенно скверно обстояли дела в Вероне. Здесь мы лишились одного из поваров — он оказался случайной жертвой во время уличной схватки между двумя бандами юнцов, принадлежащих к враждующим семьям.
Эти люди не останавливаются даже перед тем, чтобы осквернить усыпальницу чужого рода, но это уже другая история.
Стояло лето, было довольно жарко, так что перемену климата мы ощутили только тогда, когда начали восхождение на гору к северо-западу от Турина. Тут, на вершине горного прохода Монт-Сени, открывался великолепный вид на соседние и дальние пики — нечто подобное я видел лишь на Памире, — и вдали мы разглядели снег. Мои спутники полагали, что это выступают наружу жилы белого мрамора, когда же я назвал это замерзшей водой, они сочли меня лжецом.
— Что, вода кристаллизуется, как сахар или соль? — посмеивался Аниш.
— Снег похож на кристаллы соли, но они обжигающе холодны, — отвечал я.
Князь Харихара встал на мою сторону. Ему доводилось слышать о снеге, только он не представлял себе, что его может быть так много. Нам, однако, предстояло увидеть куда больше снега и льда.
В горах было прохладно, и все мы были рады вновь спуститься в долину. Здесь тоже текла большая река, Рона, и крестьяне как раз собирали урожай винограда. Из этих плодов они изготавливают перебродивший алкогольный напиток, действующий так же, как гашиш или рисовое вино, однако после него человек чувствует себя разбитым и мается головной болью.
Если долгое время употреблять большими дозами виноградное вино, можно вызвать фатальное внутреннее кровотечение или слабоумие, но здешние земледельцы настолько привержены к этому напитку, что предпочитают выращивать виноград вместо пшеницы, конопли и других полезных растений.
Мои неопытные спутники начали страдать от того явления, которое в течение полутора лет нашего пребывания на западной окраине мира казалось им одной из самых больших неприятностей этого путешествия, — я имею в виду смену времен года. В Виджаянагаре всего два сезона: первый — теплый и влажный, второй — жаркий и сухой, причем последовательность их настолько предсказуема, что всем заранее известен день, когда начнутся дожди и сколько они продлятся. Членам нашей экспедиции предстояло узнать, что здесь ясное теплое утро может внезапно смениться холодным и влажным вечером. Кроме того, через несколько месяцев, когда мы еще находились в пути, листья с деревьев начали опадать и почти вся растительность увяла, так что людям приходилось питаться запасами, сложенными в амбарах, а к весне остатки этих припасов успевали сгнить, и мы видели людей, умиравших от голода. Для меня это зрелище было не внове, но князь Харихара и Аниш были поражены непристойностью и противоестественностью такого конца земного существования человека и называли его оскорблением богам и природе — в этом я с ними совершенно согласен.
Я человек, склонный к умозрительности, в то время как Аниш предпочитает все оценить, взвесить и дать точное определение. Как-то раз, когда наш караван двигался по возвышенности, с которой были видны поля пшеницы, выжженные до сбора урожая, валявшиеся повсюду незахороненные трупы женщин и детей, подвергшихся перед смертью насилию и умерших мучительной смертью, а затем мы миновали открытую общую могилу, куда свалили почерневшие трупы умерших от чумы, Аниш промолвил:
— Али, если Виджаянагару мы назовем Первым миром, а те арабские государства, через которые мы проходили, — Вторым, то этот мир мы вправе счесть Третьим и наихудшим, ибо здесь беснуются демоны голода, меча и болезни, мчась вослед неистовому богу войны.
Мы медленно двигались вдоль берегов Роны, а затем Соны, где видели разоренные и выжженные земли, потом шли вдоль Сены к Парижу, проходя через владения, принадлежавшие королю франков и его вассалам, либо герцогу Бургундскому, который спорит с королем за власть над этой областью. Мы миновали также множество других княжеств, герцогств и крупных поместий, почти всюду оказываясь свидетелями вооруженных стычек и нападений; мы видели, как жестоко угнетают здесь земледельцев и как преследуют и казнят всякого, кто посмеет возвысить свой голос против неразумия и злоупотреблений церкви. На городских площадях горели костры и применялись еще более отвратительные способы расправы. Мы сами постоянно подвергались опасности быть схваченными и осужденными как еретики, шпионы и просто как чужаки — ведь мы явно были иноземцами и не христианами. Особенно бросалась в глаза наша темная кожа — она так явно отличается от бледной, обескровленной, холодной с виду кожи, которая здесь считается признаком «образа Божьего». Однако эти люди превыше всего ценят богатство и деньги (хотя никогда в том не признаются), и за свое золото и драгоценности мы всегда могли получить у местных феодалов не только право проезда через их земли, но и вооруженную защиту.
Погода становилась все хуже, и спутники исполнились благодарности ко мне за то, что и в этом я оказался столь же предусмотрителен, как и в других делах. Мы продали жемчуга, что были предназначены для покупки одежды, в Дижоне, столице Бургундского герцогства. Все придворные дамы, да и многие кавалеры, принялись похваляться друг перед другом великолепными жемчужинами, вделанными в ожерелья, перстни и серьги. Мы создали здесь новую моду и тем самым подняли спрос на драгоценности. В результате всем членам экспедиции удалось одеться в лучшие меха и шерстяные одежды, а также приобрести теплую обувь
Итак, не испытав особых тягот, мы в самой середине зимы вновь вышли к берегам моря, но на этот раз холодного серого моря. Когда мы достигли порта Кале, уже близилось наступление месяца, который англичане называют «январь». С него они отсчитывают новый год, по их календарю начинался год 1460-й.
Часть II
Глава тринадцатая
На следующий день я пришел в обычное время и, как всегда, прошел по тенистому коридору с мощеным полом к ажурной стене из камня, отделяющей прихожую дома, где живет Али, от внутреннего дворика. Как всегда, в отверстия этой каменной ограды пробивались лучи яркого света, и я различал чириканье птиц и шепот воды, по ту сторону. Дверь кедрового дерева слегка заскрипела, появился привратник, высоченный чернокожий нубиец в панталонах, тюрбане, с ятаганом у пояса. Он широко распахнул дверь и проводил меня внутрь, как всегда, с чуть преувеличенными выражениями почтения и покорности.
Я поднялся по двум ступенькам из черного обсидиана, папоротник коснулся моих ног, и лишь минуту спустя, когда глаза мои приспособились к яркому солнечному свету, я обнаружил, что Али не сидит на привычном месте под коричным деревом. Я замешкался, но привратник настойчиво пригласил меня войти. Я прошел по широким каменным плитам и ощутил приятную прохладу оттого, что на разгоряченные стопы попали брызги воды — рядом играл фонтан. Из-под куста вышла серая кошка Али, стала тереться об мою ногу, и я, наклонившись, почесал ее за ухом. Выпрямившись, я разглядел на столе, где, как правило, устраивались мы вместе с хозяином, листы бумаги. Кувшин лимонада был поставлен на них — излишняя предосторожность, поскольку в неподвижном воздухе не было даже намека на ветерок, который мог бы растрепать страницы. Возле кувшина дожидался одинокий стакан.
Верхний лист бумаги сохранял столь яркую белизну, что лучи солнца отражались от него, причиняя неудобство глазам и мешая читать, под ним скрывалась довольно плотная стопка пожелтевших, загнувшихся на уголках страниц. Я поднял верхний лист и, отвернувшись от солнца, сумел разобрать черные чернильные строки:
«Мой дорогой Ма-Ло,
сегодня я чувствую слишком большую усталость, к тому же стоит жара. В это время года я начинаю томиться по муссонам, хотя и знаю, что с ними возвратится воспаление и боль в суставах. Жара вызывает опасное истечение из моих внутренностей. Этот недуг я приобрел некогда в Ингерлонде, и теперь он возвращается каждые три месяца. Тем не менее мне не хотелось подводить тебя, и потому я попросил Муртезу подготовить кое-какие документы, которые продолжат мой рассказ. Это копии писем, которые князь Харихара посылал своему двоюродному брату — императору. Домоправитель Аниш снимал с них копии и, хотя не все оригиналы достигли адресата, верный своему долгу Аниш сохранил все копии, и теперь их можно прочесть. По крайней мере, они подтвердят правдивость моего рассказа. Надеюсь, по воле Аллаха или обстоятельств, я сумею и сам продолжить это повествование, если избавлюсь от поноса прежде, чем он избавит мир от меня. С почтением и проч.
Али бен Кватар Майин».
Я устроился на покрывавшей каменное сиденье подушке, налил себе стакан лимонада и начал читать.
«Дорогой брат,
мы добрались до области Кале, и настало время отписать тебе, чтобы уведомить, как подвигается наша экспедиция и удается ли нам осуществить те цели, ради которых мы предприняли это путешествие. Я не стану тратить ни твое время, ни свое на описание приключений, случившихся по пути. Сами по себе они достаточно занимательны, но, поскольку они не имеют никакого отношения к нашей миссии, рассказ о них можно отложить до нашего возвращения полагаю, тогда эти воспоминания не раз помогут нам скоротать время между ужином и отходом ко сну.
Область Кале похожа на луковицу, разрезанную морем пополам, ибо состоит из множества слоев — сперва Пале, где мы и находимся. Это укрепленная граница, охватывающая полукруг земли, который мы назовем вторым слоем. Стены города образуют третий слой возле сердцевины луковицы. Наибольшее расстояние от внешней границы Пале до городских стен примерно двадцать миль, так что между этими двумя укреплениями располагается достаточно полей и пастбищ, чтобы прокормить местных жителей. Укрепления, образующие внешнюю границу Пале, состоят из рвов, невысоких насыпей из дерна и палисада, откуда и идет название всей области. На перекрестках главных дорог стоят крепости. Дополнительную защиту обеспечивают болота, каналы, а в некоторых местах и ручьи или речки.
Внутри Пале, практически на самой южной границе, стоит большая крепость Гиень, охраняющая путь в Кале из Парижа.
Мы слышали, что стены Кале сложены из камня и напоминают стены замка. Надеюсь, что в скором времени мы сможем убедиться в этом собственными глазами. Там, внутри, обычные городские улицы, цитадель, гавань, состоящая из двух акваторий, внутренней и внешней. Мол защищает их от ветра и бури.
Вся эта область в данный момент удерживается англичанами. Они рассматривают ее как часть Ингерлонда, но за эту территорию сражаются две враждующие между собой партии англичан. Одна партия засела в Гиени крепости, предназначенной для отражения нападений со стороны франков, чей король также претендует на Кале. Однако сейчас франки больше заняты своими распрями с бургундцами, чем с англичанами, и не угрожают Кале, так что эта партия может использовать Гиень в качестве форпоста для натиска на своих противников-англичан, занимающих город и порт Кале.
Первую партию возглавляет герцог Сомерсет, кузен английского короля. Жена короля, королева Маргарита, послала герцога в Кале, чтобы отнять крепость у ее нынешнего коменданта, графа Уорика. Граф тоже знатный вельможа, но ниже герцога. Кажется, герцогами могут быть лишь особы королевской крови. Граф Уорик поддерживает герцога Йорка, который тоже является кузеном короля, но враждебен королеве. У Сомерсета есть все причины ненавидеть Уорика, поскольку четыре года назад тот убил в сражении его отца. Я понимаю, все это кажется очень странным и запутанным. Не уверен, что сам я сумел разобраться в здешних делах. Надеюсь, со временем что-то прояснится.
Гиень находится на некотором расстоянии от моря, а нам необходимо пересечь пролив, чтобы попасть в Ингерлонд. Единственная гавань, из которой можно отправиться в Ингерлонд, — это порт Кале. Следовательно, мы должны как-то попасть в Кале — однако герцогу Сомерсету со всей его армией вот уже несколько месяцев не удается проникнуть в него — либо вернуться в какой-нибудь франкский порт на юго-западе, например в Булонь или Дьепп, но этого мы теперь сделать не можем, поскольку возвращение на французскую территорию сопряжено с серьезной опасностью для нас. Когда мы еще находились во Франции, мы обещали королю франков не иметь никакого дела с его врагами-англичанами. К тому же в английские порты не пропускают суда из Франции. В таком вот мы оказались нелегком положении.
То, что здесь именуют «погодой», только ухудшает дело. Тому, кто не испытал это на себе, даже и не объяснишь, что такое погода. Все же я попытаюсь рассказать об этом, поскольку, боюсь, погода будет оказывать существенное влияние на все наше путешествие. Говорят, в Ингерлонде она еще хуже, чем во Франции.
Во-первых, дождь. Дождь может начаться в любое время дня и ночи и продолжаться часами или же пройти за несколько минут, он может быть обильным, проливным, как у нас на родине, или же почти незаметным как здесь говорят, «моросящим». Можешь ли ты поверить, что подобная изменчивость свойственна здешнему климату на всем протяжении годичного цикла? И, коль скоро я заговорил о годичном цикле: мы уже испытали на себе два времени года — «осень» и «зиму». Нет, так я не сумею ничего объяснить. Ограничимся рассказом о «погоде», а к вопросу о сезонах я вернусь позднее, пока же скажу только, что сейчас мы переживаем холодный сезон, и это неудивительно — ведь дни сделались почти вдвое короче ночей, а через полгода пропорция светлого и темного времени суток сделается обратной и наступит «лето». Учитывая, что сейчас стоит невыносимый холод, я подозреваю, что «летом» нас ждет столь же нестерпимая жара, но пока дни коротки, холодны и сумрачны.
Кроме дождя имеется еще и ветер. Ветер может подуть в любой момент, ночью или днем, с любой стороны, или же может воцариться полный штиль. Сила ветра колеблется от незаметного дуновения до урагана, но даже ураганный ветер дует не постоянно, как муссон, обрушивающийся порой на восточную окраину нашей империи, а порывами.
Как я уже сказал, в эту пору года здесь очень холодно, но даже холод не представляет собой нечто неизменное: невыносимая стужа, при которой вода превращается в кристалл, на следующий день сменяется более мягкой погодой, когда вода остается твердой лишь поутру, а к полудню вновь обращается в жидкое состояние. Мы уже видели снег. Ты помнишь, как путешественники рассказывали об этом северном явлении, и Али бен Кватар Майин также предупреждал нас о нем? Итак, мы уже видели снег, но он, как и лед, то есть твердая вода, до середины дня успел растаять, превратившись в сырость и грязь.
Но, повторю, самое неприятное в «погоде» — ее непредсказуемость. Даже два дня подряд нельзя рассчитывать на одну и ту же погоду. Единственное, что можно сказать наверное, — она почти всегда неприятна. И очень холодно.
Не могу описать, насколько тут все грязно и запущено. Сейчас я пишу, сидя в высокой башне у маленького окна, откуда открывается вид на сельские угодья, простирающиеся до стен города Кале. Поверхность стола сделана из столь грубой и необработанной древесины, что, как видишь, мое перо натыкается на выступы и трещины и оставляет кляксы. Каменные стены также не обработаны и сложены без всяких правил, разнокалиберные камни кое-как пригнаны друг к другу и скреплены известью. Оконное стекло состоит из мелких осколков самых разных форм и размеров, соединенных свинцовыми полосами. Оно кое-как пропускает свет, но прозрачным его не назовешь, туманное стекло искажает вид за окном. Сейчас полдень, но мне пришлось воспользоваться для письма коптящей свечой из животного жира (судя по запаху — бараньего). В огромном очаге едва дымятся здоровенные бревна, и весь жар уходит в трубу. Стены украшают гобелены с примитивными сценами охоты. Вышивка почти полностью уничтожена молью.
Я распахнул окно — только так я мог получить достаточно света, чтобы закончить письмо, — и увидел сырую землю, поля, нарезанные на отдельные полосы, мертвые, лишенные листвы деревья, дорогу, которая, огибая деревню, ведет в город, город обозначен вдали струйками дыма. Назвать дорогой эту узкую полосу грязи, всю в ухабах, можно, лишь проявив величайшее снисхождение. Грязь имеет бледновато-коричневый оттенок; иногда из-под нее проступает участок скалы — не настоящего, твердого камня, а довольно мягкого и крошащегося. Это известняк, он белый и от дождя становится скользким.
Сейчас я не вижу ни одного живого человека, зато вижу двух мертвецов: там, где дорога поднимается на холм, стоит виселица, и на ней медленно раскачиваются два подвешенных за шею трупа. Недавно какие-то птицы, крупные, черные, с большим серым клювом, прилетали клевать и терзать лица умерших, но теперь даже падальщики улетели прочь. Повешенные бедняги были заподозрены в том, что они-де шпионили в пользу графа Уорика и англичан, засевших в Кале.
Вот что я могу поведать об этих местах, мой царственный брат: они выглядят незаконченными, лишь наполовину сотворенными, словно богиня Парвати покинула их, торопясь к более важным делам, или как если бы Парвати начала акт творения на берегах наших священных рек и там довела создаваемый ею мир до совершенства, а затем окружила его рядом концентрических кругов, каждый из которых моложе предыдущего, пока наконец не добралась до этих мест через столетия, а то и тысячелетия после того, как были созданы наши.
Сейчас я должен прерваться — мне предоставили аудиенцию у герцога Сомерсета.
Я вернулся из приемной герцога. Этот молодой вельможа, едва ли двадцати пяти лет от роду, очень высокомерен. Он заставил нас дожидаться вместе с другими просителями перед залом, где он восседал на троне, точно король. Когда наступил наш черед быть представленными и нас вытолкнули вперед и поставили перед троном, герцог явно рассчитывал, что мы будем низко кланяться ему, как и все остальные. Должен признаться, меня это задело. Я полагал, что в любой стране знать должна, по крайней мере, обладать изысканными манерами и понимать, как подобает себя вести. Этому человеку хорошо известно, кто я такой — кровный брат императора! У него нет ни малейших оснований так возноситься. Насколько я понимаю, хотя герцог осаждает тех, кто засел в Кале, сам он тоже попал в окружение в этой небольшой крепости Гиень. С ним здесь всего тысяча человек, правда, он надеется получить подкрепление, когда погода позволит англичанам высадиться на берег.
Но не буду затягивать эту историю. Али, как всегда, сумел все уладить. В обмен на несколько фунтов имбиря, мускатного ореха, кориандра, корицы и гвоздики (я имею в виду — по нескольку фунтов каждого вида пряностей) герцог обещал проводить нас до ворот Кале, при условии, однако, что мы пообещаем не пересекать канал и не направляться в Ингерлонд — вместо этого мы должны нанять в порту корабль до германского города Бремен и там заняться торговлей. Насколько я понял, Бремен один из крупнейших городов так называемого Ганзейского союза[126]. Это товарищество купцов, в чьем распоряжении находятся порты вдоль побережья материка от Брюгге до Московии. Они надзирают почти над всей торговлей на Западе, за исключением торговли с Ингерлондом. Разумеется, мы совершенно не намерены ехать в Бремен, Али требовался лишь предлог, чтобы все-таки переправиться в Ингерлонд. Как только наше положение прояснится, я сообщу тебе, сработала ли его хитрость.
Еще два слова относительно Али. Он оказался для нас чрезвычайно ценным спутником, хотя внешность его по-прежнему оставляет желать лучшего. Он изумительно владеет языками и сумел объясниться с жителями всех стран, через которые нам довелось проезжать. Разумеется, на это можно было рассчитывать, поскольку Али предлагал нам себя именно в качестве проводника, но, должен признаться, я получил больше, чем надеялся. Помимо прочего, он прекрасно умеет обходиться с людьми, заключать сделки, выгодно продавать товар и устраивать нашу жизнь с возможными удобствами. Как и мы все, Али облачился в меха, в длинную потертую шкуру одному лишь Шиве известно, какому существу она прежде принадлежала. Под этой шубой Али по-прежнему носит засаленную накидку, надетую через голову, сохранил он и старый свой тюрбан, и набедренную повязку. Тем не менее он держится с таким достоинством, что поневоле вызывает уважение.
Аниш тоже держится молодцом, хотя страдает от холода больше всех нас… Я слышу стук в дверь. Закончу, когда выясню, кто ко мне пришел.
Это были Аниш и Али, они принесли дурные вести. Придется отослать домой наших воинов. По-видимому, их смуглота, свидетельствующая, по нашим понятиям, о здоровье, в сочетании с диковинным для здешних мест нарядом и оружием, показалась этим людям страшной, даже бесовской. Они вызвали у англичан враждебность, вероятно, порожденную завистью. Сомерсет отказывается пропустить солдат вместе с нами. Али подозревает, что герцог опасается, как бы они не присоединились к Уорику ведь столь могучие колдуны могут оказать решающее влияние на исход войны. Что ж, двинемся дальше без них. Али утверждает, что мы сможем нанять телохранителей, когда они нам понадобятся. Теперь наша экспедиция состоит всего лишь из дюжины человек, считая буддийского монаха, не покидавшего нас с момента выхода из Града Победы, и факира, который уже не способен пробудить в нас любопытство слишком много раз мы все видели его трюки. Зато он собирает зевак в деревнях и на ярмарках и получает за выступление пищу и какую-то мелочь. Выручкой он делится с монахом.
Вот и все. Дневной свет угасает, а свеча коптит и воняет пуще прежнего.
Это послание отвезут тебе наши воины. Я готов позавидовать им, хоть им и предстоит нелегкий путь.
Остаюсь, дорогой брат, твоим преданным слугой.
Харихара».
Глава четырнадцатая
«Дорогой брат,
итак, наконец мы в Кале — не знаю, правильнее назвать это место крепостью или фортом, — и дела наши обстоят немного лучше. Мы хотя бы живем в тепле, в более или менее чистом помещении, и компания у нас довольно веселая, хотя и грубоватая. Но сперва надо описать те двадцать миль пути, преодолев которые мы попали в Кале.
Мы плелись по щиколотку, а порой и по колено в грязи. Герцог Сомерсет отнял у нас верховых лошадей это называется «реквизировать», — оставив нам лишь обозных мулов. Вообще-то их он тоже «реквизировал», однако по просьбе Али согласился вернуть за выкуп. Нам пришлось идти пешком, но, по крайней мере, мы смогли увезти с собой драгоценности и остатки пряностей, предназначенных для торговли и оплаты дорожных расходов.
Дождь висел над унылой равниной, словно завеса серо-седого шелка. Капли дождя здесь такие мелкие, что они проникали сквозь одежду или, во всяком случае, как-то выискивали малейшие зазоры между одеждой и кожей. Ноги увязали в изжелта-белой глине, скользкой и вязкой да-да, эта глина прилипает к обуви, словно непромытый и переваренный рис, но в то же время ноги скользят по ней, и путнику грозит падение. Нам встретилось несколько речушек, которые мы перешли по узеньким дощатым мосткам по ним едва могла бы проехать деревенская повозка, — но три мелких ручья вовсе не имели мостов, и мы были вынуждены переходить вброд, таща за собой упиравшихся ослов и мулов.
Поля были вспаханы, но их еще не боронили. Стоячая вода в бороздах тускло блестела, точно узкие полосы свинца. Когда земля высохнет (если это вообще произойдет), почву вновь разрыхлят и засеют семенами, которые через восемь месяцев принесут урожай зерна, именуемого «рожью». Его перемалывают в муку и пекут хлеб, составляющий основную пищу простонародья. Мы уже отведали его — этот тяжелый, серый, клейкий, сырой хлеб вызвал у большинства из нас серьезное расстройство желудка. Знать в Кале предпочитает белый хлеб из пшеницы. Его можно с натяжкой назвать съедобным.
Лишенные листьев деревья казались мертвыми, однако сопровождавшие нас солдаты утверждали, что деревья, посаженные ровными рядами, будут плодоносить при наступлении лета, то есть теплого сезона. Плоды они называются «яблоки» — хранят на чердаках амбаров, завернув в солому. Мы их уже отведали. Кожура у них сморщенная, сухая и жесткая, белая мякоть поприятнее на вкус, но тоже суховата. После нескольких месяцев хранения они приобретают слегка коричневый оттенок, но только что созревшие плоды должны быть желтовато-зелеными. Говорят, они так вкусны, что их именуют «золотыми». Али утверждает, что в Ингерлонде яблоки лучше.
Здесь можно купить мясо говядину (к ней мы, разумеется, не притрагиваемся), свинину (от нее воздерживается Али[127]), баранину и домашнюю птицу. Крестьяне почти не едят мяса, чуть ли не весь свой скот и птицу они продают на рынке в городе, чтобы уплатить налоги и арендную плату землевладельцам, это в Ингерлонде исключительно знатные люди. Англичане только и умеют что варить мясо в горшке или жарить над открытым огнем, причем совершенно не приправляют его специями, лишь обильно посыпают солью перед тем, как начать готовить, — в результате блюдо оказывается либо совершенно безвкусным, либо омерзительным. Они пьют молоко сразу после дойки, не давая ему отстояться и не используя закваску, пьют эль, то есть крепкий кисловатый напиток из пророщенного и начавшего гнить зерна, и вино, тоже очень терпкое, оно прямо-таки сдирает кожу с языка. Воду они не употребляют совершенно, поскольку считают, что с водой распространяется инфекция. В результате англичане всегда встают из-за стола слегка или как следует опьяневшими, даже после завтрака.
Последний отрезок путешествия, длиной всего в двадцать миль, растянулся на два дня, отчасти из-за того, что дни сделались совсем короткими, но главным образом из-за непригодной дороги. Ночь мы провели в гостинице. Она достойна особого описания: по трем сторонам двора конюшни, по четвертую общая комната для гостей; на втором этаже спальни. Полное отсутствие всяческих представлений о гигиене. Все путешественники, мужчины и женщины, должны справлять большую и малую нужду по краям огромной кучи человеческого дерьма и навоза, выгребаемого из конюшни. Эта куча навалена прямо посреди двора. Мыться негде — разве что под дождем.
Эта гостиница стоит на границе между территорией, контролируемой Уориком (туда мы хотели проникнуть), и областью, подвластной Сомерсету, которую мы покидали. Небольшой отряд, посланный с нами герцогом, остановился в гостинице, сменив своих товарищей тем предстояло наутро возвратиться в Гиень. Здесь же мы встретили и воинов Уорика. Мы опасались, что между противниками завяжется ссора, но эти люди, хотя и были при оружии, по-видимому, вовсе не считали нужным проливать свою и чужую кровь. Впервые мне довелось отметить признаки здравого смысла у англичан. Их оружие составляли мечи и луки со стрелами, голову защищали шлемы, надетые поверх кольчужных капюшонов, на теле были лишь короткие кожаные куртки. У них не было щитов — эти воины говорили, что щиты годятся только для рыцарей, а им они помешали бы стрелять из лука. Я не стал скрывать от них, что меня очень заинтересовало их оружие, и они любезно показали мне, как устроен и как действует лук.
Это грозное оружие. Лук состоит из обыкновенной ветки дерева, должным образом обработанной и обструганной. В длину он превышает шесть футов, стрелы длиной в ярд снабжены тонким наконечником с шипами. У каждого солдата десять или двенадцать таких стрел. Они летят дальше, чем стрела из арбалета, и с расстояния в сотню ярдов пронзают доспехи толщиной в полдюйма. Правда, по сравнению с арбалетом у этого оружия есть один существенный недостаток: для владения им требуется огромная физическая сила. Насколько я понял, большинство уроженцев Ингерлонда по приказу своих господ начинают еще в детстве упражняться сперва с небольшими луками, а затем всю свою зрелую жизнь поддерживают этот навык. Англичанина из простонародья всегда можно узнать по чрезвычайно мускулистым, непропорционально развитым рукам и плечам; особенно натренирована у них правая рука, натягивающая тетиву со стрелой до самого уха.
Два отряда стрелков, служивших противостоящим партиям, не обнаруживали ни малейшего признака враждебностидруг к другу. Они ели и пили вместе, вполне дружелюбно, пока за игрой в кости не вспыхнула свара — один игрок обвинил другого в мошенничестве. К тому времени все, конечно же, напились, и ссора переросла в потасовку, однако вместо оружия они пустили в ход кулаки, ножки столов, стулья и тому подобное. Комнату разнесли вдребезги, почти все воины утирали с лица кровь, двоих или троих унесли замертво — после чего они без видимой причины помирились и продолжали пить эль, пока не впали в тупое оцепенение. Похоже, эта драка вовсе не была сколько-нибудь из ряда вон выходящим событием.
Мы проснулись на рассвете. Небо было почти безоблачным; с востока, где подымалось солнце, дул пронизывающе холодный ветер. На какой-то миг эта картина показалась мне прекрасной: небо цвета прозрачного сапфира, а на востоке розовое, как краешек лепестка лотоса или дикой розы; вся земля, канавы и борозды, и деревья, каждая их веточка, каждый сучок, были покрыты алмазной, блестевшей и переливавшейся на солнце пылью. На миг я готов был поверить, что именно эти места описаны в стихах о драгоценном граде, которые прислал мне мой брат Джехани. Эта пыль того же происхождения, что и снег, но она тоньше и мельче и называется «иней». Она состоит из крошечных частичек влаги, которые застывают прямо в воздухе и, выпадая на землю, дома и различные предметы, покрывают их тонкой пленкой.
Несмотря на холод, ясный свет золотых качелей[128] заставил всех приободриться — и нас, и солдат с лучниками, и прочих путешественников, и слуг гостиницы. Все они бегали по двору, колотя себя руками по бокам, чтобы согреться, крича, что-то напевая. Правда, они малость притихли, когда обнаружили в углу хлева тело трехлетней девочки она отошла ночью справить нужду и замерзла, так и не сумев вернуться к делившимся с людьми теплом животным и к своим родителям, которые, опьянев, непробудно спали.
Мы позавтракали заплесневевшим хлебом и парным молоком. Лучники засовывали между кусками хлеба лепешки из перемолотой, но почти не прожаренной говядины и запивали их элем. Через час, когда солнце уже полностью поднялось над линией горизонта, мы отправились в путь. Сперва нам показалось, что идти будет легче, так как все лужи замерзли и мы больше не вязли в грязи, но вскоре мы убедились, что смерзшиеся комья земли сделались твердыми, будто камень, и нужно было очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не вывихнуть себе лодыжку. Нам встречались большие лужи, в которых вода замерзла лишь отчасти, и частички льда плавали в ней, точно хлопья скисшего молока, но мелкие лужи замерзли целиком и их поверхность оказалась более скользкой, чем ступени полированного мрамора, даже если на них прольется дождь.
И все же мы продвигались вперед и вскоре увидели перед собой стены Кале. Длинная извилистая линия укреплений, с круглыми башенками на более или менее равных расстояниях друг от друга. Стены, сложенные из белого камня, сверкали, отражая солнце, которое в тот момент стояло у нас за спиной, однако значительная часть этих сооружений, особенно верхняя, была покрыта черной сажей. Над городом поднималось облако густого черного дыма. Зимой здесь жгут уголь — черный минерал, в изобилии встречающийся в этой области. Он горит ярко и дает много тепла, но при этом является также источником неприятного черного дыма с тяжелым запахом, опасного для здоровья и даже жизни. Мне стало известно, что каждую зиму много людей задыхаются из-за того, что ложатся спать слишком близко от очага, или оттого, что в трубах их каминов недостаточно хороша вытяжка. Они засыпают, впадают в беспамятство и умирают.
Разумеется, нас остановили у ворот города и подробно расспросили. Эти ворота крепятся не на петлях, а подвешиваются на канатах из пеньки и поднимаются либо опускаются с помощью рычагов, вмонтированных в стену на значительной высоте. Они представляют собой решетку из крепкой древесины, обитой гвоздями. Сквозь квадратные отверстия в решетке защитники крепости могут разглядеть врагов и направить в них свои стрелы. Я приказал одному из своих спутников зарисовать это устройство, поскольку счел его полезным и для нас.
Капитан, охранявший ворота, легко мог убедиться, что мы не принадлежим ни к народу франков, ни к англичанам приверженцам Сомерсета, и, предъявив ему кое-что из своих товаров и рекомендательные письма, выданные феодалами, через чьи земли мы проходили, прежде чем попасть во Францию, мы довольно легко убедили этого офицера, что в самом деле являемся теми, за кого себя выдаем, а именно — восточными купцами.
Цвет нашей кожи говорил сам за себя: капитан, носивший рыцарское звание, припомнил, что его отец, сражавшийся с маврами и турками на восточном побережье Средиземного моря, рассказывал, будто в тех местах кожа у людей такая же темная, как у нас.
Последовала напряженная дискуссия на языке варваров. Али позднее растолковал, что стражники заспорили, не принадлежим ли мы к числу мусульман, то есть в их глазах язычников и безбожников. Али поспешил уверить англичан, что мы вовсе не мусульмане, а обитатели земель, лежащих дальше к востоку, и что помимо товаров и денег мы надеемся увезти с собой в родные края истинную веру в Спасителя Христа, к тому же наш край вот уже семь веков находится в состоянии непрерывной войны с мусульманами.
В результате примерно через час (а тем временем сумрак сгущался, в этих местах ночь подкрадывается понемногу, а не наступает мгновенно, как у нас) нам разрешили войти в город и поискать себе ночлег, с тем чтобы поутру мы предстали перед графом Уориком, а если граф не удостоит самолично нас принять, то это сделает какой-либо уполномоченный им офицер, который и снабдит нас пропуском. Наконец-то мы попали в Кале.
Главная беда Кале в том, что этот город слишком мал и не вмещает бурлящей в нем жизнедеятельности, которая так ли, иначе ли непременно связана с шерстью. Английская экономика целиком зависит от шерсти, и согласно королевскому закону экспорт шерсти производится только через Кале. Разумеется, ярмарка шерсти привлекает и купцов, торгующих иным товаром, и различного рода ремесленников, так что в пределах малого полумесяца всю эту территорию можно было бы обойти за четверть часа, если б улицы не были запружены народом, — теснятся склады, банки и гостиницы, вмещающие всевозможный люд плотников, корабельных мастеров, изготовителей парусов и канатов, кузнецов и еще множество ремесленников, чье искусство потребно для строительства и ремонта кораблей.
Улицы здесь узкие и темные, вторые и третьи этажи зданий нависают над проходом, почти смыкаясь наверху, и люди, живущие на противоположных сторонах улицы, вполне могут пожать руку друг другу. А как тут грязно! Ты и представить себе не можешь, как тут грязно! Каждая улица превращена в помойку, в иной переулок и не проберешься, поскольку путь преграждает куча мусора высотой в человеческий рост тут и объедки, и обломки мебели, и кирпичи разрушенного уже дома, и повсюду — дерьмо.
Али повел нас в гостиницу, где он жил в тот раз, когда таинственный садху передал ему послание от моего брата Джехани. Мне довольно было лишь раз взглянуть, чтобы решительно заявить: «Ни в коем случае!» Мы не раз уже останавливались не во дворцах, а в достаточно скверных домах, но это было выше моих сил. Я глянул еще раз и с трудом сдержал рвоту: собака, принадлежавшая хозяину этого дома, огромная тощая сука, уселась испражняться едва ли не в шаге от меня. Я приказал Али во что бы то ни стало найти для нас чистое и теплое помещение. Он отправился исполнять мое поручение, а мы остались ждать на главной площади у каменного креста, старательно отводя взгляд от виселицы, где гнило тридцать два куска мяса, оставшиеся от восьми четвертованных преступников. Полагаю, именно на этом месте был сожжен заживо тот садху.
Уже стемнело, площадь освещали смоляные факелы, но я понимал, что примерно через час они догорят. Вновь пошел снег. Факелы зашипели, стали плеваться, три или четыре из них погасли. Повсюду слышались звуки веселья, нестройная музыка, крики и пение, в большинстве окон, выходивших на площадь, горел свет. Я предположил, что в городе отмечают какой-то праздник. В этом, как ты скоро убедишься, я не ошибся.
Я уже начал отчаиваться в возвращении Али, гадая, не напали ли на него какие-нибудь грабители. Скорее всего, решил я, нам предстоит к утру превратиться в ледяные статуи на потеху местным жителям, но тут Али наконец вынырнул из соседнего переулка, опираясь на свой тонкий белый посох.
— Князь! — воскликнул он. — Нам повезло. Я уговорил домоправителя самого графа Уорика предоставить нам приют в том зале, где уже начался пир. Нас ждет тепло, еда и веселье.
Мы все приободрились, стряхнули с себя снег, потопали ногами. Погонщики разбудили задремавших было мулов, факир вышел из транса, буддийский монах зазвенел колокольчиком и затянул монотонную молитву.
— Нас там ждут, — пояснил Али, указывая нам путь вверх на небольшой холм. — За нами даже специально посылали.
— С какой стати?
— Сегодня особый праздник. Он называется Двенадцатая ночь, поскольку миновало двенадцать дней со дня рождения Иисуса, которого они считают своим богом. В этот день к месту рождения Иисуса явились три царя с дальнего Востока, вероятно из Индии, и принесли ему дары. Так вот, тот капитан, что впустил нас в город, сообщил вельможам о нашем приезде и сравнил нас с тремя царями, поскольку мы тоже темнокожие и привезли с собой сокровища, а Уорик приказал разыскать нас и доставить в пиршественный зал. И как только я пришел попросить о ночлеге, капитан узнал меня…
Пока Али рассказывал, мы добрались до стен цитадели, то есть главной крепости внутри самого города. К ней примыкало два больших храма. Здесь тоже имелась подъемная решетка, как и при въезде в город, и охрана пропустила нас в стражницкую, и там мы оставались, пока графу Уорику докладывали о нашем прибытии. Здесь уже было куда веселей доносились звуки музыки, пронзительные завывания труб и нескладный бой барабана. Пирующие расположились по ту сторону небольшого внутреннего двора — там, по-видимому, и находился зал. Высокие узкие оконца были ярко освещены.
Али покуда продолжал свой рассказ.
— Эти три царя звались Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Полагаю, англичанам понравится, если мы попытаемся изобразить восточных царей. Вы, князь, будете Каспаром он пришел первым; я сыграю Мельхиора, а Аниш — Бальтазара, поскольку его рисуют в виде мавра, а из нас троих наиболее темная кожа у Аниша.
Аниш остался этим весьма недоволен — он не любит, когда ему напоминают о тамильских предках, но, поскольку Али был совершенно прав, я приказал Анишу замолчать и следовать указаниям Али. Тот продолжал:
— Дары восточных царей — это золото, фимиам и мирра. Вместо мирры мы можем использовать камедь из нашей аптечки, запах у нее тот же самый, тогда у нас будет все, что нужно. И мне следует одеться понаряднее, раз я теперь царь…
Али и на этот раз сумел меня удивить. Как он хлопотал — точно ребенок, увлеченный новой игрой. Заставил нас всех надеть лучшие наряды, золотые цепи, сам натянул одно из моих платьев поверх своей старой накидки — с ней он расстаться не пожелал, — выбрал для нас дары: я должен был вручить младенцу-богу небольшой золотой кубок с алмазами и рубинами, с изображениями слонов вдоль ободка полагаю, ты помнишь это изделие, достаточно ценное для такого случая, но не слишком дорогое; сам Али держал в руках несколько курительных палочек, а Аниш серебряный ларец с кусочком камеди. Мы предусмотрительно взяли ее с собой в качестве лекарства от болей в желудке.
Глава пятнадцатая
Для начала позволь мне описать зал: весьма просторное помещение, пожалуй, не менее пятидесяти шагов в длину и двадцати в ширину, с высоким, сходящимся в центре потолком, покоившимся на поперечных балках и консолях. Мы вошли в зал через большие двойные двери, сделанные из того твердого дерева, что здесь называют «дуб» — они употребляют его для всех плотницких и строительных работ, когда требуется особая прочность материала, хотя дуб значительно уступает в крепости нашим породам дерева. На другом конце зала мы увидели помост, где сидели вельможи, а между ними и нами простирался пиршественный зал. В зале параллельно друг другу тянулись два длинных стола, за которыми устроилось примерно сорок рыцарей и сквайров, то есть местных дворян низшего звания. Слева у стены в большом очаге пылали дрова, и этого огня было достаточно, чтобы основательно прогреть всю комнату; справа, напротив очага, небольшая дверь открывалась в кухню. Повсюду горели свечи, часть из них были воткнута в железные колеса, подвешенные горизонтально к потолку, другие закреплены в специальных светильниках вдоль стен, однако потолок зала и поддерживавшие его балки скрывались во тьме, сумрак усиливался также благодаря большому количеству веток вечнозеленых растений, остролиста и плюща — полагаю, их принесли в зал для украшения.
Свечи постепенно угасали, коптя и оплывая, к полуночи огонь очага оставался единственным источником света. Это нисколько не мешало общему веселью, и игра в лошадки продолжалась почти до рассвета.
Когда мы вошли, прямо у себя над головой мы увидели балкон с… я чуть было не сказал «с музыкантами», но производимые их инструментами звуки едва ли можно назвать музыкой. У них были медные трубы, охотничьи рожки, деревянные флейты, дудка с прорезями, именуемая гобоем, издававшая омерзительный писк, барабаны, случайно и не в лад друг другу производившие либо страшный грохот, либо утомительную, назойливую дробь. К некоторым трубкам прикрепляли пузыри, а из пузыря выходила еще одна трубка. Музыкант своим дыханием наполнял пузырь, а затем выпускал воздух через вторую трубу, получая таким образом заунывное гудение. Этот инструмент называется «волынка».
Музыканты приветствовали нас нестройным шумом; по мере того как мы продвигались в глубь зала, мужчины поднимались и испускали вопли, стуча роговыми рукоятями ножей по глиняным тарелкам или по столу. Я был малость сбит с толку столь своеобразным приветствием, но, понимая, что намерения у этих людей самые лучшие, постарался держаться как можно увереннее и возглавил нашу процессию к помосту. Тут передо мной предстала живая картина. Подобного рода изображения нам встречались и на фресках, и на витражах, на всем пути от Венеции, так что я сразу узнал его. Это было изображение или, скорее, пародия так называемого «святого семейства»: Марии, матери Иисуса, его отца Иосифа и самого младенца Иисуса, которому мы и должны были вручить свои дары.
Я сказал: «пародия». В зале присутствовали одни только мужчины. На миг, правда, мне показалось, что одна женщина все-таки допущена сюда, но, присмотревшись, я понял, что ошибся. Фигура, изображавшая мать Иисуса, была ростом в добрых шесть футов. Этот изящный юноша надел на себя синее платье и укрыл голову платком, кокетливо выглядывая из-под его краешка. Мы видели лишь один каштановый локон и часть лица — гладкую, чистую, белую кожу, большие ярко-синие глаза, накрашенный, как у шлюхи, рот. Когда я понял, что передо мной переодетый женщиной мужчина, я осознал, что маскарад оказался столь успешным благодаря его молодости (ему едва ли сравнялось семнадцать лет) и довольно женственной красоте. Рядом с этим юношей стоял «Иосиф» — мужчина постарше (пожалуй, ему уже исполнилось тридцать), крепкого, тяжеловатого даже сложения, темноволосый и румяный. На него нацепили парик и бороду, поспешно изготовленные из овечьей шкуры, вывернутой шерстью наружу, а домотканый плащ ему, скорее всего, одолжил кто-то из слуг.
Замечательнее всего был сам младенец Иисус, вернее, то существо, которое «мать» держала на руках. Это был ни больше ни меньше как молочный поросенок, живой, но очень спокойный, с удовольствием развалившийся в объятиях «матери» и глядевший ей в лицо с явным удовлетворением. Он даже морщил пятачок и принюхивался, словно в поисках вымени.
В зале воцарилась тишина. Али что-то настойчиво шептал мне, но я и без него понимал, что должен отнестись к этой сцене со всевозможной серьезностью. Приблизившись к актерам, я склонился к обутым в мужские башмаки ногам Марии, стараясь, как мог, изобразить смирение и почтение, и положил на пол свой кубок. Али и Аниш последовали моему примеру, и, когда Аниш, кряхтя, поднялся на ноги (никакие лишения, встретившиеся нам в пути, так и не заставили его похудеть), все присутствовавшие разразились смехом и радостными воплями. Шум напугал поросенка, тот принялся извиваться в руках «матери» и в конце концов обмочился. Юноша, игравший эту роль, с воплем вскочил на ноги, бросил животное на пол и попытался пнуть его ногой, однако поросенок успел удрать.
— Чертова тварь! — заорал он. — Неужели нельзя было завернуть его во что-нибудь?
После чего оба актера сбросили маскарадные костюмы и направились к помосту, пригласив нас с собой.
«Иосиф» оказался хозяином и распорядителем пира Ричардом Невилом, графом Уориком и капитаном Кале (не спутай, пожалуйста, этот титул со званием капитана стражи). Он постарался внушить нам, что является богатым и могущественным человеком: благодаря браку с дамой, которая принесла ему титул, ему принадлежат также большие поместья в различных местах Ингерлонда. Кроме того, Ричард Невил приходился сыном и наследником графу Солсбери — этот седой человек, бывший некогда прославленным воином, также присутствовал за столом. И в этот раз, и в дальнейшем Невил демонстрировал заносчивость, упрямство и своеволие, которое, как мы скоро поняли, присущи всем английским вельможам, хотя этому человеку, пожалуй, в большей мере, чем его собратьям. Кое-какие основания гордиться собой у него были. Мы скоро узнали, что Уорик отличился на войне, особенно действуя на море, очистил пролив между Ингерлондом и Францией от пиратов, однако на суше он проявил себя не слишком умелым — то опрометчивым, то нерешительным — военачальником.
Молодой человек назвался Марчем Эдди Марчем. Насколько я понял, он считается своим в компании вельмож благодаря красоте, веселому нраву и дружбе с Уориком, но сам по себе невелика особа, поскольку не может похвастаться принадлежностью к знатному роду или наследственным имением.
Как неоднократно объяснял мне Али, англичане придают гораздо большее значение происхождению и богатству человека, чем его способностям и заслугам. Но это так, в скобках.
С живыми картинами было покончено, и начался пир. Пища, как всегда, оказалась отвратительной. Нам предложили говядину в огромном количестве, а также баранину мясо отрезали кусками от целой туши, жарившейся, или, скорее, обгоравшей, над очагом. Главным блюдом был лебедь, внутри которого оказался павлин, внутри которого оказался петух, внутри которого были соловьи; я увидел на столе овощи, по нашим понятиям, пригодные лишь для скота, в том числе капусту и различные корешки; здесь же высились горы пшеничного хлеба (его еще как-то можно есть), в больших сосудах разносили масло и сметану и твердые сыры с острым привкусом. К счастью, нашлось и немного сушеных плодов из теплых стран, финики и смоквы, а также различные орехи, в том числе миндаль.
Больше всего меня пугало количество крепких напитков. Прислуживавшие за столом мальчики все время подносили новые сосуды с элем и вином, и, разумеется, очень скоро последствия подобной невоздержанности дали себя знать. Возможно, ты удивился, заметив в моем письме упоминание об «игре в лошадки», но я использовал это слово совершенно сознательно, поскольку оно точно описывает тот вид дурачества, которому начала предаваться вся честная компания. Со столов убрали почти все, кроме кубков и больших сосудов с запасами алкоголя, и тогда молодые люди забрались на спину к тем, кто постарше и покрепче. «Лошадки» придерживали своих «всадников» под коленки и мчали их в битву задачей каждого было сбросить соперника с «лошади» или повалить его вместе с «лошадью» на пол. В ход пускали любое оружие, кроме настоящего, — подушки и валики, черпаки и большие ложки, пустые и полные кубки и огромные глиняные кружки для эля.
Вскоре пол в зале был перепачкан кровью и повсюду валялись обломки мебели и осколки посуды, однако, как ни странно, серьезных увечий никому не нанесли. Пары, потерпевшие поражение, отходили в сторону и, не имея больше возможности принимать участие в игре, присоединялись к общему шуму, вопя и подбадривая уцелевших. В результате к концу игры шум сделался еще сильнее, чем в самом начале. Одну пару составляли Ричард Невил с Эдди Марчем на спине, а вторую — старый вельможа по имени Уильям Невил, лорд Фальконбридж, с рыцарем лет сорока в качестве «наездника» — тот звался Джон Динхэм. Позднее мы узнали, что Фальконбридж — дядя Уорика. До того момента я полагал, что Невил и Марч уцелели в этом шутовском бою благодаря высокому званию графа Уорика, капитана Кале, поскольку никто из присутствовавших не решался взять над ним верх, однако я ошибался. Дядя Уорика, седобородый, но широкоплечий и сложением больше всего напоминающий быка, подставил племяннику ногу и со всей силы толкнул его, опрокинув наземь. При этом Фальконбридж использовал не только физическую силу, но и хитрость: он заметил за спиной Уорика упавший стул, который и не позволил графу удержаться на ногах, когда тот отступил под ударом дяди.
Уорик принял свое поражение не слишком благосклонно. Юный Марч весело и добродушно расхохотался, а граф, вскочив на ноги, обвинил дядю в кознях и нечестной игре, и лицо его потемнело от гнева, однако зрители, провозгласившие Фальконбриджа победителем, заставили хозяина замолчать. Мне показалось, что молодежь была рада подобному унижению своего командира.
Итак, дорогой брат, как я уже говорил, свечи догорели, пирующие понемногу начали впадать в пьяное оцепенение, но сперва они спели множество жалобных песенок под аккомпанемент заунывной музыки — все больше про утраченную любовь и про дам, по которым они издалека безнадежно вздыхают, и еще парочку о погибших в сражениях друзьях. По мере приближения рассвета мы видели все новые доказательства нецивилизованности этого народа: каменный пол был покрыт песком и соломой, и это, по их понятиям, давало всем и каждому право мочиться и облегчаться возле стены, причем и собаки, все крупные, как на подбор, справляли свои дела где заблагорассудится. Мы все трое сбились в кучку в углу у огня и в темноте с тоской вспоминали о доме — боюсь, прежде мы не умели по достоинству ценить преимущества нашего образа жизни.
Нас разбудили внезапно и довольно грубо. Сперва какой-то слуга принялся раздувать почти угасший огонь, с шумом подбрасывая растопку и сухие дрова, затем во всем зале поднялась суета, мужчины начали просыпаться и разбредались во все стороны, все еще плохо соображая и неуклюже двигаясь после вчерашней попойки. За окном послышался стук копыт, оклики часового, в ответ ему назвали пароль, и в зал вошли трое воинов в кольчугах, заостренных кверху шлемах с широкими прямыми мечами в ножнах у пояса. Тяжелые башмаки громко застучали по каменному полу. Да, руки и ноги этих воинов прикрывали гладкие латы, но, насколько мы могли разглядеть, туловище было защищено только кожаной курткой с вышитым на красном фоне белым косым крестом — как мы позднее выяснили, этот крест означал принадлежность к числу воинов Невила.
Граф, постаравшийся утопить горечь поражения в вине и залечить им раненую гордыню, уснул за своим высоким столом. Теперь он очнулся и вступил в оживленный разговор с вновь прибывшими.
В высокие окна начал пробиваться сероватый свет, он постепенно расползался по просторному залу, и при этом освещении особенно противно было глядеть на остатки вчерашнего пира и побоища и прочие следы человеческой деятельности. Я с облегчением заметил, что мальчики-прислужники принесли щетки и метлы и принялись собирать грязь и осколки в кучи. Затем они унесли весь мусор прочь, а пол застелили свежей соломой. Хлопоча, ходя взад-вперед, слуги распахнули все двери, в том числе и самые большие, через которые мы накануне вошли в зал, и свежий холодный воздух хотя бы отчасти рассеял неприятные запахи и застоявшуюся духоту. Кстати говоря, эта утренняя свежесть, как оказалось, предвещала целую неделю дождя и пронизывающего ветра. Али отправился на разведку и вскоре сообщил новости нам с Анишем:
— Говорят, что в маленьком порту Ингерлонда под названием Сэндвич, примерно в двадцати милях отсюда, на той стороне пролива, собралось около тысячи человек, возглавляемых офицерами короля. Они собираются пересечь пролив и присоединиться к герцогу Сомерсету, как только дождутся попутного ветра и благоприятного течения. Наш хозяин опасается, что, получив подкрепление, Сомерсет сможет напасть на Кале и захватить в плен Уорика со всеми его людьми либо попросту сбросить их в море.
— Если ему это удастся, мы окажемся в неприятном положении, — забеспокоился Аниш. — Сомерсету не понравится, что мы остались здесь, ведь он выдал нам пропуск с условием, что мы направимся отсюда вдоль побережья в Бремен.
— Али! — распорядился я. — Ступай, постарайся узнать, что собирается предпринять Невил.
Десять минут спустя Али возвратился.
— Джон Динхэм, тот самый, который выиграл вчера битву, сидя на спине лорда Фальконбриджа, поведет в Сэндвич небольшой отряд. Он рассчитывает так или иначе задержать врагов — подожжет их корабли или уведет часть флота. Он хорошо знает город и гавань и полагает, что сумеет причинить врагу большой ущерб, не подвергая себя существенному риску, тем более что основные силы противника сосредоточены на окраине города.
— Если ничего лучшего они не придумали, у них нет ни малейшей надежды на успех! — воскликнул Аниш и продолжал уговаривать нас поскорее выбраться из Кале, не дожидаясь осады или сражения.
Я напомнил ему, что целью путешествия было добраться до Ингерлонда и разыскать моего брата, а сделать это мы сумеем, только оставшись в Кале.
Когда шторм наконец прекратился, Динхэм отплыл с тремя сотнями солдат — больше людей Невил ему выделить никак не мог. Через несколько дней Динхэм вернулся, но я отложу рассказ о результатах этого похода, чтобы предварительно поведать тебе, дорогой брат, об одной важной вещи, поскольку эти сведения мы получили как раз во время отсутствия Динхэма.
Во-первых, я попросил Али выяснить как можно больше о той распре или гражданской войне, которая, по-видимому, поглощала все силы англичан. Расспросив своих новых знакомых (Али легко сходится и с рыцарями, и с молодыми людьми, которые им прислуживают), наш проводник рассказал нам следующее.
Глава шестнадцатая
— Все началось, — сказал он, приступая к повествованию, — более восьмидесяти лет тому назад. В ту пору Ингерлондом правил могущественный король-воин по имени Эдуард. Он одолел франков во многих битвах и захватил большую часть Франции. У короля было несколько сыновей, и старший из них по цвету своих доспехов звался Черным Принцем. Он тоже был великим воином, как и его отец, однако он умер еще при жизни отца, поэтому, когда и сам Эдуард умер, трон, согласно английским законам, унаследовал сын Черного Принца Ричард.
Ричард оказался легкомысленным, приверженным удовольствиям юнцом. Он предпочитал не воевать с франками, а оставаться дома и наслаждаться роскошью в компании своих приближенных. Его мотовство разоряло страну, многие знатные вельможи прониклись к королю ненавистью и наконец выдвинули из своей среды вождя, чтобы свергнуть Ричарда с престола, хоть это и противоречит законам и даже вере этой страны.
Мятеж возглавил внук Эдуарда, звавшийся Генрих, сын Джона Гонта, герцога Ланкастера. Этот Генрих Ланкастер и сделался королем. Правда, некоторые вельможи не признавали его королем, так что в его царствование продолжались гражданские войны. Генрих не удовольствовался тем, что сверг Ричарда, он тайно подослал к нему убийц, а сам сумел удержаться на троне, и его сын, также Генрих, унаследовал отцовскую власть. Этот второй Генрих (среди английских королей, носивших это имя, он был пятым) опять же сделался великим воином, он начал новый поход во Францию и одержал там множество побед, но умер совсем молодым, а его преемником стал малыш, едва вышедший из пеленок. Этот мальчик его тоже зовут Генрих…
Тут Аниш жалобно вздохнул:
— Неужели им не хватает имен? Почему они дают одно и то же имя всем своим королям?
Я напомнил Анишу, что трое твоих предшественников, мой царственный родственник, звались Дева Раджа, и таким образом заставил его замолчать.
Али продолжал свой рассказ:
— Этому Генриху, шестому правителю Ингерлонда, носящему такое имя, сейчас около сорока лет. Как и Ричард, изъяны которого сделались первой причиной гражданских неурядиц, Генрих Шестой тоже оказался плохим правителем. Хотя он не предается роскоши, он тратит все доходы на колледжи, монастыри и школы, возводя большие здания и щедро украшая их во славу христианского бога. Говорят также, что король слаб душой, телом и разумом, порой у него бывают приступы безумия, кроме того, он часто серьезно болеет и лишен рассудительности и способности к решительным действиям. Королем, а через его посредство и всей страной, правит его жена-француженка Маргарита Анжуйская. Она тратит остатки королевских доходов отнюдь не на богоугодные дела и церкви и предоставляет высокие посты своим фаворитам недостаточно знатного происхождения. Королевские сундуки пусты, приверженцы королевы несведущи в делах управления и жадны, государство управляется скверно, и повсюду в стране царит беззаконие. Многие вельможи пользуются беспорядками — для того чтобы сводить между собой счеты по поводу подлинных или воображаемых обид и оружием решать ссоры о собственности и правах каждого из них.
Али приумолк, прошелся вдоль очага, опираясь на белый посох, поправил свисавшую с плеч шубу. Передохнув таким образом, он продолжал:
— Когда безумие короля становится чересчур явным и приступ затягивается дольше обычного, собирается регентский совет, правящий от имени короля. Обычно одним из трех членов этого совета становится королева, а другим Ричард…
Тут Аниш громким вздохом напомнил о себе.
— Ричард, герцог Йоркский. Ричард — потомок младшего брата Джона Гонта, герцога Ланкастера, и на этом основании он не может претендовать на престол, но по женской линии он происходит от старшего брата Джона Гонта, и это дает ему некоторые преимущества перед нынешним королем, однако Ричард никогда не заявлял о своих правах — во всяком случае, публично. Как я уже говорил, в периоды болезни короля он правил страной вместе с другими вельможами. Вы, верно, поняли, что в этом семействе приняты межродственные браки, оттого-то у них так часто случаются всяческие отклонения и даже расстройство рассудка.
Королева возненавидела Ричарда, подозревая его в дурных умыслах. Ричард присвоил себе звание не только регента, но и протектора, то есть правителя страны. Он утверждал, что стране требуется сильная власть, чтобы привести все в порядок, и готов был возглавить правительство. Ссора между королевой и герцогом переросла в открытую войну, причем знать королевства раскололась, и каждый из вельмож примкнул к одной из враждующих сторон. Сперва Ричард Йоркский взял верх, захватил в плен короля и стал править вместо него, но в следующем сражении победа досталась королеве, и ситуация полностью изменилась. Сейчас королева вместе с королем находится в городе Ковентри, в центре Ингерлонда, и правит страной оттуда, а не из Лондона, поскольку столичные купцы держат сторону Ричарда Йорка. Сам Йорк отправился в изгнание в Ирландию, а его кузен, друг и союзник Ричард Невил, граф Уорик, пока что удерживает замок Кале[129].
Вот что поведал нам Али бен Кватар Майин. Мне остается присоединить к этому рассказу сообщение о двух важных событиях, имевших место в последние дни.
Однажды утром, после того как шторм утих и Динхэм с тремястами воинами отплыл в Сэндвич, мы втроем — я, Аниш и Али — вышли на прогулку во двор центральной крепости. Здесь мы были не одни в одном углу двора факир развлекал мальчишек, жонглируя шестью мячами сразу, в другом буддистский монах замер в позе лотоса.
Мы пытались обсудить наше положение. Считаемся мы тут гостями или пленниками? Поможет ли Невил нам пересечь канал или воспрепятствует этому? В безопасности ли наши товары, или Невил захватит все добро и продаст его, чтобы купить оружие и экипировку, необходимые ему для свержения одного короля и возведения на трон другого? Приверженцы Невила постоянно жаловались на недостаток средств; воины и дворяне из свиты Уорика давно не получали жалованья, а в случае провала их предприятия они могли сделаться разве что наемниками где-нибудь на континенте или даже на Востоке. Вернуться домой они не могли, поскольку были объявлены вне закона.
Мы расспросили подробнее об этом виде наказания и узнали, что оно и впрямь очень сурово: если англичанин объявляется вне закона актом парламента (что такое парламент я расскажу в другой раз, если будет в том надобность), то король получает право присвоить все его земли, движимое имущество и деньги, лишив его родичей наследства, а если сам преступник попадет в руки властей, он без дальнейшего суда будет повешен, выпотрошен и четвертован.
Это самый жестокий способ казни, превосходящий любые гнусности арабов, даже известную казнь на колу. Прежде всего жертву подвешивают за шею, но ненадолго, так, чтобы не умертвить, а затем привязывают к столу, и палач начинает извлекать из тела внутренние органы, в первую очередь кишки, заставляя страдальца смотреть на них. Потом из тела вынимаются печень и сердце, и несчастный может наконец умереть после пытки, растянувшейся по меньшей мере на полчаса. Тогда палач отрубает ему голову и разрезает тело на четыре части — окровавленные куски выставляют в местах скопления народа, один у ворот города, другой на площади или где-нибудь на мосту для всеобщего устрашения.
Два месяца назад те вельможи и дворяне, которые собрались нынче в Кале или удалились в изгнание в Ирландию, проиграли из-за предательства одного из своих сторонников битву при городе Ладлоу, и парламент объявил их вне закона. Их владения в Ингерлонде подверглись конфискации, семьи оказались в нищете. Все наши здешние знакомцы жаловались на недостаток средств, и мы опасались, как бы это не побудило их нас ограбить.
Однако они не покушались на наше имущество, напротив, один из них обратился к нам с вполне дружеским предложением. Гуляя по двору, мы проходили мимо конюшен, и навстречу нам вышел молодой человек высокого роста. Он только что почистил огромного вороного жеребца и вытирал руки какой-то тряпкой. Когда он оказался на свету (если можно назвать дневным светом этот серый туман), мы узнали Эдди Марча. Юноша сразу же взял быка за рога.
— Князь! — обратился он ко мне. — Вы ведь едете в Ингерлонд искать своего брата?
Али перевел мне его слова, хотя смысл я уловил сразу же. Я кивнул.
— Вам понадобится проводник. Тут Али счел себя задетым.
— Я и сам разберусь, — заворчал он, но Марч продолжал настаивать:
— Я бы хотел предложить вам свои услуги. Я побывал во всех краях королевства, у меня есть там друзья, которые помогут вам в поисках, предоставят вам ночлег. Вам даже платить, скорее всего, не придется, они примут вас из любви ко мне.
Я оглядел молодого человека с ног до головы. Хорошо сложенный юноша, плечи широкие (правда, они носят широкие набивные рукава, так что это впечатление могло быть несколько преувеличенным), узкая талия, туго перехваченная ремешком, с которого свисал кинжал в ножнах. Шерстяные штаны столь же туго обтягивали его ноги, подчеркивая мускулистые бедра и худощавые, крепкие ягодицы. Физиономия его казалась приятной, открытой, черты лица правильные. Юноша часто улыбался. Голос у него был мелодичный, но достаточно низкий и по-мужски уверенный. Я посмотрел на своих спутников: Али, нечто среднее между Синдбадом и Морским старцем, Аниш, толстый и одышливый, а со времени нашего прибытия в Кале к тому же постоянно страдающий насморком вот и в этот момент с кончика его изогнутого носа свисала прозрачная капля. Оба уже немолоды. Солдат с нами теперь нет. Несладко нам придется, если мы подвергнемся нападению разбойников.
— Очень любезно с вашей стороны предложить свои услуги, — сказал я с легким поклоном. — Мы с радостью принимаем ваше предложение.
— Вот еще что, — Марч слегка покраснел и заговорил более поспешно и отрывисто: — У меня нет монет. Совсем поиздержался.
Мне показалось, что смущение заставило его прибегнуть к выражениям, обычно ему не свойственным.
— Разумеется, я буду платить вам жалованье.
— Я не собираюсь превращаться в наемника. Разве что небольшой заем… Знаете ли, у меня еще будут деньги.
— Ни слова больше. Аниш выдаст вам все, в чем вы нуждаетесь.
Так мы заключили соглашение и тут же назначили день отъезда (до него оставалась еще неделя). Понимая, что мы можем поставить Марча в неудобное положение, если разговор затянется (ведь все происходило на глазах у его товарищей), я глянул на небо и заметил:
— Похоже, начинается дождь. Аниш не любит оставаться на дожде, а вам, должно быть, надо еще покормить лошадь вашего хозяина.
Мы вернулись в дом, причем Аниш ворчал, опасаясь, как бы Марч не потребовал слишком большой суммы «взаймы», и Али тоже утверждал, что я совершил нелепый промах, поскольку жеребец-де принадлежит самому Марчу. Может, у парня и нет слуги, чтобы ухаживать за конем, но зато у него есть лошадь, достойная короля. Как выяснилось, оба моих спутника оказались правы.
Следующим достопамятным событием стало возвращение сэра Джона Динхэма и его трехсот воинов. Экспедиция оказалась успешной. Благодаря хорошему знанию самого порта Сэндвич, где разместились начальники королевского отряда, и примыкавших к порту узких улочек там проживали рыбаки и корабельщики — Динхэм сумел застать врасплох и пленить всех воинов короля, находившихся внутри города, не потревожив основной отряд, разместившийся лагерем в поле за четверть мили от города.
Знатнейшими среди пленников были Ричард Вудвил, лорд Риверс, его жена, урожденная принцесса, сделавшаяся затем женой герцога, а после того вышедшая замуж за этого Вудвила-Риверса, и их двадцатилетний сын Энтони. Уорик превратил издевательство над пленниками в публичное зрелище: этим людям поручалось убить его или взять в плен, но сами они, бесславно захваченные спящими в постелях, были притащены к нему на расправу через пролив. Уорик приказал зажечь в зале сто шестьдесят факелов и сотни свечей, объявив, что намерен праздновать Сретение (в этот день Мария, мать Иисуса, была «очищена» — не знаю от чего, ведь они сами зовут ее «пречистой»). Вновь устроили пиршество, на этот раз и мы смогли кое-чего отведать — к примеру, дикий кабан, зажаренный целиком на вертеле, оказался совсем не так плох, а сладкая запеканка со сметаной и медом нуждалась лишь в привезенной нами приправе из тертого мускатного ореха, чтобы сойти за настоящий десерт.
После того как слуги убрали со стола, Уорик приказал привести Вудвилов и принялся поносить старшего из них, седобородого старика. По-видимому, Динхэм успел донести, что Ричард Вудвил и после пленения вел себя высокомерно и заносчиво, называя засевших в Кале вельмож изменниками и иными бранными словами. Первым сказал свое слово отец Уорика, граф Солсбери, не проявивший ни малейшего участия к своему сверстнику Вудвилу.
— Ты кто такой, черт побери?! — заорал он, переходя на отрывистую речь, типичную для английских вельмож, когда они разозлятся. Обычно они говорят с ленивой оттяжкой, выпевая гласные и пропуская согласные звуки. — С чего это ты называешь нас изменниками? Мы люди короля. Мы хотим избавить нашего несчастного повелителя от таких, как ты, от вашего губительного влияния. Помяни мое слово, вы все кончите жизнь на эшафоте. Предатели!
Лорд Риверс выдержал этот натиск вполне достойно, не изменяя обычной своей надменности. Его сын также изобразил на лице пренебрежительную усмешку, однако промолчал. Тут уж не выдержал и Уорик, сын графа Солсбери.
— Не забывай, дружок, кто ты такой и с кем имеешь дело! Сорок лет назад ты пахал землю, пока не привлек внимание дамы и не вылез из грязи, чтобы надеть на голову графскую корону! От тебя пахнет навозом!
Юный Вудвил взорвался:
— Мой отец — прирожденный джентльмен, и этого достаточно! Английский дворянин имеет право на такое же уважение, как сам король. Верните мне меч, и я докажу это вам прямо сейчас!
Наш Эдди Марч тоже сказал свое слово:
— Не стоит. Здесь присутствуют люди, в чьих жилах течет королевская кровь. Таким вельможам не пристало сражаться с мужичьем.
На этом дело и кончилось. Я столь подробно описываю эту сцену лишь для того, чтобы показать тебе, дорогой брат, странные обычаи этого племени. Вся знать Ингерлонда происходит по мужской или женской линии от нормандских варваров, захвативших страну четыреста лет тому назад. Они особенно ревностно следят за тем, чтобы среди их предков, особенно по мужской линии, не было представителей древнего населения Ингерлонда, чью землю они присвоили и на кого они смотрят сверху вниз, именуя мужиками, тупицами и даже скотами. Однако, по правде говоря, вельможи и сами не знакомы с этикетом нашего цивилизованного мира.
Что ж, дорогой брат, пора заканчивать письмо. Могу сообщить лишь, что мы постепенно подвигаемся к цели нашего путешествия и с попутным ветром отплывем в Ингерлонд. Надеюсь, что Эдди Марч окажется нам полезен в качестве проводника.
В следующий раз я возьмусь за перо только в Ингерлонде, когда хоть отчасти будет выполнена наша миссия.
Остаюсь, дорогой брат, твоим преданным слугой.
Харихара».
Глава семнадцатая
Не скрою, я почувствовал облегчение, когда, снова придя в дом Али, застал его на прежнем месте. Мне вовсе не хотелось иметь дело с еще одним посланием князя Харихары, заполненным всяким вздором. Ну кто способен разобраться во всех этих Эдуардах, Ричардах и Генрихах? Да и кому это надо?
Итак, Али выздоровел и сидел в своем кресле, но на этот раз он был не один. Рядом с ним сидела поразительно красивая дама, на вид тридцати — тридцати пяти лет. Она достигла того совершенства, которое становится наградой для зрелой женщины, много повидавшей, много свершившей, имевшей детей и благодаря силе своего характера (возможно, также и благодаря своевременной потеремужа) получившей возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью.
Гостья была одета в короткую безрукавку и длинные широкие шальвары из расшитого шелка, столь тонкого, что он казался почти прозрачным. В просвете между безрукавкой и шальварами виднелся округлый, безукоризненной формы живот, пупок которого был украшен большим алмазом. Плечи и горделиво вскинутую голову окутывала шаль. Высокий ясный лоб окружали густые темные волосы, большие почти черные глаза под широкими бровями сверкали умом, а порой и ехидством, в правой ноздре изящного, с горбинкой, носа посверкивал небольшой бриллиант, полные губы были обведены насыщенно-розовой помадой, небольшой, но упрямый подбородок свидетельствовал о силе воли. Достоинство, с которым, держалась эта женщина, ее сдержанность и учтивый интерес к жизни свидетельствовали о ее зрелости, но из физических признаков того, что она уже миновала годы молодости, я мог отметить только морщинки у основания длинной, изящной шеи, там, где начинались ключицы. Гостья Али носила множество украшений: на пальцах — кольца с рубинами и изумрудами, золотые запястья высоко на руках, браслеты на ногах. Ее окружало доступное не зрению, но обонянию облако ароматов, их гамма менялась с каждым движением женщины.
— Достопочтенный Ма-Ло, я хотел бы познакомить тебя с госпожой Умой. Ума, это Ма-Ло. Я рассказывал тебе о нем.
Надеюсь, мне удалось передать поклоном то изумление и уважение, которое я испытывал.
Богиня, сидевшая передо мной, сложила ладони перед грудью (низкий вырез безрукавки почти полностью обнажал грудь) и слегка наклонила голову к своим тонким, сужавшимся к кончикам пальцам. Она смотрела на меня — внимательно, оценивающе и призывно.
Я сел рядом с Умой, опустил руки на колени. Ума тут же взяла мою руку, положила ее на разделявший нас маленький столик, накрыла своей, приговаривая негромко, как рада она меня видеть и еще что-то — я уже почти не разбирал слов.
— Ты помнишь, Ума участвовала в моих приключениях, — заговорил Али. — Она была видением, обещанием и наградой — я рассказал тебе, как мы купались вместе с «буддийским монахом» во дворце халифа в Миср-аль-Каире. Кстати, Ума приходится теткой обеим моим женам. — Али взял из серебряной чаши финик, закинул его в рот, осторожно выплюнул косточку в руку, прожевал и проглотил мякоть и только после этого продолжил рассказ. — В эту историю входят и такие события, о которых Ума сумеет рассказать лучше, чем я, поскольку она там непосредственно присутствовала, а я нет. К тому же все, что случилось с Умой, и ее собственные дела представляют немалый интерес. И вот Ума любезно согласилась провести с нами два-три вечера.
Али со вздохом провел ладонью по глубокой вмятине, оставшейся на месте его правого глаза.
— Приступай, Ума, — пробормотал он. Ума приняла руку, оставив мою в одиночестве, и выпрямилась.
— Что ж, — промолвила она, отпила немного лимонада и на миг прикрыла глаза. Мне показалось, что в саду смолкли все звуки, словно и природа вокруг нас затаила дыхание. Конечно, это была лишь игра воображения. Фонтан продолжал свой плеск, и птицы по-прежнему щебетали.
Она начала рассказ.
Пена и прибой, хлопанье парусов и свистки, темная вода, словно нежная материнская ладонь, гладит тяжелые, заросшие водорослями камни набережной. Ветер сгибает меня пополам, я опускаю голову, туго обматываю плащ — лишь бы не распахнулся, не обнажил на глазах у всех округлую грудь, заострившиеся соски. Да, я чувствую, как возбужденно приподнимаются мои соски от ласк ветра.
Нас тут целое скопище, эдакая гусеница — как много ног, какая давка! Все спешат по сходням к судну, удерживаемому надежными швартовами. Сколько ни злись ветер, ему не разорвать сплетенные из конопли канаты толщиной в мою руку.
Поверх голов моих спутников я вижу шпили и башни Кале, я вижу соломенные и черепичные крыши, струйки дыма, поднимающиеся из труб и словно пронзающие воздух, а над ними, в вышине, собираются несущие дождь облака. Вот они, мои спутники: князь Харихара Раджа Куртейши, его лоснящиеся черные волосы украшены пурпурной бархатной шапочкой с золотой заколкой, красный шелковый шарф, завязанный под подбородком, удерживает сей головной убор, темное одутловатое лицо скривилось от ветра — я знаю, он ненавидит ветер, — тело греет шуба из черного соболя, лоснящаяся, как и его локоны, мягкие кожаные сапожки тоже отделаны мехом; рядом с ним Аниш, глаза у него покраснели от усталости и тревоги, он осторожно перебирает ногами, боясь поскользнуться на влажных от прибоя камнях, его придерживает под руку Али бен Кватар Майин (тут Ума послала нашему хозяину нежную улыбку). Али пытается одновременно (при том, что одна рука его плохо слушается) поправить съезжающий набок тюрбан, не выронить трость и помочь Анишу, но здоровый глаз его продолжает поглядывать во все стороны, он, как всегда, полон любопытства, не желает пропустить что-нибудь новое, что-нибудь необычное. Факир — волосы у него встали дыбом, и он очень похож на ежа — бормочет себе в бородку мантры и заклинания, то и дело прерываясь, чтобы отругать мальчишку, которому поручен присмотр за его волшебным ящиком. И последний — не совсем последний, за ним еще плетутся грузчики с нашим багажом — Эдди Марч. Доспехи на нем гремят и звенят, он ведет за уздечку, обшитую пурпурной тканью, своего огромного жеребца — о богиня, у этого зверя яйца точно две гигантские сливы! Из всех спутников только с англичанином я еще не предавалась любви, но скоро, скоро… И подумать только каждый в честной компании уверен, что только он познал мою грудь, мои ягодицы и розовую щелку.
Поднимаются на борт мулы — осталось лишь двенадцать, мы избавились уже от большей части добра, захваченного в дорогу, из десяти погонщиков только шестеро сопровождают нас теперь. Аниш отослал домой не только солдат, но прачек, поваров и почти всех секретарей. Он сказал, что они слишком дорого обходятся.
Обернувшись, я поглядела на гавань, заполненную кораблями, на лес мачт, склады у самого берега, забитые тюками шерсти и бочками вина. Я глубоко вздохнула, впитывая ноздрями насыщенный новыми запахами воздух: пахнет дегтем, конопляной веревкой, древесиной, рыбой и уксусом, пахнет морем и всеми ароматами моря, солью и водорослями, доносится сладковатый запах гниющей рыбы, вонь крысиных экскрементов и мочи, из пучины мне чудится призрак запаха до белизны отмытого дерева и костей погибших моряков, и белесоватый туман в воздухе — словно брызнувшее из напряженного члена семя.
И запахи скотного двора, и все пряности Индии, и ароматы Аравии — мулы неторопливо цокают мимо меня, и один из них роняет желтые катышки прямо к моим ногам. Мы не берем животных с собой, наймем или купим новых в Дувре, но только мулы способны втащить все наши пожитки на судно.
Я люблю час отъезда, люблю час прибытия, а сегодня мы сможем насладиться и тем и другим, нам предстоит сегодня же высадиться в Дувре, где держат сторону Йорка, или, кто знает, быть может, нас нынче примет морская пучина.
Из всех проделанных нами морских путешествий это будет самым коротким, зато корабль куда больше прежних, трехмачтовик, похожий на огромную бочку, его раздувшиеся бока с трудом удерживают ободья и клепки. В гавани я насчитала еще несколько таких большегрузных судов — они называются «каравеллы» и предназначены для перевозки шерсти из Ингерлонда, а также угля и свинца, древесины, кое-каких изделий из железа и дешевой оловянной посуды, а обратно они везут меха и шелк, немецкие доспехи, французские вина и прочий ценный товар, которым купцы, подобные Али, торгуют по всему миру от Востока до Запада. Но больше всего вина — англичане есть англичане, — французского и немецкого вина.
Корпус корабля высоко нависает над причалом, и нам понадобились сходни длиной в восемь футов. Они довольно широкие, ограждены канатами, к продольным доскам основы для безопасности прибиты поперечные. Погонщики уже разгрузили мулов и снесли багаж вниз, сложили его в трюме, и наступил черед жеребца, которому Марч дал имя Генет. Генет отказывается ступить на сходни. На плечах жеребца выступил обильный пот, ветер срывает и уносит прочь клочья пены. Запрокинув голову, Генет закатил глаза так, что показались белки, заржал, затрубил точно боевая труба, поднялся на дыбы и забил копытами. Металлические подковы высекают искры из гранитной ограды набережной. Конь испускал запах докрасна раскаленного железа, точно рядом с нами ударила молния. Двое погонщиков с трудом удерживали его, жеребец ухитрился прихватить одного из них зубами за плечо, да так, что рекой хлынула кровь.
Тут Эдди Марч делает шаг вперед, лицо его потемнело от гнева. Он выхватывает у главного погонщика длинный хлыст, складывает его так, что конец бича обвивается вокруг рукояти, и принимается хлестать животное по морде и шее. Конь пятится назад, пригибая голову, он вроде бы готов сдаться, но, как только его пытаются вновь подвести к сходням, жеребец принимается бунтовать. В какой-то момент он чуть было не вырвался. Марч собирается снова пустить в ход хлыст, но мне жаль благородное животное, и я спешу заступиться.
— Дайте мне, — громко прошу я. — Я с ним справлюсь.
— Отойди, парень! Он тебя разжует и выплюнет. — Когда английский вельможа хочет поставить тебя на место и утвердить свое превосходство, он начинает говорить с ленцой, с эдакой оттяжечкой.
— Ничего подобного.
Я берусь за уздечку у самой головы коня, приподнимаюсь на цыпочки и шепчу, бормочу ласковые слова прямо ему в ухо. Конь польщен, он настораживает уши — еще, еще! Свободной рукой я глажу, ласкаю вздымающийся бок. Коротко подстриженная грива кажется гладкой, как шелк, но если вести рукой против роста волос, она покажется грубой, точно акулья кожа. Я наслаждаюсь прикосновением к влажной от пота коже, запахом сена в его дыхании, я заглядываю прямо в раздутые, розовые изнутри ноздри. Генет очень силен, его мощь, будто приливная волна, сотрясает своим напором мышцы и кожу коня, но потом, почувствовав мою ласку, он успокаивается, и эта волна отступает вглубь. Я представляю себе, как эта сила возвращается к своему источнику, к сердцу, легким, печени. Глаза его немного сужаются, белок уже не сверкает так отчаянно, под длинными пушистыми ресницами — о, если б и у меня были такие! — разливается агатовая чернота с примесью янтаря. Свободной рукой я нащупываю во внутреннем кармане три засахаренных орешка, я и забыла о них, подставляю открытую ладонь влажным, ищущим губам лошади. Теперь он мой навеки.
Я становлюсь у его левого плеча, чуть впереди. Склонив голову, Генет трется мордой о мое лицо. Я слегка ослабляю уздечку, и он сам ведет меня по сходням, а затем по палубе в стойло, приготовленное для него в трюме.
Только я закрыла низенькую дверцу стойла, как за спиной послышался грохот это Эдди Марч во всей красе своих доспехов. Он явно разозлился: еще бы — такой урок на глазах у всех. Он хватает меня за плечо рука у него крепкая и хватка что тиски кузнеца, — разворачивает спиной к себе, прижимая лицом и грудью к борту, и принимается задирать на мне сзади плащ и длинную тунику.
— Ты испортишь животное, если станешь с ним так обращаться, — рычит он. — Разве он понесет меня в бой, если не будет бояться меня больше, чем ядер и стрел?
— Если он полюбит тебя, он понесет тебя в ад и обратно, — с трудом выговорила я.
Я поднялась на палубу через пять минут после того, как Эдди покусился на мой зад. Экипаж уже трудился вовсю, поднимая на вершину мачты главный парус и разворачивая второй, треугольный, или латинский. Оба паруса надулись от ветра, сделались похожими на чрево беременной женщины беременной будущим. Я так и не поняла, догадался ли Марч, к какому полу я принадлежу. Может быть, догадался, но едва Марч вместо того отверстия, на которое он изначально польстился, вошел в другое, все тут же и закончилось. Наверное, виной тому сильное удивление, но вообще-то англичан не слишком занимает совокупление. Они и времени ему почти не уделяют, и удовольствия получают не больше, чем когда справляют малую нужду, — а то и меньше, судя по тому, сколько они дуют пива. Ладно, мы еще поглядим.
Наконец мы отплыли. Белые утесы позади, белые утесы впереди, и там и там они отмечают линию горизонта. Но вот ветер стихает, тучи замедляют свой бег, льнут, будто страстный любовник, к морю — море, как только мы вышли из гавани, сделалось серо-зеленым, тучи, пытаясь оплодотворить море, проливают на него то ли дождь, то ли туман, и каждая капелька, падающая мне на лицо и шею, колет ледяным жалом. Как я люблю внезапные перемены погоды! Даже не будь у меня никаких иных впечатлений от этой поездки, их одних хватило бы, чтобы окупить тяготы долгого путешествия. Я хотела бы скинуть с себя плащ и всю одежду, ступить нагой под этот дождь, пусть он щиплет и очищает мою кожу, пусть ласкает и щекочет меня. Моим ягодицам и бедрам пошел бы на пользу душ, неплохо бы смыть с себя памятку милорда Марча. Однако необходимо соблюдать осторожность, иначе я могу лишиться столь желанных мне впечатлений. Зато мое воображение ничем не ограничено и свободно устремляется в полет.
Наше судно плывет, покачиваясь, то приподымаясь, то опускаясь на волнах, зарывая нос и бушприт в буруны, а затем влага и пена прокатываются по передней и главной палубе — это напоминает мне слонов там, дома: они тоже погружают голову и хобот в воды Кришны и окатывают пенистой струей бока и спину. У меня слегка кружится голова, в животе какое-то неприятное ощущение но это тоже ощущение, часть жизни, единственная возможность понять, что ты и вправду жива. Над головой раздаются крики чаек, они повисают над самым парусом, а вон справа играет стайка дельфинов — играет, но вдруг бросается врассыпную, завидев парочку убийц в черно-белых масках.
Мне нужно все, все, что смогу впитать, почувствовать в каждый момент. Вот почему я оказалась здесь, вот зачем я отправилась в это путешествие — чтобы пережить самые сильные впечатления, какие только бывают на свете, и так пробудить обитающую во мне богиню. Я подымаюсь по ступенькам в кубрик, хватаясь за перила и канаты, подтягиваюсь вверх, подставляя лицо и верхнюю часть тела струям влаги. Дождь приятно щекочет шею, намокшая одежда облепляет грудь, живот и бедра, из-за спины дует ветер, тот самый ветер, что наполняет наши паруса. Я словно оседлала ветер, я мчусь вперед и там, впереди, уже различаю сквозь туман и дождь высокие белые утесы, гораздо выше и прекраснее тех, что мы оставили позади. Все ближе, ближе я вижу гнездовья чаек, я различаю их мяуканье сквозь грохот прибоя. И вот снова я чувствую, как его руки обнимают меня сзади, как он прижимается ко мне, заслоняя меня со спины от ветра, и вновь его упругий жезл касается моих ягодиц, такой же крепкий, такой же большой, мне кажется, как у его жеребца.
Широкие ладони крепко обхватывают мою талию, перемещаются вверх и немного вперед, надежно смыкаются каждая на своей груди. Я слышу удовлетворенный вздох теперь он точно знает, что я женщина.
Одно лишь слово достигает моего слуха:
— Альбион!
Я молчу, только теснее прижимаюсь к нему, но он догадывается, что я хотела бы задать вопрос. Он приподнимает мою голову так, что я касаюсь виском ямочки у него на шее.
— Альбион, — повторяет он, наклоняясь ко мне, водя губами и языком по моему уху. — Альбион, наконец-то я обрел тебя!
На миг мне почудилось, что он говорит со мной, обо мне, что он дал мне ласковое прозвище, но, подняв глаза, я убеждаюсь, что юноша не сводит взгляда с белых скал.
— Однажды я стану королем! — восклицает он. — Королем этой земли!
И он сжал мои груди так, что я чуть не вскрикнула.
Экипаж принимается готовить корабль к швартовке, деревянные части судна скрипят, паруса плещут на ветру, в лицо нам со всей силы ударяет порыв ветра с дождем. Это избавляет меня от несколько стеснительного общения с лордом Марчем. Мы входим в гавань, она распахивается перед нами, точно хищная пасть, и смыкается вновь. Ингерлонд, Англия, Альбион.
Глава восемнадцатая
ЛОНДОН!
Нам не удалось высадиться в Дувре. Мы стояли на якоре в гавани, пока Марч вел переговоры с гражданами Дувра, якобы друзьями Невила и Йорка, однако достопочтенные купцы чересчур боялись навлечь на себя гнев короля (вернее, королевы), если откроется, что они оказали гостеприимство сторонникам Йорка или хотя бы позволили им сойти на берег. Поскольку все поддерживавшие Йорка были указом парламента объявлены вне закона, позволить нам высадиться значило совершить акт государственной измены, а за это им грозила смертная казнь и, хуже того, конфискация имущества. Старшины Дувра посоветовали нам плыть в Лондон, где купечество также держало сторону Йорка и лучше могло постоять за себя. Так мы и решили: пройти еще небольшой отрезок вдоль берега Ингерлонда, а затем по Темзе подняться до Лондона. На это путешествие у нас ушло еще два дня и одна ночь.
В Дувре таможенники осмотрели наш товар — мешки со специями и обложили его довольно чувствительным налогом, зато, получив от Марча (а по правде — от Харихары) золото, сделали вид, что не замечают маленьких мешочков с драгоценностями. На все мешки чиновники поставили печати, удостоверяющие, что налог уплачен, и вручили нам расписку. Теперь мы могли плыть в Лондон, не опасаясь, что нам примутся вновь докучать слуги короны.
В этот город-порт в глубине страны лучше всего прибывать по реке. Как только низко висящее солнце миновало зенит, начались долгие зимние сумерки. Мы медленно поднимаемся вверх по реке, и сумерки столь же медленно сгущаются. Нашему продвижению больше способствует прилив, нежели почти незаметный ветерок с северо-востока.
Любой берег кажется таинственным, когда смотришь на него с реки. Он то улыбается, то хмурится, то зовет к себе, то отпугивает, он щедр или подл, он добр или страшен, и он всегда молчит или тихо, почти беззвучно шепчет. Сойди на эту землю, познай ее. Тот берег, который мы видим сейчас, какой-то смутный, незавершенный, однообразно-угрюмый. За спиной у нас море и небо слились воедино, в залитое светом пространство, и кажется, будто паруса кораблей, плывущих вслед за нами на приливной волне, застыли треугольными, поднятыми вверх клочьями материи, которая понемногу окрашивается в красный цвет заката и резко проступает на фоне блестящих, полированных рей. По низкому берегу разливается легкая дымка, отлого уходя к самому морю. Впереди, в районе Грейвзенда, сгущается потемневший воздух, там повисла тьма, окутавшая величайший и знаменитейший город Ингерлонда.
Рядом со мной на передней палубе сидит юнга, двенадцатилетний мальчишка с изувеченной рукой — он сказал мне, что после падения с мачты в его первое плавание перелом неудачно сросся. У мальчишки темная, как у арабов, кожа, хотя на самом деле он уроженец Лондона, или, точнее, Дептфорда, деревушки под Лондоном, на южном берегу. Он рассказывает мне о каждом местечке, мимо которого мы проплываем.
Сперва мы едва различаем низкие и плоские берега, они еще слишком далеки от нас, но постепенно река сужается и начинает петлять, как делают все реки, нам попадается по пути все больше поселений Грейвзенд и Тильбюри, Гринхит и Перфлит, Теймсмид и Грикмут. Кораблей и лодок появляется все больше, или это кажется, поскольку здесь становится довольно тесно: мы видим и каравеллы, вроде нашей, некоторые прибыли из дальних мест, видим плоскодонки и рыбачьи лодки, плетенные из ивняка, большие рыбачьи суда с тянущимися за ними сетями, баржи и ялики.
Лорд Джим (это прозвище, а не имя, ведь на самом деле этот мальчишка вовсе не лорд) показывает мне людей, которые пробираются на деревянных подошвах по оставленной отливом отмели, — на излучине реки, на участке земли, существующем от отлива до прилива, они собирают устриц, гребешки и мидий, другие люди добывают водоросли в тех местах, где в нашу реку вливаются мелкие притоки, — эти водоросли они сушат и кроют ими крыши. Мы видели также ангары и эллинги для строительства лодок, видели мельницы, колеса которых вращает вода большой реки. Хотя давно наступила зима и на холмах у Вулвича и Гринвича лежал снег, всюду кипела жизнь, за исключением лишь оставшегося по левую руку от нас болота Багсби Марш, дурного, проклятого места, окруженного со всех сторон петлей реки. Из болота поднимался ядовитый газ, там мелькали зловещие голубые огоньки.
Внезапно мы погрузились в страшную, противоестественную тьму. Солнце, только что светившее прохладным, но все же достаточно ярким светом мне приходилось даже заслонять от него глаза, — превратилось в красный диск, плавающий в черноте.
— Что случилось? — спросила я, в уверенности, что наше прибытие отмечено солнечным затмением или иным небесным знамением.
— Ничего, — с удивлением ответил Лорд Джим.
— Но стало совсем темно, солнце почти исчезло.
— Это просто смог туман над городом. Зимой, особенно в морозные безветренные дни, этот туман окутывает все словно одеяло. Иногда бывает такой густой туман, что посреди дня даже руки своей не разглядишь.
Медленно-медленно мы огибали очередной остров, приближаясь к правому берегу. Остров казался довольно болотистым, однако его покрывали груды, можно сказать — горы отходов. Некоторые из них горели, добавляя свою струю дыма к поглотившему нас туману. Я почувствовала отвратительный, тошнотворный запах вонь гниющей и горящей плоти.
— Собачий остров, — пояснил Лорд Джим, прикладывая к уху ладонь, чтобы лучше слышать. Я тоже начала различать унылое тявканье и завыванье, а вскоре и разглядела в тумане тощие фигуры больных, обреченных на смерть животных — одни из них выползали на берег и лаяли на нас, другие рылись в грудах отходов.
Река вновь совершила поворот, а затем пару миль мы плыли прямо. Солнце заходило, поверхность воды, там, где она смыкалась с дымкой смога, окрасилась в красный цвет — неровно, брызгами и зигзагами, в зависимости от того, как свет падал на гребешки волн. Казалось, в бархатистую ткань воды вонзили кинжал и хлынула кровь. Справа сквозь дым и туман проступили четыре высокие башни, накрытые треугольными крышами из черной черепицы или свинца. Башни окружала крепостная стена, построенная на невысоком холме. За стенами к небесам поднимался тонкий, изящный шпиль большую часть дня мы видели этот шпиль на горизонте, а теперь приближались к нему.
— Лондонский Тауэр, — провозгласил Лорд Джим. — А это собор Святого Павла.
Настала пора бросать якорь на ночь. Капитан подвел судно к гавани на южном берегу, и Марч созвал нас всех к главной мачте.
— Сегодня мы ночуем на борту, — громко и решительно заявил он. — Ночью опасно ходить по городу без стражи, и уже поздно искать подходящую гостиницу. Утром поднимемся пораньше и решим, что делать дальше.
Солнце нырнуло за линию домов, видневшихся позади башен Тауэра, и наступила тьма. Единственным источником света был факел в руках одного из матросов, да тускло светились окна на том берегу реки — казалось, там больше огоньков, чем на небе. Река избавилась от багрянца, но теперь в цвет крови окрасился западный край неба.
Утро — еще одно волшебное утро, похожее на тот день, когда мы прибыли в Кале. Небо чистое-чистое, бледно-голубое, не ярко-голубое, как поутру в Виджаянагаре, а ближе по цвету к аквамарину. Дым очагов, белый, если жгли дрова, либо черный, если горел уголь, поднимался совершенно прямыми вертикальными струями из десятков тысяч труб и казался нитями, вплетаемыми в уток. Иней сверкал на черепичных крышах, покрывал камни и плиты словно стекло. Соломенных крыш нигде не видно — оказывается, в городе запрещено использовать при строительстве солому из страха перед пожаром. Между домами лежат длинные, черно-пурпуровые тени. Но больше всего меня изумляют крошечные кристаллики льда, покрывающие все канаты, все брусья и на нашем корабле, и на соседних.
Миг полной тишины. Но вот ниже по течению реки краешек солнца выныривает из воды, наполняет небо золотым блеском, и река, которая вечером текла кровью, теперь течет жидким золотом. Город мгновенно оживает: звонят колокола, кричат петухи, на крепостной стене Тауэра раздается пушечный выстрел, и почти на целую минуту над водой повисает белый клуб дыма. Он не сразу рассеивается, ветра совсем нет. Появляется множество лодок — в них перевозят людей с южного берега на северный, а также множество товаров. У нашего причала уже возникли торговцы, они предлагают горячий хлеб, только что из печи, с расплавившимся сыром внутри, они торгуют соленой и копченой свининой (здесь ее называют «бекон»), протягивают чаши с подогретым и приправленным специями вином. Матросы рады возможности погреться и перекусить. Марч, пристроившись возле меня, говорит:
— Холодно, а? Дьявольски холодно! Поем и пойду, надо нанять мулов, перевезти ваш багаж. Ладно, справимся. В паре кварталов отсюда есть гостиница «Табард», там останавливаются паломники по пути в Кентербери. До апреля паломничество не начнется, полагаю, у них есть свободные комнаты.
Одним глотком Марч осушает кружку вина, покупает еще один горячий хлебец и сходит с корабля на берег, растворяясь в тени, точно в глубине пещеры.
И тут произошла странная вещь. На углу улочки Эдди приостановился и бросил медную монетку безногому нищему. Калека поглядел ему вслед, водянистые глазки заблестели, прищурились, он сморгнул набежавшую слезу и, все так же пристально уставившись в спину Марча, покачал лохматой башкой. «Чтоб меня!» — буркнул он, подхватил свои костыли и, с необыкновенным проворством перебирая длинными палками, покачиваясь всем телом в воздухе, точно цапля или журавль, устремился куда-то вдоль берега, вверх по течению.
Князь, Аниш и все прочие выбираются на палубу. Я повторяю им слова Эдди, и они тоже покупают себе еду и питье, однако вину они предпочитают теплое молоко. Али приказывает грузчикам вытащить наш багаж из трюма. Капитан заявляет, что багаж останется на борту, пока мы не расплатимся за проезд, и князь соглашается на это, поскольку не знает, сколько надо заплатить, и предпочитает спросить об этом у Эдди. Марч возвращается примерно через час — солнце поднялось немного выше, но не слишком. В здешних широтах оно совершает свой путь по низкой дуге.
Полчаса всеобщей суматохи. Эдди нанял двух английских погонщиков с мулами, надо взгромоздить на них поклажу, расплатиться с капитаном, и так далее. Наконец все готово, я прощаюсь с Джимом, мальчишка ни с того ни с сего целует меня. Последним на берег выходит Генет. Умный, жеребчик, понимая, что его ждет твердая земля, на этот раз и не думает сопротивляться. Один из грумов подседлывает его для Марча, но Марч не садится верхом, а ведет коня под уздцы. Я гляжу на него с удивлением, и он отвечает на невысказанный вопрос.
— Не стоит бросаться людям в глаза, — поясняет он, — у меня тут не только друзей, но и врагов немало.
Я вспоминаю странное поведение безногого бродяги и спешу предупредить Марча. Лицо юноши омрачилось, он в задумчивости выпячивает нижнюю губу, потом возвращается к мулу, который везет его личное имущество, развязывает пару узлов и вытаскивает большой двуручный меч в ножнах, длиной по меньшей мере в четыре фута. Прикрепив меч к седлу Генета, Марч оборачивается к Али:
— Али, если мы потеряем друг друга по дороге или вы собьетесь с пути, ищи дом олдермена[130] Роджера Доутри в Ист-Чипе, запомнил?
Али кивает в ответ.
— Он ждет вас. Обещал все устроить.
И мы выступаем в путь. Впереди Марч ведет Генета, рядом с ним идет Али, затем все остальные, а в хвосте нашей процессии погонщики ведут мулов. Мы уже продали немало мешков со специями по дороге, так что теперь половину багажа составляет коллекция принадлежащих князю арбалетов.
Мы прошли пару сотен ярдов, и я убедилась, что линия домов позади Тауэра, там, где река слегка изгибалась, обозначала изогнутый мост, единственный путь через Темзу на много миль в обе стороны. С обоих концов мост защищен высокими каменными воротами, посреди него построена церковь, а по обе стороны тянутся дома с лавочками на первых этажах.
Чтобы войти на мост, нам пришлось дожидаться в длинной очереди торговцев, местных огородников и фермеров, явившихся на базар с отарой овец или тележкой капусты, со стадом бычков или свиней, с курами и гусями. Стоя тут, мы волей-неволей должны были любоваться жуткими кусками мяса, выставленными напоказ над этими воротами. Сперва неопытный путешественник может подивиться: с какой стати понадобилось довольно неуклюже разрубать на части туши свиней, натыкать их на пики и выставлять на поживу воронам и коршунам? Но потом приходит страшная догадка: это были вовсе не свиньи, это были люди, в том числе, кажется, и женщины.
Марч останавливается в тот самый момент, когда наступает наша очередь и мы проходим под сводом ворот. Прикрыв глаза от слепящего солнца, он качает головой и покусывает большой палец. Обернувшись к Али, он что-то говорит, я разбираю почти каждое слово, поскольку иду вплотную за ним:
— Это не преступники. Тот, слева, — это сэр Джон Тин, он перешел на другую сторону в битве при Блорхите, присоединился к лорду Солсбери.
Коршун взмывает в небо, утаскивая в клюве кусок падали, другая хищная птица летит ему наперерез, они сталкиваются, и кусок гниющего мяса падает в толпу, прямо на плечо какому-то разносчику. Этот человек сбрасывает с плеча дохлятину, хохочет, приятели, стоящие рядом с ним, тоже хохочут и пинками отправляют кровавое мясо в канаву. Марч бросает взгляд на свой меч, притороченный к седлу Генета, но ему удается сдержаться, я вздыхаю с облегчением, ведь мне-то уже известно, насколько он вспыльчив. Тощая кошка, подкравшись, подцепляет, ворочает лапой неожиданно доставшуюся ей добычу. Присмотревшись, я понимаю, что это почка, и довольно крупная, — хотя «тин» по-английски означает «тощий», сэр Джон отнюдь не был таковым.
— Эти люди пережили настоящий экстаз, — шепчу я. — Отважные, благородные воины, они не должны были поддаться страху и выть от боли.
Глава девятнадцатая
— Этот человек утверждает, что ты Эдуард Марч. Правда ли это?
Мы прошли по мосту. На каждой его стороне было по меньшей мере сорок лавок, не говоря уж о складах и грудах товара, разложенных прямо у нас на пути, так что проход по месту занял почти двадцать минут. Затем мы собирались свернуть налево, на улицу Крукид-Лейн, но нам преградил путь высокий человек в одежде из первосортного алого бархата и в черной шляпе. Из-под рыжей бороды поблескивала крупная золотая цепь с красивой эмалевой бляхой. В руке этот чиновник держал резной жезл с выложенной серебром рукоятью, а за его спиной стояли наготове вооруженные стражники. Эти воины носили шлемы с поднятым забралом, нагрудные пластины и кольчуги и были вооружены мечами и копьями, с ними было также три лучника — они уже натянули тетивы и держали стрелы наготове. Если бы тот, слева, выпустил стрелу, она бы пробила насквозь мою грудь и пришпилила бы меня к стоящему за моей спиной Али. От этой мысли меня бросает в дрожь, и в то же время я испытываю возбуждение. Рядом с чиновником возвышается на длинных костылях тот бродяга.
Эдди смотрит чиновнику прямо в глаза.
— По какому праву вы допрашиваете купцов с Востока, явившихся в Лондон по торговым делам?
— Посмотри на мой жезл и цепь, если не знаешь, кто я такой. Я олдермен Томас Джилпин, шериф мостовой стражи, и в мои обязанности входит подвергать аресту преступников и изменников, которые попытаются пробраться в город по этому мосту. Меня не касается, кто эти люди, но ты, Марч, отнюдь не восточный купец, ты — человек, объявленный вне закона актом парламента, и я требую, чтобы ты отдал свой меч и шел со мной.
Марч огляделся по сторонам, обернулся ко мне я увидела вспыхнувшую на его лице кривоватую усмешку, но глаза его сужены, он явно что-то обдумывает. Проследив за его взглядом, я увидела, что вокруг нас собирается толпа и глаза у многих лихорадочно блестят. Часть мужчин были вооружены, и они уже высвобождали мечи и кинжалы из ножен, кто-то целыми корзинами покупал яйца у толкавшихся тут же разносчиков. Эдди возвышает голос и кричит сильным, грудным голосом:
— Неужели вы допустите, чтобы на ваших глазах схватили Йорка, честного подданного короля Гарри, и потащили его в тюрьму? — Одним прыжком он взлетает в седло Генета и ловко выхватывает меч.
— Ни за что! — откликается человек, только что покупавший яйца. Он бросает разом три яйца, два из них попадают в шерифа, и толпа смыкается вокруг воинов, не давая им обнажить мечи. Лучники, правда, выпускают стрелы, но не в нас, а над головами толпы, желая не убить кого-либо из нападающих, а только напугать. Тем не менее одна стрела угодила в плечо женщине, высовывавшейся из окна второго этажа. Кровь и пронзительные вопли жертвы разъяряли толпу, все бросились вперед, Эдди во главе. Он наносит пару ударов мечом стражникам, один из них поскользнулся на валявшейся под ногами кожуре и упал, Эдди заносит меч, чтобы отрубить ему голову.
— Помилуйте, милорд! — кричит несчастный, пытаясь приподняться со скользких камней мостовой. — Я же не враг вашей чести, Богом клянусь!
Эдди приставляет острие меча к нагрудной пластинке этого воина и одним толчком снова опрокидывает его на спину. Понукая Генета, размахивая мечом над головой, он мчится дальше, по Бридж-стрит, опрокинув по дороге прилавок с рыбой серебряные блестки чешуи летят под ноги толпе.
Один из погонщиков, знавших, куда нам следует идти, проводил нас по Крукид-Лейн до Сент-Майкла, а оттуда к западной окраине Ист-Чипа. Эдди поджидал нас там, по-прежнему верхом на Генете и размахивая мечом над головой. Он помчался нам навстречу крупной рысью, прохожие кинулись врассыпную. Шерифа давно и след простыл.
Убрав меч в ножны, Эдди приветствовал нас широкой бесшабашной усмешкой. Он все еще был переполнен восторгом приключения, битвы. Перекинув ногу через седло, он соскользнул на землю прямо передо мной и, к возмущению всех, кто еще принимал меня за восточного монаха, существо мужского пола, крепко поцеловал меня в губы — правда, его поцелуй немногим отличался от прощального привета Лорда Джима. Крепко обхватив меня одной рукой за талию, Эдди прижал меня к себе, к холодной металлической кольчуге.
— Вот здорово! — воскликнул он. — Мне понравилось.
Я сделала три вывода из произошедшего: во-первых, мне это тоже понравилось; во-вторых, я убедилась, что Эдди Марч, при всей его заносчивости, еще мальчишка; в-третьих, мне показалось, что я уже когда-то видела все это или увижу вновь, словно в последние десять минут я пережила нечто постоянно возобновляющееся. Эту мысль я, однако, тут же отбросила, поскольку это было всего лишь обманчивое ощущение, иллюзия, жертвой которой легко может стать усталый, немного растерянный человек. Меня больше беспокоило в тот момент, что Эдди и сам пострадал в этой схватке: на левой руке, пониже локтя, там, где ее не прикрывала броня, виднелась довольно серьезная кровоточащая рана.
— Увы! — вздохнул Эдди несколько часов спустя. — Боюсь, я не сумею сделать то, чего бы мне больше всего сейчас хотелось. Дух мой жаждет, но плоть ослабела от этой чертовой царапины. — Он потянулся правой рукой через грудь — обнаженная, гладкая, как мрамор, грудь, каждая мышца, каждое ребро отчетливо проступает, но волос совсем нет, будто и впрямь этот торс из мрамора, — чтобы пощупать повязки на левой руке.
Я лежу рядом с ним на боку, слегка приподнявшись на локте. Свободной рукой я почти бездумно провела по его груди и животу. Эдди вздрагивает, кожа под моими пальцами слегка съеживается от прикосновения.
— Щекотно!
Наклонившись над ним, я решительно беру его за запястье — крепкое, твердое, с широкой костью запястье, — тяну его руку обратно ко мне, вкладываю свою ладонь в его, поднимаю их вместе к моему лицу, вдыхаю запах, исходящий от его пальцев, принимаюсь их осторожно и нежно сосать. Пальцы Эдди пахнут морем, у них вкус устриц, вымоченных в меду. Я лижу самую середину его ладони, чуть изгибая при этом свое бедро, затем возвращаю его руку туда, где она была прежде.
— Может, ты просто слишком много съел и выпил, — поддразниваю я его.
Мистер и миссис Доутри устроили нам поистине королевский прием. Ничего подобного на нашу долю не выпадало с тех самых пор, как мы покинули дворец калифа в Миср-аль-Каире. Дом олдермена, в нескольких ярдах от Ист-Чипа, на углу Сент-Климент-Лейн, оказался большим трехэтажным строением с высоким скатом крыши, крытой красной черепицей, и деревянными фронтонами. Олдермен с супругой ждали нас у двери, так что мне достались третий и четвертый поцелуй в губы за этот день (на том дело не кончилось). Я начала догадываться, что таков английский обычай. Через узкую, обшитую деревянными панелями прихожую нас провели в зал, занимающий почти весь первый этаж, если не считать кладовых они нужны и для домашних припасов, и для товаров.
Весь день мы ели, предавались различным развлечениям, занимались какими-то делами, приходили и уходили различные люди, в том числе явился врач, забинтовавший Эдди руку. Я не стала открыто возражать против тех идиотских средств, которые он рекомендовал для лечения по всем правилам медицины, и навязывать свои травы и мази, но, когда он наконец ушел, я изготовила питье, пустив в ход наши специи и кое-какие травы из огорода миссис Доутри. Этот напиток избавит Эдди от лихорадки и ускорит выздоровление.
В течение дня Эдди встречался с купцами. Партии Йорков требуются их денежки, а купцы, в свою очередь, рассчитывают на снижение пошлин и на отмену различных стесняющих торговлю предписаний, когда герцог Йорк взойдет на трон или, по крайней мере, в качестве регента отстранит от власти безумного, расходующего все деньги на свои фантазии короля и его злобную, как ведьма, королеву. Эдди не может осуществить переворот без денег; купцы боятся оказать ему поддержку, пока партия йоркистов не пришла к власти, ибо проявить сейчас симпатию к ним — значит буквально положить свою голову на плаху. И вот они сидят и торгуются, и Эдди щедро сыплет обещаниями, исполнить которые не в его силах.
Входит старик с развевающейся седой бородой, в огромной красной бархатной шапке, обмотанной длинным шарфом — шарф спускается ниже и укутывает также шею, ложится на черный бархатный плащ. Старик топочет ногами, сбивая с них снег, и отказывается раздеться, пока не выпьет горячего вина. Ему подносят кварту красного вина с гвоздикой и корицей из наших припасов и с кусочками сушеного яблока, затем он съедает половину подогретой лепешки и тарелку жаркого из кролика, откашливается и отфыркивается, точно кит, обильно сплевывая мокроту в камин. Он стоит прямо перед камином, лишая всех остальных права наслаждаться его теплом. Не обращая никакого внимания на Эдди, старик заговаривает с олдерменом Доутри.
— Чертова Ганза! — рявкает он.
— Верно, верно! — подхватывают остальные.
— Это уж чересчур! — продолжает он.
— Верно, верно! — твердят они.
— Знаете, что они на этот раз затеяли?
— Нет, расскажи нам!
— Английской тканью запрещено торговать к северу и востоку от Везера, если ее привезут не на ганзейском корабле.
— Да ты шутишь!
— Нет, не шучу. Я пристроил парнишку работать на кухне у одного из них, в Стилъярде. У него глаза и уши всегда открыты. Через пару дней об этом будет объявлено официально.
— Немецкие ублюдки, мать их!
— Что нам делать? Нельзя это так оставить. Они уже захватили рынки ткани в Антверпене, Брюгге и Кельне. Наше счастье, если на нашу долю останется хоть десятая часть торговли, — с этими словами Доутри обернулся к Эдди. — Вот видите? Будь у нас король как король, если б он жил в Лондоне или хотя бы в Вестминстере и держал все в своих руках, они бы не осмелились. Что бы вы сделали, будь вы королем?
Эдди ни минуты не сомневался.
— Я бы приказал лорду адмиралу вывести в море наш флот и потопить первый же ганзейский конвой, который осмелится приблизиться к нашим берегам, а сам бы тем временем пригласил этих ублюдков из Стилъярда на обед в Тауэр и не отпустил бы их домой, пока мы не придем к соглашению.
Именно такое заявление они хотели услышать.
Тут Али подошел ближе, покачиваясь и опираясь на свой посох, взял Эдди под локоток и что-то такое зашептал ему в ухо. К этому времени князь Харихара и Аниш уже покинули собрание и удалились в заднюю укромную комнатку дома. Там они засели, наполняя одну посудину за другой, а ведь я предупреждала их — нельзя пить некипяченую воду. Ладно, потом я накормлю их отварным рисом без всяких приправ, и пусть они пососут лимон. Выслушав Али, Эдди кивнул и вновь обернулся к купцам.
— Как же я сразу об этом не подумал, — сказал он, — ведь у лорда Уорика в Кале стоят восемь каравелл с пушками. Полагаю, он мог бы замаскировать их под пиратские суда и…
Переговоры продолжались до двух часов дня, затем миссис Доутри приказала подавать обед, и все гости принялись есть и пить, и это длилось до самого заката. Нас угощали жареным лебедем, осетриной и устрицами, марципанами из миндаля и сахара, только что доставленного на мавританском судне из Малаги, и все это мы запивали сладким вином из тех же краев. Посреди обеда Эдди слегка побледнел и на его лице выступил пот. Я посоветовала ему отправляться в постель, он было заспорил, но сдался, когда я пообещала подняться вслед за ним и убаюкать его.
И вот мы лежим рядом, и его человечек все растет, о, он уже совсем большой, он гордо вздымается над его животом, точно мачта корабля, он слегка покачивается так оно бывает у юношей, когда копье наливается кровью и вторит каждому удару сердца.
— Но я не могу спать с тобой! — жалуется он. — Чертова рука, я не смогу удержаться на тебе, я не смогу сделать, как следует!
— Как следует? — переспрашиваю я, умиляясь невинности этого семнадцатилетнего мальчика. — Что значит — как следует?
Я закидываю ногу ему на живот. Внутренняя сторона моего бедра влажно блестит при свете свечи, словно кожица спелого персика. Встав на колени над моим любовником, я прихватываю теми, розовыми губками кончик его петушка, опускаюсь пониже и вновь подымаюсь, дразня его, а затем вновь опускаюсь, принимая его в себя, — но он, дурачок, тут же выскальзывает, и мне приходится начинать все сначала.
Глава двадцатая
На следующий день лихорадка у Эдди усилилась. Не из-за наших любовных забав, смею вас заверить, а потому, что грязь и холод на этом жалком чердаке, куда нас запрятали, вызвали воспаление. Края раныслегка покраснели, оттуда начал выделяться желтый гной, а затем бесцветная слизь, Эдди жаловался то на жар, то на холод, сильно потел и ужасно мучился от жажды. Ему было так скверно, что миссис Доутри вообразила, что он заразился чумой, и хотела даже выгнать его из дома. Однако ей напомнили, что зимой, когда морозит ночь напролет, да и днем по большей части холодно, вспышек чумы не бывает. Как бы то ни было, Эдди промаялся три дня, и за это время никто больше не заболел.
Кстати, я догадалась, почему зимой не бывает чумы, только эти люди мне не поверили. Полагаю, чуму переносят мухи, а мороз убивает мух — вот и все.
Болезнь Эдди сделала наши любовные игры еще более увлекательными. Я раздевалась донага, согнувшись в три погибели, потому что балки нависали так низко, что даже мне, с моим ростом, невозможно было распрямиться, и ледяные порывы ветра, врывавшиеся в щели маленького окна, жалили меня, точно разъяренные насекомые, а затем я ложилась в постель и прижималась к горячему, раскаленному лихорадкой телу Эдди. Я все еще помню продавленные соломенные матрасы, покрытые сверху зеландской периной из гагачьего пуха, груду шерстяных одеял и шуб, уютную пещерку, наполненную запахами пота и семени, моих любовных соков и сладковатым, почти выветрившимся запахом мочи и кала. Ненадолго мы затихали, я опускала голову ему на плечо, из моего носа прямо на простыни бежала белая струйка, наше дыхание, смешавшись, поднималось облачком пара, и тусклый свет превращал его в нимб над нашими головами, а под крышей дома ворковали голуби — гули-гули, — и мыши шуршали за стенкой. Струйка из носа? Ну да, я простудилась. В этом холодном, влажном климате все хлюпали носами.
У миссис Доутри имелась и еще одна причина торопить Эдди с отъездом: он принадлежал к партии Йорка. Хотя горожане в большинстве своем держали сторону Йорка, в Тауэре стоял военный гарнизон под командой лорда Скейлза, верного королю. Скейлза и его солдат тут не любили, но если б он узнал, где прячется Эдди, и явился бы сюда с сотней солдат — а всего лишь семь кварталов Ист-Чипа отделяли нас от Тауэра, — он успел бы схватить Марча прежде, чем на выручку к нему поднялось бы ополчение горожан. Во всяком случае, миссис Доутри опасалась этого, и муж вторил ей.
Все остальные времени зря не теряют. Аниш и оба его секретаря, родом с Малабарского побережья, тощие, замученные службой юноши, слепнущие от работы над бухгалтерскими отчетами и к тому же переписывающие послания князя при тусклом даже в полдень свете, трудятся над деловыми бумагами, притворяясь, будто у них хлопот по горло, — на самом деле они вот уже в восьмой или девятый раз сводят баланс и опять находят какие-то ошибки. Князь молча восседает в большом кресле во главе стола, и это выводит из себя олдермена, поскольку вообще-то это его место. Олдермен барабанит пальцами по столу и таращится куда-то вдаль, пытаясь изобразить на лице благородную меланхолию. В действительности он просто охвачен страхом и к тому же страдает от хронического несварения желудка.
Я постаралась облегчить его страдания с помощью мятного настоя. Мяту я купила у аптекаря на Поултри-Лейн. Видели бы вы эту аптеку! По стенам развешаны чучела черепахи и небольшого крокодила, чьи-то мочевые пузыри, горсткой навалены какие-то семена, и все сплошь грязное. В Виджаянагаре такую лавочку закрыл бы санитарный контроль.
Миссис Доутри, столь радушно принявшая нас в день приезда, суетится по хозяйству ее работа состоит главным образом в том, чтобы школить прислугу, — и непрерывно бормочет что-то насчет патрулей, которые королева, конечно же, расставит по всей Уолтинг-стрит, к северо-западу от ее дома, и по Эрмин-стрит — это к северу, словно только этим путем мы и можем отправиться отсюда в те края, куда мы хотели попасть. Супруга олдермена никогда не выезжала из Лондона и даже не в состоянии представить себе место, чем-либо отличающееся от столицы.
Олдермен Доутри, виноторговец, занимающийся преимущественно сладкими испанскими винами, портвейном и малагой, не показывается из своей конторы, расположенной в задней части дома. По его поручению помощники то и дело бегают в гавань, провожают отплывающие суда и встречают вернувшиеся с товаром, а сам Доутри делает вид, что страшно занят и по этой причине вот уже третий день не покидает дом, но на самом деле он сидит взаперти, потому что не хочет повстречаться с другими олдерменами, а также с людьми, отвечающими за соблюдение закона в Сити. Они начнут расспрашивать его о нашем местопребывании, а лгать Доутри не умеет. Похоже, нам оказали гостеприимство в уверенности, что мы задержимся здесь только на одну ночь.
Среди слуг нашелся предатель — так оно всегда и бывает. На третью ночь стражники явились за нами, то есть за Эдди, и были прекрасно осведомлены, в какой комнате его следует искать. Мы слышали, как они топают по Ист-Чип, как раз в тот момент, когда мы…
— Эдди, — сказала я ему, — слышишь, как звенят уздечки и цокают копыта? Это солдаты.
Но он наконец-то сумел «сделать все как следует», то есть заставил меня улечься на спину и раздвинуть ноги, приподняв и согнув колени, а сам навалился на меня сверху, опираясь на ладони и локти, и давай толочь меня, двигаясь взад и вперед, точно пестик в ступке. Ни он, ни я не получаем от этого такого удовольствия, какое мы получали, пока этим занятием руководила я. Хорошо хоть, после того как мы дважды сделали это по-моему (двумя разными способами, разумеется), я осталась влажной и готовой принять его — по крайней мере, я не испытываю особого неудобства, но, должна сказать, если б не я сама позволила ему это, я бы назвала происходящее не совокуплением, а насилием.
На свою беду, я научила его сдерживаться как можно дольше, и теперь это может погубить нас обоих.
— Ну же, Эдди, — кричу я (а они уже стучат в большую входную дверь нашего дома), — кончай скорее!
Как видите, я научилась говорить по-английски не хуже местных.
— Нет, черт побери! — бурчит он. — Не позволю им меня торопить, — и продолжает все так же монотонно тыкаться в меня.
Грохот все отчетливее, все ближе. Они вошли в дом. Слышен грохот бьющейся посуды. Я догадываюсь, что с большого стола на пол слетело то мавританское блюдо, расписанное зеленым и лимонно-желтым орнаментом, которым так гордится миссис Доутри. Я знаю, что рачительная хозяйка не вынесет подобного ущерба и не станет рисковать прочими сокровищами. Сейчас она кивком головы указывает солдатам путь. Они уже топают по первому пролету украшенной резьбой лестницы.
Их отделяют от нас только два пролета более узкой лестницы первая часть ее выходит из квадратного отверстия в потолке первого этажа, второй пролет лестницы упирается в порог низенькой дверцы, открывающейся прямо в наш приют любви.
Бум-бум-бум — грохочут сапоги по лестнице. Бум-бум-бум стучится Эдди в меня. Голоса, грубые, хриплые, перемежающиеся кашлем, словно камешки перекатываются, слышны уже на втором этаже.
— Он там, милорд. По той лестнице. За той дверью, мать его!
Пауза, затем раздается другой голос, чуть картавящий нормандский выговор:
— Выходи, Эдди. Мы же знаем, ты здесь. Будь умницей, выходи.
— Этот ублюдок Джон Клифорд! — шепчет мне на ухо Эдди, а затем орет: — Поди к чертям, Клифорд! — И снова мне в ухо: — Этот ублюдок меня ненавидит. Он сам мне отрежет яйца, прежде чем передать палачу.
Но даже эта мысль не заставляет его остановиться.
— Эй, парень, неси топор! — раздается снаружи.
А рядом с моим ухом:
— Его отец погиб при Сент-Олбансе[131]. Он не любит Йорков. — Эдди продолжает свое дело, приговаривая: — Сейчас, сейчас.
Снаружи вопль:
— Гляньте там, у очага в большом зале! Топот ног, они бегут сперва вниз, затем снова вверх по лестнице.
— Дай сюда! — Удар, еще удар, деревянная дверь начинает поддаваться, щепки летят прямо мне в голову, на миг я успеваю заметить блеск врубающегося в дверь топора. Затем раздается вопль торжества. Вернее, два вопля.
Снаружи:
— Е-е-есть! Прямо мне в ухо:
— Е-е-есть!
Еще одна планка отлетает от двери. Эдди скатывается с меня, рывком поднимает меня с постели — оба мы наги, словно новорожденные, — хватает сундук, стоящий у изножья постели, и с силой бьет им в потолок. Вторым ударом он ломает стропило, и в дыру между двумя балками сыплется град черепицы. Сундук по-прежнему у Эдди в руках, он разворачивается и обрушивает его на человека, пытающегося прорваться сквозь образовавшийся в двери проем. Клифорд громко кричит и, судя по грохоту, падает с лестницы. Я слышу нежный, таинственный звон и понимаю, что сундук открылся и из него на Клифорда пролился золотой поток.
Эдди уже выбрался на крышу, он протягивает руку, чтобы увлечь и меня вслед за собой, хватает меня за голое предплечье, тащит. О Шива, как здесь холодно! Я скольжу по коньку крыши сидя на заднице, а Эдди едет вслед за мной и в какой-то момент чуть не обрушивается прямо на меня. Он помогает мне подняться на ноги, и одно мгновение я радостно вбираю в себя все это ночь и звезды, сотни крыш под нами, шпили, вознесшиеся к небесам, восходящую, почти уже полную луну, серебряную ленточку реки далеко внизу, нити дыма — не во всех домах успели погасить очаги. И вновь я чувствую холод, ледяная струя воздуха врывается в мои легкие, мороз ножом пронзает голые руки и ноги.
— Вперед!
Лондонцы до смерти боятся двух напастей — чумы и пожара. Из страха перед пожаром на стенах больших домов, стоящих в стороне от проезжих улиц, закрепляют лестницы, чтобы люди могли выбраться из окон, даже из окон верхних этажей, и добраться до земли. Ближайший к нам подоконник находится на пять футов ниже, а лестница еще на три фута ниже его. Эдди лезет первым, хватаясь окоченевшими пальцами за карниз, я свешиваю с крыши ноги, и Эдди помогает мне нащупать подоконник. Стена здесь грубая, шероховатая, она царапает мне грудь. Стопам щекотно. Окно окружает рама из кирпичей, и мне удается пальцами левой руки нащупать щель между ними.
Нужно спрыгнуть. Подо мной крыша пристройки, она плоская, а не сводчатая, как крыша главного здания. В этот момент происходит несколько событий.
С улицы через ворота, ведущие во двор, входит Али. Поглядев на нас единственным сверкающим в темноте глазом, он машет нам рукой и сворачивает в конюшню. Клифорд полагаю, это именно Клифорд появляется на крыше у нас над головой и вновь скрывается в доме. Он что-то кричит, но я не различают слов. Сейчас он бежит по лестнице, окликая солдат. Из конюшни выныривает Али, он ведет на веревочной уздечке Генета. Эдди, лишь мгновение поколебавшись, спрыгивает голой задницей на спину жеребцу. Генет встает на дыбы, но Эдди, повиснув у него на шее, ухитряется подобрать поводья. В проходе за спиной Али появляются солдаты. Али отступает в сторону, а Эдди, понукая коня коленями и пятками, гонит его прямо на стражников.
Грохот оружия и доспехов, стук копыт, высекающих искры из камней, безумное ржание — и лошадь со всадником растворяются в ночи, а солдаты лишь делают вид, будто пытаются их преследовать.
Али подходит поближе и смотрит на меня искоса, снизу вверх.
— Ты простудишься насмерть, — предупреждает он и здоровой рукой помогает мне слезть, придерживая меня своей изувеченной рукой, пока я не касаюсь носками холодных камней. Тогда он стаскивает с себя вонючую старую шубу и заворачивает меня в нее.
— И этого, мой дорогой Ма-Ло, вполне достаточно для одного вечера.
Я глубоко вздохнул и очнулся. Ума была права — рассказ затянулся, но я был столь поглощен этими событиями восьмилетней давности, что перестал понимать, где я сам нахожусь. И вот я вновь оказался в саду Али — сад все такой был, — вот сидит сам Али, по другую сторону стола, в тени дерева. Кажется, он задремал. Слегка пошевелился, негромко выпустил газы, приоткрыл уцелевший глаз.
— Попроси Муртезу привести детей, — обратилась к нему Ума. — Мне пора идти.
Али позвонил в колокольчик. Слуга-нубиец явился на зов, выслушал приказание господина и удалился.
— Рада была посидеть с вами, — произнесла Ума, вставая и наклоняя голову в прощальном поклоне.
Я поспешно вскочил.
— Потрясающе, замечательно, чудесно, — забормотал я. — Вы еще… когда вы…
— Я вернусь, когда наступит пора снова вплести мою нить в повествование Али.
Она пошла прочь — мимо украшавших сад флагов, мимо небольшого фонтана, распахнула резную сандаловую дверь, и по ту сторону сада я на миг увидел двух детишек, державшихся за большие черные ладони Муртезы. Нубиец передал мальчиков матери, идверь захлопнулась.
Мы долго молчали, потом я вновь глубоко вздохнул.
— Она рассказала хорошую историю, верно? — пробурчал Али.
— Да, — подхватил я, но потом призадумался и спросил: — И все это правда?
— Чистая правда. Почему ты вдруг засомневался? — И приподнял бровь.
— Не знаю. Твою историю рассказывают несколько голосов. Сперва ты сам, потом письма князя и вот теперь Ума. Мне видится в этом какая-то уловка, вымысел.
— Вымысел? Что ты этим хочешь сказать?
Глава двадцать первая
Я еще раз огляделся по сторонам, присмотрелся к фантастическим драконам и прочим чудищам, украшавшим фронтон дома Али, и меня охватила дрожь. Хорошо, решил я, если число рассказчиков не превысит трех, я готов следовать за ним, но если явится еще и четвертый, если каждый из них сидит внутри другого, как в китайских коробочках… Я уселся поудобнее, потянул носом воздух, вспоминая запах духов, которыми пользовалась Ума.
— И что же ты сделал? — напомнил я.
Али отпил глоток лимонада и поглядел на меня, заслонив лицо позолоченной чашей.
— Дорогой Ма-Ло, — негромко сказал он, — вот уже десятый день ты приходишь послушать мою историю, но мне кажется, после столь занимательного рассказа Умы тебе вряд ли захочется вновь скучать со мной. Я не столь самонадеян, я понимаю, что мне недостает иприсущей ей красоты слога, и юного энтузиазма.
Я сообразил, что, усомнившись в подлинности этих приключений, я больно задел старика, и поспешил его уверить, что всецело поглощен его воспоминаниями и безусловно верю каждому слову.
— Что ж, хорошо. — Али поставил чашу, вытянул ноги, подставляя их длинным косым лучам солнца, сплел здоровые и иссохшие пальцы на впалом животе и откашлялся.
— Я отнес бедняжку в дом, — он продолжил рассказ точно с того места, на котором Ума остановилась, — усадил ее в кресло перед огнем, расшевелил угасающие поленья, подбросил новые дрова в очаг и пошел за горячим питьем для нее. Когда я уходил, в главном зале в доме олдермена Доутри никого не было, за исключением двух лохматых белых собачонок, вечно шнырявших повсюду и норовивших почесать свои яйца о ноги всякого, кто имел неосторожность сесть рядом с ними, но, вернувшись с кружкой горячего вина для Умы, я застал там целое собрание. Похоже, всех разбудил этот переполох.
Князь Харихара занял большое кресло во главе стола, и олдермен, как всегда, разозлился, потому что это было его место. Князь был одет в ночную рубашку, отделанную кружевами, и в бархатный колпак, украшенный кисточкой, — и то и другое он приобрел в Венеции. Длинные черные волосы и лоснящиеся щеки так и блестели при свете масляных ламп. Рядом с князем Аниш трясся от холода, кутаясь в бобровую шубу. На другом конце стола билась в истерике миссис Доутри, а олдермен стоял рядом с Умой, повернувшись спиной к очагу. Он был сильно напуган и зол, но тем не менее украдкой поглядывал на Уму — хотя я укрыл девушку шубой, она ухитрилась распахнуться почти до груди. Мне очень хотелось рассеять сомнения старого дурака: дескать, да, так оно и есть, это женщина, и под шубой на ней ничего не надето.
Князь перехватил меня, когда я проходил мимо с чашей вина для Умы.
— Значит, Эдди Марч сбежал?
— Похоже на то.
— Он не вернется?
— Думаю, что нет.
— Марч не вернется! — завизжала миссис Доутри. — Если он здесь появится, нас четвертуют!
Она не могла понять наш разговор, но ей достаточно было услышать имя Марча.
Князь, не обращая никакого внимания на вздорную женщину, продолжал:
— Итак, Али, мы лишились проводника, который должен был указать нам путь на север страны.
Я выразил полное согласие со словами моего высокого повелителя.
— Мистер Доутри попросил нас покинуть его дом до рассвета. Весь вопрос в том куда нам идти?
Я расслышал в его голосе дрожь — усталость, тревогу, быть может, даже страх. Внезапно я понял, что силы князя на исходе: он оказался за тысячи миль от дома, лишился почти всех привилегий, привычных его сану, все вокруг казалось ему чужим и пугающим — люди и язык, погода и пища, а теперь он вдобавок связался с мятежником и заговорщиком. Сам-то я всю жизнь провел в дороге, и для меня не только Ингерлонд, но и Виджаянагара была чужой страной. Мне пришлось вспомнить об этом различии между мной и моими спутниками — ведь до сих пор князь Харихара и Аниш справлялись со всеми трудностями, теперь же они явно мечтали только об одном: вернуться к реке, переплыть на другую сторону моря и возвратиться домой, в тепло, покой, безопасность, исполненное достоинства существование.
Ума чихнула.
Я пустил в ход весь свой скудный запас английского языка, чтобы уговорить олдермена Доутри.
— Сэр, — сказал я ему, — нельзя требовать, чтобы князь и его свита покинули ваш дом до рассвета, однако, если вы предоставите нам отсрочку до вечера, я сумею найти в Лондоне людей, которые нас примут.
Он еще поворчал главным образом, чтобы угодить супруге и согласился, тем более что я предложил ему выкупить остававшиеся у нас специи и приправы, чтобы у нас были деньги на дальнейший путь. Олдермен предложил пятую часть их рыночной цены, но я, поторговавшись, выбил-таки треть их стоимости — сорок пять фунтов. Меня это устраивало: избавившись от тяжелой поклажи, мы могли нанять меньше мулов и меньше погонщиков и не так бросаться в глаза на пути. К тому же сорок пять фунтов — немалая сумма, нам бы хватило ее и на пищу, и на другие потребности в течение месяца, и у нас к тому же оставались маленькие мешочки с драгоценностями.
Но мне предстояло еще осуществить задуманный мной план, а Ума все еще сидела в зале, закутанная лишь в мою шубу. Хотя почти все присутствовавшие там знали, кем была Ума на самом деле, каждый из мужчин был убежден, что о ее тайне осведомлен только он, поэтому я счел полезным и впредь притворяться перед несведущими, будто она мужчина. Обменявшись с ней парой слов по секрету, я провел Уму по главной лестнице (ступени все еще были усыпаны разбитыми украшениями, обломками сундука и даже золотыми изделиями, которые никто не потрудился подобрать), а затем по маленькой лестнице на чердак, где она спала вместе с Марчем. Пока я любовался сквозь проделанную Марчем дыру в крыше рекой, серебрящейся под заходящей луной, извивающейся к югу, в сторону двойных башен Вестминстера, Ума сняла с себя мою шубу и переоделась в монашеское платье.
— Что ты собираешься делать? — спросила она. — Каких друзей надеешься здесь найти? — И, не дожидаясь ответа: — Не важно, я и сама знаю. Я пойду с тобой.
Усмехаясь, она натянула поверх монашеского одеяния красивую соболиную шубу, брошенную Марчем, а я надел свою меховую накидку из шкурок лисицы и мускусной крысы, все еще хранившую тепло и запах ее тела. Мы тихонько прошли через кухню и прилегавшие к ней помещения, через двор, вышли в ворота на улицу Ист-Чип, повернули направо на Кэндлвик, а затем миновали перекресток и вышли на Бадж-Роу. Впереди мы видели шпиль собора Святого Павла, высокую тонкую иглу с нанизанной на нее апельсинового цвета луной. Здесь мы свернули налево.
— Я знаю, куда мы идем, — промолвила Ума, сжимая мою руку. В ее голосе слышалось ликование.
— Да?
— Ты следуешь знакам.
— Каким знакам?
— Маленьким красным сердечкам. Она угадала. На каждом перекрестке или повороте красное сердечко, нарисованное, выведенное мелом или вырезанное из материи и подвешенное высоко на каком-нибудь здании, подсказывало мне, следует ли продолжать путь по прямой или же пора свернуть. Я бы не сумел разглядеть эти знаки в темноте, но я прошел по этому маршруту накануне, я всегда проводил подобного рода разведку, попадая в большие города, начиная с Венеции. Так мы с Умой продолжали путь, позади нас небо начинало уже светлеть, маленькие пташки в ветвях деревьев встрепенулись и запели, в отдалении лаяла собака. Мы свернули в боковую аллею, такую узкую, что по ней не проехала бы лошадь или даже ослик с тележкой. Мы покинули город торговли и политики, закона и порядка, общепризнанной религии и оказались в некоем параллельно существующем мире, в мире, где человек только и бывает самим собой, — в тайном мире братьев Свободного Духа.
На Нидлерз-Лейн мы нашли маленькую церквушку, зажатую между высоких домов — их верхние этажи нависали над ней. Это была церковь Св. Бенета, а рядом с ней церковь Св. Пан-краца. Вторая церковь тоже была маленькой, не больше того святилища слоноголового божества Ганеши, в котором я отдохнул в первый день пребывания в Виджаянагаре. Правда, выглядела эта церковь совершенно иначе.
Под полукруглой аркой, украшенной изображениями дьяволов и погибших душ, пряталась низкая двустворчатая дверь. Бронзовый, искусно сделанный молоток представлял собой руку, сжимающую мяч. Я трижды отрывисто постучал в дверь, а потом ударил еще один раз, посильнее. Мы прислушались. Пара черных крыс шуршала поблизости, не слишком напуганная нашим появлением. С той стороны двери кто-то отодвинул запоры — почти бесшумно, они были хорошо смазаны, — круглая ручка двери слегка повернулась. Мы не слышали шагов, петли не скрипели, деревянная дверь не царапала каменный пол.
— Истины нет, — произнес я.
— Все разрешено. — На пороге появилась фигура в монашеском плаще. — Входи, брат Исмаил, и пусть твой спутник тоже войдет.
Лампа в руках монаха на миг осветила квадратный неф церкви, через который он нас вел, тени заплясали на приземистых колоннах с резными капителями. Как я уже говорил, я побывал здесь раньше, при дневном свете, но в сумраке и отблесках огня примитивно изображенные, разрисованные яркими, без оттенков, красками бесы, сосущие собственные гениталии, казались еще омерзительней. Я в очередной раз подивился различию между символами этой религии и теми скульптурами и фресками, что я видел в Виджаянагаре. Там само тело казалось свободным и счастливым, здесь оно было уродливым и греховным… Но не будем вдаваться в рассуждения о религиозном искусстве. Хочу только отметить, что единственным образом, вызвавшим у меня приятные эмоции, было изображение Марии над алтарем в приделе церкви, куда увлек нас за собой наш проводник. У нее был прелестный рот, тяжелые приспущенные веки, наряд цвета морской синевы и серебряная корона. Богиня стояла на полумесяце, тонком, словно серп, и улыбалась всезнающей улыбкой — чувствовалось, что она познала в жизни больше, чем пожелает нам сообщить.
За кафедрой проповедника мы обнаружили винтовую лестницу, она уводила вниз, к деревянной двери, а за дверью открывалась крипта, то есть подвал под церковью. Большая крипта проходила под обеими церквями, ряды ничем не украшенных колонн, поддерживавших низкий сводчатый потолок, делили ее на несколько отсеков. В крипте находилось примерно три десятка гробниц, похожих на огромные каменные шкатулки. Алтаря здесь не было. Тут было прохладно, и, хотя воздух несколько застоялся, дурных запахов я не ощутил. В одном углу пристроилось семейство бродяг мужчина, две женщины, трое детей и собака. Они накрылись кучей тряпья и рваными шубами, стараясь согреться. Наш спутник уселся на одну из гробниц и поставил лампу на пол.
— Это брат Абрахам, — представил я его Уме, — брат Свободного Духа.
— Я знаю, — ответила она. — Я догадалась, что он брат Свободного Духа. — И она ласково улыбнулся Абрахаму. Откинув капюшон, монах показал приятное худое лицо с проступившими на нем морщинами — и от улыбки, и от аскетической жизни. Прямые поседевшие волосы обнажали лысину на макушке, так что брату Абрахаму не было нужды выбривать себе тонзуру.
Когда монах не улыбался, его лицо казалось строгим, даже скорбным, но улыбался он легко и открыто.
— Итак, — сказал он, откашлявшись, — какая помощь нужна тебе, брат Исмаил?
Я поведал ему то, о чем не стал рассказывать при первом визите, то есть о нашем намерении пробраться на северо-запад страны и разыскать Джехани, брата князя Харихары. Ума продолжила мою повесть, сообщив о том, как нашего проводника Эдди Марча чуть было не схватили стражники королевы во главе с лордом Клифордом, но ему удалось бежать, и враги не сумели его разыскать, однако теперь хозяин того дома, в котором мы остановились, и его супруга боятся, что люди короля в любой момент могут возвратиться, и потому они хотели бы немедленно снарядить нас в путь.
Абрахам покивал головой, в задумчивости помял двумя пальцами верхнюю губу.
— У нас есть брат родом с северо-запада, — сказал он, дослушав наш рассказ, — его зовут Инек, он странствующий рыботорговец и до полудня работает на Рыбной верфи в конце Паддинг-Лейн, неподалеку от Биллинсгейт. Я пошлю человека к нему домой и попрошу, чтобы его жена направила его к нам, как только он вернется. Это вам подходит?
Мы с Умой переглянулись и пожали плечами.
— Почему бы и нет?
До встречи с рыботорговцем не было никакого смысла возвращаться в Ист-Чип, поэтому мы приняли приглашение брата Абрахама и оставались в крипте до прихода Инека. Само собой, беседа наша перешла в обсуждение духовных материй. Абрахам был одним из адептов учения о жизни, и ему очень хотелось как можно больше разузнать о Виджаянагаре, показавшейся ему, судя по нашим описаниям, небесным градом. Все, что он узнавал о родине Умы, укрепляло его в той изнурительной повседневной борьбе, которую приходится вести всякому, отказавшемуся от официальной веры своей церкви и своей страны. А нам с Умой очень хотелось услышать о том, что означает подобный отказ в Ингерлонде.
— Али, о чем идет речь? — не выдержал я.
— Мой дорогой Ма-Ло, разве мы еще не говорили о трех великих орденах свободных людей?
— Понятия не имею, о чем ты говоришь. Какие три ордена?
— Братья Свободного Духа, ассассины, то есть избранные представители исмаилитов[132] и суфистов[133], и, наконец, душители-таги.
— Я слыхал об ассассинах и тагах и догадывался, что ты симпатизируешь ассассинам, а то и принадлежишь к их числу. Но послушать тебя — так речь идет о каком-то всемирном заговоре.
Али весело рассмеялся.
— Это совершенно немыслимо. Главный принцип всех трех орденов — полная свобода каждого члена. Только одно правило обязательно для всех: если ты встретишь человека с таким же образом мыслей, ты должен ему помочь. Заговорщикам нужны правила, планы, послушание, а мы более всего на свете ненавидим необходимость подчиняться.
— Я все равно ничего не понял, так что лучше вернуться к твоей повести. Ты остановился на том, как ты спросил Абрахама о делах его ордена в Ингерлонде.
— Плоховато, — вздохнул Абрахам, пытаясь поудобнее устроиться на холодном камне. — Почти во всех краях страны нам пришлось уйти в подполье. Слишком многих за последние полстолетия инакомыслие привело на плаху и костер. И все же есть немало людей, придерживающихся убеждений Джона Уиклифа[134], хотя они и не следуют, как мы, по указанному им пути и не исповедуют открыто свою веру, как делали их отцы и матери. Любой проповедник-лоллард[135], стоит ему произнести речь на церковном дворе, у ворот города или даже на рынке, привлечет толпу слушателей и возбудит в них желание, если не готовность, подняться против короля и епископов, подобно Уоту Тайлеру, Джону Боллу, Джеку Строу и Джону Кэду и тем тысячам, что следовали за ними.
— Насколько же далеко готовы они пойти по пути Свободного Духа? — спросила Ума.
— Не слишком далеко. Речь пока идет лишь о том, чтобы здраво судить о доктринах церкви. Многие отрицают присутствие Иисуса в причастии, говоря, что Бог не может превращаться в пищу, доступную для собак и крыс. Они начинают догадываться, что право священников торговать прощением грехов противоречит Писанию, и сама идея Чистилища, откуда богатые люди могут выкупить свои души, заказав какое-то количество месс, отвратительна и противоречит разуму. Люди говорят, что целибат[136] священников и монахов порождает противоестественные грехи, а монахини прибегают к абортам и детоубийствам. Самые решительные считают злом любую войну, называя ее убийством и грабежом бедных ради славы королей. Изготавливать оружие тоже дурное дело.
— Но это лишь отрицание, отказ, — воскликнула Ума. — А чем они собираются заменить все это?
— Некоторые рассуждают и об этом — у себя дома, в компании двух-трех ближайших друзей. — Если Абрахама и удивила настойчивость Умы, он ничем этого не показал, разве что голос его сделался еще мягче, словно он пытался успокоить девушку. — К примеру, они отвергают брак не из похоти и распущенности, как твердят наши враги, а потому, что с женщинами нельзя обращаться как с собственностью или скотом; они говорят также, что собственность должна стать общей, а законы и обычаи пусть устанавливает общий совет, а не прихоть королей, лордов и епископов.
— Какие сословия поддерживают братьев Свободного Духа?
— Это могут быть люди всех сословий, от пахаря и дворянина — и вплоть до лорда. Восемьдесят лет назад Джон Гонт, прадед нынешнего короля, правивший тогда страной в качестве регента при короле Ричарде, заступился за Джона Уиклифа. Другой лорд — Кобем, или сэр Джон Олдкасл, так он звался до женитьбы следовал учению лоллардов, но сорок пять лет назад его сожгли по приказу отца нынешнего короля. Хуже того, власти представили его пьяницей, трусом и негодяем. Ему дали прозвище Фальстаф, и после смерти он сделался всеобщим посмешищем.
На миг печаль омрачила лицо монаха, и он продолжал свой рассказ:
— В нынешние времена мы почти ничего не можем достичь. Все дело в постоянных раздорах и войнах между могущественными лордами. Сто лет назад нашу страну посетила чума, людей осталось немного, едва хватало крестьян для обработки земли, так что заработки повысились, а цены на хлеб упали. Лорды теперь норовят захватить чужие владения, и, вместо того чтобы обсуждать дела в парламенте и служить королю, они воюют. Крепкий мужчина может получить неплохое жалованье, если поступит на службу к тому или иному господину, в случае победы он может рассчитывать на хорошую поживу, на свою долю в выкупе, полученном за пленников, на награду, а то и на собственный клочок земли, а если он окажется среди проигравших, он спасется бегством и будет дожидаться другого раза. Из-за этих войн закон и гражданский порядок сохраняются разве что в Лондоне и еще в нескольких больших городах. Получается, что людям нет причин восставать против общественного уклада, они могут получить всевозможные выгоды от царящей ныне примитивной и жестокой анархии какой же смысл стремиться к той более возвышенной и благородной анархии, что мы проповедуем, и рисковать жизнью ради нее?
Так мы продолжали беседовать, пока не прошли последние мрачные и темные часы перед рассветом, пока не взошло солнце и мы не услышали звуки пробудившегося города, отнюдь не напоминавшего град небесный: стук подков, блеяние овец, ведомых на заклание, скрип тележных колес, вопли уличных разносчиков и прочая суета этого уродливо разросшегося города, этого гнойника, в самом центре которого мы оказались.
Брат Абрахам как раз принялся объяснять нам, насколько чтимым является место, где мы укрылись: одна из сдвоенных церквей была построена во славу мальчика-святого Панкраца, и его палец хранился здесь в реликварии. Он сказал также, что эта церковь — первая из освященных в Альбионе святым Августином, а стоит она на месте древнего храма — этот храм существовал еще прежде Юлия Цезаря, выстроившего лондонский Тауэр. Насколько Абрахаму известно, храм заложил легендарный бриттский король Луд, который начал строительство английской столицы и на самом деле был не королем, а речным божеством.
Семейство нищих, переночевав в крипте, поднялось на ноги, и все они молча, тихонько пошли прочь — сперва мимо нас, затем по каменным ступеням к двери. Я смог рассмотреть их вблизи, когда их тела и лица не скрывали лохмотья и выношенные одеяла, и по смуглой коже — гораздо темнее моей, почти коричневой, как у Умы признал в них цыган. Куда подевался остальной табор, почему эта семья отделилась от него?
Снаружи шум становился то громче, то тише, по мере того как люди там, наверху, распахивали дверь церкви и входили, чтобы помолиться перед образом в боковом приделе, перед Марией, Матерью, Изидой, Иштар, Парвати, а мы, укрывшись под каменным полом церкви, продолжали свой разговор в ожидании Инека — рыботорговца. Вернувшись к той теме, которая более всего занимала наши мысли и чувства, к разговору о совершенном обществе, Абрахам принялся вспоминать об Ингерлонде, каким он был до вторжения нормандцев — сельская страна, примитивная жизнь, но столь же счастливая, столь же благословенная, как тот Небесный Град, о котором мечтали все мы и который воплотился в Виджаянагаре подобно тому, как в императоре и императрице воплотились божества Вишну и Парвати.
Мы сравнили также те пути, по которым к нам и к известным нам посвященным пришло сокровенное знание, и убедились, что пути эти весьма различны и начала их совершенно не схожи друг с другом.
Глава двадцать вторая
В Ист-Чипе меня дожидалось письмо:
«Али,
сегодня утром после твоего ухода олдермену Доутри нанес визит лорд Скейлз, комендант Тауэра, пожилой человек крепкого сложения, явившийся в сопровождении отряда солдат. Он предложил Анишу, немногим оставшимся у нас слугам и лично мне более удобное помещение, чем то, которым располагает олдермен, — в Тауэре (оказывается, это не только крепость, но и королевский дворец).
Он был разгневан тем обстоятельством, что мы пользовались в Кале гостеприимством Ричарда Невила и Эдуарда Марча и вчера вечером способствовали бегству Марча. Однако я напомнил ему, что Аниш и я сам принимали участие во всем этом лишь постольку, поскольку доверялись единственному из наших спутников, имеющему какое-то представление об Ингерлонде, то есть тебе. Полагаю, он понял меня.
Мы не пропадем: у нас остались деньги после продажи товаров и в тайнике скрыто еще немало драгоценных камней. Кое-что я оставляю тебе под моим матрасом в надежде, что ты используешь их на благо нашей экспедиции, цели которой тебе хорошо известны. Советую тебе, однако, оставаться среди приверженцев Йорка, так как люди короля будут теперь считать тебя своим врагом.
Не сомневаюсь, что мы встретимся вновь при более благоприятных обстоятельствах. Прими мои наилучшие пожелания и передай мою глубочайшую признательность (это слово было решительно вычеркнуто и заменено на «уважение») своему достопочтенному спутнику.
Харихара, Виджаянагары, двоюродный брат и полномочный представитель Его Небесного Величества Императора Малликарджуны».
Эти строки управляющий князя Аниш успел набросать на обороте старого счета — только такой клочок бумаги олдермен и сумел разыскать по его просьбе в те несколько минут, которые лорд Скейлз предоставил моим друзьям на сборы, прежде чем отвести их в Тауэр.
Стараясь не прислушиваться к воплям миссис Доутри, желавшей как можно скорее прогнать нас из своего дома, я обернулся к брату Абрахаму, сопровождавшему нас из церкви Сент-Панкрац в Ист-Чип и принялся расспрашивать его.
— Можно ли вытащить их из Тауэра?
— Нет, — отвечал он. — Оттуда никому не удастся ускользнуть без сговора со стражниками.
— Со стражниками? Так Тауэр не только дворец, но и тюрьма?
— Да. Преимущественно для государственных преступников.
— Значит, князь и Аниш находятся в смертельной опасности?
Абрахам задумался, по привычке поглаживая верхнюю губу.
— Пока нет. Королевская партия надеется извлечь из них какую-нибудь выгоду, — решил он наконец. — За них, конечно же, можно получить выкуп или попытаться обменять их на тех, кто попал в плен к йоркистам. Может быть даже, используя их как заложников, Ланкастеры рассчитывают начать прибыльную торговлю специями и драгоценностями. Живые они гораздо полезнее им, чем мертвые. Скорее всего, им даже предоставят достаточно удобное помещение.
— Так что же нам делать?
— Гораздо большей опасности подвергаетесь вы с Умой. Это вы помогли Марчу бежать, а поскольку вы всего-навсего слуги, ваша жизнь никакой ценности не представляет. Королева беспощадна, она с наслаждением уничтожает своих врагов. Чтобы угодить ей, лорд Скейлз прикажет четвертовать вас на площади.
Я с содроганием припомнил изуродованные, выпотрошенные тела, развешанные над воротами Лондонского моста.
— Вам нужно как можно скорее покинуть город. Выйдите из Лондона по Уолтинг-стрит и направляйтесь в ту часть страны, где держатся йоркисты. Инек проводит вас. Но вам нужно как-то загримироваться, иначе вам не выбраться.
— Загримироваться? Но как?
— Можно… можно покрасить лица в белый цвет.
Вопли миссис Доутри сделались совершенно невыносимыми. Мне пришлось заткнуть уши, чтобы избавиться от этого шума. Пробравшись таким образом наверх, я прошел в комнату, принадлежавшую прежде князю Харихаре и Анишу, покопался в матрасе и под матрасом и был вознагражден за свои поиски — извлек два кожаных мешочка, затянутых тонкими шнурками, каждый размером с кулак. Когда я легонько встряхнул свою находку, послышался негромкий перестук, словно там были маленькие камешки. Ощупав первый мешочек, я догадался, что в нем лежат два больших корунда с острыми пирамидальными краями. К чему они нам? Эти огромные, безупречные по окраске камни были достойны монаршего скипетра. Они стоили гораздо больше, чем кто-либо в этой стране мог заплатить за них, и уж конечно гораздо больше, чем могло нам с Умой понадобиться. Потом я подумал, что князь Харихара все рассчитал: ему придется предстать перед вельможами, творящими закон и беззаконие в этой стране, перед королевой, ревниво относящейся к своим правам и привилегиям, и, скорее всего, он бы лишился этих камней, получив взамен ничтожную сумму. Доверив их мне, он знал, что я сохраню драгоценности и расстанусь с ними только в случае крайней необходимости.
Я засунул мешочки с драгоценностями поглубже в набедренную повязку (я по-прежнему носил ее под накидкой и шубой) и поспешил вниз. Инек, торговец рыбой, уже пришел и как раз занимался Умой: он намазал ей лицо смесью свиного сала и мелкой известковой пыли, так что прекрасное лицо превратилось в маску ярмарочного шута. Я хотел было возразить, что подобная внешность будет привлекать всеобщее внимание, но тут Абрахам, резко втянув в себя воздух, словно человек, внезапно озаренный прекрасной догадкой, подступил к Уме и подолом своей одежды размазал слой грима по ее лицу: из-под тонкой белой пленки проступила кое-где бронзовая кожа.
— Вот так! — воскликнул он. — Так гораздо лучше. Ее примут за прокаженную.
Инек радостно кивнул в ответ и с энтузиазмом принялся за дело. Теперь он работал аккуратнее, добиваясь нужного эффекта.
Инек не умел говорить. Это был невысокий, кругленький человечек лет сорока, почти лысый, с густыми черными усами и колючей щетиной на подбородке. Абрахам рассказывал нам, что Инек онемел еще в детстве, тридцать лет тому назад, когда на его глазах привычными в этой стране варварскими методами умертвили родителей, казнили их за то, что они укрывали у себя какого-то еретического проповедника. В те времена, после того как сожгли на костре лорда Кобема, по всей стране прошли гонения на инакомыслящих.
Достопочтенное товарищество рыботорговцев приняло сироту на свое попечение и позаботилось о том, чтобы мальчик освоил ремесло в одном из цехов. Из соображений безопасности сына казненных отправили в Лондон не стоило оставлять его в той северной рыбацкой деревне, где работали его родители. Инек оказался хорошим учеником, он быстро научился высматривать подходящий товар и заключать выгодные сделки с подплывавшими к Рыбной гавани рыболовами, сразу же отличал несвежую или несъедобную рыбу, и его осведомленность по части рыбы, водившейся в Темзе и Северном море, можно было смело назвать непревзойденной. Кроме того, Инек с необычайной ловкостью управлялся с большим ножом треугольной формы — его употребляют для разделки крупной рыбы. К сожалению, немота помешала Инеку сдать установленный экзамен и сделаться полноправным членом гильдии, поэтому он оставался наемным работником. То ли он был недоволен такой участью, то ли унаследовал строптивый характер от родителей так или иначе, Инек не прижился в Лондоне, весьма дорожил своей независимостью и переходил из одной английской гавани в другую, прислушиваясь лишь к собственному настроению. Он всегда был готов помочь всякому, в ком видел отщепенца, парию, гонимого или еретика, подобного его родителям.
Куда бы Инек ни направлялся, он повсюду носил с собой длинные, до блеска начищенные ножи, орудия своего ремесла. Кроме того, треугольного, у него еще имелось закаленное лезвие длиной примерно девять дюймов, цвета изморози, истончившееся до толщины травяного листа — бывают травы, от одного прикосновения к которым на ладони выступает кровь.
— Он отправится с вами куда угодно, лишь бы к Пепельной среде оказаться неподалеку от свежей рыбы, — сказал Абрахам.
— Что такое «Пепельная среда»? — спросил я.
— Начиная с этого дня никто не будет есть мясо одну лишь рыбу. Для рыботорговцев пост — лучшее время в году. Они хорошо зарабатывают в эти сорок дней. Когда наступит Пепельная среда? До нее осталось десять дней. В пост Инек может просить за работу три пенса в день, если не больше.
Вот что я могу поведать тебе об Инеке, который намазал Уме и мне лицо и открытые части тела салом и мелом, чтобы превратить нас в прокаженных. Наша темная кожа, проступавшая там и сям, должна была изображать пятна, страшную примету этого недуга.
Нам требовались еще кое-какие детали, чтобы достоверно сыграть свою роль. Закон предписывал прокаженным ходить повсюду с деревянной трещоткой. Это небольшойящичек, внутри которого находится неплотно прикрепленная планка.
Если потрясти это устройство, раздается громкий треск. Таким способом больные оповещают всех встречных, чтобы те избегали соприкосновения с ними и возможного заражения. Инек купил нам трещотки в небольшой лавочке возле Лудгейта, у подножия холма, что между воротами и мостом через Темзу. То была странная лавочка, тесное логово, заваленное стульями, кастрюлями, разбитой утварью, никуда не годным оружием там было все, что могло бы понадобиться человеку, но по большей части уже превратившееся в хлам, за исключением трещоток, которые как раз оказались вполне исправными.
Мы скоро оценили гениальную идею Абрахама: как только кто-нибудь приближался к нам, достаточно было пару раз тряхнуть трещоткой, чтобы этот человек поспешно удалился. Мы обнаружили также, что в облике прокаженных можем довольно легко найти себе убежище на ночь: специально для прокаженных на окраинах городов и даже многих больших деревень отводились так называемые лазареты. По большей части это были сараи, рассчитанные на десяток прохожих, которые могли бы устроиться вповалку на полу. Возле такого барака выделялся клочок земли для огорода с овощами, стояли клетушки для домашних животных. Были здесь и могилы, поскольку прокаженные должны были сами хоронить своих мертвецов.
Мы не боялись останавливаться в таких местах, поскольку большинство лазаретов пустовало, если же какой-нибудь оказывался занят, мы устраивались на свежем воздухе или шли до следующей деревни и там находили пустой сарай. Мы пытались расспросить Инека, зачем понадобилось столько лазаретов, если прокаженных в Англии почти нет. Инек умел довольно красноречиво объясняться с помощью жестов и мычания, однако этого хватало лишь для обсуждения простых повседневных дел, когда же от него требовались какие-то рассуждения, его немота и наше недостаточное знание английского языка становились непреодолимым препятствием. Он изо всех сил старался что-то нам объяснить, но я не уверен, точно ли мы его поняли. Через несколько месяцев я задал тот же вопрос ученому монаху, но даже этот эрудированный человек отвечал с неуверенностью — это лишний раз подтверждает, что в пору гражданских раздоров и беззакония человеческая память ослабевает и прерывается связь между поколениями. Монах сообщил мне, что число прокаженных пошло на убыль еще до его рождения, а к тому моменту, как он достиг юности, их почти не осталось в стране, и он полагал, что причиной тому была чума — ведь прокаженные оказались первыми жертвами этого недуга, унесшего каждого третьего жителя Англии.
Инек торопился проводить нас на западное побережье Британии до наступления поста, чтобы самому успеть наняться в работники к какому-нибудь рыботорговцу и заработать достаточно денег, ему предстояло еще содержать семью на протяжении не столь доходного для его ремесла лета, когда рыба быстро портится и любители этой пищи предпочитают употреблять ее копченой, сушеной или соленой, а не в свежем виде. Именно по этой причине мы продвигались не на север, а на северо-запад.
Я не собираюсь утомлять тебя, дражайший Ма-Ло, подробно описывая каждый день этого странствия, однако мне хотелось бы особо рассказать о школе, мимо которой мы проходили однажды, потому что именно тогда мы вполне убедились в сумасшествии царствовавшего монарха. Возле большой деревни, посреди заболоченной поляны (в ту пору года часть ее была покрыта водой, а другая часть льдом) мы увидели два высоких здания из красного кирпича. Оба строения имели форму квадрата, причем южная сторона одного из них, та, что ближе к реке, предназначалась под церковь, однако не была еще завершена.
Мы прошли по дороге вдоль этого здания. Дорога, хорошо утоптанная, явно часто использовавшаяся, была, однако, крайне неприятна грязный, смерзшийся в комья снег смешивался под ногами со столь же твердыми комьями глины. У реки росли ивы, вздымавшие к каменному небу короткие, обрубленные ветви, словно сжатые в гневе кулаки. На дальнем берегу, по ту сторону широкого, полноводного, медлительного темно-серого потока мы разглядели еще одну деревеньку, жавшуюся к замку. Замок показался нам даже издали довольно большим, его толстые приземистые башни своими пропорциями напоминали барабан. Над рекой тянулась стайка ворон. Имелся тут и мост, но нам не хватило времени, чтобы проверить, насколько он исправен.
Из церкви доносился скорбный напев. Голоса взмывали высоко, тянули бесконечно одну ноту, похожую на плач, на завывание больной или покинутой женщины. Мы остановились, прислушавшись из любопытства, но тут из-за угла выскочила стайка мальчишек их было по меньшей мере два десятка, все в черных бархатных одеяниях и таких же шапочках на голове, на плечах — белые отложные воротники. Юноши устремились прямо к нам.
— Смотрите, ребята! — выкрикнул один из них, худощавый, но высокий парнишка лет пятнадцати. — Трое прокаженных.
Как и большинство других людей, встречавшихся нам по пути, он принял за прокаженного также и Инека — за человека, заболевшего сравнительно недавно и потому не имеющего таких отметин, как у нас с Умой. Ведь здоровый человек не стал бы водить компанию с прокаженными, рискуя заразиться.
— Эй! — заорал мальчишка. — Убирайтесь отсюда, а то вам не поздоровится. Ну же, пошли прочь!
Мы не сразу разобрали его речь, а потому не успели подчиниться его приказу, и этот парень, подхватив с земли пригоршню снега с грязью, слепил тугой комок и бросил в нас. Не иначе, он долго тренировался в искусстве бросать мячи, ибо угодил мне прямо в лицо. Не думая о последствиях, я поднял посох и двинулся к нему. Ума попыталась остановить меня, но тут другой мальчишка из-за спины первого запустил снежком в Уму. Я еще больше разъярился и ринулся вперед.
Сперва мне показалось, что мой юный противник обратится в бегство, но все это происходило на глазах его приятелей, и перед ними он не мог показать себя трусом. Вместо того чтобы удрать, он слепил еще один ком грязи и бросил в меня. Этот снаряд (должно быть, внутри него были также мелкие камушки) угодил мне в грудь как раз в тот момент, когда я переходил большую замерзшую лужу. Я поскользнулся и рухнул на спину, да так сильно, что чуть дух не испустил. И тут все эти юные хулиганы (я слышал, в Англии принято именно так называть распущенную молодежь) поспешили вслед за вожаком, и на всех нас обрушился целый град снежных и глиняных комьев. Ума и Инек могли бы спастись бегством, если бы я не упал, а теперь самые отважные из этих наглецов подобрали палки и принялись тыкать ими в меня. Стоило мне подняться на ноги, как они, подцепив меня палками под колени, вновь опрокинули меня на снег и глину. Все это время они не переставая визжали: «Получи, грязный старик! Подымайся, мешок с костями, пошел отсюда! Э, да он темнокожий, цыган какой-то. Эти грязные твари переносят болезни!» Они выкрикивали оскорбления высокими, пронзительными голосами, сливавшимися с заунывным пением, по-прежнему доносившимся из церкви.
Что ж, в конечном счете никто не пострадал. Мальчишки гнали нас, как овчарки гонят непослушных овец, когда же мы отошли подальше от их школы, они повернули назад. Мы осмотрели друг друга, убедились, что комья глины и палки не нанесли нам серьезных увечий, перевели дух и слегка успокоились.
Так вот, Ма-Ло, в этом малоприятном приключении также была своя поучительная сторона, правда, мы с Умой узнали об этом лишь впоследствии. Это заведение и впрямь было школой, причем довольно необычной, предназначенной для лучших людей страны (как я уже говорил, они судят о человеке исключительно по его происхождению). Низшие слои общества сюда не допускались. Детей знати отрывали в нежном возрасте от их родителей и принуждали проводить в этой школе большую часть года. Все они спали вместе в большой спальне, младших учеников заставляли прислуживать старшим, превращая их попросту в рабов, причем и старшие ученики, и наставники часто избивали новичков, а также подвергали их всевозможным надругательствам, в том числе и насилию. Повторяю это была школа. Не тюрьма, не казарма — школа! И что самое удивительное это заведение основал и содержал на свои средства не кто иной, как король, и он полагал, что здесь отпрыски благородных семейств научатся этикету и разным наукам и сумеют помочь ему в управлении страной. Как я уже говорил, это стало для нас первым, но отнюдь не последним свидетельством слабоумия этого монарха — нам еще многое предстояло увидеть. И хотя вроде бы это нас лично не касалось и от нас не зависело, я порадовался, что мы выбрали верную сторону в междоусобной борьбе и сделались союзниками тех людей, которые собираются лишить короля если не короны (к короне они относятся крайне суеверно, полагая, что дать или отнять ее может лишь Бог), то, по крайней мере, королевских прав и привилегий.
Река, изгибаясь, повела нас на северо-запад. Вскоре мы добрались до небольшого города Марло. Да, очень похоже на твое имя, мой дорогой Ма-Ло, и я отнюдь не выдумываю. Внимательно осмотрев дорожный указатель, Инек внезапно принял решение свернуть в сторону Оксфорда. Он пытался объяснить нам, зачем ему это понадобилось, но мы не разобрали ни его жестов, ни мычания. Так или иначе, дорогу выбирал он, а мы согласились с тем большей готовностью, что тем самым удалялись от реки и продвигались ближе к северо-западу, а ведь нам именно это и требовалось.
Еще день мы шли по горам и через леса, а потом внезапно картина местности изменилась и с крутого холма нам вновь открылся вид на широкую долину реки. Это была все та же Темза, она, по-видимому, уклонялась сперва к юго-западу и, сделав петлю, поворачивала на север, а мы двигались как бы внутри этой дуги. Вдали в лучах золотого вечернего света, расходившихся веером из-под низко нависающих туч, мы увидели город, весь состоявший из башен и шпилей. Он словно висел в воздухе, в струях поднимавшегося от реки тумана, он походил на сказочный сон о потерянном рае. И тут солнце зашло, и башни и шпили сделались черными тенями в глубине серого сумрака.
Ума крепко сжала мою руку изувеченную ладонь, на которую она всегда опиралась в пути.
— Красота и уродство всегда идут рука об руку, — пробормотала она, и я кивнул в ответ. Мы начали спускаться в долину.
Глава двадцать третья
Весь день ушел на спуск с холма, город то и дело появлялся перед нашими глазами, маня, словно призрачное видение, а когда мы вышли на равнину, мы почувствовали, что началась весна. Снег таял, вода потекла узкими журчащими ручейками, запели птицы, вскоре у корней тонких, стройных деревьев с серебристой корой мы обнаружили крошечные цветы в форме колокольчиков. Дорога становилась все грязнее, ноги увязали, слышался неприятный хруст еще сохранившейся тоненькой ледяной корочки. Мимо пробегали олени, небольшие, красновато-коричневые, с белым брюхом и короткими рожками, похожие на обитателей наших горных лесов. Глядя на них, я впервые с того момента, как мы покинули Лондон, вспомнил про князя Харихару с его охотничьим снаряжением и принялся гадать, какая судьба постигла его коллекцию стрел и арбалетов. Я попытался вспомнить, как весь этот багаж сгружали со спин усталых мулов у дома олдермена Доутри, но мне так и не удалось восстановить в памяти эту картину. Должно быть, решил я, арбалеты все-таки удалось доставить к дому олдермена и их куда-нибудь спрятали до поры до времени например, в погреб.
Олени беззаботно играли, пока не почуяли наш запах, а почуяв его, исчезли точно по волшебству, совершенно беззвучно. Сомневаюсь, чтобы князю удалось поразить их стрелой. Мы видели в отдалении также кабанов, они рылись в листьях и желудях, устилавших землю у корней более крупных и мощных деревьев. Кабаны показались мне легкой добычей.
Подойдя к реке, мы наткнулись на первые признаки человеческого присутствия, хотя на мой взгляд, как и на взгляд Умы, эти хижины годились разве что для домашнего скота. Круглые постройки из переплетенных ивовых прутьев, щели промазаны грязью, заткнуты соломой и — уверен, что я не ошибся, — высохшим навозом, крыши из сухой травы. Только в самой середине такого, с позволения сказать, дома человек мог бы выпрямиться во весь рост. Посреди крыши каждого дома было отверстие, из которого выходил голубоватый дымок. Дым был достаточно благоуханным и наполнял воздух вполне аппетитными ароматами но каково же постоянно вдыхать этот дым, жить в нем!
Однако большинство англичан не располагает иным жилищем, поскольку те, кто не пожелал с готовностью принять нормандское завоевание, превратились почти в рабов.
Днем дорога вновь привела нас к реке. Вдоль змееобразно извивавшегося русла реки росли невысокие, клонившиеся к воде деревца, их тонкие ветви были срезаны, и от стволов отходили лишь неуклюжие, похожие на культи обрубки. Тонкие прутья ивы находят здесь множество применений: из более крупных плетут и стены домов, и изгороди, тонкие идут на корзины.
Сквозь дымку тумана мы все отчетливей и ближе различали город Оксенфорд, он же Оксфорд, и вот мы уже пробираемся через жалкий грязный пригород, пристроившийся к низким стенам, а внутри этих стен — высокие башни, их почти столько же, сколько мы насчитали в Лондоне, но здесь они служат другой цели. Эти башни — нечто вроде тюрем или общежитий, где обитают монахи, священники и их ученики. Оказывается, Оксфорд это не только процветающий город вблизи судоходной Темзы, на перекрестке построенных еще римлянами дорог, ведущих в центральную и северную часть страны, это еще и центр религиозных и прочих наук.
Инек повел нас не в город, а во францисканский монастырь, построенный вне городских стен. Монастырь располагался на южном берегу реки, к западу от города.
Мы прошли мимо главных ворот со старинной маленькой крепостью у входа и двинулись по узкой полосе земли между стеной и городом, густо застроенной хижинами. Наконец мы подошли к паромной переправе.
Здесь мы избавились от грима, превращавшего нас в прокаженных, — попросту растерли белую глину, чтобы она равномерно покрывала все лицо, и убрали прочь трещотки. Инек сумел дать нам понять, что настала пора не отпугивать людей, а, напротив, рассчитывать на их благосклонное внимание.
Течение реки здесь было быстрым, она казалась глубокой и темной, с опасными водоворотами, и мне подумалось, что, переправляясь через Темзу, я был ближе к смерти, чем во время тайфуна в Китайском море. Нас перевезла на тот берег утлая лодчонка, более похожая на крупную раковину. Она тоже была сплетена из ветвей ивы и промазана какой-то липкой черной субстанцией, якобы не пропускающей воду. На самом деле вода на дне скапливалась куда быстрее, чем оборванный мальчишка — сын лодочника — успевал ее вычерпывать.
Итак, мы попали на большой остров Осни между основным руслом реки и одним их ее притоков. Почти весь остров занимал францисканский монастырь.
Инек решил, что в Оксфорде нам пора расстаться, ибо он пробирался на запад, а мы на север, к тому же здесь среди францисканцев мы могли повстречаться с лоллардами и последователями Джона Уиклифа, сочувствующими учению братьев Свободного Духа.
Францисканцы жили и вели занятия в современных, удобных зданиях. Большинство построек было возведено из кирпича, который лишь недавно начали употреблять в этой стране; высотой в два этажа, со множеством утопленных в каменные стены окон. Здания словно стены опоясывали два прямоугольных участка земли; один из них, разделенный на ровные грядки, засеянные различными травами, служил огородом, во втором дворике я увидел пруд с рыбами. Из пруда монахи на моих глазах извлекли крупного черного карпа, чтобы скрасить скудную пищу, предписанную на время поста. Между двориками высились два трехэтажных здания часовня и трапезная. На первых этажах в боковых пристройках располагались библиотека, кухня, стойла домашних животных, а на самом верху — туда вела узкая винтовая лестница — были комнаты настоятеля и зал заседаний совета. По другим лестницам можно было пройти в маленькие комнатки, где спали и работали монахи, — так называемые кельи.
Францисканцы носили грубые темно-серые рясы, подпоясанные веревкой, многие из них покрывали голову капюшоном. Нам сказали, что они надевают капюшон не ради тепла, а чтобы братья видели, что они погружены в молитву или размышление, и не беспокоили их разговорами. Присмотревшись к тем из них, кто не укрывался капюшоном, я отметил, что они тоже бреют голову, как наши буддийские монахи, однако не наголо, а лишь посередине, оставляя по краям кольцо волос. Вообще-то часть головы выбривают себе здесь все священники и те, кто только собирается стать священником, а также монахи, но у францисканцев так называемая тонзура была больше и заметнее, чем у других.
Нас приняли очень тепло. Основатель этого ордена предписал своим последователям законы гостеприимства: странники, тем более бедные путники (а мы, несомненно, являлись таковыми), вправе получить все, в чем они нуждаются. Правда, когда я говорю о теплом приеме, я подразумеваю скорее добрые чувства, нежели качество еды или жилья. Нас накормили похлебкой, сваренной на куриных костях с добавлением капусты и моркови — спасибо, хоть горячей, — дали вприкуску ржаной хлеб и пиво, чтобы все это запить. Постелью нам служили мешки, набитые соломой и мягким, но местами колким сухим вереском. Нас уложили в большом, вытянутом в длину дортуаре, специально предназначенном для гостей. К счастью, в эту пору года мало кто из бедняков отважится пуститься в путь, так что это помещение полностью досталось нам троим.
Мы уже укладывались спать, гадая, как бы за ночь не околеть от холода, но тут кто-то из братьев постучал в дверь и сказал, что настоятель хочет с нами побеседовать. Инек остался в спальне, а мы с Умой последовали за гонцом, пересекли дворик и поднялись в комнату настоятеля, в ту из нескольких принадлежавших ему келий, которая служила кабинетом. На полках стояло не менее ста книг, здесь же был стол для письма, конторка для чтения книг, несколько стульев. В очаге ярко пылал огонь.
Аббат Питер Маркус добрейший, заботливейший человек, какой мне встречался в жизни, — был невысокого роста и совершенно лыс: ему тонзуру выбривать уже не приходилось. Из-под кустистых бровей глядели необыкновенно проницательные глаза, нос был невелик и курнос, полные губы в любой момент готовы были расплыться в улыбке. Пальцы его тоже привлекали внимание: короткие, словно обрубленные, розовые, но крепкие, а аккуратно подстриженные прямые ногти были не телесного, но почти белого цвета. Завидев нас, он поднялся с большого деревянного кресла, украшенного примитивной резьбой (по правде сказать, к северу от Венеции нам не доводилось видеть изящной резьбы, будь то по камню или по дереву), и проворно обежал загораживавший ему путь стол, чтобы обеими руками пожать мою руку.
— Брат Али, бедный мой брат во свободе духа, как же ты измучен!
Ты знаешь, дорогой Ма-Ло, что и в лучшие свои дни я не слишком-то хорошо выгляжу, но в тот момент на моей внешности сказались и тяготы долгого путешествия. С тех пор как мы прибыли на этот благословенный остров, я болел поносом сперва из меня выходили жидкие экскременты, затем кровь и черная вода. Оттого что я постоянно терял жидкость, я испытывал страшную жажду и пытался утолить ее всякий раз, когда мне встречался колодец или чистый с виду ручеек. Какое-то время я сосал снег и лед, но оттепель лишила меня этого подспорья. Надо полагать, я еще больше походил на дохлятину, чем обычно.
В чем причина моего недуга? Полагаю, полное отсутствие санитарных условий в Лондоне приводит к тому, что воздух в городе постоянно пропитан заразой, не говоря уж о том, что хозяин гостиницы норовил подавать к столу мясо, хранившееся у него в погребе несколько дней, а то и недель.
Брат Питер задал несколько весьма личных вопросов о моем самочувствии и, позвонив в колокольчик, вызвал к себе одного из монахов. Он назвал монаху несколько трав — часть из них следовало собрать на огороде, другие хранились в засушенном виде в травнице монастыря, а две разновидности лекарственных растений имелись в монастырской аптеке в виде настойки или эссенции.
— К эссенциям мы прибегаем лишь в крайнем случае, — захихикал настоятель, — как предписал нам один из величайших членов нашего ордена.
Как я ни ослабел физически, я оценил эту шутку ведь по-латыни «эссенциями» именуются также универсалии, или сущности, Уильям же Оккам[137] предписывал не умножать их число сверх необходимости. Вспомнив, что правило это называется бритвой Оккама, я решил отплатить каламбуром за каламбур.
— Накрошите все ингредиенты острейшей из ваших бритв, — посоветовал я.
Так началась одна из самых длинных и плодотворных бесед в моей жизни. Мы вели ее с братом Питером несколько месяцев, прерываясь лишь для сна и тогда, когда монастырские обязанности требовали внимания моего нового друга. Ему приходилось в положенные часы исполнять церковные обряды. Шпионы епископа Винчестерского, в чьем округе расположен Оксфорд, то и дело под видом паломников проникают в монастыри и аббатства, проверяя, совершается ли ежедневная служба достойным и правильным образом и не приметна ли в речах, проповедях и учении монахов ересь.
Уме быстро прискучили и церковный ритуал, и наши беседы. Вскоре она рассталась с нами и продолжала осуществлять на практике то, о чем мы с аббатом лишь беседовали. Полагаю, она лучше распорядилась своей жизнью ведь, как говаривал, ссылаясь на Аристотеля, брат Питер: «Плоды приносит не гнозис, сиречь знание, а праксис». Иными словами, знание без дел мертво.
Правда, первая наша встреча ознаменовалась плодотворным союзом гнозиса и праксиса: наш новый друг собственными руками изготовил напиток, пахнущий мятой и анисовым семенем, вполне терпимый на вкус.
— Это снадобье окажет двойное действие, — посулил он. — Ты сразу же почувствуешь облегчение и погрузишься в спокойный, глубокий сон, поскольку я подмешал к микстуре настойку опия в алкоголе, как рекомендуют нам арабские медики, — мы называем эту смесь лауданум. Опий не только дарует тебе необходимый отдых, но и на время приостановит деятельность нижнего отдела кишечника. Масло мяты и масло анисового семени действуют не столь быстро, но они продолжат лечение, когда действие опия уже прекратится. Это лекарство составил здесь, в Оксфорде, доктор медицины Коллис Браун. Послушай, я не допущу, чтобы ты ночевал в холодном, неуютном дортуаре. Выпей отвар и ложись на мою кровать…
Тут я, конечно, запротестовал, но аббат и Ума, не слушая моих возражений, отвели меня в маленькую келью, примыкавшую с другой стороны к кабинету и имевшую с ним общую стену, возле которой в кабинете пылал камин. Меня уложили на кровать брата Питера — узкую, но зато матрас был набит, как похвастался настоятель, лебяжьим пухом. Постель благоухала лавандой.
Настал миг блаженства — с меня снимали одежду, тело мое словно растворилось в потоках горячего воздуха, а брат Питер и Ума протирали меня губками, смоченными теплой, приятно пахнущей водой. От губок тоже исходило тепло, проникавшее в усталые, ноющие кости. Лауданум уже начал оказывать свое действие на мой разум: сквозь сомкнутые веки я сперва различал колыхание розовых завес и блеск позолоченной мебели, а затем и эти иллюзорные предметы слились, исчезли, и я будто вновь вошел в утробу матери, сделался нерожденным ребенком, набирающимся сил, ждущим часа своего прихода в мир.
Голос Али постепенно угасал. Послышался глубокий вздох, потом старик задышал ровнее, в уголках его губ скопилась слюна. Он уснул, а я на цыпочках пошел прочь.
Часть III
Глава двадцать четвертая
Различные дела задержали меня на три дня, а когда я вновь вернулся в дом Али, то застал здесь Уму: они сидели за столом и вдвоем наслаждались кофе. Я попробовал этот напиток, но, на мой взгляд, без сахара он чересчур горек, а с сахаром становится приторным. Я присел рядом, и Ума извлекла свой челнок и вновь принялась вплетать алую нить в ткань повести, созданной Али, — повести, перенесшей нас на другой край света.
Али и вправду выглядел довольно скверно — лицо серое, на шее проступили все жилы, ветвясь, точно побеги остролиста. Я проследила, чтобы он удобно устроился в постели аббата Питера. Тут ему будет уютно возле горячей стенки камина. А мне пришла пора отправляться в путь.
Миновала всего неделя с тех пор, как я в последний раз побывала в объятиях Эдди Марча, но я уже соскучилась по нему: мне недоставало прикосновения его ладоней к моим ягодицам, его пальцев, проникающих в межножье, горячего дыхания, овевающего мою шею, и победоносного вторжения его жезла. Я понятия не имела, где мог в тот момент обретаться Эдди. Покидая аббатство и остров Осни, заросший плакучими ивами, я не строила особых планов — шла себе и шла по тропинке через поля и леса, стараясь продвигаться в сторону юга. Наконец я присела на межевой камень, отмечавший поворот на Суиндон, и решила немного поразмыслить.
Эдди бежал от своих врагов, то есть от короля с королевой, которые пребывали в центре Ингерлонда, в городе Ковентри. Стало быть, где-где, а уж там Эдди нет и быть не может, если только его не схватили. С другой стороны, поскольку был приказ арестовать Марча и его повсюду разыскивали, то все новости о его местопребывании должны стягиваться к Ковентри, как железная стружка притягивается к магниту. Быть может, где-то его видели, кто-то опознал его, как тот безногий бродяга в Лондоне. Забавный парадокс — узнать, где сейчас Марч, проще всего будет в том самом месте, где он ни за что бы не хотел оказаться. Обдумав все это, я поднялась с камня, вернулась на остров Осни, переправилась вновь к Оксфорду и направилась на север. Ночь я провела в канаве.
Утром меня нагнал молодой человек, чрезвычайно важный и довольный собой. Он поднимался в гору и вел за собой мула. С этой вершины еще можно было рассмотреть башни и шпили Оксфорда в сонном утреннем свете. У юноши была при себе сумка, украшенная гербом — два золотых льва на красном фоне, а по углам серебристые цветы, вышитые на голубой ткани. Когда мы оба оказались на гребне холма, между нами завязалась краткая беседа. Я заговорила первой:
— Прошу вас, сэр, скажите мне, эта ли дорога ведет в Ковентри?
— О да, конечно, — откликнулся он. — Ковентри примерно в пятидесяти милях к северу по этой самой дороге. Я тоже туда направляюсь, — продолжал он, — я состою курьером на службе их величеств. Я только что доставил письма знатным горожанам Оксфорда, — он жестом указал себе за плечо.
Мы прошли еще несколько шагов.
— Достопочтенный брат, — обратился ко мне юноша, а затем, присмотревшись ко мне повнимательней, нахмурился и отвел взгляд. — Если пожелаешь, можешь сесть на круп моего мула, когда дорога пойдет вниз. Покуда мы идем вверх, я и сам не сажусь на него, ибо бедное животное устало — я так быстро мчался, чтобы доставить письма.
— Не стоит, — отвечала я. — Я буду для вас обузой — ведь мне надо несколько раз в день останавливаться для молитвы.
Монахи, священники и прочие духовные лица обязаны по крайней мере шесть раз в день повторять молитвы и песнопения, обращенные к христианскому богу.
Молодой человек пожал плечами. Он был тощий, веснушчатый, изо рта у него пахло свининой и луком, а также клевером — он жевал траву, то ли чтобы отбить запах, то ли чтобы подлечить больной зуб. Мы как раз стояли на вершине холма. Он вскочил на мула и рысцой поехал вниз. Я сильно отстала от него и находилась еще достаточно высоко, когда мне пришлось стать свидетельницей разыгравшейся у подножия холма трагедии.
Из-за полуразрушенной каменной овчарни выскочили несколько человек в черных плащах, в шляпах с широкими полями. Предводитель нес на плече какое-то огнестрельное оружие, его помощник поднес к заднему концу ствола дымящийся фитиль, и бум! — из дула вылетел огонь, и мой знакомец лишился головы. Он еще мгновение сидел в седле, из шеи хлестала вверх струя крови, а затем обезглавленное туловище склонилось набок, и молодой курьер вывалился из седла. Я спряталась в канаве и подождала, пока разбойники не удалились, прихватив с собой сумку, украшенную уже не только шелковой и золотой нитью, но и потеками крови. Потом я спустилась ниже и укрылась посреди густых зарослей. Там я провела день.
По мере того как близился полдень и тени становились короче, на дороге появлялось все больше путников, почти все в сопровождении вооруженной стражи. Как-никак, эта дорога соединяет резиденцию короля и его придворных с городом, где трудятся так называемые «яйцеголовые» — умнейшие люди его страны. И все же этот путь опасен, и большинство людей — за исключением моего невезучего попутчика — предпочитают совершать его в обществе телохранителей и большими компаниями. Прикинув, сколько еще грабителей, разбойников и убийц могли караулить беспечного путешественника на большой дороге, я решила свернуть западнее и пробираться в Ковентри по долинам и лесным тропинкам, пусть даже это займет вдвое больше времени.
Был ясный день, порывистый ветер быстро сгонял с неба сероватые облака. Иной раз они сгущались и на меня брызгал дождь, но тучи ни разу не закрыли солнца, так что я с легкостью могла придерживаться выбранного мной направления. Я шла на север, иногда с вершины холма я различала правее большую дорогу, то поднимавшуюся в гору, то спускавшуюся в долину; видела я и деревушки, через которые эта дорога пролегала. Все мои чувства были напряжены не из страха, а ради того, чтобы не упустить ни одной подробности путешествия на другой край земли. Ведь я затеяла его ради новых впечатлений, ради каждой мелочи, какая может встретиться по пути, и теперь, когда меня не отвлекали Инек и Али, я начала воспринимать прелесть этой страны. Ей не свойственно величие Виджаянагары, о которой я ностальгически вспоминала, нет ни высоких гор, ни пышных лесов, ни урожайных полей, ни блистающих своим убранством городов, ни белого теплого песка на берегу, ни изумрудного моря. Но мои глаза, уши и нос были открыты и для не столь гордой красоты.
Я радовалась желтым цветкам, чьи лепестки раскрывались подобно крыльям бабочки, свисая с тонких, еще не покрывшихся листьями ветвей. На ветру лепестки пускаются в пляс, и с них слетают облачка золотистой пыльцы. У корней этих деревьев — а может быть, это кусты, ведь они совсем приземистые я находила маленькие белые звездочки, не висячие, а растущие из земли, они были похожи на белые цветы, что мы находили сразу после таяния снегов. Были здесь красивые стройные деревья, увенчанные кронами черных, клонящихся вниз ветвей и стволами, покрытыми серебристо-серой корой, которая легко сдирается тоненьким, как бумага, слоем, стоит только слегка потянуть. На этих деревьях часто встречаются большие кожистые на ощупь наросты, по форме напоминающие раздутое слоновье ухо. На берегу реки, где почва всегда остается влажной, растет ярко-зеленый мох, тысячи крохотных зеленых искорок, соприкасающихся остриями, складывающихся в волшебное кружево. Присмотревшись, я обнаружила, что на большинстве деревьев и кустов уже набухли почки, однако листья еще не собирались развернуться. Сине-желтые пичужки и другие, с красной грудкой и угольно-черным острым, точно игла, клювом, не поют, а чирикают или пронзительно кричат и все время рыщут в поисках пищи.
Я начала проникаться ощущением жизни — не изобильной, не цветущей, но отважно борющейся с холодом, снегом и льдом, еще не растаявшим в недоступных для солнца местах. Живое тут ведет долгую, тяжкую битву. Порой я замечала какое-то белое пятно и, наклонившись, видела хрупкий череп скорее всего, судя по резцам, грызуна. Нет, Парвати приходится долго ждать своего прихода в этот сумрачный лес, где пока еще царит Кали.
К вечеру я спустилась с лесистого склона по извилистой тропе, рядом со мной все время вился, журча, ручей, и вышла в широкую, но тоже неровную, изогнутую долину. Земля здесь была расчищена от деревьев и довольно примитивно обработана. Я увидела впереди, примерно в четверти мили, деревню, похожую на те, что мы проходили на пути в Оксфорд: двадцать-тридцать домишек, каждый с маленьким садиком и парой фруктовых деревьев, два-три здания побольше — церковь с приземистой башенкой и просторный амбар. Даже на таком расстоянии я уже слышала, что там происходит нечто необыкновенное, я различала хриплые и нестройные звуки, издаваемые пронзительными трубами и примитивными барабанами, порой раздавались и вопли — то ли удовольствия, то ли боли, этого я еще не знала.
Как раз когда я подошла к поселку, солнце ушло за юго-западные холмы. Из большого амбара на улицу хлынула толпа людей, музыка сделалась громче, я разглядела в толпе и музыкантов, и танцоров впрочем, плясали все, то есть неуклюже раскачивались взад-вперед, ведя хоровод вокруг большой кучи валежника: веток ракитника и можжевельника, стеблей чертополоха. Я пробралась в маленький сад и укрылась между облезлых яблонь как и большинство деревьев, встретившихся мне в пути, они казались мертвыми или умирающими. Вопли и жесты людей, собравшихся вокруг груды дров, казались довольно свирепыми и несколько пугали меня. Я решила вскарабкаться на нижние ветви яблони и не показываться на глаза этим людям, во всяком случае, пока не буду уверена в их дружелюбии.
К поленьям поднесли горящую ветку, и, несмотря на моросящий дождик, огонь хорошо разгорелся и вскоре проник в самую середину костра. Даже на расстоянии я слышала, как потрескивают сучья и ветки от жара, когда огонь добирается до них. К темному, закрытому тучами небу поднимались завитки белого дыма с золотыми и красными искорками. Затем два человека вынесли соломенную куклу ростом с человека, одетую в какие-то лохмотья, раскачали ее, схватив за ноги и за плечи, и швырнули в огонь, превратив его тем самым в подобие погребального костра.
Женщины подняли громкий крик. Теперь я могла хорошо разглядеть их при свете костра. Их лица закрывали маски или капюшоны из разноцветной материи с прорезями для глаз. Женщины хватали горящие ветви и, продолжая отплясывать под какофонические звуки варварской музыки, разбежались по садам, лупя по стволам деревьев ветками и выкрикивая то ли проклятия, то ли заклинания: «Принеси мне яблок, мать твою, я хочу груш, накажи тебя Бог». Когда факелы догорели, женщины отбросили их, задрали рваные юбки и, хватая деревья за нижние ветви, принялись тереться о стволы бедрами и коленями и самыми сокровенными местами.
Разумеется, мое убежище было обнаружено. Высокая молодая женщина с рыжими волосами, выбивавшимися из-под капюшона, подбежала к моему дереву, закинула голову то ли в подлинном, то ли в притворном экстазе и едва не уперлась лбом в мою ногу. Она замерла на миг, потом принялась вопить. На этот раз сомневаться в искренности ее чувств не приходилось ею овладели страх и гнев.
Все ее товарки, находившиеся поблизости, тут же примчались на подмогу. У некоторых еще были в руках горящие ветки. Новость распространилась быстро, и под моей яблоней через минуту собралось все население деревни, человек сорок, а то и больше, если считать и детей. Они были настроены крайне враждебно. Я уже достаточно разбирала английскую речь и из разговора мужчин, которых женщины заставили выступить вперед и заслонить их, довольно быстро поняла, почему они так злы.
— Это чертов монах, ясное дело.
— Ага. Чево он тут делает-то?
— Чево-чево. Шпионит для епископа, вот чево.
— И как теперь с ним поступить?
— Горло ему перерезать на хрен да и схоронить в навозной куче.
— Если он уйдет отсюда живым, этот сукин сын епископ пришлет людей и они спалят нашу чертову деревушку и нас всех перебьют к хренам собачьим.
И так далее. Некоторых слов я все-таки не понимала.
— Первым делом надобно снять его с дерева. Грубые руки тянутся ко мне, хватают за щиколотку, рывком отдирают от дерева.
— Ладно, ладно, — кричу я, — я и так спущусь.
Я немного напугана, и мне не удается изобразить низкий мужской голос.
— Похоже, совсем молоденький, по голоску судя.
Как только я оказываюсь на земле, кто-то сбрасывает с моей головы капюшон, а двое других крепко прижимают к бокам мои локти.
— Вот он, попался. Давайте сюда огонь, посмотрим на него хорошенько.
То, что они видят, приводит их в изумление. Во-первых, голова когда-то бритая, но теперь поросшая короткими черными, да еще и подкрашенными хной, волосами. Тонзуры, как у монаха, разумеется, нет. Брови, когда-то выщипанные, тоже отросли. Прямой нос, полные губы, округлый подбородок, глаза, глубокие и темные, точно горные озера, кожа цвета меди, которая начинает темнеть на воздухе и утрачивает первоначальный золотой блеск. Одна женщина хватает меня за руку, подносит мою ладонь поближе к неверному свету факела.
— Это не мужская рука, — говорит она, — это рука женщины, и не из простых.
— И плащ не монашеский, — подхватывает другая, — не того цвета, и покрой не похож, да и материя чересчур тонкая.
— Да у нее сиськи! — восклицает та, что держит меня за локоть, и решительно ощупывает свободной рукой.
Женщина, которая рассматривала мою ладонь — это она первая наткнулась на меня, — оставляет в покое мою руку и задирает на мне спереди платье, насколько позволяет пояс.
— Да, — подтверждает она, — кто-кто, но не монах. Это курочка.
— Пшла прочь! — рычу я. Через ее плечо я вижу столпившихся вокруг мужчин и любопытствующих детишек. Один из зрителей опускает факел пониже, чтобы разглядеть мои прелести. Женщина поспешно опускает мой балахон.
— Извини! — шепчет она мне на ухо, и я различаю в ее голосе нотку сожаления. Она относится ко мне как к женщине, у нас с ней есть хоть что-то общее, вызывающее сочувствие, — эта мысль немного утешает меня.
Глава двадцать пятая
День, который я провела в пути, оказался тем самым, что отделял зиму от весны. Я чувствовала предвестия наступающего сезона и под ногами, и вокруг меня, в запахах и звуках леса, и эти люди тоже знают, что мы стоим на пороге между двумя временами года и что нужно задобрить неким ритуалом божеств, правящих подобными событиями и способных благополучно переправить нас на другую сторону.
Конечно, речь идет не о маленьком христианском боге и его небесных отце с матерью, а о тех богах и богинях, которых почитают и в этой стране, как в любой другой, однако многим людям приходится обращаться к этим богам тайно и прятать их, словно игрушки, в которые им запретили играть, — только, если их застигнут за этими играми, наказанием будет не порка, а дыба, тиски палача и костер. Вот почему они так испугались, приняв меня за монаха.
Там, в Виджаянагаре, девушки выходят в поля и луга, собирают целые копны цветов, ставят на них изображения Шивы и Парвати и разыгрывают ритуальное действо, воспроизводя священный брак между богом и богиней. Это похоже на игру, на детскую забаву, и все же в этом празднике, словно аромат благовония, когда-то хранившегося в закрытой и забытой шкатулке, сохраняется память о тех временах, когда боги обитали среди людей. И сейчас, в туманном Альбионе, я становлюсь зрительницей, а может быть, и участницей чего-то очень похожего на этот обряд.
Крестьяне продолжали спорить о том, как следует со мной поступить. Старики дружно советовали перерезать мне глотку, среди юношей нашлись желающие познать меня, прежде чем со мной расправиться, но женщины решительно выступают против. Одна из старух принимается рассуждать: если я и впрямь монашка, стало быть, кларисса так называются монахини францисканского ордена (по-видимому, только монахини этого ордена отваживаются выходить за пределы монастыря, и они оказывают помощь бедным и больным), а если я не кларисса, то сперва надо выяснить, кто я такая. Было бы глупо убивать меня, не разобравшись, какие из этого могут произойти последствия.
Все собрались в просторном амбаре с земляным полом, где навалены груды сена, а возле стен — кучи зерна. Старики продолжают спорить, а молодежь вовсю готовится к празднику. Музыканты — так и быть, назовем их музыкантами — устраиваются в дальнем конце амбара, напротив больших дверей, раскладывая перед собой барабаны, трубы и струнные инструменты. Они пробуют свои трубы, волынки испускают несколько пронзительных воплей, один человек трясет в воздухе коробкой, где перекатываются, судя по звуку, сушеные горошины, другой постукивает ладонями в барабан, представляющий собой попросту глиняный горшок с натянутой на него шкурой.
Люди устанавливают столы доски на козлах, — шестеро мужчин втаскивают бочку, из которой подтекает какая-то жидкость, и взгромождают ее на один из столов. Из соседнего сарая доносится запах дыма и подгорающего мяса.
Я стою в дальнем от двери углу, позади оркестра, меня все еще крепко держат за руки. Женщины столпились вокруг меня, несколько мужчин с любопытством заглядывают им через плечо. Наконец та женщина, которая нашла меня (ее зовут Эрика), заявляет:
— Только старая Джоан скажет, что с ней делать. Она должна знать.
— Верно! — подхватывает другая.
— Но кто же посмеет ее разбудить? — усомнилась третья. — Она рассердится, и будешь потом целый месяц корчиться от боли.
— Она должна прийти сюда. Она никогда не пропускает День Невесты, она не пропускает Праздника Весны. Такого еще не бывало.
— А чтобы она проспала месяц напролет без еды и питья, такое разве бывало?
— Давайте будите ее. Если она помрет от этого, тем лучше — она и так зажилась, это уж точно.
Двое или трое выходят из амбара, и дым, сделавшийся очень густым, заслоняет их от меня. Запах какой-то сырой, словно они решили готовить на только что срезанных зеленых ветвях, а не на угле.
Они возвращаются и ведут с собой старуху, скорее даже несут ее, чем ведут. В Виджаянагаре мудрые старые женщины обычно бывают худыми, высохшими, и я ожидала увидеть нечто подобное, но старая Джоан, хоть и проспала месяц без пищи, как говорили эти женщины, оставалась довольно пухлой. Груди мячиками перекатывались под платьем, живот выпирал точно бочонок, у нее были широкие бедра, а щиколотки раздулись, как овечьи кишки. Только щеки у нее запали, поскольку зубов почти не было, да и волосы выпали. Старуха что-то бормотала, ругалась сквозь стиснутые десны, произнося непристойности, каких я и здесь, в Ингерлонде, не слыхивала.
Ее опустили на пол прямо передо мной. Старая Джоан уставилась на меня странным взглядом, казалось, что глаза ее смотрят одновременно и вправо и влево, и вниз и вверх, один из них был влажно-голубым, другой бледно-зеленым.Одну ее щеку украшала бородавка с четырьмя черными волосками. Когда она говорила или трясла головой, трясся, ходил ходуном и второй подбородок, похожий на подгрудок большого водяного буйвола. Здесь, в амбаре, и так уже пахло гнилью и отбросами, но старуха принесла с собой застоявшуюся вонь, запах немытой, едва не разлагающейся плоти, запах дерьма и мочи — эти запахи облаком окружали ее.
— Ну же, старая, скажи нам, кто это такая! — требовали все вокруг. — Может, она ведьма? Тогда вы с ней должны признать друг друга!
Старуха присмотрелась ко мне, наклоняя голову из стороны в сторону, потом протянула широкопалую ладонь, больше похожую на разбухшее коровье вымя, чем на человеческую руку, и коснулась моего запястья. Затем она испустила резкий, сухой звук — то ли хрип, то ли кашель — и зашипела, точно разъяренная гусыня, обнажая остатки пожелтевших, обломанных зубов и брызгая во все стороны слюной. Наконец припадок закончился, и тут старуха как-то съежилась и вроде бы даже попыталась пасть к моим ногам.
— Глупцы, чертовы глупцы, все до одного. Разве вы не видите, какого цвета у нее кожа, какая она красивая, так и сияет? Подумать только, я дожила, дожила до этого дня, до этой ночи. Я счастлива, я получила благословение. Жизнь моя пришла к концу, я получила благословение.
— Да полно, старая Джоан, не мели вздор, скажи нам, кто это, — закричала толпа.
— Ладно, ладно, я скажу. Это Цыганская Богородица, Мария Египетская, Цыганка Мери собственной персоной, вот кто это такая. Она спляшет для вас, если ее хорошенько попросить, а если она вас невзлюбит, у вас утробы от бородавок полопаются, а в щели зубы вырастут. — Она понизила голос и заговорила, обращаясь ко мне одной: — Прости, госпожа, теперь меня призывает твоя сестра, твоя сестра и моя мать Геката, но когда-то я превыше всех любила тебя.
С этими словами она отвернулась и пошла прочь, колеблясь, точно подгнившее дерево на ветру. Так, спотыкаясь, шаркая, она пробиралась сквозь сгустившийся дым в ту постель, из которой, ее подняли — должно быть, в последний раз.
Я догадалась, что Гекатой она называла Кали. Все уставились на меня.
— Ты в самом деле Цыганка Мери? — стали они спрашивать. — Ты станцуешь для нас? Пожалуйста, попляши!
Я оглядела маленькую группку женщин; чуть дальше вся толпа извивалась и притоптывала не в лад под грохот барабанов и дерганый ритм хриплых труб. То и дело крестьяне принимались махать руками над головой, восклицая: «Э-ге-гей, серебряная луна!», призывая этими словами Царицу Небес. Кое-кто уже пристроился к столу, пиво пили прямо из бочки, молодые люди выдергивали из бочонка затычку и подставляли рот под струю, очень похожую на струю мочи, они ловили ее ртом, как собаки ловят пастью молоко, льющееся из коровьего вымени. На закуску у них были куски свинины с большими ломтями серого ржаного хлеба. Если бы я пустилась в пляс, никто бы и внимания не обратил. Хорошо бы я выглядела, отплясывая где-нибудь в уголке, пока мои зрители полностью погружены в выпивку, еду и собственные забавы.
— Потом, — пообещала я.
«Потом» наступило примерно через час. Я с толком использовала это время. По моей просьбе Эрика отвела меня к себе в хижину, и там я подготовилась к выступлению. В хижине в очаге тлели бледные угли, в свисающей с потолка корзине раскачивался младенец. Мужчиной тут и не пахло либо Эрика только что овдовела, либо ей удалось попользоваться чужим мужем. У нее не нашлось никаких украшений, кроме медных браслетов. Мы обмакнули их в пиво, чтобы они заблестели, будто золото. Я вообще-то люблю медь, этот металл посвящен Парвати. У меня с собой был мешочек с жемчугами, я спрятала его, войдя в деревню. Куда именно? Не скажу. Не надо обижаться — у каждого свои секреты.
Эрика согласилась рискнуть — оглядевшись и убедившись, что за нами никто не наблюдает, мы пробрались в церковь. Священник навещал это селение только раз в месяц, но у него в сундуке хранилось облачение. С помощью кремня, огнива и трутницы Эрика зажгла несколько свечей. Пока она перебирала одежду, лежавшую в сундуке, я подняла повыше одну из свечей и обошла всю церковь. Здесь пахло сыростью и прелью, холодный камень источал телесную влагу давно умерших людей. Вот он, Иисус, растянутые в муке мышцы, мертвенно-бледная кожа, он висит на своем кресте, бедный глупец, вот его мать в боковом приделе, она держит на руках дитя и над головой у нее сверкает нимб из золотых листьев. Но где же прославление матери? Ведь это младенец должен смотреть на нее с молитвенным восторгом, а не наоборот.
Вернувшись в ризницу, я снимаю через голову балахон и слышу короткий, изумленный вздох Эрики. Я беру женщину за руку — ее рука огрубела от стирки и полевых работ, — поглаживаю ее ладонью свою грудь — плоскую часть груди, там, где она еще не раздваивается, — затем обе груди, плечи, спину и ягодицы, а Эрика все вздыхает, дивясь, какая гладкая у меня кожа, как светится моя смуглота в пламени свечи. Она протягивает мне омофор[138] с красивой вышивкой, с завязками сзади, и мы сооружаем из него юбочку, или, скорее, передник, какой надевают храмовые танцовщицы.
Мне бы еще смазать волосы буйволиным маслом и зачесать их кверху, украсив короной, но мои волосы еще только отрастают, они слишком короткие, так что мы находим еще одну ризу, белую с золотом, и я обматываю ее вокруг головы наподобие тюрбана. Лицо я раскрасила, растерев уголь с маслом, обвела глаза, придав им миндалевидную форму, сделала гуще ресницы и брови, вместо помады использовала красную глину и масло. Этой же краской я покрасила соски, а вокруг сосков нарисовала узор из спиралей и точек.
Конечно, это лишь жалкая тень того великолепного наряда, который имеется у меня дома: и пояс, и диадема, и браслеты, и кольца на пальцы ног и рук, и серьги — все из чистого золота и драгоценных камней. И все же я кажусь Эрике чем-то необычайным, быть может, даже божеством: она падает на колени, обхватывает руками мои бедра и утыкается лицом в омофор.
— Ты и вправду Цыганка Мери, — стонет она. — Ты — Мария.
На большие и средние пальцы я надеваю маленькие колокольчики и, согнув перед собой локти, прижимая к ладоням мизинцы, слегка трясу руками, чтобы Эрика услышала серебряный перезвон.
В большом амбаре стихает веселье, из всех духовых поет одна только флейта, а барабанщик постукивает в натянутую кожу пальцами, вместо того чтобы колотить ладонями. Под эту тихую дробь покачиваются несколько пар, мужчины и женщины тесно сплелись в объятиях, а остальные уже растянулись на земляном полу или укрылись в сене. Дым отчасти рассеялся, из большого бочонка на козлах вытекают последние капли, старик, растянувшись на спине, пытается ловить их ртом. Разумеется, как только я вошла, те, кто оказался ближе всего ко мне, смолкли, а затем по всему залу распространилась тишина, нарушаемая лишь храпом. Крестьяне во все глаза уставились на меня.
Я легонько позвенела колокольчиками, наклонила голову вперед и чуть вбок, выбросила ногу вверх, согнув и повернув наружу колено, и опустила ногу, легонько притопнув. Затем то же па еще раз, с другой ноги. Руки покачиваются, пальцы сгибаются и выпрямляются. Динь-динь, звенят колокольчики, и вот уже барабанщик, великан с широкой грудью, с руками, похожими на хобот слона, и порослью черных волос на груди, подхватывает ритм, отбивает его пальцами по натянутой коже барабана, а за ним следует его приятель флейтист, высокий и тощий, желтоволосый. У моих ног стоит принесенная Эрикой из церкви курильница, из нее поднимается аромат благовоний, заглушающий запахи древесного дыма и кислого пива.
Я начинаю петь на родном языке:
О богиня Минакши,
Чье прекрасное тело сияет
глубокой синевой, Чьи глаза похожи на двух карпов, Богиня, освобождающая нас
от оков этой жизни, Восседающая в лесу
на дереве кадамба, Высокочтимая победительница
Шивы, Благослови меня.
А барабанщик вставляет свой припев:
Добрый сэр, моя девчонка — будто ангел иль царица.
Задерет свою юбчонку, Всех потащит веселиться.
Покачиваясь, отбивая такт, я прохожу по всему амбару, из-под моих смуглых стоп поднимаются облачка пыли, смешиваясь с дымом курений, обвивающим мои бедра. При свете горящих углей медь и жемчуга так и переливаются, пламя свечей дрожит, когда я прохожу мимо, с силой ударяя ногами по полу. Обнаженные груди сулят сладость большую, чем сладость граната, мои ягодицы подобны двум грушам. Все обращенные ко мне взоры загораются тем же пламенем, никто из зрителей не осмеливается даже пошевелиться, они лишь вздыхают, постанывают от сладостной боли. Они уже знают, что танцу предстоит окончиться, что ничего подобного они больше никогда не увидят.
Барабан и флейта угадывают мои желания, мы словно обмениваемся безмолвным сообщением. Желтоволосый флейтист испускает тихие вздохи, похожие на дыхание младенца, барабан гремит все громче, ритм ускоряется, как пульс страстного любовника. Я поднимаюсь на цыпочки, я вращаюсь на одном пальце, руки, взметнувшись над головой, кружатся, одержимые неистовым желанием, и, все так же не отводя от меня глаз, каждая женщина тянется к своему мужчине, мужчина к своей женщине. На моих плечах блестит пот, пот стекает струйкой между грудей, между бедер, от моих движений поднялся ветер, промчался по всем углам амбара, распахнул мешковину, закрывавшую вход в амбар, и снаружи ворвался теплый ветер с дождем, подхватил меня в объятия, задул свечи, погрузил помещение в темноту.
У нас впереди еще вся ночь. Первым нашел меня в темноте Алан, барабанщик, но он так шумел, что его вопли и стоны вскоре привлекли в наш уголок Дэвида вместе с его флейтой. Сено глубокое, мягкое, оно все еще пахнет свежестью, пахнет даже летними цветами, скошенными вместе с травой. Эти парни очень милы, они отчасти утолили мой голод, но они не заменят мне Эдди. Зато, когда они наконец затихли почти затихли, если не считать раскатистого храпа Алана и посвистывания Дэвида, — меня разыскала Эрика. Она взяла меня за руку и повела в свою хижину. Ее мальчик спокойно покачивается в свисающей с потолка колыбели, угли все так же горят в очаге посреди дома. Эрика обтерла мне все тело тряпкой, смоченной в теплой воде, напоила ключевой водой с хлебом и сыром. Она уложила меня в свою постель, убаюкала в своих объятиях. Ее губы касались ямочки у меня на шее, ее грудь прижималась ко мне, и из нее сочилось молоко, ее сильные ноги обхватили меня за талию и бедра.
После первых петухов, еще до рассвета, Эрика снарядила меня в путь, в Бэнбери, но едва я отошла на сотню ярдов от деревни, как позади раздались поспешные шаги. Я оглянулась Алан догнал меня и пошел рядом, не говоря ни слова. Поверх кожаной куртки с передником он успел накинуть плащ, свой глиняный барабан он нес за спиной.
Еще десять ярдов — и вновь шаги, из морозно сверкавшего тумана показался Дэвид, тоже в плаще. Без сомнения, флейту он прихватил с собой. Дэвид недружелюбно глянул на Алана и, по его примеру не говоря ни слова, пристроился рядом со мной с другой стороны.
Так не пойдет. Они оба готовы превратить меня в свою собственность, чего я совершенно не желаю. Я сотворила молитву Парвати, и не прошло и десяти минут, как молитва была услышана. Мы как раз поднимались в гору. Если мы перевалим через гребень, деревня полностью скроется из виду, а тогда уж никакая сила не заставит их повернуть назад. Я стала замедлять шаги, притворилась, будто совсем запыхалась, схватилась рукой за ветку дерева и остановилась отдохнуть. Слава Парвати, они уже догоняют нас. Впереди бежит маленькая девочка в шерстяном платье, с растрепанными волосами, затем ее обгоняет мальчик, и в итоге мальчик подбегает к нам первым.
— Дядя Алан! — кричит он. — Дедушка Берт порвал цепь на бороне. Если ты не вернешься, мы не сможем взборонить поле.
Девочка уже стоит перед нами.
— Дядя Дэвид, если ты не вернешься, дядя Алан не сможет раскалить щипцы, потому что в мехах у него дырка.
Я поглядела на обоих моих спутников, на Алана и Дэвида.
— Ясно. Ты деревенский кузнец, а ты чинишь ему мехи. Так давайте здесь и попрощаемся.
И я пошла дальше, мурлыкая под нос гимн богине, поднялась на гребень холма и начала спускаться по другую его сторону.
Глава двадцать шестая
На рыночной площади Бэнбери началась масленичная ярмарка. Разумеется, мне было неприятно смотреть на тушу зажаренного целиком быка, но многое другое радовало обоняние и вкус: яблоки на палочках, запеченные в меду, куски свинины и баранины, зажаренные на решетке, пирожки с изюмом, которыми гордится эта местность, вино, подогретое со специями; здесь продавалась всякая мишура, ярмарочные гостинцы. Было на что посмотреть фокусники, жонглеры, глотатели огня, канатоходцы. Мужчины соревновались в силе и ловкости, одно состязание заключалось в том, чтобы с размаху прокатить по наклонной планке большой деревянный мяч и сбить им девять фигурок, похожих на булаву. А карнавальная процессия! Во главе процессии на белом коне ехала поразительно красивая девушка, с белоснежной кожей, длинными золотистыми волосами, в зеленом платье, с кольцами на пальцах рук и колокольчиками на пальцах ног. За ней следовали музыканты с уже привычными мне трубами, волынками и барабанами. Догадывались ли жители Бэнбери, кем на самом деле была эта карнавальная королева? Даже если и догадывались, они бы не признались в этом даже шепотом.
А еще я видела кукольный театр, и он порадовал меня больше всего, напомнив о родном городе, где часто устраивают подобные представления. На площадь выехала повозка, старая лошадь, запряженная в нее, так и осталась стоять ее не выпрягли, только привязали к морде торбу с сеном. Повозка открылась сзади, и у самого входа в нее натянули ширму из белого хлопка или шелка. В полу повозки открывается отверстие, через него кукольники, спрятавшиеся под повозкой и укрытые занавесом, спускающимся до самой мостовой, выставляют наружу плоских кукол, управляют движениями их рук и ног, а сзади эту сцену освещают масляные лампы и свечи. В полдень, когда я впервые увидела этот спектакль, он не произвел на меня особого впечатления, но вечером, когда лиловые тучи заволокли небеса, и солнце скрылось позади большой новой церкви, и редкие хлопья снега закружили над рыночной площадью, тележка с куклами показалась и впрямь прекрасной маленькая пещерка, наполненная светом и радостью.
Над ширмой красовалась надпись красными и желтыми буквами по дереву: «Джеф Рив с семьей. Театр теней для развлечения и наставления, выступавший перед коронованными особами Европы».
Они изображали чудо, совершенное Богоматерью для пилигримов на пути в Сантьяго. Мне стало скучно, и я вновь замешалась в толпу, стащила несколько ячменных пирожков с медом и отведала их. Потом я услышала, как восторженно вопят зрители, окружившие повозку, и вернулась к театру теней.
Над занавесом появилась новая надпись: «Последний английский король». Должно быть, это будет поинтереснее. Я пристраиваюсь рядом с крестьянином, который угощается ячменными хлопьями, обжаренными над жаровней и раздувшимися от тепла.
Воин — это и есть главный герой, судя по тому, что он выше всех остальных, — присягает на верность Герцогу. Толпа улюлюкает. Его обманули, кричат все. Умирает старый король, с седой бородой, в короне. Герой надевает его корону, и толпа радостно вопит. Герой сражается с двумя противниками в крылатых шлемах и побеждает их. Снова радостные клики. Над ширмой проплывают, покачиваясь, корабли. На берег выходит Герцог. Толпа улюлюкает. Начинается новая битва. Она затягивается, потом Герою в глаз попадает стрела, выбегает Герцог, приканчивает Героя и забирает себе его корону. Толпа снова улюлюкает, но уже без прежнего воодушевления. Кое-кто из зрителей расстроился до слез.
Зрелище завершает комедия: молодая жена, обманув старика, залезла на грушу и там совокупляется с юношей. На самом деле эта история не так примитивна, как кажется на первый взгляд. Старик — это зима, груша — древо любви, юноша весна, а жена земля. Подходящий спектакль для праздника, отмечающего столкновение зимы с весной. И вообще, учитывая, что актеров в представлении заменяли всего лишь тени, отбрасываемые куклами на занавес-экран, это был действительно хороший театр, исполнявший свое предназначение — наставлять развлекая.
Я собиралась уходить, но, услышав сердитый вздох у себя за спиной, обернулась и увидела невысокого человечка с редеющими седыми волосами, в очках, с приятным открытым лицом. Он проталкивался сквозь толпу, держа в руках открытый ящичек, а другой рукой опираясь на трость с изогнутым набалдашником.
— Пенни за веселье! — взывал он. Стоявший рядом со мной крестьянин, поглощавший воздушные хлопья ячменя, поспешно удалился, расталкивая соседей. Я бросила в ящик пенни — эту монету и еще четыре я вытащила из кошелька сбежавшего крестьянина.
— Великодушный дар! — сказал пожилой человек. — Вполне хватило бы и фартинга.
— Вы же просили пенни.
— Так принято. — Он подхватил меня под локоток и, оглянувшись через плечо, произнес: — Судя по вашей речи и смуглой коже, я заключаю, что вы иноземец, прибывший в наши края с далеких берегов?
Я кивнула в ответ.
Толпа понемногу рассеивалась. Джеф Рив — несомненно, это был он, собственной персоной — мрачно поглядел вслед уходящим зрителям.
— Из них уже ничего не выжмешь. Не откажетесь пропустить со мной по стаканчику? — Он призадумался и уточнил:— Скажем, в «Белой Лошади»?
Он встряхнул коробочку с монетами, и я охотно последовала за ним к театральной повозке. Сзади этот человек немного смахивал на священника: лысина на затылке напоминала тонзуру, а подпоясанный веревкой плащ одеяние монаха. Возможно, он был членом одного из меньших братств. На это указывали и его образование, и хорошие манеры — я уже знала, что в Ингерлонде их можно обнаружить только у людей, принадлежащих к церкви (и то далеко не у всех).
— Дженни? — позвал он. — Я тут повстречал славного парня, он иностранец. Мы с ним пойдем выпьем по кружечке в «Белой Лошади». Присоединяйся к нам, если ты не против.
Красивая блондинка, намного моложе мужа, убирала в глубину повозки подушки, на которых еще недавно сидели, таращась на экран, дети. Она приветливо улыбнулась мне.
— Рада познакомиться, — сказала она. — Скоро приду.
Джеф Рив вытряхнул монеты из деревянного ящичка, оставил себе пару пенни, остальные протянул жене. Он снова подхватил меня под руку, и мы вместе пошли по булыжной мостовой мимо креста в таверну «Белая Лошадь», напротив кабачка «Прекрасная Леди».
В таверне моего спутника все знали.
— Что подать вам, мистер Рив? — окликнула его веселая девчушка, всем своим видом выражая готовность обслужить его вне очереди и не обращая внимания на других клиентов.
— Две пинты подогретого зимнего эля, Бесс, — пожалуйста, подай в оловянных кружках — и пару дюжин устриц из той партии, что прибыла вчера. Скажи Питеру, что мы сядем у камина. — Он увлек меня к большом камину, возле которого был удобный уголок со скамьей и трехногим столом.
— Здесь мы хотя бы согреемся. От холода у меня все кости болят, особенно бедро, — с этими словами он подтянул повыше полы плаща, выставив наружу колени, вытянул ноги и руки поближе к камину. В стеклах очков замерцали отблески огня.
— Так откуда вы приехали? — спросил он. Я не видела причины лгать ему.
— Из Бхаратаварша. — Я воспользовалась санскритским названием страны. — Вы называете всю эту местность Индией.
— В самом деле? Напомните мне, пожалуйста, это с какой стороны от Африки?
— По ту сторону.
— Так-так. Что же привело вас на наш край земли?
На этот вопрос было труднее ответить. Если бы я сказала, что в поисках мудрости покинула ту самую страну, которая является источником всей мудрости, столь образованный господин мог бы и посмеяться надо мной. Но тут, к счастью, нам подали еду, и это прервало разговор.
Устрицы были просто великолепны. Их уже открыли, так что нам оставалось только высасывать их из блестящих перламутровых раковин. Раковины были тоньше и более округлые, чем те, что встречаются на побережье Малабара, и вкус этих устриц был изысканнее. Эль оказался темным густым напитком с привкусом фруктов. Он сразу же ударил мне в голову, возможно потому, что мы его пили горячим. У края кружки плавало маленькое дикое яблочко.
— Ваш спектакль повествует о нормандцах, — заговорила я, — о племени, которое правит вашей страной.
Очки сверкнули, за ними — умные, многое повидавшие глаза.
— Ублюдки! Нет, не о них. О Гарольде. Он был славный парень, ему не повезло.
— Ему угодила в глаз стрела.
— Вот именно. Он проиграл битву. Вильгельм[139] стал королем, власть досталась нормандцам. Ублюдки! — повторил он.
— Они в самом деле чем-то отличаются от вас?
Мой собеседник наклонился вперед, положил руку мне на колено.
— Да, — ответил он. — Завоеватели так и не стали частью английского народа, хоть им и пришлось жениться на дочерях датчан и саксов, поскольку среди них не было женщин. Их короли происходят из семьи французских герцогов Анжу, они носят имя Планта-Генет, потому что основатель династии украшал свой шлем вместо перьев веточкой цветущего дрока, называемого по-французски «gent».
Произнесенное им имя что-то расшевелило на дне моей памяти — так краб, пробираясь по дну, взрывает верхний слой песка, но я не сообразила, о чем оно мне напомнило. Джеф продолжал свой рассказ:
— Прошло четыре столетия, и только теперь, в последние шестьдесят лет, они начинают учить английский язык. Да они вовсе не англичане, надменные ублюдки, не думающие ни о чем, кроме сана и званий, озабоченные соблюдением ритуала и сохранением внешних отличий от местной знати.
Я припомнила, как в Кале Уорик и его приближенные издевались над Вудвилом, потому что он не был нормандцем.
— Они держатся друг за друга, они любят состязания в силе и ловкости, но только самые воинственные. Те, кто недостаточно силен физически, становятся епископами. Друг с другом они могут общаться вроде бы и небрежно, но по отношению к чужакам всегда держатся заносчиво.
— А их женщины? — спросила я.
— Они полностью подчинены мужчинам, служат им, словно рабыни, выходят замуж по родительскому приказу, приносят ребятишек каждый год, точно скот, и даже больше, чем мужчины, блюдут свои звания и привилегии.
— А каковы же настоящие англичане?
— Есть два вида англичан те, кто согласился подчиниться, и те, кто не уступил. Подчинившиеся стали послушными и услужливыми, они готовы на все, лишь бы не голодать. Видите ли, нормандцам было не так просто править страной, им требовались писцы, чиновники, шерифы, констебли, таможенники. Нормандцы с удовольствием предоставили эту работу саксам.
Он вздохнул и продолжил свой рассказ: — Эти люди, эти предатели, научились быть очень точными и исполнительными, чтобы угодить своим хозяевам. Они признали нормандцев своими господами по праву и в силу традиции, они готовы на все, лишь бы хозяева были ими довольны, они тянутся за ними и пытаются подражать их обычаям. Чаще всего на сотрудничество с пришельцами соглашались саксы, даны более независимы, но до прихода завоевателей оба народа жили душа в душу и звались англичанами.
Джеф поменял позу, поднес к губам опустевшую свинцовую кружку, встряхнул ее. Оглядевшись, я подозвала мальчика, принесшего нам эль и устрицы, и заказала еще две пинты. На этот раз платила я.
Теперь Джеф говорил неторопливо, словно обдумывая каждое слово, которое собирался сказать.
— В прежние времена саксы и даны сами правили страной, собираясь на советы по деревням. Даже король подчинялся большому совету, Витангемоту. Теперь все наши права отняты и полузабыты, но дух, породивший эти свободы, все еще жив.
— И это — еще одна сторона английского характера? — предположила я.
— Вот именно. Внешне мы соблюдаем все навязанные нам правила, но в душе остаемся по-прежнему независимыми и глубоко уважаем право другого человека быть самим собой. Мы можем трудиться изо всех сил, если захотим, хотя вообще-то мы предпочитаем пить, плясать и распутничать. И могли бы заниматься этим в свое удовольствие, если б наш добрый Гарольд выиграл ту проклятую битву! — Мой друг закачался на скамье и утер слезу. — Веселая Англия, — вздохнул он. — Где она, веселая Англия?
— Джеф! Джеф! Я тут. — Я подняла глаза и увидела Дженни, которая с улыбкой смотрела на нас.
— Привет, дорогая, — Джеф резко выпрямился и взял себя в руки. — Я тут рассказывал этому парнишке про англичан и все такое. Он родом из Индии. Волшебные места. Может быть, мы поставим спектакль, если он расскажет нам о своих приключениях. Как тебе такое название: «Перелетный дворец»? Садись, дорогая, выпей, закуси, поболтай с нами, — и он подмигнул мне. Полагаю, жена заметила это и в свою очередь состроила мне смешную гримаску, устраиваясь на скамье рядом с Джефом.
Ковентри. Я все так же пробиралась проселками, избегая опасностей, подстерегающих путника на большой дороге, поэтому путь занял полтора дня. Признаться, в конюшне при таверне в Бэнбери мне не удалось выспаться. Я спала на соломе рядом с конюхами и грумами и должна была притворяться мужчиной. Я выпила вместе с Ривами галлон эля, который настойчиво просился наружу, а не так-то легко соблюдать маскарад, когда справляешь нужду рядом с мужчинами, пускающими свою струю. И потом еще устрицы. Говорят же: не ешьте устрицы там, откуда не видно моря, — хорошее правило, и, добавлю, открывать раковины нужно самому. Достаточно, чтобы среди десятка моллюсков затесался один несвежий, и один такой мне попался, в чем я весьма скоро убедилась. Но они пропеклись у огня, и я запивала их элем, а потому не почувствовала сомнительного вкуса.
В результате я попала в Ковентри только в полдень, а могла бы поспеть и накануне вечером. Когда приближаешься к этому городу, еще издалека можно разглядеть высокий шпиль собора — он взмывает к небесам как игла, пронзая облака дыма, висящие над крышами домов. Город построен на возвышении, он нависает над окрестными полями и деревушками, но довольно скоро проступают и обширные трущобы у самых городских стен. С тех пор как Лондон стал проявлять враждебность к королевской партии, король, а вернее, королева превратила этот город в центре острова в столицу, где заседало правительство и собирался парламент. Сюда переместились все институты, управлявшие страной.
За высокопоставленными господами последовали тысячи бродяг, людей, не имеющих ни заработка, ни верных доходов, спившиеся ремесленники, жонглеры и фокусники, лудильщики-цыгане, шлюхи, попы-расстриги, наемники, ищущие себе господина, лошадники и все те, кто продавал этому сборищу провиант и напитки, в особенности крепкие напитки, до которых англичане большие охотники. В столь большом городе, как Лондон, эта масса могла бы рассосаться, многим бы даже удалось найти себе занятие, но Ковентри был прежде маленьким городком, едва ли с пятью тысячами душ населения, теперь же он разбух, и в этих трущобах уже не действовали ни закон, ни обычай, ни человеческие установления — это место превратилось в человеческие джунгли. Ковентри был окружен хибарами со всех сторон, словно желток внутри белка.
Этот выморочный пригород начинался с огромных дымящихся куч мусора, где отбросы пищи были перемешаны с дерьмом, и животным, и человеческим, по этим холмам ползали старухи с детьми, копались в них, просеивали в поисках пищи. Им годились и капустные кочерыжки, и заплесневевшая лепешка, рыбьи головы и даже скорлупа с остатками яйца, особенно жадно они подбирали остатки мяса копыта, свиные уши, коровьи хвосты и головы коз. Это и впрямь остатки — начался пост, и на сорок дней употребление мяса запрещено.
Дальше начиналось скопище лачуг, между ними почти не оставалось прохода, кроме нескольких дорог, которые с разных сторон света сходились к городским воротам. Волей-неволей приходилось идти по одной из этих дорог, где путешественника подкарауливали десятки нищих, пускавших в ход любые ухищрения в надежде хоть как-то прокормиться. Женщины, качавшие на руках младенцев (некоторые люди здесь промышляют тем, что сдают малышей в аренду), тянули меня за рукав и подставляли загрубевшие ладони; молодые люди в самом расцвете сил подвязывали себе совершенно здоровые конечности таким образом, чтобы они казались культями, и уверяли, что лишились рук и ног на службе у короля, а то и во французской кампании; другие рисовали язвы у себя на лице или симулировали слепоту.
Пробираясь к городским стенам, я натыкалась и на мошенников, торговавших талисманами и амулетами, медальонами для паломников и прочей чепухой, которая якобы защищает от всяких бед, видела я уличных аптекарей, предлагавших всем и каждому драконью кровь зеленого цвета, камни из головы ядовитой жабы, съежившиеся акульи желудки, изображения рук и ног из дерева и стеклянные глаза; а некоторые выкладывали на продажу высохшие ручки и ножки младенцев, уверяя, что это святые мощи; у одного человека имелся даже стеклянный сосуд с мочой ведьмы — если эту жидкость капнуть на затылок женщине, заподозренной в колдовстве, то поднимутся испарения и отвратительная вонь, которые и подтвердят, что она безбожная ведьма.
Торговля шла довольно бойко, но особенно успешно подвигались дела у высокого тощего человека со свисавшими до плеч светлыми волосами — он продавал отпущение грехов с подписью и печатью Папы Римского. Эти полоски пергамента гарантировали любому мужчине или женщине избавление от мук чистилища или сокращение пребывания в этом мрачном месте, где грешные души должны очиститься, прежде чем попасть в рай. Во всяком случае, таковы суеверные представления этого народа.
Все эти вопли и визги, монотонный напев и выкрики торговцев звенели у меня в ушах и казались ничуть не лучше громкого скрипа трущихся друг об друга черепиц. Этот нестройный шум терзал мой слух, а зрение, обоняние, даже осязание страдали от соприкосновения с окружавшим меня убожеством.
Наконец над покрытыми соломой лачугами и полотняными шатрами показались Южные ворота, двойная башня с подъемным мостом посредине. Мост был опущен, над ним напоказ были выставлены черепа и наполовину обглоданные головы тех, кто имел несчастье не угодить властям. Я остановилась в испуге: ворота, ведущие к мосту, были закрыты, и их охранял десяток вооруженных мечами и арбалетами солдат. Но не успела я призадуматься, каким же способом мне попасть в город, как прозвучал сигнал трубы и за спиной у меня раздался тяжкий грохот копыт по булыжной мостовой, скрип колес, свист бичей, звон упряжи и доспехов.
Деваться мне некуда. Прямо на меня едет отряд солдат в шлемах с открытыми забралами — мне хорошо видны их лица, — в кольчугах, нагрудниках, в металлических поножах, прикрепленных к доспехам таким образом, что колени могут сгибаться. У пояса — большие мечи, в руках — тяжелые копья. С седел свисают на ремнях щиты. Огромные боевые кони с трудом выдерживают эту ношу, исходя потом и передвигаясь мелкой рысью. Конников всего двенадцать, но они занимают так много места, что толпа расступается, жмется к стенам жалких лачуг с продавленными крышами, угрожающими придавить обитателей. Ага, теперь понятно, для чего им понадобилось расчистить дорогу — они везут за собой чудовищных размеров пушку, ее с трудом тащит целое стадо мулов. Ствол пушки сделан из нескольких железных труб, сваренных вместе и укрепленных бронзовыми ободьями. За ней на отдельной повозке везут каменные ядра, далее следует фургон с бочками пороха. Конечно, эта колесница несколько уступает в размерах той, на которой Джаггернаут совершает переезд из Пуритского храма в Ориссу, но она также крушит и давит всех, кто попадается ей на пути, с тем лишь отличием, что паломники, бросающиеся под колесницу Джаггернаута, аватары Вишну, добровольно приносят себя в жертву, а несчастные, погибающие на моих глазах у стен Ковентри, вовсе не желали подобной смерти и принимают ее в ужасе и мучениях.
Но меня Джаггернаут выручил, он прибыл как раз вовремя, чтобы открыть мне ворота в город. Представьте себе, как движется в бурных волнах гигантский ствол рухнувшего дерева — он словно тянет за собой взбаламученную воду, и вслед за ним плывет всевозможный мелкий мусор. Так и здесь: стражники старались как можно скорее закрыть ворота, отсечь людской поток, но, пока опускались черные зубцы решетки, человек тридцать успели проскочить вовнутрь, и я в их числе.
Я приостановилась, пытаясь сориентироваться, и, подражая остальным, метнулась в боковую улочку и побежала между высокими домами с щипцовыми крышами, которые нависали над проходом, заслоняя и небо, и солнечный свет. Пробежав немного, я вновь огляделась. Я попала в какое-то темное, холодное место, я мгновенно замерзла, кажется, солнце никогда не согревает плиты, на которых я сейчас стою. Вокруг почти нет людей. Здесь совсем тихо, и я наслаждаюсь спокойствием этого места, столь отличающегося от сумасшедшего дома, где я только что побывала. Я убеждаюсь, что за мной никто не гонится, и все же не следует забывать, что я проникла сюда незаконно, что власти вряд ли отнесутся ко мне благожелательно. Боковыми узкими улочками я продолжаю удаляться от ворот и караулящей их стражи. И вот я уже вижу прямо перед собой высокий шпиль, вонзающийся точно игла в серое небо. На самом верху его венчает золотой крест. Я иду в эту сторону.
Пройдет всего час, и я окажусь в темнице.
Глава двадцать седьмая
Ума вздохнула, ее взгляд померк, но она быстро пришла в себя, встряхнулась, улыбнулась мне с нежностью, адресованной не мне, а далеким воспоминаниям, собрала всякие мелочи, которые она всегда приносила с собой, поднялась и ушла.
Тогда Али возобновил свою повесть с того места, на котором прежде остановился, и так оно продолжалось в течение нескольких дней: они поочередно рассказывали мне о своих приключениях до того самого момента, почти в конце путешествия, когда две эти нити наконец соединились.
— Я выздоравливал медленно, — так продолжил свой рассказ Али. — Питер Маркус говорил, что мое тело ослабло не только из-за поноса и лишений, перенесенных за месяцы пути, не говоря уж о необходимости питаться непривычной пищей, но и потому, что силы организма были еще в детстве подорваны страшным ударом суннитского ятагана. Правда, если учесть, что шестьдесят лет, если не дольше, я сохранял, несмотря на множество путешествий и превратностей, крепкое, сухое тело, и даже гордился выносливостью изувеченного вместилища моей души, то, полагаю, я вправе был несколько усомниться в этом диагнозе. Подозреваю даже, что брат Питер намеренно подмешивал к отвару кое-какие травы, от которых я чувствовал большую усталость и слабость. Дело в том, что, как он сам говорил, брат Питер редко имел возможность пообщаться с человеком, видевшим и испытавшим столько, сколько выпало на мою долю, и к тому же познавшим немало и из книг, и от мудрейших наставников нашего времени. Мы провели вместе шесть недель, все время поста, не выходя за пределы аббатства с его прекрасными садами. Все время, остававшееся свободным от религиозных обязанностей (я уже упоминал, что брат Питер исполнял эти обязанности прилежно, но без особого рвения), мы посвящали либо беседе, либо совместному чтению.
— Как видишь, дорогой мой Али, — говорил мне брат Питер, — я занимаю положение, внушающее мне самому почтение и страх, — я преемник трех величайших англичан, мысли и открытия которых в совокупности будут когда-нибудь признаны как величайший дар нашего народа всему миру.
Я достаточно разбирался в этой области, чтобы понять: он имеет в виду Роджера Бэкона[140], Уильяма Оккама (я сумел шутливо обыграть его знаменитое предписание относительно сущностей, или эссенций, которые не следует умножать без необходимости — так называемая бритва Оккама, — когда Питер готовил мне в первый вечер питье) и Джона Уиклифа. Мне было хорошо известно их учение, их связь с францисканским орденом и Оксфордом. Все трое жили здесь, основным местом их работы был Оксфорд, или Осни, университет защищал их от преследований со стороны властей.
Брат Питер посвятил свою жизнь тому, чтобы собрать, сопоставить, свести воедино учение и жизненный пример этих трех мужей и, приведя эти учения к гармонии, к согласию и единству между собой, построить на этом основании единую философию жизни, которая, в свою очередь, станет вехой для всего человечества на пути к совершенству. Я с радостью и гордостью обнаружил, что Питер понимает, до какой степени их наука является продолжением открытий и мудрости моих великих соотечественников, арабских ученых, в особенности Ибн Рушда, именуемого среди христиан Аверроэсом[141]. Кроме того, Питер высоко ценил и мои собственные идеи, вернее, идеи, внушенные мне тайным учением Хассана Ибн Саббаха. Я не стал спрашивать, Ума ли ему сказала, что я принадлежу к ассассинам, или он сам догадался об этом, когда, раздевая меня для купания, обнаружил в набедренной повязке тонкий стальной кинжал, на ножнах которого арабскими письменами был выведен основной постулат нашей веры — точнее, неверия.
Подснежники, которые мы видели в горах — хорошее название для крошечных белых цветков, напоминающих колокольчики, — сменились нарциссами, похожими на наши, затем последовали чистотел, анемоны, лютики, а у подножия кирпичной стены выглянули левкои, незабудки и даже тюльпаны. Луковицы тюльпанов монастырь получил в дар от великого имама мечети дервишей в городе Иконии (в Оттоманской империи), которому понравился философский диспут с некоторыми из собратьев Питера. В середине марта мучившее меня кишечное заболевание, особо упорная и скверная форма дизентерии, поддалось наконец травам брата Питера, и мы стали проводить больше времени в саду, на солнышке, устраиваясь на простых скамьях с плетенными из ивняка сиденьями. На спинках скамей сохранились вырезанные имена людей, столь же плодотворно проводивших здесь время в размышлениях в былые времена, и среди этих имен я обнаружил те три имени, к которым все время возвращался наш разговор.
Сад содержался в чистоте и порядке, дорожки были посыпаны мелкими круглыми камешками размером с горошину, на стенах у нас за спиной, как это делается в арабских садах Испании, шпалерами росли яблони, груши и даже виноградная лоза. На них уже набухали почки. В воздухе носился аромат нарциссов, белых и желтых.
Ход беседы определялся логикой или прихотью мысли, нас больше интересовала связь идей и возникавшие из нее выводы, нежели хронология. Мы не отделяли одну из этих великих жизней от другой, труд основоположника от труда последователя, мы просто выбирали то или иное положение и пытались истолковать или продолжить его. Мы хотели соединить все нити в сложное, но цельное полотно и этой одеждой укрыть измученные умы и души людей от порывов холодного ветра, от натиска тьмы, со всех сторон окружающей бытие. Ради простоты, мой дорогой Ма-Ло, я перечислю тебе этих великих мужей в хронологическом порядке и кратко опишу их заслуги.
Первым был Роджер Бэкон, трудившийся примерно двести лет тому назад. В мире науки ничто не возникает из ничего: учение Роджера опиралось на сочинения великих арабских мыслителей, не только Авиценны[142] и Аверроэса, но также Абу Юсуфа Якуба бен Исхака аль-Кинди[143] и Аль-бумазара. От первого из этих двоих он узнал многое о законах оптики и в результате сам сумел изобрести, или, по крайней мере, значительно улучшить, очки, без которых большинство ученых оказались бы слепы как совы, а от второго он научился математике и той вере в математические выкладки, которая требует полагаться на них не меньше, чем на богооткровенное Писание.
В области оптики, пожалуй, важнее изобретения очков оказались примененные братом Роджером принципы — наряду с математическими вычислениями это были методы наблюдения и эксперимента.
— Ты мог бы задать вопрос, что такое эксперимент (тут Али заговорил гораздо увлеченнее, чем он говорит обычно, даже когда на него нисходит желание философствовать). Допустим, ты наблюдаешь какое-то явление — скажем, как лучи солнца собираются с помощью линзы в фокус, в одну точку на поверхности, расположенной перпендикулярно по отношению к положению солнца на небе, и ты обнаруживаешь, что расстояние между линзами и поверхностью, на которой точка света окажется минимальной и притом наиболее яркой, изменяется в зависимости от толщины линз. Ты предлагаешь математическое, алгебраическое истолкование этого явления и выводишь формулу, согласно которой ты всегда сможешь вычислить, какая толщина линз потребуется при том или ином расстоянии между линзами и поверхностью, или же, если известна толщина линз, каким должно быть расстояние до поверхности, чтобы фокус сошелся в точку. Затем ты проверяешь точность полученных формул, многократно применяя их для вычисления толщины линз при известном расстоянии или для расстояния при известной толщине линз и убеждаясь, что именно таким будет результат на практике. Что такое алгебра? Это математический метод, разработанный Мухаммедом бен Муса аль-Хорезми[144]. Итак, когда эксперимент, то есть наблюдение за явлением, которое можно воспроизвести или контролировать, подтвердит математически выведенную гипотезу, мы можем быть уверены, что достигли истины. Таким путем и приобретается знание, наука.
Брат Бэкон верил, что любое другое знание не стоит и пенни (это медная монетка, мой дорогой Ма-Ло, дневная плата умелого ремесленника). Разумеется, он не мог заявить об этом публично. Почему не мог? Потому что тем самым он бы опроверг истину закона Божьего, сообщенного людям через посредство Святого Писания и истолковываемого Матерью-Церковью, а эти ревнивые боги послали бы монаха на костер, если б он посмел выступить против них.
Однако он отважился рассуждать о четырех причинах невежества: первая из них следование дурным и ненадежным авторитетам; вторая — власть привычки; третья — мнение необразованной толпы, а четвертая желание скрыть собственное невежество под личиной напускной мудрости. По мнению Питера, три из этих причин подозрительно напоминали методы, с помощью которых Церковь и Писание заставляют христиан верить в то, во что они должны верить.
Когда наша беседа достигла этого момента, я спросил аббата Питера, что он думает по поводу легенды о медной голове, якобы изготовленной Бэконом в надеждеполучить от нее мудрые изречения и пророчества. Голова будто бы произнесла лишь банальное высказывание: «Время было, Время есть, Времени больше нет», после чего разлетелась на атомы — на те самые атомы, которые Демокрит считал частицами материи. Мой собеседник понизил голос и, прежде чем ответить, огляделся, проверяя, нет ли кого поблизости.
— Порох, — прошептал он. — Это был тот самый порох, что нынче используется в пушках. Роджер соорудил первую пушку, он взял большой церковный колокол, медный колокол с большим зевом, и эти самые слова были написаны по краю его обода.
— Почему ты шепчешь? Ведь порох давно перестал быть секретным оружием, его применяют в сражениях повсюду, от Бристоля до Бомбея.
Но брат Питер продолжал негромким голосом:
— Как ты думаешь, почему «медная голова» Роджера взорвалась?
Я подумал с минуту.
— Потому что порох брата Бэкона оказался мощнее, чем он думал?
— Вот именно. Эксперименты и формулы позволили ему создать совершенный, выверенный рецепт пороха, гораздо более мощного и притом гораздо более точного действия, чем все остальные.
Сердце мое забилось. Я чувствовал, что приближаюсь к цели — к одной из целей нашего путешествия на край света, на этот остров варваров. Ведь мы должны были ознакомиться с новинками военного дела и техники.
— У вас сохранился этот рецепт — здесь, в Оксфорде?
— Да, здесь, в Осни. Однако он зашифрован.
— Почему?
— Начальники Роджера, руководители ордена, не возражали против его изысканий, большую часть жизни ему позволили провести в раздумьях и экспериментах, и никто не мешал ему, однако брату Роджеру предъявили одно условие: записи его работ должны быть сокрыты от взоров непосвященных, от тех, кто мог бы обойтись с результатами его трудов без достаточного почтения и осторожности. Короче говоря, они опасались, как бы эти открытия не были применены ради личной выгоды или власти, а то и чтобы ниспровергнуть учение Святой Церкви. Вот почему они зашифрованы.
— Но тебе известен ключ?
Питер потер указательным пальцем кончик носа.
— Ты уж мне поверь, — отозвался он. — Роджер не собирался прятать свою свечу под сосудом. Требуются лишь простые навыки в области криптографии, чтобы разобрать этот шрифт. Он оставил торчать самый кончик ниточки дерни за него, и вся нить выйдет наружу.
Глава двадцать восьмая
Да уж, в этот пост мне и впрямь приходится отбывать покаяние, в крошечной келье размером пять футов на три и высотой в четыре фута — только в самом центре свод приподымается еще на фут. Вместо двери здесь железная решетка, она выходит в коридор, и там я различаю еще множество камер, похожих на мою. Стены сложены из грубых, необработанных каменных блоков, кое-как скрепленных друг с другом известкой — об известке мы еще поговорим. Во время дождя в мою камеру проникают струи, целые потоки дождя, вода, грязная от соприкосновения с камнями и известкой, течет по стенам, собирается лужами на полу и под решеткой уходит в коридор. На полу гниет охапка соломы. Изредка ее меняют.
Я здесь совершенно одна. Прежде тут крутились мыши, но я их всех съела. Мне бы следовало пощадить беременных самок, у них появилось бы потомство. Быть может, я сумела бы разводить их и эта добавка к пригоршне ржаных крошек, которые мне проталкивают в миске под решеткой почти каждый вечер, позволила бы мне дольше продержаться. Кроме того, в соломе иногда обнаруживаются зерна, а то и целый колос.
Так вот, известка. По-видимому, в нее подмешали чересчур много песка, к тому же в нее попали частицы кремня, что тоже не способствует прочности здания. В первый же день я извлекла осколок кремня длиной в дюйм, с острым концом, и пустила его в ход (его, а затем еще множество таких орудий). Я царапала известку, я ковыряла ее, я врубалась в нее все глубже. И вот, примерно четыре недели спустя (точнее сказать не берусь, я давно уже сбилась со счета), я наконец вижу свет сквозь дыру, сквозь проделанный мной под углом тоннель, достаточно глубокий, чтобы в него пролезла вся моя рука до плеча. Как я возликовала! Первая и вторая фаланги указательного пальца ощутили на себе лучи солнца!
Я тут же представляю себе, как это выглядит снаружи: гладкая без окон стена темницы, примыкающей к зданию ратуши, незаметно, почти бесшумно сыплется песчаная известка в том самом месте, где три соприкасающихся углами камня немного расходятся, — и вдруг наружу выглядывает тощий смуглый палец, вертится из стороны в сторону, нащупывая дорогу. На какой высоте я проделала отверстие? В футе от земли или же на высоте шести футов над проулком, а то и еще выше? А вдруг его заметят, что произойдет тогда? Я поспешно втаскиваю руку обратно, извиваясь всем телом. Знаю я здешний народ: они вполне способны ударить камнем по неизвестно откуда взявшемуся пальцу, отрезать его ножом, а то и вовсе откусить. Лучше уж я приложу к моей стороне отверстия глаз и попытаюсь вобрать в себя солнечный свет. Затем я прикладываю к дырке ухо, я слышу отдаленный звон колоколов, стук копыт по камням и совсем близко — голос торговки: «Свежая капуста, весенняя капуста, налетайте-покупайте!»
Итак, эта келья может еще сделаться для меня не могилой, а материнской утробой, пусть только дитя отыщет путь на свет. А что? В кромешной тьме, не рассеявшейся даже после того, как моим глазам уже следовало бы привыкнуть к ней, я постаралась примерно оценить, каков размер проделанной мной в известке дыры. Она вполне соответствовала объему моей головы, а, как известно, где пройдет голова, там пройдет и все тело надо лишь обладать особым умением. Я пошарила вокруг, подобрала свой кремень и принялась расширять проход. Утомительная работа: царапаешь-царапаешь эту известку, так и эдак поворачивая свое орудие, а потом приходится выгребать крошево ободранными в кровь пальцами. Зато теперь я могу увидеть кровь на кончиках пальцев, а не только слизнуть ее языком. Этот труд не требует ни малейшей сосредоточенности, и мой ум может свободно блуждать по любым дорогам.
Более того, мой дух даже сейчас, в этих обстоятельствах, может заняться тем, что я больше всего люблю, — настойчиво, с наслаждением впивать все ощущения, пронзающие мое тело: и боль в паху, и холодное прикосновение камня к ступням, и онемение плечевых мышц ведь приходится все стоять согнувшись, — и даже жесткое и сухое, такое неприятное прикосновение песка, известки и осколков камня к ладоням и пальцам, и голод, словно язва грызущий мои внутренности. И все же: только ощущения напоминают нам, что мы живы, только в ощущениях мы и живем.
Но я не могу всецело предаться ощущениям. Вместо этого я вновь принимаюсь бранить себя за глупость, приведшую меня в заточение.
Я вышла на открытое место. С одной стороны площади высилась церковь, самая изящная, какую мне довелось увидеть за все время самостоятельного путешествия. Она была меньше собора Святого Павла и не столь величественна, как парижский Нотр-Дам, она взмывала вертикально к небу высокими, рассекающими воздух каменными арками — они были похожи на те косточки, которыми крепятся птичьи крылья, — точно рассчитанное равновесие сдерживало массу свода, пытавшуюся раздвинуть стены, а в стенах столько окон, что самих стен и не видно, одни лишь колонны да окна. Взгляд — а строители этого храма были уверены, что и душа тоже, — возносится все выше, выше, к башне, затем к венчающему ее шпилю и, наконец, к небесам, где, согласно верованиям этого народа, обитают три божества, составляющие одного бога (как это возможно?) и его или их мать. С западной стороны церкви были открыты большие двери, люди входили и выходили, я из любопытства присоединилась к ним. Внутри я увидела высокие стройные колонны, а на них несколько уровней хоров. Колонны были по большей части из бледно-серого камня приятного оттенка, а некоторые — из черного мрамора, они завершались капителями, похожими на венок из огромных листьев в форме веера, в котором отчетливо проступали каменные морщины. Я видела такие гигантские листья у нас в лесах на побережье Коромандела, но ни в Ингерлонде, ни во Франции они мне не встречались. Поразительно, что на этой высоте листья еще и расписали множеством ярких красок голубой, красной, золотой, но только не зеленой, как подобало бы растительному миру. По размеру они не уступают росписи, фрескам, статуям и другим украшениям наших храмов.
Окна в стенах, и наверху и внизу, тоже расписаны. Одни разукрашены разнообразными узорами, на других представлены сцены из жизни их богов и садху, святых, но прекрасней всего круглые окна-розетки высоко в торцовых стенах: там господствует синий цвет, удивительно мощная, притягивающая к себе весь свет синева, и изображена жизнь и прославление Марии. Что бы христиане ни думали, на самом деле это аватара Парвати, иногда именуемой Умой, я названа в ее честь.
Но в этом храме царит не Парвати, а Кали: повсюду я видела обличья смерти изувеченное, окровавленное тело на кресте, различные пытки, к тому же эти садху держат, словно опознавательные знаки, те самые орудия, с помощью которых их терзали и умертвили: Катерина стоит рядом с колесом, Лаврентий — с решеткой, на которой его изжарили, и так далее, и так далее. Кали проникла и в нижние помещения церкви, ибо там располагаются гробницы прежних епископов и знатных вельмож, а на каждой каменной гробнице изображен в виде барельефа усопший, либо во всеоружии, либо в священническом облачении. На одной из гробниц изваян отвратительный скелет вместе с доедающими его червями.
Итак, в этом храме представлено блаженство богов и жалкий образ смерти, но при этом никто не думает о любви и счастье, сопутствующих нам на пути из тьмы в свет и обратно во тьму. Что ж это за религия, которая требует от человека, чтобы он обратил свой взор к небесам, и при этом украшает свои святилища изображениями разлагающихся трупов?
Я-то знаю, в чем дело. Таким способом, сочетая прекрасные картины с ужасными и внушающими отвращение, церковники и князья удерживают в подчинении души множества тысяч людей, трудящихся во имя их процветания. Собор представляет всем нашим чувствам образ небесной радости, достичь которой никто не в силах, — и тут же запугивает смертью и вечными муками. Здесь хватает и цвета, и света, и сокровищ, которыми щедро отделаны кресты, одеяния, статуи; здесь курятся благовония, струясь белыми облачками из кадильниц, раскачивающихся на серебряных цепочках, здесь раздается музыка дудок и флейт, гобоев, труб, тромбонов и барабанов и согласное пение. Здесь есть удивительный инструмент, он состоит из ряда труб, куда воздух закачивается специальными мехами благодаря тому, что по этим мехам бьют маленькие деревянные палочки, отделанные слоновой костью. Столько музыки, столько цвета, столько запахов. Обращаясь ко всем чувствам, кроме главного осязания, — эти ощущения могут вызвать столь же сильный экстаз, как и слишком большая доза гашиша. Верующему кажется, будто он перенесся на небеса или, по крайней мере, что рай будет очень похож на это.
Церковники и князья сулят множеству своих рабов небеса в награду за послушание Богу и покорное исполнение своих обязанностей, пусть только не пытаются подняться над тем положением, в котором они рождены, выбраться из нищеты и горя. Награда — и тут же угроза наказания: ведь этот милосердный, всепрощающий бог обречет души мятежников вечной пытке, они будут кто гореть, кто гнить всю вечность. Картина ада тоже представлена здесь, пониже сцен блаженства.
Именно в этом заключается различие между нашей верой и христианской, это различие сразу становится заметным, стоит сравнить наши святилища: их храмы устремлены к небесам, и все земное по сравнению с небесным совершенством кажется падшим, ничтожным; если же они на миг отводят свой взор от небес, то лишь для того, чтобы поразить воображение верующих каким-нибудь ужасом. А наши храмы, даже самые высокие и величественные, отнюдь не пытаются скрыть свой вес и воспарить от земли, и прославляют они землю, а не небо.
Погрузившись в эти размышления, я ходила по храму, посвященному полубогу Михаилу, ангелу-воителю, который якобы загнал дьявола в ад. Дьявол здесь изображался в виде дракона или змея, а Михаил вонзал копье ему в глотку. Наконец я вернулась на площадь.
Напротив высилось еще одно здание, по размерам почти не уступавшее церкви, с резным каменным фасадом, со множеством статуй в нишах, тоже раскрашенных и покрытых золотом, как и те, в храме, со множеством больших и малых комнат, а также, как мне теперь известно, с камерами пыток и темницей. Это здание освящено во имя все той же Марии-Парвати, но на самом деле оно было предназначено для торговли и коммерции — это новая ратуша, сейчас, однако, она не служит той цели, ради которой была не так давно построена, поскольку вот уже год, как в ратуше разместились король Генрих и королева Маргарита, их придворные и слуги и все высшие чиновники государства.
На площади было также несколько больших ярмарочных шатров, галки вились над ними, оспаривая друг у друга право построить гнезда на их перекладинах. Раздался рев нескольких труб, из главных дверей ратуши вышли солдаты, спустились по ступеням и присоединились на площади к тем, что уже построились стеной, отделив толпу от той самой пушки, вместе с которой я вступила в этот город.
Вслед за солдатами на ступенях ратуши показалась небольшая группа людей во главе с королем и королевой. Я разглядела и семилетнего мальчика, сына королевы, но, по словам Эдди Марча, не сына короля.
Они приостановились на широкой лестничной площадке, посмотрели вниз, на площадь, потом на здание собора прямо перед собой, а затем спустились к этому чудовищных размеров орудию на колесах. Украшенные плюмажами и покрытые пеной мулы все еще нетерпеливо перебирали копытами.
Внизу у самой лестницы людей почти не осталось, никого, кроме солдат, доставивших пушку, и никто меня не останавливал — я проскользнула через арку черного дерева, выведшую меня прямо к лавкам, и, пройдя мимо них, подошла к ратуше и поднялась на несколько ступенек, чтобы отчетливо видеть государей и даже слышать их разговор.
Оп-ля! Есть! В верхней части проделанного мной отверстия треснула штукатурка, мне пришлось еще поскоблить со всех сторон, и большой кусок отвалился размером с кокосовый орех, а главное, теперь и камень задвигался чуть-чуть, словно больной зуб во рту у великана. Будь у меня кирка, а не этот осколок кремня!..
Так где я остановилась? Ах да, на ступенях ратуши. Отсюда мне было прекрасно видно и короля с королевой, и всю их свиту — я стояла чуть в стороне и повыше. Королева Маргарита привлекла бы к себе внимание в любой толпе. Она была среднего женского роста, намного ниже большинства окружавших ее лордов и вельмож, но от нее словно нимб исходило сияние уверенности и власти. Тридцатилетняя женщина в расцвете красоты, ума и физических сил. Она стояла очень прямо, слегка закинув голову на длинной шее цвета слоновой кости, выставив вперед крепкий и вместе с тем изящный подбородок. Нос ее тоже достаточно изящен, но переносица изогнута, точно орлиный клюв. Небольшие голубые глаза полуприкрыты веками, однако ни на миг не утрачивают бдительности. Она устремляет взгляд прямо на того человека, с кем собирается говорить, и вынуждает его опустить глаза. Волосы убраны под бархатную шапочку, украшенную небольшой золотой короной. Пурпурное платье достаточно простого покроя отделано жемчугом и золотой нитью, матерчатые туфельки также расшиты золотом. Длинные руки, длинные пальцы, отягощенные множеством перстней, совершенно спокойны и неподвижны.
Король выглядит полной ее противоположностью. Он старше всего на десять лет, а кажется — будто вдвое. Высокий, тощий, в коричневой бархатной шапочке, в коричневом камвольном камзоле, неопрятном, в пятнах от пищи. У короля запавшие, воспаленные глаза, неуверенная походка. Губы тонкие и слишком красные не думаю, правда, чтобы он пользовался помадой. На нем лишь одно украшение или знак высокого сана — тяжелая золотая цепь, S-образные звенья которой чередуются с квадратными (в квадратную оправу вделаны тусклые камни). На цепи висит богато украшенный самоцветами и жемчугом крест.
Король отличается обликом не только от своей жены, но и от вельмож. Лорды, точно павлины, соревнуются друг с другом нарядностью одежд, разрезами и фестончиками на своих камзолах, или более воинственными украшениями — доспехами с золотой насечкой, драгоценными кинжалами. Это фавориты королевы, те самые люди, против которых восстала партия Йорка; это они опустошили казну королевства и сундуки его подданных, разделили между собой земли короны, на доходы от которых прежде содержалось правительство.
— Смотрите, что привез нам милорд Бомонт, — восклицает королева. Голос у нее не слишком приятный, пронзительный, а подчас и визгливый. — Аррри, подойди поближе, взгляни на нее.
В ее речи отчетливо слышится французский акцент, хоть она вот уж пятнадцать лет как сделалась английской королевой. Вместо «Гарри» она выговаривает «Аррри».
— Но как же ее использовать? — спрашивает она. — Такая большая, громоздкая разве она пригодится в сражении?
Она обернулась к тощему темноликому человеку до того момента я не обращала на него внимания, но теперь признала в нем управляющего герцога Сомерсета. Мы познакомились с ним в крепости Гиень подле Кале.
— Монфорт, тебе хорошо известны тамошние места. Сможет ли лорд Сомерсет с помощью этой пушки проделать брешь в стенах Кале, а?
— Конечно, мадам. Если только удастся переправить ее ему…
Но тут король, заикаясь, пытается что-то выговорить.
Все замолкают, хотя делают это с явной неохотой — так юноши прикидываются, будто уступают старику, или родители потворствуют капризному ребенку.
— Разве французы, — бормочет король, — разве французы не могут войти в эту брешь вслед за лордом Сомерсетом?
Кое-кто из лордов задумчиво кивает в ответ на его слова, но королеве эти глупости уже прискучили.
— Аррри, ты ничего не смыслишь в этих делах. Лучше ступай, вернись к своим книгам. Ты же читал сейчас Боэция в переводе Чосера[145], верно? «Утешение философией»? Это так интересно, не правда ли?
Она подает знак, впервые пошевелив пальчиком, и пара придворных подхватывают под локти шатающегося на ходу короля, уводят его прочь Один из этих дворян высок, бледен, на голове у него черная шляпа; второй — приземистый, жирный. Мне еще предстоит познакомиться с обоими: высокий — это Джон Клеггер, а жирный — Уилл Бент.
Королева, точно ребенок, заполучивший новую игрушку, тянет своего сына за руку, торопится вниз по ступенькам к пушке. Один из вельмож подхватывает мальчика, усаживает его верхом на ствол, с другим приближенным королева вступает в беседу разумеется, они обсуждают, как лучше применить это новое орудие. Холодный ветер натягивает платье на груди королевы, становятся отчетливо видны ее напряженные соски, и лорд, одной рукой поглаживающий пушку, краснеет до ушей. В этот момент мне на плечо опускается чья-то тяжелая рука.
Шатается, вовсю шатается зуб гиганта! Еще десять минут, и я выберусь отсюда!
Кто-то стоит у меня за спиной. Схватил меня за плечо. Это Монфорт, ублюдок!
— Кажется, мы уже встречались, верно? Ты же из тех восточных путешественников, что побывали у нас в Гиени?
Глава двадцать девятая
Примерно через неделю после нашего разговора о Роджере Бэконе — к тому времени уже наступил апрель и все время шел дождь, легкий, уютный, однако державший нас взаперти мы перешли ко второму великому англичанину, столь любимому братом Питером. Мы сидели в его кабинете наверху, где было много книг и удобные кресла, в которых можно было провести весь день, и тут брат Питер накинулся на Авиценну, утверждая, что этот ученый в своем истолковании Аристотеля[146] полностью полагается на комментарий неоплатоника Порфирия. Следуя Уильяму Оккаму и то и дело ссылаясь на его труды, а порой и на «Органон» Аристотеля, мой хозяин доказывал, что теория Аристотеля о сущностях или универсалиях была извращена неоплатониками: они сочли, будто универсалии присутствуют в разуме Бога, а на земле представлены в телесном, материальном виде, подвергшись порче и упадку. Получается, что идея кошки — тут мой друг ласково погладил пушистую красотку Винни, имевшую обыкновение дремать у него на коленях и даже во сне громко мурлыкать, — идея кошки присутствовала в разуме Бога как некая совершенная кошка еще прежде, чем были сотворены кошки, а среди живших или живущих на земле котов нельзя найти совершенства, поскольку телесное воплощение всегда оказывается ниже идеи.
— Но тем самым, — и он вновь провел рукой по шейке и лобику Винни, украшенному белым пятнышком в форме начальной буквы ее имени, — тем самым мы отрицаем наиболее важное свойство Винни, ее особость, ее индивидуальность. Мы не замечаем, что она не только кошка, но и Винни, что она не похожа ни на одну из когда-либо существовавших кошек. В этом смысле она совершенна. Не знаю, является ли Винни идеальной кошкой, не мне судить, но безусловно она вполне и совершенно является Винни.
— Полно, — возразил я, — все кошки похожи друг на друга. Не говоря уж об их внешности и внутреннем строении, они и ведут себя одинаково — одинаково моются, едят и пьют, используют одни и те же приемы на охоте. Я бы мог назвать еще множество общих черт, но и так ясно, что я имею в виду. Невозможно отрицать, что есть некая идея «кошачести», включающая в себя все эти качества. Повисло молчание. Потом он сказал:
— Ты ведь никогда не принадлежал кошке?
Напряжение, прозвучавшее в его голосе, задело меня не меньше, чем дурацкий способ выражать свои мысли. Правда, я в те дни то и дело раздражался — обычное дело, когда поправляешься после болезни.
— Нет, — ответил я, — я люблю кошек, но они плохо переносят дорогу, а я, с тех пор как мне исполнилось восемь лет, не задерживался на одном месте дольше чем на полгода, за исключением лишь того периода, когда я приобретал в горах те немногие знания, какими ныне могу похвалиться.
— Тогда тебе придется поверить на слово всему, что я поведаю о природе кошек.
— Вот видишь! — воскликнул я, наклоняясь, чтобы похлопать его по колену. Винни тут же спрыгнула на пол и, мяукая, направилась к двери. — Ты сам говоришь — «природа кошек». Значит, ты подразумеваешь универсалию, идею, объединяющую их всех.
— Нет. Я имею в виду те признаки, по которым мы отличаем кошек от других животных того же размера и схожего облика. Но подумай вот о чем: кошкам по природе свойственно отличаться друг от друга. Это часть их «сущности», можешь мне поверить, и так получилось не в результате порчи материи после грехопадения человека, а потому, что кошки именно таковы.
Я понял: чтобы избежать долгого и бессмысленного спора, надо обратиться от примеров к обобщениям.
— И это относится ко всем явлениям чувственно воспринимаемого мира?
— Да. В этом мы Аристотель, Уильям Оккам и я — совершенно согласны.
Сквозь дождевые облака пробился солнечный луч и заиграл на столе.
— Даже если речь идет о двух пылинках?
— Смотри! — сказал мне брат Питер. — Две пылинки не могут находиться одновременно в одном и том же месте. Хотя бы в этом отношении они совершенно различны. А если бы мы смогли изготовить достаточно мощные линзы, чтобы разглядеть микрочастицы (я использую греческое слово «микро» для обозначения самого малого), мы бы увидели различия и между ними.
— Я прекрасно знаю, что обозначает слово «микро». Я говорю о другом: слова служат нам для обозначения типов. Слово «кошка» имеет определенное значение. Разве эти слова не передают идеи и сущности?
— Они обозначают роды и виды, но не сущность. Я бы, правда, предпочел заменить слово «тип» на «вид», а вместо «сущности» говорить «универсалии ».
— Я так ничего и не понял. Ты подставляешь одни слова вместо других, но это ничего не доказывает.
— Все потому, что ты придаешь слишком большое значение словам. Слова — всего-навсего орудия. Они полезны и удобны, но сами по себе они не содержат истину. Имеет смысл утверждать, что пиво есть пиво, поскольку пивом мы называем определенный вид напитка. Это удобно: когда я спрошу тебя, не хочешь ли ты пива, ты поймешь, какого рода ощущение и опыт я тебе предлагаю. Но при этом речь не идет о сущности пива, о совершенном пиве, которое содержится в разуме Бога. Наши слова подразумевают нечто противоположное ведь мы можем обсудить, чем это пиво отличается от другого, чем то пиво лучше этого. Кстати, тебе нравится это пиво?
Мы выпили. Поселившись в аббатстве, я счел возможным пить этот напиток, в котором почти не содержалось алкоголя. В противном случае мне пришлось бы пить речную воду — ведь колодца на острове не было.
— Да, — согласился я. — Оно чем-то отличается. Ты был прав.
— Это пиво изготовлено из хмеля особого сорта. Наши братья гуситы[147] из Богемии прислали нам мешок своего хмеля. А теперь вернемся к Уильяму Оккаму и подведем итоги нашего рассуждения о словах. Названия отдельных вещей мы именуем понятиями первого уровня. В английском языке им предшествует определенный артикль: «Эта кошка сидит у той двери. Та кошка возле той двери» — и так далее. А есть понятия второго уровня, универсалии, обозначения родов и видов. «Кошки любят рыбу. Кошки моются перед дождем». Универсалии это обозначения многих признаков. В данном случае множество признаков составляет кошку, кошку вообще. Универсалии реально не существуют. Они могут лишь проявляться в виде качеств отдельных кошек.
— Хм! — буркнул я.
— Слова — всего лишь орудия, — повторил брат Питер. — Мы прибегаем к ним для удобства, их нельзя считать особой реальностью. Реальны лишь отдельные вещи. Об этом говорил Аристотель, надо лишь правильно его истолковать. Об этом говорил Оккам, призывая не умножать сущности сверх необходимости. Знаменитая фраза, отбросившая прочь многие заблуждения. Сущности, универсалии, не следует умножать сверх необходимости, а единственная Необходимая Универсалия — это Бог, Перводвигатель. А он, — тут мой собеседник понизил голос — слишком опасным было то, что он собирался сказать, — он или оно так далеко от нас. Быть может, это был не перводвигатель, а взрыв, раскаты которого мы будем слышать всегда: «Время есть, Время будет, Время длится вечно».
Я уже не мог угнаться за ним. Порой с братом Питером такое случалось божественное вдохновение, пророческий дар словно на крыльях уносили его прочь от собеседника. Я постарался вернуть его на землю:
— Но ведь ваш брат Бэкон просидел много лет в темнице францисканского ордена в Париже, Оккам был брошен в тюрьму по обвинению в ереси, и даже Джон Уиклиф с трудом избежал костра.
— Но, дорогой мой Али… минуточку, я только выпущу Винни. Вот видишь? Большинство кошек не возвращаются на место, если их потревожить, и в этом Винни похожа на них, однако далеко не все кошки принимаются теребить передними лапками задвижку, чтобы попроситься на улицу. Вот так. Эти люди, Али, они были… они были как порох. Они могли разнести в клочья наше общество, они подрывали основы, на которых покоится авторитет короля и церкви, — ведь естественным следствием их теории было преимущество индивидуального опыта, индивидуального суждения. Они открывали такие пути к истине, которые не подчиняются ни авторитету Матери-Церкви, ни божественному праву королей, но строятся из фактов, приобретаемых ежедневным опытом. В древности существовали ученые, называвшиеся эмпириками, они также полагались на опыт и наблюдение. По какому праву господствует над нами Папа или император? Если освободиться от иллюзий, привычки, мнения необразованной толпы, если не дать мнимой, внешней видимости мудрости и силы ввести себя в обман, если не пытаться утверждать, будто Папа или король воплощают (телесно, разумеется, и со свойственными материи недостатками) сущность или идею жречества и царской власти, содержащуюся в уме Бога, останется лишь две причины, позволяющие наделить некоторые лица или какие-то учреждения властью над остальными людьми.
— И какие же это причины?
— Во-первых, это возможность обрушить насилие, лишения, пытки и смерть на тех, кто посмеет противиться.
— Это мне знакомо. Но вряд ли грубую силу можно счесть правом на власть.
— Разумеется. Но и вторая причина ничуть не лучше.
— Что это за причина?
— Добровольное согласие подданных.
— Однако это как раз кажется мне достаточным оправданием власти, — заметил я. — Во всяком случае, согласие куда лучше насилия.
Брат Питер вновь впал в пророческий транс.
— Смотря как достигается это согласие, — заявил он, и слова посыпались из его уст, словно орехи из продранного мешка. — Если народу, поколение за поколением, скармливают ложь и никто никогда не ставит эту ложь под сомнение, она становится неосознаваемой частью духовной жизни людей. Никто не вспоминает о ней, никто не подвергает ее анализу, но въевшаяся, укоренившаяся ложь контролирует все сознательные душевные движения. Это столь же мощная и столь невидимая глазу сила, как и та, что заставляет падать любой находящийся в воздухе предмет. Это внушение позволяет манипулировать согласием подданных, и все, что грозит разрушить незримые стены веры, подобно тому, как порох может разрушить башни замка, — все это подлежит анафеме. — Брат Питер вздохнул, огляделся по сторонам, глянул в окно, на облака и туман. — Дождь прекратился. Уиклиф, последний из трех великих, говорил об этом. Однако на сегодня достаточно. Давай прогуляемся по саду, полюбуемся каплями дождя на лепестках вишни, а потом покормим рыбок в пруду.
Мы шли вдоль низкой, аккуратно подстриженной изгороди, вдыхая ароматы, пробужденные к жизни дождем, радуясь теплому солнышку. Я отважился подвести итоги нашего разговора.
— Но без этого… — я запнулся, подбирая слово, — без этого насильственного внедрения веры — останутся ли какие-нибудь причины, чтобы человек принял то или иное правление?
— Человек должен путем наблюдения и анализа с почти математической точностью вычислить, какой правитель и какая система могут в наибольшей степени соответствовать его интересам и интересам его собратьев я имею в виду тех мужчин и женщин, вместе с которыми он работает. Очевидно люди, на которых он работает, — это совершенно иной класс, и мыслить эти люди будут диалектически противоположным образом. Итак, этот человек и его товарищи должны вывести гедонистическое уравнение, отвергая все предвзятые аксиомы, будто человечество или государство основано на идеях, существующих в разуме Бога.
Я зажал между зубами веточку шиповника, наслаждаясь острым, живым прикосновением шипов к языку.
— Ты только что упоминал Уиклифа, последнего из трех великих английских францисканцев. Я бы хотел побольше узнать о нем.
Но брат Питер уже выдохся. Он насыпал в пруд хлебные крошки (рыбы безошибочно узнавали его тень на водной глади и собирались у берега еще прежде, чем хозяин принимался их угощать), а затем, обернувшись ко мне, сказал:
— Как ты знаешь, дорогой Али, пост близится к концу. Вчера был день казни Иисуса этот день у нас называется Страстной Пятницей, и три дня наиболее сурового воздержания продлятся до завтра, до первой трапезы после Святого причастия, когда мы отпразднуем Его воскресение. На празднике я собираюсь читать проповедь, основанную на учении отца Джона Уиклифа. А теперь, с твоего разрешения, я пойду готовить эту проповедь. Приходи к нам в церковь завтра, в одиннадцать утра.
Глава тридцатая
Я выберусь отсюда на хрен, даже если это прикончит меня. Если и не выберусь, буду пытаться, пока не сдохну. Ноготь сорвала, кровь все течет. Болит, точно змея укусила.
Чего они только не предъявили мне на суде, если, конечно, это посмешище можно назвать судом. Столько мудрых людей собралось, даже король с королевой. Ну и голос у нее! Итак, я ослушалась приказа лорда Сомерсета и села на корабль, направлявшийся из Кале в Ингерлонд. Далее, у меня, как они выражаются, «черная» кожа (да неужели?), так что я язычница, а то и вовсе мартышка, а не человек.
В отличие от нас, англичане нисколько не любят обезьян и не верят в свое родство с ними. Далее, лорд Скейлз донес, что в Лондоне я бесстыдно совокуплялась с лордом Марчем. Похоже, речь идет об Эдди. Не отрицаю, именно ради этого я и приехала в Ковентри, вот только не знала, что он тоже лорд.
К этому моменту кое-кто из судей начал догадываться, что я вовсе не мальчик. «У каждого свои недостатки», — признала я. Да, я женщина. Они бы предпочли обвинить Эдди в общении с мальчиками, так что на слово мне никто не поверил. Меня подвергли осмотру, чтобы убедиться, кто же я на самом деле. Установив, что я женщина, они объявили меня ведьмой.
Королева впала в истерику. Она принялась описывать круги по тому подвалу, куда меня засадили — судя по запаху, там успели разлить не одну бочку пива, — а потом набросилась на меня и расцарапала мне щеку длинными алыми ногтями. От неожиданности я не успела ей помешать.
— Ты околдовала Эдди! — вопила она. — Ни англичанин, ни француз — а Эдди можно назвать и тем и другим — не глянет на твою темную шкуру без отвращения. Признайся, что вступила в связь с дьяволом. Он дает тебе приворотные зелья, чтобы заманивать юношей.
Но главное я оказалась сторонницей Йорков, вероятно, посвященной в планы этой партии. Судьям было известно, что Уорик находится в Ирландии вместе с герцогом Йорком. Они хотели знать, собирается ли Уорик вернуться в Кале и каковы намерения Йорка. И куда подевался Марч? И так далее, и тому подобное. Они пустили в ход все средства, чтобы вырвать у меня эти сведения, они прибегли к раскаленному железу и щипцам и принялись растягивать меня на дыбе, особенно им нравилось тянуть меня за ноги в разные стороны, но, поскольку я не могла рассказать о том, о чем понятия не имела, мучители мои скоро устали. В допросе принимали участие Джон Клеггер и Уилл Вент, слуги королевы, но пытками занимался городской палач, мерзкий человечишка. Он был также и кузнецом, его правую щеку украшал большой шрам, и от него вечно пахло докрасна раскаленным металлом. Он и его подручные творили со мной нечто неописуемое. И не стоит больше говорить об этом.
Наконец у судей остался лишь один вопрос: к какой смерти меня приговорить. Они никак не могли прийти к единому мнению. Епископ хотел сжечь меня как ведьму, главный судья колебался — то ли обезглавить по обвинению в государственной измене, то ли повесить, а потом выпотрошить. Я получила небольшую отсрочку. Было ясно, что мне предстоит умереть, оставалось лишь решить — как именно.
Ох! Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Камень в конце концов поддался, но рухнул прямо мне на ногу. И впрямь зуб гиганта размером с ядро или по крайней мере с арбуз. Право же, мне надо выбраться отсюда к ночи. Вместе с камнем внутрь моей темницы обрушилась целая гора щебенки, мне оставалось лишь долбить и разрушать не слишком крепкую стену. Только повнимательнее, следи, куда летят камни.
И вот я уже стою во дворе, сверху светит прохладная луна, ноги увязли в листьях гнилой капусты. Плохо, что я голая. Нет, я не мерзну, здесь, на улице, не холоднее, чем было в моей темнице, и я не стыжусь наготы — пусть христиане ее стыдятся. Но мне не нравится, как выглядит мое тело. Оно покрыто моими собственными выделениями и слизью омерзительных существ, деливших со мной мой склеп, я вся в синяках и ссадинах, хотя прошло уже больше месяца с тех пор, как меня пытались изувечить. Особенно неприятно, что я так отощала. С другой стороны, мне бы не удалось вылезти в этот узкий ход, если б я сохранила прежние пышные и округлые (хотя, конечно, отнюдь не крупные) формы, достойные обитающей во мне богини. Но мне не хотелось предстать перед людьми в столь жалком виде, так что я направилась в то место, где можно было раздобыть одежду.
По пути в конце улицы я наткнулась на колодец, где горожане набирали воду. Покачав несколько раз рычагом, я добыла сперва капли, а затем и устойчивую струйку воды. Тогда я, скрючившись, заползла под кран, продолжая работать правой рукой и предоставив благодатному потоку омывать мое тело. Затем я повернулась другим боком и сменила руку. Напоследок я поплескала водой на обе руки, на бедра и ноги, на живот, вернее, на впадину, оставшуюся на месте живота. Вода переливалась серебром в лунном свете. Она была страшно холодная, почти ледяная, но это усиливало ощущение чистоты, свежести. Мне пришлось ускорить шаг, чтобы согреться и избавиться от охватившей меня дрожи. Я прошла мимо ряда лавчонок и вошла в церковь.
Здесь было множество людей. Они заполонили широкий центральный неф и молились, кто на коленях, кто стоя, кто зажмурившись и перебирая эти дурацкие бусинки, которые они используют, чтобы не сбиться со счета в молитвах, почти все склонили головы и опустили глаза или же пристально уставились на высокий алтарь позади хоров, залитый светом тысяч свечей, причем некоторые из них были очень большими. Воздух наполняли ароматы благовоний, хор выводил гимн, причем отвратительный ноющий звук песнопения то взмывал вверх, то угасал, гремели колокола, звенели цепочки кадильниц, сверкали драгоценные камни и золотое шитье на праздничном убранстве. Это был день Пасхи, и ни один из тысяч прихожан не замечал обнаженную женщину, крадущуюся по боковому приделу храма мимо скамей, мимо хоров и скользнувшую в часовню Богоматери. Полагаю, если кто-нибудь и обратил на меня внимание, он принял меня за наваждение, насланное дьяволом.
Часовня Богоматери была погружена в полумрак. Здесь, за решеткой, никого не было. Я взобралась на небольшой алтарь и, подняв руки, подхватила статую. Пробормотав извинение, я опустила богиню на пол. На голове у нее красовалась корона из солнечных лучей — на самом деле, вовсе не золотая, а деревянная, покрытая сусальным золотом. Руки и лицо деревянного идола были искусно вырезаны и выкрашены, но другие части тела, скрытые одеждой от молящихся, оставались грубыми и необработанными. Лицо и руки статуи были из полированного дуба, слегка потемневшего с годами. Казалось, что кожа богини сделалась почти такого же цвета, как моя. Ее облачили в синий шерстяной плащ с капюшоном, в длинное черное платье и во что-то вроде нижней юбочки из белого льна с кружевами — оказалось, правда, что это не юбка, а всего лишь передник. Прислонив деревянную куклу к колонне, я переоделась в ее наряд. Одежда пришлась мне впору — вряд ли юбка сошлась бы на мне, если б я не голодала целый месяц.
Влажные волосы я убрала под капюшон. Шерсть плаща согрела меня, дрожь улеглась. Теперь я испытывала голод. Я уже хорошо знала обряды этой нелепой религии: мне было известно, что лежит в маленькой шкатулке, стоящей позади масляной лампочки. Я быстро перекусила кусочками сухого бисквита, запив эту скудную пищу глотком вина из серебряной чаши и, хотя перепала мне всего горсточка, все же почувствовала себя лучше. Пора идти. На миг я заколебалась, но решив — почему бы и нет? — нацепила на голову поверх капюшона «золотую корону» и украсилась кольцами и серьгами богини.
Я пробиралась обратно к выходу из церкви по боковому приделу. Скомканный передник так и остался у меня в руках. И вот в самом темном уголке я лицом к лицу столкнулась с человеком со шрамом, с тем подлым мучителем, который занимался самоудовлетворением у меня на глазах, запихивая глубоко в меня свою трость — шипастую трость, скорее всего, черенок розы. Я тут же узнала его, и он меня тоже узнал.
— Матерь Божья! — пролепетал он, а я ответила:
— Вот именно!
Как бы я ни была изнурена голодом и пытками, старые навыки не забываются, к тому же я застала его врасплох. Мне повезло: старый дурень повалился, крестясь, на колени, а я быстренько накинула ему на шею кружевной передник и, придерживая концы получившегося из передника довольно крепкого шарфика, резко ударила стопой правой ноги ему в лоб. Крак!
Сняв с шеи мертвеца удавку, я пробормотала молитву смертоносной Кали и выбежала на площадь. Там я остановилась, чтобы оглядеться. Дыхание успокаивалось, сердце билось ритмично, пламя, разгоревшееся внутри меня и охватившее все тело, когда я резко выпрямила ногу, чтобы покончить с моим палачом, угасало. Посмотрев во все стороны, я призвала проклятье на этот мерзкий город за все, что он причинил мне.
— Чтоб ты сгорел! — повторяла я. — Чтоб ты сгорел!
Я верю, однажды это сбудется.
Глава тридцать первая
Интерлюдия
Проповедь брата Питера Маркуса в церкви Св. Франциска, Осни, в пасхальное утро 1460 года.
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Евангелие от святого Матфея, глава десятая, стихи с седьмого по десятый.
Возлюбленные дети Божьи, в нынешнее пасхальное утро вы услышите очень простую проповедь. Я хочу лишь напомнить вам учение отца Джона Уиклифа и поделиться с вами мыслями о том пути, который оно нам указывает.
Бедность вот средоточие его учения. Он следовал по стопам основателя нашего ордена Франциска. Франциск в момент своего обращения к Богу услышал те же слова, что я вам только что прочитал. Он понял, что праведность несовместима с силой и властью, с богатством и собственностью. Владеть чем-то значит что-то отнять у другого. Если я на пенни богаче, то кто-то на пенни бедней. Истинная праведность не может быть источником власти и господства, не может дать право владычествовать и господствовать над людьми. Отец Джон верил, что власть и сила относятся к мирскому порядку, не распространяясь на церковь и церковнослужителей, но даже мирскую власть он считал временной, необходимой мерой, пока все люди, все мужчины и женщины, не научатся жить вместе, гармонично, как равные, сходясь, подобно израильтянам, каждый юбилейный год на собрание, чтобы возвратить всем, народу в целом, то, что лишь на время стало личной собственностью.
Далее, отец Джон полагал, что основу жизни каждого человека составляет непосредственное общение христианина с Богом, и это общение не нуждается в посредничестве священника, и даже церковные таинства не так уж необходимы для поддержания этой близости. Он утверждал даже, что таинства — всего лишь знаки и символы, порождающие вредные и бессмысленные суеверия, а упрямые изакоснелые умы тех людей, кого мы именуем Отцами Церкви, превратили эти суеверия в догму. Предоставив священникам исключительное право совершать таинства, причащать и отлучать верующих, как подскажет им их собственная земная, грешная природа, Церковь присвоила себе ключи от врат ада и рая, захватила господство и власть. Теперь никто не попадет на небеса, если не приобщится тела и крови Христовой, но только принявший помазание священник обладает волшебной силой, претворяющей хлеб и вино в тело и кровь. Говорю вам, братья, согласно учению нашего отца Джона, вера в пресуществление — кощунственное заблуждение, обман, запутывающий простых людей и ведущий к идолопоклонству. Если уж мы нуждаемся в таинстве, давайте просто делить друг с другом земные блага, хлеб и вино, как мы только что сделали во время пасхального причастия, и будем помнить, что мы творим это по наставлению и примеру Иисуса.
Братья, учение о таинствах, полученное нами из Рима, Авиньона или где там ныне пребывает Папа, отрицает подлинную Церковь. Церковь внутри каждого из нас и там, где двое или трое собраны во имя Его. Такую Церковь оставил нам наш Господь, ради такой Церкви жил и трудился отец Джон. Истинная Церковь — это община верующих и ничего более, ее авторитет покоится исключительно на учении Господа нашего, которое содержится в Новом Завете. Высшим, единственным авторитетом может быть лишь Святое Писание, и в особенности слова Господа нашего, сохраненные евангелистами. Вот почему Джон Уиклиф большую часть своей жизни посвятил переводу и распространению Евангелий на нашем языке. Вот почему после его смерти кости отца Джона были вырыты из земли и сожжены, будто он был еретиком, будто эта подлая, мелочная месть могла хоть как-то ослабить его доводы.
Учение отца Джона — не доморощенная мудрость, сотканная на станке здравого смысла, хотя и простого здравого смысла в нем немало, но в эту ткань вплетаются нити двух его великих предшественников, Роджера Бэкона и Уильяма Оккама. Первый из них обнаружил истину в том, что человек видит и слышит, что он может ощупать, понюхать, измерить, попробовать на вкус. Второй показал, что учение Отцов Церкви и схоластов увело нас от опыта к умозрительности, от частного к общему, от факта к универсалиям. Джон увидел, как этот способ мышления становится основанием тирании, угнетающей и развращающей всех нас, не дающей нам последовать по пути, проложенному этими тремя гигантами.
Я верю — более того, я делаю вывод, исходя из опыта и логики: мы можем использовать это учение как ступени лестницы и, поднявшись повыше, оглянувшись назад, мы увидим, откуда мы пришли, и осознаем безумное заблуждение, на котором покоилась и наша философия, и наша мораль, — я называю безумным заблуждением подмену фактов универсалиями, истории — метафизикой.
Источником нашей слабости и зависимости, причиной неравного распределения богатства и власти, несправедливости и страданий Церковь и церковные мыслители называют некую мистическую вину, некое первоначальное преступление. Первородным грехом, запятнавшим нас всех, было непослушание воле Божьей, а потому стремление к удовольствию и радости, в которых суть человеческой жизни, навсегда отравлено грехом вожделения.
Мы перенеслись в царство метафизики до такой степени, что придали абсолютное значение времени. В чувственном мире все проходит, человек начал ощущать себя конечным и смертным, смерть становится подлинным содержанием жизни. Речет безумец: «Все проходит, стало быть, тварный мир и должен пройти. Это и есть справедливый закон Времени, пожирающего своих детей».
Безумие провозглашает, что лишь высшие ценности пребудут вечно, а потому лишь они реальны, лишь вера и любовь, ничего не ищущая, ничего не желающая, становятся желанной для нас целью. Почему? Потому что Церковь хочет усмирить, успокоить, удовлетворить тех, кто лишен всего на земле, и защитить тех, кто отнял у них все и не желает возвращать. Это учение разделило людей на хозяев и рабов, на правителей и подданных, оно — причина угнетения, подавляющего в нас инстинкт жизни, ведущего к деградации человека.
Прежние способы мышления, подлинное учение Аристотеля, перипатетиков[148] и эмпириков[149] древности, отвергнуты, а вместе с ними отброшено и представление о чистой радости бытия, о наслаждении — сочетании желания и удовольствия. Чтобы вернуться на путь, с которого мы сошли, чтобы спуститься по другому склону горы — не в долину тени смертной, а в землю, текущую млеком и медом, чтобы сделаться самими собой и обрести весь мир, нужно восстать против тирании времени, против господства становящегося над сущим. До тех пор пока течение времени остается непостижимым и неподвластным, пока мы испытываем чувство невосполнимой утраты, пока звучит горестное и недоуменное «было и прошло» — до тех пор в жизни будут таиться семена зла и гибели, обращающие доброе в дурное и дурное представляющее желанным. Человек сделается самим собой, лишь преодолев веру в вечное блаженство после смерти, лишь ощутив вечность здесь и сейчас.
Прежде чем прийти к вам и прочесть эту проповедь, я прошелся по саду. Вишневое дерево в цвету, наше вишневое дерево, единственное дерево во всем тварном мире, которое выглядит и является в данный момент именно таким. Рядом с вишней сирень, присланная нам нашими братьями из Анатолии. Почки уже набухли, вот-вот лопнут, уже показались белые краешки цветков. В ветвях сирени поет снегирь, его черная шапочка сверкает как солнце, красная грудка горит огнем. Именно этот снегирь, этот, никакой иной, посетил нынче утром наш, и только наш, сиреневый куст.
Подумайте о лилиях полевых, которые не трудятся и не прядут. В пору Пасхи, в пору цветения вишневого дерева, когда в ветвях сирени распевает черно-красный снегирь, в пору рождения и воскресения мира, подумаем: все проходит, но все возвращается, уходит по кругу и по кругу приходит, вечно вращается колесо Бытия; все умирает, все расцветает вновь, вечно продолжается круг Бытия; все разбивается и все собирается вновь воедино, вечно отстраивается заново храм Бытия. Все части Бытия разлучаются, все встречаются вновь и приветствуют друг друга.
У нас отнимают земную жизнь и взамен предлагают непознаваемую вечность, вымышленную награду за подлинные страдания. Такая вечность становится орудием и опорой тиранов.
Здесь и сейчас, в день Пасхи, мы провозглашаем вечность на нашей прекрасной земле, вечное возвращение детей земли, лилии и розы, влюбленного и возлюбленной. Слишком долго земля была приютом сумасшедших, пора нам иначе понять чувство вины, научиться, как в древности, испытывать вину не тогда, когда мы отстаиваем жизнь, а когда мы ее унижаем, не тогда, когда мы восстаем против тирании мысли, а когда мы ее рабски принимаем.
Земля — наш дом, и это не печальная, а славная и радостная весть. Довольно с нас простой пищи, простой одежды, укрытия в дождь, а ведь мы получили еще и лилию и розу, грушу и яблоко. Такой дом достоин и смертного и бессмертного человека, мужчины и женщины, каждого из нас».
— Что ты об этом скажешь, Али?
— Возвышенно, но несколько сбивчиво.
— Нелегко опровергнуть тысячелетнее заблуждение в одной короткой проповеди.
— Я мог бы свести ее к одному предложению.
— В самом деле?
— Горный Старец наставлял: «Истины нет, все дозволено».
— Ты выворачиваешь мою проповедь наизнанку.
— Быть может.
Брат Питер остановился возле пруда, поглядел на меня. Я видел печаль в его светло-голубых глазах, плечи его устало ссутулились. Проповедь ли утомила его или огорчала необходимость расставания?
— Есть небольшая группа людей, готовых довести это учение до того же беспощадного вывода, — сказал он. — Они живут на севере, кочуют с места на место, укрываясь от гонений.
— Братья Свободного Духа?
— Полагаю, так они именуют себя.
— Где их можно найти?
— Загляни в Манчестерский лес.
Я последовал его указаниям, но сперва все-таки настоял, чтобы монах раскрыл мне утаенные подробности последних экспериментов Роджера Бэкона с порохом. Полагаю, тем самым я сделал для обороны Виджаянагары и для спасения империи от угрожающей ей гибели никак не меньше, чем все мои спутники вместе взятые.
Глава тридцать вторая
Все эти рассуждения об Оккаме и Уиклифе показались мне чрезвычайно запутанными и, откровенно говоря, скучными и не имеющими никакого отношения к рассказу.
Я вновь навострил слух, когда Али упомянул порох, в надежде, что он возобновит прерванную повесть.
— А что делали тем временем князь и Аниш? — осторожно спросил я, воспользовавшись короткой паузой. — Они так и сидели взаперти в Тауэре?
— Очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Я, как и ты, верно, устал от звуков собственного голоса. Мы как раз добрались до того места, когда пора вновь обратиться к переписке князя с императором.
Он подтолкнул ко мне небольшую стопку бумаг. Я принялся за чтение, а Али тем временем задремал.
«Дорогой брат!
По прошествии нескольких месяцев или, во всяком случае, многих недель мы все еще пребываем в заточении в этой огромной темнице, и, разумеется, я по-прежнему не знаю, получаешь ли ты мои письма, и, если получаешь, какие меры ты принимаешь, чтобы способствовать нашему освобождению. Полагаю, хоть мы уже достаточно долго изнываем здесь, чтобы получить от тебя ответ, нам придется ждать вдвое больше времени, чем занял наш путь из дома в Ингерлонд, так что лучше мне набраться терпения.
Нам даже предоставили тут некоторые удобства. Нам с Анишем выделили три небольшие комнаты в центральной части замка, именуемого лондонским Тауэром, то есть «башней», хотя на самом деле он состоит из множества башен, соединенных между собой стенами или стоящих отдельно, как та башня, в которой мы живем. Все здесь выстроено из камня, из бледно-серого известняка или блоков песчаника, скрепленных известкой. Крыша изготовлена либо из свинцовых листов, либо из черепицы, пол тоже черепичный или из известняка. Все убранство комнат составляют гобелены, и то не везде, очаг есть только в одном из принадлежащих нам помещений. Однако несмотря на то, что мы вынуждены жить в столь примитивных условиях, мы должны еще и выражать благодарность за комфорт, которым мы наслаждаемся, — справедливости ради скажу, что тюремщики живут ничуть не лучше.
Главный тюремщик — лорд Скейлз, пожилой, раздражительный вельможа. Он управляет Тауэром от имени короля. Иногда он приглашает нас на обед и за едой все время бранит герцога Йорка и лондонское купечество — оно-де хочет уморить его голодом, отказываясь снабжать Тауэр продуктами и прочим необходимым товаром. Время от времени он требует от нас плату за прокорм. Не знаю, то ли этот человек достаточно скромен в своих запросах, то ли не осведомлен об истинной ценности камней, но стоит вручить ему жемчужину размером всего-навсего с голубиное яйцо, и он удовлетворится по крайней мере на полмесяца.
Наш страж делится с нами новостями. Герцог Йорк ныне находится на острове Иберния, или Эрин, — он расположен к западу от Ингерлонда и несколько меньше его. Английский король притязает на владение также и этим островом, однако его власть простирается лишь на восточное побережье, а внутри страны (ее именуют Ирландией) обитают дикие племена. Говорят, что Уорик присоединился к Йорку, они встретились в порту Уотерфорд на юго-восточном берегу и оттуда, как многие опасаются, готовят вторжение. Быть может, Йорк поведет войска морем из Ирландии, а Уорик вернется за пополнением в Кале.
В Кале все стоят на прежних позициях. Армия Уорика сковывает действия герцога Сомерсета, а Сомерсет удерживает на месте войска Уорика. Обе стороны недостаточно сильны, чтобы решиться на открытое сражение, ни та ни другая не могут отступить морем, поскольку в момент погрузки на корабли подвергнутся вражескому нападению.
Про Эдди Марча, ставшего причиной всех наших бед (напрасно я нанял его проводником, Али и в этом случае, как и во многих других, был прав), про этого молодого человека ничего толком неизвестно. То ли он в Уотерфорде вместе с Уориком, то ли вернулся в Кале. Хуже того — ничего неизвестно и об Али и его спутнике, буддийском монахе. Лишившись их, мы с Анишем, или хотя бы Аниш, вынуждены понемногу учить английский. Да, забыл сказать: исчез и факир, сопровождавший нас большую часть пути.
Итак, дорогой брат, время тянется медленно, но все же мы проводим его не без пользы для нашей страны и нашего народа, и я надеюсь, что в один прекрасный день мы сможем возвратиться к тебе с ценными сведениями. Несмотря на холодную и сырую погоду, мы с Анишем сумели тщательно изучить здешние укрепления. Мы делали это урывками, понемногу, чтобы не навлечь на себя подозрение, будто мы ко всему прочему еще и шпионы. В особенности нас интересовало, выдержат ли эти стены удары снарядов, а потому мы побеседовали с сержантом артиллерии Бардольфом Эрвиккой.
Командует артиллерией, как тут принято, знатный нормандец, по имени Гай Фицосберн, молодой глупец, лишенный подбородка, с голосом, напоминающим лошадиное ржание или, скорее, ослиный крик. Да-да, именно ослиный: и-а-и-а.
Все, что он знает о своей должности, — это размер жалованья. Но сержант Бардольф — человек сведущий. Невысокий, крепко сбитый, как большинство саксов, с грубыми чертами лица, изуродованного вдобавок множеством угрей и карбункулов, сверкающих, точно раскаленные ядра. Как и все саксы, он то и дело вставляет в свою речь некое словцо, не имеющее, насколько мы в состоянии разобраться, никакого отношения к теме нашей беседы. Это словцо означает любовные забавы, в особенности тот их способ, который с наибольшей вероятностью может повести к зачатию. Судя по тому, что это слово употребляют в качестве ругательства, здесь к любви относятся с пренебрежением и даже с презрением.
Для начала я спросил Бардольфа, не кажется ли ему, что стены Тауэра, в особенности внешний пояс, недостаточно широки и нуждаются в дополнительном укреплении. Ведь направленный артиллерийский огонь может разрушить эти стены, верно?
— Потеря времени, сэр, — отвечал он, предварительно втянув воздух сквозь оттопыренные губы и выпустив его с фырканьем через нос. Он вставил сюда свое любимое словечко, и я сперва с непривычки подумал было, что сержант имеет в виду: мы потеряем таким образом время, которое лучше было бы потратить на любовь, но конечно же он ничего подобного сказать не хотел.
— Видите ли, сэр продолжал он, — нет на свете такой долбаной стены, которая бы выстояла против долбаного пороха, пусть она будет хоть поперек себя шире.
— А выстроить ее из камня, тридцати футов в ширину?
— Это уж не стена. Это целая долбаная гора. И все одно: дай мне достаточно пороха и не торопи меня, я и ее раздолбаю!
— Так есть ли, дорогой друг, средство защитить стену от артиллерийского огня? — спросил его я (вернее, этот вопрос по моему приказу задал Аниш).
— А то как же!
Мы стояли на стене между двумя башнями. Здесь легко могли бы разойтись два вооруженных воина.
— Пошли со мной.
Сержант отвел нас в ближайшую башню, в большое круглое помещение, диаметром примерно в тридцать футов. Большую часть этой комнаты занимала пушка длиной в двенадцать футов и ее принадлежности, а именно: шомпол, заканчивавшийся огромной шваброй, открытая бочка с водой, рядом еще одна бочка — с порохом, и два десятка каменных шаров почти идеальной формы, каждый из которых превышал в диаметре два фута. Здесь имелась также полка с кремнем и огнивом и трутница, в которой хранился смоченный в селитре, а затем высушенный фитиль.
— Все на месте, — крикнул мне в самое ухо сержант Эрвикка, — все наготове! Всякому, кто попытается причинить ущерб его величеству или его владениям, враз яйца оторвем.
Я подивился, как он сумел сложить вместе столько слов, не помянув совокупление.
— Вот как мы защищаем стены от вражеских пушек — у нас тут своя пушечка и там в башнях еще шесть, и все они гораздо больше, чем эти долбаные ублюдки могут выставить против нас.
— Понятно, — сказал я. — Стало быть, ваша задача — поразить ядром вражескую пушку, прежде чем она успеет разрушить своим огнем ваши стены, и вы уверены, что вам это удастся, потому что в замке пушки гораздо больше, чем могут притащить с собой осаждающие, и потому что вы будете стрелять в них сверху.
Как я уже говорил, эта пушка была необычной величины. Она представляла собой железную трубу, перехваченную по всей длине медными обручами на расстоянии примерно фута друг от друга. Пушка покоилась на подставке из цельного дуба, а та, в свою очередь, крепилась к гигантскому колесу, располагавшемуся параллельно полу. Итак, хотя радиус поражения ограничивался тем отверстием, из которого высовывалось жерло пушки, можно было менять угол, а тем самым и направление огня, подымая и опуская ствол, а также поворачивая его из стороны в сторону.
— Для джентльменов вы не так уж плохо соображаете, как я погляжу. Полная башка этих долбаных мозгов! — заметил наш новый приятель, постучав указательным пальцем по своему грушевидному носу. Насколько мне известно, этим жестом здесь выражают уважение к разумности собеседника.
Итак, дорогой брат, чтобы защитить наши крепости от артиллерии султанов Бахмани, нужно приобрести более крупные и более точные пушки, чем те, какими располагают наши враги. Очевидно, мы могли бы догадаться об этом и сами и не было нужды отправляться за этой идеей на край света. Однако мы с Анишем надеемся еще выяснить кое-какие подробности насчет того, как обращаться с большой пушкой. Кроме того, вероятно, они здесь знают какие-то методы, улучшающие состав пороха для большей его эффективности.
Остаюсь, дорогой брат, твоим преданным слугой.
Князь Харихара».
Глава тридцать третья
«Дорогой брат,
мы провели здесь уже пять месяцев. Идет к концу шестой месяц 1460 года по христианскому календарю. Не могу сказать, чему это соответствует в нашем более сложном лунном календаре — мне понадобилась бы помощь наших ученых, — но, во всяком случае, миновало не менее года с тех пор, как мы отплыли из Гоа. Аниш полагает даже, что прошел год и два месяца.
Мы по-прежнему находимся в заточении; хоть мы и пользуемся определенным комфортом, мы не вправе выйти в город и можем лишь любоваться им со стены, а о возвращении домой и речи не идет. Нам не предъявили формального обвинения, но мы подозреваемся в симпатии к йоркистам, в том, что мы оказывали им помощь и поддержку. Когда Скейлз напивается допьяна и становится воинственным и злобным, он грозит нам дескать, в любую минуту он может подписать бумаги и нам отрубят головы прежде, чем мы скажем «Джек Робинсон» (я не знаком ни с каким Джеком Робинсоном).
Итак, мы сидим в мрачном Тауэре то ли дворце, то ли крепости, то ли тюрьме. Он сделался несколько менее мрачным с наступлением лета. Они это называют летом! Краткий промежуток времени, когда солнце светит чуть ярче и становится достаточно тепло, чтобы топить камин только по вечерам. Следует также отметить, что ночи теперь наступают гораздо позже и длятся не более шести часов. Казалось бы, при таком изобилии дневного света здесь должно было стать еще жарче, чем в нашей стране, но нет: даже в полдень солнце висит слишком низко, и самые теплые дни здесь едва ли могут сравняться с самыми холодными днями в Виджаянагаре. Погода совершенно непредсказуемая: то снова зарядят холодные дожди, то в ясный день поднимется холодный ветер с востока, а потом соберутся облака, ненадолго сделается жарко, даже душно, затем разразится гроза и на землю обрушится ливень, похожий на наши муссоны. Даже летом капли дождя иногда замерзают и превращаются в град. А потом снова ветер и холодные дожди.
Но здешние сады, занимающие довольно обширное пространство внутри стен, прекрасны в любое время года. Высокие кусты роз, пионы — сейчас, правда, они отошли, — множество цветущих и ароматных трав, в том числе тимьян и розмарин (их тоже уже нет, они начинают цвести раньше других и раньше отцветают), шалфей — ты помнишь это растение, купцы порой доставляют его нам из предгорьев Гималаев, в мешках, в засушенном виде, и слишком дорого берут за него. Поверишь ли ты — в рыбных прудах есть даже лотосы, которые здесь называют водяными лилиями. Они поменьше наших, сейчас они начинают цвести, все цветки похожи один на другой и состоят либо из восьми, либо из восьми пар лепестков. Здесь лотос считается редкостью и его ценят не как религиозный символ, а просто за красоту. При виде лотосов я испытал внезапно сильное желание возвратиться домой.
Что же еще? Примерно с месяц назад появились птицы с раздвоенным хвостом, в точности похожие на ласточек, обитающих в наших храмах с конца сезона муссонов до начала жары. Эти птицы построили под кровлями башен и хозяйственных пристроек тысячи крошечных гнезд, словно слепленных из глины или известки, отложили яйца, а сейчас выращивают птенцов. Как ты знаешь, люди, желающие ломать себе голову над подобными вещами, давно интересовались, каким образом размножаются наши ласточки; полагаю, теперь мы знаем ответ: они улетают на север, а почему — о том ведомо лишь им самим и Деви-Парвати, правящей всем живым.
В Ингерлонде об этом никто понятия не имеет. Мы расспрашивали одного из садовников, краснолицего старика с длинными седыми волосами и узловатыми распухшими суставами пальцев — от этой болезни страдают большинство стариков в Ингерлонде. Когда мы поинтересовались, куда, по его мнению, деваются зимой ласточки, он прошамкал в ответ (зубов у него явно не хватает): «Да как же, ваша милость, аккурат с Михайлова дня пташки зарываются в грязь подле пруда и спят всю зиму напролет, а просыпаются, когда солнышко им спинки пригреет и оживит».
В Тауэре есть и вороны, тоже похожие на обитателей утесов и расщелин высочайших из наших гор. Здесь этих птиц приручили, стражники заботятся о птенцах они вылупились из яиц незадолго до нашего ареста, — кормят их кусочками печени и остатками мяса. Оказывается, существует поверье, согласно которому Альбион (это еще одно имя Ингерлонда) будет в безопасности до тех пор, пока в Тауэре водятся вороны.
Должно быть, я утомил тебя, дорогой брат, этими экскурсами в область естественной истории, но мы с Анишем здесь так скучаем, что готовы развлекаться и подобными пустяками. Но перейдем к более существенным материям.
Наш тюремщик лорд Скейлз (он предпочитает именовать себя хозяином, а нас своими гостями) разыскал нас сегодня поутру в том самом саду, который я только что попытался описать. Скейлз немолод, оброс бородой, точно леопард, и лицо у него красное, как у садовника (Аниш полагает, что цветом своего лица английские старики обязаны неумеренному потреблению алкоголя с раннего детства), он вспыльчив и груб. Скейлз застиг нас в тот момент, когда мы созерцали передвижение какой-то длинноногой мухи по поверхности пруда. Аниш обдумывал это явление, пытаясь истолковать его как символ эфемерности величайших событий перед лицом вечности все дело в том, что муха не оставляла никаких следов на поверхности воды.
— Знаете, что произошло?! — рявкнул лорд Скейлз. — Ваши приятели-йоркисты отплыли из Кале и позавчера высадились в Сэндвиче. Сейчас они уже в Кентербери. Эта задница Бёрчер, архиепископ, так его мать, их поддерживает. Их уже по меньшей мере двадцать тысяч. Не пройдет и двух дней, как они заявятся к нам.
— Чего они хотят? — поинтересовался я.
— Они говорят, что хотят установить в стране законное правительство. Они говорят, что они за короля, которого они называют законным королем. Эти люди всегда говорят совсем не то, что на самом деле имеют в виду.
— Чего же они хотят на самом деле?
— Они хотят свергнуть короля и посадить на его трон Ричарда Плантагенета, герцога Йоркского, этого спесивого ублюдка. Я им покажу, вот увидите.
— Но если их двадцать тысяч человек… Скейлз прекрасно знает, что мне известно: гарнизон Тауэра состоит едва ли из двухсот человек.
— Но ведь у меня есть пушки, верно? Вот посмотрите. Я разнесу их в клочья, если они отважатся сунуть нос в город.
Тут Аниш вмешался в разговор.
— Кто их предводитель? — спросил он.
— Ричард Невил сукин сын, именующий себя графом Уориком после того, как женился на дочери старого Уорика; его отец, лорд Солсбери, и его дядя, лорд Фальконбридж, — тот тоже заработал свой титул в постели. И еще Эдди Марч. Бандиты! Негодяи! Разбойники!
— Значит, самого Йорка с ними нет?
— Нет уж, ему хватило ума — будет ошиваться в Ирландии и выжидать, как тут пойдут дела. Им всем туго придется, помяните мое слово.
С этими словами Скейлз удалился. Пыхтя и отдуваясь, он полез вверх по крутой лестнице — наверняка решил осмотреть пушки и убедиться, что наш приятель Бардольф Эрвикка содержит их в должном порядке.
— Может быть, для нас это обернется к лучшему, — робко предположил Аниш. — Если Марч, Уорик и все прочие вспомнят про нас. Может быть, олдермен Доутри скажет им, где мы сейчас.
— Ладно, — ответил я, — по крайней мере, мы узнаем, как действуют эти пушки.
В этот момент длинноногая муха подобралась чересчур близко к небольшому плотику из листьев лотосов, или водяных лилий, на котором сидела маленькая лягушка. Лягушка сделала быстрое движение языком, и мухи как не бывало.
— Скажи мне, Аниш, — осведомился я, — какое место в твоей космогонии отведено этой лягушке? Она — воплощение Шивы-разрушителя?
— Слишком много чести, — возразил он. — Полагаю, это Татака, демон-людоед.
Достопочтенный брат, здесь все и впрямь пришло в движение, и перемены совершаются столь быстро, что я не передал это письмо арабскому купцу, который отплыл сегодня в надежде через месяц добраться до Леванта, а сохранил это послание у себя и буду вносить в него заметки по мере того, как будут разворачиваться события. Когда ситуация прояснится, я найду другую возможность послать тебе письмо.
Итак, с тех пор как я прервал это послание, миновало пять дней, и начался месяц, который христиане называют июлем в память Юлия Цезаря, создавшего их календарь и построившего ту крепость, в которой мы ныне заточены.
Ох! Лорд Скейлз вовсю забавляется, стреляя из своих пушек. Артиллеристы заряжают орудия и наводят на цель, а Скейлз подбегает то к одной пушке, то к другой, подносит к заряду фитиль, следит, как бежит огонь по шнуру, и — бах! — ядро вылетает, а лорд уже мчится к следующей пушке, выбегает из башни, вниз по ступеням, на крепостную стену и по крепостной стене всякий раз я опасаюсь, как бы он не свалился, — бежит в соседнюю башню, и там снова бах! — и спешит дальше. У лорда Скейлза шесть пушек, из которых он может обстреливать город: три нацелены на северную сторону, именуемую Смитфилд, а три — на запад, их ядра летят над небольшим холмом Тауэр-Хилл в Биллинсгейт. Хотя пушки установлены на большой высоте и калибр этих орудий весьма значителен, ядра летят не дальше чем на пятьсот ярдов. Это страшно огорчает лорда, поскольку мост остается вне пределов его досягаемости, а по мосту как раз в этот момент продвигается армия Уорика, и ее приветствует лорд-мэр вместе с олдерменами (полагаю, в их числе присутствует и олдермен Доутри).
Купцы благоволят Уорику и партии Йорков в силу нескольких причин. Король, или, как все говорят, королева, обложил их тяжкими налогами, а к тому же за большую сумму денег он наделил ганзейских купцов привилегиями, которыми те раньше не пользовались. Йоркисты обещают все это изменить, как только безумный король окажется в их власти, а пока что корабли Уорика, нацепив пиратские флаги, захватывают в море суда ганзейцев. В результате лондонцы не только приняли Уорика с распростертыми объятиями, они еще и ссудили ему четырнадцать тысяч золотых монет — огромная сумма по здешним понятиям — для уплаты жалованья войску и на содержание солдат.
И вот, словно пчелы в улей, все больше людей собирается в его войско. Часовой, поставленный лордом Скейлзом наверху главной башни, пересчитал воинов, шедших по мосту. Он полагает, что их сейчас примерно сорок тысяч — это настоящая армия, хотя еще остается вопрос, не разбежится ли часть из них, отъевшись и получив жалованье, когда придет пора дальних переходов и опасных сражений.
Пока что лорд Скейлз по два часа в день методично обстреливает улицы города. Затем наступает пауза — нужно поднять в башни запас каменных ядер и бочки с порохом. Один раз мы стали свидетелями спора между лордом Скейлзом и сержантом Эрвиккой. Оба специалиста пытались объяснить друг другу, почему ядра не долетают до моста.
— Это все долбаный порох, ваша милость, его делали в Эппинге, там, откуда везут уголь…
— Я знаю об этом, глупец, но где изготовлен порох?
— …И доставили в бочках по реке Ли.
— Чертов идиот, с каких это пор в селенье Финсбери стали изготовлять порох?
И так далее провозившись два часа возле пушек, оба они оглохли.
И все же Эрвикка и Скейлз сумели объясниться. Три части вещества, составляющие порох, смешивали в Эппинг-Форесте и там же насыпали в бочки более года назад. Однако эти ингредиенты имели различный удельный вес, и потому сначала в дороге от тряски, а затем во время хранения в вертикально стоящих бочках составляющие пороха отчасти разделялись. Угольный порошок, самое легкое вещество, оказался наверху, под ним лежала сера, а селитра осталась в самом низу. Разумеется, порох не расслоился на три отдельные части, но все же этот процесс сказывался на его действии.
Скейлзу удавалось срывать крыши с близлежащих домов и разрушать верхние этажи. При этом погибали или получали увечья граждане Лондона, и наконец к воротам Тауэра явилась делегация, просившая лорда Скейлза прекратить обстрел. Скейлз вышел им навстречу к подъемному мостику и поносил их последними словами: «Изменники, безбожники, я разнесу к чертям весь ваш проклятущий город, как вы посмели впустить солдат Йорка! А ну, убирайтесь, пока я и вас в куски не разнес!» Горожане обратились в бегство, а лучники Тауэра стреляли им вслед.
Однако один из делегатов догадался прихватить с собой щит. Он выставил его перед собой — тот мгновенно оброс стрелами, точно дикобраз иголками — и заорал:
— Я доберусь до тебя, лорд Скейлз, мать твою так! Тебе еще придется выйти из Тауэра. Твоя пушка — мать ее так! — убила мою дочь! — И, продолжая выкрикивать проклятия, этот человек неторопливо двинулся прочь и присоединился к своим товарищам, дожидавшимся его на безопасном расстоянии — на склоне Тауэр-Хилл, у главных ворот, как раз там, где прежде казнили изменников.
Мы наслаждаемся теперь гораздо более изысканным обществом, чем прежде: несколько лордов, державших сторону королевы, предпочли вместе со всеми домашними укрыться в Тауэре. Не стану утомлять твой слух их именами, достаточно сказать, что они так же невоспитанны, как и прочие английские вельможи. Женщины расхаживают по крепости в платьях со столь низким вырезом, что груди оказываются обнажены почти до сосков, а платья у них разрезаны спереди, так что можно любоваться затянутой в чулок ножкой до самого колена. Все они, и мужчины, и женщины, нацепляют на себя множество украшений, преимущественно это подделки — гранаты вместо рубинов, полевой шпат вместо аметистов и топазов, а в золоте слишком велика примесь меди. В целом они гораздо больше похожи на наших актеров и храмовых танцовщиц, нежели на князей и министров.
Мы с Анишем развлекаемся от души, наблюдая за ними и с ними беседуя (мы уже оба хорошо овладели английским). Женщины способны рассуждать только о деньгах, потраченных их отцами и супругами на их наряды и драгоценности, а мужчины говорят об охотничьих подвигах, о достоинствах своих лошадей, проворстве и чутье собак, а также о победах на турнирах — что это такое, я расскажу позже, если хватит времени.
По утрам Скейлз отправляет на разведку лазутчиков, и те, возвратившись к вечеру, докладывают, что затевают в городе йоркисты. Папа прислал итальянского священника Коппини, чтобы он склонил враждующие стороны к соглашению, но вместо этого священник выступает перед горожанами с проповедями в пользу Йорка. По-видимому, Папа рассчитывает получить от Йорка различные права, из-за которых идет спор между короной и церковью, так что в данный момент Рим настаивает, чтобы король уступил требованиям Йорка. А тем временем все лорды из партии Йорка устраивают торжественную церемонию возле собора Святого Павла: они клянутся в верности безумному монарху, приносят ему присягу и утверждают, что желают лишь восстановить законы и порядок в стране.
Сегодня шестое июля, йоркисты уже две недели пребывают на земле Альбиона. Король не выступил из Ковентри, и люди говорят, что он боится вступать в бой, поскольку Йорк может ударить с севера. Вчера йоркисты сами решили двинуться навстречу королю. Десять тысяч человек под командованием лорда Фальконбриджа маршируют сейчас на север. Сегодня Уорик и Марч пошли им вслед и повели еще двадцать тысяч солдат. Лорд Солсбери, отец Уорика, остается с гарнизоном в две тысячи человек охранять Лондон и удерживать Скейлза в Тауэре.
Сегодня мы имели возможность полюбоваться в садах Тауэра на турнир — молодые люди затеяли его, заскучав от безделья. Когда вельможи томятся от скуки, они становятся опасными юноши все время грызутся между собой, точно щенки, а служанки и даже некоторые леди могут в любой момент подвергнуться насилию. Итак, был составлен список участников турнира, и молодые лорды облачились в тяжелые доспехи. Странная это забава: мужчины садятся верхом на боевых коней и пытаются длинными копьями выбить друг друга из седла. Выглядит это устрашающе. Они похожи на крокодилов или гигантских черепах в этих стальных панцирях, и, несомненно, падая наземь, они жестоко ушибаются, хотя вроде бы серьезных увечий не получают. На этот раз турнир пришлось отменить, потому что с утра зарядил дождь и лужайка превратилась в болото.
Я заканчиваю; Аниш сообщил мне, что с отливом еще одна каравелла отправляется в Левант. Он надеется, что за небольшую взятку кухонный мальчишка, который каждое утро выходит на рынок, согласится отнести это письмо Я наполнил это послание всяким вздором, но, поверь мне, я ни на миг не забываю о цели нашего путешествия — розысках князя Джехани — и надеюсь, что наступит день, когда мы возвратимся домой вместе с ним. Мы оба, я и Аниш, стараемся не думать о том, что достаточно каприза злобного старого пьяницы — и наши головы слетят с плеч.
Твой преданный и покорный слуга
князь Харихара».
Глава тридцать четвертая
— Дождь, даже теплый дождь, вроде этого, Ма-Ло, вызывает боль и онемение во всем моем теле и черную меланхолию в душе.
Шел дождь, непрестанный теплый ливень, какой неизменно льет каждый вечер в июне. Вдали за нашей спиной, над отрогами гор перекатывались отголоски грома. Дождь прогнал нас из-под коричного дерева, но мы найти убежище в небольшой беседке посреди внутреннего дворика. С черепичной крыши вода по водостоку стекала к углам и попадала в канавки, прорезанные в гранитных плитах стены. Струи дождя ударяли в маленький пруд, шуршали листьями декоративного кустарника.
Птицы, обитавшие в саду Али, как и мы, искали убежища от дождя, собираясь на балках под карнизом дома. Они печально взирали на дождь и ждали, когда он кончится. Изящная бирманская кошечка металась взад и вперед по краю веранды, словно плененный леопард. Она явно мечтала выбежать во двор и найти там сухое и укромное местечко, чтобы справить свои дела, но зверек не хотел мочить шкурку.
— Посмотри, Ма-Ло, как у меня распухли пальцы, — продолжал Али. — С виду колени выглядят как обычно, но изнутри они прямо-таки горят от ужасной боли, а здесь, внутри бедра, мне будто кинжал воткнули. Если б ты вчера не принес мне гашиш, я бы уже умер или лишился рассудка…
С этими словами он положил в чашечку своей трубки на горящие угольки маслянистый упругий шарик размером с яйцо куропатки — до этого Али долго катал его между ладонями, подставив снизу здоровую правую руку, а сверху накрыв изувеченной левой, — и приник к наргиле, словно его жизнь зависела от каждой затяжки. Может быть, так оно и было — во всяком случае, только это могло сохранить здравым его рассудок.
Нас окутало облако густого сладковатого травянистого дыма, охлаждавшегося, проходя через резервуар с розовой водой. Вдыхая этот дым, я, устроившись поудобнее, наслаждался легким опьянением, и в этом приятном ощущении запах гашиша соединялся с монотонным шумом дождя, с влажными испарениями, поднимавшимися от теплой земли, с ранними сумерками и столь же монотонным, как дождь, голосом моего престарелого собеседника.
Последнее письмо князя поведало нам о событиях, произошедших с ним и Анишем в течение трех месяцев. Теперь мы вернемся назад, к празднику Пасхи. На следующий день после проповеди брата Питера я решил продолжить свое путешествие по центральной части Ингерлонда.
Не успел я добраться до калитки, как уже начался дождь, и вскоре он усилился до такой степени, что я уже подумывал возвратиться. Я даже повернул обратно, но тут увидел, что человек, с которым я так сблизился за эти месяцы, вместо того чтобы махать мне на прощание, укрывшись в тепле в домике привратника, торопится вслед за мной по усыпанной гравием дорожке. Питер схватил меня под локоть и решительно потащил за собой в ту сторону, куда я должен был идти, — к большой дороге, что проходит вдоль стен Оксфорда, но отделена от города узким потоком грязной бурлящей воды. В левой руке Питер нес мягкую кожаную суму с удобными ручками.
— Прости меня, Али! — воскликнул он. — Как мог я отпустить тебя одного?! Позволь мне проводить тебя.
Мы двинулись вперед, разбрызгивая лужицы и спотыкаясь на канавках. Дождь начал стихать, солнце пригревало нам спину, от одежды поднимался пар, и по правую руку появилась радуга, осенившая своим сиянием мрачную, похожую на тюрьму обитель монахов и ученых. Я почувствовал радость оттого, что вновь двинулся в путь, — вот уже три месяца миновало с тех пор, как я оказался в аббатстве Осни, и, как бы хорошо и гостеприимно со мной тут ни обращались, меня тянуло уже к новым местам и новым лицам. Как ты знаешь, дорогой мой Ма-Ло, кочевая жизнь не позволяла мне задерживаться на одном месте дольше чем на месяц, и даже сейчас я порой испытываю тот же зуд, то же беспокойство, хотя старые мои кости нуждаются только в покое. Кстати говоря, мне уже гораздо лучше. Ты принес мне хороший бханг, гораздо лучше местного.
— Это настоящий «серп луны» с Лунных гор, — ответил я, — его только что доставили из Залива.
— Настоящий товар, верно.
Глаза Али подернулись пленкой. Вероятно, он погрузился в воспоминания о годах юности, проведенных среди ассассинов Гиндукуша, у ног факиров, следовавших учению Хассана ибн Саббаха и принимавших бханг в поисках вдохновения. Али еще раз глубоко затянулся, покачал головой, удовлетворенно усмехнулся и продолжил свой рассказ.
Мы дошли до развилки, вернее, до перекрестка дорог. Отсюда одна дорога вела к мосту и в город, другая уходила прямо на север, в Бэнбери и Ковентри, как сообщал указатель, а справа была надпись «Берфорд».
— Дорога в Берфорд ведет на северо-запад, — пояснил Питер, опуская наземь кожаный мешок. — Занятное местечко — Берфорд.
Я полагал, что здесь мы и расстанемся, раз уж он указал мне дорогу дальше, но Питер поднял свою суму и вновь подхватил меня под локоть. Он шел рядом со мной, поглядывая на меня как озорной мальчишка.
— Ты же знаешь, францисканцы это нищенствующий орден, орден странствующих проповедников, а я уже засиделся в монастыре. Настала мне пора выйти в мир, снова начать проповедовать, увидеть новых людей, поделиться плодами зимних размышлений и упорных исследований. Я смотрел тебе вслед, когда ты уходил, чувствовал, как буду скучать по тебе, и решил — почему бы и не сегодня? Кстати, — тут он снова опустил мешок и принялся развязывать черную тесемку. — Я прихватил с собой все труды Роджера Бэкона, какие были в моем распоряжении.
Он вытащил четыре маленькие пергаментные книжки в кожаных переплетах, легонько перелистал страницы. Я заметил, что страницы исписаны минускулом[150].
— Зашифрованные тексты, — сказал Питер. — Я разгадал код.
Дальнейший наш путь определял не я. Мы провели много недель в пути и в беседах, наслаждаясь обществом друг друга и почти не испытывая трудностей. Я порой напоминал Питеру, что мне нужно добраться до убежища братьев Свободного Духа ведь он сам говорил мне, что их удастся найти возле города Манчестер, или Мейклсфилд, но брат Питер никуда не торопился. И опять же, речь шла не о моем брате, а о брате князя Харихары, а князь сидел в Тауэре, так что не было особого смысла продолжать поиски Джехани.
Мы побирались, просили пищу (с собой кроме книг мы взяли лишь посохи да ту одежду, что была на нас), и нам подавали щедро, больше, чем нам требовалось. Иногда Питер читал проповедь где-нибудь на улице, на рыночной площади, у врат церкви или в сельской местности, подальше от властей и закона. Прихожан набиралось едва ли больше дюжины, но, по крайней мере, ему никогда не приходилось за отсутствием слушателей обращаться к птицам, как это вынужден был сделать основатель его ордена. Мы ночевали то в сараях, то в приютах для прокаженных, а то и в постели какой-нибудь вдовушки.
Начала пробиваться травка, в канавах появились цветы, и вскоре уже трудно было поверить, что всю зиму деревья простояли без листьев. Первыми покрылись цветом яблони, затем груши, лужайки сделались желтыми от множества лютиков — это такие маленькие цветочки. Леса наполнились птичьим гамом, особенно часто мы слышали состоящую из двух нот песню кукушки, подкладывающей свои яйца в чужие гнезда. Люди подавали нам милостыню мягким кисловатым сыром и сливками, молодыми побегами съедобной зелени и салата, удавалось отведать и птичьих яиц — я предпочитаю утиные.
Питер, как правило, произносил не столь дерзкую и в то же время философскую проповедь, как на Пасху, а говорил о благе бедности, умении делиться друг с другом и общей собственности. Он бранил священников и нормандцев, грабящих простой народ, он осуждал суеверия, жадность, роскошь, праздность, войны и так далее, и при этом он цитировал на память Библию по-английски в переводе Джона Уиклифа. Прежде чем произнести речь, брат Питер внимательно оглядывал слушателей и примерял к ним свое выступление: если там присутствовалконстебль или староста, Питер не забывал восхвалить короля и гражданский закон, если попадался бедный священник, Питер превозносил бедность, но если нам встречался богатый настоятель, каноник, аббат, Питер быстро заканчивал проповедь и мы спешили убраться подобру-поздорову.
Еще интересней, чем проповеди, были длинные беседы, которые мы вели между собой, пробираясь от деревни к деревне.
— Давай сразу согласимся на том, что бога нет, — предложил он в самом начале пути. Мы были совершенно одни, шли через дубовую рощу, толстые ветви деревьев только-только начали покрываться свежей, чуть желтоватой зеленью, о которой Питер сказал, что это еще не листья, а цветы, — и все же, прежде чем произнести эти слова, Питер оглянулся через плечо, всмотрелся в заросли чертополоха, убеждаясь, что там никого нет. — Это бессодержательное понятие. Нам он не нужен.
— Или она.
— Да, и она тоже, — он расхохотался. — Ты зануда, Али, но ты, как всегда, прав. Почему бы нам не считать бога женщиной? Раз уж мы решили, что ее нет, пусть себе будет — или не будет — женщиной!
— Итак, она нам не нужна.
— Оставим только перводвигатель. Что-то должно было привести весь этот мир в движение, но, как только начало положено, причина порождает следствие и дело идет само собой, а она может переместиться в другие вселенные и заняться ими. Если мы примем эту предпосылку, разве не интересно будет порассуждать о том, каким образом причины и следствия смогли породить всю иерархию бытия и то множество совершенно не схожих между собой существ, предметов и явлений, которое мы наблюдаем сейчас? Можно даже предположить, какие из нынешних видов являются прародителями всех остальных.
— Порассуждать всегда приятно и интересно, — откликнулся я, но тоже поглядел через плечо. — Правда, так можно договориться и до дыбы и до плахи. Ладно. Начинай.
— Я надеялся, что первым начнешь ты.
— Почему?
— Ты свел все человеческое знание к двум постулатам основателя вашей секты: истины нет, все разрешено. Ты гораздо больше, нежели я, преуспел в деле освобождения от груза знаний, которым обременила нас цивилизация, и ничто не сковывает твои движения. Я имею в виду — движение мысли, — прибавил он, глянув на мою иссохшую руку и скрюченное тело.
— Хорошо, — кивнул я, — идет.
Но мы еще несколько минут шли в молчании, разгребая ногами высокую траву, в глубине которой слоями лежали прошлогодние желуди и береста. Потом Питер на минутку отлучился в кусты чертополоха по естественной надобности, и его отсутствие словно надоумило меня.
— Жизнь, — так начал я, и тут же поправился, — животная жизнь должна начинаться с простейших, самых основных форм, из которых могут развиться все остальные.
— А что это?
— Нечто вроде мешка. Нет, вроде трубки. Трубка всасывает в себя пищу с одного конца, усваивает, что может, а все лишнее выбрасывает с другого конца. Если задуматься, все организмы, в том числе и люди, устроены именно так. Трубка постепенно обрастает всякими органами, которые должны ее усовершенствовать. Полагаю, первые животные представляли собой именно трубку, и ничто иное.
— Почему же они стали меняться? Сделались столь различными, несхожими? Появились многие роды и виды животных. Кстати, — добавил он, — с точки зрения причины и следствия, действия и реакции, откуда вообще берется что-то новое? Как нам объяснить происхождение видов?
Я ненадолго призадумался.
— Вот что, — сказал я, — мне довелось много путешествовать, я видел диких псов и грызунов, обитающих в пустыне, в Московии мне показывали дикого слона, вмерзшего в лед, и у него была густая длинная шерсть, а в Виджаянагаре слоны почти безволосые. Я видел обезьян, живущих на деревьях, и обезьян на горе Джебел Тарик они живут в пещерах и бегают по земле, они двигаются по-другому и используют ноги иначе, чем их собратья, лазающие по деревьям. И так далее. В разных местах природа и климат отличаются, есть горы и равнины, долины и скалы, жаркие места и холодные, влажные и засушливые, есть каменистые пустыни и роскошные леса. Повсюду животные как-то приспосабливаются к особенностям местности, и эти различия помогают им выжить в той или иной среде.
— Я вижу, к чему ты клонишь, — Питер едва сдерживал возбуждение. — Первые простые трубки начали меняться оттого, что изменилось окружение, изменилась пища, которую они поглощали и извергали. Хорошо, но с чего начались эти изменения? Как они произошли? Почему эти существа попросту не вымерли?
Мы замедлили шаг и погрузились в раздумье. Неужели нам придется все же признать существование этого древнего бородатого колдуна, семь дней поработавшего горшечником и вдохнувшего жизнь в свои глиняные фигурки?
Жара начинала уже нам докучать, в особенности Питеру, гораздо менее привычному к ней, чем я. Мы добрались до небольшой возвышенности, где лежал дуб, вырванный с корнем ураганом, и над головами открывался клочок синевы. Место, освобожденное деревом, уже занимала невысокая свежая травка. Мы сели, прислонившись спиной к телу поверженного гиганта, залюбовались окружавшей нас со всех сторон зеленью.
Со всех листьев свисали на тоненьких шелковых ниточках крошечные червячки. Их было легко разглядеть, хотя они тоже были зеленого цвета. Вокруг носилась пара пичужек, красногрудых, с острыми черными клювами, подхватывая одного червяка за другим и унося их прочь. За короткое время они разделались по крайней мере с десятком, но червяков было еще сотни и сотни.
— Куда они их несут? — спросил я. — Не могут же они съесть их всех.
Тут одна из малиновок справила нужду прямо на лысину моего спутника, и я, не выдержав, расхохотался.
— Вот проклятая, — проворчал он и, пошарив под стволом дерева, нашел палый лист и вытер им голову. Я не стал говорить ему, что кое-где остались зеленые пятна.
— Итак, мы видим вокруг простые трубки, питающиеся цветами и листьями и извергающие маленькие зеленые экскременты; большие и более сложно устроенные трубки, которые летают вокруг, поедают меньшие трубки и выделяют то, что не сумели переварить, в виде массы черных и белых комочков. Кстати, им требуется сейчас много пищи, потому что они относят ее птенцам, ждущим их в том дупле, спрятанном под веткой дерева. Какую же мораль мы можем извлечь? Сущность у них одна это все трубкообразные выделители дерьма, — но строение различно. Почему?
— Простые едят листья и, дожевав лист до конца, с помощью своих ниточек перемещаются к следующему, но птицы должны летать, чтобы ловить червяков, вот почему у них выросли крылья и другие органы, необходимые для перемещения от одного червяка к другому. Несомненно, когда-то и они тоже были червяками, однако им не хватало пищи, и тогда они начали меняться.
— Значит, ты утверждаешь, что мы все — люди, животные, птицы и рыбы — просто трубкообразные выделители дерьма, приспособившиеся, — тут он запнулся в поисках латинского слова, — адаптировавшиеся к меняющимся условиям? И главная цель у всех — продолжать свое дело, питаться и выделять экскременты?
— И оставаться в живых, хотя бы до тех пор, пока не появится потомство.
— Этот процесс займет больше семи дней.
— Да уж.
— Хорошо. Эти червяки, и птицы, и мы с тобой приспособились к окружающей среде, потому что наше предназначение есть, выделять дерьмо, размножаться, а затем умереть.
— Да, — согласился я. Я почувствовал странное возбуждение, даже ликование, подобное тому, которое испытывает человек, поднявшийся на вершину высокой горы и видящий простирающийся во все стороны совершенно новый пейзаж. Нам открывалась пока еще в дымке тумана — неведомая доселе мудрость.
— Предназначение не предполагает особого достоинства человека, созданного по образу Божьему.
— Какое уж тут достоинство.
Питер поднялся, подал мне руку, помогая встать, и мы неторопливо продолжили путь, пережевывая свою жвачку, как пара коров.
— Не будь малиновок, — сказал я, пройдя несколько шагов, — червяки съели бы все листья и не стало бы деревьев, а если бы погибли все деревья, то погибли бы и червяки, и малиновки также не могли бы существовать. Существует некий баланс, равновесие сил в природе.
— Я готов согласиться с тобой, что без червяков не было бы малиновок, но деревья прекрасно обошлись бы и без червяков.
Глава тридцать пятая
Еще неделя прошла в неспешном путешествии, порой мы двигались по широкой дуге, однажды добрались даже до восточного берега реки Северн, но затем повернули обратно, так как мы уже находились в Уэльской Марке, как назвал это место Питер, и на том берегу жили племена с варварским наречием и дикими обычаями. Беседуя, иногда собирая людей послушать проповедь, мы пришли наконец в Берфорд, который Питер считал интересным местечком. Еще прежде, чем мы подошли к городу, местность начала меняться. Из примыкавшей к реке долины мы перешли в холмистую страну, где нам постоянно приходилось карабкаться на пригорки, не очень высокие, но порой довольно крутые. Здесь было множество мелких ручейков, был здесь и лес, но чаще мы шли через влажные луга и ложбины, где вальяжно разлеглись коровы (их шкуры расцветкой напоминали грибы), неустанно жевавшие сочные травы. Среди холмов нам все чаще попадались места, когда-то бывшие возделанной землей или даже селением, а теперь их огородили и превратили в пастбище для овец. Уцелевшие селения — мы заходили в них, иногда даже оставались ночевать — казались довольно зажиточными, большинство домов, даже небогатых, строили из приятного и теплого на ощупь серого камня. Если не было дождя, женщины присаживались на крыльце и пряли шерсть, перематывая ее с веретена на прялку, а их супруги в доме или в пристройке ткали на примитивных станках — на мой взгляд, эти устройства были гораздо грубее тех, что используют арабы в Азии для изготовления тонкой шерсти и испанские мавры для обработки хлопка и шелка. Эти люди говорили не по-английски, а на фламандском наречии — Питер пояснил, что они прибыли сюда через пролив из Голландии. Этот народ владел ремеслом прядения и ткачества искуснее, чем англы и саксы, поэтому их приглашали селиться в Ингерлонде.
— Но если поля отданы под пастбище коровам и овцам, как же эти люди добывают хлеб, основу человеческой жизни? — полюбопытствовал я.
— Они покупают необработанную шерсть у лордов и землевладельцев. Господа огородили землю под пастбища и привезли сюда этих ремесленников.
— Погоди, — прервал я его. — А что же случилось с крестьянами, которые жили здесь прежде, с англами и саксами?
— Одно из трех, — ответил он. Мы поднимались вверх по крутому склону, дорожка заросла колючими кустами с ярко-зелеными листьями. Если эти листья растереть между пальцами, их можно употреблять в пищу как свежую зелень, они довольно вкусны, и мы с удовольствием лакомились ими по пути. Боярышник, вот как называется это растение. — Во-первых, сто лет назад большую часть населения истребила чума. У господ возникли проблемы слишком мало осталось работников, чтобы возделывать землю. Пришлось увеличить им плату. Далее, многие из выживших вступили в брак с фламандцами, и два народа слились воедино. В-третьих, те, кого огораживание лишило земли и кто не сумел через брак войти в семью прядильщиц и ткачей, сделались разбойниками и ушли, как здесь говорят, в Зеленый Лес. Они кормятся дичью, принадлежащей лордам, охотятся на зайцев и кроликов, а во время войны нанимаются солдатами к кому-нибудь из вельмож. Странно, что нам еще ни разу не повстречались разбойники. Во многих отношениях они осуществляют на практике то, что я проповедую.
Меня, однако, больше интересовала работа прядильщиц и ткачей.
— Они покупают шерсть, — ответил на мой вопрос Питер, — прядут ее, затем ткут и отправляют на рынок купцам. Между ценой необработанной шерсти и ценой готовой ткани есть определенная разница, и вот на эту прибыль они и покупают все, что им нужно, даже пшеницу.
Мы достигли гребня холма, откуда открывался вид на широкую плодородную долину, приютившую то ли маленький городок, то ли большое селение. Я на миг даже позабыл, о чем спрашивал.
— Берфорд, — произнес Питер. Спускаясь со склона, мы заметили небольшую яму, из которой двое мужчин добывали иссиня-серую рассыпчатую глину и сгружали ее на тележку.
— Сукновальная глина, — пояснил Питер. — Для производства ткани необходимо, чтобы поблизости была полноводная река и эта глина. Еще нужны пастбище для овец и опытные ремесленники. Сукновальная глина используется для того, чтобы счистить с шерсти грязь и жир, благодаря которым овечья шкура была теплой и непромокаемой.
— Да уж, без непромокаемой шкуры здесь не обойдешься, — согласился я, поскольку дождь моросил вовсю. — А зачем им понадобился гигантский чертополох? Ведь он годится разве что в пищу ослу.
Я имел в виду небольшой участок земли возле той ямы, где добывали сукновальную глину. Он был расчищен и засеян высокими колючими растениями.
— Это не чертополох, это ворсянка. Когда цветы отцветут, завяжется жесткая коробочка с короткой изогнутой щетиной. Ткачи пользуются ею, чтобы расчесать ворс, а затем они его сбривают и остается тонкая, как шелк, ткань — ее высоко ценят богачи.
— Это похоже на какой-то заговор человека и…
— Бога?
— …природы. Они вместе создали эту местность, где есть все, что нужно для ткацких мануфактур.
— Не забывай об истории. Чума тоже сыграла свою роль.
Берфорд весьма процветающее селение, причем богатство пришло сюда недавно. От Оксфордской дороги отходит главная улица села, застроенная новыми роскошными домами из кирпича с деревянными брусьями. Мы перешли небольшую речку, на берегу которой стояла занятная церквушка — занятная постольку, поскольку за триста лет она подверглась существенным переделкам и усовершенствованиям. На приземистую квадратную башню взгромоздили новенький изящный шпиль, неф и боковые приделы были надстроены новыми галереями, дополнительные колонны поддерживали новый свод, но при этом большая часть основания и примыкающие к церкви часовни остались без изменений.
Я указал Питеру на эти несоответствия.
— Мне кажется, было бы разумнее начать все сначала, — заметил я. — Они могли бы создать гармоничное здание в едином стиле и с точными пропорциями, а вместо этого получилась какая-то смесь. Более того, это и обошлось дороже.
Вместо ответа Питер ухватил меня за локоть — он всегда так поступал, когда хотел сообщить мне что-то особенно важное для него, задушевное, или хотел каким-то образом переубедить меня, — и повел меня в неф. Там стояла небольшая статуя, довольно грубое изображение женщины верхом на коне. Затем Питер стал обходить кругом старые колонны, и показывать мне капители, на которых был представлен в столь же грубом исполнении акт совокупления и тому подобное. Наконец, вернувшись во двор церкви, Питер подвел итоги увиденному.
— Это святилище, а не церковь, — сказал он. — Этот храм принадлежал не богу, а богине, белой госпоже — повсюду в нашей стране она разъезжала в пору летнего солнцестояния верхом на белом коне, златовласая, обнаженная, если не считать венка из цветов. Это знаки ее культа, их можно найти повсюду, если знать, где искать. В Бэнбери ее изображают с кольцами на пальцах и с колокольчиками на ногах, в Ковентри ее знают под именем Годивы. Церковники пытаются затушевать ее культ, строя свои церкви вокруг прежних храмов, но полностью стереть его они не в силах.
— Почему же этот храм, превратившийся в церковь, посвящен мужчине, пророку Иоанну Предтече? — возразил я. — Почему не Марии, матери пророка Иисуса, ведь вы считаете его богом, а стало быть, и его мать — богиня?
Питер посмотрел на меня спокойным, ничего не выражающим взглядом.
— Ты, верно, не знаешь, что праздник святого Иоанна, день его смерти, приходится на двадцать пятое июня, летнее солнцестояние, — ответил он. — Более того, Иоанн был обезглавлен, потому что такой награды потребовала себе за танец прелестная обнаженная девушка. Он был принесен ей в жертву. Погоди, через несколько недель наступит летнее солнцестояние, мы увидим костры, которые озарят всю страну, и тогда ты мне поверишь.
В этот вечер брат Питер читал проповедь, как обычно, сообразуясь с составом небольшой группы слушателей, на которых мы наткнулись у моста через реку. Большую часть его аудитории составляли цветущие розовощекие женщины в нарядной одежде — не в столь пышной, напоказ, какую любит знать, а в опрятных юбках и блузах белого, черного, коричневого или серого цвета, все как одна в накрахмаленных до хруста чепцах — порой эти головные уборы вздымались вверх словно паруса. Я отметил также довольно крупные ожерелья и серьги из золота.
Питер говорил о добродетели прилежного труда, о том, что благополучие есть не только результат прилежания, но и знак Божьего благоволения, более чем благоволения Бог избрал их своими служанками. Он добавил также, что человек не может быть спасен и причислен к избранным благодаря добрым делам или благодаря свершению таинств, этой погремушки для простых и ребячливых умов нет, он должен быть «выбран» Богом, потому он и называется избранным. А как человеку узнать, что он избран? Прежде всего об этом свидетельствует особая внутренняя уверенность, но есть и внешние приметы, например достаток, которого человек достигает благодаря приобретенным немалой ценой навыкам и усердной работе. И вновь Питер приводил и доводы, и примеры из посланий святого Павла в переводе Уиклифа. Похоже, этот Павел и впрямь был философом, судя по тому, как он разбирает вопросы веры, избранности и пользы или бесполезности добрых дел.
Слушательницам это пришлось по душе. Они улыбались, разглаживали фартуки, немногочисленные мужчины выпячивали грудь, откашливались и многозначительно поглядывали друг на друга.
— Так на что нам сдались священники с их латынью, — воскликнул Питер (приближался кульминационный момент его речи), — когда у нас есть для руководства Святое Писание, изложенное на чистом и внятном для всех английском наречии? На что нам церкви, когда нам обещано: где двое или трое соберутся во имя Его, там и Он будет посреди них? На что нам исповедь и отпущение грехов, когда мы можем прислушаться к голосу собственной совести?
В завершение Питер привел притчу о талантах[151] (как он сказал, из Евангелия от святого Матфея, глава двадцать пятая), тоже в переводе Уиклифа. Речь в ней шла о хозяине, похвалившем тех слуг, которые сумели пустить в рост вверенные им большие суммы денег, и осудившем того, кто зарыл монеты в землю и вернул их ему без прибыли.
Одному из слушателей, тощему высокому старику ткачу в дорогом бархатном костюме, с золотой цепью на груди, так понравилась эта речь, что он пригласил нас поужинать и переночевать у него. Этот человек был настолько богат, что в доме у него имелась даже отдельная комната для гостей. Его жилище напомнило мне лондонский дом олдермена Доутри, хотя, конечно, оно было скромнее. Тем не менее старый ткач и его семейство крупная светловолосая жена с большим носом и обширным бюстом, три дочери и двое зятьев — приняли нас прямо-таки по-королевски.
Поздним вечером, когда служанка проводила нас наверх и оставила на ночь свечу из чистого пчелиного воска, я напомнил Питеру:
— Как белая госпожа? Белая госпожа на белом коне?
— О, — ответил он, — я безумно люблю ее — но разве она приведет нас к столу с жареной уткой, плум-пудингом и сливками? Она обитает с немногими оставшимися пастухами и пахарями, она в Зеленом Лесу и с цыганами.
Питер захрапел, а я, улегшись по другую сторону разделявшего нас валика, задумался вот над чем: эти люди преуспевают, они зарабатывают много денег, и притом они весьма бережливы, они живут неплохо, но не транжирят свое богатство, не выставляют его напоказ. Не похожи они и на скупцов, которым доставляет удовольствие просто копить золото. Как они распоряжаются своими талантами, образовавшимся излишком денег?
Вельможа, получив от своих крестьян оброк, излишек продуктов продает за деньги ремесленникам и купцам, у которых нет своей земли. Все эти деньги он истратит на то, что ценит превыше всего, а для вельможи главное потешить свое самолюбие и утереть нос другим. Он купит строительный материал и оплатит работу строителей, чтобы возвести еще более великолепные дворцы и замки, он приобретет тонкие материи и резную мебель, задаст пир, достойный Гаргантюа[152], а если ему, как это обычно бывает, грозит сосед или сам он мечтает захватить земли другого вельможи, то деньги уйдут на самый дорогостоящий товар — оружие, доспехи, наемников — и на саму войну.
Но как же распорядится золотом крестьянин, если в качестве платы за свой труд или продав произведенный им продукт он получит больше денег, чем ему нужно? Разумеется, он будет их беречь, он спрячет золото под полом своей хижины на черный день, когда случится неурожай или хозяин сгонит его с земли.
А эти пряхи и ткачи и прочие ремесленники и купцы? Я уже наблюдал этот процесс, когда торговал по поручению хозяина, и теперь видел то же самое в Берфорде: разбогатев, эти люди прикупали больше шерсти, еще одну прялку, еще один ткацкий станок. Они не могли в одиночку работать на двух станках сразу, а потому приходилось покупать еще и время работника. Но, точно так же, как им самим их работа приносила больше денег, чем требовалось на повседневные нужды, так и изготовленную наемным работником ткань они продавали дороже, чем стоило все в совокупности: сама шерсть, лишняя прялка, ткацкий станок и жалованье работнику. Иначе не было бы никакого смысла заводить новый станок. Тем самым лишних денег становилось еще больше. Что теперь делать? Разумеется, опять то же самое. И так до тех пор, пока один человек не скупит сотни, тысячи тюков шерсти и время тысячи ткачей… А что потом?
Вероятно, когда-то должен наступить конец. Скоро в стране и во всем мире будет больше шерстяной ткани, чем нужно. У каждого человека появится три одежды — одна на каждый день, одна выходная и одна на всякий случай, и на этом процесс должен остановиться. Но остановится ли он? Разве предприимчивые люди не начнут заранее оглядываться по сторонам, присматривая еще какой-нибудь товар?
Голова у меня начала кружиться, мне сделалось нехорошо, в голове вертелись всевозможные схемы того, как все это должно происходить, я проделывал какие-то вычисления, потом многократно умножал полученные числа, то и дело забывая результат. Вскоре я весь покрылся потом и начал стонать, напуганный открывавшейся предо мной бесконечной перспективой. Питер проснулся и ворчливо осведомился, что меня так растревожило.
Я подробно ответил ему, приведя цифры и факты, и он мне сказал:
— Али, когда ты говорил о трубах, всасывающих в себя питательные вещества и выбрасывающих экскременты, ты заглянул в далекое прошлое, а сейчас, предаваясь фантазиям о человеке, отправляющемся на рынок с двадцатью ярдами льна, ты проник в будущее. А теперь спи.
— Не льна, — возразил я, — а шерсти. С двадцатью ярдами шерстяной ткани.
— Забавно, — отозвался он. — Готов поклясться, ты сказал — «льна».
На следующий день мы направились на северо-запад, на этот раз твердо решив добраться до Мейклсфилда, или, как его еще называют, Манчестера. Мы по-прежнему пробирались окольными тропами, от одной деревушки к другой. Припоминаю, что следующую ночь мы провели в амбаре, в остатках уцелевшего с лета сена. Я так отчетливо помню этот вечер потому, что, когда мы подошли к деревне и приостановились, чтобы оглядеться, наступил миг вечерней тишины. Потом черный дрозд, сидевший высоко в ветвях ивы, раскрыл клюв и запел вечернюю песню, и ее подхватили все пташки. В вечернем тумане их голоса разносились на несколько миль окрест. Это место зовется Эдлз Трэп.
К этому времени кусты, из листьев которых мы делали столь вкусный салат — их часто сажают в этой местности в качестве живой изгороди, — сплошь покрылись цветами, и теперь у нас над головой свисали тысячи маленьких цветков, они росли гроздьями и вместе были похожи на белую струю пены на гребне волны, той зеленой волны, что бьется о побережье Малабара. Конечно, на первый взгляд это сравнение кажется натянутым, но картину дополняли еще более мелкие белые цветки, заполнявшие канавы у изгороди; эти белые звездочки росли концентрическими кругами и внешне напоминали завихрение пены на гребне уже миновавшей волны.
Цветы, расцветшие на кустарнике, имеют необычный запах, немного сладковатый, но скорее животный, чем растительный. Мне не хотелось бы вогнать тебя в краску, Ма-Ло, сообщив, на что был похож этот запах, — скажу лишь, что это самый возбуждающий в мире запах для любого мужчины, да и для многих женщин тоже. Эти цветы распускаются в месяце мае, и этот куст зовут боярышником, или майским кустом: ничего удивительного, ведь Майя одно из местных имен Умы, или Парвати.
Этот запах пробудил во мне, хоть я и тогда был уже довольно стар, ностальгические воспоминания о нашей Уме, и я призадумался, какая же судьба ее постигла.
На следующий день мы миновали один из множества английских городов, носящих название Стратфорд. Питер сказал, что этот городишко знаменит своими перчаточниками и это ремесло принесло жителям кое-какой достаток, не сравнимый, однако, с богатством ткачей и прях, с которыми мы познакомились раньше, в холмистой местности. Мы перешли реку Эйвон рек с этим именем здесь не меньше, чем Стратфордов, полюбовались лебедями, сооружавшими большое гнездо в тростнике у подножия склоненной ивы, немного ниже от нас по течению реки. Потом мы продолжили путь. Мы прошли еще примерно с час по дороге в Ковентри и оказались возле деревушки Сниттерфилд.
Тут нас окликнул крестьянин по имени Шэгспер. Он обратил внимание на монашеское одеяние Питера и решил, что только францисканец может ему помочь: дело в том, что деревенская повитуха отлучилась в Стратфорд, а у его жены начались потуги и кровотечение. Две-три деревенские бабы, из тех, кого всегда привлекают похороны и поминки, уже подтянулись к дому Шэгспера, в ожидании худшего или, по их понятиям, лучшего. Они толпились у двери, точно стервятники, слетевшиеся поживиться падалью.
Питер быстро приготовил отвар из свежих листьев малины и ивовой коры, добавив корень валерианы и розмарин. Стонущую и вопящую мистрис Шэгспер удалось-таки уговорить отведать этот напиток. Затем Питер заставил ее подняться с постели и перейти на стул для родов, хотя ее супруг и опасался делать это до прибытия повитухи. Вскоре она произвела на свет тощего сморщенного мальчонку. Питер окрестил его Джоном на случай, если он тут же скончается: малютка вознесся бы прямиком на небеса.
Однако младенец принялся довольно усердно сосать материнскую грудь, и его синюшная кожа начинала приобретать более здоровый розовый цвет. Мать тихонько напевала колыбельную, и Джон спокойно уснул. «И зло, и вред, и чары прочь, спокойно спи, сынок, всю ночь», — пела она, вместо припева повторяя: «Баю-баюшки-баю». Не слишком изысканная поэзия похоже, она сама эти стишки и сочинила, — но свое действие на младенца песенка оказала.
Покидая Сниттерфилд, мы приметили двух крестьян, подстригавших чересчур разросшуюся изгородь из боярышника ветки нависали над дорогой так, что мешали прохожим. Один из них вовсю орудовал маленьким топориком, другой завершал его работу с помощью садового ножа.
— Сперва наметим, — приговаривал первый.
— И завострим как надо, — бодро вторил ему другой.
— Эти люди настоящие философы! — восхитился Питер.
— Что ты имеешь в виду?
— Неумолимые силы природы, проявляющиеся в виде причинно-следственных связей, намечают нашу судьбу, а накопление денег, используемое репродуктивно для все большего их приумножения, придают нашей жизни окончательную форму. Вся история в одной фразе.
Глава тридцать шестая
На дороге появлялось все больше людей. Теперь мы каждый день встречали вооруженных воинов, чаще всего верхом спешивших в сторону Ковентри, трижды мимо нас проезжали пушки, мулы тащили эти тяжелые орудия по чересчур узким, разбитым дорогам, останавливаясь, когда нужно было пересекать реку вброд. Мы знали, что в Ковентри находится королевский двор, а потому могли догадаться, что происходит. Король или, если и вправду монарх был совершенно безумен, его приближенные, и в особенности королева, готовились к наступлению йоркистов. Со дня на день ожидалось возвращение герцога из Ирландии и его кузена графа Уорика из Кале. Я припомнил, что к числу йоркистов принадлежал и Эдди Марч, с которым Ума предавалась столь бурным наслаждениям, что их едва не захватил врасплох лорд Скейлз. Эдди спасся только благодаря моему своевременному вмешательству, благодаря тому, что я успел подать ему коня. Вполне вероятно, что Ума если она еще жива постарается воссоединиться с Эдди, и даже князь Харихара и Аниш могли предпринять такую попытку ведь Эдди обещал стать их проводником в Ингерлонде. Учитывая все это, я согласился отсрочить поход на северо-запад с целью разыскать братьев Свободного Духа и решил вместо этого выяснить, где находятся мои друзья и князь. Мы подумали, что проще всего разузнать все новости будет в тех краях, где собирается армия короля, ведь и йоркисты должны объявиться поблизости, раз они собираются вступить в сражение.
Наступил сезон, когда хватало свежих овощей, в том числе привычных и для арабов. Я с наслаждением подал салаты из фасоли, а чуть позднее — из гороха и различной зелени. Этим салатам не хватало остроты, которую придали бы им восточные приправы и специи, здесь росли только мята и петрушка. И все же я бы счел эту местность истинным раем, если б не капризы погоды.
В этой части страны радовали глаз общинные пастбища по берегам рек. Любому индусу это пришлось бы по сердцу: густая, сочная трава, состоящая из множества стебельков различных видов и цветов, и повсюду коровы, неторопливо, разборчиво питающиеся. Почти у каждой семьи есть своя корова, и все стадо пасется вместе на деревенском кладбище. Коровы мельче наших, рога и подгрудки у них не такие большие, но вымя ничуть не меньше. Здесь, в Ингерлонде, всем хватает молока и масла, сметаны и сыра.
Другое дело, что индусы отнюдь не одобрили бы привычку местных жителей охотно и с жадностью пожирать говядину, а князь Харихара и Аниш пришли бы в ужас при виде такого зрелища. Бычков отделяли от телок и в возрасте примерно двух лет, а то и раньше, закалывали и съедали. По праздникам целые бычьи туши жарили на огромных кострах. Мне это отнюдь не было противно, напротив, распробовав английскую говядину, я спешил вновь отведать мясца, когда с лужайки, забитой лотками, коробейниками и нарядной толпой, доносился густой аромат обугливающегося мяса. Воды здесь вдоволь, и сочной, зеленой травы тоже, так что животным не приходится проделывать и ста шагов в день, отчего мясо у них становится нежным и в меру жирным.
К сожалению, в Ингерлонде не выращивают коноплю. Я не хотел притрагиваться к крепкому пиву или медовухе — это алкогольный напиток из меда. Я давно научился воспринимать предписания Магомета как бессмысленное суеверие, но настолько свыкся с отказом от крепких напитков, что даже их запах вызывал у меня легкое поташнивание. За бханг, за гашиш я бы отдал свою бессмертную душу — если б, конечно, она у меня была и кто-нибудь на нее польстился.
На ярмарках мы видели и различные состязания в силе и ловкости, в большинстве своем нелепые и опасные. Мужчины стреляли из лука в чучела птиц, которые кто-нибудь раскачивал перед ними на веревке, имитируя полет, или же старались попасть в установленную вдали голову сарацина. Хотя миновало уже много десятилетий со времени последнего крестового похода (так христиане именуют джихад), память о них еще не стерлась. И все же моя смуглота не навлекала на меня подозрений в том, что я мусульманин, или же это никого не волновало. В целом англичане весьма терпимы — я имею в виду старых англичан, а не нормандцев, — им лишь бы брюхо было набито да в бочонке что-нибудь булькало. Еще они забирались на смазанный жиром шест, переброшенный через ручей, и старались сбить оттуда друг друга, орудуя мешками с песком; они бегали наперегонки в тяжелом вооружении; они рубили дрова огромными топорами и изобретали всевозможные единоборства. Победители и побежденные до смешного гордились сломанными костями, перебитыми носами и окровавленными физиономиями.
Обычно какой-нибудь деревенский герой вызывал на состязание одного соперника за другим, пока не выявлялся чемпион, но мы видели (особенно незадолго до летнего солнцестояния) и такие игры, в которых целая деревня выступала против другой. Задачей каждой команды было занести надутый пузырь в деревню-соперницу, в самый ее центр или в другое обусловленное заранее место. В общем, довольно простые правила, и никаких ограничений — запрещалось лишь пускать в ход оружие. Одни команды полагались на силу, другие пытались одолеть с помощью хитрости. Первые, завладев пузырем или мячом, собирались толпой вокруг игрока, державшего мяч, и всей массой прорывались к своей цели, сметая по пути все препятствия. Хитрецы прибегали к обману, старались быстрее бежать, чтобы обойти врагов, часто им удавалось увлечь почти всю команду противника в погоню за игроком с похожим, но не настоящим пузырем, а тем временем подлинный мяч проносили или, пиная ногами, перекатывали по боковым проулкам и по околице. Пузырь можно пинать ногами, причем он летит довольно далеко, шагов на сто, и таким образом его удается послать через головы врагов в руки товарищей по команде. Между прочим, когда мяч поддают ногой, он летит дальше и точнее, чем при броске руками. Во всех командах особенно ценятся парни, умеющие подбивать мяч ногой.
Мой спутник оказался страстным любителем этого вида спорта. Если мы где-то натыкались на матч, Питер тут же принимал чью-либо сторону, одалживал у других зрителей или даже покупал отличительные знаки, которые надевали болельщики этой команды разноцветную ленточку или шарф, — и мчался вслед за игроками, приветствуя их успех, сопереживая каждой неудаче, подхватывая боевой клич команды, и ругался, не стесняясь даже непристойных выражений, если его любимцы терпели поражение. Питер сказал мне, что, когда он учился в Оксфорде и еще не принял постриг, он участвовал в подобных играх и был принят в команду своего студенческого братства.
В завершение праздника проигравшие устраивают пир для жителей обеих деревень, все усаживаются вокруг огромного костра, накачиваются пивом и сидром; сидр гонят осенью из яблок, то есть к этой поре напиток простоял уже десять месяцев и стал таким кислым, что чуть кожу не сдирал с языка, но англичане охотно его пили, поскольку он вызывает опьянение даже скорей, чем их пиво. Они еще и танцевали под звуки волынок, флейт и барабанов. Это были странные танцы в одном требовалось, кружась, описывать причудливые фигуры, точно они бродили по лабиринту, в другом участники принимались сражаться друг с другом на палках. Многие танцоры вешали себе на пояс ленточку с колокольчиками. И вдруг сквозь какофоническую музыку, неуклюжие и гротескные движения я расслышал, разглядел нечто иное я узнал мавританский танец с саблями, столь любимый в Гранаде, изящные движения рук и ног, которыми славятся мавританские красавицы. Быть может, мне это померещилось, однако позднее мне говорили, что эти танцы и впрямь были введены в Ингерлонде Джоном Гонтом, прапрадедом нынешнего короля, а этот Джон Гонт ходил войною на Испанию.
В полночь те, кто еще мог устоять на ногах, принимались прыгать через костер, те, кто уже не держался на ногах, но еще не провалился в сон, совокуплялись друг с другом, а большинство уже мирно храпело и пребывало в бесчувствии до рассвета.
Через пару недель выяснилось, что именно приверженность брата Питера к игре в мяч, которую он называл «фути», увлекала его на юго-восток вместо северо-запада, который был изначально целью нашего путешествия. Дело в том, что примерно десятого июля должен был состояться ежегодный матч между двумя деревнями на берегу реки Нене в миле к югу от города Саутгемптона. Поединок между селениями Сэндифорд и Хардингстоун считался самым интересным событием в этих играх. Мы добрались туда вечером девятого числа. Два дня подряд шел дождь, мы промокли насквозь и вдобавок наткнулись на пикет вооруженных всадников, охранявших брод.
— Ага, — сказал Питер, — это констебли. Они следят, чтобы никто из участников игры не переходил до рассвета через реку, иначе они бы получили преимущество перед другой командой.
— Так-то так, — проворчал я, глядя на бурный, стремительный поток, — но мне кажется, без лодки тут никому не переправиться.
Быть может, эту реку обычно переходили вброд, но после дождя она выглядела чересчур глубокой и быстрой.
Мы пошли дальше. Надвигались сумерки. Мы вышли на большую дорогу, которая вела к югу, поднимаясь на холм между рекой и уходившей вдаль равниной.
— Это отличный наблюдательный пункт! Отсюда мы сможем посмотреть завтрашний матч! — возликовал Питер, и мы полезли на пригорок.
На гребне холма уже стояли четыре пушки, и двадцать воинов в доспехах, но без оружия, под надзором рыцаря, восседавшего на коне, тащили от реки на это возвышение еще одно крупнокалиберное оружие. Пушки прикрывали подход к городу, чьи башни и шпили мы могли смутно разглядеть на другом берегу реки, примерно в миле от нас.
— Эти люди, конечно же, из команды Сэндифорда, — гнул свое Питер, — они должны защищать границы своей территории.
Похоже, он либо не замечал пушек, либо не хотел их замечать. И тут я обратил внимание на одну непривычную деталь его внешности.
— Питер, — сказал я ему, — знаешь ли ты, что ты забыл снять очки? Ты ведь надеваешь их только для чтения.
Питер принялся возиться со своими линзами, и, едва он снял их с носа и с удивлением воззрился на окружавшую нас обстановку, конный офицер, подскакав к нам, объявил нас шпионами Йорка и приказал своим людям привязать нас к ободранной замшелой яблоне, росшей на самой вершине холма.
— Тут и сидите, — промолвил юный мерзавец, в речи которого звучал типичный нормандский акцент. — А мы пока разберё-омся с вашими дружками. А потом све-эзем вас в город и па-ас-мотрим, какого цвета у вас кишки.
В довершение всего ночь напролет лил дождь.
Глава тридцать седьмая
Я проснулся — да, я спал, хотя мои запястья были связаны с запястьями Питера, лодыжки с его лодыжками и оба мы остались стоять спиной к разделявшему нас дереву. Головой я задевал ветку с мелкими недозрелыми яблоками, по ноге текла струйка мочи, песня жаворонка показалась мне пронзительным визгом. Мы оба совершенно окоченели за ночь, болел каждый сустав и каждая мышца, но, как раз когда мы с Питером очнулись, на востоке над равниной поднималось солнце, и его тепло несколько облегчило наши мучения.
Вокруг нас, чуть ниже по склону, занимались своими делами артиллеристы: разжигали костры, готовили завтрак (судя по запаху, бекон и пудинг). Эти запахи сперва вызвали отвращение и у меня — на то я и мусульманин, и у Питера — на то он и монах, но вскоре голод взял верх. К счастью, нас пожалел сержант, хотя телосложением он больше смахивал на бочонок, чем на человека. У него были длинные соломенного цвета волосы, такие же усы и отросшая за неделю борода, его крепкое туловище защищала кожаная куртка со множеством заклепок, кольчуга и нагрудник, а на голове красовался шлем без ободка. По приказу сержанта один из его людей угостил нас хлебом ему пришлось кормить нас с рук.
Питер, привязанный спиной ко мне, стал расспрашивать, что видно с моей стороны.
Я глядел на юго-восток прищуриваясь — солнце все еще низко висело в небе, а сверху на него надвигалась туча.
— Холм довольно высокий, но пологий, — так начал я свой отчет, — он переходит в равнину, но равнину тоже нельзя назвать вполне плоской. Там общинное пастбище, две деревушки одна из них, полагаю, и есть Хардингстоун, — вокруг них поля, а дальше лес. Дорога спускается вниз с холма, проходит между деревнями и уходит в лес.
— Там что-нибудь происходит?
— Еще как. В ста ярдах от нас солдаты пытаются установить пушки. Ими командует тот самый ублюдок, который приказал нас схватить. У них проблемы — за ночь колеса пушек увязли до самой оси в глине. Наш юный друг совершенно из себя выходит.
— Я слышу, как он орет.
— Ты, конечно же, слышишь и равномерный, монотонный стук, удары дерева о дерево. Все больше вооруженных людей прибывает сюда. Они втыкают в землю колышки, острием вверх. Еще они копают ров, а из выкопанной земли строят вал перпендикулярно дороге, тянущийся примерно на триста шагов в каждую сторону от нее. Вот и все. А, нет, не все. Что-то они все вдруг встревожились. Ага, вижу. Из леса вышла большая колонна солдат с пиками на плечах. Они идут как раз по дороге между двумя деревнями. В колонне есть несколько отрядов по пятьдесят и более человек в тяжелом вооружении, на боевых конях.
— Они далеко?
— В миле отсюда.
— И ты различаешь все детали?
— От моего здорового глаза больше пользы, чем от обоих твоих вместе взятых.
Мой друг приумолк, быть может, обидевшись. Я постарался загладить неловкость:
— А что происходит на твоей стороне?
— Почти ничего. Там большой лагерь. Палатки. Королевское знамя. Но футболистов не видно. Правда, еще рано.
Шло утро. Со стороны реки появлялись все новые солдаты, они строились позади частокола, были среди них и стрелки с большими луками, были всадники в доспехах на покрытых броней конях. Когда кавалерия ступала на болотистую тропинку или дорога начинала подниматься вверх, кони, не выдерживая давившего на них груза, падали на колени с жалобным ржанием, бились в панике, угрожая сбросить тех рыцарей, кто не догадывался заблаговременно спешиться. Одно из таких коварных местечек было недалеко от меня, слева, где ручей петлял по лугу, пока не впадал в Нене. Однако основу армии составляли не рыцари, а тяжеловооруженная пехота. Эти воины несли в руках что-то вроде больших топоров, а к поясам у них были подвязаны тяжелые мечи.
Около полудня завыли трубы, загремели барабаны, и я уж было решил — началось! Но нет, то был сигнал к переговорам. Из лагеря, что расположился к югу от нас, возле леса, выехали двадцать всадников с герольдом впереди. Они везли с собой большие знамена со сложными рисунками все европейцы используют их в бою, чтоб отличать своих от чужих, хотя я понятия не имею, каким образом рядовойсолдат не путается, где друг, а где враг, если в его экипировке отсутствует полный справочник гербов. А может, солдаты особо и не стараются в этом разобраться.
Фат, из-за которого мы тут томились, снова уселся на коня (здесь, на холме, почва была надежнее, чем внизу у реки) и завел беседу с двумя присоединившимися к нему юнцами, тоже верхом и во всеоружии:
— Что за черт, Джастин? Кого это несет?
— Епископы, Морис. Старый Бёрчер, архиепископ Кентерберийский, вон белая бородень развевается. Он вроде кузен Йорка, да-а?
— Кажется, зять, что ли. Еще с ними Солсбери, — вставил третий.
— Сказал — что в трубу пернул. Солсбери-то совсем старый.
— Боже, Морис, ну ты и придурок. Епископ Солсбери, а не граф. А тот чернявый должно быть, Коппини, папский легат.
— И чего им тут понадобилось?
— Они едут к королю. Скажут ему, что они воюют не против него, а против королевы и ее приближенных, так что, если он тихо-мирно им уступит, не будет никакого сражения.
— Что ж, это может сработать. Старый дурак терпеть не может войну. Противные, грубые люди рубят друг друга топорами. У него от этого мигрень.
— Старина Стафферс не пропустит их, верно говорю?
— Точно. Мы заняли холм, и у нас есть пушки. Верное дело. Стафферс так и рвется в бой. Опрокинем их и двинемся прямиком на Лондон, выручать старину Скейлзика. Его держат в осаде в Тауэре с самого Рождества.
— А все-таки у них чертовски много людей. Похоже, вдвое больше, чем у нас.
— Не трусь, Морис. У нас же пушки, верно?
— Ты прав. Нечего волноваться. Ладно, поеду к предводителю.
Тот, кого звали Морис, поскакал прочь, гремя и звеня своими доспехами, а наш командир и Джастин остались на холме.
— А кто это с Моррерсом? С какой стати он прикрепил к шлему какую-то черную палку?
— Это местный, лорд Грей Рафин. Присоединился к нам, потому что надеется, что король решит в его пользу тяжбу с соседом. Я ему ни на грош не верю. Если Уорик посулит ему побольше, он тут же перебежит к нему.
— Не важно. У нас есть пушки.
— Точно. У нас пушки.
И тут снова зарядил дождь.
К четырем часам дня все было кончено. Нам с Питером было все хорошо видно с холма, а чего мы не увидели, то узнали после битвы.
Около часа епископы уехали. Поскольку после их визита ничего не изменилось, мы догадались, что их миссия не удалась. Потом Питер принялся орать и вопить: «Давай, давай, лупи, идиот, передавай мяч, мяч отдай! Ох, упустил, идиот, мать его так…» — и при этом он так натягивал веревку, соединявшую наши руки, что я то и дело врезался спиной в ствол яблони. Потом он засучил ногами, словно поддавал мяч, и мне поневоле пришлось дергаться вместе с ним. Сперва я вообразил, что началось сражение, что йоркисты обошли армию короля и напали на него со стороны реки, за моей спиной, но тут же выяснилось, что Питер взволновался из-за футбола. Многие англичане, дорогой Ма-Ло, даже многие женщины относятся к этой игре как к главному делу жизни.
— Ох, гады, что творят!
— Что там, Питер?
— Солдаты короля прогнали их. О, глазам своим не верю они и мяч у них отобрали! Парни расходятся по домам. Подумать только, все кончено! Все кончено!
И он принялся причитать и ругаться из-за своего футбола, и его даже не интересовало, что происходит с моей стороны поля.
Тем временем вновь зазвучали трубы, и йоркисты, стоявшие в низине, двинулись вперед. Джастин и наш юный щеголь рысью разъезжали под дождем, струи которого превратились в частокол или в ряд пик идущей в атаку кавалерии. Я видел, как молодые вельможи хлопочут возле пушки, дуют на фитиль в надежде оживить его, и им даже удалось извлечь на миг искру и облачко дыма, однако вместо грохота выстрела послышалось лишь громкое пуканье. Ядро бессильно вывалилось из жерла, прокатилось несколько ярдов вниз по холму, в сотне ярдов от передних рядов йоркистов шлепнулось в грязь и так осталось лежать. Наступавшие испустили громкий радостный клич и бодрым шагом начали восхождение на холм — так быстро, как позволяли дождь и скользкая грязь. В общем-то, не так уж и быстро.
Лошади с трудом поднимались вверх по грязи слишком велик был вес покрывавшей их брони да еще и доспехов всадников. Рыцари соскальзывали с высоких седел и плелись в гору пешком рядом со своими солдатами. Диковинный вид был у этих рыцарей, точь-в-точь механические куклы, каких я видел в Византии. Они украшали свои шлемы огромными изображениями зверей и сказочных чудовищ, деревьев, орлов с распростертыми крылами, даже замков и кораблей, и благодаря этому возвышались на два-три фута над всей толпой. Если такая железная махина рушилась, для ее подъема требовалось не менее четырех солдат; правда, рыцари не ушибались при падении. Меткий лучник мог сразить их, угодив в просвет кольчуги или в то место, где соединялись друг с другом различные части брони, но сами доспехи, выпуклые, с острыми выступами, были неуязвимы для стрел.
Когда рыцарь врезался в ряды врагов — если ему удавалось до них добраться, — он принимался безжалостно крошить всех, кто попадался под руку, десятками уничтожая рядовых, легковооруженных солдат. Рыцари рубили с размаху огромными топорами или двуручными мечами длиной в четыре фута, нанося чудовищные раны, дробя черепа, прорубая разом и плечо и грудную клетку, отсекая протянутые в безнадежной мольбе руки и заливая все вокруг потоками крови.
Прямо подо мной битва шла на равных, поскольку дождь вывел пушки из строя. На стороне йоркистов было больше людей, но солдаты короля занимали возвышенность, и благодаря глубокой и скользкой грязи это оказалось серьезным преимуществом.
Однако на восточной стороне поля, около ручья и болота, дела обстояли иначе. Пропитанная водой почва замедлила продвижение армии, вельможам и рыцарям пришлось сойти с коней, которые не в силах были нести их. К частоколу и валу из дерна они продвигались пешком, на них обрушились стрелы из больших луков, один залп за другим. Они скосили многих из них. И тут впереди всех, в центре, я увидел рыцаря, чей щит был весь утыкан стрелами. Размахивая мечом, он звал своих воинов за собой. Вид его невольно вызывал восторг и восхищение. Я узнал его даже издали — по осанке, по тому, как он орудовал мечом. Мне уже доводилось видеть такую манеру боя. Да, конечно же это Эдди Марч.
Пушки подвели короля, но луки, глубокая грязь и дождь казались надежными союзниками. Похоже было, что сторонники Йорка даже не доберутся до вала и частокола, не говоря уж о том, чтобы их преодолеть, во всяком случае, пока у лучников не кончатся стрелы, но тут судьба повернулась спиной к Стаффорду, герцогу Бэкингему и сторонникам короля.
Линию укреплений от лучников, обстреливавших Марча, и вплоть до пушки, стоявшей прямо подо мной, защищали тысяча или даже больше воинов, на шарфах и нарукавных повязках которых я различал изображение черной палки, герба лорда Рафина. С этой стороны не вылетело ни одной стрелы, и, как только первые ряды йоркистов во главе с вельможей в тяжелых доспехах поднялись, пыхтя и задыхаясь, к подножию холма и добрались до вала, люди лорда Грея, перегнувшись через это препятствие, помогли вражескому офицеру перебраться через него.
Вот так все и произошло. Люди Грея развернулись, разрывая ряды защитников, йоркисты ворвались в эту брешь и веером разошлись в обе стороны от нее уже по другую сторону оборонительного вала. Люди короля тут же поняли, что разбиты, и обратились в бегство за холм и к реке.
Теперь настал через Питера рассказывать мне, что там происходит.
— Ах, бедолаги, — восклицал он, — они не могут перейти вброд, река разлилась, а мост слишком узкий. Те так и косят их, словно… словно рожь в июле. Ох! Сколько крови! Река течет кровью. Полный разгром. А вон и герцог! Стаффорд, герцог Бэкингем. Он пытается остановить бегство, вернуть солдат в битву. А, он упал. Вот не повезло. И знамя его тоже свалилось. Они рубят его вшестером. Пропал, бедняга! Все, они уже отрубили ему голову, нацепили на копье. Господи, король бежит. Петляет из стороны в сторону, будто лиса, за которой собаки гонятся. У моста его люди. Они пропускают его. Уйдет! Ага, он уйдет! О нет, не вышло. Наткнулся на лучника. Лучник прицеливается. Все, йоркисты взяли его, ведут обратно в его палатку… Хорошо, хоть голову ему не отрубили. Во всяком случае, пока.
В этот момент какой-то рыцарь из лагеря Йорка вполз на гребень холма и, обнаружив нас в столь жалком положении, сделал правильный вывод: мы враги короля, а стало быть, друзья Йорка. И он разрубил своим мечом наши веревки.
Рыцарь постоял рядом с нами, пока мы растирали онемевшие запястья и щиколотки, он даже подхватил меня под руку, заметив, что ноги отказываются мне служить. Мы сказали ему, что вот уже сутки как ничего не ели, если не считать нескольких крошек хлеба, и добрый рыцарь принес нам хлеба, сыра и молока. Приятный парень — если забыть, что весь его панцирь был забрызган кровью, причем отнюдь не его собственной.
Внезапно на поле битвы воцарилась тишина. Король Генрих вышел из своей палатки. Он стоял у самого входа, тощий, бледный, ослабевший, голова его тряслась, пальцы судорожно сжимались и разжимались. Он пытался сообразить, насколько хватало его взбаламученного рассудка, как ему следует поступить. Пасть на колени и молить о пощаде?
Но нет. Сторонники Йорка сами опустились перед ним на колени. Было так тихо, что я издали слышал, как заскрипели при этом сочленения их доспехов.
— Странно ведут себя победители! — удивился я.
Они отстегнули забрала, сняли свои шлемы с дурацкими плюмажами и гербами, и теперь я уже безошибочно узнал Эдди. Светлые волосы намокли и потемнели от пота, лицо раскраснелось — то-то жарко, должно быть, сражаться внутри металлической клетки весом в сто фунтов. Герб на его щите был похож на герб короля золотые львы на красном фоне и серебряные лилии на голубом.
Интересно, подумал я, он воспроизводит герб короля, чтобы нанести оскорбление его величеству, или же в этом заключена какая-то магия? Но в тот момент я забыл спросить, а потом все и так стало ясно.
Вернемся к той сцене. Рядом с Эдди, не достигшим еще восемнадцатилетнего возраста, склонился перед законным монархом граф Уорик — огромный красивый черноволосый мужчина в самом расцвете сил, склонился перед человеком, все еще остававшимся помазанником Божьим. А распрямившись, запрокинул голову и заревел, точно взбесившийся бык: «А где долбаная королева и этот ублюдок, которого они зовут принцем Уэльским?»
Али все медленнее и медленнее выговаривал слова, то и дело зевая. Наконец он умолк. Приближался вечер, дождь стихал, бирманская кошечка вернулась из зарослей и пристроилась на коленях у хозяина. Али почесал ее под подбородком.
Я услышал, как щелкнула дверная задвижка, и, подняв голову, посмотрел в сторону веранды, по ту сторону маленького пруда. Обе жены Али, закутанные в тонкий муслин, под которым угадывались такие же округлые груди и тонкая талия, как и у их тети, спускались к нам.
— Возвращайся завтра, дорогой Ма-Ло, — сказал мне Али на прощание. — Тогда мы узнаем, что было тем временем с Умой.
Часть IV
Глава тридцать восьмая
Я вызвала немалый переполох в окрестностях Ковентри, путешествуя в добытом мной наряде. Здешний народ почитает идола, чье платье я себе присвоила. Вернее, не «почитает», это неточное слово. Мария для них не просто богиня и мать бога она их друг. Я вскоре выяснила, что простой люд относится к своим богам совсем не так, как церковнослужители, украшающие иконы золотом и драгоценными камнями — иногда даже настоящими, кадящие благовониями и совершающие молитвы по строго предписанному обряду. Им важно, чтобы боги оставались далекими и недоступными для людей, чтобы они внушали почтение и страх. С помощью этих образов они укрепляют свою власть и свои законы, от их имени взимают пошлины и десятины с бедняков.
А бедняки, вопреки всему, хранят в сердце особый образ своей местной Матери и благодаря этому сохраняют связь с самой Матерью. Дева Ковентри не та, что Богоматерь Ноттингема или Уолсингема, — это их, и только их, собственная заступница, они общаются с ней, разговаривают, поверяют ей свои заботы, они скорее любят ее, нежели почитают. Этот идол бывает и капризным, и непредсказуемым, но это — часть их жизни. Благодаря Матери созревает урожай, рождаются на свет дети и, когда приходит срок, она принимает в свои объятия умирающих.
И вдруг они увидели, как по долам и холмам, по берегу реки, через их поля и деревни шествует сама Матерь, в высокой золотой короне, в черном платье и синем плаще, с золотыми украшениями, подтверждающими ее божественный статус. Крестьяне приветствовали богиню почтительно, с некоторым страхом, с детским желанием угодить ей и столь же детским доверием: она-де удовлетворит все их неотложные нужды. Эти люди оказались во всем похожи на жителей нашей страны, они полны столь же искренней веры и не нуждаются в хитроумном посредничестве церкви.
Я пребывала в каком-то смутном состоянии и мало в чем отдавала себе отчет. После нескольких недель пыток и нескольких месяцев лишений я ослабела и телесно, и духовно. У меня не оставалось ничего, кроме самой жизни и твердой решимости выжить. Мне казалось, что я медленно, без усилий, парю над землей, я слышала голос, напевавший на высоких, доступных лишь флейте нотах песнь любви и благодарение Парвати, и этот голос был так красив, что я даже и не думала, что пою я сама. Крестьяне усыпали мой путь лепестками вишни и яблони, они постанывали от счастья, когда я принималась неторопливо покачиваться и вращаться, показывая им задники золотых туфель, танцуя под жалобное завывание их труб и волынок, под грохот барабанов вздымая к небу руки в жесте молитвы.
Они кормили меня сметаной и молодым сыром — на полях уже выросла трава, и коровы давали много молока; они кормили меня прошлогодним медом и сотами, рыбой и хлебом, маслом, яйцами, а спустя несколько недель, когда появилась фасоль в стручках, словно покрытых шерстью, и созрел горох, — салатом из побегов щавеля и почек боярышника. Крестьяне ничуть не удивлялись, когда я отказывалась от мяса ягнят и кроликов, от кур и голубей.
Я не затягивала свое пребывание ни в одной из деревень, я спешила уйти, прежде чем кончится обаяние волшебства и они распознают во мне человека, женщину, а не богиню. Пока они верили в меня, я даже творила чудеса. Старухи, лежавшие при смерти, подымались или засыпали сладким, приятным сном с тихой улыбкой на лице; мальчик, за семь лет не вымолвивший ни слова, только пищавший и хрипевший, произнес «Слава Марии», прежде чем вновь вернуться к бессмысленному бормотанию — так утверждала его бабушка; мужчина, свалившийся с яблони еще прошлым летом и с тех пор не встававший, вылез из кровати, чтобы разглядеть меня, когда я проходила мимо; охромевший пони взбодрился и пошел ровно, когда я уселась на него верхом…
А я как сыр в масле каталась. С каждым днем мои груди и ягодицы обретали прежнюю округлость.
С этими словами Ума откинулась на спинку кресла и горделиво, радостно встряхнула грудью, обтянутой блузой цвета пламени. И тут я поверил, что достойная и не такая уж молодая дама была некогда взбалмошной девчонкой, еще не переступившей вполне грань, отделяющую подростка от женщины.
Кожа вновь сделалась блестящей и гладкой, исчезли круги под глазами, следы перенесенной боли. Вокруг меня справляла свое торжество весна, подступало лето, с боярышника градом осыпались белые как снег лепестки, их запах напоминал мне аромат девственной щели в тот самый миг, когда в нее впервые вторгается мужская сила, а из земли пробивались петрушка и кервель, купена под ее мясистыми листьями болтались белые восковые яички; потом пошел собачий шиповник (смешное название!), жимолость, высокие стебли наперстянки, а на лугах — сплошной ковер золотистых лютиков.
Тебе стало скучно, Ма-Ло? Ты все это уже слышал от Али? Я уверена, он знает это не так, как я знаю, он не может так это любить. О, эта северная весна! Наши сады, поля и леса прекрасны, но они не меняются так, когда наступает новый сезон, им неведомо преображение. Они величественнее, но чего-то недостает. Что ты сказал? Тебе не было скучно? Тебя смущает тот образ, к которому я прибегла, описывая запах боярышника? Ничего не поделаешь. Принимай меня такой, какая я есть. Так на чем я остановилась? А, да. Я начала поправляться.
Да, я приходила в себя. К середине лета, когда крестьяне зажигают по ночам костры и устраивают праздники, когда косят сено, пшеница становится желтой, а рожь вымахивает на пять футов в высоту, и если ветерок колышет колосья, на них проступает влажная синева, словно на куске выстиранной шелковой ткани, за каждой изгородью, на любой вырубке в лесу мальчишки щупают девчонок, тискают их груди и ягодицы, девушки обхватывают бедра юношей своими ногами, обвивают их шею руками, словно ветвями берез или тополей, ласточки, сплошь черные и белогрудые, носятся над оставшимися после дождей лужами, подхватывают капельки воды для питья и яйца жуков, — так вот, к середине лета мне прискучило и одеяние Богоматери, и обожание стариков и больных, и почтительный страх всех встречавшихся мне мужчин. И в любом случае, ко мне возвращались прежние формы и я уже не могла втиснуться в украденный наряд. Пора было вернуть себе прежний образ, а хорошо бы заодно и Эдди Марча.
Я еще не решила, в какую сторону идти. Я то поворачивала на юг, в надежде вновь повстречать Эдди, то уходила на северо-запад ведь где-то там мы рассчитывали разыскать брата князя Харихары, а найти его значило, вероятно, вновь обрести моих спутников — Али и всех остальных. Я приближалась к северо-западным районам страны и находилась уже где-то на границе между Ингерлондом и Уэльсом (что такое Уэльс, я скажу позже). На плодородной равнине с небольшими возвышенностями, где пахотная земля перемежалась рощами и небольшими ручьями, а вдалеке на горе стоял замок Мальпас, я издали высмотрела молодого рыцаря, который ехал по петляющей дорожке верхом на огромном мерине удивительной масти: он был даже не светло-гнедой, а желтый, как лютик. По правде говоря, мне захотелось хотя бы ненадолго забыть с этим пареньком об Эдди. Кроме того, если б мне удалось уговорить его раздеться, а там, глядишь, и соснуть, я бы заполучила новый наряд.
Он ехал медленно, его лошадь едва переставляла ноги. Я могла рассчитать момент, когда он поравняется с мельничной заводью, берега которой заросли густой травой и маргаритками. Мельница давно развалилась, вокруг нее теснились ивы и камыши, из земли пробивались желтые цветы — их здесь называют ирисами. В стране царило беззаконие. Такие места, как эта мельница, находящиеся на некотором удалении от деревни, города или замка, частенько подвергались нападению разбойников: обитателей дома убивали, их добро грабили, а жилище, как правило, предавали огню. Весь этот уголок казался цветущим, и птицы пели вовсю, но какая-то неясная печаль окутывала пруд, что могло бы послужить мне предостережением.
Я двигалась быстро, хотя шиповник и цветущая куманика преграждали путь, и добралась до пруда раньше, чем всадник. Там я быстро избавилась от наряда Девы и золотой короны, так что, когда юноша верхом на мерине подъехал к берегу пруда, я уже ждала его там, сидя под ивой в том виде, в каком меня породила природа. Я сидела, подтянув колени, обхватив их руками и делая вид, что внимательно наблюдаю за изумрудными и аметистовыми бабочками, порхавшими и совокуплявшимися на дорожках из лотоса или водяных лилий эти цветы собирались вот-вот распуститься, прорвав похожие на желудь бутоны.
— Вот черт! — буркнул он. — Пресвятая Матерь Божья!
«А он-то с чего это взял?» — поразилась я, но тут же поняла, что восклицание лишь выражало его изумление, и он вовсе не принимал меня за Марию. Перебросив ногу через луку седла, парень соскочил на траву.
— Сейчас ты исчезнешь, верно? — спросил он. — Или превратишься в злобную старуху? Они всегда так делают в романах.
Разглядев его вблизи, я испытала разочарование. Мальчишке едва ли сравнялось четырнадцать лет, он был еще по-щенячьи пухлым, волосы почти белые, на верхней губе легкий цыплячий пух.
— Кто они? — спросила я, не подымаясь, поглядывая на него через плечо.
— Обнаженные леди — они во что-нибудь превращаются, когда к ним приближается странствующий рыцарь.
— А ты и есть странствующий рыцарь?
— Да нет, не рыцарь. Прежде чем тебя посвятят в рыцари, нужно совершить какой-нибудь подвиг — в смысле, в романе, а на самом деле нужно иметь сорок монет в год и место в парламенте.
Его голос еще ломался — дурной признак. Короткая пауза. Я выпрямила ноги, откинулась на локтях, демонстрируя ему груди.
— Я не исчезну. И ни во что не превращусь. Я даже не укушу тебя — разве что любя. — Я тряхнула головой, радуясь вновь отросшим черным блестящим волосам. — Ты бы отогнал лошадь. Она всех слепней сюда соберет.
Парень посмотрел на меня, посмотрел на мерина тот мотал хвостом, судорожно моргая и пытаясь избавиться от паразитов.
— Пошли, Добс, — сказал он ему и повел его к другому краю лужайки. Там он привязал поводья к ольхе и пошел обратно, на ходу расстегивая камзол. Я поднялась на ноги помочь ему и заодно полностью предъявила ему себя.
— Это все по правде, да?
— Еще бы. — Я взялась за пряжку его ремня, с которого свисал меч.
— Меня зовут Джон Кумби из Эннесбери, — представился он. — А ты кто?
— Зови меня Ума.
Источник его будущих утех был еще не совсем развитый, длинный, но тонкий, сужавшийся к концу, но в его невинности было что-то отрадное, свежее. Он уже поднялся и напрягся, и, конечно же, весь излился на меня, не успев как следует войти, однако, учитывая юный возраст, мальчик оказался не из стеснительных, так что со второго раза мне удалось добиться своего, и в третий раз тоже. Потом я предложила ему поплавать в пруду — ведь день был душный и жаркий, а мы оба были с ног до головы покрыты потом и семенем. Я встала у края воды, чувствуя жидкую грязь под ногами, как следует ополоснулась и принялась дразнить мальчика — дескать, он не сумеет доплыть до другого берега. План мой заключался в том, чтобы похитить его коня и одежду, пока он будет доказывать мне, как он силен и ловок. Я совершенно не предвидела того, что произошло на самом деле, я понятия не имела, насколько опасны такие заводи. Мальчик-то вовсе не умел плавать, а я этого не поняла, он бултыхался вокруг меня, притворяясь, будто ныряет, и он был слишком молод, чтобы честно в этом признаться. Он хлопнулся в воду и неуклюже зашлепал по ней руками и ногами. Послышался вопль, белая пухлая рука мелькнула среди лотосов — пока мы с ним совокуплялись, бутоны раскрылись и все шестнадцать лепестков приветствовали своего господина, солнце, — и Джон исчез из виду.
Жаль.
Ну что ж, я помогла ему трижды вознестись на небеса, я познакомила его с заключенным внутри него божеством — местные девушки никогда бы не сумели этого сделать. К тому же, поскольку он был из дворян, эта смерть избавила его от худшей участи какой-нибудь рыцарь постарше разрубил бы его в сражении своим топором. Множество людей получают в жизни гораздо меньше, чем он.
Одежда у него была хорошая, и желтая лошадь охотно позволила мне сесть в седло. Я направилась в сторону замка Мальпас, но вскоре за поворотом мы с лошадью наткнулись на странную сцену, больше всего похожую на ограбление.
Глава тридцать девятая
Да уж, денек неожиданных встреч. Впрочем, таков каждый наш день, не правда ли? И все же столь существенные встречи случаются не каждый день.
Я увидела группу, состоявшую из четырех или пяти человек. Посреди нее стоял тощий, бледный мужчина с торчащими черными усами, в черной фетровой шляпе с большими полями. Он рылся в большом кожаном мешке, деля его содержимое на две части: что он берет себе и что оставляет. В качестве своей доли он отложил изрядную кучку поистине роскошных драгоценностей и наряды из дорогих материалов бархата, тонкой шерсти и шелка, а в другую сторону отбросил белье, шерстяную, кожаную и полотняную одежду и тому подобное. За его действиями пристально наблюдала бледная, усталая женщина. Когда-то она была красивой, но сейчас ее лицо было искажено судорогой гнева. Она была одета в алое бархатное, расшитое золотом платье для верховой езды, в красивые туфли из мягкой кожи. Светлые волосы, собранные на затылке под бархатной шапочкой с пером, выбились и растрепались. Я подоспела к месту действия как раз в тот момент, когда она попыталась ударить бледного мужчину хлыстом, но толстяк, помощник бледного, оттащил ее прочь. В этой сцене принимал участие и мальчишка лет семи, который орал как резаный.
Я узнала всех четверых.
Бледный Джон Клеггер, толстяк Уилл Бент, женщина — не кто иная, как королева, а вопящее отродье ее сынок (но не сын ее мужа) Эдуард, принц Уэльский. Откуда я их знала? Ты что, не слушал мой рассказ? Я же видела их всех в Ковентри в тот день, когда они меня схватили, и во время пыток и суда тоже.
Но я-то была уже не ведьма Ума, а Джон Кумби из Эннесбери, и Добс, мой конь, помимо непривычного желтого цвета отличался огромным ростом. Я ухитрилась выхватить меч покойного Джона и подскакала к ним, размахивая мечом над головой, хотя мужчин, кажется, больше напугал жеребец, чем мое оружие. Я врезала Клеггеру плашмя мечом по голове, повыше уха, и он полетел в канаву, с трудом выбрался оттуда и, спотыкаясь, побежал по полю, мимо рядов колосьев. Уилл Бент уже удирал, не дожидаясь приглашения.
Королева, естественно, давно забыла обо мне и при всем желании не могла бы узнать во мне Уму. Она уже овладела собой, как и подобает королеве, дернула сына за ухо тот сразу сообразил, что пора заткнуться, и прекратил орать, только противно шмыгал носом. Распрямившись во весь рост, мадам строго поглядела на меня.
Я поняла намек и слезла со спины Добса.
— Молодой человек, ваши манеры никуда не годятся. Разве вы не знаете, кто я такая? Разумеется, вы это знаете.
И что я должна делать? Поклониться? Пасть ниц перед ней? Зарыться лицом в пыль? Кивнув, я сказала:
— Рад служить, мадам, — и вместе с Добсом мы зашагали прочь. Приостановившись, я присобрала поводья, ухватилась за луку я едва доставала до нее рукой — и хотела было запрыгнуть в седло.
— Стой. Кто ты такой?
— Джон Кумби, — подвернулось на язык.
— Мастер Кумби, вы отвезете меня в Денби, в Уэльс. Это примерно в тридцати милях к западу отсюда. Там у меня есть друзья, они вас вознаградят. У вас большая и сильная лошадь. Я сяду впереди, мой сын — у вас за спиной, а сперва, будьте любезны, соберите мои вещи. Эти мерзавцы, обязанные заботиться обо мне, вместо этого попытались меня ограбить!
Я на минутку призадумалась. У меня есть свое правило в жизни, и до сих пор оно всегда — или почти всегда — служило мне добрую службу. Ты бы мог уже догадаться, Ма-Ло, о каком правиле я говорю. «Соглашайся», — вот и все правило. Принимай все, с чем сталкиваешься. Моя повесть показывает, сколь верно я блюла этот принцип. И вот, хотя у меня нет ни малейших причин сочувствовать этой женщине и ее пащенку, я вновь говорю «да». Конечно, свою роль сыграла и надежда на вознаграждение. Я успела уже убедиться, что наличных у Джона Кумби было всего-навсего шесть пенни и два фартинга.
— Хорошо, — отвечаю я, — но пусть ваш сын сам подбирает вещи.
Она призадумалась и сказала:
— Эдуард! Делай, что сказал этот молодой человек.
Мне удалось соорудить нечто вроде подушки из пары ее платьев — тех, что победнее, — чтобы положить ее на круп Добса. Затем я слегка подтолкнула королеву кверху, и она прочно уселась боком, по-женски, ухватившись за желтую гриву Добса. Я забралась в седло вслед за ней, но мне тут же пришлось спуститься, потому что Эдуард не мог сам вскарабкаться на лошадь. Я пристроила его на спине Добса позади седла, но в результате сама уже не могла втиснуться между ними. Снова слезла, спустила на землю Эдуарда, взяла у королевы мешок с ее пожитками, привязала мешок сзади, водрузила на него Эдуарда, снова села в седло. Поехали.
Не прошло и пяти минут, как королева уже болтала вовсю.
— Как только мы узнали, что проклятый Уорик двинулся на север, Бэкингем сказал, что король должен поехать с ним и всем войском, а нам с принцем лучше отправиться другим путем, чтобы, если дела пойдут плохо, всем вместе не попасть в руки врага. Мы, конечно, и не думали, что все так обернется. На нашей стороне Бог, и право, и шесть больших пушек. Бог всегда на стороне больших пушек. — Добс пошел рысью. — Я поехала на север в Экклсхолл и там ждала вестей. Первым прибыл лорд Лавел, и от него я узнала о том, как ливень помешал воспользоваться пушками и наше войско разбили, Бэкингем был убит, а король попал в плен. Тогда я села на коня и вместе с сыном и двумя слугами отправилась в Денби. В Мальпасе нас настигли еще более дурные вести: подлый сукин сын Йорк вернулся из Ирландии и провозгласил себя королем. Эти негодяи Клеггер и Бент решили, что все кончено и остается только поживиться за мой счет. Тут как раз ты и появился. Она ни словом не поблагодарила меня. Мы ехали себе рысцой и ехали. Я опасалась, как бы она не разгадала мой маскарад, и опасалась не напрасно. Когда мы перевалили через гребень холма и начали спускаться, Добс решил перейти в галоп. Меня бросило вперед, а королева, чтобы не перелететь через голову коня, откинулась назад. Я выпустила поводья и обхватила королеву за талию — у нее было стройное, но сильное тело. Позади нас снова завизжал принц. Как только мы выехали на равнину, королева, слегка обернувшись и касаясь щекой моей щеки, сказала негромко:
— Нам лучше поменяться местами, мисс.
— С какой стати? — пробасила я.
— Во-первых, потому что вы женщина. Я почувствовала, как вы коснулись грудью моей спины. Во-вторых, вы не справляетесь с лошадью. Вероятно, вы низкого происхождения и не имели случая упражняться в верховой езде. К тому же я выше вас ростом и мне будет видно за вами, куда направлять коня, а вам за моей спиной ничего не видно.
И мы снова прошли через всю процедуру, в очередной раз спустив принца на землю, а затем подняли его.
Мы провели ночь в крошечной уэльской гостинице. Здесь было три комнаты, но для нас нашлась только одна.
Ее величество позволила мне разделить ночлег с ней и ее сыном, потребовав лишь, чтобы я покидала комнату, когда она пользовалась ночным горшком.
— Подданным не подобает видеть, как мочится королева, — сообщила она мне.
Несмотря на мое худородство мне оказали честь и позволили расплатиться за всю компанию. Поскольку королеве и ее сыну потребовались на ужин жаворонки и пара куропаток, зажаренных на вертеле над огнем, а на сладкое клубника со сливками, а завтракала она горячими пшеничными хлебцами, запивая их молоком, не говоря уж о полудюжине яиц, то нам еще повезло, что хозяйка (в отличие от англичанок она носила шаль и высокую черную шляпу конической формы) удовлетворилась вознаграждением всего в шесть с половиной пенсов.
Вечером второго дня мы добрались до замка Денби в Уэльсе. Уэльс, или Гаэлия, — дикая, негостеприимная страна, там обитают племена, столь же нецивилизованные, как и наши горцы. Уэльс примыкает к Ингерлонду, с запада. Денби находится на самой границе Ингерлонда, и здесь еще не столь бросается в глаза различие между двумя странами, но дальше, к западу, уходят безликие, однообразные горы и поросшие лесом долины. Денби, или Динбих, как называют его сами уэльсцы, оказался маленьким городком, прячущимся в тени большого замка. Внешняя стена замка, почти в милю длиной, прикрывала город, а по ту сторону стены находился величественный дворец, к которому вели расположенные террасами сады. Этот замок принадлежал вождю уэльсцев Оуэну ап Маредудду ап Тьюдиру.
«Ап» означает «сын».
Простите. Я всегда плачу, когда вспоминаю Оуэна.
О-о!
Высокий, более шести футов ростом, с широкими плечами и сильными, очень сильными руками, с ногами, похожими на крепкие деревья. У него была широкая выпуклая грудь, выпуклая, как бочка или колокол. Коротко подстриженные волосы уже поседели, но посреди уцелела одна черная прядь. Брови все еще оставались черными. Лицо приобрело цвет меди, и такими же были руки, но тело было белым как снег. У него был широкий рот, зубы некрупные, дыхание сладостное, как ключевая вода или свежее молоко… Разве это не чудо? Ведь он был уже стар, ему минуло шестьдесят лет.
Он приветствовал нас, и он сам, и его дети, и дети его детей — традиция его семьи и собственная судьба Оуэна привязывали его к королю и королеве. Позднее он объяснил мне, почему должен держать их сторону.
Он рассказывал мне об этом в постели. Мы проводили много времени в постели с тех пор, как королева отправилась в Шотландию за новой армией. Настолько много, что я уже чувствовала вправе выразить ту ревность, которую испытывала к красивой девушке, чей портрет висел на стене у дверей.
— А! — проговорил Оуэн глубоким сильным голосом. Даже когда он говорил совсем тихо и я прижималась ухом к белым волоскам на его груди, мне казалось, что голос его перекатывается как гром. — Это моя первая любовь. Она была дочерью одного короля и женой другого.
— Женой короля? Но ты же не король? Он рассмеялся в ответ.
— Кто знает, кто из нас король? Мне не хватает разве что титула. Она была дочерью сумасшедшего французского короля, и после великой битвы в день святого Криспина — я тоже принимал в ней участие, хотя мне едва сравнялось пятнадцать лет — английский король женился на ней, а ей тогда было на год меньше, чем мне.
— Какой король?
— Король Генри, он предпочитал, чтобы его звали Гарри.
Я нахмурилась, пытаясь разобраться в этой путанице. Оуэн поспешил мне на помощь:
— Отец нынешнего короля, — пояснил он.
— Значит, твоя возлюбленная была его матерью, матерью нынешнего короля?
— Вот именно. Но король Гарри умер, когда ей было всего двадцать один год. А я был пажом при дворе короля, а затем оруженосцем в ее свите.
— И ты полюбил ее.
— Да. Конечно, все были возмущены, меня даже посадили в тюрьму, когда родился наш сын Эдмунд, но потом нас оставили в покое, позволили нам жить вместе, лишь бы мы не вмешивались в дела управления королевством. Вообще-то лорды только выиграли, сбыв королеву с рук. Она была француженка, а мы снова вступили в войну с франками, и если бы мать младенца-короля попыталась участвовать в политике, потребовала бы, чтобы ее допустили к регентству… Сама понимаешь.
— А ты увез ее с собой, и вы были счастливы вместе.
Он уловил нотку зависти и ревности в моем голосе.
— Нет. Мы оставались там, на юге, жили в Лондоне или поблизости от него, главным образом в замке Уолтхэм, и я числился ее церемониймейстером. Она присматривала за своим сыном-королем и за детьми, которые у нас родились. Мы не могли уехать, пока Генри не подрос.
— У вас родилось трое детей?
— Да, трое.
— А потом она умерла при родах?
— Нет. Она умерла от долгой и тяжкой болезни, от той, что запускает щупальца во все тело, как осьминог.
— Я умею это лечить. Давно это было?
— Двадцать… двадцать три года назад.
Я порадовалась, что он не сразу сумел дать ответ. Значит, он давно перестал считать месяцы и годы со дня своей утраты.
Легонько вздохнув, Оуэн погладил меня по волосам, а другой рукой теснее прижал меня к себе, так что моя грудь чуть не расплющилась о его мощные ребра. Он дал мне ответ прежде, чем я осмелилась задать вопрос:
— Ты так же красива, как она. И совсем другая.
Да, совсем другая. Дама на портрете — белокожая, хоть волосы у нее и темные. Потом, когда никто меня не видел, я заглянула в ее газельи глаза, поцеловала розовые губки. Она была хороша, но — совсем другая.
С чего это началось? Страсть, охватившая меня и Оуэна ап Маредудда ап Тьюдира?
Когда мы — королева, принц и я — прибыли в замок, и проехали через ворота в его массивной стене, и Добс пошел шагом по усыпанным гравием дорожкам между клумбами с цветущими розами и искусственными прудами, где, несмотря на летнюю жару, резвились карпы, Оуэн уже встречал нас у внутреннего подъемного моста, и члены его семьи тоже собрались, чтобы приветствовать нас. Эдмунд, его старший сын, умер за четыре года до этого, но остались невестка и внук Генри, трехлетний мальчик, никогда не видевший отца. Этот мальчик унаследовал от отца титул графа Ричмонда Эдмунд получил этот титул благодаря браку с праправнучкой Джона Гонта (по линии его третьей жены). Таким образом, семья Тьюдиров связана с правящей династией не только через Екатерину Валуа, жену Генриха Пятого и Оуэна Тьюдира.
Я успела хорошо узнать маленького Генри[153] за те несколько месяцев, что провела в замке. Он очень серьезен, даже в играх, весьма развит для своего возраста, умеет себя вести, хорошо говорит, но он также хитер и научился исподтишка натравливать взрослых друг на друга. Его дед, Оуэн ап Тьюдир (англичане называют его «Тюдор») несколько недолюбливал внука, поскольку все эти подлые штучки были ему противны, но считал, что мальчик далеко пойдет. Быть может, он и не ошибался: чтобы «далеко пойти» в Ингерлонде, мужчине нужна лишь физическая сила, жестокость и склонность к насилию. Генри пока проявлял лишь жестокость, да и то если видел в том пользу, но зато, как я уже сказала, он очень хитер.
Что? Ты спрашиваешь, как это началось у нас с Оуэном? Очень просто. Через несколько дней королева решила ехать в Шотландию, поскольку тамошняя королева давно заключила с ней союз и могла поддержать людьми и деньгами. Покуда все семейство провожало Маргариту, я проникла в комнату наверху, сняла с себя мужской наряд и залезла в постель к Оуэну. Там он и нашел меня час или два спустя.
Вот и все. И на сегодня достаточно. Тем временем на юге происходили события, о которых Али знает гораздо лучше меня, — пусть он продолжит рассказ.
Глава сороковая
Но нет. Вместо этого мне вновь подсунули копии писем князя Харихары к его двоюродному брату — императору, переписанные аккуратным почерком его управляющего Аниша.
«Дорогой брат,
наконец-то мы дождались избавления, нас вывели из этого тюремного замка и отпустили на волю. Позволь рассказать тебе, как все произошло, пока эти события еще свежи в моей памяти. Если ты получал предыдущие письма, то тебе известно, что, хотя Лондон уже перешел в руки йоркистской партии, мы все еще томились в заточении. Войско Йорка отправилось на север во главе с Уориком, Фальконбриджем и Марчем, а в Лондоне осталось около двух тысяч солдат под командованием графа Солсбери, отца Уорика. Наш хозяин, злобный и раздражительный лорд Скейлз, продолжал обстреливать из пушек дома, находящиеся в пределах досягаемости ядер, всячески беспокоя и удручая жителей этих домов.
Скейлз похвалялся, что враги не могут ответить ему огнем, а если б они попробовали выставить против него пушки, он тут же разнес бы их залпом из своих орудий, однако он допустил глупейшую ошибку: все его пушки были размещены в башнях, смотревших на город, поскольку именно с этой стороны он ожидал нападения, а граф Солсбери, проведя в Лондоне пару недель и убедившись, что Скейлз именно так распорядился своими ресурсами, перевез по мосту пять больших пушек (для этого пришлось снести целый ряд магазинов), поставил их на южном берегу и ниже по течению, откуда он мог в полной безопасности с расстояния всего в двести шагов обстреливать стены Тауэра, примыкавшие к реке. Орудия Тауэра были столь надежно закреплены на своем месте, что потребовалось бы немало времени и усилий для их перемещения.
Еще один урок для нас — вроде бы и очевидный, но не спохватишься, пока не окажется слишком поздно: нужно защищать свои пушки от вражеской артиллерии, но, размещая их внутри крепости, нужно позаботиться и о том, чтобы можно было легко и быстро их переместить и развернуть в другом направлении.
В течение трех дней неприятель обстреливал стену, выходившую к реке, и она быстро начала поддаваться, поскольку с этой стороны ее не укрепляли на случай нападения извне. На четвертый день настал черед внутренних укреплений, и теперь уже мы подвергались непосредственной опасности, не говоря о неудобстве, которое причиняли нам шум, пыль и рушащиеся камни. В скором времени лорды — я сообщал вам в предыдущем письме, что они вместе с семьями решили искать убежища в Тауэре, — уговорили Скейлза сдаться. К тому же кончались запасы еды, так что у коменданта не осталось другого выхода. Вчера вечером посредники, выбранные от обеих сторон, условились, что нынче утром должна состояться официальная церемония передачи ключей от главных ворот. Теперь очень важно, чтобы лорд Солсбери, видевший нас семь месяцев тому назад во время нашего недолгого пребывания в Кале, теперь узнал нас и принял как людей, приверженных Йорку.
Вечером, когда переговоры завершились, мы с Анишем повстречали в садах Тауэра сержанта Бардольфа Эрвикку. Он был пьян и полон печали: дескать, за то, что он исполнял свой долг перед королем и приказы королевского офицера (то бишь лорда Скейлза), его должность младшего сержанта артиллерии достанется какому-нибудь приверженцу Йорков, а он окончит свои дни уличным попрошайкой. Хуже того, если его узнают и откроется, какой пост он занимал в Тауэре, его разорвут на куски в отместку за ущерб, причиненный артиллерийским обстрелом городу. Аниш, никогда не упускающий удобного случая, тут же предложил сержанту хорошую работу в Виджаянагаре, если тот решится на столь дальнее путешествие. Эрвикка был не прочь: во время последней вспышки чумы он лишился жены и троих детей, так что теперь был один-одинешенек в целом мире. Эта мысль вновь ввергла его в меланхолию, и он принялся шмыгать носом, оплакивая свое, как он выразился, «долбаное семейство».
Сию минуту произошли события, подтвердившие, что страх сержанта перед местью горожан был не напрасен: сперва мы слышали яростные вопли, звон оружия, гневные завывания, а затем через разрушенную со стороны реки стену перелетела голова. Лицо было бледным и окровавленным, его искажала гримаса гнева и предсмертного страха, но тем не менее мы опознали черты лорда Скейлза и его бородку. Понимая, насколько он ненавистен лондонцам, комендант решил подняться в лодочке по реке до Вестминстерского аббатства и там спрятаться. Суеверные представления этого народа о святости храма привели к тому, что даже приговоренный судом преступник получает право убежища, если сумеет добраться до церкви или часовни: стоит ему попасть внутрь — и он уже неприкосновенен.
Но выдубленные солнцем лодочники, чьи обязанности заключаются в том, чтобы доставлять людей и товары надругой берег Темзы, а также возить их вверх и вниз по реке, узнали лорда и разгадали его намерения. Они вытащили его из ялика, приволокли к подножию так называемых Врат Изменников — через эти ворота предателей привозят в Тауэр на лодке, чтобы там их казнить, — и там били Скейлза и кололи его ножами, пока не замучили насмерть, после чего ему отрубили голову.
Я не сожалел о его смерти, хотя и врагу не пожелал бы столь жестокой расправы.
На следующий день, по их счету восемнадцатого июля, а по нашему — Шива один ведает, какого числа, мы вернулись в дом олдермена Доутри на углу улицы Ист-Чип. Теперь, когда со Скейлзом покончено и йоркисты взяли город, а мы считаемся друзьями Йорка, виноторговец и его истеричка жена восторженно приветствовали нас и просили оставаться, пока мы не найдем себе другое, более удобное жилье. Они передали нам те немногие товары, которые мы не успели продать до того, как попали в тюрьму, кроме того, среди наших вещей уцелело еще немного золота и драгоценностей, так что наша судьба улучшилась во всех отношениях.
Вот еще что обнаружилось: вчера, пока мы трепетали от страха и подвергались мучениям во время последнего обстрела Тауэра, йоркистская армия возвратилась в Лондон, одержав возле города Нортгемптон великую победу над силами королевы и пленив короля. Короля разместили возле Бэйнард Касл, главного штаба йоркистов, в Епископском дворце — это крепость у ворот Лудгейт, превращенная во дворец. Король, страдающий приступами умственного расстройства, вполне покорен окружающим его сторонникам Йорка.
Теперь все ждут возвращения из Ирландии герцога Йорка. Он возьмет в свои руки бразды правления от имени короля, но на деле будет творить свою волю. Как я уже говорил, дорогой брат, эти люди испытывают безотчетное почтение к коронованному и помазанному монарху и суеверно полагают, что покушение на него влечет за собой гнев и ненависть их богов. Итак, хотя этот король, как выяснилось, всего-навсего внук узурпатора, расправившегося когда-то с законным королем, хотя он помешан, а теперь еще преждевременно впал в старческое слабоумие, он все-таки остается священной и неприкосновенной особой.
Наконец нам улыбнулось счастье: вместе с армией Йорка в Лондон явился не кто иной, как Али бен Кватар Майин, а с ним монах-францисканец Питер Маркус, удивительно образованный и свободомыслящий человек, особенно если учесть, что он англичанин. Али сохранил при себе те два корунда, которые я ему доверил. Не знаю, на что они могут пригодиться, их цена слишком велика, чтобы их возможно было продать или совершить сколько-нибудь равный обмен; но ничего, они еще понадобятся. Главное, Али снова с нами, и, похоже, приключения пошли ему только на пользу.
Буддийский монах, отплывший вместе с нами из Гова, так и пропал, и факир тоже. Конечно, они не принадлежали к моей свите, но все же я чувствую некоторую ответственность за них, и мне неприятно думать, что они одиноко и беспомощно скитаются по этому варварскому острову.
Последние известия. Война еще не кончена. Королева сумела спастись после битвы при Нортгемптоне, и теперь она, кажется, в Шотландии, выпрашивает там деньги и набирает войска. В Ингерлонде у нее осталось еще немало приверженцев среди знати. Вельможи не хотят утратить земли, богатства и звания, полученные благодаря ее влиянию, они также страшатся мести со стороны йоркистов, которым они причинили столько зла. Скоро мы вновь увидим боевые действия и получим больше полезных для нас сведений.
Плохо то, что мы ни на шаг не продвинулись в поисках моего брата Джехани. Правда, брат Питер что-то слышал о человеке, внешне похожем на него, но, по мнению этого монаха, нам следует проявить крайнюю осмотрительность, поскольку Джехани, скорее всего, принадлежит к тайному обществу, именуемому Братством Свободного Духа. Братья проповедуют справедливое общественное устройство и чают на земле небесного града, где все будут свободны, сыты, равны друг другу и счастливы. Это так похоже на Виджаянагару! Однако здесь подобные воззрения считаются ересью и государственным преступлением, за них карают медленной и мучительной смертью.
В Лондонском порту стоит судно, нанятое торговцами шелком и бархатом, оно направляется в Джезаир (англичане называют эту страну «Алжир»). Олдермен договорился с капитаном, чтобы тот взял это послание с собой. По крайней мере, наше письмо начнет свой путь в сторону Виджаянагары, а там кто знает? Быть может, доберется до тебя.
Твой преданный брат и слуга
князь Харихара Раджа Куртейши»
Глава сорок первая
«Дорогой брат!
О радость! О счастье! Преодолев преграды и препятствия — мы даже не узнаем никогда, после каких приключений, — твое послание, отправленное в ответ на то письмо, что я послал из Кале девять месяцев тому назад, попало наконец мне в руки. Его вручил мне сегодня помощник капитана корабля, только что вошедшего в порт с грузом вина из испанского города Херес. Этот город теперь в руках христиан, но по-прежнему поддерживает торговлю с арабским портом Мотрил к югу от Гранады. Наши сердца ожили при известии, что, по крайней мере, еще четыре месяца назад все обстояло благополучно и в твоем семействе, и в Граде Победы, что бедуинской кавалерии удалось одержать верх над конными отрядами султанов Бахмани. Мы были также рады узнать, что планы строительства, задуманные тобою, дорогой брат, перед нашим отъездом, уже начали успешно осуществляться и что благополучно завершился спор между практикующими врачами относительно того, как должно быть организовано общественное здравоохранение. Частная выгода в просвещенном обществе дает свои благие плоды.
Поскольку ты получил мое первое письмо, я начинаю надеяться, что дошли или вскоре дойдут также и последующие, а потому не стану докучать тебе, пересказывая их снова (на всякий случай я попрошу Аниша приложить к моему письму краткую выдержку из них), а сам поспешу сообщить о событиях, имевших место с тех пор, как я последний раз писал тебе спустя месяц после летнего солнцестояния.
В первые два месяца ничего особенного не произошло. Седьмой, восьмой и девятый месяц года наиболее подходят для ведения войны в этих краях, поскольку солнце все-таки достаточно нагревает землю и даже после дождя успевает быстро ее просушить. С другой стороны, как раз в эту пору поспевает урожай, сперва различная зелень, затем хлеба, фрукты и травы, которые косят на корм для скота, так что крестьяне отнюдь не жаждут выступать в поход, да и их господа не желают отрывать их от сельских работ. Эти три теплых месяца даруют неожиданно изобильный, на наш взгляд, урожай, и плодами его всему народу предстоит питаться до следующего года, а все, что крестьяне не поспеют убрать вовремя, так и сгниет в поле, и им придется зимой голодать. Итак, несмотря на известия о действиях королевы в Шотландии, а затем и на севере Ингерлонда, где она успела, по слухам, собрать немалую армию, войска противника так и не двинулись на нас. Скорее всего, эта армия существовала пока только на словах, вместо солдат королева получила лишь обещания, но в следующем месяце — в октябре по местному календарю — эти обещания могут осуществиться.
Здесь, на юге, в Лондоне, тоже лишь в последние две недели начали происходить какие-то события. Уорик, Фальконбридж, Солсбери, Марч и все прочие предавались веселью и развлечениям, в особенности нелепым состязаниям рыцарским турнирам и тому занятию, которое они считают охотой. Али поведал нам чистую правду: эти люди гоняются по полям и лесам за лисой — да, всего-навсего за лисой! — верхом и со сворой собак. Я попытался указать этим вельможам гораздо более цивилизованный способ охоты: знатные люди занимают позицию на холме, а егеря, заранее собравшие различные виды животных в долине, гонят добычу на стрелков так, чтобы звери оказались в пределах выстрела из арбалета. Лорды только посмеялись надо мной, хотя я готов был пустить в ход свои арбалеты и показать им, как это делается! Я знаю, ты противник любого вида охоты, но ты должен признать, что мои правила гораздо гуманнее и разумнее, чем обычаи англичан.
В целом йоркисты обращались с нами достаточно вежливо, мы смогли нанять большой дом на улице, именуемой Ломбард-стрит (первыми здесь поселились купцы из Милана), у нас появились слуги и все необходимое благодаря деньгам, вырученным за драгоценные камни. Особенно ценятся здесь жемчуга и рубины, в первую очередь рубины — вам было бы трудно поверить, какие суммы предлагают здесь за них. Англичанам почти не доводилось видеть настоящих рубинов, они изумлялись их яркости и твердости. Хотя считается, что в королевской короне имеется огромный рубин, принадлежавший некогда брату прапрадеда нынешнего короля — Черному Принцу, но этот «рубин» (я его видел) представляет собой тусклый коричневатый камень, то есть, скорее всего, гранат.
На чем я остановился? Ах да, турниры и охота, а также танцы. Не знаю, поверишь ли ты моим словам, но дамы и господа предпочитают танцевать сами, а не любоваться выступлением специально подготовленных артистов. Эти забавы, конечно же, заканчиваются всеобщим распутством, чему способствует также неумеренное потребление алкогольных напитков.
Не забывали при этом и о делах. Партия Йорка и ее предводитель Уорик укрепляли отношения с лондонцами, наделяя купцов все большими правами и привилегиями, возвращая им права, отобранные у них королевой, и в, свою очередь, отнимая у торгующих в Ингерлонде иностранцев, в особенности у ганзейских немцев, те преимущества, которые она им предоставила, или, точнее, продала.
А что же сам герцог Йоркский? Да ничего. Целых три месяца мы ничего о нем не слышали. Этот великий человек, магнат, правивший страной в качестве протектора во время предыдущего помешательства короля, человек, которому, как все говорили, предстояло самому стать королем, претендент на корону, ради которого другие вельможи поднялись на борьбу, а простые люди тысячами погибали и становились калеками, — великий герцог Йорк все это время пребывал в Ирландии. Неделю назад он наконец явился в Лондон и, похоже, проиграл все, что выиграли для него сподвижники.
Я уже сообщал, с каким почтением суеверный народ относится к королю, к помазаннику Божьему. Генри и после поражения оставался королем Генрихом, а Ричард Плантагенет герцогом Йоркским, каковы бы ни были его права на корону. Пока его не короновали, он герцог, и все тут, но Йорк явился в столицу с трубачами впереди, и перед ним несли Королевский меч. Это огромное, варварски украшенное оружие, которому английский народ опять-таки придает некое мистическое значение. Разумеется, никто не отрицает необходимости оружия (во всяком случае, пока не преодолено на земле варварство), однако превращать столь уродливый предмет в фетиш — явная патология. Больше всего лондонцам не понравились знамена Йорка, украшенные львами и лилиями, поскольку на этот герб имеет право лишь король. В результате Йорк оттолкнул от себя едва ли не половину своих последователей — страшась адских мук, они не желают впредь поддерживать его. Хуже того: Йорк едва не рассорился с Уориком».
Тут как раз кончилась страница, и я отложил ее в стопку уже прочитанных листов. Крупная капля дождя упала на пол беседки в дальнем от меня углу. Я поднял глаза. Али уже стоял рядом со мной, единственный уцелевший глаз сверкал на его изуродованном лице, столь причудливом даже на фоне драконьих голов, украшавших его жилище, и лилового неба. Али потирал распухшие пальцы здоровой руки о материю, прикрывавшую его впалую грудь, а скрюченными когтями левой руки почесывал взлохмаченную козлиную бородку.
— Ты даже представить себе не можешь, что такое октябрь в Ингерлонде, — пробурчал он.
С этими словами Али выдвинул кресло с подушкой и уселся рядом со мной. Сейчас я не видел его здорового глаза — онустремил взгляд на свой сад, оживший в потоках вечернего ливня. Али по самые ноздри загрузился гашишем, я чувствовал его запах. Наклонившись, он оперся на разделявший нас столик, схватил маленький пирожок с бхангом и закинул его в рот. Глаза его блестели.
Он перевернул только что отложенную мной страницу, пробежал ее глазами, проглотил остатки пирожка и утер рот рукавом. Кивнул, отвечая своим мыслям.
— Почитай вслух, — попросил он. — Я хочу снова припомнить все.
Я взял в руки следующий лист и вернулся к посланию князя. Али внимательно слушал.
«Уорик и его брат Томас Невил как раз были у нас, в нашем доме на Ломбард-стрит. Уорик хотел купить жемчуга для своей жены Анны. Он привел с собой ювелира, и тот тщательно отбирал драгоценности для графской короны, когда в дверь постучали и в дом ворвался какой-то дворянин, громко требуя Уорика. Он сказал ему, что герцог Йорк прибыл в Вестминстер с трубачами, огромной свитой и с королевским гербом на знамени. Всего два дня назад герцог ночевал в Абингдоне, неподалеку от Лондона, и так рано его в столице не ждали.
Мне было любопытно поглядеть на герцога Йоркского, из-за которого началась эта смута, так что мы все трое я, Аниш и Али увязались вслед за Уориком в Вестминстер-Холл. Это на другом конце большой улицы, именуемой Стрэнд, примерно в двух милях от нашего дома. Мы вошли в Вестминстер-Холл, где уже собрался парламент, и ждали герцога.
В одном из предыдущих писем я обещал, в случае надобности, объяснить, что такое парламент. Полагаю, сейчас как раз подходящий момент.
Парламент — это собрание лордов и вельмож королевства, а также представителей графств, то есть землевладельцев, имущество которых приносит не менее сорока фунтов дохода в год, они выбираются в определенном количестве от каждого графства, или района, страны. Как бедна эта страна по сравнению с нашей! Судя по тому, сколько еды и одежды можно купить на сорок фунтов, эта сумма примерно равна годовому заработку храмовой танцовщицы или рыночного торговца в Виджаянагаре, но в Ингерлонде это изрядный достаток. Итак, все эти люди собираются раз в году по приказу короля, чтобы санкционировать его законы, ввести новые налоги и тому подобное. Они крайне редко противятся воле короля ведь сам же король их и созывает, так что вся эта процедура кажется напрасной тратой времени. Насколько я понял, четыреста лет назад, еще до нормандского завоевания, это установление имело какой-то смысл и парламент обладал реальной властью, теперь же его сохраняют лишь в угоду английской сентиментальности и приверженности традициям.
Парламент обычно заседает в Вестминстере, где предпоследний английский король (я имею в виду из династии, царившей до нормандского завоевания) построил огромное здание, а рядом большую церковь. Нынешнее собрание было созвано от имени короля Генриха, после того как того привезли из Нортгемптона, преследовало цель утвердить Йорка протектором и распределить между приверженцами герцога важнейшие посты в правительстве.
На одном конце зала стоял трон, по бокам тянулись ряды очень красивых окон. Сзади над большими дверями было нечто вроде хоров, и там нам разрешили пристроиться вместе с послами других стран. Запели трубы, в зал вошел Йорк, перед ним все еще несли Королевский меч. Он проложил себе путь через толпу и направился прямиком к трону. Постоял мгновение, обернулся к залу, положил руку на спинку королевского кресла. Невозможно было ошибиться в смысле этого жеста. Зрители ответили на него дружным стоном.
Это был первый и последний раз, когда мы видели герцога Йорка. Высокий, горделивый мужчина примерно пятидесяти лет; темные волосы слегка тронуты сединой; широкие плечи, мощная грудь, большие руки, крепкие ноги. Лицо его было изборождено морщинами, какое-то увядшее, и рот раз навсегда сложился в недовольную гримасу. Мы видели, что перед нами человек, способный на все, лишь бы не пострадало его самолюбие. Да, такому только и претендовать на королевский престол.
Он ожидал радостных кликов, приветствий, но обманулся. Пронесся вздох, словно ветер, колеблющий ветви деревьев, а затем воцарилось глухое молчание. Люди едва осмеливались кашлянуть.
Йорк набрал в грудь побольше воздуха, прищурил глаза.
— Слушайте все! — провозгласил он сильным, звучным голосом. — Я, внучатый племянник короля Ричарда Второго, чей трон был захвачен Ланкастерами, правнук Эдуарда Третьего, заявляю о своих правах на королевство Ингерлонд. Я назначаю обряд коронации на День всех святых.
— Это когда? — шепотом спросил я Али.
— День всех святых? Первого ноября, через три недели.
Йорк собирался сказать что-то еще, но в это время к нему протолкался человек в золотом одеянии и в странной, украшенной драгоценностями высокой шапке, разделенной пополам словно ударом топора. Как выяснилось, это был зять Йорка, Томас Бёрчер, архиепископ Кентерберийский.
— Не кажется ли тебе, Ричард: раз уж у нас есть король и мы все, не исключая и тебя, приносили ему святую присягу в верности, нам бы следовало сперва сходить поговорить с ним? Узнать, что он-то думает по этому поводу.
Собрание явно разделяло эту точку зрения.
— Человек в этом государстве может явиться ко мне, а мне нет надобности идти к кому бы то ни было, — уперся было Йорк, но, оглядевшись по сторонам, по лицам, обращенным к нему, понял, что зашел чересчур далеко. — Ладно, если хочешь, проводи меня к королю, — уступил он и вышел из зала.
Мы поспешили вослед, но дальше нас не пропустили. Потом нам рассказывали, что король Генрих в кои-то веки проявил достоинство и посрамил своего соперника, заявив, что по праву, по закону и по общему признанию является королем, и напомнив подданным о принесенных ими клятвах.
Ситуация казалась неразрешимой. Генрих, внук узурпатора, тем не менее оставался королем, поскольку он был коронован и помазан на царство; с другой стороны, Йорк был потомком старшего из братьев Ричарда Второго, а Генрих — младшего, Джона Гонта, герцога Ланкастерского (правда, Йорк был потомком по женской линии). Все это очень запутано.
Уорик, человек умный и отнюдь не опрометчивый, в отличие от Йорка, осознал, что симпатии вельмож и народа принадлежат Генриху, что восставали англичане против королевы и правительства, а не против короля, и вот, после двух недель переговоров он сумел убедить Йорка пока что принять власть над страной в качестве протектора, а не короля, но с тем условием, что после смерти Генриха наследником будет Йорк, а не Эдуард, принц Уэльский, сын королевы Маргариты.
Кажется, описывая эти события, я говорил о лордах и простонародье, как будто и те и другие придерживались единого мнения. На самом деле все было совсем не так. Многие вельможи приняли сторону королевы и принца уже после битвы при Нортгемптоне и бежали к ним на север, и многие рыцари и крестьяне северных областей также поддерживали королеву. Герцог Сомерсет, с которым мы познакомились в Гиени, возвратился в Эксетер (это на западе Ингерлонда) и тоже набирал армию, а прочие сторонники королевы устремились на северо-восток, в Нортумберленд, на границу с Шотландией, где у королевы насчитывалось уже не менее двадцати тысяч войска. Когда Маргарита прослышала, что ее сына отстранили от наследования, она впала в неистовую ярость и, постепенно продвигаясь на юг, дала своим солдатам разрешение грабить и убивать всех, кто жил на землях йоркистов.
В Лондоне тем временем был распущен парламент, и Йорк утратил возможность завербовать новых сторонников. Он лишился поддержки многих людей из-за слишком откровенного покушения на престол, а теперь все преисполнились страха перед королевой. Лишь самые преданные друзья и те, кто не мог надеяться на милость королевы, оставались с герцогом. Йорк заявил, что двинется на север и сразится с Маргаритой, но все полагали, что ему не собрать и половины от того количества солдат, которым располагала Маргарита.
Вот так необузданное честолюбие отняло у Йорка то, на что он мог рассчитывать, и еще больше ему предстоит потерять. Многие предсказывают, что скоро голова герцога слетит с плеч.
Заверяю тебя, дорогой брат, что я сразу же сообщу тебе об исходе этой войны.
Твой преданный и любящий брат
князь Харихара Раджа Куртейши».
Я перевел дыхание и положил в стопку последнюю страницу, исписанную аккуратным почерком управляющего Аниша.
— Ну вот, — сказал я. — Но что же было дальше? Мне не терпится об этом узнать.
Однако ответом мне было только легкое похрапывание — Али эта история увлекала гораздо меньше, чем меня, а гашиш принес ему сон и избавление от боли, вызванной сезоном дождей. Я начал читать следующее письмо, но уже не вслух, а про себя, скользя по строчкам глазами.
Глава сорок вторая
«Дорогой брат,
за неделю до зимнего солнцестояния мы покинули Лондон. Убедившись, что военные действия будут происходить на севере страны, я решил, что мы вполне можем добраться до Манчестерского леса или хотя бы до его окрестностей под защитой армии Йорка, а там уже попытаться выяснить местопребывание Джехани. Благодаря этому плану мы не станем подвергать себя тем опасностям, которые поджидают любого путника на дорогах, захваченных разбойниками.
Гражданская война привела к тому, что сельская местность и даже небольшие города оказались как бы вне сферы действия закона. Пока двое монархов сражаются друг с другом, вместо того чтобы исполнять свой долг и устанавливать порядок и разумное правление в королевстве, большие и маленькие вельможи воспользовались случаем возобновить старую вражду и пытаются отобрать друг у друга владения не с помощью закона, а полагаясь исключительно на грубую силу. И в лучшие времена правосудие в этой стране осуществляется медленно и с помощью весьма сложной процедуры, причем главную роль играют отнюдь не мудрые и бескорыстные судьи, а множество законоведов, предъявляющих груды каких-то документов, пожалований, грамот, родословных, восходящих ко временам Вильгельма Завоевателя, а то и к еще более глубокой древности. В результате на слушание дела и плату юристам уходят подчас большие суммы, чем стоит сама спорная собственность.
Проще всего напасть на противника с оружием в руках, например с нелепой заостренной палкой под названием «копье» или примитивным ружьем с раструбом на конце. Если не удастся убить врага на месте и отобрать его имущество, он окажется вовлечен в междоусобные распри, а там, глядишь, и удастся добиться своего.
Итак, девятого числа месяца, чье название буквально означает «десятый», хотя в году он двенадцатый, мы вышли из столицы через ворота Лудгейт. Мы держались поближе к передним рядам войска, состоявшего якобы из десяти тысяч человек (все прекрасно знали, что на самом деле численность этой армии не превышает пяти тысяч), и двинулись в путь с той скоростью, с какой передвигалась упряжка мулов, влачившая за собой огромную пушку по разбитой дороге, то есть весьма медленно. Следует ли упоминать, что, как всегда, шел дождь? Холодный, пронизывающий до костей дождь. Казалось, что серое небо тяжелыми складками опускается на столь же серую землю.
Йорк скакал во главе этой пестрой компании, а рядом с ним держался его сын, красивый мальчик лет семнадцати, известный как граф Рэтленд; арьергардом командовал отец Уорика граф Солсбери. Сам Уорик, как и многие другие вельможи йоркистской партии, оставался в Лондоне, якобы затем, чтобы снарядить и послать вслед войску обоз с провиантом и чтобы выжать побольше денег из купцов (те и так уже собрали для Йорка изрядную сумму в четыре сотни марок). На самом деле Уорик медлил потому, что в случае неудачи намеревался бежать в Кале. Король оставался заложником в собственной столице, его присутствие должно было обеспечить видимость законности действиям мятежников, хотя король пребывал не во дворце, а в Тауэре, в том самом помещении, которое мы занимали в течение многих месяцев.
Что касается Эдди Марча, его послали в район на границе Уэльса и Ингерлонда, где многие сторонники Йорка владели землями и пользовались большим влиянием. Там Эдди надеялся собрать еще одно войско и соединиться с Йорком, прежде чем тому придется вступить в бой с шотландцами и северянами, завербованными королевой. Войско королевы тем временем довольно медленно продвигалось на юг, грабя, разоряя и уничтожая все на своем пути и тем самым отвращая от королевы множество прежде верных ей подданных. Однако возможность пограбить и большая пожива привлекали все новых наемников, и армия королевы росла день ото дня. Те шайки разбойников и лесных бандитов, о которых я упоминал ранее, были счастливы присоединиться к походу и тем самым уже на законных основаниях творить привычный им произвол.
Хотя наше войско тоже пополнялось за счет людей, бежавших от королевы, и за счет многочисленных крестьян и арендаторов Йорка, численность его нисколько не увеличивалась, а, скорее, убывала: чем дальше мы уходили от Лондона, тем больше солдат, набранных в той местности, дезертировали и спешили вернуться домой.
В день солнцестояния мы пришли к городу Вейкфилд. Примерно в миле от него на холме, посреди лесов и полей стоял огромный серый замок Сэндкасл. Наступил самый короткий день в году — посреди лета здесь бывает день, когда солнце всего лишь на пять часов скрывается за горизонтом и даже после заката небо остается светлым; так и посреди зимы есть день, длящийся едва ли пять часов, причем солнце даже в полдень висит низко, его закрывают тучи, солнце совершенно не дает тепла, а затем наступает длинная, беспросветно темная ночь. Мы значительно продвинулись на север по сравнению с Кале, так что здесь эти зимние дни казались еще мрачнее. Природа этого физического явления осталась для меня совершенно недоступной.
Хотя Сэндкасл очень велик и его крепость даже превышает по размерам Тауэр, шеститысячное войско не могло целиком разместиться в нем, к тому же здесь не было достаточных запасов пищи. И все же замок мог стать для нас надежным убежищем, и все офицеры Йорка уговаривали его держать армию в стенах замка или в непосредственной близости от него, пока Эдди не подоспеет с подмогой, — Йорку отчаянно не хватало людей, а войско королевы насчитывало уже не менее двадцати тысяч человек.
Офицеры королевы только и мечтали завязать сражение, покуда преимущество оставалось на их стороне.
Описанный мной лондонский эпизод должен был уже убедить тебя, дорогой брат, что герцог Йорк отличался необузданной гордыней, он легко выходил из себя и отнюдь не умел проявлять выдержку и терпение. Он думал только об одном: как бы к королевской власти присоединить и королевский сан. И вот, когда его попытались уговорить укрыться в замке, он принялся расшвыривать мебель и орать:
— Что, мне прятаться за стеной из страха перед какой-то сволочью?! И пусть все назовут меня трусом, да?! Меня же будут презирать, если я устрашусь этой ведьмы, способной пустить в ход только язык да ногти! — Последнее замечание было уж и вовсе глупо, поскольку кроме ногтей и языка королева имела втрое больше людей и орудий, чем сам Йорк.
Наступило Рождество, день, когда христиане празднуют рождение Иисуса. Они отмечают этот праздник, как мы уже наблюдали в Кале, неумеренным потреблением спиртного в течение двенадцати дней, не говоря уж о столь же чудовищных порциях мяса. В результате такого угощения люди холерического темперамента становятся весьма возбудимыми. Этим и воспользовалась королева. Она прислала к нам в замок гонца, и тот упрекнул Йорка дескать, струсил перед женщиной. Слуги, со своей стороны, предупреждали герцога, что запасы пищи (и, хуже того, крепких напитков!) подходят к концу, а войско королевы отрезало все коммуникации.
Но главной проблемой к тому времени стали экскременты шести тысяч человек, накапливавшиеся внутри стен замка. Англичане не способны справиться с подобной проблемой. Семь дней подряд они испражнялись везде, где вздумается, и теперь повсюду нас окружало дерьмо оно замерзало комьями во дворе, а во внутренних помещениях лежало во всех углах, и над ним легкой струйкой поднимался пар. Но несмотря на это, самой разумной тактикой для герцога было бы оставаться в замке и дожидаться Марча с подкреплениями.
Вечером двадцать девятого числа, когда большинство вельмож сидели за столом в большом зале, обгладывая скелеты кур это были не мясные куры, а несушки, — в коридоре послышались тяжелые шаги, распахнулась деревянная, обитая гвоздями дверь, и пятеро стражников втолкнули в зал какого-то рыцаря. Пришелец запыхался, и его доспехи были с ног до головы покрыты грязью, так что с трудом можно было рассмотреть белый косой крест на красном фоне — мы уже знали, что это герб Невилов. Рыцарь остановился у возвышения, на котором восседал Йорк, и заговорил:
— Я Арнольд Финнес, рыцарь из отряда Эндрю Троллопа.
— Проклятый предатель! — вскричал наш благородный герцог. — Он бросил нас в Ладло пятнадцать месяцев назад. Долой его!
— О нет, ваша милость, он припомнил свою присягу королю Генриху, он и ныне старается соблюсти верность этой клятве и, поскольку вы действуете от имени короля, готов соединиться с вами завтра поутру и вместе обрушиться на войска королевы.
— Сколько людей у этого старого негодяя?
— Шесть тысяч, ваша милость.
— Ад и все дьяволы! Решено!
Троллоп кстати, это имя значит «блудница», довольно странное прозвище для воина — был уже стар. Он сражался рядом с отцом нынешнего короля при Азенкуре[154] (тогда ему исполнилось всего пятнадцать лет) и еще во многих походах, его назначили капитаном Кале, а потом отняли это звание, и старый солдат затаил обиду. В течение многих лет он верно и храбро служил своим господам и давно уже заслужил титул лорда, но нормандцы носятся со своей благородной кровью и не желают предоставлять высшие дворянские звания тем, кто имеет предков-англичан по мужской линии (по женской они есть и у нормандцев), так что Эндрю оставался просто Эндрю, не лордом и даже не сэром.
Йорка ослепила гордыня, но брат Питер хорошо видел, к чему дело идет, и велел нам всем выбираться из замка, пока мы не оказались в числе проигравших и не угодили в плен. С первыми лучами рассвета, еще до восхода солнца, Питер наконец настоял на своем. Мы завернулись в плащи и вышли из крепости под видом горожан, возвращающихся в Вейкфилд за новыми припасами.
Выйдя из замка, мы двинулись по открытой местности, именуемой Вейкфилд-Грин, — обычно это поле служит пастбищем для овец, принадлежащих владельцам замка, и здесь хватает корма даже для крестьянского скота. Затем почва начала понемногу подниматься, и мы оказались у реки и перешли ее по мосту, потом еще немного в гору, примерно с полмили, и мы вышли к небольшому дугообразному гребню, разделявшему два лесистых участка. Река вернее, ручей совсем обмелела, остатки воды в ней замерзли, и ее было легко пересечь в любом месте. Она показалась бы препятствием только тем, кто очень спешил.
Когда подкупленный сержант выпустил нас из замка через черный ход, мы не видели вокруг ни единой живой души. Оглянувшись, мы различили вдали сквозь пелену тумана стены и башни замка — надежные, неприступные. Пушкам пришлось бы потрудиться с неделю и перевести немало пороха, прежде чем удалось бы пробить брешь в этих укреплениях. Трава на лужайке сплошь покрылась белым инеем, похрустывавшим под ногами. Это внезапно напомнило мне совсем иную картину там, дома, сельские жительницы развешивают на невысоких кустах только что выстиранное белье для просушки.
В лесу наши шаги спугнули ворон, сидевших в неопрятных гнездах на вершинах деревьев; они поднялись с недовольным карканьем, а из замка им откликнулись галки. Казалось, войско королевы исчезло, растаяло за ночь, но, как только мы добрались до гребня холма, мы увидели, что вражеская армия никуда не делась.
Под нами простирался огромный военный лагерь. Он состоял из шатров и наскоро построенных шалашей на переплетенные ветви орешника набросали плащи и одеяла. Палатки были круглые, перед ними свисали с шестов и полоскались на ветру знамена, щиты с гербами были закреплены на копьях. Питер, человек энциклопедических знаний, принялся перечислять владельцев этих гербов: Сомерсет, Нортумберленд, Эксетер, Девон и Клифорд, — но в этот самый момент нас схватили и поволокли в шатер к королеве.
Королева и впрямь была красива, если б не тонкие, жестокие губы и пронзительный голос — вероятно, такой голос выработался у нее в силу необходимости командовать скопищем самолюбивых и плохо воспитанных мужчин. Узнав, что мы явились из замка, она тут же решила отрубить нам головы, но все-таки сперва спросила, известны ли нам намерения Йорка.
— Мадам, — ответил я, — мы мирные путешественники и к вашей стране относимся с чувством глубокой признательности. Нас повсюду радушно принимали, и обе враждующие партии почтили нас своим гостеприимством. Было бы весьма низко с нашей стороны…
Королева уже едва сдерживала гнев, хотя я обращался к ней так, как подобает вельможе и родичу императора говорить с коронованной особой. К счастью, в этот момент епископ, которому брат Питер что-то шептал на ухо, вмешался в наш разговор.
— Этот монах принес интересную новость, — сказал он. — Йорк поверил, что Троллоп выступит на его стороне, и прямо сейчас, сию минуту, он уже выводит свои войска в поле.
Королева обернулась к своим военачальникам, Сомерсету и Нортумберленду.
— Трубите в трубы, бейте в барабаны! — воскликнула она. — Пусть все отряды займут свои позиции, как было решено.
Нам предстояло стать свидетелями первой из четырех битв, разыгравшихся на протяжении каких-нибудь трех месяцев. Только в этом сражении можно было отметить какое-то подобие тактики, заранее обдуманный и осуществленный план, начиная с хитрости — вымышленной измены Троллопа, которая и побудила Йорка принять бой. Каждая последующая схватка была страшнее и омерзительнее предыдущей, и все они завершались кровавой резней. Я уже описал тебе само поле боя. Королева, как здесь принято, разделила свое войско на три части. Основными силами командовал Сомерсет, королева и ее семилетний сын держались рядом с ним. Другие вельможи повели правый и левый фланги в леса по обе стороны Вейкфилд-Грин, при этом они прибегали к различным уловкам, чтобы йоркисты не смогли преждевременно обнаружить их присутствие (если б природа наделила дворян зрением и сметкой обыкновенного крестьянина, военачальники Йорка хотя бы призадумались, что так растревожило стаи ворон). Итак, Йорк видел перед собой лишь один ряд тяжеловооруженных воинов, в большинстве своем пеших, выстроившихся цепочкой на невысоком холме.
Йорк повел своих людей через поле и через узкий ручей на дне этой долины. Шесть тысяч человек построились в шесть рядов, а впереди тащили пушку. Армия королевы не трогалась с места. Впереди йоркистов ехали трое рыцарей в полном боевом вооружении, а за ними оруженосцы везли знамена. Герольд королевы (он стоял возле нас) принялся описывать их гербы:
— Королевский герб, мадам, и королевский герб с отличительным знаком. Это Йорк и его младший сын Рэтленд. Белый косой крест на красном поле герб Невилей, скорее всего, это Сомерсет.
— Я не круглая дура, Гартер, — нетерпеливо оборвала его Маргарита, — у меня есть глаза, и, хочешь — верь, хочешь — не верь, я в состоянии узнать королевский герб.
Йорк повернулся в седле, выхватил меч и замахал им, подавая сигнал своим людям. Пушка выпалила, но до гребня холма ядро не долетело. Армия продолжала свое продвижение теперь солдатам предстоял подъем.
— Отлично, — произнесла королева, и в глазах ее вспыхнуло удовлетворение. Она сидела на коне боком — новая женская мода, полагаю, придуманная для того, чтобы дамы не натирали себе укромные местечки. Для такого случая королева нарядилась в охотничий костюм длинное платье из алого бархата и черные башмаки. Корона красовалась у нее на голове.
— Скажите Сомерсету — пусть начинает. Сомерсет повел свое войско навстречу врагу.
Под его командой состояло шесть тысяч человек, то есть силы были равны, однако он имел существенное преимущество — его люди спускались с горы по надежной, утоптанной почве, не слишком жесткой и не слишком скользкой, так что лорды и рыцари могли продвигаться верхом легкой рысью. Конники рассыпались по всему строю и возглавили наступление не торопясь, чтобы не отставала пехота. В тот момент, когда две враждебные армии столкнулись, из лесу выступили запасные полки. Справа от Йорка оказались лучники королевы, и первые же выстрелы сразили многих воинов — ведь они, как обычно бывает в бою, прикрывали щитом только левую сторону тела, но не правую.
Люди Йорка готовы были обратиться в бегство, но бежать им было некуда. Троллоп, зайдя им в тыл, отрезал отступление в замок. Более того, выходя в поле, Йорк не распорядился поднять мост и опустить решетку и вместо гарнизона оставил в замке лишь поваров и посудомоек. Еще несколько минут — и замок оказался в руках Троллопа.
Йорка стащили с коня и убили на месте. Рэтленд и его оруженосец он был также его наставником, поскольку граф еще не вышел из детского возраста, — ускользнули и, перебравшись через мост, достигли Вейкфилда. Там они угодили прямо в руки лорду Клифорду, тому самому, кто годом раньше пытался арестовать Эдди Марча в доме олдермена Доутри. Солсбери, несмотря на свой преклонный возраст, тоже сумел удрать, однако Троллоп снарядил за ним погоню, и его перехватили в десяти милях от места сражения, прежде, чем он успел укрыться в замке Понтефракт.
На следующий день — по христианскому календарю, в последний день 1460 года — Клифорд положил к ногам королевы три головы.
— Мы выиграли войну, мадам! — заявил он. Кое-кто говорил, будто королева побледнела при виде отрубленных голов, но я этого не видел. Напротив, она ударила Йорка по бледной мертвой щеке и приказала надеть на него бумажную корону.
— Насадите голову на пику, а потом прибейте в Йорке над воротами Миклгейт, — ясным, звучным голосом произнесла она. — Пусть Йорк смотрит на свой город.
Она пошлепала губами, набирая побольше слюны, и плюнула в лицо герцога.
Вечером королеве подали списки попавших в плен, и она распорядилась отрубить еще несколько десятков голов. С этого момента обе стороны в гражданской войне принялись убивать всех знатных пленников, уничтожать семьи своих противников, присваивая себе их титулы и владения. Королева называла одно имя за другим и делала пометки на листе пергамента:
— Голову ему долой! Детям тоже, если сможете их схватить! Я хочу своими глазами увидеть, как он умрет! — и так далее. Она пошла дальше и добавила в этот список имена тех, кто не примкнул ни к той, ни к другой партии, ссылаясь при этом на слова Иисуса: «Кто не с нами, тот против нас».
Одна вещь казалась мне непостижимой: какая сила принуждает человека забраться в тяжелую железную клетку и бежать в гору или под гору, наносить удары и самому подвергаться ударам, пока тот или иной из противников не упадет на землю и его не прикончат, отыскав щель в его броне, или, того хуже, будут рубить топорами его доспехи, пока железо не прогнется, раздробив воину кости? Неужели их гонит страх лишиться своих владений и жизни, если они проиграют битву? Возможно. Надежда на добычу или выкуп за пленных? Но ведь добыча невелика, поскольку никто не берет с собой ценных вещей в бой, а выкупа и вовсе не ожидалось — ведь и королева, и ее враги принялись истреблять пленных. Еще я отметил особое товарищество, связующее этих людей, их готовность поддержать друг друга и, как они говорят, «не ударить лицом в грязь». Никто не хочет показаться трусом или бездельником. Да, и еще выпивка. Обе стороны пьют перед битвой огромное количества пива и вина. На Вейкфилд-Грин они сражались друг с другом, но на самом деле все эти люди одинаковы. И те, и другие — англичане.
Твой преданный и покорный слуга
Харихара Куртейши, князь Виджаянагары».
Глава сорок третья
— Все люди такие разные, — задумчиво пробормотала Ума. В этот день она вновь присоединилась к нам. Ласковые, но слишком много повидавшие глаза женщины смотрели куда-то вдаль, затуманенные воспоминаниями. — Он был лучше всех, — вздохнула она.
Нет мужчин, похожих друг на друга. Каждый наособицу. Я буду описывать его не торопясь, с головы до ног. Я перебирала пальцами его короткие седые волосы и ту единственную черную прядь, которую я могла намотать себе на палец, а мои волосы уже отросли до прежней длины, потемнели, и с помощью хны я окрасила их в рыжий цвет с проблесками чистого золота, и локоны вновь стали пышными, шелковыми, благоухающими. К моей щеке, и цветом, и гладкостью напоминавшей спелый персик, прижимались подбородок и скула цвета меди, покрытые колкой белой щетиной. Его дыхание было чуточку кисловатым, словно молоко, перед тем как свернуться, а мое отдавало изюмом и медом. Его квадратный подбородок — и мой округлый, проступившие жилы и морщины на его шее — да, у меня теперь тоже есть пара складок, но тогда их не было. Его плечи вдвое шире моих, гладких, тонких, округлых, кожа очень белая, но я нашла пару красных пятен, соответствовавших моим родинкам. Мои груди подобны гранату, только они намного мягче, с крупными сосками, твердеющими при его прикосновении порой ему даже удавалось извлечь из них сладостную капельку; а грудь Оуэна была гораздо шире и совершенно плоской, соски крошечные, и я лизала их, пока они не становились твердыми, точно зернышко, и волосы у него на груди были жесткими, как проволока. Его руки я бы уподобила корням баньяна, крепким и цепким, их неторопливое и вместе с тем страстное объятие было благодатным, как солнечное тепло; а мои руки больше похожи на гладкие ветки высокой и тонкой осины. Мой живот — покатый свод с маленькой впадиной в центре, там, где коснулась его своим пальцем Парвати, а его живот покрыт шестью буграми мощных мышц.
Короткие и очень белые пальцы ног были сильными и ловкими, он мог даже ухватить ими монету или перышко с пола, мои пальцы гораздо длиннее, и ногти я красила, если мне удавалось раздобыть специальную краску. Щиколотки у него оказались тоньше, чем я ожидала, — признак благородного происхождения; но, конечно, они не так изящны, как мои, — о моих щиколотках Оуэн говорил, что они хрупки, как стекло. На его икрах переплелись похожие на толстую веревку мускулы, они поросли седой и коричневой, точно у кошки, шерстью, колени у него крупные и сильные, порой он жаловался на боль в суставах, но, конечно, не ворчал все время, как это делает Али; а мои колени были скользкими, как масло, и крепкими, как молодое яблоко.Его бедра подобны колоннам, поддерживающим храм, его ягодицы подобны двум кокосам на пальме, а мои ягодицы подобны плодам манго, которых Оуэн никогда не видел.
Мы сравнивали и пальцы — у Оуэна большая, широкая рука, и пальцы кажутся слишком короткими, но они сильные, и ногти у них почти квадратные, а мои пальцы тонкие и длинные — сколько радости мы доставляли друг другу, когда пальцы проникали в узкую щель между соприкоснувшимися бедрами, соприкоснувшимися грудями!
Его пальцы быстро пробегали сверху вниз по всем изгибам моего тела и встречались внизу, большие пальцы раздвигали курчавые волоски, раскрывали набухавшие ожиданием губы, мои пальцы — большой и указательный — обхватывали основание его жезла, а остальными пальцами я принималась перекатывать яички, спрятанные в морщинистый мешочек. Мы превратились друг для друга в совершенный музыкальный инструмент, мы оба ощущали подушечками пальцев влагу чужого тела и продолжали игру, пока его источник жизни не становился твердым, словно дерево, а мой — мягким и сочным, как виноград.
И тогда наступал прекраснейший момент — миг незрячих прикосновений, осязания, обоняния, вкуса и нежных поцелуев. Нет сил больше вынести это томление: о чем оно о том, что уже не вернется или о том, что еще не произошло? Я прижимаюсь близко к нему, как можно ближе, я выпускаю из рук его жезл, чтобы обеими руками обнять его голову, я осыпаю поцелуями его шею, его уста, Оуэн одним движением переворачивает оба наших тела, одной рукой обхватывает меня за спину, в самом низу, нащупывает щель между ягодицами, а другой уже вталкивает в меня алчущий жезл, и волны наслаждения одна за другой катятся вверх по моей…
Что ж, Али, мы с тобой тоже проделывали это пару раз, так что ты знаешь, о чем я говорю, и не станешь спорить, если я скажу, что этот предводитель уэльсцев знал, что нужно делать. Он был — лучшим.
Лето постепенно перешло в осень. Уэльские холмы, прежде тускло-коричневые, сделались лиловыми, сизыми, покрылись тысячью тысяч крошечных, похожих на колокольчики цветков, их было такое множество, что они точно накрыли землю фиолетовым ковром. Цветы эти настолько мягкие и вместе упругие, что на них можно улечься — только осторожно, чтобы не уколоться о низкие, касающиеся земли ветви, — и раствориться в их легком, сладком аромате. Лежать на спине и глазеть в беспредельную, напоминающую море синеву, следить, как ныряют и взмывают вверх орлы с золотыми кольцами на шее. Под низким кустарником прячется еще более низкая поросль, укрываясь от снега и ветра, беснующегося там зимой, подымающего и кружащего снежные вихри. Летом на этих кустах поспевают маленькие ягоды — Оуэн назвал их черникой, но на самом деле они синие-синие, как индиго.
Холмы повсюду перерезаны долинами и расщелинами, ближе к вершине эти расщелины становятся столь узкими, что их и не заметишь, пока склон внезапно не исчезнет прямо у тебя перед глазами и не откроется в глубине рыжая скала и ручей, прозрачный, как хрусталь, но коричневого цвета — цвета камня, устилающего его дно. Бывают и серые, плоские водоемы, где вода обточила камень, тысячелетиями выплескиваясь, переливаясь из одного озера в другое. В глубине этих впадин воздух застаивается и солнце жарко печет. Мы оставляли пони на гребне (они бы ржанием и беспокойным движением предупредили нас о приближении посторонних), скидывали с себя шерстяные плащи и штаны и там, на невысокой, пахнущей тимьяном траве у ручья, вновь и вновь занимались любовью или просто отдыхали, лежали обнявшись, прислонившись спиной к прогретой солнцем, поросшей мхом скале и смотрели, как под ряской, покрывающей поверхность пруда, проплывает коричневая рыбина.
В такие минуты Оуэн принимался забивать мне голову преданиями древнего Уэльса — сказанием о Пуилле, принце Дифеда, и Бранвене, дочери Ллира, а я сплетала повесть о Раме и Сите. Потом Оуэн напевал любовную песнь и жалобы Даффида ап Гуилима и Даффида Нанмора — он говорил, что этот бард еще живет среди людей и как-нибудь придет навестить нас в Динбихе. В ответ я рассказывала ему о Парвати, всеобщей матери, она же Кали с ожерельем из черепов, — порой я становлюсь ее аватарой, а Оуэн называл ее Рианнон, девой-матерью, пожирательницей человеческой плоти.
Пришли холода, и, как я уже говорила, со стороны серого моря, порой открывавшегося нам с вершины горы, примчался ураган со снегом. Волки завывали возле овчарен, как-то утром в начале декабря мы отправились в поход против них, взяв с собой больших серых собак с такими высокими лапами, что они не боятся даже глубокого снега, а шея крепкая, широкая, как у самого Оуэна. Мы не убивали и не отлавливали волков, мы гнали их перед собой, все дальше и дальше в горы, и они серой рекой струились перед нами, прыгая, карабкаясь по отвесным кручам, а потом мы увидели их вдали три силуэта на фоне потемневшего неба; закинув головы, они выли, воздавая хвалу луне, потешаясь над нами, оставшимися внизу, мерзнущими в пастушеской хижине позади черного амбара. Однако в хижине нашлись дрова и свечи, и мы пятеро — Оуэн взял на охоту троих егерей — поужинали лепешками и соленой бараниной и улеглись спать на медвежьей шкуре.
Наступило Рождество. Оуэн и его клан, или племя, отмечают этот праздник торжественно. Постарайся представить себе, Ма-Ло, какое значение в этих странах, далеко на севере, имеет постепенное убывание дня по мере приближения года к зимнему солнцестоянию. Люди, живущие в этом климате, верят и надеются, что в какой-то момент солнце остановится, и, когда этот день настает, когда путем тщательного наблюдения за движением тени между высокими камнями, расставленными на холме по кругу, словно зубы в челюсти гиганта, удается установить, что утром солнце поднялось чуть левее, чем накануне, а зашло чуть правее — именно для этой цели и устанавливают эти камни, этот своеобразный календарь, — они провозглашают, что богиня зачала и родила сына Адониса, или Адонаи.
В этот день с холмов, из лесов выходят жрецы-друиды. Они не имеют отношения к христианству. Они приносят ветви омелы и совершают особый обряд, бьют в бубны из древесины дуба, подражая звуку грома. Глава их несет старинный золотой меч в форме серпа: этим мечом он срезает омелу, а затем с оружием в руках охраняет священную ветвь.
Главный друид является воплощением великого небесного божества, которое спускается на землю во вспышке молнии и обитает в омеле, растущей на священных дубах в тайных долинах Уэльса, возле черных бездонных озер. Этот бог вступает в брак с Царицей небес, тоже любящей уединение лесов и тихих холмов. По ночам Царица плывет по небу, приняв облик серебряной луны и с удовольствием поглядывая на свой ясный образ, отраженный темной поверхностью озера, зеркала Дианы.
Мы зовем этих богов Шива и Деви, или Парвати.
Итак, мы торжественно и радостно отпраздновали бракосочетание богов и рождение солнца, нового года, надежду на новый приплод ягнят, на урожай ячменя и ржи в укрытых холмами долинах, на жирных лососей с серебряными спинками в реках и ручьях.
Но не миновало еще двенадцать дней праздника, как пришли новые вести, встревожившие меня, хоть Оуэн и считал их благими, — вести о победе королевы при Вейкфилде и гибели Йорка вместе с его сыном Рэтлендом.
— Змеиное гнездо разрушено, — восклицал мой возлюбленный глубоким, похожим на органную музыку голосом. — Теперь мы сможем жить в мире.
Но зима продолжалась, и в ворота замка стучались все новые гонцы, и их сообщения были страшнее и угрюмей самой зимы, пока наконец не подоспел и сын Оуэна, и его весть оказалась хуже всех прежних.
Мы катались верхом в глубокой, укрытой от ветра долине, под рябиновыми деревьями, на которых еще уцелела там и тут гроздь ягод, не расклеванная птицами, которых Оуэн называет красногрудками, как вдруг появились всадники. В этот день не было снега на этом острове снег держится не дольше недели, а затем тает, но вновь ударил мороз, и под копытами маленьких пони трескался покрывавший лужи лед. Пара красных коршунов с раздвоенными хвостами кружила в вышине над овечьим загоном, прикидывая, не слишком ли рискованно будет спикировать на тушу павшей овцы рядом, на валуне, съежилась наготове, сжалась перед прыжком рысь. Я ехала впереди (из всех мужчин, которых я знала, только Оуэн соглашался пропустить меня вперед). Я увидела издали, как со стороны замка — примерно в миле от нас — к нам спешат двое верховых. Они скакали быстрым галопом, оба в доспехах, но не в полном вооружении. Всадник, скакавший позади, держал в руках знамя, по-видимому, с изображением герба ехавшего впереди дворянина.
Я придержала коня, Оуэн поравнялся со мной. На его широком лбу проступили морщины, он нетерпеливо отбросил с лица свой единственный черный локон.
— Черт! — пробормотал он, тяжко вздыхая, его плечи поникли, руки, сжимавшие поводья, бессильно упали. Я почувствовала, как жизненные силы покидают его, и меня охватила безысходная печаль. По возрасту он годился мне в деды, я впервые увидела, что мой возлюбленный — старик. Как все старики, он уже не мог справляться с трудностями.
— Что случилось? Кто это?
— Это мой сын. Мой младший сын, Джаспер.
— Разве ты не рад ему?
— Рад, конечно. Но он все это время был занят тем, что собирал жителей Уэльса и приграничных районов на помощь королеве. Только одно дело могло привести его сюда.
— Он хочет, чтобы ты присоединился к нему.
— Вот именно.
Всадники нагнали нас. Зазвенело железо, сталкиваясь с железом, Джаспер, которого я видела в первый раз, наклонился вперед, обнимая отца, прижимая его к своему панцирю. Он был немного похож на Оуэна, но посветлее, и его глаза напомнили мне глаза Екатерины Валуа, я уже описывала вам ее портрет.
— Это Ума, — представил меня Оуэн, — индийская княжна.
Я хотела было возразить, но перехватила его взгляд. Оуэна раздражали слухи, будто в старости он связался с цыганкой.
Джаспер вежливо притронулся к ободку шлема.
— Мадам, — пробормотал он, но больше я не дождалась от него ни слова.
— Я знаю, зачем ты приехал, — устало промолвил Оуэн.
— Йорк в Шрусбери, он набирает войско на западе Ингерлонда. У него уже двадцать тысяч человек. Как только наберется тридцать тысяч и дороги просохнут, он двинется на Лондон. На юге все время шли дожди. Если он доберется до Лондона и соединится с Уориком, они наголову разобьют королеву, тем более что король по-прежнему у них в руках, и они говорят, будто он на их стороне.
Кое-что из того, что я услышала, показалось мне странным, как, должно быть, и тебе сейчас, но я не могла вмешаться в мужской разговор. Отец и сын повернули коней обратно к замку.
— Где сейчас королева?
— После битвы при Вейкфилде она оставила армию в Гулле, а сама вернулась на север, в Бервикон-Твид. Говорят, она отдаст этот город Марии Шотландской в обмен на войска и припасы, но даже если она получит поддержку шотландцев, и она сама, и ее офицеры сомневаются, чтобы ей удалось одолеть разом Уорика и Йорка.
Я снова озадаченно хмурю лоб, но на меня никто и не глядит. Оуэн проезжает под гигантским тисом, накрывшим огромной тенью, почти такой же широкой, как тень баньяна, палые ягоды и засохшие иглы у его корней. Ягоды эти красны, словно вишня, но они маленькие и в их крошечной мясистой чашечке скрывается ядовитое черное семя. Если на семечко надавить, из него выступит бесцветная жидкость, очень похожая на жемчужину, венчающую жезл, когда… Ах, мне предстоит поведать вам о печальных событиях, вот я и не спешу расстаться с последними счастливыми мгновениями.
Оуэн проехал мимо тиса и обернулся к сыну.
— Итак, она хочет, чтобы мы собрали войска и шли в Лондон, опередив Йорка.
— Вот именно.
Воспользовавшись паузой, я задаю наконец свой вопрос:
— Но ведь Йорк вместе с сыном погибли при Вейкфилде, и их головы были выставлены над воротами города Йорка. Ты сам мне говорил.
— У него есть и другой сын, старше Рэтленда, — отвечает мне Джаспер. — Он был изгнан актом парламента, но теперь он именует себя герцогом Йорком и королем в придачу.
— А, — промолвил Оуэн, — вот до чего дошло.
Сретенье. С этого дня на севере начинает ощущаться приближение весны. В церкви собирают все свечи, которые понадобятся для богослужения в течение всего года, и благословляют их. На самом деле это приношение богине, которую они именуют святой невестой. В деревнях делают соломенные куклы-чучела, укладывают их в постель и всю ночь жгут вокруг них свечи. Но это Сретенье не было праздником святой невесты, Парвати, Девы, Умы, оно стало торжеством Кали. Вечером следующего дня на рыночной площади Херефорда казнили моего Оуэна. Бедный, он до последней минуты не верил, что с ним расправятся так жестоко, — ведь он вел людей во имя королевы и короля. Эта королева, жизнь которой я, увы, спасла, — подлинная аватара Кали, за ней тянется шлейф из тысяч, десятков тысяч смертей.
Оуэн провинился не только тем, что повел войска против нового герцога Йорка и проиграл битву (сражение произошло в нескольких милях к северу от Йорка); его казнили еще и за то, что он приходился отчимом королю Генриху. Глаз за глаз — вот чего требуют жестокие и подлые законы христиан и мусульман, их «священное писание». Ну а в этом случае — отца за отца.
С ним повели на смерть еще нескольких человек, в том числе двух юношей, и. один из них в последний момент вырвался из рук стражников. Солдаты тут же изрубили его на куски, точно загнанного оленя.
Оуэн обернулся к палачу и сказал ему:
— Нет нужды поступать со мной так грубо. У вас есть плаха и топор.
Солдаты оторвали ворот от его красного бархатного камзола, и в тот момент, когда Оуэн клал голову на плаху, он произнес:
— Эта голова покоилась на коленях двух королев.
Когда палачи ушли, я подняла его голову и положила ее на верхнюю ступень у подножия рыночного креста. Три жительницы этого города помогали мне; мы принесли из церкви сотню свечей, расставили их на ступенях вокруг головы Оуэна. Я вытерла кровь с его лица, поцеловала холодные губы. Воздух искрился от мороза, свечи горели всю ночь. Я сидела на нижней ступеньке. На рассвете, когда на небе проступила красная полоса, я почувствовала, что у меня за спиной кто-то стоит. Свечи догорали, пламя трепетало от порывов утреннего ветерка, запах пчелиного воска смешивался с запахами готовящейся в окрестных домах пищи.
Я обернулась. Надо мной нависала высокая фигура в доспехах из вороненой стали с золотой насечкой. Позади двое оруженосцев несли два щита на одном были изображены серебряные цветы на голубом фоне и золотые львы на поле цвета крови, на втором щите было три золотых солнца. Этот герб был намалеван совсем недавно, он ярко сверкал, отражая лучи настоящего солнца. Я уже знала подробности о битве у Мортимер-Кросса[155], я слышала, как тройное солнце взошло над головой человека, собиравшегося стать королем, и оба войска приняли это как знамение: Бог на его стороне.
Он поднимает забрало. Это Эдди, Эдди Марч. Эдуард Плантагенет, герцог Йорк, король Ингерлонда. Позади бьет копытами, высекая искры из камней мостовой, и ржет, точно боевая труба, огромный черный жеребец, спасенный некогда мной от побоев.
Глава сорок четвертая
Ума тяжело вздохнула и отерла слезу платком из муслина.
— Пойду прогуляюсь немного. Дождя уже нет. Пусть Али расскажет тебе, что было тем временем с ним.
На следующий день после битвы при Вейкфилде мы обнаружили, что все заняты своими делами, а мы никому не нужны. Князь Харихара по-прежнему хотел добраться до Манчестерского леса, до которого оставалось всего пятьдесят миль в юго-западном направлении, однако с гибелью армии Йорка мы лишились защиты, а без вооруженной охраны ни один благоразумный путешественник не отважился бы проникнуть в те места, где господствовали разбойники. Королева тем временем вернулась на северо-восток, чтобы позаимствовать у шотландской королевы дополнительные войска, и, похоже, не собиралась в ближайшее время двигаться на юг или на север. Князь Харихара полагал, что так близко к своей цели мы уже никогда не окажемся, и приказал мне найти проводника, который помог бы нам преодолеть последний отрезок пути.
Брат Питер обнаружил возле собора маленький францисканский монастырь. Аббат указал нам дом сапожника, связанного с братьями Свободного Духа еще более прочными узами, нежели сами францисканцы. Этот достойный человек отложил в сторону дратву и иголки, кожу, молоток и другие орудия своего ремесла и охотно согласился проводить нас. Он сказал, что ему это весьма кстати, потому что в эту пору года, когда дни коротки и на свечи уходит много денег, он работает себе в убыток. Конечно, золотые монеты, предложенные ему князем, тоже сыграли свою роль. Мы весьма приободрились и поверили в успех своего предприятия, когда сапожник, присмотревшись к нашим смуглым лицам, припомнил, что несколько лет назад он слыхал о таком же темнокожем брате, обитавшем вместе с другими в Манчестерском лесу и вызывавшем немалое любопытство у окрестных жителей.
— Когда же это было?
— Три или четыре года назад, а то и больше. Сапожника звали Эдвин. Он был весел и бодр, но жил в одиночестве, отличался умеренностью и трезвостью, прилежанием и бережливостью. Его отец, каменщик-подмастерье, участвовавший в реконструкции собора (ремонт и посейчас, спустя более двадцати лет, так и не был завершен), погиб почти сразу после свадьбы, свалившись с большой высоты, оттого что подломились деревянные леса. Дядька Эдвина по матери, сапожник, взял племянника к себе в ученики. Эдвин не женился, был очень привязан к своей вдовой матери, и притом еще самоучкой освоил искусство чтения и штудировал Евангелие в переводе Уиклифа — этот перевод подпольно копировали и распространяли вейкфилдские ткачи, чинившие у Эдвина обувь.
Я вновь — не в первый, и не в последний раз — ощутил какую-то близость к этому постороннему, в сущности, человеку, какую-то связь с ним и поделился этим чувством с братом Питером.
— Я называю таких людей Джонсонами, — откликнулся он.
— Что это значит?
— Это очень распространенное имя, оно никак не выделяет своего владельца, но мне слышится в нем жизненная стойкость, независимость и приятная заурядность. Не все Джонсоны братья или сестры Свободного Духа, но многие из них склоняются к этому учению. Они не уважают ни светские, ни духовные власти, но держат свои убеждения в тайне и просто живут своей жизнью.
Питер задумался ненадолго и продолжал:
— Джонсон не лезет в чужие дела, но, если тебе понадобится помощь, он непременно откликнется. Он не будет безучастно смотреть, как тонет какой-нибудь бедняга или задыхается под рухнувшим на него деревом или куском стены. Джонсоны знают, что добро находится в постоянной борьбе со злом и исход этой борьбы неясен, но они знают также, что борьба не будет тянутся вечно, ведь рано или поздно одна сторона возьмет верх весь вопрос в том, на чьей ты стороне.
Последняя часть нашего путешествия оказалась довольно трудной. Нам пришлось перейти через невысокую гряду гор — Пеннины. Год только начался, стояла влажная и морозная погода, дни были еще короткими, а ночи невыносимо длинными. Промокшие, озябшие, мы спустились наконец по западному склону гор и попали под очередной ливень. С трудом мы добрались до маленького города Манчестера. Я ничего не могу рассказать об этом месте; знаю только, что именно там я ощутил первый приступ той болезни, что скрючивает и выворачивает мои суставы. Я трясся в уголке таверны, где мы остановились на ночь, а Питер и Эдвин спорили о том, где лучше играют в футбол — к востоку или к западу от Пеннин. Эта беседа казалась мне на редкость бессодержательной для двух умных людей, из которых один к тому же получил блестящее образование, но я чересчур плохо себя чувствовал и все равно не принимал участия в разговоре.
Нам оставался один дневной переход до Манчестерского леса, князь Харихара не находил себе места от волнения, он то бродил по гостиной, лихорадочно блестя глазами, то пристраивался в уголке, томясь и тревожась в ожидании. Аниш, убедившись, что все мы получили вволю еды и питья и сухие постели нам обеспечены, подсел ко мне.
— Завтра, — сказал он, — мы достигнем своей цели. Наша миссия пришла к завершению. Что бы ни было, мы сможем наконец повернуть на юг и вернуться домой. Сколько времени займет возвращение, Али? Прошу тебя, скажи, что это будет не так долго, как поездка сюда.
Он протянул так и не утратившие пухлости пальцы к огню, а затем вновь улыбнулся мне, лучась от счастья:
— Не могу дождаться, когда уж мы отправимся в обратный путь. Все-таки мы многое повидали. Я бы не отказался от этого путешествия, что бы мне ни посулили. И подумать только, все началось с той связки пергаментных листов, которую ты доставил из Кале в Виджаянагару.
Тут я кое-что припомнил.
— У тебя с собой этот пакет?
— Наверху, в нашей комнате. Принести? Через минуту он вернулся, развязал красные шнурки и вынул скрипевший от старости пергамент.
Уже второй раз на протяжении этой истории из уст Али полились рифмованные строчки на неведомом мне языке, но тут Али заметил, что я ничего не понимаю.
— Давай я переведу тебе эти строки, Ма-Ло, — предложил он.
Джон всем двенадцати дал имена,
И истина в повести этой видна.
Первой яшма была, в самом нижнем ряду,
Свет зеленый мерцал у всех на виду.
Второй ряд — безупречный камень сапфир,
А затем халцедон, озаряющий мир,
Это третья ступень, а дальше за ней,
Своим блеском отличный от прочих камней,
Вновь зеленым сверкал изумруд,
Пятый камень агатом люди зовут,
А шестой — рубин, как апостол рек Джон,
Говоря о суде в конце всех времен.
Глаз Али слегка затуманился.
— Помню, как я впервые прочел эти стихи, — пробормотал он. — Где это было? В саду императорского дворца? Или нет, в зале. На приеме у Много же мы успели повидать и сделать с того дня, — и он снова вздохнул. — В Манчестере, когда я раскрыл эти страницы, меня охватили сомнения, и я поделился ими с Анишем.
Еще назвал Джон яркий хризолит,
Тоткамень, что в седьмом ряду горит.
Восьмой — берилл, он так светел и бел
Топаз — девятый, то его удел,
Десятый, хризопраз, навеки закреплен,
Гиацинт одиннадцатым видел Джон.
Лилово-синий аметист, в двенадцатом ряду
Исцелит хвори все и отведет беду…
— Знаешь, Аниш, — сказал я, перечитав эти стихи в гостинице под шум дождя и вой холодного ветра, врывавшегося в каминную трубу, — мне не верится, будто в двенадцати милях отсюда может быть Небесный град, описанный в этих стихах.
Аниш, нахмурившись, вчитывался в строки на языке телуга, подписанные под английскими стихами.
— Здесь и не говорится, что это место непременно должно быть в Ингерлонде, — ответил он.
Я растерялся:
— Так зачем же мы явились сюда?
— Как — зачем? — удивился Аниш. — Чтобы разыскать Джехани и отвезти его домой.
— А еще зачем?
— Чтобы разузнать как можно больше о боевом снаряжении и технике самого воинственного народа на земле и научиться защищать себя от султанов Бахмани.
Я прошелся взад-вперед по мрачной комнате с низким потолком, чтобы размять усталые колени и немного подумать. При этом я споткнулся о пьяницу, заснувшего прямо у меня на пути.
— Гляди, куда прешь, придурок, — рыкнул он. Я вернулся на прежнее место и сверху вниз посмотрел на Аниша — тот успел удобно усесться и пристроил пакет с письмом у себя на коленях.
— Значит, мы не собирались искать Небесный град на земле? — продолжал я.
— К чему жителям Виджаянагары Небесный град?
Я вынужден был внутренне с ним согласиться, но вслух не стал признавать его правоту. Чтобы сделаться самим собой, человеку нужно отказаться от попытки познать непознаваемое, нужно ощутить вечность здесь и сейчас — так говорил в пасхальной проповеди брат Питер, в данный момент уютно дремавший у камелька.
— Но зачем Джехани написал эти английские стихи? Я думал, он указывает нам путь в город, где мы сможем набрать целые мешки драгоценных камней.
Аниш слегка нахмурился. Его сбивал с толку мой язвительный и воинственный тон. Возможно, пинта другая-третья пива (признаться, к тому времени я пристрастился к этому напитку) ударила мне в голову. Хозяин гостиницы сам варил его. Его звали Боддингтон — это имя значилось на вывеске. Аниш еще раз вчитался в ту часть письма, которая была составлена на языке телуги этим языком пользуются правители дравидов и их приближенные, а мне он недоступен.
— Джехани пишет, что увидел эти стихи в прекрасной поэме, написанной человеком, у которого умерла дочь. Она явилась ему во сне и показала этот город, о котором здесь говорится. Когда Джехани прочел эти стихи, он ощутил тоску по дому и пожелал возвратиться в Виджаянагару.
Брат Питер зашевелился и, приподнявшись, склонился над тем же письмом.
— Автором этих стихов был рыцарь, — пояснил он. — Он тоже принадлежал к братьям Свободного Духа, или, во всяком случае, к лоллардам. Он превратил в стихи последнюю книгу Библии, переведенную Уиклифом[156].
— Не понимаю, с какой стати разумному человеку мечтать о мешках драгоценных камней, — с некоторым упреком в голосе произнес Аниш.
— В самом деле? — переспросил я.
— Драгоценные камни нужны для украшения танцоров и танцовщиц, для наших одежд, для храмов и статуй. Как в Виджаянагаре. Но к чему хранить их в мешках?
— Ты забываешь я родился в других местах, к тому же я путешественник, а путешественнику может пригодиться и запас драгоценных камней — в мешках.
Аниш соизволил признать, что нам не удалось бы добраться до этих мест, покупать теплую одежду, еду и напитки, почти каждую ночь находить себе кров и постель, если бы по моему совету князь не захватил с собой большое количество драгоценных камней — именно в мешках.
Все это время князь Харихара наблюдал за нами из угла возле двери. Лицо его скрывалось в тени, только темные глаза сверкали. Теперь он окликнул нас:
— Довольно на сегодня, Аниш. Довольно, Али. Завтра мы все узнаем.
Итак, нет никакого Небесного града, чьи улицы усыпаны драгоценными камнями в таком количестве, что способны утолить любую алчность. Что же мы нашли? Сперва реку Мерси, через которую нас переправил перевозчик, затем лес, а в центре леса поляну. Эдвин простился с нами еще в лодке. Перевозчик сказал, что необразованному бедняку опасно даже показываться вблизи тех мест, где когда-то обитали братья Свободного Духа. «Когда-то?» — переспросили мы. Джеральд, перевозчик, поглядел на нас сумрачно и ничего не ответил.
— За лесом смотреть надо, не то пропадет, — так сказал нам лесник, встретивший нас на другом берегу реки и согласившийся стать нашим проводником. Это был великан, я редко встречал людей такого роста, с кудрявой рыжей бородой и веселыми глазами.
Нужно вырубать старые и начавшие гнить деревья, пролагать просеки, которые летом послужат также противопожарной полосой, следить, чтобы деревья не заглушали кустарники ведь олени, а в особенности лани, именно там прячут своих малышей, да и некоторые птицы предпочитают вить гнезда в кустах, а не на деревьях. Нужно также расчищать ручьи, а в тех местах, где рельеф местности подходит для этого, перегораживать их, создавая пруды и разводя в них рыбу. Во время войн и с внешними, и с внутренними врагами Манчестерский лес, как и многие другие части Ингерлонда, был заброшен. За двадцать с лишним лет тропинки и просеки заросли шиповником и куманикой, упавшие от старости деревья так и оставались гнить, однако зимой все это не так уж мешало путникам, поскольку шиповник превратился в колючие стволы, лишившись почти всех побегов, трава засохла, и высокие деревья и молодая поросль сбросили листву, так что, поднявшись на холм, мы могли оглядеть окрестности. Лесник уверенно вел нас вперед, продолжая давать пояснения.
Шел дождь, правда не столь сильный, как накануне в Манчестере, не дождь, а так, изморось. Наш проводник радовался дождю. Лесник был не только высок, но и хорошо сложен, одет весь в зеленое — очень ему к лицу. С собой он нес большой лук, на поясе болтался рог. Брат Питер несколько раз называл лесника Робин Гудом, пока выведенный из терпения лесник не заявил, что снаряжение полностью соответствует его профессии. Помимо прочего, к его седлу был приторочен большой топор с зачехленным лезвием. По-моему, топор и впрямь вещь необходимая для лесника, но брат Питер проворчал в ответ, что, коли уж наш рыжий спутник не Робин Гуд, стало быть, он Зеленый Великан, которому сэр Гавейн, рыцарь короля Артура, отрубил голову его собственным топором.
Лесник пришпорил свою лошадку. Мы добрались до склона холма. Отсюда открывался вид на почти идеальной формы ложбину. Даже зимой, издали, мы видели, что это место зеленеет и цветет, оно, в отличие от всего леса, полно жизни и свежих соков.
— Одни называют это место райским садом, — проговорил наш провожатый, — другие зовут его садом земных радостей, но епископы и церковь назвали это место расселиной дьявола. Примерно пятьдесят лет тому назад с неба упал огненный шар, вся земля содрогнулась, здесь с неделю бушевал пожар, и к тому времени, когда дым рассеялся и огонь погас, в земле осталось вот это углубление, похожее на подставленную горстью ладонь. Все тогда перепугались, никто не решался спуститься вниз, а потом, примерно через год, там все зазеленело, сперва попер мох, папоротник, а затем и деревья, а поскольку люди сюда не ходили, здесь стали собираться животные, спасаясь от охотников, здесь они размножались в безопасности, словно и впрямь попали в рай. Там живут олени и зайцы, дикие кабаны, фазаны рябчики, иволги, там есть и река, и в ней обитают бобры и выдры, форель и раки, а в начале лета заходит лосось. Все они гораздо крупнее и красивее, чем в других местах. Там много разных растений, есть не только лесные, но и садовые: яблони, груши, вишни, смородина, клубника и крыжовник все они прижились там, прежде чем большие лесные деревья, такие как дуб, ясень, береза, успели вырасти и отнять у них солнечный свет. И, конечно же, цветы: аконит уже цветет у подножия леса — не вздумайте его отведать, он ядовит, потом чистотел, анемоны, примула, подснежники, фиалки, ромашки, купена, бурачник, дикий чеснок и прочие съедобные травы. Жаль, что вы не приехали сюда в мае или июне. — Натянув поводья, лесник на прощание кивнул каждому из нас. — Если доберетесь до самого центра ложбины, там и найдете дом, где жили братья.
— А сами братья? — вскрикнул князь Харихара, побледнев от дурных предчувствий.
Но зеленый великан уже поворотил коня и поспешил прочь по склону холма, который, как мы уже выяснили, оказался одной из стенок огромной чаши, образовавшейся в этом месте в земле. Всадник мчался прочь, и в этот миг луч солнца, пробившись сквозь тучи, подсветил капельки дождя на его плечах, и мне на миг почудилось, что они обратились в прозрачные халцедоны. Лесник скрылся из виду.
Глава сорок пятая
Нам пришлось пройти с полмили вниз по дороге, некогда широкой, лишь сверху накрытой сводом сомкнувшихся березовых крон, а ныне поросшей иглицей и чертополохом. Рыжие белки прыгали над нашими головами с сучка на сучок и швыряли вниз скорлупу от орехов. Мы пересекли речку с берегами из красной глины, к воде наклонялась ива, в ветвях ее пела малиновка-красногрудка. Красный, заметил я, это цвет смерти, но никто из моих спутников не ответил мне, и я поспешил выбросить эту мысль из головы.
Мы сразу поняли, что пришли на то самое место. Сперва мы увидели изгородь из остролиста, даже сейчас, зимой, на нем оставались красные ягоды, внутри ограды заключалась лужайка примерно двадцати ярдов в ширину; олени и зайцы приходили сюда пастись, и обгрызенная ими трава приподнималась лишь на дюйм от земли, однако и в январе казалась зеленой и сочной. Как оказалось, лужайка, в свою очередь, образовывала кольцо вокруг приземистой ограды из ивняка. Многие прутья внутренней изгороди давно выпали или были кем-то с силой раздвинуты. В самом центре было маленькое селение, десяток каменных домиков, накрытых дерном. Здесь тоже виднелись знаки, оставленные либо временем, либо врагами. Посреди селения стояла круглая каменная хижина, побольше остальных и почти не пострадавшая, если не считать пары отверстий в крыше, где успел выкрошиться мох.
В домиках и в узких проходах между ними мы насчитали пятнадцать скелетов, в том числе восемь принадлежали детям младенцам, ребятишкам постарше, подросткам. Вернее, это были не совсем скелеты дикие животные сожрали сердце, печень и легкие, птицы выклевали глаза и растащили кусочки плоти, но летняя жара высушила все, что осталось от этих тел, так что на их лицах еще можно было различить остатки кожи, сохранились волосы на голове — у тех, у кого сохранилась голова. Большинство погибли от удара копья или были разрублены мечами и топорами, но кое-кого обезглавили.
Все погибшие были обнажены. Четверо из них держали в руках розы, по одному цветку, теперь уже высохшему и увядшему. То ли заранее, уже зная о готовившемся на них нападении, то ли непосредственно перед ним они сорвали эти цветы в заглохшем теперь саду на краю поселка и вышли с ними навстречу убийцам.
Большая хижина в центре казалась пустой, в опоясывавшей ее стене не было видно ни двери, ни окна. Мы обошли ее со всех сторон. Брат Питер что-то бормотал, вздыхая и спотыкаясь на каждом шагу, по все еще пухлым щекам Аниша катились слезы, князь Харихара, казалось, был возмущен до глубины души, он побелел и крепко сжимал губы, глаза его странно блестели. Я на миг замедлил шаг, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Мне слишком часто доводилось видеть подобные вещи с тех самых пор, как меня бросили умирать в колодце на телах моих родителей, братьев и сестер. Во мне все онемело, я чувствовал только, как все сильнее ноют колени и костяшки пальцев.
Я знал, что здесь произошло, я различал знакомые приметы. Когда люди убивают ради власти и славы, из жадности, из-за голода, даже когда они убивают ради мести или наказания, можно как-то понять, что ими движет, в их побуждениях есть нечто естественное, даже разумное, не противоречащее нашей природе. В происходящем есть все же какой-то смысл, и жертвы тоже его видят, они знают, за что и почему погибают. Но самые жестокие, самые идиотские, самые подлые и чудовищные убийства, убийства с предварительным изнасилованием, пытками, издевательствами над жертвами имеют лишь один источник, противный и разуму и природе, одну бессмысленную и нелепую причину — религию. Эти люди, как и мои родные, выбрали себе не того бога.
Зачем, к чему все это? Человек живет в бедности, в скудности и нищете, тяжкий, пригибающий его к земле труд обогащает других, но только не его самого, и до тех пор, пока все делятся на хозяев и рабов, единственная наша надежда — получить награду на небесах. Но вот выясняется, что сосед представляет себе рай иначе, что у него другие боги, чем у тебя, стало быть, один из вас заблуждается. А хуже всего если кто-нибудь, как эти люди, утверждает, что бога нет вообще… Немыслимо, нестерпимо. Он утверждает, что ты не только несчастен, но еще и обманут? Так разбей ему голову, в которой зародилась столь чудовищная мысль!
— Али, я знаю, ты плохо себя чувствуешь, но нам нужна твоя помощь! — Князь, как всегда, говорил любезно и не сомневался, что все готовы ему повиноваться. Он хотел сдвинуть с места большой плоский камень, по форме напоминавший угловатое яйцо. Края его не превышали фута в ширину, но посредине он был шириной в три фута, а высота его была не менее шести. Похоже, этот камень прежде загораживал вход в дом, но теперь он врос в дерн, и лишь совместными усилиями нам четверым удалось его сдвинуть, и то мы провозились не меньше часа. Сперва казалось, что все наши старания тщетны.
— Зачем его двигать? — пропыхтел я, опасаясь, что так мы ничего не добьемся.
— Здесь моего брата нет. Возможно, он там, внутри.
Он был прав.
Наконец камень поддался. Хижина обдала нас долго хранившимся в ней ароматом насыщенный, сухой запах, отчасти даже приятный. Внутрь дома хлынул поток холодного зимнего света, слился с лучом, проникавшим сквозь дыру в потолке, лег лимонно-желтой полоской на кривоватые, неотесанные камни. Через дыру в крыше поспешно вылетели воробьи. Кошечка, похожая на ту, что принадлежала брату Питеру, зафыркала на нас, зашипела и соскочила с коленей одного из покойников.
Их было семеро, они сидели по кругу, скрестив ноги, выставив перед собой руки ладонями вверх. Одежды на них не было, эти семеро, трое женщин и четверо мужчин, выбрали себе другой наряд венцы и ожерелья, ручные и ножные браслеты и цепочки из скрученной свинцовой или медной проволоки, они потемнели от времени, но в них по-прежнему блистал хрусталем полевой шпат, желтые, белые, красные и зеленые камушки, прозрачные, словно лунные камни, сверкающие, как те, что посвящены солнцу. У ног каждого из умерших стояла простая оловянная кружка без ручки. Питер поднял один из сосудов. В нем оставался какой-то осадок, красновато-черная засохшая паста на самом дне. Питер понюхал кружку.
— Смесь экстракта белладонны, аконита и болиголова, — сказал он. — Этот напиток вызывает спазм мускулатуры и обезвоживание, вот почему они и после смерти остались сидеть в тех же позах, какие приняли перед тем, как выпить яд. Правда, им пришлось вытерпеть приступ сильной, хотя и кратковременной боли.
Князь Харихара не слушал его. Он опустился на колени перед одним из тел, закрыл лицо руками и беззвучно раскачивался взад и вперед. Тела всех умерших потемнели и высохли со временем, но у этого кожа, несомненно, была темнее, чем у других, и, пусть лица всех семерых казались похожими, после того как над ними потрудились яд и иссушающее время, холод и жара, в этой маске князь безошибочно угадал черты своего младшего брата. К тому же нам ведь говорили, что Джехани лишился обеих ног ниже колена.
Посреди этого круга призраков стоял единственный ценный предмет во всем поселке: золотая чаша с тонюсенькими стенками, с примитивным орнаментом в виде дубовых листьев. Когда мы вышли из хижины и смогли заговорить о том, чему стали свидетелями, Аниш спросил, не чаша ли это Святого Грааля, ведь многие христиане верят, что она спрятана где-то в этих местах. Нет, сказал Питер, эта чаша гораздо древнее христианства. Подобные предметы находят в могильных курганах в разных местах страны.
Когда-то в этой чаше была вода, но теперь она высохла, в ней стояло два цветка — лотос, или водяная лилия, и роза, — оба увяли, засохли, умерли. Мы поставили камень на место — пусть Джехани покоится там, где он пожелал остаться, — и увели князя прочь. Два дня он молчал, затем пришел в себя и держался как прежде, но у края его губ так и застыла печальная складка.
Наша миссия завершилась, мы повернули на юг. Питер спешил вернуться в Осни, а мы надеялись добраться до Лондона, нанять корабль и отплыть на восток, в обратный путь. Мы успели пройти лишь несколько миль и наткнулись на группу солдат во главе с рыцарем, который по приказу своего господина спешил в Шрусбери там король собирал ополчение. Какой король? Генрих? Нет, речь об Эдуарде, сыне герцога Йорка, о короле Эдуарде IV.
По пути князь Харихара расспрашивал брата Питера о том, что нам довелось увидеть, пытаясь понять, какая участь постигла его брата.
Князь надеялся, что мы вернемся в Виджаянагару раньше, чем туда попадет письмо, но тем не менее он отправил очередное послание своему царственному двоюродному брату. Нас все же задержали обстоятельства, о которых я расскажу далее, и письмо на месяц опередило нас в Виджаянагаре. Вот оно.
Глава сорок шестая
«Дорогой брат,
вынужден сообщить тебе печальное известие. Мы обнаружили тело Джехани, моего родного и твоего двоюродного брата, в тайном поселении. Он умер два или три года назад и разделил общую могилу с шестью своими друзьями. Место его успокоения вполне достойно его сана и соответствует избранному им образу жизни и верованиям, которых он придерживался, а потому мы предпочли оставить его там и не тревожить его покой. Уходя, мы вновь закрыли его гробницу.
С помощью образованного человека, хорошо разбирающегося в подобного рода вещах, мы смогли более или менее точно восстановить картину последних месяцев или даже лет, прожитых в этой стране Джехани.
Джехани, по-видимому, был здесь вполне счастлив. Пусть эта мысль послужит нам утешением, хотя я никогда не смогу избавиться от чувства вины — ведь это моя бессмысленная ревность толкнула его отправиться в путешествие. Я верю, что он обрел здесь столь же полное и возвышенное блаженство, как то, каким мог бы наслаждаться в Виджаянагаре, если бы не я.
Джехани был членом небольшой группы, принадлежавшей к секте братьев Свободного Духа. Эта секта прячется в потайных убежищах в различных городах западного мира, некоторым из них удается найти безлюдное место где-нибудь в лесу, и там они живут согласно своим убеждениям, не опасаясь властей во всяком случае, какое-то время.
Али говорил мне, что ассассины, орден, созданный Хассаном ибн Саббахом, Горным Старцем, и душители-таги поддерживают отношения с этой сектой, однако таги и ассассины отличаются от братьев Свободного Духа излишним, навязчивым интересом к смерти как к особого рода экстазу, братья же считают смерть частью естественного порядка вещей и просто принимают ее, когда приходит их час.
Я перечислю основные положения их веры, если подобное слово применимо, когда речь идет скорее о практике, нежели об умозрительной догме.
У братьев все общее, ни у кого нет личного имущества. Женщины и мужчины равны. Если позволяет климат или время года, они полностью снимают с себя одежду, сохраняя, однако, украшения. Они часто поют, танцуют, складывают стихи и пересказывают различные истории, они любят музицировать. Они употребляют самую простую пищу, воздерживаясь от мяса, кроме особых праздников. Они прибегают к гашишу или к вызывающим видения грибам и тому подобным субстанциям. Братья верят в бога или богиню, однако это божество заключено внутри самого человека, и искать его надо там, а не вовне. Братья отказываются от применения силы даже ради самозащиты, они никому не указывают, что нужно делать, и не хотят, чтобы другие указывали им, не осуждают любые поступки или поведение, которое может доставить человеку удовольствие и не причиняет зла другим. Чтобыизбежать конфликтов, разделения, борьбы за влияние и тому подобных зол, братья ограничивают число членов одной группы — их должно быть примерно двадцать человек, причем семеро старших составляют совет, принимающий решения от имени всей группы.
Вот среди каких людей жил Джехани. Мне объяснили, что ног он лишился после пытки, которая заключается в том, что ноги сдавливают в тисках. Это произошло либо потому, что он уже тогда был братом Свободного Духа, либо просто потому, что его темная кожа выдавала в нем чужака.
Многого мы никогда уже не узнаем, мы можем лишь строить предположения.
Джехани жил в достаточном комфорте, располагая всем, в чем нуждается разумный человек. Это маленькое поселение было спрятано в лесу, в той его части, куда обычные люди боялись проникать, поскольку примерно пятьдесят лет назад в этом месте упал метеорит. Жители Ингерлонда приписывают подобные явления дьяволу, то есть, согласно их космогонии, духу зла. И все же, несмотря на укромность этого убежища, власти как-то проведали о нем, и большинство членов группы было убито солдатами. Вероятно, их послал местный глава церкви, епископ. Старейшины общины, в том числе и Джехани, закрылись в большей хижине и сами или с чьей-то помощью запечатали вход. Там они покончили с собой, выпив ядовитый отвар.
Вот все, что нам известно. Многое можно было бы еще сказать, но мало что стоит говорить, и никакие слова уже не вернут его. Мы возвращаемся домой.
Твой преданный и покорный, сокрушенный скорбью брат
Харихара».
Часть V
Глава сорок седьмая
Мы попали в Шрусбери в конце января. Выяснилось, что молодой герцог Йорк, или король, как он именовал себя, отбыл из города днем раньше и направился к югу в Херефорд, куда, как мы поняли, он стягивал все подразделения своей армии, все ополчение, набранное в западных графствах и пограничных районах, или марках, Ингерлонда и Уэльса. Из Херефорда новый король собирался двинуться в Лондон на помощь Уорику: после битвы при Вейкфилде королева теперь угрожала графу.
Однако в пяти милях от Херефорда мы повстречали армию короля, которая теперь двигалась на север. В нескольких милях к северо-западу разведчики, или, если угодно, шпионы, короля обнаружили большое войско, состоявшее из жителей Уэльса. Предполагалось, что они движутся к перекрестку у деревушки Мортимер-Кросс, а оттуда пойдут на юго-восток и неподалеку от Лондона соединятся с армией королевы, существенно усилив ее. Поскольку разведчики уверяли, что армия Йорка более чем вдвое превышает по численности ополчение во главе с Оуэном и Джаспером Тюдорами, было решено двинуться наперерез и покончить с уэльсцами, прежде чем они доберутся до королевы.
Это был канун праздника Сретения, того дня, когда христиане, Ума уже об этом говорила, — освящают все свечи, которые будут гореть в их церквях в течение ближайшего года. Войско подтянулось к реке Луг и ожидало лишь приказа нового короля. Примерно в миле отсюда навстречу нам двигался авангард уэльсцев. Мы едва различали его в сумраке и тумане.
Герцог Йорк ехал мимо нас в сопровождении свиты рыцарей и оруженосцев, позади несли его знамя и королевский герб. Он повернулся к нам лицом, забрало на его шлеме было поднято, и мы сразу узнали друг друга. Он нас тоже узнал.
Герцогу было всего восемнадцать лет. Мы-то думали, он старше. Почему бы и нет? Его отцу, Ричарду Йорку, ко дню роковой для него битвы при Вейкфилде исполнилось пятьдесят.
Это был Эдди, наш Эдди, Эдди Марч. Граф Марч, герцог Йоркский.
— Господи! — воскликнул он, останавливаясь перед нами. Его кольчуга негромко зазвенела. — Это вы, парни с Востока? Князь Гарри-Гарри. Как поживаете, дружище? И Али здесь. Ведь это вы выручили меня тогда из беды. Уже год прошел, верно, а я еще жив. А та ведьмочка с вами? Потрясающая девчонка. Как бишь ее звали? А, Ума. Как же я мог забыть? Знаете, я сейчас малость занят, дела разные и все такое. Джервас позаботится о вас, проводит вас в мою палатку. Закусите, выпейте по стаканчику, пока я тут управлюсь. Вы что-то сказали? Ну вот и отлично. Чертовски рад вас видеть. Так до скорого.
Джервасом звали оруженосца лет пятнадцати. Он остался с нами, как приказал ему господин.
Эдди сильно переменился. Смерть отца и младшего брата состарила его. Человек не верит в смерть, даже когда соприкасается с ней, даже если сам причиняет ее другим, — не верит, пока не утратит кого-то из близких. С этого момента он знает, что такое смерть. К тому же для Эдди смерть отца и брата стала источником не только боли, но и ненависти: Троллоп и другие негодяи заманили их в битву, в которую им не следовало вступать. Над мертвыми надругались, их тела изувечили. Да, Эдди сделался старше, и он был переполнен ненавистью, неистребимой, способной на коварство жаждой мести. Куда подевался веселый, влюбчивый повеса, которого мы знавали в Кале и Ист-Чипе?
Прошел лишь месяц со дня смерти его отца, а Эдди уже собрал собственную армию, и вот теперь ему представился наконец шанс утолить жажду мести, сжигавшую его изнутри, словно кислота. Однако новый король испытывал не только ярость, но и страх.
Мы стояли в вечерних сумерках перед его палаткой и смотрели вдаль, на то место, которому предстояло поутру сделаться полем битвы.
Мы видели перед собой мост через реку Луг, а по ту сторону Ворчестерской дороги болото Вигг. Рядом с нами стоял дворянин из местных, сэр Роджер Крофт из Крофт Касла, и что-то толковал королю, указывая на восток. К югу от деревушки и в двух фарлонгах к северу от моста был перекресток.
— Милорд!
— Сир.
— Да, да, ваше величество. Все дело в болоте. Дорога пересекает его. Если они прорвутся в этом месте…
— Хорошо. Мы поставим лучников на дальней стороне болота. А всех остальных на другой стороне, за мостом.
— Ваше величество, таким образом вы отрежете нам путь к отступлению в случае, если придется отступать.
— Мы не отступим. И пусть они это знают.
У нас не было пушки. В пору Сретения на дорогах слишком много грязи и снега, чтобы провезти пушку, к тому же воздух так насыщен влагой, что порох отсыревает.
К ночи уэльсцы подошли. Мы видели в сгущающейся темноте, как их факелы миновали Мортимер-Кросс и начали расходиться во все стороны, мы слышали, как звенит их оружие, как ржут их кони.
С наступлением ночи возвратились и сомнения. У Эдди было по меньшей мере вдвое больше воинов, чем у врага. Но так было вечером — а что произойдет утром? В его армии было множество знатных лордов и рыцарей с преданными лично им воинами: лорд Одли, лорд Грей де Уилтон, лорд Фицуолтер, сэр такой-то и такой-то, барон такой-то и сякой-то. Все они, подобно Троллопу, когда-то присягали Генриху — либо когда он взошел на престол, либо позднее. А что, если утром, когда взойдет солнце и запоют жаворонки, многие из них вспомнят об этой присяге?
Вернувшись в палатку, Эдди угрюмо призадумался и, помолчав, сказал:
— Нам нужно знамение. Совершенно очевидный знак, что Бог на нашей стороне и мы победим. Только тогда они все поймут, что их присяга Генриху ничего не стоит, а настоящий король — я.
С этими словами он обернулся к князю.
— Гарри-Гарри, говорят, у вас на Востоке разбираются в магии и тому подобных делах. Не могли бы вы сделать для нас какой-нибудь фокус? К примеру, затмение. Сделайте так, чтобы солнце скрылось, и скажите, что солнце — это Генрих.
На этом, мой дорогой Ма-Ло, я прекращаю на сегодня ткать свое полотно. Подходящий момент, чтобы остановиться, верно? Накануне битвы, исход которой нам неведом. Так поступала Шахразада.
— Мне уже доводилось упоминать факира, — этими словами на следующее утро Али возобновил свой рассказ, — который сопровождал нас с самого начала путешествия. То уходил, то возвращался, как тень, что-то вроде дальнего, полузнакомого родственника. Он был высокий и смуглый, по мусульманским понятиям очень красивый. Иногда мне казалось, что он мое другое «я», мой брат, призрак человека, которым я мог бы стать, если б меня не искалечили в детстве и не придали мне тот облик, какой ты видишь сейчас. Порой я даже недоумевал, в каком из миров обитает этот человек, потому что его никто, кроме меня, словно бы и не замечал, а я часто видел его, ловил движение краешком глаза, но стоило обернуться, как он уже исчез, скользнул по стене, подобно отблеску солнечных лучей, и растаял, как тает луч, когда что-то преграждает ему путь.
Для факира это несложные фокусы, и подручные средства для них почти не требуются. Появиться в запертой комнате? Легко. Достаточно спрятаться там прежде, чем комнату запрут. Внезапно появиться в толпе? Еще проще: приходишь переодетым, в чужом обличье, потом отвлекаешь внимание и быстро сбрасываешь маскарадный костюм. Для этого у фокусников есть хитроумно сшитые и раскрашенные одежды — они кажутся грубыми отрепьями, но на самом деле сделаны из столь тонкого шелка, что их можно смять в комок и отбросить прочь.
Факир может проглотить что угодно, его тело превращается в тайник для множества вещей, более того, он может засунуть себе в задницу кулак и спрятать в кишках державу[157] короля со всеми ее украшениями.
Факиру известны различные вещества с необычными свойствами, он умеет превращать металл в золу; еще факир устанавливает веревку вертикально, словно лестницу, и маленький мальчик забирается на нее. Факир ложится на землю, приказывает шестерым мужчинам подсунуть себе под спину по одному пальцу и — раз! — поднимается в воздух, причем никто из его помощников не ощущает его веса. Еще факир должен уметь работать с зеркалами, знать, как уловить лучи света и заставить их искривиться, применяя тщательно обработанные куски стекла.
По пути из Манчестерского леса я неоднократно видел рядом с нами факира. Однажды это было, когда мы шли под дождем по непривычно прямому участку пути (я говорю непривычно, поскольку в Ингерлонде прямо идут только римские дороги, а сами англичане прокладывают путь извилистый, словно след змеи). Примерно в двухстах шагах от нас факир перешагнул через канаву и растворился в тумане, поднимавшемся над соседним болотом. Был и такой случай, когда он сидел напротив нас в таверне, вышел, словно по нужде, и не вернулся. Трижды он час или два шел рядом со мной или чуть позади, а затем исчезал.
Питер утверждает, что факир порожден моим воображением. Он слыхал, что люди, страдающие от душевной тревоги и физического изнеможения, имеют подобные галлюцинации. Первые христиане приняли подобные видения за явление воскресшего Иисуса.
Учитывая, через что мы все прошли, мне хотелось спросить его: «Почему же мы все не видим призраков, ведь мы все одинаково устали и измучились?»
Как бы то ни было, услышав просьбу молодого короля, которого мы по-прежнему мысленно называли Эдди, факир появился у меня за плечом и зашептал:
— Корунды все еще хранятся в твоей сумке?
— Да, конечно.
— Давай-ка посмотрим на них.
Я вытащил драгоценные камни и бережно положил их на стол возле свечи. Приближенные Эдди сидели в отдалении, у входа в палатку, следили за факелами, отмечавшими передвижения уэльсцев, ели свинину и пили вино — из-за вина и свинины я и старался не приближаться к ним.
Я уже описывал, как выглядели эти драгоценные камни, эти безупречные кристаллы? Не важно, я повторю это описание как можно подробнее. Они были шести дюймов в длину, по форме слегка напоминали веретено — заостренные с обоих концов, а посередине их ширина достигала полутора дюймов. У корундов насчитывалось множество граней, большинство из них представляли собой шестиугольники, а края их были шестисторонними пирамидами. Прекрасные рубины без единого изъяна. Даже в тусклом свете свечи, на этом грубо сработанном столике из черного дуба, они вобрали в себя все лучи и ожили, замерцав таинственным светом.
— Нам понадобятся хорошие зеркала, — продолжал факир. — Не из стали или серебра, а стеклянные, у которых обратная сторона покрыта амальгамой ртути. Такие зеркала изготавливают в Нюрнберге и Венеции, но их можно найти в домах богатых людей во всех концах света.
К этому времени солдаты, сидевшие у входа в палатку, вернулись к столу и прислушивались к нашему разговору.
— Хорошо бы еще найти человека, обладающего знаниями в области оптики.
Тут, конечно, Питер кашлянул и сказал:
— Хоть я сам и не специалист, но у меня с собой, — и он похлопал рукой по сумке, с которой не расставался с праздника Пасхи, — у меня тут записи Роджера Бэкона, занимавшегося этой наукой.
Эдди обернулся к сэру Роджеру Крофту:
— Раздобудь нам пару зеркал, такие, какие ему требуются, хорошо?
— Я знаю, где их взять, — похвастался рыцарь. — В Херефорде живет торговец тканью, он ведет дела с семейством Арнольфини из Брюгге.
Они прислали ему два зеркала в подарок на свадьбу сына.
— Пока нам принесут зеркала, мы можем проделать несколько простых опытов, — предложил факир. Он взял один корунд, направил его острие на пламя свечи, подвигал взад-вперед, выбирая точное расстояние. Все затаили дыхание. Из другого острия рубина, дальнего от свечи, вышел луч пламени — не красный, как можно было бы подумать, а зеленый. Он был очень узкий, только по краям чуть-чуть расплывался, и соединил камень прямой линией с крошечным пятном света примерно в шести футах от него, на полотняной стене шатра. Ткань начала дымиться.
— Действие лучей усиливается благодаря прохождению через рубин, — заметил Питер с глубоким почтением в голосе.
Факир неодобрительно покосился на него, словно монах что-то перепутал.
Нам пришлось повозиться, но это сработало. Ничего подобного еще никто никогда не видел, и у нас не было возможности отрепетировать наш номер или провести заранее пробу. Мы должны были проделать это на рассвете следующего дня. Мы надеялись, что Природа окажет нам помощь: здесь было все необходимое — невысокий холм к востоку, то есть у нас за спиной, рядом река. Не хватало лишь тумана, но были все основания рассчитывать на утреннюю дымку. В эту пору года по ночам не бывает ветра, и к утру всегда поднимается туман, иногда даже очень густой. А коли естественных испарений окажется недостаточно, факир собирался распорядиться зажечь по другую сторону холма костры из зеленых веток и влажных перегнивших листьев. Это обеспечило бы столь нужную нам завесу. Костры приготовили заранее, но разжигать их не пришлось.
Но все эти приготовления меркнут по сравнению с той умственной работой, которую пришлось проделать факиру вместе с братом Питером. Они проводили вычисления, пытались применить к конкретному случаю оптическую теорию Роджера Бэкона, записанную с помощью тайнописи. Мы знали, что открытия английского монаха продолжают учение его арабского предшественника Абу Юсуфа Якуба бен Исхака аль-Кинди, но не ведали, насколько далеко Роджер продвинулся по этому пути. Еще сложнее было вычислить ту точку неба, где на следующий день солнце достигнет достаточной высоты и позволит осуществить задуманный эксперимент.
Все получилось, хотя до последнего момента мы сомневались в успехе. Маленькие зеркала, не более восемнадцати дюймов в поперечнике вместе с резной и позолоченной рамой, но зато очень ясные, были установлены на подмостки, сооруженные из копий и найденного на близлежащей ферме частокола. Перед зеркалами мы расположили рубины под тем углом, который указали нам факир и брат Питер.
— Почему именно три солнца? — поинтересовался князь Харихара.
— В честь Троицы, трех божеств в одном и одного божества в трех лицах, которого мы все еще имеем глупость чтить, — ответствовал брат Питер.
— Каким образом солнце может светить одновременно в оба зеркала, наполняя их оба своими лучами? — усомнился Эдди.
Кое-кто из присутствующих явно разделял его недоумение.
— Точно так же, — утомленно, но терпеливо отвечал факир, — как оно может отбрасывать тень одновременно и от твоего тела, и от моего.
— А, ну конечно. Все ясно.
Не думаю, что он и вправду что-нибудь понял.
Но все получилось, еще как получилось. Поднялся туман. Туман висел на верхушках деревьев и в предрассветном сумраке казался серым, точно волчья шкура. Потом он стал розовым, потом золотым и понемногу начал таять, но тут из тумана вынырнуло солнце, красное колесо покатилось под нависающими тучами, и появилось то видение, которого мы добивались. Оно длилось минуты две, но этого вполне хватило.
Лучи солнца ударили в зеркала, отразились от них и прошли через рубины, которые превратили их в узкие лучи, а затем эти лучи разошлись достаточно широко, чтобы в тумане проступило два красных круга чуть пониже настоящего солнца и возникла иллюзия, что на небе светит три солнца разом. Войско заранее предупредили о чуде, и оно разразилось восторженными воплями. Вельможи, готовые вести своих людей в бой, подскакали к Эдди и довольно смущенно спросили, какой будет приказ. Эдди потребовалась лишь минута, чтобы провозгласить: солнце славы, солнце Йорка будет отныне его гербом, и пусть ему немедленно изготовят щит с изображением тройного солнца. После чего он пришпорил Генета и первым пересек мост, ведя своих людей к победе.
Факир огляделся по сторонам, притронулся кончиками пальцев к краю своего тюрбана, воздавая хвалу Аллаху.
— Благодаря прохождению через рубин возникает особое излучение, — произнес он укоризненно и пошел прочь по дальнему от нас склону холма, удаляясь от поля боя. Больше мы его не видели.
— Это была та самая битва, когда в плен попали Оуэн Тюдор и его сын? — уточнил я.
— Вот именно.
— Ив тот же вечер Эдди приказал отрубить им голову?
— Верно.
— Должно быть, Ума его просто возненавидела…
— Что ж, послушаем, что она сама расскажет об этом.
Глава сорок восьмая
Ближе к вечеру, когда прекратился дождь, мы снова собрались послушать рассказ Али о последней большой битве, той, что положила конец войне. Ума с двумя детьми немного припозднилась, и Али это явно раздражало, хотя в целом он чувствовал себя теперь лучше, несмотря на то, что воздух все еще был горячим и влажным, почти как в турецкой бане. Светило солнце, камни и цветочные клумбы исходили паром, птицы пели и порхали вокруг, цветы раскрывали свои чашечки, сад наполнялся прекрасными ароматами. Бирманская кошечка растянулась в тени и мирно спала.
— Прошу прощения, — произнесла Ума, наконец появляясь в дверях и передавая детей няньке, которая повела их играть в задние комнаты. — Они задержали меня по дороге — непременно хотели купить шербет.
Она села рядом с Али, положила его похожую на лапу левую руку к себе на колени и молча поглаживала ее, ничего не добавляя к его истории. Она, как и я, вся обратилась в слух.
За две недели до битвы Трех Солнц армия королевы начала продвижение из северных регионов страны. Эти огромные армии, в тридцать, а то и в пятьдесят тысяч человек могут продвигаться лишь на несколько миль в день — на десять, самое большее на пятнадцать, особенно если они везут с собой пушки. Требуется особое искусство, чтобы организовать подобный переход: нужно позаботиться, чтобы солдаты не голодали в пути. Обычно войско разделяют на три колонны, и они движутся каждая по своей дороге, поддерживая контакт друг с другом, чтобы воссоединиться, как только лазутчики обнаружат впереди превосходящие силы противника.
С тех пор как войска королевы перешли через Трент, они не знали проблем с провиантом. Река Трент отделяет южную часть острова от северной, а междоусобица постепенно переросла в войну между севером и югом. Миновав эту границу, королева спустила с цепи псов войны, голод, огонь и меч, она поощряла своих людей грабить и убивать, разрушать, поджигать, насиловать. Так они пролагали себе путь вперед, через земли, где Йорк набирал солдат для битвы у Нортгемптона. Однако, экономя таким способом деньги, королева проигрывала во времени: продвижение ее войска замедлилось, поскольку армия то и дело отвлекалась на грабежи; говорят, что многие пехотинцы пытались тащить за собой тяжеловесный груз, например сундуки, инструменты, черепицу.
К тому же настала самая холодная пора года, дни только-только начали удлиняться, и все светлое время дня уходило на то, чтобы добыть себе пищу, развести огонь, приготовить еду, отыскать теплое местечко для ночлега, изнасиловать женщину и убить малышей.
И все же к семнадцатому февраля королева поспела в Сент-Олбанс. Уорик заранее вышел из Лондона ей навстречу, и сражение завязалось прямо на улицах города. Когда королева стала одолевать, Уорик отступил и занял оборонительные рубежи поперек дороги на Лондон, выставив перед собой заслон от кавалерийских атак и пушку, а также отряд из пяти сотен бургундцев, вооруженных огнестрельным оружием и горящими стрелами. Тут пошел снег, и пушки с ружьями, как всегда, подвели тех, кто на них понадеялся. Гораздо успешнее действовали арбалетчики, некоторые из них были вооружены арбалетами такого калибра, что, если выстрелить из него в плотную группу людей, стрела пронзала разом троих или четверых.
Но еще больший ущерб, чем снег, Уорику нанесли изменники. Да, изменники! Одним из первых капитанов в ту пору считался сэр Генри Лавлейс. Он сражался на стороне Йорка, попал в плен при Вейкфилде, но избежал расправы, поклявшись впредь сражаться за королеву. Ночью накануне битвы при Сент-Олбансе он явился в лагерь йоркистов и обещал присоединиться к ним, однако он придерживал свои войска, пока не убедился, что верх берет королева, а тогда вместо того, чтобы прийти на выручку к Уорику, он вновь перебежал на сторону победителя, точно так же, как это сделал лорд Грей при Нортгемптоне, оставив зияющую дыру в рядах Уорика, и в эту брешь тут же устремилось войско королевы. Уорик понял, что битва проиграна, дал сигнал к отступлению и чудом ускользнул, уведя с собой четыре тысячи человек.
Король Генрих, которого Уорик прихватил с собой, чтобы придать вид законности своему делу, остался сидеть под дубом, что-то бормоча, но при виде королевы и своего — или не своего — сына он выразил некоторые признаки радости.
На следующий день головы знатных пленников были выставлены на рыночной площади. Среди казненных были и те два лорда, на которых возлагалась обязанность следить во время битвы за королем. Королева спросила сына:
— Мой милый сын, какой смертью следует умереть этим двум рыцарям?
— Пусть им отрубят голову, — отвечал многообещающий мальчишка и задержался посмотреть на казнь.
Скорее всего, эти рыцари лишились жизни за то, что слишком добросовестно исполняли свой долг. Королева была бы только рада, если б короля изрубили в сражении на куски и она могла бы сделаться регентшей при этом малолетнем чудовище.
Королева расчистила себе путь в Лондон, но тут она внезапно проявила не свойственную ей нерешительность быть может, колебались ее полководцы. В городе не было войска, но все население держало сторону Йорков: слишком долго королева терзала его налогами и всячески издевалась над ним. Лондон мог выдержать осаду, но даже если бы ворота открылись перед войском королевы, торговцы могли причинить бессчетные неприятности, отказавшись снабжать солдат. Пришло известие, что Уорик соединился с Эдди у Абингдона. Мэр послал королеве в Сент-Олбанс обоз с провиантом и деньгами, но горожане перехватили его, и все провизия и золото бесследно исчезло. Королева потратила несколько дней на бесплодные переговоры, а тем временем изголодавшиеся северяне десятками дезертировали из ее армии. В конце концов королева двинулась в Данстейбл, в десяти милях к северо-западу, а оттуда повернула обратно на север.
Йоркисты, выигравшие битву при Мортимер-Кросс и проигравшие сражение при Сент-Олбансе, двадцать седьмого февраля с триумфом вступили в Лондон во главе с Эдди и Уориком.
Мы же хотели как можно скорее вернуться домой, а для этого нужно было найти корабль, который отвез бы нас в Средиземное море, к арабским странам, обратно в цивилизованные места. Мы предпочли этот маршрут возвращению через Францию и Венецию. Князь Харихара, погрузившийся в меланхолию после того, как узнал о смерти брата, не мог побороть в себе отвращения к холодному и влажному климату. Впрочем, нелюбовь к местной погоде разделяли все мы, прелести весны и лета давно миновали и, казалось, уже никогда не возобновятся. Князь тосковал по родной стране и готов был подвергнуться риску погибнуть в море, лишь бы на несколько недель сократить обратный путь.
Припоминаю, как однажды вечером, незадолго до того, как мы добрались до Оксфорда и расстались там с братом Питером, князь заговорил об устройстве нашего мира, и его мысль все время возвращалась к расстоянию между этой страной и его родиной.
— Мы ведь даже не знаем, насколько далеки от нас сейчас Индия и Виджаянагара.
Аниш промолчал, стараясь даже выражением лица не показать, что он опасается за рассудок своего повелителя. Я был не столь сдержан. У меня уже начинались боли в суставах, и терпение мне изменяло.
— Чертовски хорошо знаем, — возразил я, прибегая к хорошо мне знакомому английскому проклятию. — Плюс-минус пятьсот миль.
Однако брат Питер оторвался от тарелки с супом, и глаза его заблистали любопытством.
— Всем известно, что земля круглая, — гнул свое князь. — Земля — шар.
Мы торжественно кивнули. Вот уже две тысячи лет, как Аристотель и его последователи опровергли теорию плоской земли.
— Мы не знаем, каков периметр этой сферы в том месте, где она наиболее расширяется, но мы понимаем, что эта величина будет меньше в зависимости от того, насколько мы удалены от центрального, наиболее широкого пояса.
Аниш явно был озадачен, и Питер, нередко рассуждавший на ту же тему (он следовал кое-каким теориям из зашифрованных рукописей Роджера Бэкона), постарался ему помочь.
— Смотри, — сказал он, подхватывая яблоко. — Если мы находимся вот здесь, — он ткнул в яблоко ногтем, а затем взял нож и начертил маленький крестик, — а Виджаянагара вот тут, — он вывел крестик на другой стороне яблока, — то не важно, восточным путем будете вы добираться в Виджаянагару или западным…
— Но если она здесь, — возразил князь и, отняв у Питера яблоко, сделал третью отметку, чуть левее первой, — то все выбирают неверный путь. Быть может, мы всего в неделе пути от дома, только плыть надо на запад, а не на восток.
В этот момент в нашу беседу вмешался другой посетитель таверны, коротышка с просмоленной бородой, судя по всему, бывалый моряк. Он склонился над нашим столом и схватил яблоко:
— У нас тут чокнутых нет, ясно? Не то что у вас.
— За кого вы нас принимаете? — переспросил Питер, придерживая князя Харихару за рукав. Князь явно был раздосадован утратой как яблока, так и внимания собеседников.
— За моряков, мать вашу так, за кого же еще. Долбаный ветер четыре дня из пяти дует с долбаного запада, мать вашу. Даже если вы отчалите при восточном ветре, долбаный западный принесет вас через неделю домой. Хочешь не хочешь, принесет. — И он принялся смачно грызть яблоко, сладкое, хрустящее, немного припахивающее сеном, в котором оно хранилось.
— Но я слышал, — вежливо возразил брат Питер, — если отправиться на юг, вплоть до южной оконечности Испании или даже до северного побережья Африки, там почти всегда дует ветер с северо-востока.
— Это годится для долбаных даго и чернокожих, — заявил наш Джек — Смоленая Борода. — Нам от этого никакого толку.
На следующий день мы распрощались с Питером у ворот его аббатства.
Он передал нам рукописи Бэкона с инструкциями по изготовлению пороха и обращению с пушками.
— Будет лучше, если эти тайны останутся в ваших руках, — сказал он. — Если этот сброд, — он имел в виду англичан, — доберется до них, один лишь Перводвигатель ведает, что произойдет с миром.
— Что ж это были за тайны? — спросил я как можно спокойнее и вежливее.
— Ах, дорогой мой Ма-Ло, я гадаю порой, каков источник твоей любознательности, твоей готовности день за днем слушать мою надоедливую болтовню. Неужели это и в самом деле лишь великодушие по отношению к старику, или у тебя есть и другие мотивы? — Он отпил глоток лимонада. — Ладно, я тебе отвечу. Наиболее важны три момента. Во-первых, наилучшая пропорция, в какой следует смешивать ингредиенты пороха, а именно: на сто частей должно приходиться семьдесят пять частей селитры, пятнадцать — угля и десять — серы, а не шестьдесят шесть — двадцать три — одиннадцать, как принято повсюду. Еще важнее второй момент. Чтобы, составляющие пороха не отделялись друг от друга, нужно тщательно перемешать их, затем смочить так, чтобы они превратились в единую массу, а затем высушить. Паста засохнет гранулами, и каждая гранула будет содержать все составляющие точно в той же пропорции, в какой они были изначально. В-третьих, Бэкон придумал способ извлекать селитру из гниющих растений. Были там и менее важные указания, но я не буду утомлять ими твой слух. Скажу лишь, что в последних столкновениях с отрядами султанов наемная артиллерия императора Виджаянагары показала дальность стрельбы, на сотню шагов превышающую возможности вражеских орудий. Нет, больше я ничего говорить не стану. Позволь мне завершить мою повесть. Все вопросы задашь потом.
Ума сидела, сложив руки, словно чашу, на коленях и загадочно улыбаясь. Али продолжал рассказ.
Как я уже сказал, самым печальным событием этого путешествия для меня стал миг расставания с братом Питером. Мы провели вместе больше года. Я пытался уговорить его остаться с нами, вместе с нами вернуться в утраченный рай, в Небесный град на земле, в Град Победы, в Виджаянагару.
— Я бы с радостью, но, сколь бы чудесной и замечательной ни была эта страна, как бы ни были довольны своей жизнью ее обитатели, я всегда буду там чужаком.
— Питер, я всю жизнь был чужаком, у меня даже нет родины. Что ж тут такого?
— Вот именно. Ты к этому привык, а я привык к двум зданиям монастыря, к моей библиотеке и рыбному пруду, к моей кошке. Я привязан к английским сельским пейзажам, я каждое лето отправляюсь в путь по этим дорогам и проповедую, уча людей тому, что узнал и обдумал за долгие зимние месяцы. Однообразная жизнь, но достаточно насыщенная и отнюдь не скучная. Я уже слишком стар, и мне поздно меняться.
Мы обнялись, потом он отстранился и сказал:
— Я буду скучать по тебе, Али. Я многому научился от тебя. Самое главное — среди магометан и буддистов и народов иных религий, как и среди нас, христиан, живут люди, приверженные более зрелой, мудрой и глубокой религии, религии бытия, а не ожидания загробного блаженства, жизни, а не смерти, радости, а не боли. Прекрасно, что в разных местах мира существуют подобные общины и что каждый…— он запнулся, подбирая слово, — каждый атом отделен от других. Нас немного, но мы можем протянуть руки и дотронуться друг до друга. Когда-нибудь это учение распространится по всей земле, и тогда она сделается лучше. Черт побери, я опять принялся за проповедь. — Тут он снова обнял меня. — Спасибо за все, Али.
Он дернул за веревку колокольчика, висевшую на стене у наружных двойных дверей. Мы отчетливо слышали, как он зазвонил внутри.
— Ну же, ступай.
Я вернулся к друзьям, которые успели уже пересечь реку по отстроенному заново мосту. Один раз я оглянулся. Питер все еще стоял у двери — до боли знакомая приземистая, коренастая фигурка. Он помахал мне вслед, поднял руку и еще раз, уже решительней, дернул за веревку колокольчика. Дорога, вслед за рекой, делала здесь крюк, я свернул, и Питер скрылся из виду.
Али смахнул с ресницы, слезу.
— Его уже поджидали люди епископа. Они сожгли его через месяц, примерно за неделю до нашего отплытия.
Казалось, даже сад на миг затаил дыхание. Потом кошка пошевелилась, пичужка перепорхнула с одного карниза дома на другой. Вновь зажурчал фонтан, и Али, вздохнув, продолжил рассказ.
Как только мы добрались до Лондона, мы первым делом отправились на южный берег Темзы на поиски судна, которое бы доставило нас к северному побережью Африки или, по крайней мере, в Средиземное море. Нас оставалось всего трое, почти без багажа, так что мы легко нашли каравеллу, собиравшуюся на днях отплыть с грузом тканей и слитков меди.
Почти без багажа? Меньше проблем? И тут князь вспомнил про свои проклятые арбалеты, о которых он уже год как не думал. Я впервые услышал ссору князя с Анишем. Они спорили о том, остались ли эти чертовы штуки в доме олдермена Доутри или последовали за ними в Тауэр. Впрочем, это не имело значения: ни в том месте, ни в другом их уже давно не было. Мы потратили неделю, пока не напали на их след: нам пришлось ехать в Клеркенуэлл-Филдс, по ту сторону городских стен, в лагерь йоркистов, и там мы обнаружили отряд солдат, которые практиковались в стрельбе из арбалетов — тех самых арбалетов — под командой генуэзского сержанта-наемника. Вернуть их нам никому бы и в голову не пришло, это оружие уже показало себя в битве при Сент-Олбансе, когда пушки отказались стрелять.
Вскоре выяснилось, что без своего драгоценного оружия князь Харихара отказывается возвращаться домой. Мы выпросили аудиенцию в Бэйнард Касле, у нашего Эдди; он уже чувствовал себя королем, он уже переменился, нет, он не сделался заносчивым, но он был страшно занят, страшно озабочен делами, и мы смогли добиться от него лишь обещания, что нам вернут все драгоценные экземпляры до единого, как только с королевой будет покончено и змее раз и навсегда отсекут голову. Через день-два войско Эдди должно было выступить в поход на север.
— Это все замечательно, — вздохнул князь, выходя из Бэйнард Касла и бредя в гостиницу по Темза-стрит. — А что, если победит королева? Мы едем на север вместе с ними — я решил.
Мы пытались его отговорить, убедить расстаться с арбалетами, но он ни в какую: это оружие составляет ядро уникального собрания, заявил он. Мы с Анишем пригрозили, что останемся в Лондоне, и пусть он сам гоняется за своей коллекцией, но на это князь ответил, что отдаст все оставшиеся у нас рубины и даже оба корунда, только бы воротить арбалеты, и, чтобы предотвратить подобное безумие, мы сочли необходимым присоединиться к нему.
Таким-то вот образом мы попали на поле жесточайшего сражения, какое мне доводилось видеть. Но пусть сперва Ума поведает нам о том, что тем временем происходило с ней.
Глава сорок девятая
Как вы помните, я осталась у подножия креста на рыночной площади Херефорда, оплакивая утраченную любовь, мою погибшую любовь.
Эдди узнал меня сразу же, как и я его.
— Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, — с этими словами он протянул мне руку в железной рукавице.
Я поглядела еще раз на голову Оуэна. Она стала совсем седой, тяжелой, как свинец. Лишь узкие полоски белков виднелись между сомкнутых век. Волосы сделались реже, чем были, когда эта голова покоилась на моей груди, когда я перебирала пальцами эти пряди. Холод и оцепенение смерти оставили на губах застывшую, почти непристойную усмешку. Это уже не Оуэн Тюдор, это неодушевленный предмет. Пусть они делают с ним, что хотят, — мне он больше не принадлежит. Я задула немногие еще горевшие свечи, поднялась и тут только ощутила, как мне холодно. Я поплотнее натянула на плечи шаль, но это не помогло я тряслась, точно осиновый лист на ветру.
Я сделала пару шагов вслед за Эдди, затем свернула и пошла в противоположном направлении. Меня нагнала одна из женщин, помогавших мне устанавливать свечи, она отвела меня к себе домой. Ее звали Гвиннеда. Гвиннеда была вдовой рыцаря, погибшего в одной из прежних битв. Она предпочитала жить в городе — так было безопаснее, чем оставаться в пограничной марке, где ее мужу принадлежала усадьба, больше похожая на маленькую крепость.
Гвиннеда уговорила меня съесть кусочек сухаря, размоченного в горячем молоке, и уложила в свою постель. Увидев, что я не могу заснуть, она подошла и присела на край кровати.
— Почему ты помогла мне зажечь свечи? — спросила я. — И те женщины тоже?
Гвиннеда помедлила, потом открыла ларец, задрапированный красивой тканью, вынула пяльцы и принялась вышивать, одновременно продолжая беседу.
— Оуэн ап Маредудд ап Тьюдир был Колдуном. Он был королем. Он был повелителем всей Британии и первосвященником древней религии. Никто в королевстве не мог похвастаться столь благородной кровью, как у него. Оуэн был прямым потомком первых королей нашего народа, тех, кто пришли сюда с бронзовым долотом, с боевыми топорами, тех, кто умел обрабатывать золото и медь. Первым нашим королем был Брут, внук Энея, сына троянского Приама, прародителя римского народа. Мы — императорской крови.
— Значит, ты тоже принадлежишь к этому роду?
— Да. Я его кузина.
Я внимательней пригляделась к этой женщине, в которой сперва не заметила ничего необыкновенного. Гвиннеда была среднего возраста, ей давно миновало сорок, на лице пролегли морщины скорби, груди опустились, бедра раздались. Она уже не могла привлечь мужского взгляда, но я видела в ней огонь, и страсть, и достоинство, сдержанную силу, столь присущую женщинам — они будут бороться, даже когда не остается никаких надежд на победу, будут стараться выстоять и помочь другим, тем, кто еще пытается противостоять жестокости жизни и людей.
— Почему ты решила мне помочь? Ты навлекаешь на себя опасность.
— Ты — Цыганская Мария. Мы слышали о тебе еще до твоего прихода, мы знали о твоем путешествии по окрестностям Ковентри, о суде над тобой, о чудесах и знамениях. Конечно, эти истории обычно сильно преувеличивают.
Она слегка улыбнулась мне заговорщической улыбкой. Так переглядываются маленькие девочки, узнавшие то, что хотели скрыть от них взрослые.
— Ты Цыганская Мария и ты была возлюбленной Оуэна. Для нас этого достаточно. Еще мы надеялись, что он успел одарить тебя ребенком. Твой сын мог бы стать предводителем британцев, всех племен, обитающих к западу от Северна и Ди, — он был бы лучше, чем его зануда внук.
Но мне пришлось ее разочаровать. Я никогда не забывала применять те средства, которыми женщины пользуются, чтобы предотвратить зачатие, и кровь на моей юбке была не кровью Оуэна, как она, быть может, подумала, а вовремя пришедшими месячными.
— Не важно. Руны говорят, что благодаря тебе потомки Оуэна вновь будут править страной. Это уж наверное, лишь бы ты приняла судьбу, уготованную тебе богиней.
Я как следует обдумала ее слова и решительно поднялась с постели.
— Я должна вернуться к Эдди — только так я сумею повлиять на ход событий. Ты должна мне помочь.
Когда я повернула назад, демонстрируя, что не стану следовать за ним, Эдди даже головы не поворотил. Было бы глупо разыскивать его — пусть он сам наткнется на меня. Разумеется, для этого требовалось оказаться на его пути, но так, чтобы он мог считать себя охотником, а меня добычей.
Устроить это было несложно. Все знали, что Эдди вот-вот отправится в Лондон, вернее, в Сент-Олбанс, на помощь Уорику и по пути остановится в Глостере, где его дожидались только что набранные войска. Из Херефорда в Глостер вели две дороги, одна через Россон-Уай, вторая через Ледбери. Армия должна была разделиться на два отряда, нам оставалось только узнать, какой маршрут выберет Эдди. Гвиннеда раздобыла для меня пони и послала со мной слугу, чтобы тот указал мне дорогу. Защитить меня от врагов он бы вряд ли смог — ему было по меньшей мере пятьдесят лет и он едва ходил, хотя в седле держался неплохо. Всех мужчин помоложе давно забрали на войну.
Мы добрались до лесистого холма над рекой Уай, я спряталась в зарослях, и старик привязал меня к серебристому стволу березы, единственному дереву, росшему в этих кустах. Как и подобает королю, Эдди скакал на коне во главе своих солдат, мы издали услышали стук копыт, грохот доспехов, скрип колес и телег на другой стороне реки, потом они добрались до нас, и старик, пропустив два десятка рыцарей, ехавших перед королем, выскочил на дорогу прямо перед носом у Эдди. Один из телохранителей чуть было не снес ему голову мечом, но придержал руку, услышав его вопль:
— Госпожа! — голосил мой слуга. — Госпожа там, в чаще. На нее напали трое негодяев. Помогите, помогите! — и все такое прочее.
Эдди, конечно, теперь король, но в душе он еще мальчишка. Он пришпоривает Генета, перелетает через канаву, обнажив меч, едва не проносится мимо меня, но тут низко нависшая ветка срывает с его головы золотой ободок, который он носит поверх лишенного забрала шлема, и Эдди вынужден остановиться.
— На помощь! — кричу я, и Эдди, пробившись через заросли, обнаруживает меня. Он взирает на меня сверху вниз.
— Итак, госпожа Ума, теперь ты уже не столь высокомерна.
— Я и не была высокомерна, милорд, — отвечаю я, выставляя напоказ грудь. Я предусмотрительно разодрала на себе платье, и теперь грудь почти обнажена и слегка кровоточит я умышленно оцарапала ее веткой. — Я печалилась.
— И все еще печалишься?
— Об Оуэне Тюдоре? О нем — нет.
— Тогда о ком?
— О гибели рыцарства. Иначе я бы не стояла тут привязанная к дереву перед юношей, которому следовало бы лучше знать, что нужно делать.
Он расхохотался. Он понимал, что я пустилась на хитрость, но он хорошо помнил, как прижимался ко мне на корабле по пути из Кале в Дувр и в Лондон, он помнил ночи на чердаке в доме олдермена Доутри, и когда его телохранитель подъезжает поближе, Эдди уже спрыгивает с коня и отвязывает меня, приговаривая, что, насколько ему известно, я вполне могла бы избавиться от этих веревок и сама.
— Но, милорд, эти двое грубиянов запугали меня до смерти.
— Твой слуга говорил — трое, — и он снова хохочет.
Ночью в Глостере мы вернулись к тому, что так грубо прервали более года назад лорд Клифорд и лорд Скейлз.
Я доставила ему наслаждение. О, я доставила ему наслаждение. Будь я мужчиной, все еще помнящим об утраченной им любви, мне бы не удался этот обман, но для женщины изобразить экстаз не проблема это вам любая шлюха подтвердит, — и еще этой ночью я вновь покорила его.
Я не мог более совладать со своим любопытством.
— Госпожа Ума, — спросил я, — какие уловки вы пустили в ход, чтобы покорить молодого принца?
Ума спокойно и надменно встретила мой взгляд.
— Ма-Ло, англичане ничего не смыслят, в тех многообразных удовольствиях, которые женщина может доставить мужчине в постели. Достаточно было пососать его петушок и вставить палец ему в зад. Зато я была уверена — в этом отчасти и состоял мой план — что, когда я покину его, он не женится, покуда не найдет себе женщину,способную на эти, как ты их называешь, уловки.
— Он сумел ее найти?
— Разумеется. Мне нет нужды специально справляться об этом, я и так знаю. Он вступил в тайный брак со мной, когда я пригрозила лишить его этих и более утонченных радостей. Поняв, что я уже не вернусь, он вновь сделает то же самое. Полагаю, что следующей женой станет, если еще не стала, некая Элизабет Вудвил, поразительно красивая женщина по местным понятиям, ее волосы цветом напоминают белое уэльское золото. Она не принадлежит к знати, над ее родственниками, как вы помните, издевались в Кале Эдди и Уорик, она стала вдовой после того, как ее муж пал при Сент-Олбансе, сражаясь на стороне королевы. Эта женщина станет причиной многих бед.
В голосе Умы звучала ликующая уверенность.
— Откуда ты знаешь? — усомнился Али.
— Будь спокоен, знаю.
— И ты вышла за него замуж?
— Что тебя так удивляет?
Когда мы добрались до Лондона, Эдди поселил меня в Бэйнард Касле, большом, похожем на крепость замке, расположенном там, где сходятся река и западная стена города. Бэйнард Касл уже несколько десятилетий принадлежал его семье, и теперь Эдди жил в нем по-царски, принимая посольства, словно на него уже возложили корону, он отменял налоги и лишал иноземных купцов прежних привилегий, а для пополнения казны занимал деньги у горожан. Эдди созвал парламент, и парламент провозгласил его законным наследником короля Ричарда Второго, а всех троих Генрихов, потомков Джона Гонта, герцога Ланкастерского, объявил узурпаторами.
Лорды готовы были тут же короновать Эдди, но он отказался. Тем не менее он восседал во время официальных церемоний на троне в Вестминстерском аббатстве, а перед ним держали королевские регалии. Он говорил, что не желает совершать церемонию помазания на царство, пока не отомстит за смерть отца и надругательство над его телом.
О моем существовании знали лишь ближайшие друзья Эдди, но скоро мне наскучило таиться в тени. Тогда я отказала Эдди в своих милостях. Он спросил, чего я хочу от него, и я заявила, что хочу официального признания, хочу стать королевой. Эдди возразил, что не отважится на этот шаг, пока не покончит со своими противниками, — ведь подобная дерзость лишит его поддержки самых могущественных магнатов, быть может, отпугнет даже графа Уорика.
Я согласилась с его доводами, но настаивала, что ради моей безопасности и для удовлетворения моего самолюбия он должен вступить в тайный брак со мной.
Но как это осуществить? Кто совершит обряд?
Решить эту проблему было несложно. Эдди приставил ко мне двух служанок, и я послала одну из них за братом Абрахамом из церкви Святого Венета и примыкающей к ней церкви Святого Панкраца. Мы немного покумекали, и все сладилось. Брат Абрахам соединил нас узами брака по христианскому и по более древнему обряду в самом чтимом, самом святом месте города. Затем мы вернулись в Бэйнард Касл, и тогда я извлекла тампон из губки, пропитанной маслом и уксусом.
— Так эти мальчики, близнецы, которые играют в дальней комнате дома, пока мы тут беседуем, они…
— Да, Ма-Ло. Они родились в Египте, когда мы возвращались домой. Али еще расскажет об этом.
— Значит, когда король Эдуард умрет, один из них станет королем Ингерлонда?
— Такой судьбы я бы никому не пожелала. Быть может, спустя века, если эти варвары, обитающие на краю света, несколько цивилизуются, кто-нибудь из моих потомков и согласится на это. Но мне надо поскорее закончить свой рассказ, детям уже пора домой.
Я поехала на север вместе с армией Эдди. Мы ждали битвы со дня на день, Эдди боялся за меня, и только это выдавало, что он не вполне уверен в исходе сражения. Он оставил меня в замке Понтефракт, и там я нашла себе союзника в лице мальчика лет восьми или девяти. О нем я хотела вам рассказать: он и Элизабет Вудвил вот орудия моей мести. Благодаря этим двоим я обеспечу воцарение Тюдоров в Ингерлонде.
У Эдди двое младших братьев. Он боялся надолго расставаться с ними, поскольку многие вельможи во время войны переходили с одной стороны на другую, и казалось вполне вероятным, что, если оставить мальчиков в Лондоне, при известии о победе королевы, даже при ложном слухе о поражении Эдди кто-нибудь мог расправиться с ними, чтобы заслужить ее благодаря
ность. В итоге мальчики пребывали вместе со мной в Понтефракте. Старшему, Джорджу, исполнилось двенадцать лет, это был легкомысленный, веселый парнишка, его ничего не стоило сбить с толку. Нет надобности о нем говорить. Я использовала другого, и он когда-нибудь отомстит за смерть Оуэна.
Этот мальчик — калека, он изувечен не только телесно, но и душевно. Одна нога у него длиннее другой, на спине растет горб. Мне кажется, что он почти все время страдает от боли. Подобные испытания уродуют душу. Правда, он довольно силен для своего возраста.
Накануне битвы я повстречалась с обоими мальчиками в саду. Мы провели там вместе короткие солнечные часы.
Джордж был занят своим делом, он подбрасывал мячик и ловил его в специальную чашу, игра полностью поглощала его. Младший брат сидел на скамье, и я устроилась рядом с ним. У него на поясе висел какой-то мешок, этот мешок двигался, извивался, словно внутри было что-то живое, отчаянно пытающееся выбраться.
— Что это у тебя там? — поинтересовалась я.
— Крольчонок, — ответил он. — Мой пес поймал его нынче утром. Они такие глупые, пока маленькие, — он решил, что собака хочет с ним поиграть, и даже не пытался убежать.
Должно быть, оцепенел от страха, подумала я, но вслух свои мысли высказывать не стала.
— Что ты собираешься делать с ним?
— Оторву ему ноги. А может, начну с ушей.
— Прямо живому?
— Почему бы и нет?
Я пожала плечами. Он принял это за вызов и тут же исполнил свою угрозу: зажал в каждом кулаке по уху и рванул их в разные стороны. Кролик истошно завизжал. Этот мальчик и впрямь чрезвычайно силен. Одно ухо наконец поддалось. Крольчонок чуть было не вырвался, но мальчик ухватил его за задние лапы и оторвал их. Кажется, его несколько заинтересовали половые органы зверька. Наконец он разделал кролика на несколько частей. Куски окровавленного мяса еще подрагивали, словно их не вполне покинула жизнь.
— Вот что палач делает с приговоренными за государственную измену, — промолвил он.
— Ты. отводишь глаза, Ма-Ло? Мой рассказ огорчил тебя? Не забывай, я служу не только Парвати, но и Кали.
И под моим растерянным взглядом красавица пальцами оттянула вниз уголки глаз, раздвинула губы в омерзительной гримасе, высунула язык, постаравшись, чтобы он выглядел совершенно плоским, и яростно задвигала им из стороны в сторону. Я содрогнулся, а она расхохоталась и вновь стала прежней Умой.
— Итак, — заговорила я вновь, когда мальчик отшвырнул в сторону кровавые ошметки, —
твой брат теперь король. А ты хочешь стать королем?
Он во все глаза уставился на меня, вертя на тонком пальце кольцо:
— Конечно. Я стану королем, когда Эдди умрет.
— А если Джордж еще будет жив?
— Очень сомневаюсь.
— Ты станешь королем даже в том случае, если у Эдди родятся сыновья от какой-нибудь леди, на которой он женится?
Он только плечами пожал.
— Я буду королем, — повторил он.
Туча закрыла солнце, и стало прохладно. Я поднялась со скамьи.
— Как тебя зовут? — спросила я.
— Ричард[158], — ответил он.
Я почувствовала в нем властную силу, а ведь он еще совсем мальчик. Я посмотрела еще раз на останки кролика.
— Это знамение, — произнесла я, ласково ероша волосы Ричарда и думая о том, что, когда это чудовище опротивеет англичанам, они посадят на трон внука Оуэна.
— Прекрати! — приказал он мне и повторил в третий раз: — Да, я буду королем.
Глава пятидесятая
«Дорогой брат,
в силу не зависящих от нас обстоятельств мы были вынуждены вновь отправиться на север Ингерлонда, в небольшое местечко Тоутон, где мы стали свидетелями…»
— Погоди минутку, почему он так пишет? Какие еще «не зависящие от нас обстоятельства»? Что это значит?
— Он просто не хотел признаваться, что гоняется по всему Ингерлонду за своими драгоценными арбалетами.
— Почему?
— Почему? Мы уже прежде говорили об этом. Император советуется по всем духовным вопросам с буддийским монахом и потому не одобряет увлечения Харихары оружием и охотой. Он полагает, что родичи во всем должны следовать его примеру…
«…где мы стали свидетелями всех ужасов битвы между двумя большими армиями. Я намерен как можно подробнее описать это страшное событие, чтобы мы могли извлечь из него нужные нам сведения. В армии королевы насчитывалось примерно пятьдесят тысяч человек, их возглавлял герцог Суффолк, кроме того, многие вельможи и лорды вели собственные отряды. Солдат набирали повсюду, с северной оконечности Ингерлонда до южной. Войско короля Эдуарда было несколько меньше, около сорока тысяч человек. Оба войска вместе представляли собой примерно пятидесятую часть населения страны. У обеих сторон имелась кавалерия, в том числе тяжеловооруженная, и лучники. У короля Эдуарда был также небольшой отряд арбалетчиков, причем некоторые воины располагали поистине замечательными образцами этого вида оружия. Были у обеих сторон тяжелые пушки и ручные маленькие пушки, называемые „озорницами“.
Армия королевы стояла в Йорке, крупнейшем городе на севере страны. Там пребывала королева Маргарита со своим отвратительным сынком и супругом. Король Эдуард приближался к Йорку по Лондонской дороге. Примерно в двадцати четырех милях от Йорка Лондонская дорога пересекает небольшую, но имеющую стратегическое значение реку Эйр возле селения Феррибридж. Мост был разрушен большим отрядом во главе с лордом Клифордом, отец Эдуарда убил отца этого лорда, а сам Клифорд убил брата Эдуарда после битвы при Вейкфилде.
Йоркисты попытались построить понтонный мост, но подверглись нападению со стороны королевы. В жестокой битве Эдуард проявил несомненные таланты полководца. Не следует забывать, что ему всего восемнадцать лет, в этом возрасте и Александр одержал свою первую победу. Эдуард послал подкрепления в бой за мост — менее решительный военачальник не отважился бы упорствовать — и одно крыло войска направил к западу, к местечку Каслфорд, где можно было пересечь реку. Клифорд, устрашившись этой угрозы, отступил в болота. Там завязалась жестокая битва. Изнемогая от усталости, Клифорд отстегнул нижнюю часть шлема, чтобы немного передохнуть, и тут же был поражен стрелой. Он умер в тяжких муках, чему король Эдуард весьма радовался.
Все это произошло в двадцать восьмой день марта, в сильный мороз и ужасную вьюгу.
Авангард королевы повернул обратно и соединился с основными силами, достигшими к тому времени Тэдкастера, примерно в десяти милях к юго-западу от Йорка. Возле деревни Тэдкастер дорога, соединяющая Тэдкастер и Феррибридж, начинает петлять среди холмов, местность начинает опускаться, переходя в подковообразную долину шириной в несколько сотен шагов, а западную часть долины замыкает извилистая речушка Кок Бек («бек» означает «узкая речка»). Берега этой реки поросли лесом, местами довольно густым. Южная часть леса приходится на излучину реки и именуется Касл-Хилл-Вуд, а северная часть, там, где долина сужается и края ее становятся почти отвесными, известна как Реншо-Вуд.
Эти леса сыграли немалую роль в картине сражения. Сомерсет спрятал несколько тысяч человек в Касл-Хилл-Вуде, и они, выйдя из засады, в критический момент атаковали левый фланг йоркистов, ударили им в тыл, едва не решив исход битвы в пользу королевы. При этом лес Реншо и ущелье, где он растет, прикрывали левый фланг и тыл Сомерсета, но затем они превратились в смертельную ловушку для многих тысяч человек.
Не думай, дорогой брат, что ландшафту, который я пытаюсь описать, свойственна хоть малая толика величия. Горы здесь низкие, они возвышаются не более чем на сотню футов над долиной, и вплоть до Реншо-Вуд довольно пологие. Склоны их покрыты дерном, и там пасутся овцы, нигде не обнажена скальная порода. Деревья тоже приземистые, самые старые не достигают и сорока футов в высоту, а обычно их высота не превышает пятнадцати футов, зато по краям леса окружены зарослями колючек.
Эдуард мог вступить в битву в тот же день, ближе к вечеру, но пять тысяч человек из его войска под командованием заболевшего герцога Норфолка отстали на дневной переход, и он решил дождаться утра.
На следующий день был праздник, христиане именуют его Вербным воскресеньем в память того дня, когда Иисус торжественно въехал в Иерусалим за пять дней до своей казни. В нынешнем году этот праздник пришелся на двадцать девятое марта. Мне говорили, что обычно в это время года, через неделю после равноденствия, можно уже надеяться на относительно теплую погоду, в полях появляются маленькие желтые цветочки, деревья начинают покрываться зеленью, но я не видел никаких примет весны, и хотя трава в долине была зеленой и сочной, царил жестокий мороз и большую часть дня с юго-востока дул свирепый ветер, принесший нам снежную бурю.
Армии стояли на расстоянии выстрела из лука, то есть примерно в двухстах пятидесяти шагах друг от друга. Едва пробился дневной свет, лорд Фальконбридж, командовавший левым флангом короля, несмотря на снег и плохую видимость приказал своим лучникам выступить вперед и выпустить по стреле. Я уже рассказывал вам о мощи этого грозного оружия. На большом расстоянии шлемы с крепким забралом и нагрудные панцири могут отразить эти стрелы, однако ни кольчуга, ни шлем без забрала не защитят от них, а на близком расстоянии они пробивают стальную броню. В данном случае один лишь выстрел пяти тысяч лучников причинил заметный ущерб лучникам королевы, и те принялись стрелять в ответ вразброд и без команды, пока их колчаны почти не опустели.
Однако снег мешал им разглядеть, что их стрелы примерно на сорок ярдов не долетают до цели. Затем лорд Фальконбридж приказал своим лучникам переместиться вперед, и с еще более близкого расстояния они обстреляли армию королевы, причем пополнили запасы стрел за счет тех стрел, что были выпущены противником и остались лежать на траве. Лорд Нортумберленд, командовавший этим флангом в войске королевы, послал тяжеловооруженных бойцов в атаку, не желая, чтобы они продолжали бессмысленно погибать под градом стрел. Лучники Фальконбриджа укрылись за рядами своих тяжеловооруженных воинов, и завязалась рукопашная битва.
Хотя первоначально успех был на стороне Фальконбриджа, постепенно войска королевы благодаря преимуществу в численности стали брать верх. Долгое время исход битвы был не определен, сражение отличалось исключительной жестокостью. Обе стороны клялись истребить всех вельмож и дворян, которые попадутся им в руки, — таков здесь обычай, но Эдуард приказал не щадить и простолюдинов, сдавшихся в плен или изнемогших от ран. Он объявил, что гражданские войны слишком затянулись и нужно положить им конец одним ударом.
Люди сражались, пока не падали замертво или изнуренные ранами. Бой распался на множество поединков, воины бились один против одного, или двое против одного, или двое против двоих, при этом они все время перемещались и вступали в новую схватку, отчего возникало впечатление, будто в передних рядах большая масса воинов сражается против такой же массы противника, однако на самом деле это все были отдельные поединки. Тем самым преимущество оказывалось на стороне той армии, которая могла выставить на поле боя больше крепких и хорошо вооруженных мужчин, обладающих воинскими навыками и притом уверенных не только в победе, но и в поживе. Гражданские войны продолжались в этой стране уже несколько лет, им предшествовало сто лет походов против французов, так что в обеих армиях имелось значительное ядро профессиональных, хорошо обученных воинов, подобравших себе в результате множества победоносных стычек оружие по руке и надежную броню.
Эти воины были закованы в доспехи с ног до головы, от круглых шлемов с забралом до обуви, покрытой металлическими пластинами. Они, как правило, обходились без щитов, поскольку щит неудобен в обращении, оставляет открытой одну сторону тела и занимает левую руку, а эту руку можно использовать, чтобы обеими руками управляться с мечом длиной в пять футов и шириной в фут, или с двойным топором, или с шипастой булавой, или со странным оружием, состоящим из цепи и ядра, или с пикой, имеющей лезвие, острие и крюк.
Часть воинов восседали на боевых конях, но лошади быстро уставали, передвигаясь по неровной местности под тяжким весом брони, к тому же по ним били стрелами лучники. Командующий отрядом тяжеловооруженных бойцов — скорее всего, он их сам и набрал — оставался сидеть верхом, чтобы подчиненные издали видели его самого и его знамя, верхами ехали и окружавшие его воины, в основном его родичи и приближенные: они служили ему телохранителями и курьерами, носясь по полю битвы от него к командующему флангом и обратно. Но остальным приходилось спешиваться, кавалерию редко посылали в атаку на вражеские ряды, поскольку тяжеловооруженная пехота, укрепившись на местности, защищенной частоколом, или просто выставив перед собой пики, могла опрокинуть такой отряд. Всадники вступали в дело, когда наступала пора преследовать разбитого врага или если требовалось внезапно напасть на фланг противника, уже теснимого спереди, и так далее.
Все эти сведения могут пригодиться в сражениях против кавалерии султанов. Хорошо обученная тяжеловооруженная пехота может дать больше, чем попытка выставить всадников против всадников.
Вернемся к описанию битвы. Закованные в доспехи воины редко погибали непосредственно в поединке их защищала броня, однако всякий, кто падал наземь под градом ударов, не выдержав натиска противника или просто поскользнувшись на кровавом снегу, находился в смертельной опасности, и его спасение зависело от удачи или неудачи его товарищей. Если его сторона брала верх, другие воины, продвигаясь шаг за шагом вперед, проходили мимо упавшего, и он оказывался в задних рядах, где ему оказывали помощь — иной раз всего-то и требовалось, что поднять эдакую черепаху на ноги и снова втолкнуть в бой. Однако если удача была на стороне противника, а друзья упавшего воина отступали, он вскоре оказывался посреди врагов, которые первым делом обрушивали на него крепкие удары, круша его броню и ломая кости. Еще несколько ярдов — и враги уже готовы были потратить несколько минут, чтобы расстегнуть доспехи в паху или под мышкой и прикончить несчастного ударом кинжала; был и другой способ — протиснуть острие сквозь решетку забрала. С погибшего снимали доспехи и все ценности, какие он имел при себе. Это происходило или в тот же момент, или позже, когда битва была завершена и трупы сотнями и тысячами сбрасывали в общую могилу.
Отсюда следует, что всякий тяжеловооруженный воин, вступая в битву, хорошо понимал, что его судьба полностью зависит от того, чья сторона первой отступит. Отступление влекло за собой разгром и гибель. Страх поражения становился не менее сильным стимулом для ожесточенной бойни, чем желание победить. Как только отряд воинов проникался уверенностью, что они начинают отступать, то есть падение означает неминуемую смерть, ими овладевало непреодолимое желание повернуться и бежать, опережая товарищей, но прежде, чем обратиться в бегство, они бились как разъяренные дьяволы, стремясь любой ценой предотвратить такой исход.
Есть еще две причины, не позволяющие воинам при малейших признаках опасности спастись бегством. Во-первых, речь идет об их репутации. Оказаться в числе первых, удравших с поля битвы, означает навлечь на себя бесчестие, с большой вероятностью также и жестокое наказание, беглеца постигнет всеобщее презрение, со стороны как мужчин, так и женщин, он лишается армейской службы и жалования и едва ли сможет найти себе другое место; словом, его ожидает одиночество и отверженность. С другой стороны, спастись могут только те, кто удерут первыми, остальным бежать нет никакого смысла.
Вторая причина, удерживающая тяжеловооруженных воинов от бегства, заключается в самом их вооружении. Внутри этих доспехов, в клетке шлема с опущенным забралом, человек превращается в машину, в предмет, лишенный совести, жалости, сдержанности, это механизм, сражающийся против других механизмов, чьих лиц он не может разглядеть. Охваченные безумием битвы, они убивают, убивают, убивают, до тех пор, пока сами не падают замертво или пока в поле зрения не останется ни единого врага.
Разумеется, этот способ сражаться заметно отличается от тактики, применяемой на поле боя нашими воинами-дравидами. Легковооруженные, гораздо более приспособленные физически к бегству, чем к владению громоздким и тяжелым оружием, помня о семьях, чье благополучие полностью зависит от них, о плодородной почве, ждущей пахаря, они чересчур быстро отступают.
Итак, две армии сошлись вплотную, и поток крови, ужаса, торжества и отчаяния соединил их словно неразрывными узами.
Два действия, совершенных воинами королевы, два совершенно случайных и независимых друг от друга события оказали неожиданное, но весьма существенное влияние на исход битвы.
Во-первых, это касалось Эдди. Эдди находился в центре, и когда он увидел, как надвигаются единым строем войска королевы, он, должно быть, испытал на миг сомнение и страх. Без подкрепления, которое должен был привести старый герцог Норфолк, его армия заметно уступала в численности. Войско королевы уже одержало победу в двух существенных сражениях, при Вейкфилде и Сент-Олбансе, а в Нортгемптоне, где победа осталась за йоркистами, они располагали вдвое большими силами. Но Эдди поступил, как свойственно юношам: он поднял забрало, так что оно нависало словно гигантский клюв над его головой, и помчался вдоль рядов своих воинов, в то время как расстояние между ними и вражеской армией стремительно сокращалось
— Милорды! — восклицал он, и голос его перекрывал звон доспехов и грохот копыт Генета. — Вы явились сюда, потому что захотели сделать меня королем. Вы явились сюда, потому что вот уже шестьдесят лет Альбионом правят подлые узурпаторы. Я — законный наследник. Я — Плантагенет. Бейтесь за меня сегодня, сражайтесь, чтобы избавить от позора и проклятия землю Альбиона, а если вы не верите в правоту моего дела — ступайте, я никого не держу.
Это возымело эффект. Передние ряды — они в основном состояли из вельмож разразились приветственными кликами и ринулись вперед. В этот момент Генет споткнулся, вероятно, ему попала в зад стрела ланкастерского лучника. Эдди рванул удила, заставил коня выровнять шаг, но Генет продолжал метаться из стороны в сторону и вертеться на одном месте. Тогда Эдди выхватил меч, соскользнул наземь и передал поводья своему груму.
— Вперед, ребята! — закричал он. — Сегодня ваш король будет сражаться пешим рядом с вами. Я погибну вместе с вами или с вами останусь жить. Пусть я сгорю в аду, если вам доведется увидеть меня снова верхом на коне или обратившимся в бегство. Когда я сяду на коня, я проеду на нем в ворота Йорка! — И он еще раз взмахнул мечом в воздухе, опустил забрало и повернулся лицом к вражеской армии, приблизившейся уже на расстояние в пятьдесят шагов с криками: «Генрих, король Генрих!»
— А где находились в это время вы? — поинтересовался я.
— На правом фланге йоркистов, чуть в стороне, примерно на середине того склона холма, что спускался от гребня к идущей вдоль этой возвышенности дороге. Над нами и немного впереди стояла пушка. Это был удобный наблюдательный пункт.
— Кстати о пушке. Почему не пустили в ход артиллерию?
— А, как всегда. Скверная погода, шел снег, порох отсырел. И все же пушки сделали свое дело.
— Каким образом?
— Левый фланг королевы двинулся вверх по склону холма. Им и так было нелегко преодолеть подъем, и при этом они все время видели, что прямо на них смотрят жерла пушек. Они понимали, что еще пятьдесят, сорок, двадцать, десять шагов — и они окажутся в зоне обстрела. Они не выдержали и остановились — трудно их за это винить. С этого и началось поражение королевы.
— Как это?
— Погоди, сейчас я тебе расскажу, — Али откашлялся. — Муссон, мать его (прости мне это английское выражение), муссон забивает мне глотку слизью… И вот в течение примерно трех часов, — продолжал он, — я мог наблюдать это кровавое побоище.
— Извини, не мог бы, ты объяснить, почему вы вообще там оказались? — переспросил я.
— Я уже говорил, тебе. Мы пытались заполучить назад арбалеты
— Да, но почему именно в этой части поля?
— Потому что именно там находились арбалеты. Их так и не вытащили из футляров. Отряд, который их нес, сбился с дороги и прибыл из Феррибриджа перед самым сражением.
Князь заметил, как они появились, и повел нас всех поближе к своим сокровищам. Он пообещал сержанту-генуэзцу, отвечавшему за арбалеты, пригоршню рубинов, можно сказать, все, что у нас осталось, при условии, что драгоценное оружие не покинет своей упаковки. Теперь мне можно продолжать?
— Конечно.
Али вновь обратился к лежавшим перед ним бумагам.
«Вдоль всей линии сражения металлические панцири превращались во вместилище сломанных костей, крови, мочи, фекалий, ужаса и нестерпимой боли. Те, кто был закован в доспехи, вряд ли различали воинственные крики своих товарищей и противников, вряд ли слышали даже грохот брони о броню единственным внятным звуком для них оставался вопль их собственной боли. Мне даже казалось, что погибающие испытывают какое-то облегчение, когда падают наземь. Трудно и вообразить себе, как темно там, внутри доспехов, единственный источник света узкая щель или крошечные отверстия в решетке, мечутся перед глазами какие-то смутные тени, на плечи давит страшная тяжесть, топор или меч, обрушиваясь на доспехи, сотрясает вместе с ними все тело. А как в них холодно! Это был морозной день, при такой температуре вода застывает в лед и прикосновение к металлу обжигает так, словно он раскален докрасна. А потом наступает момент паники, когда колени дрожат и подгибаются, и последний, ужасный миг, когда, поверженный ударом врага, воин растягивается на спине, беспомощный, точно опрокинувшийся жук.
Нам довелось увидеть немало отталкивающих сцен. Два человека пытались стащить поножи с погибшего рыцаря, поножи оторвались вместе с ногой, тогда они перевернули металлический раструб и вытряхнули из него плоть, кровь и экскременты. Когда с другого мертвеца сняли шлем, обнаружилось, что он задохнулся в своей блевотине. Обе стороны не собирались брать пленных, а потому тело врага стоило ровно столько, сколько удастся содрать с него, будь то кольцо, найденное среди обломков раздробленных пальцев, или золотой талисман на цепочке, вдавленный стальной броней в грудь.
Повсюду валялись тела погибших в разбитых, изуродованных металлических клетках, а между ними по черной земле, посверкивавшей кристалликами льда, текли реки крови, так что многие оступались, оскальзываясь. Постепенно, примерно через четверть часа, стало ясно, что йоркисты поддаются. У них ведь было меньше людей, и по мере того как погибали передние бойцы, полководцы королевы могли замещать своих павших быстрее, причем сзади на них давила большая масса народа. Однако воины Эдуарда помнили: им надо продержаться; со стороны дороги, шедшей справа вдоль гребня холма, к ним еще до ночи, а то и раньше должна прийти подмога. Вероятно, офицеры королевы тоже об этом знали, и в тот момент, когда силы противников еще казались равными, герцог Сомерсет, тот самый, с которым мы в свое время познакомились в Гиени, возле Кале, возглавил атаку на левый фланг короля Эдуарда, выскочив из засады, таившейся до тех пор в лесу в излучине речки Кок Бек.
Эдуард приказал войскам из резерва прикрыть левый фланг. К сожалению, этот отряд тут же был разбит конным резервом королевы. Солдаты обратились в бегство вверх по течению ручья, в южном направлении, конники королевы устремились вслед за ними, и ни тех ни других нам больше не довелось увидеть. Многие сочли поражение Эдуарда неизбежным, но он продолжал ободрять своих воинов и столь отважно бился рядом с ними, с таким искусством рассчитывал момент, когда следовало послать подкрепление туда, где в нем особенно нуждались, что ему удалось удержать фронт.
Эдуард показал себя истинным полководцем. Юный Александр вряд ли бы справился лучше. Король знал, что главное для него сохранить строй. Если строй сломается — не важно, прогнется ли вовнутрь или выпятится вперед, — это существенно ослабит оборону. Левый фланг Эдди отступал, разворачиваясь лицом к лицу с отрядом Сомерсета, так что Эдди требовалось развернуть и правый фланг и таким образом выровнять ряды. Со стороны правого фланга армия королевы была намного слабее, поскольку воины были утомлены подъемом на холм и устрашены видом пушек. Ему нужно было принудить их отступить хотя бы на пятьдесят ярдов, и он спасен.
Эдуард вновь разъезжал верхом на Генете — вся эта похвальба насчет того, что в следующий раз он сядет на коня, только чтобы въехать в ворота Йорка, была, конечно, пустой бравадой, гораздо важнее было лично убедиться, что все идет по плану. Итак, Эдди галопом подскакал к нам, обдал нас брызгами снега и грязи, залепив Али единственный глаз, и обратился прямо ко мне.
— Гарри-Гарри! — воскликнул он. — Вы можете оказать мне услугу и отплатить добром за все, что я сделал для вас. — Он говорил поспешно, опасаясь, вероятно, что попытка свести баланс взаимных любезностей может оказаться не в его пользу. — Будьте другом, приготовьте арбалеты, и пусть мои ребята пальнут разок по тем ублюдкам.
Не стоило признаваться, что я заплатил сержанту как раз за то, чтобы арбалеты оставались нетронутыми. Я заикнулся было, что это отнюдь не грубое военное оружие, а изящное, изысканное произведение искусства, предназначенное исключительно для церемониала устроенной по всем правилам этикета охоты, но Эдди тут же посулил удавить нас всех нашими же кишками и отрезать нам яйца. Да и стоило ли вступать в пререкания? Солдаты куда охотнее слушались своего короля, чем какого-то чернокожего, путавшегося у них под ногами.
Потребовалось примерно десять минут, чтобы распаковать арбалеты, разобраться, где стрелы от каждого из них, направить арбалеты на врага, а тем временем воины королевы, находившиеся прямо перед нами, приободрились при виде успеха на другом фланге, сообразили наконец, что пушки бездействуют, и отважно двинулись вперед.
Оставалась еще одна проблема: на линии выстрела, между нами и неприятелем оставались ряды йоркистов, примерно пять сотен человек. Эдди помчался к ним, приказал одним лечь на землю, другим бежать прочь, а затем и сам отъехал в сторону на своем жеребце. Я уже начал ощущать азарт боя, я стоял в начале линии арбалетчиков, нацеливавших оружие, поражавшее прежде лишь крокодилов и птиц, я занес свой ятаган над головой и, дождавшись кивка Эдди, резко опустил ятаган.
Арбалеты зазвенели, защелкали, стрелы свистели и пели. Маленькая стрела угодила вражескому вождю точно между в отверстие забрала и воткнулась ему в глаз, а самая большая стрела, из того огромного арбалета, который нужно было взгромождать на спину воину, пронзила со спины насквозь двух йоркистов и пришпилила их к двум стоявшим перед ними противникам. Арбалетчики продолжали стрелять уже без моей команды, и ряды врагов дрогнули, рассеялись и обратились в бегство вниз по склону холма».
Али поднял глаза, оторвавшись на миг от посла-
— Один из беглецов набросился на Эдди и едва не прикончил его своим мечом. К счастью, все это происходило прямо у нас на глазах, и я тут же подоспел на помощь с моим маленьким кинжалом, который я хранил в набедренной повязке под шубой и накидкой. Я прошел хорошую выучку у последователей Горного Старца, и мне не требовалось подкреплять свой дух гашишем — я сразу же воткнул острие между третьим и четвертым ребром этого парня. За это Эдди пожаловал мне после битвы, усадьбу Торни-Хилл в графстве Гемпшир, но я слыхал, что земля там скудная и крестьян мало, так что даже не стал заезжать в те места.
Он потер здоровый глаз и вернулся к письму.
«Итак, события, произошедшие на обоих флангах, привели к тому, что фронт развернулся и теперь ряды противников растянулись уже не по линии восток — запад, а по линии северо-восток — юго-запад, причем гребень холма и дорога оказались в руках йоркистов. Вскоре подоспел отряд герцога Норфолка, они подошли с юга по главной дороге, с ходу врезались во фланг противника и отрезали королеве путь к отступлению по дороге на Йорк и Тэдкастер. Им оставалось лишь бежать в лес Реншо, куда они и устремились всем скопом, в результате чего ущелье превратилось для них в западню.
Река разлилась, последние два дня шел снег, и тут же, едва коснувшись травы, таял, ручейками сбегая в реку и пополняя ее воды. Теперь вместо узкого ручейка по ущелью несся широкий, грозный поток.
Люди натыкались на деревья и кусты, им преграждала путь река и тела тех, кто упал и не мог уже подняться. Они погибали здесь сотнями и тысячами, многие пали от ударов своих же соратников задние убивали передних в тщетной попытке расчистить себе путь. Вода густо окрасилась в красный цвет, даже на следующий день река Уорф, притоком которой является Кок Бек, текла кровью.
По приблизительным подсчетам в этой битве участвовало девяносто тысяч человек, из них двадцать восемь тысяч осталось на поле боя и примерно вполовину меньшее число умерло позже от ран. Нам говорили, что это величайшая из битв, когда-либо имевших место в Ингерлонде, что никто не припомнит такого количества погибших. Сомневаюсь, чтобы подобное число жертв могло в другой раз пасть на английской земле.
И во имя чего? Во имя религии, чтобы навязать другим свою веру — ведь это самая обычная причина, побуждающая людей к подобной бойне? Нет. Чтобы один народ смог покорить другой и присвоить его землю — вторая по частоте причина войн? Тоже нет. Ради поживы, ради добычи, ради золота и рабов, чтобы обогатить свое отечество? Нет, всего лишь затем, чтобы королем мог стать один человек вместо другого, при том что править он будет по тем же законам, тем же самым способом. Можно себе представить, что два человека сошлись в поединке ради такой награды, но просто поразительно, что они сумели призвать к оружию весь народ, повести отца против сына, брата на брата — и все ради столь пустячной цели. Может быть, этому найдутся и другие объяснения, но в одном я уверен: главная причина заключается в том, что англичане любят воевать. Вот и все».
Воцарилось молчание. Потом со стороны пруда донесся какой-то шорох — это кошка Али ухватила маленькую лягушку. Али, хромая, заплясал вокруг нее, вопя, грозясь, размахивая своей палкой, пока кошка наконец не выронила свою добычу и не взлетела на коричное дерево, шипя и огрызаясь. Лягушка, оцепенев от страха, осталась сидеть на гладком камне. Али подобрал ее, осторожно усадил себе на ладонь. С трудом отдышавшись, он пробормотал:
— Вроде бы цела…
И отнес маленькое существо обратно к краю пруда. Лягушка подпрыгнула, хлопнулась брюшком о воду, поплыла. Али снял кошку с дерева, и через минуту они помирились. Кошка, мурлыча, устроилась у него на коленях.
— И это конец вашей истории? — спросил я.
— Не совсем, — пробормотала Ума. — Я ведь тоже поспела к концу сражения. Младший брат Эдди, Ричард, подкупил грума и выпросил себе пони, чтобы поехать на поле битвы. Я последовала за ним. Я нагнала его уже вечером. Ричард прочесывал лес в поисках солдат королевы, валявшихся на земле в своих железных ящиках, но еще дышавших. Найдя кого-нибудь из живых, Ричард просовывал острие кинжала в решетку его забрала, на ощупь отыскивал глаз и, обнаружив его, с силой вонзал свой кинжал. Этому мальчику было всего восемь лет, я же вам говорила. Он станет королем, а потом его свергнет внук Оуэна Тюдора.
— Мы и на коронации побывали, — вставил словечко Али. — Она состоялась в середине июня. Потешное зрелище в самом что ни на есть варварском вкусе. Сперва бесконечная церемония в Вестминстерском аббатстве, монахи завывают, гремят медными кадильницами, очень долго возятся с елеем для помазания, с большой украшенной драгоценностямикороной, со скипетром, державой и всем прочим. Потом столь же бесконечное празднество, повсюду бочки с вином и пивом, похотливые пляски, безумная экстравагантность одежд и украшений — немало драгоценностей им перепало от нас, — и гвоздь программы: публичные казни. Эдди посвятил нашего князя в рыцари за то, что тот помог ему управиться с арбалетами. Сэр Харихара, рыцарь ордена Подвязки. Тоже мне. Приходится носить бархатную ленту вокруг икры, под самым коленом, и звездочку из дешевых мелких бриллиантов. У англичан это считается высочайшей честью, но князь держит знаки своего рыцарскогодостоинства в ларчике с некоторыми другими диковинами, привезенными из Ингерлонда в качестве сувенира. Ну а потом мы отправились домой.
Настала пора уходить. Али утомился. Солнце стремительно опускалось в воды Арабского моря. Ума торопилась уложить детей в постель. Но я понимал, что этот раз — последний, и мне нужно было еще кое о чем расспросить.
— Вы благополучно добрались домой?
— Вполне.
— Приобретя те знания о военном деле, в которых нуждался князь?
— О да. Полагаю, что да. Меня это не слишком интересует, однако могу сказать, что Бардольф Эрвикка теперь командует артиллерией императора, и мы привезли с собой еще четырех молодых людей — рыцаря, пару тяжеловооруженных воинов и лучника. Все они сражались не на той стороне, так что были только рады отправиться в далекое путешествие. Они прийтись здесь ко двору и сейчас обучают солдат
— А что Аниш?
— Процветает. По-прежнему служит управляющим у князя Харихары, насколько мне известно.
Вновь повисло молчание. Потом я спросил:
— Ну а ты, Али? Что ты вынес из этого путешествия? Что получил, кроме вознаграждения, обеспечившего твою старость?
— Я еще тверже убедился, что Горный Старец был прав: истины нет; все разрешено. Все возможно, ничто не имеет значения. И все же…
Али поднялся на ноги, отвернулся от меня, тщетно пытаясь скрыть дрожь в голосе.
— От лучшего друга, какой у меня был когда-либо, я научился иному, лучшему взгляду на мир. Я понял, что признать этот мир нашим домом не так уж тяжко. Если мы найдем в нем самый простойкров, простую одежду, простую пищу, а в придачу лотос и розу, яблоки и вишни, — это лучший дом и для смертного человека, и для бессмертного.
Поздно вечером я спустился в гавань. Солнце уже тонуло в океане. Наутро мне предстояло покинуть Мангалор и побережье Малабара: я купил место на китайском торговом судне для себя и своей жены-дравидки. Мы направлялись на юг, вокруг Цейлона, возвращаясь в цивилизованный мир. Но в тот момент, когда я поглядел на запад и не увидел ничего, кроме черных туч и равнодушных вод, спокойно раскинувшихся под нависающим сводом неба, уходивших к дальним пределам земли, — мне показалось, что путь мой ведет в самое сердце тьмы.
Послесловие
Год спустя Ма-Ло явился в Камбалук ко двору императора Чень-Хуа из династии Мин и представил там свою запись приключений Али бен Кватара Майина. Докладывая о содержании этого манускрипта, он указал, что армия Виджаянагары недавно подверглась существенному преобразованию, причем реформы были направлены на укрепление обороноспособности, а не были подготовкой к завоеваниям. Крепости были усилены так, чтобы противостоять штурму с использованием пороха и пушек; в империи начали изготавливать собственный порох, превосходящий качеством все прочие, кроме китайского; специальные отряды тяжеловооруженной пехоты обучались отражать кавалерийскую атаку. Ма-Ло полагал, что эти изменения позволят империи в ближайшем будущем сдерживать мусульманскую экспансию, однако они не представляют угрозы для расширения китайской империи и распространения торговли.
Что же касается другой части мира, Ма-Ло считал, что из всех королевств Европы разве что Португалия может представлять собой непосредственную опасность для Китая, но даже португальцы, по-видимому, предпочитали организовать мировую систему морской торговли с помощью торговых поселений, нежели добиваться военного господства.
И все же Ма-Ло не сомневался в том, что со временем угрозой для благополучия Китая сделаются англичане. Если Али точно описал этот островной народ, были все основания тревожиться, что, преодолев свои внутренние раздоры, англичане попытаются покорить весь мир. История этого народа, в особенности нормандское завоевание, наделила англичан целым рядом противоположных друг другу качеств, и это обеспечивало им превосходство над всеми народами, какие Али повидал в дальних странах.
— Этот народ состоит из обособленных личностей, — объяснял он, — которые, однако, способны собраться все вместе и сражаться с дикой отвагой, если они питают почтение к своему вождю, это умелые и безжалостные купцы, почти не располагающие собственными природными ресурсами, это бесстрашные моряки, они невероятно заносчивы, они жестоки и беспощадны к врагам. Их не обуздывают ни мораль, ни общепринятые нормы религии, они предпочитают прагматический взгляд на жизнь, приспосабливают свою веру к обстоятельствам и предпочитают мировоззрение, согласно которому каждый человек сам отвечает за свою душу.
Али слышал как-то слова одного англичанина: «Я не указываю другим, как им жить, и пусть мне никто не указывает».
— Они любят бывать в компании, — продолжал Ма-Ло, — порой кажется, что они живут только ради общения с приятелями, похваляясь друг перед другом отвагой и силой и совместно предаваясь простым удовольствиям, главным образом потреблению крепких напитков и примитивному, торопливому сексу. Англичане могут вынести любую пытку, если она продолжается недолго, и они с готовностью идут на смерть, но они не согласны всю жизнь терпеть даже легкую боль или упорно трудиться. Они ненавидят однообразие и скуку.
Они радостно приветствуют представителя иной расы или веры именно как личность, особенно если он придется им по душе, что не мешает им презирать всех иноземцев скопом.
— Это безумцы, — так заключил свой рассказ Ма-Ло, — и однажды они завоюют весь мир.
Послекраткой паузы первый домоправитель императора небрежно махнул рукой с длинными, ухоженными ногтями.
— Но только не Китай, — возразил он.
— Да, — согласился Ма-Ло, — должно быть, так.
Джулиан Рэтбоун
Последний английский король
Но если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, – первейшая их обязанность: вожди сражаются ради победы, дружинники – за своего вождя.
Тацит[159]
От автора
Анахронизмы и историческая достоверность
В этой книге читатель найдет анахронизмы трех видов: первые – те, что допущены не намеренно и о которых я не подозревал, отправляя книгу в печать. Эти ошибки – законная добыча педантов, любителей писать письма в редакцию и проч. Полагаю, эти промахи не столь многочисленны и не столь важны, чтобы испортить удовольствие обычному читателю.
Два других вида анахронизмов допущены совершенно сознательно. «Последний английский король» написан современным языком – это касается и самого повествования, и диалогов. Может показаться, что я захожу чересчур далеко, осовременивая речь героев. Так, древние правители ругаются у меня направо и налево, не хуже нынешних. Впрочем, почему бы и нет? Я вполне уверен, что англосаксонские лорды были столь же вспыльчивы, как и сегодняшние их преемники, и поскольку все они, за исключением Эдуарда Исповедника[160], были весьма грубые типы, почему бы их ругани не звучать в тон всей их речи? Бранную лексику не без оснований возводят к англосаксонским корням, именуя «исконным наречием», так что лишать моих героев столь характерных словечек, как «на хрен» и «дерьмо», было бы вдвойне глупо.
По той же причине я использую современные варианты написания имен. Зачем утомлять читателя, называя короля Канута[161] Кнутом и Винчестер Винтансеастером?
Более спорным может показаться третий вид анахронизмов: персонажи, а порой и рассказчик, используют прямые или скрытые цитаты из более поздних авторов или делают намеки на более поздние эпохи. Этим приемом пользовались самые уважаемые писатели, в частности, Хеллер в романе «Видит Бог». Некоторых это раздражает, мне же – сам не знаю почему – подобный подход нравится, и надеюсь, он кое-кого позабавит. Этот прием, однако, служит и вполне серьезной задаче: охваченные романом события нужно поместить в единый временной континуум, простирающийся как в прошлое, так и в будущее, напомнить читателям, в особенности английским, что наша история – продолжение тех лет.
Я старался соблюдать точность в обращении с историческими персонажами, датами и событиями, насколько они известны нам по разрозненным и зачастую противоречивым источникам, но, конечно, я позволяю себе интерпретировать эти источники недопустимым с точки зрения специалистов образом – ведь это как-никак роман. Вот почему столь подробно описываются здесь отношения Эдуарда Исповедника с семьей Годвинсонов[162]: я уверен, что подобные отношения существовали, и как автор романа я вправе это утверждать, историку же приличествует большая осторожность. Надо также учесть, что Вильгельм Завоеватель[163], подобно другим удачливым подонкам с нечистой совестью, проследил, чтобы в хрониках написали то, что было угодно ему.
Лишь один раз я позволил себе ради большей выразительности «подправить» историю: историки «полагают» (как они говорят), что Гарольд побывал в Нормандии в 1064 году, а я перенес эту поездку на 1065 год. Само собой, я выпускал те эпизоды, которые мешали развитию основного сюжета, а в тех случаях, когда источники не охватывают определенных периодов времени или не достаточно подробны, я считал себя вправе прибегнуть к вымыслу.
Пролог. Год 1070
Скиталец перешагнул через борт лодки и ступил в пронизанное солнечными лучами мелководье. Сверкающие песчинки взвихрились и осели на гальке и на мелких, отполированных морем осколках ракушек. Он оттолкнул легкую черную лодочку и помахал на прощание гребцу, который доставил его на берег с торгового судна, бросившего якорь у входа в подковообразную бухту, ярдах в ста от земли. Повернувшись к берегу, путник начал подниматься по галечному откосу к полоске зеленой травы, соединявшей отвесный меловой утес с плодородной сушей. Колючие, лилово-розовые цветы валерианы еще высились над восковыми листочками, низко над утесом кружились клушицы.
Левой рукой скиталец опирался на посох, вырезанный из орешника минувшим летом за две с лишним тысячи миль от этих мест – в Малой Азии, на южном склоне Тавра. С правого плеча свисал на веревке то ли небольшой мешок, то ли вместительная сума с черствым хлебом и сыром. Правая рука была отсечена у самого запястья, веревку путник придерживал гладкой, круглой культей. На ремне, стягивавшем некрашеную шерстяную куртку, висела котомка поменьше с тремя золотыми монетами да горстью медяков. Ноги прикрывали шерстяные штаны с кожаными подвязками; старые ботинки из воловьей шкуры еще могли послужить, хотя швы начали разлезаться.
Это был человек среднего роста, светловолосый, дочерна загоревший. Крепкого сложения и недурной наружности, он выглядел гораздо старше своих двадцати шести лет, – на лице лежала печать горя и боли.
Солнце ушло за тучи. Путник посмотрел вверх, на стягивавшуюся к северо-западу тьму, поднялся к перевалу между двумя холмами и, обернувшись, взглянул на море. Лучи солнца все еще подсвечивали корабль, там ставили паруса, лодочку подняли на борт и уложили сохнуть. Вплоть до самого горизонта море отливало серебром, но белые скалы прямо на глазах покрывались тьмой, лиловая тень тучи скользнула над водой, словно преследуя корабль. Путник снова повернул вглубь острова и пошел по тропинке, уводившей сквозь кустарник и лесок к северной стороне холма. Стайки скворцов, издали похожие на облачко пыли, кружились далеко внизу, слетаясь на осенний совет. Лето кончилось.
Дорожка вела его вперед, огибая глубокие впадины, то вниз, в долину, то вверх по холму, и все, что встречалось ему на пути, было не таким, как прежде. Появились изгороди и плетни там, где раньше была общинная земля или лес, открытый для всех; в других местах, напротив, ограда исчезла и на месте заброшенных, заросших травой огородов и покинутых садов паслись козы и овцы.
Он почувствовал отвратительный запах и увидел полчища мух, которые с громким жужжанием вились над трупами. Мужчина, юноша, женщина и младенец лежали в канаве, мужчина и юноша на спине, пронзенные копьями, изрубленные мечами, – раны зияли в груди, в животе, на шее. Сколько они пролежали здесь, два, три дня или больше? Стервятники уже выклевали самую сочную, самую мягкую плоть – печень, сердце, глаза, но не тронули ятра обоих мужчин, они так и остались у каждого во рту, куда их засунули убийцы.
Платье женщины было задрано на голову, ее тело сперва досталось насильникам, потом сделалось добычей хищных клювов и когтей. Не столько эти изувеченные, поруганные тела поразили скитальца – на своем веку он видел много насилия, – сколько мысль, что здесь, в Уэссексе, люди даже не могут по-человечески похоронить своих близких.
Он пошел дальше. На склоне холма его застиг холодный дождь и быстро промочил одежду. Прятаться он не стал.
За его спиной на гребне утеса послышался отдаленный топот копыт. Памятуя об увиденном, путник перемахнул через низкую каменную стену и поспешил укрыться в густых зарослях. Второпях он спрыгнул неловко, кое-как помогая себе искалеченной рукой, выругался, почувствовав боль в лодыжке, припал к земле и затих.
Всадников было десятеро. Все в высоких, цилиндрических шлемах, кверху сходящихся на конус. Забрала полностью закрывали лицо. От шеи до самых бедер спускалась кольчуга, из-под нее торчали лоснящиеся кожаные сапоги с узкими носками и зловещими острыми шпорами[164]. За спиной у каждого наискось висел большой щит, похожий на треугольный лист, длинные ножны мечей мерно похлопывали по ногам. На восьмифутовых копьях чуть ниже загнутых стальных наконечников трепетали маленькие алые флажки в форме ласточкиного хвоста.
Крупные лошади, все, как на подбор, вороные и гнедые, откормленные, лоснящиеся, недавно подкованные, на скаку высекали искры из кремнистой дорожки, которая шла по гребню утеса, ярдов на сто выше кустов боярышника. Люди и лошади намертво срослись друг с другом, превратились в идеальные боевые машины, спаянные дисциплиной и незримыми, но прочными узами сообщничества.
Всадники остановились на вершине, покружили, кони фыркали, били копытами, от их мокрых разгоряченных боков валил пар. Странник слышал, как звенят доспехи воинов, видел, как холодные серые глаза оглядывают открытую долину. Один из них, подняв кулак в кольчужной рукавице, рявкнул какой-то приказ, и все развернулись. Снова раздался топот копыт, полетели камни, осколки мела, грязь, хвосты коней развевались на скаку, копья, украшенные флажками, устремились к стальному небу сквозь завесу дождя. Мгновение – и они умчались прочь.
Путник еще минут пять просидел скорчившись, его трясло, как в лихорадке, приступы рвоты выворачивали и без того пустой желудок, грудь готова была лопнуть. Гнев, ненависть, страх охватили его, и что хуже всего – отчаяние. Он осторожно перелез через стену и добрался до гребня холма, стараясь не выставлять светловолосую голову, слишком хорошо заметную на фоне потемневшего неба. Отсюда, с высоты, скиталец взглянул на некогда мирную, лесистую равнину с пашнями, садами и полями, на отлогий склон дальних гор. Там прежде была деревушка с господской усадьбой и часовней из обмазанного глиной ивняка под камышовой крышей. Корфе, врата острова Пурбек. На вершине горы стояла каменная крепость, окруженная земляным валом. Высота ее не превышала двадцати футов, – вполне достаточно, чтобы служить надежным укрытием от набегов пиратов, от данов, которые проникали в эти места с побережья или из гавани Пула, пройдя через топи.
Все уничтожено. Леса вырубили, изгороди снесли, небольшие крестьянские наделы превратили в узкие полосы пахотной земли, сады извели под корень, общинное пастбище тоже перепахали. Все слилось в одно огромное поле. На месте деревни с усадьбой дымились обугленные головешки, зато в низине дом к дому теснились два десятка круглых хижин. Старое разрушили, на его месте построили новое.
Вместо земляного вала появился каменный, втрое длиннее старого и высотой с прежнюю крепость. Вокруг тянулся глубокий сухой ров. На самой высокой точке холма, где природа создала небольшой меловой выступ, начали сооружать каменный замок. Он вознесся уже на шестьдесят футов, но еще не был закончен и торчал, как обломок гигантского зуба. Воины проскакали по мосту через ров и присоединились к своим товарищам, которые несли караул на бастионе. Повсюду трудились мужчины и женщины: таскали в больших мешках камни, разводили известку, взбирались с полными носилками по лестницам, поднимали воротом большие, грубо обтесанные глыбы на шаткие строительные леса.
У ворот крепости стояла виселица. Восемь тел медленно покачивались под дождем, сотрясаясь от внезапного толчка, когда ворона или коршун опускались на плечо или голову жертвы и впивались твердым темным клювом в глаза, губы, шею.
Путник сделал большой крюк, обходя стороной селение, и двинулся дальше от берега, переходя речки не по мостам, а по знакомым с детства бродам, а где брода не было, погружался в воду по пояс или по шею. Он догадывался, что такие же боевые машины караулят мосты. За реками лежали высокие холмы, глубокие долины. Здесь уцелели леса, листья берез еще только начинали золотиться, дубы и буки до середины осени простоят в тяжелом зеленом уборе. Странник не заходил в деревни. Когда кончились хлеб и сыр, он перешел на орехи, на перезревшие ежевичные ягоды, которые облепила мошка, на желуди и семена бука. Они утоляли голод, но вызывали мучительные спазмы.
К вечеру второго дня он добрался до более широкой и глубокой реки, протекавшей по узкой долине. Крутые лесистые склоны так близко сходились, что долину уместнее было бы назвать ущельем. Река текла на юг, потом резко сворачивала под прямым углом, огибая два отколовшихся от гряды холма. Один, низкий и почти квадратный, где когда-то стояли лагерем римляне, назывался Ход-Хилл; другой гораздо выше и длиннее, с горбатой вершиной, вокруг которой змеился земляной вал, – Хэмблдон. Путник поднялся по южному склону, продираясь сквозь кусты боярышника, чьи красные ягоды казались каплями только что пролитой крови, перелез через вал, добрался до вершины горы и, наконец, увидел внизу Долину Белого Оленя.
Дождь лил на поля и рощицы, омывая черный остов сожженной усадьбы – его усадьбы. На месте господского дома и примыкавших к нему флигелей, где прежде жили женщины с детьми, чернел пустой, лишившийся камышовой крыши каркас. Дождь прибивал к земле узкие струйки дыма, поднимавшиеся над немногими хижинами и лачугами. Вот и все, что осталось от большой деревни, которая стояла прежде в ста ярдах за оградой манора[165]. Ограду тоже разобрали. Путник поглядел направо, туда, где к подножью холма жалось когда-то другое селение. И там тоже самое. На месте маленькой церкви, в которой он венчался, стоял просторный, крытый дранкой амбар. Он уже видел такие на века возведенные амбары в Нормандии и знал, что они означают: богатство и роскошь для господ, нищету и голод для тех, кто трудится на этой земле. С рабочей скотиной и то обходились лучше.
Осколок кремня стукнул по дерну у его ног и скатился ниже по ощипанной овцами траве. Сердце резко рванулось в груди, странник обернулся, занося посох для удара. На склоне повыше него, на фоне серого неба, показался подросток лет тринадцати. Длинные темные волосы сбились колтунами, тело прикрывала одежда из звериных шкур, из-под нее виднелись залатанные шерстяные штаны, ноги были босые. Парень сжимал в руке короткое копье, за спиной у него болтался небольшой лук и колчан.
– Уолт! – окликнул он путника.
– Фред!
Мальчишка бросился к нему, рухнул на колени, припадая к ногам господина, но Уолт быстрым движением подхватил его, обнял, положив ему на плечи здоровую левую руку и обрубок правой.
– Фред! Как я рад тебя видеть!
– Мы слышали, что твое тело так и не нашли. Почему ты сразу не вернулся? Тебе давно пора было прийти!
Ярость, отчаяние, скорбь захлестнули Уолта.
– Как я мог вернуться? Я обязан был умереть.
– Тебя должны были убить? Но раз они не сделали этого, чем же ты виноват? Руку ты там потерял? – Фред кивком указал на обрубок.
– Там.
– Этого достаточно. Ты должен был вернуться к нам.
Уолт пытался объяснить, что потерять правую руку – это слишком мало, вот если бы он подставил под удар все тело и погиб, защищая короля, тогда бы он исполнил свой долг.
– Плохо тут?
– Куда уж хуже! – Фред пронзительно, истерически рассмеялся и быстро сунул в рот кулак, чтобы остановить смех. – Я покажу тебе.
Он пошел впереди Уолта по краю насыпанного еще в железном веке вала, продираясь сквозь черные кусты боярышника, шиповника, рябины, словно забрызганные кровавыми каплями ягод. Ниже росла бузина, уже растерявшая листья и ягоды, – только густо сплетенные ветви тянулись к слоистым облакам.
Пару миль они прокладывали себе путь через заросли, то по небольшим полям, опоясанным изгородями, то через рощицы, особенно буйно разросшиеся возле ручьев, которые на западе впадали в большую реку. Дикая природа перешла в наступление: кизил, черную ольху и плакучую иву вот уже три или четыре года не вырубали, и они вновь захватили возделанные, обжитые за последние пять столетий земли. По дороге им попался дочиста обглоданный скелет коровы.
Пологая тропинка привела их ко второй гряде известковых холмов, где в глубоких лощинах тоже поднялся лес. Они миновали разрушенные лачуги и вышли к сломанной изгороди, которая некогда окружала небольшую усадьбу. Прежде тут стояли основательные постройки: господский дом с залом для пиров и собраний и пять флигелей – три из них более просторные, с высоким чердаком; был и колодец – теперь в нем плавала дохлая свинья, выставив наружу копытца и хвостик; были амбары и хмелесушилка, варили ячменное пиво.
Все истребил огонь, уцелели лишь столбы и перекладины из векового, выдержанного дуба, но и они сильно обуглились.
В примыкавшем к господскому дому просторном флигеле, в самой середине его, на старинном закопченном кресле сидели мать и ребенок. Плоть растаяла от жара, волосы и одежда исчезли, только следы от ремешков свивальника еще можно было разглядеть вокруг тельца младенца.
Кто-то – должно быть, Фред – возложил на голову женщине веночек из весенних цветов, морозника, рождественской розы. Цветы засохли, но сохранилась их форма и бледно-зеленый оттенок. Это была Эрика, жена Уолта, и сын, зачатый перед великой битвой[166].
Вот он и дома. Уолт наклонился, поднял веточку дуба. Листья стали коричневыми, крошились под рукой. Когда-то на ветке висело три желудя, теперь – только шляпки.
Часть I Скиталец
Глава первая
Три года он провел в пути или уже четыре? Сначала он сам не знал, куда бредет, и не думал об этом. Друзья заплатили капитану за проезд и погрузили его на корабль больным, почти умирающим; по ту сторону Пролива[167] перед ним распростерлись бесплодные замерзшие топи, где люди селились в свайных домиках, под полом рос камыш и крышу тоже крыли камышом. Местные жители удили рыбу сквозь проруби во льду, ставили силки на зимующую дичь, с удивительной ловкостью и быстротой скользили по льду на коньках с лезвиями из коровьих лопаток. Говорили они на германском наречии, так что путнику нетрудно было объясниться.
Среди туземцев нашелся целитель. Со дня битвы миновало уже три месяца, а культя все еще гноилась, из раны выходили обломки раздробленной кости, от нее дурно пахло. Старик промыл рану в горячем настое трав, приложил паутину, которой были увешаны в доме стропила и столбы, обмотал руку чистыми тряпками. Через полмесяца старик снял повязку: воспаление почти прекратилось, противного запаха уже не было. Лекарь повторил все сначала, и еще через пару недель рана полностью затянулась. С уродливой нашлепкой на конце обрубок походил не то на гриб, не то на гигантский пенис. Какое-то время шрам отчаянно чесался, но спустя несколько недель утратил чувствительность.
Прекратилась лихорадка, ушли ночные кошмары, но ясность мысли не радовала Уолта – в резком холодном свете, который исходил от этих болот, он отчетливо видел, сколь велика его измена. Все просто: роковой удар меча он попытался отразить своим мечом, подставил руку, но не тело. Если б он пожертвовал собой до конца, как велит долг дружиннику короля, он мог бы спасти своего господина и повелителя.
Весь январь и февраль Уолт прислуживал лекарю, научился работать одной рукой: выносил помои, чистил овощи к обеду, обходил деревню с санями, отвозил к знахарю больных и умирающих. Потом лед пошел трещинами, проступила вода, утки и гуси, тысячами кормившиеся на болотах, потянулись к северу, покидая топкие устричные отмели, где скапливалась незамерзавшая соленая жижа. Лекарь отпустил его, и, глядя на восходящее и полуденное солнце, Уолт мечтал только об одном: уйти как можно дальше от тех мест, где жизнь его рассыпалась и превратилась в прах.
Он скинул с себя плотно простеганную кожаную куртку, которую носил под кольчугой, сбросил тяжелые шерстяные штаны, державшиеся на кожаных ремешках. Вместо этого целитель подарил ему плащ так и не выздоровевшего пациента, а старуха-вдова за неделю работы дала крепкие башмаки с кожаным верхом и двойной подошвой из шкуры – ботинками мертвеца.
Всю весну Уолт шел вдоль большой реки, которая, петляя, текла ему навстречу с юга, шел мимо возделанных полей и лесов, вниз, по долинам, и вверх, по холмам, столь крутым, что трудно было понять, как цепляется за них виноградник, уже подернутый ярко-зеленым листом. Трубили рога, заливались птицы, и девушки пели песни о похищенном золоте. Река устремилась в озеро, и в Иванов день, в день преполовения лета, когда мужчины прыгают через костер, когда холмы и долины порастают лилиями и розами, а женщины плетут из них венки и кружатся в хороводе, путник увидел впереди взмывшие над южным побережьем огромные черные горы, увенчанные блестящими, переливающимися ледниками. Узкие языки снега спускались по отвесным склонам в долину.
Женщины и дети отшатывались при виде высокого, отощавшего путника, а то и обращались в бегство. Заметив его увечье, они возвращались. Одни дразнили его и швырялись камнями, другие пытались выразить на незнакомом языке любопытство и даже участие. Путник пил из ручьев, выпрашивал хлеб, а когда наступило лето, питался орехами и виноградом. Он шел на восток, и другая река, еще шире прежней, неторопливо катила свои волны. По берегам стояли деревеньки и села, а порой даже города, такие же большие, как главный город покинутой им страны.
Чем дальше он шел, тем более тревожные и мрачные картины представали взгляду. На одну деревню, богатую хлебом и виноградом, молоком и медом, с жирной скотиной и лоснящимися лошадьми, приходилось пять сожженных селений. Обнаженные тела поруганных женщин на порогах разрушенных домов, младенцы, насаженные на длинные копья, псы, глодающие кости своих хозяев, – многое доводилось ему видеть прежде, даже у себя на родине, но такого он не встречал никогда. Под знойным ярко-голубым небом разъезжали на конях отряды усачей в меховых шапках, они постоянно сражались друг с другом, а Уолт, никому не причиняя вреда и никого не боясь, шел себе дальше, – серый призрак, исчезающий в мареве равнин. Обрубок служил ему пропуском.
Хорошая земля, лучшая из тех, какие он видывал на чужбине, но тучные пажити (он не раз убеждался в этом) притягивают к себе захватчиков с той же неизбежностью, с какой плодоносная слива приманивает рой трутней и ос. И странник почувствовал легкий укол тоски по земле, что оставил вдали, земле не только изобильной, но и устроенной, где все были сыты и почти все – довольны.
Он думал, что на рубеже старого и нового года вновь наступят холода, но этого не случилось, хотя к северу от реки на фоне неба маячили покрытые снегом вершины. Изменился только окрестный пейзаж, великая река начала разделяться на рукава. Странник шел к югу и оказался в густых зарослях камыша. Налетела мошка, появились панцирные земноводные, огромные птицы, подпрыгивавшие на длинных тонких ногах, заносили над ним черно-красные головы на изогнутых шеях, и клювы их походили на лезвие топора. Тут жили дикари, нагие, словно новорожденные; завидев чужестранца, они прятались в тростниках и камышах. Хлеба просить было не у кого. Впер вые Уолт устрашился голода.
Он двинулся дальше на юг, добрался до возделанных плодородных равнин, где строили церкви с высокими куполами, где господа и их верные слуги носили шлемы, украшенные золотом, а простой народ рабски трудился в огромных поместьях богачей и ютился в хижинах, слепленных из обожженной солнцем глины. Господами здесь считались «булгары» – на родине Уолта так называли мужчин, предававшихся содомии, чтобы не оплодотворять женщину своим семенем. Он только потом узнал, что «булгарами» был и тот красивый народ, который покорил местное население. Так и проходя через венгерское королевство, Уолт не догадывался, что хищные усатые всадники, одетые в меха и вооруженные кривыми саблями, звались «мадьярами».
Уже весной Уолт вошел в высокую дубраву, но вместо яркой, живой зелени родных дубов увидел темную, тусклую, словно подернутую маслянистой пленкой листву. И все же этот лес кормил его. Он знал, как проследить танец пчел до самого улья и выкрасть мед, не навлекая на себя их укусы; отыскивал в зарослях дикую вишню, словно кабан, выкапывал из земли луковицы, чеснок и трюфеля, воровал яйца из гнезд и вылавливал из ручьев стремительную форель.
Издали он видел пышно разодетых булгарских вельмож в сверкающих доспехах и их жен в струящихся ярких шелках, они запускали в поднебесье соколов или преследовали кабана под переливы охотничьих рогов, улюлюканье загонщиков и дружный лай фессалийских псов. Однажды мастиф загнал чужака на высокий дуб. Цепляясь одной рукой, Уолт вскарабкался проворно, как мартышка, и повис, качаясь на ветвях. Охотники примчались на лай, принялись кружить вокруг толщенного ствола, задирая головы и всматриваясь в густую листву; выпустили на всякий случай две-три стрелы из лука и одну из арбалета, но так и не заметили Уолта. И тут с самой вершины дерева послышался звук, напугавший его больше, чем стрелы: шипение и мяуканье дикой кошки.
Кошка сидела в нескольких шагах от него на толстом, отходившем вбок суку: спина выгнута, шерсть дыбом, желтые глаза искрятся, хвост торчком, пасть ощерена – видны белые клыки и ярко-алая глотка. Хищник ненамного уступал человеку ростом, да и весил примерно столько же, но Уолт с трудом удержался от смеха: слишком этот зверь походил на знакомых ему с детства деревенских кисок, особенно на котенка по имени Уин.
Опираясь на изувеченную руку, Уолт оторвал большую, тяжелую от желудей ветку и ткнул ею в кошачью морду. Кошка развернулась, промчалась по суку и перепрыгнула на соседнее дерево. Внизу заметили ее и погнали, хохоча, натравливая собак, но кошка почти сразу же исчезла среди густых ветвей.
Уолт остался сидеть на дереве, терзаясь угрызениями совести из-за только что обнаруженной в себе перемены: на миг, и даже дольше, чем на миг, он вновь ощутил восторг и упоение, какие охватывают мужчину в бою или в любовных объятиях. Он вдруг осознал, что все это время в лесу тоже был счастлив, хотя блаженство это было более мирным и тихим, он спокойно и удовлетворенно впитывал в себя солнечный свет. Но Уолт помнил, что счастье – удел других, а для него это – грех. В подобных размышлениях он провел в лесу еще с месяц, умерщвляя свою плоть, как монахи во время Великого поста: бичевал себя березовыми розгами, отказывал себе в пище, пока не начал шататься от слабости; залезал на вершины дубов и подставлял себя ударам молний, – они пролетали порой совсем близко, но ни разу не поразили его.
День становился короче, ночь истекала росой, и к Уолту вернулось прежнее беспокойство. Вновь казалось, что у его паломничества есть какая-то цель и надо идти дальше. Он еще не знал, какова эта цель, но что-то ждало его впереди. Уолт пустился в путь дальше на юго-восток, больше забирая к востоку, и через два дня вышел на откос, естественную границу леса, откуда он мог оглянуться на оставшуюся за спиной дубраву и посмотреть вперед на новый для него мир.
Он увидел перед собой мраморные дворцы, а поверх их крыш – полотно цвета глубочайшей синевы с белыми кружевами. Позолоченные суда с веслами и под парусами бороздили воду; выныривали дельфины, вдвое превосходившие размерами морских свиней, которые водились в устьях родных рек. Пройдя по лесистому склону, Уолт разглядел по ту сторону узкого пролива высокие стены и крепкие башни, под сенью которых подымались величественные своды домов и дворцов, – ничего подобного он прежде не видел. То там, то сям крыши сверкали сусальным золотом. Надежда окрылила странника – быть может, перед ним заветная цель его пути? Но сперва надо было пересечь реку у самого устья и миновать небольшой городок, располагавшийся на ближнем берегу. Уолт спустился в предместье, вышел к рыночным площадям и улочкам северной части города, стараясь ни на минуту не упускать из виду высокие здания, словно парившие над рекой.
Здесь Уолт бросался в глаза лишь из-за своего высокого роста, поскольку большинство нищих было изуродовано пострашнее, чем он: прокаженные с изъеденными болезнью лицами, калеки, чьи ноги были отрублены по самые бедра – то ли на войне, то ли в наказание за какое-то преступление, незрячие, ослепленные щипцами палача. Уолт шел мимо гетто, мимо причудливой вязи железных решеток, за которыми, словно в клетке, сидели еврейские ювелиры, скупали золото и драгоценные камни, скрупулезно взвешивая их на медных весах. С обочины он подбирал финики и хлебные крошки, пил из мраморных фонтанов, которые богатые люди человеколюбиво устанавливали у наружной стены своих просторных домов. На маленькой площади собралась беднота, по большей части женщины с младенцами на руках, подъехала большая тележка, нагруженная козьими головами – на миг он взглянул в остекленевшие желтые глаза с вытянутыми, расширенными смертью зрачками, – головы бросали в толпу, и женщины отталкивали друг друга и даже дрались из-за них.
Невыносимая вонь, нестерпимый гам. Уолт заспешил прочь и вышел наконец к пристани. Примерно в полумиле на противоположном берегу высились стены домов и крепостные валы. Десятки судов стояли на якоре по обе стороны пролива. Полуголые грузчики, большей частью в одних штанах или попросту в мешковатых набедренных повязках, сновали по крутым сходнях взад и вперед, таскали на согнутых спинах большие корзины, закрепив их кожаным ремнем, повязанным вокруг головы. В корзинах лежали лесные орехи, сладкий каштан, виноград, яблоки, груши, мушмула, айва, зелень и листья салата, а также странные оранжевые и желтые плоды с неровной, точно иголкой истыканной кожурой. Он насчитал три судна, доверху груженные углем; еще одно было заполнено рулонами шелка, пять низко осели в воде под тяжестью мраморных глыб. Дивясь разнообразию и обилию заморских товаров, Уолт продолжал свой путь сквозь суету гавани, наступая то на булыжник, то на свернутый в бухту канат, и сквозь лес мачт, парусов и снастей вглядывался в другой берег, который, казалось, ждал его.
На высочайшем холме дальнего города, возвышаясь над дворцами и колоннадами, теснилась вокруг большого собора дружная семья церквей и соборов поменьше. На каждом куполе сверкал в лучах солнца золотой крест. Но как добраться туда? Поблизости моста не было, а Уолту не хотелось уходить в поисках переправы на северо-запад, повернувшись спиной к куполам. Да и зачем искать мост? По темной, пенистой воде взад-вперед носилось множество мелких суденышек, часть из них под треугольными парусами, но большинство перегоняли гребцы. Стоя на корме, они широко взмахивали большими черными веслами, которые крепились в изогнутых уключинах и походили на иссохшие, потемневшие, исхлестанные ветром руки.
Уолт присоединился к группе людей, выстроившихся цепочкой у сходней. Их было немногим меньше двадцати, троих Уолт, судя по черным одеяниям, круглым высоким шляпам и окладистым бородам, принял за священников. Женщины в грязно-серых юбках и шалях держали в руках вместительные корзины с фруктами.
Как у большинства жителей двустворчатого города, у людей, ожидавших переправы, лица были смуглые и одутловатые, черные лоснящиеся волосы, карие глаза, до того темные, что тоже казались черными. В толпе выделялся человек высокого роста, голубоглазый, с клочковатой бородкой. От солнца его защищала кожаная шляпа с широкими полями, кожаная куртка с ярко начищенными заклепками доходила до колен, к щиколоткам были подвязаны кожаными ремешками сандалии – вернее, просто подошвы. За спину он забросил большой мешок, крепившийся ремнями к обоим плечам, на поясе болтался туго набитый кошелек. Шляпу паломника украшала раковина, с посоха свисала фляга, сделанная из тыквы.
Первая лодка забрала восьмерых человек из очереди, тут же к причалу подлетело еще одно, длинное и верткое суденышко. Девять человек заспешили вниз по ступеням, скользким от облепивших их водорослей и моллюсков. Спускаясь вслед за человеком с заплечным мешком, Уолт внезапно вдохнул ароматы залива и моря, сладковатую вонь гниющей рыбы и птицы, густой запах раков, соленый, что-то сулящий морской ветерок. Мальчишка потянул его за рукав и отпрянул с проклятием, обнаружив культю. Высокий человек – он уже стоял на палубе – обернулся и быстро окинул Уолта взглядом бледно-голубых глаз.
Он заговорил с Уолтом на его родном языке. Диалект был незнаком, но впервые за два (или три?) года Уолт услышал английскую речь, и слезы выступили у него на глазах.
– Он ждет плату, – пояснил человек с поклажей. – Деньги за проезд.
– У меня нет денег.
– Я заплачу.
Он вытащил еще один тусклый медяк из своего кошелька.
Вдоль борта тянулась неширокая скамья, пассажиры уселись вплотную друг к другу. Мальчик оттолкнулся багром, гребец погрузил весло и со свистом принялся рассекать зеленоватую воду. Уолт и только что обретенный им друг повернулись лицом к востоку, туда, где у выхода из бухты виднелась почти черная полоса, а за ней, примерно в миле, леса и большой город. Бриз взбивал снежную пену на глади залива, высокогрудые галеры со множеством весел по обоим бортам без труда скользили по воде. Стайка буревестников мелькнула над гребешками волн, напугав резвившихся дельфинов, и странник позабыл про ожидавшие его соборы: не птиц он видел перед собой, но души погибших грешников, которым не обрести покоя. Вот так и он будет метаться с криками над водой, когда его настигнет смерть. Но тут спутник отвлек Уолта: глядя прямо перед собой на приближавшийся берег, на высокие крепостные стены и широкие ворота, гостеприимно распахнутые над пристанью, он сказал:
– Долго я плыл по морям – и вот я здесь.
Глава вторая
Они прошли между высокими надвратными башнями и, оставив справа более низкие и старые внутренние стены, которые уже начали осыпаться и превратились в соты пещер и гротов, двинулись вверх по лабиринту крутых, узких, мощеных улиц, стиснутых высокими зданиями, – таких громадных домов Уолту видеть еще не доводилось. Большинство строений снаружи обмазали серой штукатуркой, на которой были вылеплены или вырезаны причудливые узоры. Там, где штукатурка отвалилась, проступали стены, сложенные из мелкого кирпича.
Улицы не кишели народом, как на другой стороне изогнутого, как рог, залива, но были достаточно многолюдными. Навстречу попадалось много священников и монахов, чьи одеяния разительно отличались от тех, что носили клирики на родине Уолта; солдаты охраняли парадные двери больших дворцов или, печатая шаг, проходили мимо, покачивая пышными султанами на раззолоченных шлемах. Много было мелких торговцев и торговок, как те женщины, которые вместе с ними плыли в лодке. Разносчики громкими голосами расхваливали свой товар под окнами домов или устраивали на скорую руку лотки на перекрестках. Кроме фруктов они предлагали дары моря: макрель и сардины, кефаль красную и серую, анчоусы, припорошенных солью осьминогов и кальмаров в плоских ведерках. Женщины несли на головах широкие подносы с хрустящими лепешками, посыпанными семенами кунжута, – мелкими и черными либо белыми, как речной жемчуг. Проехала большая повозка, запряженная мулом, на ней везли амфоры то ли с вином, то ли с оливковым маслом. Продавец выдавал полный сосуд в обмен на пустой и брал деньги в уплату за его содержимое. Судя по одежде, покупатели на этом передвижном рынке были слугами, если не рабами. У одних лица черны как смоль, у других – желтые и скуластые.
Кружа по петлявшим улочкам, они одолели полпути, дальше дорога поворачивала налево и шла прямо вверх. На углу незнакомец остановился, снял с посоха тыковку, вытащил затычку и протянул флягу Уолту.
– Я вижу, ты устал и тебя мучает жажда. Попей – это чистая родниковая вода.
Уолта и правда трясло, как в лихорадке. «Вот и конец моих странствий», – думалось ему, и пот, струившийся по щекам и шее, был вызван не только жарким солнцем.
Они взобрались на холм, и перед ними открылась широкая площадь причудливой формы, вымощенная полосатыми плитами белого, кремового, розового и черного мрамора, такого ровного и гладкого, что хоть танцы тут устраивай. Посредине высился столп, увенчанный конной статуей бородатого императора или полководца; памятник, отлитый из бронзы, покрывала позолота. За спиной у статуи стояло величественное здание с портиком, опиравшимся на шесть изящных колонн – их вершины украшали капители в виде листвы аканфа – а справа, у ворот, горделиво распрямились в нишах фигуры императоров, не в тогдашних чешуйчатых кольчугах, а в панцирях и шлемах с высоким гребнем. На воротах, также отлитых из бронзы, были выгравированы изображения старинных битв. Вход охраняли высокие стражники, по большей части светловолосые и голубоглазые. Начищенные до блеска кольчуги так и сверкали на ярком полуденном солнце.
Уолт стоял оробелый и растерянный, голова его кружилась.
– Что это такое?
Товарищ его пожал плечами.
– Памятники былому величию, – чуть презрительно предположил он.
Но прекраснее всего был собор, который они увидели слева, едва вышли на площадь. К уходившему в поднебесье центральному куполу жались маковки поменьше, будто холмы к подножью главной вершины. Уолт схватил своего спутника за тощую, покрытую веснушками руку.
– Что это? – голос его упал до шепота.
– Храм Софии, Премудрости Божией.
– Значит, здесь я обрету то, что искал.
Уолт поспешно зашагал по мраморным ступеням к большой черной сводчатой двери, распахнутой навстречу ему, точно пасть кита. Изнутри доносился глубокий бас, упорно тянувший одну и ту же ноту, и звон колокольчиков.
Уолт переступил порог, и перед ним разверзлись небеса. Огромное пространство собора оказалось гораздо светлее, чем представлялось с залитой солнцем площади. Сорок сводчатых окон окружали основание главного купола, который покоился на вершинах четырех арок; с востока и запада к нему примыкали полукупола, также пронизанные золотыми лучами. Под ними располагались четыре галереи, каждая с пятнадцатью колоннами, сорок более мощных и высоких колонн служили опорами. Капители покрывала кружевная резьба, и узор ни разу не повторялся.
Свет, повсюду свет и пиршество красок. Главный купол и полукупола, казалось, плыли в потоке лучей, в прозрачном облаке дыма, поднимавшегося от бесчисленных свечей и кадильниц. Стены, выложенные многоцветным мрамором различного образца и оттенка, местами сияли так, что отражались друг в друге, как в зеркалах. Колонны целиком из мрамора, но восемь опорных столбов высечены из порфира – эти столбы с прожилками ярко-красного цвета украшали когда-то храм Солнца в Баальбеке[168].
Сотни священников и причетников, чьи облачения были расшиты канителью и драгоценными камнями, а у некоторых расширявшуюся кверху митру увенчивал жемчужный крест, ходили по храму или стояли вокруг алтаря, молились на незнакомом языке, раскачивая золотые и серебряные кадильницы. Пели они, как слышалось еще с площади, монотонными низкими голосами, и распев заметно отличался от модуляций, принятых на родине Уолта.
Более всего англичанина поразила мозаика: весь храм украшен ею, в особенности сферические треугольники между арками; фон составляли золотые кубики. Под самым куполом были выложены по четырем сторонам света изображения херувимов; на стенах оживали ангелы и пророки, святые и отцы Церкви. В апсиде на престоле восседала Дева Мария, ее окружали архангелы с развевающимися знаменами, и буквы на знаменах ничуть не напоминали латинские.
Самое большое мозаичное изображение заполняло полусферу главного купола. Это был Христос-Вседержитель, сотворивший небо, и землю, и все, что в них, Господь-Искупитель, сидящий на престоле посреди синего неба, усеянного золотыми звездами; Судия непреклонный и милосердный, с ликом цвета спелой пшеницы, с кроткими карими очами под крутыми дугами бровей, без усов и без бороды; облаченный в сияющие одежды Царь Небесный – отрешенный, смиренный и безгрешный.
Густой запах ладана, однообразное пение и гул колоколов заворожили Уолта, мысли его мешались; внезапно он пошатнулся и грянулся навзничь на мраморный пол, взглянул в очи Создателю, парившему ровно в ста семидесяти девяти футах над его головой, и потерял сознание. Из тьмы, что сомкнулась над ним, выступила величественная, но не грозная женщина, по-монашески укрытая плащом, и Мнемозина, память, дочь титанов и родительница муз, повела его вниз по сумрачному лабиринту, который постепенно расширился и вывел на свет – из горной пещеры на гору, на крутой обрывистый склон...
Под лучами закатного солнца сверкали лезвия стремительно вращавшихся топоров, стрелы сыпались градом, мечи с грохотом обрушивались на щиты и шлемы. Лошади пронзительно ржали, и кровь их текла ручьем, смешиваясь с кровью всадников. Множество воинов, жадных до битвы, пало в бою, и стервятники уже кружили над полем. Лишь ближняя дружина продолжала молча наносить и отражать удары, руки ратников отяжелели от горя, с трудом удерживали деревянные щиты. Отчаяние охватило воинов, они знали, что битва проиграна и даже чудо не сможет их спасти. Лишившись надежды, дружинники жаждали последнего, добивающего удара и падали, сраженные, с радостью встречая гибель. Но оставался еще один долг, призвание и рок тех, кто кольцом окружал в бою короля, – умереть со своим господином, пасть рядом с павшим...
– Что с тобой?
Голова Уолта покоилась на коленях его спутника, который смачивал тряпку водой из своей тыквы и ласково обтирал ему лоб. Священник и служка заглядывали ему через плечо. Сочувствие и прозрение поочередно сменялись на их лицах.
– Если ты в силах подняться, лучше пойдем. Здесь свои правила.
Товарищ Уолта подсунул руку ему под затылок, попытался его приподнять, но Уолт продолжал лежать, устремив взгляд на лик Вседержителя и Судии.
– Когда я вошел сюда, я подумал, что оказался в раю, но я ошибся. Рай был там, где я родился, а теперь я в аду.
Осторожно, но довольно уверенно Уолт нащупал стопами пол, слегка оперся культей на руку своего спутника и встал на ноги.
– Теперь я готов вернуться – С этими словами он устремился в полукруг солнечного света, более яркого, чем золото и краски мозаик.
Он вышел на улицу и ударился о жару, словно о каменную стену, рухнул на колени у подножья колонны императора Юстиниана[169], бессильно приподнял изувеченную руку и возопил:
– Но я не могу, не могувернуться! После того, что я...
– Говорят, – заметил его спутник, догадываясь, что Уолт имеет в виду отнюдь не обморок, приключившийся с ним в церкви, – говорят, паломничество к храму Гроба Господня, совершенное в сердечном раскаянии, смывает все грехи, кроме самых страшных.
Он помог Уолту подняться, поддерживая его под локоть.
– Я и сам туда собираюсь, хотя и не ради покаяния. Мы могли бы пойти вместе, только сперва осмотрим здешние места. Меня зовут Квинт – просто Квинт, других имен у меня нет.
Уолт оперся левой рукой на плечо Квинта, болтающимся рукавом правой утер слезу.
– Я Уолт, Уолт Эдвинсон. А далеко отсюда до Святой Земли?
– Думаю, пол пути мы уже одолели. Полпути или чуть больше.
Но Уолту так и не пришлось побывать в Иерусалиме, – искупление совершилось раньше и началось в тот самый миг, на форуме Константина в древней Византии.
Глава третья
Квинт не спешил покинуть Константинополь, величайший, по его словам, город христианского мира, а может быть, и мира вообще, хотя ему случалось говорить с путешественниками, которые видели города и побольше – в далеком Катае[170].
– Может быть, я наведаюсь туда, – сказал он как-то, – но сперва провожу тебя в Иерусалим.
Намеренно оставляя мелочь на виду, золотые монеты Квинт прятал в швах и потайных складках одежды. У него всегда находился червонец, выручавший друзей из затруднительного положения, а серебряные и медные кружочки сдачи он ссыпал в кошелек. Квинт именовал себя паломником и носил одеяние пилигримов, ходивших по Млечному пути к Звездному Полю Сантьяго[171]: посох и пояс, раковину и сандалии. Это было его первое странствие, пояснил Квинт, а потому он решил сохранить традиционное облачение.
Из Сантьяго судно с грузом олова доставило путешественника в Порлок, порт рядом с Гластонбери. По торговым делам туда ездил купец Иосиф Аримафейский[172], приходившийся Иисусу родным дядей, и в одну из таких поездок он взял с собой Младенца.
– Хорошая страна, – отметил Квинт. – Отличные пастбища, холмы, низкие облака – красиво.
– Знаю, – коротко ответил Уолт.
Затем Квинт отправился в Рим, посетил храм святого Петра и Колизей, где в древности множество христиан погибло в пасти льва или от рук гладиаторов, видел и другие, не столь известные места, названия которых он позабыл.
Во всем этом Уолт не обнаружил и признака благочестия. Квинт ставил перед собой одну-единственную цель: неустанно продвигаться вперед, осматривая по пути величайшие чудеса света, о которых он был наслышан. Добравшись до них, Квинт останавливался на несколько дней, самое большее – на неделю; с видом знатока рассматривал достопримечательности; когда же они приедались ему, забрасывал походный мешок за спину и вновь пускался в путь.
Он и сейчас не терял времени. Видя, что новый его товарищ ослаб и нуждается в отдыхе, Квинт вместе с ним спустился обратно к развалинам древних укреплений Константинополя. Там он нашел небольшую пещеру или фот, где можно было днем укрыться от палящего солнца, а ночью – от холодной росы. Из своей поклажи Квинт вытащил плотный, сшитый из лоскутьев мешок, расстелил его вместо матраса, затем отыскал источник и наполнил флягу, которую тоже оставил Уолту. На прощанье коснулся двумя пальцами края своей кожаной шляпы и был таков.
Вернулся Квинт к вечеру, принес лепешку, посыпанную семенами сезама, пригоршню золотистых, похожих на сливы плодов – он назвал их «абрикоками» – и два печеных утиных яйца. Друзья уселись рядом на расстеленном мешке и, не торопясь, угостились этой изысканной пищей (для Уолта это был пир). Они забрались довольно высоко и различали поверх стен ленту почерневшего к ночи Босфора, а за ним – лесистый берег Азии. Над материком висел тоненький, точно срезанный ноготь, лунный серп. Вокруг, в пещерках, образовавшихся в руинах старой стены, поселился табор цыган – их еще именовали «египтянами», – они играли на дудках, перебирали струны гитар, откликаясь глухому печальному напеву.
Полумесяц, висевший в небе, почему-то возбудил Квинта.
– Жители этого обреченного города и ведать не ведают о том, что из Сирии идет на них самое воинственное племя, какое когда-либо существовало на земле. Эти полчища берут в день по дюжине крепостей, победы считают не десятками, а сотнями. Не сегодня завтра они войдут в старинный город Иконий.
– Сирия – это где? – спросил Уолт.
– Вон там. – Квинт неопределенно махнул рукой в сторону юго-востока. – Их эмблема, знак, начертанный на знаменах, – полумесяц. Вся Азия уже принадлежит им.
– Что это за народ?
– Турки. Турки-сельджуки. Их предводителя зовут Алп-Арслан[173], что на их языке значит «Лев». Он величайший воитель со времен Александра.
Уолт вроде бы помнил, кто такой Александр, но полной уверенности у него не было.
Квинт примолк, занявшись остатками ужина. Они чувствовали близкое тепло города, пахло древесным дымом и углем, к свету звезд и месяца присоединился свет уличных фонарей и домашних ламп, тихо лилась цыганская песня.
– Ты говорил о потерянном рае, – напомнил Квинт. – О рае, более прекрасном, чем небеса. Прекраснее даже, чем все это? – Он повел рукой вокруг.
– Да.
– Расскажи.
– Не могу.
– Попытайся.
– Ладно. – Уолт раздвинул колени, свесил между ними руки, опустил голову на грудь и прикрыл глаза. – Вот, представь себе... – начал он.
Я стою на высоком и длинном гребне горы, ниже – цветущие кусты боярышника, терн уже отцвел, и завязались ягоды, похожие на крошечные зеленые слезки. Ближе к перевалу и на самой вершине кустов почти нет: меловой утес прикрывают несколько дюймов дерна, и растет там только трава и цветы, да и те появляются лишь к середине лета. Люди издавна знали это место: когда-то в старину здесь прорыли два рва, один над другим, но вывороченные комья земли, перемешанной с мелом, теперь поросли травой. Наверху, между рвами и валом, позади горбатой изгороди, прежде укрывалось городище – так рассказывают рабы, потомки того народа, который жил здесь до нас. Они и по сей день взбираются в праздничный день на гору и совершают там свои обряды... но я не о том хотел говорить.
Я смотрю с горы вниз, в Долину Белого Оленя. Половину возделанной земли занимает пастбище, орошаемое ручьями, которые берут свое начало в этих меловых скалах и впадают в реку Стаур, а другую половину засеяли злаками, и сверху я вижу набегающие зеленые, иссиня-зеленые волны колосьев – хлеб еще только начинает поспевать: бородатый ячмень, клонящийся к земле овес, высокую рожь и пшеницу, из которой пекут белый хлеб для танов, эрлов[174] и короля. Большую часть долины все еще занимает лес – дубы, березы, каштаны со сладкими плодами, остролист. В чаще водятся олени и лисы, а волков нет, хотя наши старики еще помнят, как охотились на серого. И белого оленя тоже никто никогда не видел.
– Погоди, – остановил его Квинт, – сколько тебе лет сейчас, когда ты глядишь на свой земной рай?
– Шестнадцать. Да, кажется, так. Я только что вернулся из первого похода – впервые я служил моему господину на поле битвы.
– Твоему господину?
– Гарольду Годвинсону[175].
Квинт втянул в себя воздух, бросил быстрый взгляд на искалеченную руку Уолта, выдохнул с присвистом.
– Продолжай, – пробормотал он.
Две усадьбы с поместьями – «маноры». Та, что лежит в полумиле справа, у более крутого ската горы, называется Шротон, а дальняя, в трех милях отсюда, которая тянется с севера на юг и граничит со следующей грядой холмов, – Иверн.
– «Иверн». Это похоже на язык ютов[176].
Уолт с некоторым удивлением взглянул на своего спутника.
– Может быть, – сказал он. Что-то такое говорил ему и монах из монастыря Шефтсбери.
Усадьбы похожи друг на друга. В каждой есть господский дом, низ которого занимает большой зал с деревянными балками, а на втором этаже, под черепичной крышей – спальня. Вокруг главного дома лепятся флигеля для женщин и детей, хозяйственные пристройки, сараи, конюшни, амбары, землянки, где живут слуги.
– То есть рабы?
– Они рабы, но...
– Но вы обращались с ними как с членами семьи, да?
Уолт почувствовал насмешку и вздрогнул от гнева.
– Пусть так.
Он мог бы сказать Квинту, что большинство рабов со временем так или иначе получали вольную, приравнивались к свободным крестьянам и занимали свое место в упорядоченном целом. Они перебирались в деревню, получали собственный земельный надел, однако Уолт понимал, что положение крестьян, вынужденных отдавать своему господину множество часов изнурительного труда в уплату за право обрабатывать тот малый клочок земли, который они лишь условно могли назвать своим, во многих отношениях было не лучше участи рабов.
Усадьба огорожена, снаружи находится десять – пятнадцать домиков, где живут керлы[177]. В Шротоне, в отличие от Иверна, стоит церковь, небольшая, чуть больше амбара, стены, как и в крестьянских домах, сплетены из ивняка и обмазаны глиной, лишь столбы и перекрытия деревянные. Приехавший из Винчестера художник расписал стены, изобразив житие Господа нашего: Рождество, чудо превращения воды в вино, Воскресение. Постоянного священника здесь нет, он приезжает по воскресным и праздничным дням из монастыря Шефтсбери служить мессу, за ним посылают, если надобно совершить свадьбу, обряд крещения или заупокойную службу. Вокруг манора – поля, часть их принадлежит хозяину усадьбы, часть фримены берут в аренду или на правах фригольда, еще одна доля – в совместном пользовании. Вся земля обрабатывается общими силами, все устроено, и устроено хорошо. Лучше, чем когда-либо прежде, говорят старые люди, благословляя короля Эдуарда, святого короля, справедливого, разумного, доброго, который блюдет мир в стране. И, добавляет Уолт, вместе с ним благословляют советника короля, эрла Гарольда Годвинсона и его братьев, охраняющих границы и побережье страны столь бдительно, что о вражеских набегах почти забыли, они отошли в прошлое.
Лорды? Нет, мы не лорды – ни мой отец, хозяин Иверна, ни отец Эрики, владеющий Шротоном. Нам отведено свое место в едином целом. Каждый человек должен иметь своего господина. Мой отец – господин над людьми, живущими в поместье, но над ним – эрл Уэссекса[178], Гарольд Годвинсон, выше Гарольда – святой король Эдуард, а над Эдуардом – Господь Бог.
– А Папа?
– К черту Папу.
Существует порядок, мир, который мы все признаем... да, говорю тебе, все, от первого до последнего. Вот как это устроено: рабы и зависимые крестьяне сходятся обсудить свои дела, они могут предъявить жалобу, предложить что-то улучшить. Свободные общинники раз в месяц заседают в деревенском совете, он называется «мут». Представители от каждого совета образуют совет сотни, который собирается под руководством шерифа графства два или четыре раза в год. «Сотня» – это люди всех сословий, живущие в одном округе (прежде его действительно населяли сто семей, хотя со временем число их заметно возросло). Дважды в год созывается Витан[179]: эрлы, епископы, аббаты, таны, олдермены[180] собираются вместе и совещаются с королем. Эта система работала – любой голос, раздавшийся в стране, пусть даже в самом низу, слышали все, вплоть до самого верха.
– Греки называют это особым словом.
– Каким?
– «Демократия».
Да, это был рай, все было так, как и должно быть. Даже когда случалась беда – за год до моего рождения разразилась большая буря, когда мне было восемь, произошло землетрясение, потом мор поразил скот – со всем удавалось справиться, жизнь входила в свои берега, и возвращались ласточки, на южных склонах гор поспевал виноград, мед тек, как... мед, из меда варили пьянящий напиток, девушки танцевали, – о, как они танцевали! – коровы и козы давали густое молоко, свиней откармливали вплоть до конца ноября и закалывали к Рождеству. Тяжелого труда хватало на всех, но не было бессмысленных мучений. Даже рабы и зависимые крестьяне помнили, что их господин и тот, кто повелевает их господином, всегда защитят их, накормят в худую пору, и лучше быть слугой доброго тана, чем возделывать свои жалкие два-три акра земли и жить впроголодь... Да, наша жизнь была устроена лучше, чем в любой стране, какую я видел в пути.
Но Квинт уже спал и похрапывал.
Четыре дня спустя он вернулся из города злой как черт.
– Паршивое место, – заявил он. – Пора уходить.
– Что случилось?
– В святой Софии выставлен ковчег – у них тут сотни таких, но этот весь из золота и хрусталя, отделан жемчугами, аметистами, гранатами, и хранится в нем высохшая голова. Знаешь, чей это череп, по словам здешних врунов?
– Откуда мне знать?
– Они говорят, это голова святого Иакова, двоюродного брата Иисуса.
– Ну и что?
– Голова и тело святого Иакова покоятся на Звездном Поле в Сантьяго, что в иберийской Галисии. Эти греки – мошенники и шарлатаны.
Уолт поднялся на ноги, Квинт проворно скатал служивший подстилкой мешок и запихал в свою поклажу.
– В Иерусалим!
Глава четвертая
За четыре медные монеты их перевезли через Босфор. Они высадились в Хрисополе, городе оживленном, но немного похожем на приграничный гарнизон. За ним открывались огромные пространства Малой Азии: леса и горы, равнины и пустыни, населенные за пределами побережья только древними племенами – на словах они признавали Восточного императора своим владыкой и платили ему дань, но не соблюдали верность. Часть этих племен уже переметнулась на сторону Алп-Арслана. Уолт и Квинт прошли по причалу до ворот, а затем двинулись в путь по утоптанной песчаной дорожке, которая вилась вдоль северного берега Мраморного моря. Этот залив, окруженный сушей, имеет выход в Черное море, или Понт, почему и зовется Пропонтидой.
Покрытый легким белым песком пляж был изрезан множеством маленьких, совсем мелких бухт. Путники не огибали попадавшиеся им лужицы, с удовольствием освежая в воде усталые ноги. По другую сторону береговой полосы росли сосны, насыщавшие воздух ароматом смолы, их кроны напоминали своей формой церемониальные зонты, которые нубийские невольники держат по торжественным случаям над головами визирей, посланников и других важных персон. По темно-синим волнам бежала белоснежная пена, сдуваемая легким бризом, целая флотилия лодок вышла в рыбообильное море, волоча сети за кормой.
С час они шли молча, лишь изредка указывая друг другу на открывшийся простор.
– Квинт! – заговорил наконец Уолт. – Я не хочу быть тебе обузой. Денег у меня нет, и раздобыть их негде, разве что сделаться разбойником. А какой из меня грабитель, – он выразительно приподнял покрасневшую культю, – да и оружия у меня нет.
Квинт только усмехнулся, растянув губы под редкими, всклокоченными усишками песочного цвета, и ничего не сказал. Они продолжали шлепать по воде. Уолт почувствовал, как обида камнем ложится на сердце, глаза закололо от подступивших слез.
– Что ж, я – вроде рванины на палке, чучело бесполезное, ни на что не годное, – выговорил он с гневом и горечью.
– Ты хороший товарищ, – возразил Квинт. – Путешествовать в одиночку – все равно что есть хлеб без соли. Мне нравится тебя слушать. Не жаль отдать несколько медяков за рассказы о том, что твой спутник сделал в жизни, где побывал, кого любил и кого ненавидел, какие страсти им владели.
Квинт поднял голову, крупный, похожий на клюв нос вылез из-под полей надвинутой на лоб шляпы, взгляд рассеянно устремился куда-то вдаль.
– Понимаешь, – продолжал он, – я – то, можно сказать, ничего в жизни не совершил. Я хожу повсюду, смотрю, мне легко даются языки, я охотно слушаю, порой и сам что-то говорю, но делать ничего не делаю. Ни жены, ни детей, ни постоянного занятия. Я не страдал, не боролся, не знал ненависти, не знал любви, ни разу не убил мужчину, не поимел женщину. Мне бы хоть послушать того, кто испытал все это.
Вскоре после полудня, когда жара усилилась, они набрели на бухту чуть побольше прочих, защищенную выдавшимися в море скалами. Вверху виднелась заброшенная келья отшельника. Оба заметили, как во влажном песке то и дело открываются маленькие отверстия, в них что-то булькает, и дырка закрывается снова.
– Моллюски, – сказал Уолт.
– Ага.
Квинт скинул с плеч поклажу и вытащил длинную деревянную ложку и деревянную миску. Наклонившись, он поколупал ложкой песок и вскоре извлек красивую двустворчатую раковину ярко-каштанового цвета, добрых четыре дюйма в поперечнике. Между створками виднелась переливающаяся полоска перламутра. Ложноножка проворно втянулась внутрь, и раковина захлопнулась. Квинт принялся шарить в поисках следующей.
– Их же надо промыть, – напомнил Уолт. Он разбирался в моллюсках, впервые он начал добывать такую пищу лет семнадцать тому назад в песках Уэксфорда[181]. Он знал, что двустворчатую раковину надо несколько раз погрузить в пресную воду, заставить ее обитателя втянуть воду в себя и выплюнуть, иначе на зубах будет скрипеть песок.
Квинт указал на келью.
– Отшельники, конечно, редкостные глупцы, но даже они не станут селиться там, где невозможно раздобыть пресной воды.
Квинт продолжал копаться в песке, пока не набрал по четыре раковины на брата: сверх того будет уже излишество, решил он. Путники быстро вскарабкались на скалу и вышли к крошечной часовенке и еще меньшей келье. В келье только и помещалась что полка в пять футов длиной и один шириной, приподнятая на два фута от земли.
– Ложе его святейшества, – сказал Квинт.
– Но где же вода?
Они всё обыскали, но не нашли ни колодца, ни природного источника.
– Может быть, за водой он ходил в лес?
– Вряд ли. Эти бездельники потому и затворяются в кельях, что им пальцем лень пошевелить.
Друзья зашли в часовню. Все украшения, какие можно было убрать, из нее уже вынесли, остались только фрески на покрытых штукатуркой стенах – весьма впечатляющая картина искушений святого Антония. Особенным жизнеподобием отличались бесы, принявшие облик нагих куртизанок. Квинт заявил, что естественные позы блудниц гораздо больше напоминают ему римское, нежели византийское, искусство. Уолт тем временем обнаружил, что плоский камень у самого входа поддается под ногами, и, опустившись на пол, сунул руку в щель рядом с камнем, пытаясь его приподнять. Квинт тут же поспешил ему на помощь. Вдвоем они откинули крышку колодезя и нащупали кольцо с привязанной к нему веревкой. На другом конце веревки болталось деревянное ведерко. Вода оказалась прохладной и свежей.
– Вот видишь! – воскликнул Квинт. – Ты уже отработал потраченные мной гроши.
Если б они куда-нибудь спешили, следующий час подверг бы их терпение серьезному испытанию: семь раз пришлось менять воду в ведерке, пока моллюски не перестали изрыгать песок, потом надо было собрать камни и сложить очаг, найти дрова, чтобы вскипятить горшок с водой, нащепать лучины, чтобы разжечь огонь. У Квинта в багаже нашлись и кремень, и железное кресало, и горшок из меди с оловянным покрытием, рассчитанный как раз на восемь больших раковин.
– Где же ты научился промывать моллюсков? – спросил Квинт, когда с работой было покончено.
Летний день, не похожий, однако, на другие летние дни. Даже с самой вершины Хэмблдона Уолту не открывалась такая синева небес. И еще – море. Здесь оно ничуть не напоминает ту страшную бездну, которую он три дня назад пересек на корабле, следовавшем из Порлока в Уэксфорд. Там, на открытой палубе, мальчик напугался, промок до костей, его тошнило, но теперь он видит перед собой белые барашки, бегущие по волнам, вода кажется серо-зеленой под лучами солнца; когда же находит туча – лиловой, точно большой синяк. Барашки выплевывают пену на песок, песчаному пляжу не видно конца, а за спиной – поросшие травой дюны. Кругом песок и море, только южнее вырисовываются башенки мола, за ними – гавань Уэксфорда, маленький городок, замок и порт.
Четверо мальчиков в возрасте от восьми до двенадцати лет, Уолту сравнялось одиннадцать, он второй по старшинству. Еще до рассвета они поднялись с расстеленных в конюшне подстилок и почти все утро провели в воинских упражнениях под началом старого Эрика. Служивый не давал им спуску, заставляя биться друг с другом различным оружием – конечно, потешным, но оставлявшим на теле глубокие ссадины и синяки, и нещадно лупил тростью по голым мальчишеским ногам, если кто-то из учеников сражался без должного усердия.
В девять утра им выдали завтрак – ломти ржаного хлеба, смоченного парным молоком, и велели дожидаться отца Патрика, наставлявшего их в катехизисе. Однако в то утро преподобный отец так и не явился. Мальчики начали скучать, их обижало, что никто на них не обращает внимания. Во дворе суетились слуги. Гарольд и младший брат его, Леофвин, вышли из дома и сели на коней...
– Гарольд? Это был Гарольд Годвинсон?
– Да.
– А ты уже тогда служил ему? В одиннадцать лет?
– Я должен был стать дружинником.
– Что это значит?
– Это избранные воины, те, кто ближе всего своему господину, кто поклялся сражаться за него и защищать его. Они должны быть верными, храбрыми, сведущими во всех видах ратного искусства и, конечно, закаленными телом и духом.
– Поэтому дружинников обучают сызмала?
– Да.
– Как ты попал в число избранных?
– Не знаю точно. Помню, мимо нашей усадьбы проезжали какие-то чужаки. У нас был котенок, девочка по имени Уин. Она испугалась лошадей, вскарабкалась на яблоню и ни за что не хотела спускаться. Я полез за ней, она, точно белка, скакнула на соседнее дерево, я следом, поймал, а котенок-то был дикий, царапался, кусался, плевался, шипел, но я его не выпустил из рук, так с ним и спустился. Это были графские люди, они похвалили меня за отвагу и ловкость и взяли с собой.
И вот старший из нас, Ульфрик, хорошо знакомый с морем – он рос в Сэндвиче в графстве Кент, среди данов[182], – говорит:
– К черту все это, пошли к морю.
На берегу он учил нас искать моллюсков. Мы набрали их с дюжину, они были голубоватые, поменьше, чем эти. Ульфрик все твердил, что перед варкой моллюсков следует промыть, и тут послышался стук копыт, вернее, чмоканье – кони скакали по песку и воде. Мы подняли головы и увидели, что со стороны Уэксфорда к нам мчится десяток всадников. Солнце било им в спины, они казались черными на фоне моря и неба, знамена развевались у них над головами. И вот эти всадники в плащах, накинутых поверх кольчуги, в сверкающих шлемах, точно они на битву собрались, окружили нас, сбили в кучку, подгоняя ударами мечей плашмя и наезжая лошадьми, – лошади толкали нас плечами и коленями, а воины, закинув голову, покатывались со смеху.
Двое всадников стояли в стороне и смотрели. Один из них был Гарольд Годвинсон.
– Каким он был с виду? Расскажи мне.
– В ту пору? Сколько ж ему было? Лет тридцать, наверное. Он был... величествен. Длинные темные волосы отливали огнем, когда на них падал свет; он отращивал бороду и усы, аккуратно подстригал их и завивал. Обычай брить бороду пришел к нам лишь несколько лет спустя. Глаза его казались то серыми, то голубыми, в зависимости от освещения; добрыми, если ничто его не гневило, но метали молнии, как только ему начинали перечить. В ту пору он чаще смеялся, и глаза были добрыми. Три вещи вызывали у эрла смех: в битве его смех был подобен раскатам боевой трубы, на пиру – журчанию ручья, а в постели, с женщиной, и просто когда он видел красивую женщину, проходившую мимо своей прекрасной, волнующей походкой, женщину, кружившуюся в танце, или подносившую ему чашу, или прижимавшую дитя к груди, – тогда он смеялся, как бог!
В тот раз с Гарольдом была девушка. Совсем молоденькая, лет шестнадцати. Она сидела верхом на гнедой кобылке, беспокойной, но научившейся уже опасаться хлыстика из ивового прута, которым ей грозила наездница. Кобылка кружила на месте, била копытом, но встать на дыбы не осмеливалась. Длинные темные волосы девушки заплетены в косу и уложены в узел, который скрепляет золотой обруч. Плащ на ней лиловый, а платье – белое. Она сидит в особом дамском седле, свесив ноги на одну сторону. Руки у девушки длинные, белые, поводья она держит крепко. В глазах ее улыбка, она смеется, как и Гарольд, лишь изредка хмурясь, когда приходится укрощать лошадку. Губы, хоть и не крашенные кармином, полные, ярко-красные, но прекраснее всего шея, за которую красавице дали имя...
– Эдит Лебединая Шея.
– Да. Единственная женщина, которую он любил. Семь месяцев спустя она родила ему первенца.
– Что же дальше? Кто были эти люди, которые дразнили вас, топтали лошадьми?
– Это были дружинники. Гарольд всегда путешествовал с большой свитой, ему требовались телохранители, гонцы, помощники... да мало ли кто еще.
Нас толкают, пинают, бьют с размаху мечами – хотя лезвия и повернуты плашмя, это уже перестает быть игрой, становится страшновато. Особенно усердствует один из дружинников, рыжий верзила, он твердо вознамерился загнать нас в море, а то и утопить. Мы уже по пояс стоим в воде, еще шаг – и глубина, там вовсю гуляют волны, а рыжебородый хохочет, фыркает, точно конь, поносит нас подлыми словами и набрасывается на всякого, кто пытается прорваться к берегу. Ноги нащупывают то гальку, то скользкие щупальца густых морских водорослей, я начинаю поддаваться страху, но один из товарищей меня опережает.
Самый маленький из нас, он все нюнит и хнычет с тех самых пор, как отчим передал его людям графа в Чеддере, в великолепном господском доме – такой большой и богатой усадьбы мне еще не доводилось видеть, там даже сам король останавливается на неделю, а то и на месяц. Бедняга все дни напролет рыдает о своей маме – мы тоже горюем в разлуке с родными, но мы плачем потихоньку, а он открыто, и мы дразним его, прозвали Тимором, хотя имя его Ательстан: каждую ночь он твердит на латыни «Timor mortis conturbat me» – «Страх смертный одолевает меня».
Бедный малый – ему всего восемь лет, – тощенький, весь дрожит, волны бьют ему в лицо, и из уст его вырывается длинный, пронзительный вопль. В слепой решимости он поворачивает на восток – куда? в сторону родного Чеддера? – и бежит прямо в океан.
Я знаю, что Тимор не умеет плавать, а я умею. Правда, я учился в прудах, образованных речкой Стаур у подножья Хэмблдона, а с морем познакомился только что, за последнюю неделю, в укрытой от волн бухте Уэксфорда. И все же я бросаюсь вслед за Тимором, но только я нагоняю его, Тимор оборачивается и цепляется за меня, хватает за горло, и в этот миг отлив толкает меня сзади, под коленки, и тащит вниз, соленая струя хлещет в легкие, в голове гудит, я знаю, сейчас мы погибнем. Поистине, timor mortis.
Сквозь пенящиеся волны, сквозь тьму подступающего беспамятства я успеваю еще различить голову и грудь огромного черного жеребца, на котором мчится к нам сын эрла Годвина, и вот я уже не вижу ничего, кроме сильных бедер Гарольда и его сапог со шпорами. Мой господин пришел мне на помощь, вытащил из волн, перебросил через седло и стукнул хорошенько по спине, чтобы я изверг потоки воды, заполнившей легкие.
Это просто чудо, но еще удивительней, что Тимора спасла леди Эдит. Правда, и тот рыжий детина, из-за которого приключилась беда, тоже поспешил на выручку.
И вот мы уже в безопасности на берегу, все толпятся вокруг, а леди Эдит вытирает нам головы плащами, отобранными у дружинников, и кутает нас в эти плащи. Она и сама промокла, платье потемнело от воды. Гарольд ухватил меня за щеку и повернул лицом к ребятам.
– Ты обязан мне жизнью, Уолт Эдвинсон, – сказал он. – Когда думаешь расплатиться?
– Как только пожелают Пряхи, – отвечаю я.
Он хмурится, быть может, ему не понравилось, что я ссылаюсь на богинь судьбы нашей древней веры. Поворачивается к Тимору:
– А ты, Ательстан, обязан жизнью Уолту.
Мальчик кивает, что-то бормоча.
Тут Ульфрик, на которого что-то давно не обращали внимания, а ему это нож острый, вмешивается в разговор:
– А по-моему, Уолт просто испугался и побежал в море вслед за Тимором.
Все молчат, и слышатся только вздохи усилившего ветра, который бросает на ноги пригоршни больно жалящего песка.
Выхода нет – минута сомнения или колебания, и тебе конец. Этот урок мы уже усвоили. Я кидаюсь на злопыхателя, хватаю обеими руками за отвороты куртки, бью головой в грудь, под вздох. Мне удается застичь Ульфрика врасплох, с полминуты я использую свое преимущество, колочу его кулаками по груди, по рукам и лицу, но вот он уже опомнился, швыряет меня наземь, вжимает лицом в песок, садится сверху и мозжит кулаками по глазам, носу, губам. Поднявшись, он нащупывает большущий голыш, гладкий кусок кремня, оставленный на берегу отливом, размахивается, но мой господин успевает перехватить занесенную руку.
Гарольд снова поднимает меня на ноги.
– Теперь ты должен мне две жизни, Уолт Эдвинсон. На сегодня хватит, – он смеется, и смех его похож на рев боевой трубы.
Они покончили с моллюсками, Квинт достал из мешка две маленькие лепешки, чтобы подобрать со дна отвар. Зачерпнув ведерко воды, он сполоснул медный горшок, деревянную ложку и миску и снова убрал их в походный мешок.
– Хорошая история, – проговорил он. – Три жизни спасено в один день, и ни за одну не уплачено. Чувствую, продолжение следует. Я люблю истории с продолжением («сериал», – мелькнул в его голове латинский термин). Словом, я больше обязан тебе за рассказ, чем ты мне – за обед.
Они пошли дальше по берегу, жадно вдыхая запах моря и сосен.
– Да, не похоже на широкое и бурное Ирландское море. – Внезапно Квинт остановился и спросил: – А зачем вы отправились в Ирландию, в Уэксфорд?
Глава пятая
В ту пору, о которой шла речь, Уолт смутно представлял себе, куда и зачем их везут. Мальчик знал одно: его выдернули из гнезда, из нежных объятий матери, сестер, тетушек, разлучили с родной усадьбой, где он мог каждый день наблюдать, как телята сосут материнское вымя, где недолгая печаль о безвременной гибели полуторагодовалого борова, успевшего превратиться в приятеля, утолялась сочным мясом и потрескивавшим на огне салом, копченой ветчиной и сосисками (их хватало до Великого поста); он расстался с дружеской компанией, сыновьями свободных крестьян, чьим признанным вождем он успел стать – ведь его уже немолодой отец был владельцем манора. Ватага подростков обчищала соседские сады, забиралась в лес, купалась в реке у мельничной запруды и дралась с ребятами из Щротона – те и другие бросались камнями и пуляли из рогаток, гоня врага вверх и вниз по холмам Хэмблдона.
Все исчезло в мгновение ока, и лишь потому, что, спасая котенка по имени Уин, Уолт показал чужакам свою ловкость и отвагу! Он не сразу почувствовал боль разлуки, сильнее было изумление: подумать только, пять сотен вооруженных слуг верхами, двести ополченцев – свободные крестьяне, которых господин мог временно призвать на службу, оружейники, маркитанты, повара, кузнецы, да еще повозка с медной монетой – каждому платят поденно, а при повозке состоит клирик с выбритой тонзурой, он носит под мышкой толстый том в кожаном переплете и записывает все расходы. Посреди пестрой толпы, ближе к голове процессии, не Гарольд, а сам Годвин, его отец, эрл Уэссекса, верхом на огромном гнедом жеребце с пучками шерсти на щетках, с такой длинной и широкой головой, какую редко увидишь у лошади, просто чудовище какое-то, следом едет знаменосец со штандартом – на красном полотнище вышит золотой дракон, настоящими золотыми нитками вышит, и несколько самых доверенных слуг всегда держатся рядом с эрлом.
Почти весь путь они ехали по старым римским дорогам, а когда им требовалось отклониться в сторону, сворачивали на более древние тропы. Проезжали одну деревню за другой, усадьбу за усадьбой. Люди выходили навстречу Годвину и двум его младшим сыновьям, приветствовали их радостными криками, танцевали, падали на колени, протягивали поросят, фрукты, цветочные венки. Иной раз эрл делал остановку, чтобы похвалить тана за хорошее состояние моста (в писаной хартии, подтверждавшей права землевладельца, указывалась и его обязанность вовремя чинить мосты), в другой раз брал пеню с нерадивого хозяина, если обнаруживал в укреплениях брешь.
На шестой день они заночевали в Чеддере, отведали сыра, обильно запивая его сидром, и потолковали о подземелье, расположенном среди гор в миле от замка – говорили, там водятся ведьмы, хотя наверное никто не знал. Здесь к ним присоединился бедный Ательстан-Тимор, оторванный от материнской груди, – отчим-то рад был спровадить его из замка. На следующий день им пришлось долго подниматься по крутой, петлявшей тропе, откуда открывался вид на гору в Гластонбери, где гулял младенец Иисус в сопровождении дяди-купца. Там же покоятся останки короля Артура и королевы Гиневры. В земле виднелись глубокие впадины: оттуда добывали содержащую свинец руду. Ее выплавляли странные и страшные люди: обезображенные неведомой болезнью, полусумасшедшие, с которыми мастера обращались хуже, чем со зверьем. Как раз тогда новые церкви, монастыри и дворцы стали покрывать крышами из этого материала, более устойчивого и долговечного, чем переплетенные прутья и деревянные планки.
К полудню девятого дня они добрались до Глостера. Маленький городок, надежно укрытый римскими стенами, жался к церкви и монастырю. Там – не в самом городе, а на восточном берегу реки Северн, в трех милях от Глостера, они соединились с Гарольдом. В ту пору Гарольд носил титул эрла Кента; он привел с собой преданных ему людей, а три его брата – свои дружины. Теперь свита Годвина и его сыновей состояла из двух тысяч хорошо вооруженных и обученных воинов, а еще пять тысяч набрали в ополчение из крестьян. Воины по большей части жили в шалашах, сплетенных из прутьев орешника и накрытых шкурами, плащами, попонами, – всем, что было под рукой, но эрлы и их телохранители разместились в роскошных шатрах, почти не уступавших размерами покинутым усадьбам. В самом большом шатре, наспех сооруженном по приезде, поселился Годвин. Здесь его сыновья пировали и веселились, словно они явились на праздник, словно этот поход не мог в любой момент обернуться страшнейшим для страны злом – междоусобной войной.
За рекой столь же многочисленное войско собралось вокруг шатра, над которым реял королевский стяг, в шатре был сам король, а вокруг него – дружины эрлов Мерсии, Йорка и Нортумбрии[183] и вся королевская рать.
– Конечно, – продолжал Уолт, а тем временем Квинт расстелил свой мешок на постели из сосновых игл, насыпанных поверх прогревшегося за день песка, поблизости от весело пылавших в костерке шишек. В двадцати шагах от них плескалось Мраморное море, на гребне каждой волны мерцала призрачно фосфоресцировавшая зеленая полоса, луна во второй четверти протягивала тонкие, как золотая проволока, лучи в черноту ночи, из кустов чуть поодаль лилась песня соловья. – Конечно, нам никто не удосужился объяснить, в чем, собственно, дело. Лучше всего мне запомнилось, как нас отправляли в большой шатер прислуживать у длинного стола, подносить мед, вино, эль в больших кувшинах – и порка грозила тому, кто не поспеет наполнить лорду чашу или рог для питья, прежде чем тот досчитает до десяти. Быков жарили целиком, и овец тоже, к столу подавали корзины хлеба и фруктов, головки ярко-оранжевого глостерского сыра. Вся семья Годвина, отец и сыновья, собралась вместе.
– Посмотреть бы на эту семейку. Кажется, она тащила на себе все грехи, какие только известны человечеству. Как же выглядели эти люди? Начни с самого Годвина.
Уолта эти слова обескуражили. Для него Годвинсоны не были преступниками – ни тогда, ни теперь. В его глазах они были героями. Тем не менее он старательно рылся в памяти, стараясь отыскать то немногое, что уцелело спустя семнадцать-восемнадцать лет.
– Годвину шло к пятидесяти, он был высокий, крупный, широкий в плечах, раздавшийся в поясе, руки – как у кузнеца, бедра – как у дикого быка. Черные волосы слегка поседели, отросла длинная окладистая борода. Всем блюдам он предпочитал баранью ногу, хотя в тот раз съел также пару куропаток и трех перепелов. Я трижды подливал мед в его чашу – большущую чашу, вмещавшую по меньшей мере кварту. Веселье слегка пошло на убыль, но тут явились поэты и музыканты, зазвучали хвалебные песни во славу Годвина и его сыновей, а потом Гарольд взял в руки арфу и запел о битве при Мэлдоне[184], все знали эту песнь и пели вместе с ним. А как они были одеты – никогда я не видывал подобной роскоши! Плащи на них были алые, или темно-синие, или шафранового цвета, золотые браслеты на руках, золотые ободки в волосах, золотые кольца на пальцах – у всех, у мужчин и у женщин. С ними были и женщины – либо походные жены, либо попросту наложницы, законные супруги оставались дома, пеклись о детях и домашнем очаге.
– Так что Годвинсоны? – напомнил Квинт.
– Извини, – спохватился Уолт. – Из сыновей Годвина там был Свен – самый высокий, смуглый и, пожалуй, самый красивый, несмотря на оспины. После него по старшинству – Гарольд, за Гарольдом – светловолосый Тостиг. Ему уже исполнилось двадцать шесть лет, но в облике его сохранялось что-то от ранней юности, он носил длинные волосы, скрепляя их золотой заколкой, так что они падали локонами на спину. Братья дразнили Тостига, называя «девчонкой». Гирт – младший, предпоследний из братьев – заработал на этом деле фонарь под глазом.
– Итак, мы добрались до Глостера, – подытожил Квинт, – но еще не перебрались через море в Уэксфорд. Год тысяча пятьдесят первый, так?
– Верно.
– Продолжай.
Сам Квинт, похоже, заранее знал ответы на свои вопросы, но любопытство было его природой, а любовь к истории – страстью, причем его равно интересовало как прошлое, так и будущее. Он говорил на многих языках, на некоторых из них читал и прочел немало, однако стремился получать сведения из первых рук. Куда бы он ни забрел, он не уставал расспрашивать и выслушивать встречных. Высшим наслаждением для него было внимать очевидцу, повествующему о событиях, о которых Квинт знал только понаслышке.
– Что тут рассказывать, – зевнул Уолт. Он был человеком действия, не склонным к размышлениям, и с трудом припоминал, как и что тогда делалось. – Годвинсоны поссорились с королем, северные лорды приняли сторону короля. Мы отправились в Лондон, попытались уладить спор, но Годвина и его сыновей все равно изгнали. Сам Годвин уехал за море, в Брюгге, а Гарольд – в Уэксфорд. Я к тому времени состоял в свите Гарольда.
– И вы искали моллюсков, и Гарольд спас тебе жизнь – причем дважды, – подхватил Квинт.
Но Уолт уже уснул.
Глава шестая
К концу второго дня пути Уолт и Квинт добрались до оконечности Пропонтиды, до мыса, где береговая линия резко поворачивает назад и уходит на юго-запад. Вечером, в тот час, когда Никомидия просыпалась от дремоты, охватившей ее в пору дневной жары, путники вошли в этот красивый город, расположенный на узком перешейке между морем и озером пресной воды. Здесь выяснилось, каким образом Квинт пополняет запасы золотых монет: на рыночной площади путники повстречали трех франкских[185] купцов, бродивших среди торговцев и задававших вопросы, которые те не могли понять, а если кто и понимал, о чем речь, то отвечал на языке, неизвестном иноземцам.
Квинт спросил на ломаном франкском наречии, чем он может помочь. Глава этой троицы, с виду совершенный разбойник – одноглазый, да и зубов у него недоставало – сообщил, что некий монастырь подле Франкфурта снарядил их в Константинополь за ляпис-лазурью. В Константинополе не нашлось подходящего товара: лучшие образцы раскупили иконописцы, работающие в городских монастырях. Приезжим посоветовали отправиться в Никомидию, где жил главный поставщик ляпис-лазури, распределявший краску оптовыми партиями. К несчастью, франки не застали нужного человека на рынке и, не зная обиходного греческого, не могли выяснить, где находится его дом.
Квинт предложил свои услуги. Уолт заметил, что объяснялся Квинт преимущественно с помощью жестов и улыбки. Он легко вступал в разговор, повторяя медленно и четко небольшое количество слов – запас их был явно ограничен. Главное, его поняли; стайка мальчишек взялась проводить чужестранцев с рыночной площади в переулки купеческого квартала. По пути Квинт шепнул Уолту, что, хотя он превосходно разбирается в древнегреческой словесности и владеет той упрощенной формой греческого языка, на которой написаны Евангелия, современные диалекты Вифинии даются ему не без труда.
Купцы, торговавшие ценным, экзотическим товаром, здесь, как и на северной стороне Золотого Рога, были преимущественно евреями. На стенах рядом с воротами их домов были вырезаны или нарисованы красками мистические символы древней веры: семисвечник, пересекающиеся треугольники, образующие звезду Давида, и другие, более причудливые и таинственные знаки. Обычно за крепкими решетками, железными или бронзовыми, таился маленький сад, полный цветов. Двор Симона бен Давида, купца, специализировавшегося на ляпис-лазури и других редких минералах, не представлял собой исключения.
Один из мальчишек забежал вперед предупредить об их приходе. Только потом Уолт и Квинт узнали, кто и как воспользовался этим предупреждением. Их уже ждали. Раб, явно не из числа евреев, открыл скрипучие ворота, провел гостей по короткой мощеной дорожке мимо алебастрового фонтанчика к двери из отделанного серебром кедра. Навстречу вышла дама. Хозяйке близилось к тридцати, и все же она отличалась поразительной красотой. По аристократической моде Константинополя длинные черные волосы были уложены локонами; платье из тонкого муслина доходило до сандалий, однако так облегало тело, что больше открывало взгляду, нежели скрывало. Высокий лоб, выдающиеся скулы; разрез глаз напоминал миндальный орех, цвет кожи – бледную желтизну увядших оливковых листьев. Несколько родинок подчеркивали своеобразие этого лица. Полная грудь, талия, ждущая объятий, бедра – столпы совершенства.
Слегка улыбнувшись, дама повела гостей по короткому коридору. На стенах горели масляные лампы, и в их свете отчетливо проступал изящный круп, энергично двигавшийсяпод муслиновым платьем. Женщина постучала еще в одну деревянную дверь, изнутри донесся хриплый возглас. Уолт и Квинт, а также трое франков приняли этот звук за приглашение войти. Дама распахнула дверь и отступила в сторону, пропуская их в комнату.
– Можешь идти, Джессика. Я позову тебя, когда понадобится проводить гостей.
Позднее Квинт пояснил, что именно эти слова произнес хозяин дома, причем на обиходном греческом языке.
– А не показалось ли тебе тогда странным, – спросил Уолт, – что еврей говорит с дочерью по-гречески?
– Она ему вовсе не дочь.
– Но мы оба принимали ее за дочь купца.
Комната была тускло освещена, скудный свет был направлен на большой стол, за которым сидел старик с огромной седой бородой и длинными седыми волосами, выбивавшимися из-под маленькой шапочки. Как у многих его сородичей, у этого купца был изрядный висячий нос. Свет падал из высокого зарешеченного окна с незадернутой шторой. Хозяин дома, кутавшийся в складки широкого кафтана из габардина, по-видимому, страдал простудой или лихорадкой: без конца кашлял и чихал и даже в душном помещении не снимал с рук шерстяных рукавиц. Посетители не обращали внимания на старика, все взгляды были прикованы к столу.
На столешнице лежала груда камней. Но каких камней! Размером от куриного яйца до небольшой тыквы, все они были неправильной формы, кроме одного, представлявшего собой ромбический двенадцатигранник длиной добрых восемнадцать дюймов. Минералы были синего цвета, синева их переливалась от голубизны ясного неба в ту пору, когда день начинает медленно переходить в вечер, до насыщенного ультрамарина, глубочайшей морской синевы. Одни имели лиловый оттенок, множество других были усыпаны точками, что придавало камням еще большее сходство с ночным небом, на котором уже показались золотистые звезды.
– Матерь Божья! – пробормотал Квинт и обернулся к франкам. – Это стоит тысячи, тысячи. Их вес в золоте и более того.
– Откуда ты знаешь? – нетерпеливо спросил Уолт. – Что это вообще такое?
Квинт отвел его в угол около двери, схватил за отвороты куртки у самого горла и хрипло зашептал:
– Это ляпис-лазурь, лазурит, синий камень. Лучшая лазурь, какую я когда-либо видел. Никто не знает в точности, откуда она берется. Говорят, привозят из Тартарии, хотя в Персии ее тоже находят. Лучшую ляпис-лазурь – такую, как эта, – добывают в Бадахшане, в долине реки Кокча, текущей на север, в Оке[186]. Это в тысячах миль к востоку отсюда, к северу от Крыши Мира. Но само место добычи хранится в тайне.
– Для чего нужен этот камень?
– Как для чего? Он хорош сам по себе, существует, и все тут. Случалось ли тебе видеть ярко-синие рисунки на полях рукописи или изображение неба в Часослове? Чтобы добиться подобного оттенка синевы, растирают в пыль такой вот камень и наперсток этого порошка смешивают с аравийской камедью. Арабские ученые научились добавлять ляпис-лазурь в расплавленное стекло, фонари под сводами мечетей выглядят точь-в-точь как небесные светила, и простакам кажется, будто их рай и в самом деле существует. С этой же целью и христиане на Западе и на Востоке раскрашивают окна своих церквей. А также, разумеется, короли и знать охотно носят самые красивые из этих камней, оправив их в золото. Лазурь используют для окраски фаянса и эмалей...
Тут один из франков потянул Квинта за рукав и задал ему какой-то вопрос.
– Сколько? – проревел Квинт в ответ. – Глупец! Столько, сколько у вас есть, до последней полушки. Отложите себе лишь на обратный путь до Франкфурта, впрочем, если понадобится, вы всегда сможете расплатиться ляпис-лазурью. И не забудьте вознаградить услуги переводчика!
Франки начали извлекать золотые монеты из мешков, кошельков и потайных карманов. Одна монета перешла к Квинту, он попросил еще и получил вторую. Бородатый старик, не снимая рукавиц, сгреб все золото во вместительный кожаный кошель. Франки принялись наполнять мешки голубыми камнями. Все слегка запыхались от спешки и напряжения, но вот продавец и покупатели распрямились, оглядывая опустевший стол, обменялись смущенными полуулыбками – каждая сторона считала, что выгода в этой непростой сделке досталась ей. И вдруг густая капля крови упала сверху прямо на то место, где только что сверкали золото и камни. Мужчины подняли глаза к потолку из древесины кедра. В щели между двумя планками набухла вторая капля и с тем же чмокающим звуком упала на стол.
Человек, сидевший за столом, одним движением сорвал с себя бороду, волосы, шапочку и нос – это была единая маска, сделанная то ли для забавы еврейских детей, то ли на потеху гоям[187]. Под этой маской скрывался высокий блондин едва ли двадцати лет от роду. Правую руку он проворно сунул под стол и вытащил длинный меч, левой самозванец схватил небольшой топор – англичане и даны использовали такие топорики как метательное оружие. Лезвие было густо окрашено кровью.
Левой рукой, помогая себе обрубком правой, Уолт мгновенно перевернул тяжелый стол, придавив блондина к стене.
– Мать твою, Освальд! – крикнул он.
Один из франков вытащил из рукава острый нож и, перегнувшись через край стола, раскроил ряженому горло под ухом, умело перерезав сонную артерию. Уолт и два других франка тем временем удерживали стол, не давая блондину его оттолкнуть. Кровь наконец перестала течь, замер бившийся под кожей пульс, и глаза умирающего покрыла смертная тень. Тогда они поставили стол на место, и мертвец соскользнул на пол.
– Кто этот Освальд? – спросил Квинт.
– Он родом из Нортумбрии, дружинник Моркара. Я знал его в лицо.
Что же теперь делать? Франки, в особенности одноглазый, хотели убраться подобру-поздорову, прихватив с собой золото и лазурь, но Квинт воспротивился: бегство навлекло бы подозрения на всех пятерых. По всей видимости, наверху лежал убитый человек, другой труп распростерся прямо перед ними, и если из дома купца исчезнут камни и золото, во всем обвинят иноземцев. Лошадей у них не было, а городские стражи разъезжали верхом – они быстро настигнут беглецов. Квинт настоял на том, чтобы сразу обратиться к властям и поведать о случившемся. Золото и камни они взяли с собой.
В суматохе они совсем забыли о смуглой красавице Джессике и спохватились лишь тогда, когда вернулись в дом в сопровождении двух магистратов и пяти солдат. К тому времени Джессики и след простыл. Исчезла ее одежда и украшения. Злополучный супруг, ничуть не похожий на того старика, каким изображал его Освальд (ему было около сорока пяти), лежал на полу своей спальни. Его убили одним ударом топора в плечо и шею – лезвие разрубило ключицу, прошло сквозь ребра и глубоко вонзилось в грудь. Страшный удар, один из тех, какими славились жившие в Нортумбрии даны.
При виде магистратов с фасциями раб, открывавший калитку, живо разговорился и поведал такую историю: с год тому назад в дом Симона проникли воры и похитили немало товара, а также деньги. Примерно в то же время в городе появился Освальд, предлагавший свои услуги в качестве стража или телохранителя. Молодой человек имел при себе топор и меч, шлем и кольчугу, однако щита у него не было. Откуда он взялся, почему пришел в Никомидию, никто не знал, ходили слухи, что он намеревался вступить в императорскую гвардию, однако служившие в Константинополе англичане ославили Освальда трусом и изменником и не приняли в свои ряды. Так или иначе, Симон нанял этого человека, а тот, благодаря своему росту, крепкому сложению и привычке баловаться с оружием, отпугнул от дома купца всех грабителей.
Освальду нечем было заняться, а дьявол, как известно, найдет работу для праздных рук. В скором времени руки Освальда уже поглаживали грудь его хозяйки, потом пробрались пониже, да и ей куда больше нравилось тешиться с молодым крепким парнем, чем со своим мужем. В тот самый день Симон застиг любовников во время сиесты. Он приказал Освальду убираться на все четыре стороны и поклялся развестись с Джессикой, тем более что давно имел виды на одну перезрелую вдовушку.
Освальд болтался на рыночной площади – деваться ему было некуда, – как вдруг услышал, что пришлые франки разыскивают его недавнего хозяина. Он поспешил обратно в дом, зарезал Симона и с помощью любовницы попытался занять место убитого. Прибегнув к такому мошенничеству, парочка рассчитывала продать хранившиеся в доме запасы ляпис-лазури и удрать с вырученным за них золотом, не говоря уж о драгоценностях Джессики.
Квинт и Уолт потеряли два дня, пока шло следствие, свидетели давали показания под присягой и так далее. После этого их отпустили, и друзья продолжили свой путь на юг, в горы, надеясь через пару дней добраться до Никеи. Одну из полученных от франков монет пришлось разменять и потратить часть денег на вяленое мясо, хлеб, виноград, персики и кожаную флягу с вином – они взяли столько продуктов, сколько было не в тягость нести. Квинт собирался идти в Никею горной тропой, обходя большую дорогу с чересчур интенсивным движением, и предупредил, что в пути они вполне могут утолять жажду водой из ручьев и источников, а вот заморить червячка будет нечем.
Глава седьмая
Итак, – произнес Квинт, когда тропинка повела их прочь от оливковых рощ в сквозной лес пробковых дубов и вязов, у подножья которых росли пахучий кустарник и жесткая трава, – итак, в одиннадцать лет тебя начали готовить к службе дружинника. Наверное, трудно было.
– Только вначале, потом мы освоились, и такая жизнь стала нам нравиться.
– Расскажи, как вы жили.
Уолт призадумался.
– Первые два года мы все время переезжали с места на место. Несколько месяцев мы пробыли в Ирландии, пока Годвин не покинул Брюгге, получив из Уэссекса сообщение, будто таны предпочли его какому-то нормандскому выскочке. Но все обстояло гораздо серьезнее: ублюдок Вильгельм воспользовался отсутствием Годвина и сам приехал в Лондон. Многие подозревали, что Эдуард пообещал сделать его своим наследником. Мы снова сели на корабль – жуткое дело...
– Что за корабли у вас были?
– Длинные, как отсюда до того валуна, обросшего седым лишайником.
– Значит, двадцать, двадцать пять шагов.
– Шага три в ширину – это посередине, а на носу и корме не будет и шага. Борта – в рост высокого мужчины, если мерить снаружи, на берегу, но корма и нос подняты и загибаются. Когда судно спускали на воду, оно давало такую осадку, что можно было рукой коснуться воды.
– А как их строили?
– Дубовые доски сколачивали железными гвоздями, щели конопатили пенькой...
– Что это такое?
– Грубые льняные волокна – их отделяют от более тонких, годных для прядения нити.
– А, очески. И потом пропитывали смолой?
– Верно. Или сосновой, или похожей на нее смолой из угольных залежей Кента. На дне, под палубой, был трюм для груза или балласта. Мы складывали туда оружие, которым не пользовались в плавании, и запасы пищи на случай, если поднимется встречный ветер. На палубе с каждой стороны ставили по дюжине скамей для гребцов. Поднимали красный парус, обычно его украшали гербом господина или какой-нибудь устрашающей эмблемой, например, изображением ворона. Кроме гребцов – они, конечно, набирались из числа ближних слуг – на корабле могли поместиться около тридцати воинов или несколько лошадей. В спокойную погоду, при легком попутном ветре, путешествие по морю казалось даже приятным, неплохо было и в штиль, пока нас не стали сажать на весла, но в сильное волнение, не говоря уж о шторме, эти посудины превращались в настоящий ад.
– По крайней мере, в аду не утонешь. Вы же смогли перебраться через Ирландское море.
– Еле дошли.
– Но ведь вы, англичане, в особенности те, кто происходят от датчан и норвежцев, гордитесь своими талантами мореходов. Разве нельзя было построить большие, более надежные суда?
– Наверное, можно. Но зато боевые ладьи недороги, их ничего не стоит построить и не жаль потерять. В каждой гавани работают корабелы, которые сооружают купеческие и рыболовные суда. Их строят на многие годы; медными, нержавеющими гвоздями прибивают доски к остову из выдержанного дерева. Такие корабли дорого обходятся, и содержать их накладно, они должны, так сказать, оправдывать себя. А когда королю или эрлу понадобятся боевые суда для защиты побережья или для набегов, корабелы сколачивают их на скорую руку железными гвоздями. Весь материал у них под рукой, и доски распилены загодя. Отслужившие ладьи обычно разбирают на части, дерево сохраняют, а проржавевшие гвозди выбрасывают.
Квинт был из тех людей, кого больше всего на свете интересует человек и его тайны – тайны корабельного ремесла волновали его гораздо меньше.
– Ладно, вернемся к тому, как вы плыли по морю из Уэксфорда – куда?
– В Порлок, графство Сомерсет. Там состоялась битва с королевским войском, погибло тридцать танов, но мы опоздали к сражению. Наше судно сбилось с курса и отстало от других. На берегу нас ждали гонцы Годвина...
– Кстати, вот чего я в толк не возьму, – перебил Квинт. – Как ты оказался в свите Гарольда, который владел Кентом, а не среди слуг Годвина, эрла Уэссекса, к числу которых ты сперва принадлежал?
– Я и сам не знаю. Наверное, когда мы покидали Англию, Годвин уже понимал: дни его сочтены. Он хотел, чтобы Гарольд унаследовал Уэссекс, вот и старался окружить его танами и дружинниками из местных. А может быть, в предотъездной суматохе произошла какая-то путаница. Так вот, эти гонцы...
– Да, продолжай. Извини, что перебил.
– Гонцы пришли к нам от Годвина и сказали, что вместе со Свеном и Тостигом он собирается плыть вдоль южного побережья на запад, разоряя по пути деревни, а Гарольду приказывает заняться тем же, продвигаясь на запад вдоль северных берегов Девона и Корнуолла, затем обогнуть Лендз-Энд[188] и двигаться к востоку, чтобы соединиться с Годвином в гавани Портленда...
Уолт на мгновение смолк, чтобы отдышаться. Последние шагов пятьдесят они поднимались почти вертикально вверх, да и солнце припекало.
– Присядем ненадолго, – предложил Квинт. – Мои ноги старше твоих и уже болят. Можно, как говорится, раздавить по виноградинке. – Он достал большую гроздь из плетеной корзинки, купленной у зеленщика за медный грош.
Усевшись на двух плоских камнях, путники ели виноград, рассматривая внизу холмы и леса, которые они только что миновали. Квинт с раздражением выплевывал виноградные косточки.
– В зубах застревают, – пожаловался он и продолжал: – Ты говоришь, набеги. С какой стати вы грабили соотечественников? Отнюдь не лучший способ приобретать друзей или вербовать сторонников, а ведь в споре с королем и нормандцами Годвинсоны крайне нуждались в поддержке.
Уолт рассмеялся.
– Набег набегу рознь, – сказал он.
– То есть как?
– По нынешним временам нападение с моря, тем более когда корабли плывут вдоль побережья, никого не может захватить врасплох. У каждого селения, имеющего свою гавань, в устье любой реки – ведь боевые суда с малой осадкой могут заходить далеко вверх по реке, а по большим рекам даже на двадцать, на тридцать миль, – у каждого порта, всюду, где могут причалить нежеланные гости, стражи бдительно следят, не приближаются ли со стороны моря пираты. Дозорные предупреждают жителей окрестных городов и сел, и те успевают подготовиться к обороне: забрав скот и ценные вещи, таны и крестьяне укрываются за крепостными стенами, построенными добрым королем Альфредом[189], а из отдаленных мест люди бегут в лес или в горы. Что могут сделать морские разбойники? Сожгут урожай или пару-тройку домов, вот и все. Обычно их не так много, чтобы решиться на осаду, а если и попытаются, город сумеет продержаться, пока местный тан или король не пришлет войско.
– Тогда зачем же Годвин и его сыновья занимались береговым пиратством летом тысяча пятьдесят второго года?
– Нужно было выяснить, как относятся к ним былые вассалы. Годвинсонов лишили всех титулов, и ни один человек в Англии не был обязан им ни данью, ни службой. Более того, помощь Годвину и его сыновьям считалась почти изменой. Однако местные землевладельцы вправе были откупиться от Годвина, когда тот угрожал им налетом и для пущей убедительности сжигал пару амбаров. Под этим предлогом таны платили дань своему господину. Так обстояло дело в тех областях, куда направлялся Годвин. У нас с Гарольдом все сложилось иначе.
– Почему?
– В Корнуолле живут кельты, у них своя вера и свой язык, они не слишком-то охотно признают власть английского короля... – Взгляд Уолта устремился вдаль, он рассеянно поднялся, сделал несколько шагов, забрался на каменную ступеньку над головой Квинта. Постоял там, потом вернулся, пожимая плечами, словно отгоняя от себя воспоминания о том, как в двенадцать лет впервые столкнулся с жестокостями войны.
Пятнадцать кораблей подплывали к острову Годреви. Они устремились к песчаному берегу на северо-востоке залива, оставляя на западе мыс с небольшим монастырем, освященным во имя персидского епископа Ива. В добычу пиратам была предназначена процветающая деревня Хейл. Чем ближе к суше, тем выше вздымаются волны, над ними только ясная синева неба, внизу – глубокая синева моря. Волны ревут и грохочут, дикие морские кони стараются сбросить своих седоков. Парус приходится спустить, гребцы поднимают весла на борт, только кормчий еще орудует большим веслом, направляя судно, ведь чтобы добраться до берега, нужно перевалить через полосу прибоя. Прибой гремит в ушах, ладья мчится быстрее, чем конь, пущенный в галоп, высокая пенящаяся стена окружает нас, и вдруг мы высоко взлетаем, скользим на гребне, и тут же днище оказывается на легком белом песке, запоздалая волна бьет сзади в корму, перекатывается по палубе и обрушивается, как шквал.
Мужчины кричат, хохочут, веселятся, трясут головами, сбрасывая с волос клочья соленой пены, спрыгивают за борт, чтобы судно стало легче и волна вынесла его дальше на отмель. Тимор споткнулся, ударился лицом о рукоятку весла, у него из носа течет кровь, он плачет и отказывается вылезать на берег, упирается до тех пор, пока старина Эрик не выбрасывает его на влажный и мягкий песок. Один из кораблей опрокинулся, и мачта сломалась. Гарольд Годвинсон распекает кормчего, дескать, новую мачту поставят за его счет. Хорошо еще, никто не утонул, а то пришлось бы платить вергельд, пеню семьям погибших.
Кое-кто надевает на себя кольчуги, но большинству лень, им достаточно щитов, мечей и топориков. Все торопятся как можно скорее вскарабкаться на дюну, пройти по гребню с полмили и добраться до Хейла. Три сотни человек шагают по сыпучему песку, оскальзываются, посмеиваясь над собой и товарищами, среди них Гарольд и знаменосец со штандартом, на котором вышит орел. Быстро, почти бегом они продвигались вперед, черные силуэты на фоне горизонта. Мы, мальчишки, стараемся не отстать, Ульфрик впереди, я по пятам за ним, но где нам догнать мужчин, к тому же приходится тащить круглые щиты и дубинки, одежда промокла и обвисла, мы поминутно оступаемся и падаем.
Дюна постепенно переходит в насыпь, отгораживающую море от полей с одной стороны и от болота с другой, и мы видим внизу небольшой поселок: домик повыше, крытый болотным камышом, несколько чахлых яблонь, с десяток хижин, сараи, амбары, а вокруг поселка – плетень. От нас отделяются человек восемь, они проносятся по песчаному гребню, вламываются во двор – куры кинулись врассыпную, собака надрывалась от лая. Врываются в большой дом – мы как раз добежали до места событий и видим это сверху, – потом выскакивают с зажженными факелами и бросают эти факелы на плетеную крышу. Занимается пламя.
– Вперед! – кричит Ульфрик и огромными прыжками несется по склону. Я медлю с минуту, потом бегу следом, за мной – еще кто-то из мальчиков.
В темном, полном дыма углу я наткнулся на раненого кельта. Низенький, темноволосый, с большой черной бородой, как у всех в этом графстве, он лежал навзничь и умирал, голова его была почти отсечена, сквозь перерубленные мышцы шеи виднелись белые кольца дыхательного горла. Его сородич пытался запихать свои кишки обратно в распоротый мечом живот. В дальнем конце зала белобородый старик в длинной куртке стоял, заслоняя собой старуху, молодую женщину и двух внучек примерно моего возраста. Сжимая в руках двуручный меч, он ревел, как зверь, от ярости и отчаяния.
Восемь дружинников окружают седобородого, с минуту смотрят на него прищурившись, а потом разом кидают в него топорики и бросаются вперед, наотмашь рубя мечами. Миг – и они разрубили его на куски, буквально искрошили. Схватив женщин, воины тащат их к дверям. Женщины бьются, визжат, кусаются, раздирают им лица ногтями, а сверху на них обрушиваются горящие куски дерева, летят полыхающие снопы камыша.
Во дворе мужчины содрали с женщин платье, повалили в куриный помет и золу и принялись насиловать, преимущественно сзади, точно сук. Одна девочка сумела вырваться. Черные волосы, личико как у эльфа. С проворством молодой гончей она помчалась к ограде. Отбросив щит, Ульфрик гонится за ней, настигает у самого плетня, бросает наземь и сам валится на нее. Я слышу крик и бегу к пролому в изгороди. Я вижу, как Ульфрик пытается оседлать свою пленницу. В одиночку ему не удается обуздать ее, одной рукой она вцепилась насильнику в волосы, другой царапает лицо, ногой заехала в пах. Но при Ульфрике его дубинка, тяжелая палица из хорошо выдержанного ясеня. Он со всей силы ударяет девочку прямо в лицо. Руки ее слабеют. Ульфрик высвобождается и бьет второй раз – в висок, а потом, одержимый воинским исступлением, своего рода похотью, опускается на колени и молотит свою жертву дубиной по лицу и по плечам, пока стоны не затихают и она не остается лежать неподвижно. Девочка мертва. Я видел, как она умирала. Ульфрик запрокинул голову, издал победный клич, а я подумал – он, должно быть, рад, что пришлось убить ее, ведь он еще слишком юн, чтобы сделать то, что мужчины обычно делают с женщинами, у него бы все равно ничего не вышло.
Заслоняя глаза от солнца, Уолт оглядел тропинку, по которой они поднялись. Примерно за милю до этого места, когда дорожка еще не свернула и поворот не скрылся за деревьями, ему померещилась вдали фигура, закутанная в темный плащ. Внезапно он почувствовал (хотя и не мог вспомнить, когда и где увидел ее в первый раз), что мрачная тень всегда была рядом, шла за ним по пятам с тех пор, как на его глазах, глазах двенадцатилетнего мальчика, его ровесницу забили насмерть, а он не посмел вступиться.
Квинт деликатно кашлянул.
– В Никомидии мне говорили, что по ту сторону водораздела есть источник, вода которого славится чистотой и свежестью. Надо бы добраться туда к ночи.
Уолт поборол себя.
– Да, конечно, – пробормотал он.
– Мы сильно отклонились от темы разговора, начатого этим утром, – заметил Квинт. Он забросил за спину мешок, надвинул поля шляпы и поднял с земли посох с привязанной флягой. – Ты хотел рассказать мне, как обучают дружинников и воинов.
– Да-да. Это две разные вещи. Что касается военной подготовки, тут все просто, – начал Уолт, шагая за своим товарищем – Тут главное длительная тренировка. Нас отвезли в местечко Тидворт-Кэмп к северу от Сарума, и там мы совершенствовались в силе и ловкости под присмотром Эрика.
Обучение проходило втайне, ибо король, заключив мир с Годвинсонами, выдвинул условие: сократить личную дружину и распустить ополчение. Любым войском должен командовать либо сам король, либо поставленные им люди. Отныне все подчинялись королю. Вот почему в первое время нас укрывали в глуши Уилтшира.
Чтобы мы стали крепче, Эрик заставлял нас много ходить и бегать, преодолевать пешком и бегом десятки миль, да не по ровной местности, а вверх и вниз по лысым холмам Уилтшира. На плечах мы несли поклажу, всегда примерно на фунт тяжелее посильного нам веса. Маршируя, мы орали по приказу Эрика всякую несуразицу, что-нибудь вроде: «Ненавидим мы норманнов, а норманны – нас, все норманны – обезьяны, гной течет из глаз» или «Скоты и пикты – трусы, дураки, мы разрубим их лопатой на куски».
Но Эрик старался воспитать нас не только сильными, но и проворными. Отведет, к примеру, в лесную долину, даст небольшую фору и спустит с цепи ирландских волкодавов. Если успеешь перебраться на другую сторону долины, он отзовет псов, промедлишь – залезай на дерево, но сначала покажи на спине или на заднице царапины от собачьих когтей, отметины от укуса. Эрик был мастак на подобные выдумки.
Кроме того, мы учились владеть оружием. В первую очередь держать щит и сдвигать щиты сплошной стеной. Потом мы тренировались с боевым топором – можно его метать, а можно им рубить, увеча врагов. И наконец, мы брались за меч и учились наносить удары сплеча и протыкать противника насквозь. Разумеется, нужно было правильно хранить и чинить доспехи.
– А метать копье или дрот?
– Нет, конечно, – презрительно прищурился Уолт. – Копье, как и круглый щит, в отличие от нашего, в форме листа, – это только для ополчения, крестьян, мужиков.
– А как насчет верховой езды?
– Мы устраивали скачки, развлекались соколиной охотой – знать любит подобные забавы, но к воинскому делу они не имеют отношения.
– Вы никогда не сражались в конном строю?
– Нет. Само собой, мы добирались верхом к месту очередной битвы, но в бой вступали пешими.
– Почему?
– Потому что боец должен крепко стоять на ногах и биться с противником, пока один из двоих не рухнет наземь. К тому же породистые скакуны дороги, а в сражении их могут убить. Я сам видел, как три боевых коня пали под Вильгельмом Бастардом в битве при Сенлаке. Я с трудом мог набрать денег на одного жеребца, а уж на трех...
– Однако...
– Если ты хочешь сказать, что они победили благодаря коннице, лучше помолчи!
Лицо Уолта побагровело от гнева, и Квинт благоразумно предпочел промолчать.
Глава восьмая
Ты говорил о различии между воином и дружинником.
– Воин без души – просто орудие. Вот прекраснейший меч – пусть у него золотая рукоять, отделанная гранатами и филигранным золотом, пусть ножны инкрустированы золотом и драгоценными камнями, пусть сверкает закаленный, отточенный клинок и вспыхивают молнии Тора, – это всего лишь товар, его можно продать и обменять. Он переходит из рук в руки, одинаково служит и добру, и злу. Таков воин, который выходит на рыночную площадь и торгует собой, сегодня дерется за одного господина, завтра – за его врага.
– Допустим. Но ведь наемники всякий раз дают клятву верности.
– Что ж, и клятву можно купить и продать, тем более теперь, когда люди поддаются злу и забывают пути отцов.
Шагов пятьдесят Квинт прошел, размышляя над этим, потом сказал:
– Мы же видели, что в гвардии греческого императора служат те, кто прежде сражался на стороне Гарольда. Может быть, и ты бы оказался среди них, если б твоя рука могла держать меч.
– Поосторожней, голландец или кто ты есть, с тобой я и левой рукой справлюсь!
«Господи, что-то ему сегодня и слова не скажи», – подумал Квинт.
– Вообще-то я фриз[190], той же саксонской породы, что и ты. Но мне не все понятно с этой вашей присягой, – примирительным тоном произнес он.
– Вот именно – тебе не понять.
– Ну так расскажи мне, объясни, в чем я ошибаюсь. Твой ученик смиренно ждет наставлений учителя.
Уолт быстро взглянул на Квинта – не смеется ли он, – но лицо его спутника выражало лишь чистый, неподдельный интерес.
– Клятва дружинника исходит из самого сердца, а сердце его с рождения готовят к этой клятве. Мальчик видит перед собой пример старших, слушает их рассказы, проводит пиршественные ночи в большом доме, прислуживает у стола, внимая песням о подвигах и деяниях предков, а потом подрастает и сам пьет мед за этим столом, поет и играет на арфе. В такие ночи мужчины дают торжественный зарок, налагают на себя обеты, похваляются будущими подвигами, и это не пустые слова, это нерушимое обязательство: воин говорит перед всеми, на что он готов пойти ради своего господина. Вновь и вновь дружинники повторяют, что будут служить эрлу или королю, не ожидая иной награды, кроме права и чести биться бок о бок с ним. Дружинники клянутся также в верности своим сотоварищам, клянутся стоять плечом к плечу, сдвинув щиты. Если человек прожил так двадцать лет, год за годом, смело можно верить его слову. Да, несомненно, ему можно доверять.
Уолт быстро зашагал вперед, размахивая искалеченной рукой, высоко вскинув голову, словно вновь шел в бой вслед за Гарольдом Годвинсоном. «Господи, – снова подумал Квинт, – он сегодня не только раздражителен, но и занудлив, воспринимает себя слишком всерьез». Но худшее ждало его впереди – Уолт вдруг запел. Хорошо поставленным голосом, не слишком высоким для мужчины и не слишком низким.
Вспомним, как мы хвалились в наших застольях медовых,
похвалялись друг перед другом удалью в будущих битвах, –
пускай же каждый покажет свою отвагу.
Я расскажу вам о моих предках:
дед мой был могучий правитель.
Не упрекнуть меня никому из танов...
Но мой конунг пал в битве, и нет тяжелее скорби –
он был мой родич и мой господин...
[191]
Внезапно Уолт рухнул к подножью вяза, обхватив его левой рукой, а правую, искалеченную, принялся кусать и грызть, как расшалившаяся кошка, которая, если ее раздразнить, порой кусает до крови. Квинт подбежал к другу, оторвал его руку от дерева, прижал Уолта к своей груди, сел рядом с ним и принялся баюкать его, точно младенца. Он тоже затянул песню, но совсем другую – ту, что пела ему в детстве мать, когда у него болели зубы, незатейливую песенку о том, как лисица пытается холодной зимней ночью поймать гуся. Нет, думал Квинт, напевая колыбельную и покачиваясь в такт, это не гонор и не бравада, это безумие. В Уолте бес сидит – не тот бес, которого священники изгоняют из одержимых, а глубоко притаившийся демон душевного расстройства. Пожалуй, и в этом случае можно прибегнуть к экзорцизму. Конечно, книга, свеча и колокольчик тут ни при чем. Нужно исследовать душу и потихоньку выдавить глубоко проникший яд.
Припадок миновал довольно быстро, последняя судорога сотрясла тело, челюсти разжались, выпустив обрубок руки. Лицо Уолта казалось теперь лицом спящего ребенка, словно грозовая туча пронеслась мимо и вновь засияло солнце. Он пролежал так с час и очнулся, точно после глубокого сна.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Квинт.
– Превосходно.
Уолт поднялся, потряс головой, потянулся, соединив на затылке здоровую руку и культю, растопырив локти, будто крылья.
– Ну что ж, пошли, – предложил он.
Как ни странно, он, видимо, напрочь забыл о том, что с ним стряслось.
Они снова начали взбираться на холм. Солнце, хотя было еще далеко до заката, почти полностью скрылось за вершиной горы, но дневная жара по-прежнему давала себя знать. Дубовые рощи сменились зарослями ели и сосны, и воздух был напоен ароматом нагревшейся смолы. Когда скрылось солнце, вокруг начали порхать птички, а какая-то пичужка с красной грудью и длинным хвостом рассыпала громкую трель, пристроившись на ветке сосны.
Квинт со свойственным ему любопытством жаждал узнать, помнит ли его друг о событиях, непосредственно предшествовавших припадку (на ум ему пришло греческое слово «амнезия»).
– Ты рассказывал мне о трудах и содружестве воинов, – заговорил он, – о воспитании, вернее, глубинном учении... – Мысленно он продолжил словесную игру, отыскивая в известных ему языках наиболее точный термин. По-латыни «учить» – docere, поэтому учителей называют «докторами». Учение учению рознь, как сказал бы Уолт. Существует рутинная подготовка для практических надобностей, с ее помощью овладевают ремеслом, навыками чтения или письма, иностранными языками. Но как назвать то глубинное воздействие, которое определяет и строй души, и поступки, которые и делают человека таким, каков он есть? «Индоктринация»?[192] Да, пожалуй... – Ты говорил о воспитании, превращающем воина в дружинника.
– В самом деле?
– Да. Но ведь у этого должна быть и другая сторона. Какова ответственность эрла перед вассалами?
– Естественно, у господина тоже есть определенные обязательства. Как же иначе? Ни один человек не станет отдавать другому все свои силы, не рассчитывая на вознаграждение. И нам доставались награды, причем существенные. Лорд зовется «дарителем колец» – золотых колец, разумеется. Кроме того, он заступается за своих людей в суде или в случае раздора, покровительствует их семьям. Когда дружинник состарится и не сможет больше сражаться, эрл наделит его землей. Взаимные обязательства сохраняются и тогда: вассал становится управляющим в имении лорда, его полномочным представителем при дворе или, живя в своей усадьбе, снаряжает ему новых воинов, которые в свой черед станут дружинниками, – Но главное, ты получаешь землю, не обычный надел воина, пять гайдов[193], а гораздо больше, может быть, сотни гайдов – все зависит от твоих заслуг. Это твое маленькое королевство, ты правишь им согласно общим законам, но оно – твое. Ты передашь его своим детям.
Как далеко это от веры и верности, о которых поется в песнях, в той же песне о битве при Мэлдоне, подумал Квинт. Непостижимо, как это уживается в человеческой душе. Такую душу раздирают противоречия, она раздваивается, устремляясь в разные стороны. Это похоже на болезнь. И вновь его ум (также, надо сказать, разносторонний) заметался в поисках слова, означающего разделение души. Греческое «шизофрения» понравилось ему больше прочих.
Он не стал скрывать свои мысли от Уолта.
– Как ты ухитряешься сочетать столь разные вещи? – откровенно спросил он. – Либо ты предан своему господину, потому что принес ему клятву, потому что считаешь свой выбор достойным и честным, либо ты принимаешь от своего господина золотые кольца и земли и служишь ему ради этих благ.
Уолт поглядел на Квинта как на слабоумного.
– Если б господин не одарял меня землей и золотом, как бы люди узнали, что я хорошо и верно служил ему? – удивился он.
– Значит, тебе дорога только слава, сопутствующая этим наградам, а не их реальная ценность?
На этот раз голос Квинта прозвучал так недоверчиво, так насмешливо, что Уолт молча отвернулся от него. Пусть думает что хочет. Таким, как он, все равно не втолкуешь.
Но для Квинта поиск ответа на вопрос был делом столь же насущным, как для Уолта – сохранение собственного достоинства, и потому Квинт не переставал обдумывать все услышанное. Уолт терзается виной, размышлял он, потому что уцелел в битве, в которой погиб король, и от этой вины душа его разрывается на части. Вместе с тем его не оставляют мечты о землях, которые должны были ему принадлежать, об усадьбе, собственных воинах, слугах, свободных и зависимых крестьянах, рабах, а главное – о жене и детях, кровных наследниках. Все эти вещи, безусловно, хороши и желанны сами по себе, но, помимо прочего, дороги мужчине как подтверждение его статуса равного среди равных. Без них саксу, англичанину не житье. Всего этого Уолт лишился, и на душе у него горькая обида, но к обиде примешивается чувство вины, которое только обостряется от того, что он держит в душе обиду на покойного Гарольда.
Что ж, сказал себе Квинт, постараюсь ему помочь, чем смогу.
Глава девятая
Они поднялись на такую высоту, где не было деревьев, где начинались пологие пастбища с жесткой травой и приземистыми, шарообразными кустами тимьяна и лаванды. Длинные валуны с изогнутыми спинами выставляли свои покрытые лишайником горбы над океаном зелени. Кое-где откосы поросли колючими асфоделями, белыми и черными, как на лугу в царстве теней. К вечеру путники добрались до водораздела и по ту сторону его нашли источник. Крошечные светящиеся пузырьки вскипали и лопались в прозрачной ледяной воде. На дне чаши вода казалась бледно-голубой.
Путники разложили костер, сварили кусок солонины с приправой из найденного Уолтом дикого чеснока, доели хлеб и выпили почти все вино. На землю опустилась тьма, путники расстелили мешок, но на этот раз Квинт предложил залезть внутрь – места хватало обоим. Ночь была холодной.
Квинт вскоре уже храпел, а Уолт лежал без сна, вновь возвращаясь к тому, что пришлось в этот день припомнить и рассказать товарищу. Вскоре ему послышался какой-то неясный звук – не то плач, не то пение. Должно быть, какая-то горная сова, подумал Уолт, однако странный голос не унимался. Уолт легонько толкнул Квинта в плечо, чтобы тот перевернулся и перестал храпеть.
Теперь Уолт отчетливо слышал вдали печальное пение-плач – оно доносилось с северного склона холма, по которому они недавно поднялись. Сначала Уолт испугался, не бесы ли это, а может быть, суккубы, демоны, принимающие женское обличие, чтобы соблазнять спящих мужчин. Он даже вспомнил ту кельтскую девочку, которую не спас от Ульфрика. Она ведь была язычница, некрещеная. Не ее ли беспокойный дух тревожит его по ночам? Но пение не приближалось ни на шаг и наконец стихло, растаяло внизу. Уолт уснул. Он очнулся задолго до рассвета и в предутреннем сером сумраке, в жемчужной дымке, опустившейся на вершину горы, вновь увидел странницу в плаще с капюшоном, которая мерещилась ему накануне. Теперь она стояла рядом, наклонясь над поклажей Квинта. Уолт с трудом перевел дыхание, но видение тут же растворилось в тумане. Сердце Уолта сильно забилось, он спрашивал себя, идти за ним или нет, и решил, что не стоит: призрак может заманить его на обрыв, а если это все же не дух, а человек, того гляди, затаится в засаде и нападет из-за спины. Уолт предпочел не вставать и не смыкать глаз.
Однако до рассвета было еще далеко, вина было выпито более чем достаточно, сказывалась усталость от долгого подъема и от случившегося накануне приступа; вскоре Уолт заснул. Он провалился в тяжелую, цепенящую дрему, какая одолевает человека в конце ночи, перед восходом солнца. Проснувшись, Уолт решил, что ему приснилось и пение, и призрачная гостья в плаще. Он не стал говорить об этом Квинту, когда они завтракали хлебом и виноградом, запивая нехитрую снедь ломившей зубы водой.
Первые же лучи солнца разогнали туман, хотя он еще стелился внизу, у реки. Теперь глазам путников открывалась новая, величественная картина: южный склон горы, неровный, обрывистый, тянулся гораздо дальше северного, переходя в розовато-лиловой дали в другие хребты. Над головой звенели жаворонки, темные стрижи мелькали вокруг, почти неразличимые глазом, падали к самой земле, ловя мошек над травой и камнями.
– Пошли, – воскликнул Квинт, – осталось шесть миль, не более, и все под горку. Придем в Никею задолго до заката, а по пути ты расскажешь мне, что произошло в Портленде и после Портленда – когда? Шестнадцать лет тому назад?
– Все это было до того, как нас отправили в Тидворт-Кэмп.
– Я так и понял.
Поразительное зрелище: сотня, а то и больше боевых судов стоит на якоре с подветренной стороны замка, построенного Альфредом и укрепленного Канутом, часть кораблей вытащили на берег к востоку от Чесила. Вокруг раскинуты шатры, вмещающие более двух тысяч дружинников и танов, обязанных предоставлять в распоряжение лорда одного всадника (как правило, это сам тан или его сын) со всем снаряжением: шлем, щит, кольчуга, две лошади под седлом и два вьючных животных. Верные соратники, рискуя навлечь на себя гнев короля, собрались из Девона, Дорсета и Гемпшира. Все понимали, что примерно в девяти милях, по ту сторону залива, где собираются чайки и крачки добывают в волнах мелкую рыбешку, там, на белых утесах Осмингтона и Дердль-Дора, стоят люди короля, а с ними, вероятно, и люди Роберта, графа Кентербери, и Сиварда, графа Нортумбрии, и наблюдают за ними, пытаясь оценить число приверженцев Годвина.
– Мы все собрались на пир в большом зале, построенном отдельно от дворца. Мы не вставали из-за столов три дня – не только веселья ради, но затем, чтобы за круговой чашей повторить и подтвердить старинные клятвы. А потом войско вновь взошло на корабли и отправилось обратно на восток по Соленту, заходя во все гавани, высаживаясь в Портчестере, Бошеме, Шорхеме, Нью-Хейвене и так далее вплоть до Певенси. На этот раз не было нужды маскироваться под пиратов. Некоторые утверждают, будто мы шли морем до Фолькстоуна, но я был там, и я говорю: Певенси. Это был настоящий триумф. Таны и горожане – все выходили навстречу, бежали в гавань, поднимались на городские стены, все обещали нам поддержку, если король откажется вернуть Годвину права и привилегии. Люди боялись – если Годвинсоны не возвратятся, король продаст страну ублюдку Вильгельму и его нормандцам.
Из Певенси мы двинулись пешком в Тон-Бридж-Уэллс, где такие же источники, как тот, из которого мы вчера пили. Сам Тон-Бридж – маленький городишко на дороге Медуэй, одной из трех дорог через большой лес Андредесвилд, который тянется на добрую сотню миль с востока на запад и миль на сорок с севера на юг. Дальше мы поднялись по холмам Норт-Даунс до пастбища, окруженного кольцом Семи дубов[194]. Кельты – среди нас было немало кельтов, не только рабы, но ирландские, уэльские наемники, – призадумались, опечалились и стали толковать о своей старинной вере. Говорили, многие все еще живут словно дикие звери, эльфы или гоблины в том зеленом лесу, через который мы шли. Они выходят оттуда в определенные дни, например в день святого Иоанна Крестителя, совершать свои чудовищные обряды в кольце этих дубов.
Священники (из числа нормандцев) хотели срубить деревья, но местные таны запретили им: в народе верили, что это повлечет за собой чуму и скотский мор, а потому люди готовы были драться насмерть с дровосеками, лишь бы не допустить гибели древней святыни.
– Нормандские священники? Они чем-то отличаются от английских?
– Конечно, особенно монахи и настоятели больших соборов в Лондоне, Кентербери, Винчестере. Они такие придирчивые, дотошные – идет ли речь о десятине и других доходах, предоставленных им королем, или о церковной дисциплине и учении. Особенно они нетерпимы к старой вере и ее обычаям – не важно, англы принесли эти обычаи с собой или же их соблюдали еще древние кельты. А еще, эти священники не должны жениться и требуют подобного воздержания от всего духовенства, хотя, как мне говорили, в Писании ничего об этом не сказано. В общем, угрюмые люди, во все вмешиваются, всем командуют, все у них поправилам, все из-под палки. Даже милостыня и попечение о больных не от доброго сердца, а согласно уставу.
Квинт яростно закивал головой, подтверждая каждое слово Уолта, и его розоватый нос сделался пунцовым, однако весь его комментарий сводился к сердитому бормотанию: «Чертовы клюнийцы!»[195] – что это значило, он объяснять не стал.
– И вот, – продолжал Уолт, – мы пришли кратчайшим путем из Певенси в Саутварк, стоящий на южном берегу Темзы напротив Лондона. Прошло всего девять-десять месяцев со дня нашего бесславного изгнания. Жители Лондона, то ли из искренней любви к Годвину, то ли из страха, приняли нашу сторону. На собрании Витана в новом здании Большого Совета в Вестминстере состоялась торжественная церемония: Годвин и его сыновья принесли присягу королю и поклялись, что невиновны в тех преступлениях, в которых их обвиняли. Король был вынужден принять эти клятвы и поверить им!
– Оттого, что войско, набранное Годвинсонами, оказалось больше королевского?
– Отчасти поэтому, – ответил Уолт, хмурясь, как он обычно хмурился, когда Квинт неправильно понимал самые простые вещи, – но главным образом потому, что когда такие знатные люди дают общую клятву, им полагается верить, разве что найдется столько же или больше знатных людей, которые присягнут, что первая клятва была ложной.
– А факты? – возмущенно переспросил Квинт. – Годвин шестнадцатью годами раньше ослепил старшего брата короля, а потом убил его; Свен похитил и изнасиловал настоятельницу монастыря и убил своего кузена Бьерна; да и прочие их делишки – эти факты ничего не стоят?
– Как же, иногда и они что-то значат. Но только в том случае, когда после клятвы переходят к разбору дела, то есть если найдется достаточно свидетелей, которые присягнут, что эти люди виновны.
– Итак, ваша общая клятва пустой звук, она показывает лишь силы, какими располагают истец или обвиняемый.
– Я не законник. – Уолта явно сердили нападки на древний обычай, английский обычай как-никак, – Могу сказать одно: эти клятвы, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, – главное в суде, и чем знатнее человек, тем весомее его клятва. Если присягу приносит лорд, владелец нескольких маноров, то чтобы опровергнуть его клятву, понадобится два десятка танов помельче. Это справедливо, на этом держится наше общество. Если слово одного человека приравнивать к слову другого, не станет никакого порядка.
– Пусть так. Другими словами, ваши судебные законы поддерживают и выражают могущество знатных людей.
– Разумеется. А на что иначе закон? Он блюдет права знатных людей, не допуская при этом войн, смут, убийств, разрушений.
Квинт резко остановился, ухватив Уолта за рукав. В его глазах сверкнул восторг – восторг интеллектуала, завзятого спорщика.
– Одной фразой, – воскликнул он, – одной только фразой ты опроверг целые груды томов, написанных исследователями закона и справедливости!
– Не я, – скромно возразил Уолт, – а мы, англичане.
«Что за нация прагматиков, до чего же они склонны к самообману!» – подумал Квинт. А может быть, таково истинное определение прагматизма – умение обманывать самого себя, не замечать ни идеалов, ни правил, ни обычаев, если они стоят на твоем пути? Уолт тем временем продолжал рассказ:
– Как бы то ни было, в тот раз никто не оспорил их присягу, и Годвин с сыновьями вернул себе титулы и земли. Нормандец Робер, епископ Кентербери, был изгнан из страны, и множество других нормандцев составили ему компанию. Место Робера занял англичанин Стиганд, епископ Винчестерский, женатый человек. Годвинсонам пришлось сделать только одну уступку: Свен обязался совершить покаянное паломничество в Святую Землю. Он умер в пути.
Квинт все еще покачивал головой, бормоча:
– Ну и народ, ну и фарисеи! Люди лорда навеки связывают себя присягой, которую их с рождения приучают считать нерушимой, хотя на самом деле они служат в надежде получить земельный надел. Совершают замысловатые обряды, взыскуя справедливости и торжества закона, а принимают во внимание лишь количество воинов, которыми располагает тот или иной лорд.
К счастью, Уолт понятия не имел, кто такие «фарисеи».
Они вышли на травянистый берег речушки, которая внезапно сворачивала, пробивая себе путь между скалами, и обрушивалась сверху в расположенные каскадом озерца.
Квинт сбросил с плеча мешок, сунул в него руку и вытащил заскорузлый обмылок из козьего жира и березовой золы.
– Прошлой ночью мы спали под одним одеялом, – сказал он, – и теперь, когда мы оказались вдали от зловонных городов, прямо-таки напрашивается вопрос, когда же ты в последний раз стирал свою одежду или мылся сам?
– Я н-не п-помню.
Заикание выдало его с головой: на самом деле Уолт прекрасно помнил. С тех пор миновало два года или даже три. Последний раз он менял одежду в Уолтхэм-Эбби на пути из Стэмфорда в Сенлак. Или нет. Ведь он уже не носит кожаную куртку, что была на нем в тот день. Словно во сне Уолту представилась вдова, на которую он батрачил там, в Нижних Землях: вдова отдала ему плащ и башмаки покойного мужа. Все это он носил до сих пор – хорошие, прочные вещи.
– Словом, давно. Давай-ка найдем подходящий пруд, постираем одежду, а пока она будет сохнуть, искупаемся сами.
Уолту эта затея пришлась не по душе. Мытье, стирка – не мужское это дело. Женщины, те непременно должны очиститься раз в месяц, иначе они и в церковь войти не имеют права, а мужчины могут мыться пореже, только перед каким-то важным событием. А кто постирает одежду – женщин ведь с ними нет?
Ниже по склону хребта виднелись озера побольше, однако к ним нужно было пробираться сквозь розовые стволы кизила, прибрежные ивы, ольху и тополя. Листья что-то шептали, потревоженные легким ветерком. Спускаясь к одному из озер, путники услышали впереди сильный всплеск. «Выдра», – подумал Уолт, но сквозь просвет в ветвях они увидели выходившую из воды женщину. Мелькнули масляного цвета бедро и попка, и женщина скрылась в зарослях на дальнем берегу.
– Господи! – воскликнул Квинт. – Что еще за дьявол?
– Дьявол и есть! – вскрикнул Уолт, став как вкопанный. – Он может принять любой образ, чтобы ввести нас в грех.
– Чушь! – буркнул Квинт. – Какая-нибудь пастушка...
– Где ты видишь овец?
– А может быть, пережиток античности, тень далекого прошлого.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Языческая наяда, дух, фея этой реки.
– Все они исчезли после Рождества Христова.
– Сомневаюсь. В этих местах первые христиане появились двести, а то и триста лет после рождения Господа нашего. Кто знает, может быть, мы первые, кто остановился у этого источника. И думаю, нам есть чему поучиться у народа, населившего нимфами леса и потоки, чтобы лесные и речные девы радовали путников своей красотой, своими плясками. В таких местах я живо ощущаю их присутствие.
Квинт умолк, глаза его подернула мечтательная дымка. Когда же он прервал молчание, то заговорил тем особым, торжественным голосом, каким говорят поэты, когда хотят поразить слушателей своими стихами:
– Тоскующие нимфы покидают потоки и ручьи, окаймленные бледными тополями. Они стенают, распустив по плечам кудри, перевитые цветами, безутешно плачут в сумрачной тени кустарников.
– Ты мог бы стихи сочинять.
– Наверное. Пошли, искупаемся.
– Ты уверен – здесь можно ли?
– Можно. Что бы нам ни пригрезилось, вреда этот призрак не причинит.
Они продрались сквозь заросли кизила и ступили на поросшие влажным мхом валуны у самой кромки озера. Квинт, нисколько не смущаясь, стянул с себя одежку (только шляпу оставил на голове) и погрузил все детали своего наряда в бурлившую воду, потом вытащил их, хорошенько намылил, скатал и принялся бить получившимся жгутом по скале. Все это он проделывал, сидя на корточках, точь-в-точь как женщины, подумалось Уолту, собравшиеся возле реки или большого колодца.
Обнаженное тело Квинта оказалось худым, жилистым, но мускулистым. Алая сыпь покрывала его плечи, на спине виднелись шрамы, оставленные поджившими чирьями, а кое-где из шишек еще сочилась бесцветная жидкость. Увидев эти чирьи, тощие, слегка обвисшие ягодицы, ноги, поросшие редким рыжеватым пушком, белые кривые стопы, Уолт почувствовал прилив внезапной, непрошеной и ему самому не понятной нежности. Квинт взглянул на него через плечо.
– Давай. Следуй моему примеру.
– Это что, обязательно?
– Да – если хочешь и дальше идти со мной.
– Ладно. Но у меня там всякие булавки, пряжки, я не могу расстегнуть их одной рукой. К тому же я вряд ли так ловко справлюсь с бельем, как ты.
– Я помогу.
Прополоскав одежду, они разложили ее на низких кустах («восковником», припомнил Уолт, называется этот кустарник в Уэссексе, его листья кладут в эль, чтобы придать напитку остроту и аромат), потом залезли в воду и приступили к мытью. Тут уж они не помогали друг другу, только Квинту несколько раз пришлось подбирать мыло, когда Уолт выпускал из руки скользкий брусок. Тело Уолта было почти сплошь разукрашено татуировкой. Англичане, во всяком случае – мужчины, так и не забыли варварского обычая, унаследованного от германских предков.
Квинт снял наконец шляпу, и они принялись нырять и плескаться, точно малые ребята, дорвавшиеся до воды. Озеро было холодным. Уолт, которому приходилось грести одной рукой, первым выбился из сил, поскользнулся на поросшем водорослями камне, сел и не мог подняться, пока Квинт не подтолкнул его, просунув ладонь ему под ягодицу.
Это случайное, но чересчур интимное прикосновение заставило Квинта отвернуться, и Уолт впервые получил возможность посмотреть на его макушку сверху. Длинные, редкие волосы прилипли к голове, и Уолт заметил то, чего раньше никогда не видел (Квинт снимал шляпу только перед сном): посреди макушки виднелся круг – неестественно правильный круг совсем коротких волос, не длиннее ослиной шерстки. Вся эта затея с купанием и стиркой казалась Уолту достаточно унизительной, прикосновение руки Квинта к его ягодицам смутило англичанина не меньше, чем самого Квинта, так что теперь он обрадовался возможности сквитаться.
– Ах ты, негодяй! – воскликнул он. – Ты же священник, священник-расстрига, трепаный монах!
– Да, – ответил Квинт, обернувшись к Уолту и прищурившись. Солнце било в глаза. – Я был монахом. Вот насчет трепаного ты зря: я тебе уже говорил, это не по моей части.
Уолт покраснел.
– Я не имел в виду... наши ребята в Англии все время так говорят.
Квинт воспользовался минутным преимуществом и продолжил контратаку, стараясь отвлечь внимание Уолта от своей тонзуры и всего, что с ней связано.
– А твоя татуировка? Весь разрисован, и руки, и ноги, и грудь. По-твоему, культурные люди ходят в таком виде?
Вынырнув из воды, Квинт ткнул пальцем в Уолта, не дотрагиваясь, однако, до его тела.
– Тут дракон, там орел, свиток с надписью «Гарольд правит, все хорошо», кинжал, еще один кинжал, с крылышками, а внизу что-то не разберу – это руны, да? Что тут написано?
– «Храбрый побеждает». Мне ее сделали в Херефорде.
– А тут – «У. Л. Э.». Это как понимать?
– «Уолт любит Эрику».
– Забавно. Кто такая Эрика?
– Не твое дело. Квинт, какого черта ты сделался трепаным монахом и ударился в бега?
Квинт наклонился, пощупал разложенную на берегу одежду, по-прежнему уклоняясь от ответа.
– Не высохла еще, – пожаловался он. – Давай пока поедим, а когда высохнет, пойдем дальше.
Он вытащил из мешка какую-то рухлядь, порылся, разыскивая что-то, и принялся браниться на греческом, латыни и прочих известных ему языках. Уолт понял только, что пропали остатки еды и золотая монета, а то и две. Квинт давно не пересчитывал деньги и не помнил в точности, сколько их должно было быть.
Глава десятая
– Лиса? – предположил Уолт. Им пришлось идти натощак, и Квинт явно злился. – А может, бобр? Видал я наглых бобров на реке Стаур, возле Иверна, откуда я родом.
– Нет, это она. Бесстыжая бабенка.
– А как же нимфа, тоскующая в чаще?
Квинт остановился, вынудив и Уолта замедлить шаг, обернулся и погрозил ему пальцем.
– Уолт! – произнес он, сощурив голубые глаза и насупившись. – Ты мне нравишься, но иногда тебе лучше помолчать!
Уолт только плечами пожал. Они пошли дальше и с милю отшагали в молчании. Идти приходилось то вверх, то вниз, через леса и возделанные поля. Там и сям овцы и козы щипали невысокую пожухлую траву, тянулись к нижним веткам деревьев. Если скот приближался к пшеничному полю, присматривавшие за стадом мальчишки принимались орать и швыряться камнями. Наконец путники добрались до невысокого холма с пологим склоном и увидели примерно в двух милях впереди трущобы предместья, дальше – крепостные стены из кирпича, а над ними – едва различимые на таком расстоянии высокие крыши и купола.
– Никея, – возвестил Квинт. – Колыбель современного христианства. Здесь эта вера утвердилась семьсот лет назад.
– Родина Господа нашего Христа, а стало быть, и нашей веры – Вифлеем. – Уолт постарался сказать это не слишком резко, чтобы вновь не обидеть Квинта.
– Изложи мне обстоятельства, сопутствовавшие зачатию и рождению Господа нашего, как ты их разумеешь. – Теперь уже в голосе Квинта отчетливо слышалась ирония.
– Это всякий знает, – ответил Уолт твердо. – Меня наставляла в вере мать, а она была хорошая женщина, мудрая и благочестивая, а еще приезжал священник из Шефтсбери, он учил нас и готовил к причастию.
– Ну, выкладывай.
– Святой Дух явился Деве Марии в образе голубя, она зачала и родила Сына, который и есть Иисус, Господь наш и Спаситель. Ведь так?
– А кто послал голубя? От кого он, так сказать, исходил?
– От Бога-Отца.
– А какой Он?
– Я видел много икон. Он восседает на троне на небесах, у Него белая борода. – Уолт попытался припомнить еще что-нибудь. – А в храме Премудрости Он был без бороды.
Тропинка, по которой они шли, слилась с проезжей дорогой из Никомидии и Константинополя в Никею. Уолт и Квинт оказались среди оживленного движения: мимо них проходили верблюжьи караваны, отары овец, которых гнали в город, чтобы наутро продать на рынке, громыхали телеги, груженные фруктами и овощами, проскакал отряд легковооруженных всадников, тяжелые доспехи везли следовавшие за ними мулы. Прикрыв глаза, не обращая внимания на шум и суету, Квинт забубнил на монашеский лад:
Почтим единого Бога в Троице и Троицу в Единстве,
Не смешивая лиц и не разделяя сущности.
Ибо иное лицо у Отца, иное у Сына, иное у Духа Святого.
Не сотворен Отец, не сотворен Сын, не сотворен и Дух Святой.
Непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святой,
Вечен Отец, вечен Сын, вечен и Дух Святой,
Впрочем, не трое вечных, но один вечный,
Равно как не трое непостижных, не трое несотворенных, но один непостижный, один несотворенный...
Не вытерпев, Уолт перебил его.
– Что за чушь? – вскричал он.
– То-то и оно. Не слишком похоже на Бога-Отца в небесах, Духа в виде голубином и Младенца в яслях. Трудно даже представить себе три более несходные, отнюдь не «нераздельные» сущности.
– Так что ты сейчас говорил?
Квинт повел рукой, указывая на крепостные стены – до них было уже не более мили.
– Здесь, – объявил он, – в лето Господне триста двадцать пятое новообращенный император Константин созвал на совет всех епископов и учителей Церкви.
– Зачем?
– Прежде всего ты должен понять, что для Константина принятие христианства было политическим актом. Свыше половины его подданных сделалось к тому времени христианами, и это были самые достойные люди – труженики, законопослушные граждане, включая и значительную часть армии. Но оставалась загвоздка: хотя христианская вера объединяла столь многих людей, сама Церковь была разделена. Константин мечтал о мире и спокойствии, о согласии всех христиан. И вот он собрал ученых мужей и велел им сесть, и подумать, и не прекращать трудов, пока не придут к единому мнению. Ох, как же хочется есть и пить!
Они подошли к северным воротам, прокладывая себе путь вдоль ряда постоялых дворов и забегаловок, где люди на скорую руку перекусывали мелко порубленным, обжаренным на шампуре мясом, которое заворачивали в тонкий слой теста и густо поливали соусом из анчоусов. Иные предпочитали плоские круглые лепешки, запекавшиеся с начинкой из лука, чеснока, маслин и опять-таки с соусом из анчоусов. Их подавали, нарезав треугольниками. Квинт купил по две лепешки каждого вида и доверху наполнил кожаную флягу красным вином. В кошельке, висевшем у него на поясе, не хватило медяков, и Квинту пришлось пошарить в поклаже, чтобы расплатиться.
– Сука! – пробормотал он. – Уверен, она прихватила не только наш завтрак, но и пару золотых монет.
Наконец он откопал червонец, и продавец протянул ему лепешки с мясом и пригоршню медяков.
У ворот собралась небольшая толпа, радостно глазевшая на бродячих артистов: один из них глотал огонь и вновь изрыгал пламя, второй бренчал на расстроенной лютне и в такт дребезжащим аккордам пел надтреснутым голосом грустную песенку о том, что все ответы уносятся ветром. Квинту ни то, ни другое зрелище не приглянулось. Чуть в стороне от дороги в тени городской стены был оборудован небольшой гимнастический зал под открытым небом, где юноши состязались в борьбе, сражались на деревянных мечах, метали копья, поднимали тяжести. Путники устроились на невысоком травянистом холме, откуда они могли наблюдать за упражнениями юнцов.
Набив рот хлебом и мясом, отирая соленый коричневый соус, Квинт продолжал ученый доклад о Никейском соборе.
– Труднее всего было примирить ариан – их возглавлял некий Арий – и сторонников Афанасия, весьма смышленого молодого человека. Это он составил «Символ Веры», который я только что процитировал. Наиболее ожесточенные споры вызывал Сын Божий. Дай-ка сюда вино.
Квинт привычным жестом поднял флягу и, легонько надавив, направил себе в рот винную струю, ловя ее на лету языком, как собака лакает струю воды или молока.
– Уф, полегчало. Арий утверждал, что Сын Божий потому и зовется Сыном, что Он создан Отцом, то есть некогда Отец существовал, а Сына еще не было. Афанасий возражал: Отец – Бог, и Сын – тоже Бог, и оба нетварны. Константину вообще-то ближе было суждение Ария (он во всем любил порядок), однако он согласился с решением Собора и поддержал Афанасия.
– Но какое отношение это имеет к главному?
– А главное – у нас что?
– Рождество Господне, Распятие, Воскресение, искупление грешников.
– Да никакого. Зато единая Церковь стала союзницей единого государства, и всевластное государство получило возможность вмешиваться в нашу жизнь в любой момент и по любому поводу. Пошли, надо найти гостиницу.
– А денег хватит?
Квинт приостановился.
– Может, и нет. Что ж, добудем где-нибудь. Одно дело – ночевать в лесу, другое – на улице. Там нас ограбили, а здесь, поди, и глотку перережут. – Квинт вытер руки о большой лист каштана, который служил ему салфеткой, смял лист и отбросил в сторону. – Дай-ка еще вина. Нужно избавиться от скованности.
– Что-что?
– Разгуляться, распоясаться и вволю повалять дурака.
Они вернулись к широким северным воротам и пробились сквозь толпу. Зрителей теперь развлекал только один актер, высокий, худощавый, с черными волосами, с аккуратной бородкой, не скрывавшей глубоких морщин, которые сбегали от высоких скул к уголкам рта и придавали его лицу безутешно-меланхолическое выражение. В глазах застыли боль и усталость. Уолту показалось, что этого человека он уже видел, вот только не мог вспомнить – где. Может быть, встретился с ним случайно, когда скитался по Европе, но воспоминания об этом времени сделались расплывчатыми, похожими на сон.
Этот человек был фокусником. Старуха в переднем ряду зрителей держала в руках корзинку с фруктами, поверх которых лежало три яйца. Фокусник взял одно и тут же показал толпе пустую руку, а другой рукой выхватил яйцо откуда-то из воздуха, выпустил его – хрупкий белый шарик упал к ногам старухи и раскололся. Старуха завопила, но фокусник указал ей на корзину. Она глянула – там было уже четыре яйца вместо прежних трех.
Тем временем Квинт остановился в нескольких шагах от зрителей, передал Уолту заплечный мешок, посох и шляпу, сделал стойку и прошелся на руках.
Фокусник в ответ разрезал бечевку на три части, сунул их себе в рот и тут же вытянул обратно целую веревку. Уолт припомнил слова о Троице в Единстве и Единстве Троицы. Если подобное чудо под силу шуту, потешающему прохожих у городских ворот, тем более оно подвластно Богу.
Странное дело: такое же сопоставление пришло на ум кому-то еще в толпе. Послышались вопли: это-де кощунство. А впрочем, ничего удивительного: этот город семьсот лет славился своей дотошностью в богословских вопросах. Обвинение выкрикнул тощий, злобного вида косоглазый человечек, народу он был хорошо известен: в толпе заулюлюкали, окликая его по имени. Человечек выругался и затрусил прочь.
Квинт сделал кувырок назад, прошелся колесом, подпрыгнул, выполнил два полных оборота в воздухе и, попытавшись сделать шпагат, шлепнулся на землю. Он явно ушибся, даже был оглушен падением. Кроме Уолта, на эти акробатические номера никто не обращал внимания, за исключением только что подошедшей женщины. Бросившись на помощь другу, Уолт едва не столкнулся с ней. Выше среднего роста, волосы – рыжие от природы или крашенные хной – уложены в высокую прическу, скрепленную золотой заколкой, и накрыты шелковым платком изумрудно-зеленого цвета. На шее золотое ожерелье, поверх белого шелкового платья со складками накинут ярко-синий плащ, на ногах красовались золотистые туфельки. С виду знатная дама; странно, что она явилась сюда без свиты. Помогая Квинту подняться и справляясь, не расшибся ли он, Уолт почувствовал, как женщина исподтишка рассматривает их обоих, и отчего-то ему сделалось не по себе.
А печальный фокусник тем временем продолжал развлекать толпу, предупредив зрителей, что их ожидает еще одно, последнее увеселение, после чего он намерен обойти их с сумой, и ежели им понравилось представление, – а он от всей души надеется, что понравилось, – они будут так добры бросить в мешок монетку, чтобы нынче вечером у него была еда и кров. Услышав эти слова, толпа тут же рассеялась. Актер погнался за неблагодарными, схватил какого-то старика за рукав, заорал, окликая своих зрителей, да так громко, что все невольно обернулись. Запустив руку за шиворот просторной блузы, фокусник что-то нащупал на спине старика, потянул и извлек... голубя, красивого белого голубя. Подбросив птаху в воздух, он отпустил ее на волю.
– Смотрите, – воскликнул фокусник, – вот вам голубь, исходящий от отца. Ведь ты же отец, да?
– Даже дедушка, – гордо отвечал старик.
Легко и плавно кружась, голубь устремился ввысь, и вот он уже парит над городскими стенами, и все взгляды обращены ему вослед, а тем временем в толпе шустрит мальчишка, срезая у зевак кошельки. Голубь уже почти скрылся из виду.
И вдруг голубь стремглав ринулся вниз, он не летел, а падал, порой приостанавливаясь в своем падении, словно его подшибли стрелой, и то кружился беспомощно, то как будто оправлялся, а потом вновь летел вниз, и наконец...
Тут все заметили девушку, сидевшую на низком пригорке под гибкой пальмой. Черноволосая, красивая, одетая в синее платье с капюшоном, целомудренно укрывавшим голову. Голубь спустился к ее ногам, вспорхнул на колени и принялся ворковать – «гули-гули» – а девушка ласкала его, гладила по головке, все теснее прижимая к себе, словно хотела укрыть в своем лоне.
Кое-кто из зрителей захлопал, некоторые даже кинули монетки в мешок фокусника, но большинство сообразило, что дело нечисто, и бросилось врассыпную. Величественная дама с рыжими волосами, одетая в синий плащ, ушла одной из последних.
Те, кто поспешил уйти, оказались правы: послышался стук копыт, взвилась пыль, в разбегавшуюся толпу врезались четыре закованных в броню всадника. Двое спешились, швырнули поводья товарищам и схватили фокусника. Квинт с яростным воплем прыгнул стражнику на спину, обхватил его за шею, пытаясь повалить, но тут один из воинов развернул коня и взмахнул мечом над головой Квинта. Уолт, метнувшись вперед, успел закрыть друга своим телом, и удар – к счастью, не лезвием, плашмя – пришелся ему по лицу. Он почувствовал боль, услышал грохот страшнее раскатов грома, увидел перед собой яркий – ярче солнца – свет и упал. Тьма окутала его мягким покровом.
Уолт пришел в себя, когда на лицо ему полилась холодная вода из фляги Квинта, но не узнал склонившегося над ним человека. С трудом сосредоточив взгляд, он начал различать черные сросшиеся брови, дерзкий носик и тревожную улыбку. Та самая девушка в синем. Голова его покоилась на коленях мальчика, который вытаскивал или срезал кошельки у зазевавшихся зрителей.
– Что произошло? – спросил Уолт. Голова шла кругом, во рту пересохло, щека и ухо страшно болели от удара, но все это мелочи по сравнению с тем, что выпадало на его долю в прошлом.
– Отец наш... («Который на небесах», – бездумным эхом отозвалось в голове Уолта). Наш отец в тюрьме, и твой друг тоже.
Это сказал мальчик.
– Я шел за ними, – добавил он. – Тюрьма рядом, сразу за воротами.
– Что теперь будет?
– Утром их будут судить. В лучшем случае за нарушение общественного спокойствия, за нападение на стражника и так далее, но, боюсь, всплывет обвинение в кощунстве.
– Папочка такой глупый! – воскликнула сестра, и голос ее задрожал от слез. – Ему кажется, он придумывает очень ловкие штучки, а на самом деле он каждый раз попадает в беду.
Уолт поднялся, опираясь рукой на плечи мальчика, девушка тоже подала ему руку, и они повели его прочь от ворот, на широкую дорогу, где толпились торговцы, предлагавшие готовую пищу, и стояли лотки с хлебом и фруктами. В сумерках тени удлинились, возле некоторых прилавков зажглись факелы или масляные лампы. Торговля шла бойко, там, где готовили мясо, вился, поднимаясь к небу, ароматный дымок.
– Куда мы идем? – спросил Уолт по-английски, стараясь отчетливо выговаривать каждое слово.
– В гостиницу, где мы остановились. Неплохая гостиница. Можешь лечь сегодня на папиной кровати.
Дети объяснялись на смеси английского и нормандского наречий, вставляя обиходные латинские и греческие слова, когда других не хватало. Несмотря на звон в распухшем ухе и гомон большой улицы, Уолт понимал почти все. Девушку звали Аделиза, мальчика – Ален. На глаз Уолт дал бы ей четырнадцать, ему – двенадцать лет.
Гостиница размещалась в двухэтажном кирпичном здании, оштукатуренном и побеленном, с высокими воротами, в которые можно въехать верхом. За воротами тянулся просторный двор, пятьдесят шагов в длину и столько же в ширину, с колодцем посередине. Большую часть нижнего этажа занимала конюшня, тут же помещался и трактир, тесно уставленный столами и скамьями. Там уже собралось множество мужчин и несколько женщин – потаскушки и танцовщицы. Они пили, пели, перекрикивались хриплыми голосами.
Ален пошел взглянуть на лошадь и мула и убедиться, что их напоили и накормили, а Аделиза повела Уолта по лестнице наверх, на небольшую деревянную веранду, скорее даже балкон, крытый красной черепицей. Открыв узкую дверь, они оказались в комнате, где дети жили вместе с отцом.
Тесная комнатка с единственной деревянной кроватью, на кровати – набитый соломой матрас да изношенное одеяло. Еще два матраса лежало на полу. Свет проникал через маленькое окошко. На день его закрывали от жары, но, едва войдя, Аделиза распахнула ставни.
У стены стояло пять больших седельных сумок, на полу валялась кое-какая одежда и обувь. Аделиза уложила Уолта на кровать.
– Скоро вернусь, – пообещала она, погладив прохладной белой рукой его лоб.
– Куда ты идешь?
– Принесу воды и повязку на твою рану.
– Простая царапина.
– Тебе не видно. Самая настоящая рана, глупенький. – Она легонько коснулась его плеча и ушла.
Уолт осторожно ощупал скулу и вздрогнул от боли, дотронувшись до уха. На щеке запеклась густая, еще влажная корка крови. Задние зубы плохо держались в деснах после такого удара, по меньшей мере четыре из них начали шататься. Уолт спустил ноги с кровати, намереваясь встать и поискать зеркало или что-то подобное ему, но тут накатила дурнота, пришлось упереться рукой в стену и наклониться вперед, чтобы голова свесилась вниз. И тут взгляд его упал на один предмет, стоявший у стены и скрытый дорожной сумкой – вот почему он не заметил его прежде. Теперь в глаза ему бросился блеск перламутра и полированного сандала, выложенного золотом. Лучи света скользили вверх и вниз по двенадцати вырезанным из кишок струнам. Уолт отодвинул сумку и посмотрел повнимательней.
Перед ним стояла арфа, самая большая, какую он видел в жизни. Уолт тотчас же узнал ее. Корпус, хранитель звука, был не менее двух футов в длину, внизу расширялся до девяти дюймов в поперечнике, и глубина тоже составляла девять дюймов. Словно маленький кораблик, арфу выстроили из планок твердого, выдержанного дерева, которые крепились к невидимой снаружи раме с помощью медных гвоздиков. Вся поверхность была инкрустирована перламутром и сусальным золотом. Шейка из темного дерева, отполированного до блеска (и, видимо, настолько твердого, что его нельзя было выложить перламутром, хотя и удалось проделать отверстия для колков, на которых крепились струны), поднималась вверх почти на два фута.
Так вот кто этот фокусник, из-за которого Квинт заключен в темницу, а сам Уолт едва не остался без головы. Когда он впервые увидел этого человека – три, четыре года назад? И где – в большом зале Руана? Нет, в Байё. Он играл на арфе и пел на пиру для Вильгельма, герцога Нормандского, и Гарольда, графа Уэссекса. Что же он пел? Ах да, «Песнь о Роланде».
Но как же так? В субботу четырнадцатого октября 1066 года тот человек одним из первых пал под ударами боевых топориков. Уолт собственными глазами видел, как он рухнул на землю. Тайлефер, «Острое железо», менестрель, маг, шут, жонглер герцога Вильгельма, известный всему западному миру как величайший затейник своей эпохи. И спустя два года он зарабатывает себе на хлеб, кривляясь на площади малоазиатского города?
Голова Уолта кружилась. Он опустился на постель, потер глаза, пытаясь вызвать другой образ – не певца и воина, павшего с окровавленным лицом на холме битвы, а того, кто пел и играл на арфе в большой пиршественной зале за год до рокового сражения. Он тоже был темноволос, крепко сбит, но, как помнилось Уолту, осанка у него была горделивей и лицо не столь печальное, без нынешних глубоких морщин. Уолт слегка покачал головой – сильно не мог, слишком больно. Арфа та самая, сомнений нет. Двух таких не найти во всем христианском мире.
А что они делали в Байё, Гарольд и восемь его ближних слуг, восемь телохранителей, последний, надежнейший оплот эрла? Уолт снова покачал головой. Была на то причина, была, то ли приказ короля, то ли какое-то обстоятельство, касавшееся самого Гарольда. Теперь уже не вспомнить, как это получилось.
Он уснул, очнулся ненадолго, когда вернулись Аделиза и Ален. Мальчик приподнял ему голову, девушка смазала лицо елеем и медом, потом обмыла водой и напоила Уолта разбавленным вином.
По приказу короля? Какого короля? Ну, конечно же, Эдуарда Исповедника. Это он послал их в Нормандию, сообразил Уолт, вновь проваливаясь в сон.
Часть II Исповедник
Глава одиннадцатая
Вначале 1065 года Эдуард Исповедник понял, что недуг, терзавший его долгие месяцы, неизлечим. Он быстро уставал, часто ходил по малой нужде, а если пытался удержаться, мочился в штаны, и от мочи пахло медом. Зрение помутилось, стопы немели. Король постоянно чесался, его мучила свирепая, неутолимая жажда. Все эти симптомы усиливались, когда он пил медовуху или лакомился медом. Фрукты не шли ему впрок и овощи также – ни пастернак, который он любил, ни даже капустные кочерыжки. Король вызвал своих врачей. Они легко распознали болезнь, назвали ее греческими словами «диабетес меллитус», что значит «медовая моча», велели избегать сладкой пищи и, поскольку дело зашло уже далеко, дали пациенту не более шести месяцев жизни.
Это известие застигло Эдуарда в Вестминстере, в большом Доме Совета, построенном по его приказу между берегом реки и новым монастырским собором, который король начал возводить четырнадцать лет тому назад. Эдуард частенько наведывался в Вестминстер посмотреть, как подвигается работа, и отдать очередные распоряжения. Собор был его гордостью, он должен был затмить все церкви Нормандии и Лотарингии, вознестись во славу Господа, как памятник благочестию клюнийских отцов и праведности самого Эдуарда.
Высокий худой человек лет шестидесяти, уже совсем седой и сутулый, показался на пороге верхней залы Дома Совета, где собрались его врачи, спустился по ступенькам, опираясь на мальчика-слугу, позвал двух молодых телохранителей и клирика, прошел через большой зал, кивая кланявшимся писцам, монахам, маркитантам и поварам, и вышел сквозь массивные двери на воздух, свежий мартовский воздух, насыщенный ароматом нарциссов – вся королевская челядь, сновавшая взад-вперед, не смогла вытоптать эти цветы.
Король набросил на плечи плащ, хотя в этом не было особой нужды. В его благословенное царствование вот уже двенадцать лет стояла хорошая погода, зимы были мягкие и влажные, лета – солнечные и теплые, но не слишком жаркие. Простой народ объяснял благоденствие святостью короля, и Эдуард не оспаривал это мнение. В конце концов, он и впрямь хорошо служил своему народу, даже если метеорологические явления не были его заслугой.
Он уладил раздоры между самовластными, воинственными эрлами и заключил мир со своими вельможами, предпочитая идти на уступки, нежели ввергнуть страну в хаос гражданской войны. За все время правления Эдуарда викинги лишь однажды потревожили берега Англии, да и в тот раз королевский флот отогнал пиратов прежде, чем они успели нанести большой ущерб. Гарольду Годвинсону, правителю Уэссекса (когда-то Эдуард презирал его, считая неотесанным деревенщиной, но со временем стал уважать), он приказал покорить Уэльс. Шотландцы больше не смели проникать к югу от Великой Стены.
Но еще важнее: король поощрял всяческие нововведения в сельском хозяйстве, с помощью которых земля могла прокормить растущее население; он назначал честных судей и способствовал принятию справедливых законов, хотя приходилось мириться с неприкосновенностью старинных, конечно же варварских, но таких привычных англичанину институтов, как большие и малые советы. Король понимал, что эти собрания, как бы они ни были скучны, поддерживают в обособленных, враждующих кланах, в людях, гордящихся своим правом самостоятельно определять свою жизнь и полностью отвечать за свои поступки и поступки своих родичей и подопечных, иллюзию свободы. Как будто человек бывает свободен!
Обо всем этом король размышлял с удовлетворением, но не без примеси печали, естественной для человека, которому только что сообщили, что время его земной жизни хоть и не совсем истекло, но исчислено и близится к концу. В задумчивости он прошел мимо конюшен, мимо Длинных хижин, построенных для королевских телохранителей, мимо домов, отведенных женщинам. В самом большом из этих домов бездетная королева Эдит сейчас либо прядет шерсть, либо совокупляется с очередным наложником.
Широкие ворота отворились словно сами собой – как ворота всегда отворяются для королей.
Эдуард помедлил на пороге под высокой притолокой и выглянул наружу. Примерно в ста ярдах слева над поселком, где в сколоченных на скорую руку лачугах жили занятые на строительстве собора рабочие, а в домах получше – каменщики, архитекторы, мастера, возвышалась уже почти завершенная восточная сторона будущей монастырской церкви. Контуры здания едва проступали под лесами, по которым вверх и вниз торопливо, точно муравьи, собирающие с розового куста тлей, пробегали строители, а другие тем временем поднимали лебедкой обтесанные каменные блоки на высоту в семьдесят футов и более. Сколько лет король с волнением и восторгом наблюдал за строительством собора, но теперь он испытывал страх: он знал, что скоро, совсем скоро, останки его упокоятся у стены восточного придела.
Быть может, в будущем эта часть аббатства превратится в часовню святого Эдуарда Исповедника. Однако сейчас эта мысль не показалась Эдуарду достаточным утешением. Ведь его-то самого тогда здесь не будет. Спотыкаясь о кочки и ухабы, но упорно отказываясь от помощи слуг, король направился к реке.
Весь берег, кроме лодочного причала и топей, где скот спускался к воде, зарос ивами и ольхой. Сережки ольхи уже рассыпали по ветру желтоватую пыльцу, пушистые почки ив сверкали в лучах солнца, точно жемчужины.
Река неслась мутным коричневым потоком, но скоро, в час отлива, она отхлынет от берегов, проступят илистые грязноватые отмели. Сорочаи, чернозобики и кроншнепы уже кружили с мяуканьем над водой, рассчитывая поживиться креветками и речными червями. Вид текущей воды возымел обычное действие на короля: он задрал рубаху, приспустил гульфик и помочился в реку.
Двадцать три года он царствовал, двадцать три года одна пора сменялась другой. Благословенная весна с зеленеющими полями, чуть позже – цветущий боярышник, жаворонки, ласточки, запах сена, жатва, потом плодоносная осень и звук охотничьих рожков. Как он любил гнаться через лес за благородным оленем, когда приходится пригибать голову, проносясь под ветвями берез с листьями червонного золота, под ветвями дубов, чье золото более темного, глухого оттенка! И так вплоть до Рождества... но тут дрожь пробрала короля. Времена года идут своим чередом, а за поворотом поджидает старуха с косой.
Нет, так нельзя. Известие о скорой кончине имеет и хорошую сторону (он вправе рассчитывать на райское блаженство, не зря же его считают святым), и дурную (он думал о том пороке, от которого избавился много лет назад, преодолев смущение, покаялся в нем и был прощен), но главное – эта весть налагает на короля определенные обязательства. Кого следует в первую очередь посвятить в эту тайну? Поверх пенящегося темного потока Эдуард бросил взгляд в сторону Ламбета. Над дворцом архиепископа подымался из труб веселый дымок. Нет уж, Стиганд, архиепископ Винчестерский и Кентерберийский, нарушитель церковной дисциплины, занимающий сразу две епископские кафедры, к тому же вопреки каноническим правилам женатый, отлученный Папой от Церкви, а главное, коренной англичанин, ставленник Годвинсонов, узнает о предстоящих событиях последним.
Повернувшись лицом к северу, Эдуард разглядел за поворотом реки дорогу, которую называли Стрэнд, тот конец Стрэнда, что пересекается с Ривер-Флит. Там сходились углом построенные римлянами стены Лондона. За рекой, где ютился городок Саутварк, в любую погоду висел туман.
Король подозвал к себе клирика – тот, как и дружинники, почтительно приотстал от своего повелителя.
– Напиши от меня письмо епископу Лондона с просьбой как можно скорее явиться сюда. Я хочу прочесть вместе с ним вечернюю молитву, а потом мы обсудим дела государственной важности.
Король побрел обратно в Дом Совета, спотыкаясь все чаще. Привычная усталость навалилась на него. Опустив голову, он перебирал четки. Говорили, что этими бусинами Исповедник отмечает прочитанные им молитвы, «Отче наш» и новую молитву Приснодеве, начинавшуюся словами: «Ave, Maria» – «Радуйся, Мария». Но Эдуард просто играл четками, скрывая усталость, раздражение или тревогу.
Король одолел ступени, отдернул полог, украшенный любезной его сердцу сценой: Эдуард присутствует при закладке храма, над головой реют ангелы, – и улегся в постель. Что поделать, он изнемог задолго до окончания дня, задолго до того часа, когда здоровый человек помышляет об отходе ко сну. Во рту пересохло, замучила жажда. У кровати стоял кувшин с водой и кожаный черпак. С трудом приподнявшись, король трижды зачерпнул воду, выпил все, что было в кувшине, и почувствовал себя лучше, хотя вода, слишком долго простоявшая в глиняном, неглазурованном сосуде, сделалась мутной, отдавала тиной.
Слуги не пытались помочь, не отваживались даже войти без зова. Двадцать лет назад Эдуард приучил придворных являться только по требованию, а тем, кто пытался предупредить желания своего господина, пришлось испытать на себе тяжесть его гнева. С годами характер короля стал более предсказуемым и покладистым, но, раз усвоив урок, люди его не забывали.
Эдуард снова откинулся на постели, подтянул одеяло под самый подбородок и принялся размышлять о приговоре врачей и о прожитой жизни. Воспоминания, видения нахлынули на короля, он ворочался и стонал, посасывая по давней привычке палец, и порой впивался в него зубами, сдерживая крик. Горечь и боль, ненависть и тоска – вот чем наполнили его жизнь Годвинсоны, не говоря уж о дочери этого изверга, Эдит.
Глава двенадцатая
Тысяча сорок второй год. Гардиканут[196], сын Канута, крепко пил и умер от удара за пиршественным столом. Несколько человек могли претендовать на престол после его смерти, и в первую очередь его сводный брат Эдуард, позднее прозванный «Исповедником», и другой Эдуард, Этелинг, то есть «Принц», сын Эдмунда Железнобокого[197] и внук Этельреда Неразумного или Несоветного[198], не принимавшего добрый совет. Эдуард, будущий Исповедник, был сыном Этельреда, но не от первой жены, а от второй, Эммы Нормандской. На его стороне были определенные преимущества: когда Гардиканут умер, Эдуард находился в Англии и ему было около сорока лет, а Этелинг, еще подросток, пребывал в изгнании у мадьяр.
По английскому обычаю, очередного короля утверждал Витан, верховный совет страны, принимая во внимание не только степень родства претендента с покойным королем, но и его способность управлять страной. На этот раз вопрос о престолонаследии оставался нерешенным на протяжении всей зимы 1042-1043 года. За власть боролись две могущественные клики – Годвин с сыновьями, владевшие югом страны, против Сиварда и Леофрика, эрлов северных графств Нортумбрии и Мерсии. Посадив на трон своего ставленника, каждая партия надеялась получить земли и титулы противников.
Годвин поддерживал Эдуарда,будущего Исповедника, но были тут и свои сложности: восьмью годами ранее, после смерти Канута, Годвин, управлявший Англией от имени короля, пока тот воевал в Скандинавии, ослепил, а затем умертвил Альфреда, старшего брата Эдуарда и ближайшего наследника королевского титула, чтобы освободить престол для Гарольда Заячьей Лапы[199], первородного сына Канута. Правление Гарольда, на благосклонность которого надеялся Годвин, продлилось недолго, а убийство Альфреда весьма осложнило отношения нового претендента с семейством Годвина.
Пока не избрали короля, Годвин мог располагать пиршественным залом Винчестера, ведь Винчестер был старинной столицей Уэссекса, вотчины Годвина. На Эдуарда никто не обращал внимания, ему пришлось ждать снаружи, за большими дверями. Было холодно, земля затвердела, точно железо, конский навоз превратился в коричневые камешки, лужи замерзли и покрылись тонким слоем льда, припорошенного снегом. По ту сторону ограды виднелось приземистое серое здание старого монастыря. Господь заслуживает лучшей доли, думал Эдуард, и Господь получит ее. Либо здесь, либо в Лондоне Ему возведут новый дом. Эдуард любил рисунки винчестерских мастеров, миниатюры, которыми они украшали рукописи, глубоко трогали его сердце – краски переливались, фигуры были живыми, передавали подлинное чувство. Когда это будет в его власти, он закажет винчестерским художникам большую работу, например, полную Библию с иллюстрациями. Он начал уже замерзать, но тут дверь распахнулась.
– Эрл Годвин просит тебя войти.
Кто открыл дверь – слуга, раб или тан? У этих англичан ничего не разберешь. Только во всеоружии или в праздничном наряде знатные люди выделяются из толпы, но их повседневные одежды такие же блеклые, а зачастую и грязные, как у простонародья.
Эдуарда провели между высокими дубовыми столбами, на которых покоилась крыша, в центральную часть главного дома. Просторное помещение, скудно освещенное, зато теплое. На небольшом расстоянии друг от друга стояли жаровни, топившиеся углем, а посредине – большая железная печь, до того раскалившаяся, что Эдуарду и его проводнику пришлось обойти ее стороной. Уголь горит без дыма и дает сильный жар. В Англии все еще в изобилии росли дубы и вязы, а потому уголь, необходимый для кузнечных работ, был доступен даже небогатым людям, и топить им не считалось роскошью, в отличие от Нормандии, где гораздо большее значение придавали изготовлению оружия и доспехов. Там уголь использовали исключительно для обработки металла, а в очаг клали дрова, в домах стоял чад, и одежда тоже пропахла дымом. Большую часть жизни Эдуард провел в Нормандии, будучи гостем старого герцога, а потом молодого – соответственно, брата и племянника своей матери. Его отправили за море, поскольку в Англии сын Этельреда представлял собой угрозу для Канута и датской династии. В результате по воспитанию и вкусам Эдуард сделался в большей степени нормандцем, нежели саксом, и остался им до смертного часа.
Три десятка дружинников, в большинстве своем молодые, играли в кости и шашки, пили эль, спорили между собой. Большие собаки, то и дело почесываясь, шныряли вокруг. Застоявшийся, горячий и влажный воздух, запахи пива и бараньего жира. Кто-то – в полумраке не разглядеть – перебирает струны арфы, вторя печальному напеву флейты. Эдуард по привычке окинул взглядом самые юные лица, гибкие тела, но ни один из дружинников ему не приглянулся – уж больно все неотесанные.
Подведя Эдуарда к лестнице в дальнем конце зала, проводник жестом предложил ему подняться наверх.
Взойдя по ступенькам, Эдуард отдернул загораживавший вход занавес. Притолока была низкой, а претендент на престол – худым и высоким, ему пришлось наклониться, чтобы войти. Это помещение оказалось более светлым, чем нижний зал. Оштукатуренные стены недавно побелили, под щипцом было даже застекленное окошко. Посреди комнаты стоял низенький столик, на нем простые глиняные кувшины с вином и медом, толстые ломти хлеба, наполовину обглоданные куриные тушки и большой сыр. Здесь же лежали большие ножи с костяной рукояткой, заточенные с одной стороны. Англичане пользовались ими и для еды, и для кабацкой драки – для всего, кроме настоящей войны. Пол был покрыт соломой.
Во главе стола в широком кресле развалился Годвин, опираясь о подлокотник и поддерживая отяжелевшую голову. Левая рука его играла ножом, постукивала костяной рукояткой по столу в такт доносившейся снизу мелодии. В темных волосах эрла мелькала седина, брови грозно сходились над переносицей, нос слегка покраснел – начали уже сказываться годы невоздержанной жизни, – и в карих глазах появились кровяные прожилки, но крепко сбитое тело сорокадвухлетнего графа и его короткопалые, покрытые шрамами руки все еще излучали здоровье и силу.
– Принц Эдуард. С сыновьями моими ты знаком – Свен, Гарольд, Леофвин. Тостиг вот-вот придет. Садись.
Сесть он мог только на табурет, более низкий, чем стулья и кресла, которые захватила эта семейка. Эдуард сел, скрывая страх и унижение. Этот человек убил его брата. Принц внимательно оглядел весь дьявольский выводок. Хотя последний год он прожил при дворе Гардиканута, с Годвинсонами он почти не сталкивался, а общаться с ними ему и вовсе не довелось. Тостига и Леофвина он не видел ни разу. Эрлы по большей части пребывали в собственных поместьях, приезжая в столицу на заседания Витана или по королевскому вызову. Даже встречаясь случайно при дворе, Эдуард и Годвинсоны обходили друг друга стороной.
Теперь Эдуард смог хорошенько разглядеть эрлов. Свену двадцать два года, он темноволос и смугл, как отец, но более стройный, высокий, красивый, если бы не оспины, оставшиеся на лице после юношеских угрей. (Младший из братьев, Леофвин, которому едва сравнялось пятнадцать, весь покрыт такой же сыпью.) Но чувствуется в нем какая-то гнильца, так и попахивает адом. Прыщавый Леофвин еще мальчишка, ни характер, ни тело его не сформировались, а неоперившиеся юнцы Эдуарда не привлекали.
Оставался только девятнадцатилетний Гарольд. Его промытые, аккуратно подстриженные темные волосы отливали бронзой: должно быть, этот цвет он унаследовал от матери, свойственницы Канута. Из-под темных бровей серовато-голубые глаза глядели на Эдуарда холодно, но с интересом, даже с любопытством. Эдуарду показалось, что этот отпрыск Годвина не только хитер, как все они, но и умен, а потому его следует бояться больше прочих. В этом молодом человеке не было ни капли отроческой нежности и беззащитности, которые могли бы вызвать у Эдуарда трепет желания.
Глубоким, чуть хрипловатым голосом Годвин предложил:
– Перейдем к делу. Ты хочешь быть королем.
Эдуард глубоко вздохнул, приказывая себе расслабиться. Он ухитрился даже плечами пожать и усмехнуться, прежде чем ответил сдержанным тоном:
– Мне нужно стать королем, иначе придется вновь удалиться на чужбину. Нормандия для меня закрыта, во всяком случае пока Вильгельм не укрепит свою власть. Наверное, я мог бы присоединиться к Этелингу в Венгрии, только вряд ли мы сойдемся характерами. Вообще-то я успел полюбить эту страну и предпочел бы остаться здесь.
– Ты мог бы остаться, не сделавшись королем?
– Не думаю.
– А как же при Гардикануте?
Эдуард снова пожал плечами.
– Я находился на положении заложника, – уточнил он. – Он бы раздавил меня как муху, если б я представлял для него хоть малейшую угрозу.
Годвин вздохнул, переменил позу.
– Итак, тебе надо стать королем, – повторил он.
Наклонившись над столом, он вонзил свой кинжал в сыр, отрезал большой кусок, положил его на хлеб, быстро сожрал, рыгнул, запил глотком эля и снова уставился на Эдуарда.
– И как ты думаешь это устроить? – поинтересовался он.
Эдуард почувствовал себя увереннее. Он сообразил, что эти бандиты пытаются заключить с ним сделку, и как бы они ни притворялись, будто единственное заинтересованное лицо – сам Эдуард, они не могут обойтись без него. Если он отправится в ссылку, они все окажутся в – как это бишь? – Тут Эдуард, думавший по-нормандски, вспомнил, что собирается стать английским королем, и мысленно вставил англосаксонское словцо: – В г...
– Бог укажет нам путь, – пробормотал он. Его благочестие было по крайней мере наполовину искренним.
Гарольд, опустив голову, уставился на свои ладони. Леофвин и Свен на миг опешили. Глаза Годвина налились кровью, он треснул рукояткой ножа по столу, вытаращился куда-то на потолок и проревел:
– На хрен впутывать Бога в эти дела!
Молчание. Внизу взвыл пес – должно быть, кто-то из дружинников пнул его со скуки ногой – арфа и флейта по-прежнему выводили свой незатейливый мотив. Вдруг музыка тоже затихла. До слуха мужчин, сидевших в верхнем зале, донесся громкий смех, бодрые шаги по ступенькам, занавес отдернулся...
На порог ступил юноша – прекраснее лица Эдуард не видел. Помедлив в дверях, Тостиг шагнул в комнату, и занавес, качнувшись, опустился за его спиной.
– Прости за опоздание, папа, – сказал он, хлопнув Годвина по плечу. – А ты, верно, принц Эдуард или... я должен назвать тебя: сир. – И он низко, изящно поклонился.
Тостигу шел двадцать первый год. Волосы цвета спелой пшеницы он скреплял на затылке золотой пряжкой, и они волной падали ему на спину. В отличие от братьев и отца, Тостиг одевался со вкусом, короткий синий плащ был застегнут на правом плече старомодной брошью в виде дракона, изображенного весьма условно, с драгоценными камнями вместо глаз. Алую шерстяную куртку туго стягивал кожаный пояс, подчеркивавший талию. Пряжка ремня не уступала по затейливости броши. Штаны из тонкой шерсти облегали крепкие, но округлые бедра. Руки сильные, с длинными, чуткими пальцами. Тело гибкое, как ореховый прут, а лицо... лицо проказливого ангелочка, с высокими бровями и прямым носом, и губы изогнуты, как лук Купидона. В уголках рта всегда таилась улыбка, и эта же улыбка светилась в широко открытых глазах, цвет которых, в зависимости от освещения, переливался всеми оттенками топаза. Щеки юноши слегка разгорелись от мороза, от него пахло свежестью снега.
– Нового жеребца варварской породы только что привезли из Саутгемптона, такой жеребчик, просто чудо, не мог оторваться от него, извините за опоздание, – выпалил он, быстро обводя сияющим взглядом всех присутствовавших, и, словно только к Эдуарду обращаясь, добавил: – Вы же не сердитесь?
Эдуард, не удержавшись, еле заметным движением облизал губы и склонил голову – то ли кивок, то ли поклон.
– Ладно, вы и без меня разобрались, – весело продолжал Тостиг. – Все улажено?
– Нет! – буркнул Годвин.
– Да полно! – Юноша уселся на корточки возле Эдуарда, одну руку положил на низкий стол, второй коснулся колена принца. – Либо стать королем, либо ссылка и смерть – так? Конечно, ты предпочтешь стать королем. Но пока ты не король, у тебя нет армии, нет приверженцев, никто не пойдет за тобой, никто не связан с тобой присягой. Один ты ничего не можешь сделать.
Не поднимаясь с корточек, Тостиг повернул голову к отцу.
– А ты? Не подставишь престол под его задницу, тогда старый Сивард и Леофрик, – бросив лукавый взгляд на Эдуарда, он передразнил северян, – наши дррузья-а с се-эвера, – и снова обернулся к отцу, – пригласят сюда дана или норвежца, любого, в ком течет кровь старого Канута. А что они получат в награду? Сказать тебе?
На Эдуарда легкость и напор молодого человека произвели столь ошеломляющее впечатление, что он только головой покачал. Годвин, разумеется, знал, о чем идет речь, но это не помешало Тостигу прокукарекать во всю глотку:
– В награду они получат Уэссекс, Восточную Англию, Кент, графства на берегах Темзы... Продолжать?
– Тебя заткнешь, пожалуй, – проворчал Свен.
– А, давайте начистоту. Так ведь гораздо проще, да? Сир? – Он поддразнивающе улыбнулся Эдуарду, сверкнув белыми, удивительно ровными зубами.
Все переглянулись, кривые ухмылки проступили на лицах Годвина и его сыновей. Они пожали плечами, дожидаясь ответа.
– Намного проще, – подтвердил Эдуард. – Намного.
Годвин вновь испустил глубокий вздох, на этот раз – вздох облегчения.
– Леофвин, – он повелительно махнул рукой в сторону кружек и кувшинов, – налей всем вина.
Они выпили вместе, все еще подозрительно поглядывая друг на друга.
– Ох, и зануды же вы! – воскликнул Тостиг. – Зовите писцов, составьте договор, и будем веселиться. Пойду к своему жеребцу. Он гнедой с белыми звездочками, игривый, как котенок. – На пороге юноша остановился. – Говорят, ты знаешь толк в лошадях, Эдуард? Я слышал, ты любишь охоту. Пойдешь со мной посмотреть на жеребца?
Эдуард поднялся, Годвин махнул рукой, разрешая обоим удалиться. Вместе с сыновьями он подождал, прислушиваясь к шагам на лестнице. С грохотом захлопнулась большая дверь.
– Вроде все хорошо прошло, – пробормотал Гарольд, и все четверо сперва заулыбались, а потом захохотали во все горло, вздымая ураган смеха, опрокидывая чаши и кувшины, цепляясь друг за друга, изнемогая от веселья.
Годвин, захлебываясь, пробормотал:
– Извращенцы, чертовы извращенцы. И чтобы я породил такую сучку!
Глава тринадцатая
Двухлетний жеребчик, пугливый, еще не объезженный, хрумкал зерно из корзины, которую держал перед ним конюх. В тот самый момент, когда Тостиг и Эдуард заглянули в загон, жеребец, мотнув головой, угодил конюху в живот и сбил его с ног. Корзина отлетела в сторону, зерно просыпалось на затвердевшую от мороза землю. Конь попятился, закатив глаза, так что показались белки, и тревожно заржал.
– Да, хорош, но ему требуется выучка.
Тостиг перепрыгнул через ограду, подобрал оброненный конюхом длинный хлыст из сыромятной кожи и пошел прямо на жеребца. Тот попятился, забил копытом, зафыркал, обнажая зубы. Тостиг почувствовал, как рука принца властно легла ему на плечо.
– Позволь мне, – проговорил Эдуард. – Иди, посиди на заборе. Кнут возьми с собой.
Тостиг вспыхнул, но повиновался. Он-то хотел отвагой, ловкостью, уверенностью в себе произвести впечатление на покладистого, немолодого уже мужчину, к которому не испытывал ни малейшего уважения. Укрощая жеребца на глазах Эдуарда, Тостиг рассчитывал пробудить в нем желание, ведь такие набожные, склонные к аскетизму люди и сами не прочь подвергнуться порке. Но главное – попасть в милость к будущему королю. Стало быть, придется уступить.
Эдуард начал неторопливо обходить загон по кругу. Жеребец шарахнулся в сторону, замер, снова рванулся, зафыркал, мотая хвостом, – его движения выдавали беспокойство. Эдуард медленно кружил рядом с ним, держась совсем близко, но при этом слегка отклоняясь, чтобы не касаться его. Таким образом, жеребец мог следить за ним только уголком левого глаза, а поза Эдуарда убеждала животное в том, что от этого человека не исходит угроза.
Пройдя три или четыре круга, Эдуард увеличил шаг, все так же отклоняясь, и приблизился к жеребцу. Тот остановился, разрешая человеку пройти. Мгновение конь стоял неподвижно, словно пытаясь оценить новое для себя положение, но тут Эдуард выпрямился, а жеребец, опустив голову, двинулся за ним. Еще двадцать минут спустя Эдуард обхватил левой рукой шею лошади, а правой протянул ей морковку, поданную конюхом. После этого будущий король тоже забрался на изгородь.
– На сегодня достаточно, – сказал он спокойным уверенным тоном. – Завтра наденем на него недоуздок, а еще через день – седло. Через неделю будешь кататься на нем верхом.
Тостиг соскользнул с верхней перекладины забора, подошел вплотную к Эдуарду, обеими руками сжал его лицо и быстро поцеловал в губы.
– Ты был великолепен, – признал он.
В ту ночь Тостиг пришел в маленький дом, отведенный Эдуарду внутри городских стен, которыми король Альфред семьдесят лет тому назад окружил Вестминстер. Они вместе поужинали, запивая еду медовухой. Тостиг сыграл несколько песен на арфе, потом они взяли свечи и перешли в верхние покои. Там, за гобеленами, хранившими тепло, при свете двух свечей из пчелиного воска они стали любовниками.
Обнаженное тело юноши превзошло все ожидания. Белое, еще совсем худощавое, но мускулистое, прекрасных пропорций, длинная шея, длинные изящные члены, пальцы, стопы. Эдуард зашел сзади, сунул руки под мышки Тостигу, провел ладонями по его груди, надавив пальцами на маленькие, напряженно торчавшие соски. Тостиг откинулся назад, прислонился к любовнику, опустил голову ему на плечо, подставляя шею, и тот принялся ее целовать, сначала нежно, потом требовательно, а руки его тем временем обвили талию юноши, средний палец нащупал его пуп. Потом он поглаживал, распрямлял рыжие волоски внизу, более яркого цвета, чем волосы на голове, и, наконец, одна ладонь Эдуарда плотно обхватила яички Тостига, а пальцы другой столь же крепко сжали его пенис – длинный, но не толстый.
– Красивый у тебя петушок, – похвалил он, – самый красивый на свете. – И тут Тостиг ощутил, как петушок его господина – теперь он был толстый, сильный – касается его ягодиц, тычется, пытаясь проникнуть между ними.
Господина? Да, так оно обернулось, и Тостигу это пришлось по душе. Он был еще несведущ в таких делах и вовсе не мечтал вонзить свой член другому мужчине в задницу, хотя именно это велел ему сделать отец. Теперь же, когда первоначальный страх и боль – не такая уж сильная боль – миновали, Тостиг убедился в опытности и мастерстве своего партнера и понял, что именно в такой форме любовный акт приносит ему наивысшее блаженство...
В ту же ночь между ними завязалась беседа – первая из их постельных бесед.
– Ты объездил меня в точности как моего жеребца.
– Как ты его назовешь?
– Назвать его Эдом?
– Не стоит. Лучше Султаном.
– Почему?
– Он же из варварских стран. Так варвары называют правителя.
– Пусть будет Султан. Если ты покоришь Англию так же, как нас, все будет отлично.
– Я не собираюсь насиловать Англию. Боюсь, как бы твой отец этим не занялся.
– Ты меня не насиловал. Ты меня...
– Расскажи мне, что такое Англия.
Эдуард прожил при дворе с полгода, но держался в тени, не искал друзей, старался не привлекать к себе внимания, и уж конечно, никто не посвящал его в тайные пружины власти.
– По сравнению с Нормандией – хаос. Порой кажется, что это просто немыслимая мешанина, соединение разнородных и враждующих стихий. Их у нас по крайней мере пять.
На самом верху этой кучи малы – король и его двор, дружина, составляющая основу войска и флота, сборщики налогов, королевские шерифы и все такое прочее. Главная обязанность короля – защищать страну от внешней и внутренней угрозы. Далее – церковь, которая в свою очередь разделяется на соперничающие партии священников, монахов и епископата. Третья сила – эрлы и крупные таны, владельцы больших поместий. Они могут собрать собственную армию и мало чем отличаются от независимых корольков прошлого столетия. Хотя эрлы и дают королю самую что ни есть торжественную клятву, они с легкостью нарушают ее ради малейшей выгоды. Смирить феодалов можно лишь одним способом: удерживать кого-то из их близких при дворе в качестве заложников. Едва ли они осмелятся бунтовать, зная, что обрекают родичей на жестокую и унизительную казнь.
– Вот ты и будешь моим заложником.
– Я не против.
У каждого человека своя цена, «вергельд»: совершивший убийство платит его семье убитого. За меньшие преступления, например изнасилование или прелюбодеяние, назначается определенная Доля вергельда. Вергельд определялся сословием и званием, но, к полному недоумению Эдуарда, в разных частях страны по-разному. Обычаи совместной присяги и вергельда означали, в сущности, что человек вправе делать почти все, что ему заблагорассудится, лишь бы у него достало денег для уплаты вергельда, а если число его поручителей будет больше, чем у истцов, ответчик и вовсе уйдет от наказания.
Четвертая сила – города, числом около семидесяти, среди них есть и такие большие, как Лондон, где живет более десяти тысяч купцов, ремесленников, корабелов, их работников и членов их семей, и совсем маленькие, в пять сотен человек, – там всего-то несколько ткацких и гончарных мастерских. С городами проще всего. Альфред Великий предоставил им самоуправление; подати они платят деньгами, а не натурой. С натуральным оброком хлопот не оберешься. Кому нужно такое добро да еще в неимоверном количестве: каждый третий дельфин из попавших в сети, две бочки хорошего эля, семь быков, шесть холощеных баранов и сорок сыров. К счастью, городам разрешено чеканить монету и ею расплачиваться.
Деньги чеканят почти в каждом городе. Раз в четыре года король отзывает всю старую монету, золотую, серебряную и медную, ее плавят, затем распределяют слитки между монетными дворами и снова чеканят штампами, присланными из Лондона. Таким образом в государстве соблюдается единый стандарт, и в обращении остаются только достаточно новые, не стертые монеты. Самая прогрессивная, эффективная и надежная система для своего времени.
Наконец, в-пятых, так называемые «фримены», свободные люди Англии. В сущности, свободны все, кроме рабов. Правда, многие поступились своим крошечным семейным наделом в обмен на защиту и покровительство могущественного вельможи. В любом случае крестьяне обязаны расплачиваться с лордом и с Церковью многими часами изнурительного труда. Даже те, кто имеет собственную землю – один гайд или два, – тоже работают на владельца манора дважды в неделю, а то и больше, платят десятину Церкви, подлежат призыву в ополчение, крестьянское войско, которое король собирает при необходимости. Тем не менее эта самая многочисленная категория населения именует себя «свободными людьми».
– Свободными? Как же это – арендаторы, издольщики, слуги, крепостные – все свободные?
– Да. Более того, они настаивают на своем праве переходить с одного места на другое, выбирать себе хозяина и усадьбу.
В часы этих ночных бесед Эдуард не раз говорил себе, что в Нормандии порядка куда больше.
Глава четырнадцатая
Эдуард многому научился от Тостига, но немало узнал и на собственном опыте. Далеко не все, что он узнал, пришлось ему по вкусу. В праздник Сретенья, второго февраля, прослушав мессу в старом соборе – по недавно завезенному из Франции обычаю в этот день праздновалось очищение Девы Марии, принесшей Младенца в Храм, а также освящались свечи на весь год – король вместе с Тостигом, охотниками и четырьмя слугами двинулся в Ромеи и добрался туда вскоре после полудня.
Наутро они поехали в лес и вскоре вспугнули небольшое стадо оленей. Пришпорив лошадей, мужчины устремились в погоню. Копыта глухо стучали по промороженным дубовым листьям, скользили по перегною, в который превратились листья берез. Грачи с криками слетали с голых кустов, на открытых местах разросся падуб, царапавший острыми ветками бока лошадей. Отставший от стада олень свернул направо; ловчий, затрубив в рог, успел пустить больших псов по его следу. Все решили, что охота задалась и вскоре они затравят добычу, но гончак, бежавший первым, внезапно остановился, обнюхал потрескавшуюся от мороза землю, остальные псы присоединились к нему – принюхивались, подвывали, скребли землю лапами и разом ринулись куда-то в сторону, прочь от оленьего следа.
Охотник вернулся к Эдуарду и Тостигу и, коснувшись хлыстом шапки, доложил:
– Они почуяли лиса. Поскачем за ним или отозвать собак?
– Гоните засранца! – крикнул Эдуард, неловко подражая здешней речи. – Рейнар[200] по крайней мере заставит нас хорошенько размяться. – Он вонзил шпоры в бока своего гнедого мерина, Тостиг подхлестнул Султана.
Лиса они так и не настигли, лишь разок увидели его издали и то уже на опушке леса: зверь скользнул, словно привидение, по краю старинного торфяного вала, прижавшись белым брюхом к земле, сторожко задрав хвост, мелькнул на фоне серого неба среди крохотных снежинок, роившихся в воздухе, точно летняя мошкара. Сгущался вечерний сумрак, близилась ночь, снег валил все гуще, окутывая промерзшую пашню. Чья-то лошадь споткнулась, едва не сбросив охотника. Ее тут же осмотрели и убедились, что она охромела. Главный ловчий затрубил в свой рог, два пса вернулись, остальные собаки пропали.
– Если не найдем какое-нибудь укрытие, замерзнем до смерти, – предупредил своих спутников Эдуард.
– Там впереди какая-то деревенька или усадьба. – Тостиг указывал рукой вперед, на дома по ту сторону ржаного поля. Смеркалось, и за полмили трудно было что-то разглядеть. Мелькали красные вспышки, видимо факелы, и вдруг взметнулся язык изжелта-оранжевого пламени – словно огромная роза расцвела в темном небе.
– Что это? – спросил Эдуард.
– Сретенье, – ответил главный ловчий. – Люди снимают все ветки, которыми украшали дома к Рождеству, и сжигают их, убирают все начисто.
– Сретенье было вчера.
– Масленица?
– Масленица в конце месяца.
Охотник, облизнув губы, проворчал что-то насчет невежественных крестьян и путаницы в календаре.
Они спустились по травянистому откосу и проехали через низкорослый яблоневый и грушевый сад. Позади всех конюх вел охромевшую лошадь. К ограде манора примыкали убогие хижины бедноты, а дальше тянулись поделенные на полосы поля и маленькие заплаты огородов. За оградой подымались стены господского дома и виднелись крыши трех флигелей. Несомненно, там были и пристройки поменьше для прислуги, конюшни и сараи.
Рассмотреть усадьбу мешала пелена огня: у ворот был разложен огромный костер. В этом селении, как и в большинстве английских деревень, перед главным входом в усадьбу оставался свободный участок земли, отведенный для игрищ и гуляний. Мужчины и женщины, окружив костер, дружно подбрасывали в него ветви тиса и остролиста. Ветви мгновенно вспыхивали и трещали, их срезали шесть недель назад, и они успели просохнуть. Искры взлетали над головами людей, кружились в застывшем воздухе среди снежинок, довершая контраст холода и жара, тьмы и света. Была и музыка: пара барабанов выбивала дробь, завывали дудки, порой к ним присоединялся рог. Приблизившись, всадники увидели, что люди не только подбрасывают хворост в огонь, но и носятся вокруг него в исступленном танце.
Внезапно от толпы, обступившей костер, отделилось несколько человек. Держа в руках пучки горящей соломы, они устремились в сад и принялись колотить этими факелами по стволам плодовых деревьев. Когда солома догорела, почерневшие пуки забросили повыше на ветки. Все это были женщины в кое-как подпоясанных шерстяных платьях. Несмотря на холод и разлетавшиеся искры, они бегали босиком или в легких сандалиях. Их пронзительные вопли напугали лошадей, да и кое-кого из всадников тоже.
Женщины опрометью помчались обратно к костру. Эдуард велел своим людям оставаться на месте, подождать, не вернутся ли беглянки, но те вновь затеяли свои дикие игрища, и тогда Эдуард отдал приказ двигаться вперед – медленно, спокойно и быть готовыми ко всему. Наконец их заметили; когда они проехали мимо приземистых круглых крестьянских хижин и добрались до изгороди у господского дома, им навстречу вышли два человека средних лет, выглядевшие вполне пристойно.
Старший (судя по достоинству, с каким он держался, – тан, хозяин усадьбы) спросил, кто они такие и зачем пожаловали.
– Мы охотники, – ответил Эдуард, склоняясь к шее своего жеребца, – из усадьбы Годвина в Винчестере. Собаки погнались за лисой, и мы сбились с дороги.
– Не церковники?
– Нет. Нам нужна еда и кров на ночь. Можем заплатить справедливую цену. Мое имя Эльфрик, это Эрик, мой сын. – Тостиг иронически приподнял бровь, услышав, как его отрекомендовали. – Остальные мои слуги.
– А у них что, нет имени? – проворчал тан (или кто там он был) и не стал называть в ответ свое имя, просто кликнул пару мальчишек, наблюдавших за плясками, и распорядился: – Пристройте их лошадей в конюшне.
Эдуард, Тостиг и все остальные пошли за хозяином в дом. Тостиг все оборачивался посмотреть, как люди скачут через сникавшее пламя.
В зале был накрыты пиршественные столы, на столах горели свечи, на стенах – факелы. Большие ломти хлеба лежали вперемежку с яблоками, их принесли с чердака, где они хранились в соломе. Из соседней комнаты в зал проникло густое облако синеватого дыма с запахом жареной баранины. Тан отвел гостям место неподалеку от главного стола и пригласил садиться, пообещав, что им не придется долго ждать.
Так и вышло. Как только костер во дворе погас, музыка сделалась тише, и деревенские жители семьями потянулись в дом, наклоняя головы под аркой из ветвей рябины. Быстро, соблюдая давно известный порядок, они расселись по местам, и тан тоже сел за поставленный на возвышении стол, рассадив рядом всю свою родню, от старой бабки до новорожденного младенца. Юноши и девушки проворно обносили собравшихся огромными блюдами с мясом и кувшинами с медом. Все тут же принялись за еду и о гостях не забыли. Когда тарелки опустели, юноша с длинными темными волосами – чистопородный сакс без примеси датской крови – спустился с помоста к чужакам.
– Отец поручил мне проводить вас в дом для гостей, – сказал он. – Очаг там уже растопили. Он желает вам спокойной ночи.
Хозяйский сын отвел их в основательно прогретый деревянный домик. В большом очаге догорало хорошо просушенное дерево и тянуло каким-то смолистым ароматом – должно быть, сосны. Обе кровати были покрыты ветками тиса, сверху лежали льняные простыни и шерстяные одеяла, а на полу из ветвей и одеял было устроено ложе для охотников и конюхов. Юноша говорил с гостями вежливо, но довольно сурово.
– Надеюсь, вам не помешает наше веселье, – сказал он. – Оставайтесь тут, спите.
Тостиг вспыхнул, но Эдуард удержал его.
– Они же не знают, кто мы такие. Если б знали, обращались бы с нами более любезно.
– Так давай скажем.
– Нет. Не надо злоупотреблять их гостеприимством.
Вновь заиграла музыка, сперва тихо и медленно, но чем больше сгущался мрак, тем быстрее, громче, неистовей становился ритм, пронзительнее звучали крики людей, их отчаянные, но отнюдь не страхом исторгнутые вопли. Эдуарда разобрало любопытство: должен же он как можно больше узнать о народе, чьим королем он станет по праву рождения. Он подозревал, что в доме вершится какой-то языческий обряд, нечто вроде луперкалий[201]; когда придет время, он непременно искоренит эту ересь. Убедившись, что все его спутники уснули, король закутался в плащ, выскользнул за дверь и вернулся в большой дом.
Музыка – человеку, воспитанному на нормандской культуре, на нежных звуках лютни, нелегко было признать в этом музыку – действительно была очень громкой. Великан, одетый в кожаные одежды, лупил по трем барабанам разом (барабаны представляли собой обтянутые шкурами бочки), его товарищи щелкали скрепленными дощечками, трясли наполненные камнями сосуды, кто-то приволок наковальню и бил по ней молотом. Перекрывая этот грохот, завывали две длинные дудки, басил старинный норвежский рог, а пара искусников играла на ребеках[202].
Большинство факелов, освещавших зал, погасли или едва коптили, а свет немногих, еще горевших, то и дело заслоняли кружившие между ними танцоры. Одни плясали в одиночку, изгибаясь всем телом, притопывая, размахивая руками, щелкая пальцами, иные парами – повернувшись лицом друг к другу, повторяли каждое движение партнера, некоторые сжимали друг друга в объятиях, не скрывая похоти. Другие, положив руки соседям на плечи, покачивались в такт, выбрасывая ноги то в одну, то в другую сторону.
И все это множество людей, увлеченных своими разнообразными па и коленцами, все одновременно в какой-то момент вскидывали руки вверх и выкрикивали одну и ту же бессмысленную фразу, похожую на заклинание, – что-то о луне.
Сбитый с толку, немного напуганный, король потихоньку пробрался в свою постель. Наутро тан принес извинения:
– Надеюсь, мы своим шумным весельем не помешали вашему сну. Зимние ночи такие длинные, холодные. Нужно взбодриться, вспомнить о скорой весне, понимаете?
Что-то оставалось в Эдуарде чуждое его подданным, они сразу же распознавали иноземца или, во всяком случае, пришлеца.
Таким вышло первое знакомство будущего короля с той стороной английской жизни, к которой он так и не смог привыкнуть. Ему не нравилась любовь англичан, причем любого сословия, к грубым, невежественным развлечениям. Объезжая страну в сопровождении своего двора, он видел повсюду, что его подданные отличались неумеренностью в еде и питье – особенно в питье. Хотя сам Эдуард был неравнодушен к меду (он любил его забродившим, но не слишком, иначе теряется сладость), казалось нелепым напиваться до одурения, до беспричинной ярости, когда человек становится опасен для окружающих и самого себя, а потом в бесчувствии валится под стол.
Любой предлог, от проливного дождя до засухи, годился для того, чтобы бросить мотыгу, лопату, серп, уйти с поля и заняться какой-нибудь ерундой, в особенности так называемым спортом. Эти игры не требовали ума или ловкости, зато здесь как нельзя лучше могли пригодиться грубая сила и тупое упрямство. Некоторые забавы были на удивление глупыми: перекинут, например, длинный шест через ручей, двое парней усядутся на него и дерутся мешками с песком, стараясь свалить друг друга в воду. Мужики состязались, кто дальше всех закинет кожаный башмак. Со скуки загоняли корову в небольшой двор и бились об заклад, в каком углу она оставит лепешку. Надували пузырь, наполняли его песком, призывали соседей, и каждая команда старалась загнать этот мяч на половину противника. Сами по себе эти игры не приносили особого вреда, но что станется со страной, если крестьяне не будут трудиться день и ночь ради общего блага? Проработав весь день, мужик должен немного поесть и поспать, чтобы завтра снова выйти на работу. Если у него остается время еще на что-то, куда ж это годится?
На охоте вельможи забывали о собственной безопасности, не говоря уже о чужом здоровье и даже жизни, однако добросовестно расплачивались за любой нанесенный ущерб. Все англичане любили бороться, драться на кулаках и палках, но крестьянское ополчение представляло собой жалкое зрелище: вообразите сотню мужиков, вооружившихся мотыгами и вилами, – через двадцать миль это воинство растянется так, что арьергард прибудет на место сражения часом позже авангарда.
По праздникам мужчины и женщины танцевали в обнимку непристойные, похабные танцы. Нормандские священники уверяли короля, что празднества сопровождаются свальным грехом и блудом. Был распространен инцест – вслух этим пороком не хвастались, но относились к нему терпимо.
Труднее всего Эдуарду было понять, какую роль играют в этом обществе женщины. С одной стороны, они вроде бы жили своей бабьей жизнью: выполняли полевые работы полегче, ткали, присматривали за детьми, содержали в порядке одежду и дом, готовили еду и сторонились важных мужских дел. Однако надо учесть, что в Англии их работа отнюдь не считалась унизительной, предназначенной для рабов, крепостных, подъяремного скота (именно так относились к женщинам в Нормандии), а, напротив, высоко ценилась. Женщин уважали за все, что они делали, и ни один мужчина не смел вмешиваться в их распоряжения. В своем женском мире женщина была королевой.
Главный дом в усадьбе принадлежал мужчинам. Там они пили, там раз в месяц собирались на совет деревни или манора – это официально, но там же управляющий назначал работы, улаживали повседневные споры. Каждый имел право высказаться и быть выслушанным. Любой крестьянин мог объяснить своему господину, как лучше распорядиться временем, которое он должен отработать на лорда, любой батрак мог сослаться на болезнь и просить о снисхождении или помощи.
Зимой, когда плохая погода не позволяла предаваться забавам на свежем воздухе, в этом зале ставили девять кеглей, формой напоминавших дубинки, и сбивали их большими деревянными шарами, награждая победителя ценным призом – например, живой свиньей. И снова слуги и дружинники упивались элем, а тан с сыновьями – вином и медовухой.
Из-за семейной ссоры мужчина мог остаться в господском доме и на ночь, потому что жена или мать отказывалась пустить его домой, пока он не уступит. В Нормандии, если бы женщина позволила себе подобное, ее бы посадили в колодки.
Но хуже всего – привязанность англичан к родству и свойству. Женщина, разумеется, выбирала себе мужа за пределами ближайшего круга родственников, но горе тому мужу, который посмел бы дурно обращаться с супругой или счесть ее приданое своей собственностью. Стоило ей кликнуть родичей на помощь, тут же являлась целая свора – отец, братья, дядья, кузены, и каждый нес палки, камни, а то и более грозное оружие. Женщины имели право владеть землей, по своему усмотрению распоряжаться крестьянским наделом, манором, замком, если такова была предсмертная воля родителей или прерывалась мужская линия. Словом, англичане не просто ценили своих женщин, они трепетали перед ними, заискивали, старались снискать их одобрение, дарили им дорогие подарки и тяжко скорбели, когда теряли мать, жену или дочь.
На всем протяжении царствования Эдуарда его нормандцы, в особенности приверженные клюнийской реформе священники и монахи, ссылаясь на авторитет Священного Писания, твердили, что эти обычаи необходимо искоренить, они настаивали на решительных мерах, угрожая королю отлучением и адским огнем. Но Эдуард научился – конечно, это далось ему не сразу – пропускать их слова мимо ушей. Он рассуждал следующим образом: эти люди привыкли жить так, эта жизнь их устраивает, а если придется туго, они предпочтут знакомые беды моему вмешательству. Или он говорил себе: таковы английские обычаи, люди выбрали меня своим королем только потому, что я – пусть по крови, если не по воспитанию – наполовину англичанин, и если я помешаю им и впредь оставаться англичанами, я предам их.
И в любом случае, утешал себя король, старея, теряя силы (болезнь прежде времени обратила его в дряхлого старика), в любом случае, Бог простит ему это попустительство, эту готовность оставить все как есть. Бог простит, потому что преемником его станет герцог Вильгельм, а уж он-то устроит все как надо.
Но бывали и другие минуты, когда ярко светило солнце, когда королю удавалось справиться с какой-нибудь особенно сложной задачей, и тогда все представлялось по-иному. Так случилось вскоре после коронации: выдался на редкость славный денек, они с Тостигом снова поскакали в лес, на этот раз их сопровождали сокольники, державшие на запястьях соколов и кречетов; головы птиц были укрыты специальными капюшонами, на лапках позвякивали серебряные колокольчики. Отличная поездка по холмам, на юг от Ромеи. Вдоль дороги в изобилии росли примулы, на пригорках – первоцветы, на полях только-только поднялись зеленые всходы, на боярышнике прорезались первые почки, зеленой дымкой окутывая изгороди вокруг селений. Над лугами, над отарами овец, где уже играли новорожденные ягнята, с песней взмывали жаворонки. Такое созвучие было во всем, что королю казалось, он вот-вот расслышит мелодию.
На краю леса король внезапно натянул поводья и остановился. Перед ним стоял небывалой величины дуб с огромной кроной – тень от нее накрывала круг шагов тридцати в диаметре, а высотой это дерево превосходило высочайшие здания Англии. Листья еще не проклюнулись, однако ветки были покрыты ярко-зелеными почками, и птицы уже гнездились в дуплах.
Он подумал: Англия – словно этот дуб, или почти как этот дуб, или хочет походить на него. Она стремится жить так, как живет это дерево, со всеми бесчисленными существами, которым оно дает приют. Пчелы пьют нектар из цветов дуба, желудями кормятся белки и дикие кабаны. Молодые побеги, толстые суки и ветви, массивный ствол, а под ним – переплетенная сеть корней, и среди них мощный стержневой корень, который в любую засуху отыщет воду. Король знал, как устроены корни – вокруг все еще лежали вывороченные деревья, павшие жертвой великого урагана, пронесшегося по югу страны тремя годами ранее. Он чувствовал, как все несходно, как все разнится между собой: нежная завязь почек и грубая шероховатость коры, беззащитные малиновки и синички, гнездящиеся в ветвях, и напористые пришельцы, сороки и куницы; ярко-рыжие белки, серовато-зеленые мотыльки, так хитро раскрашенные, что одни насекомые сливаются с листьями, другие – с корой. И другой контраст: между ежегодным буйством и гибелью листьев и прочностью древесины. Король задумался над тем, как дерево само себя лечит, отбрасывает сук, пораженный гнилью или подточенный короедами. Дубовый галл, болезненный нарост на листьях, привлекает к дубу птиц, а птицы уничтожают тех самых червей, которые вызвали эту болезнь. Если нынешним летом уродится чересчур много плодов, на следующее лето желудей почти не будет – дерево восстанавливает свои силы.
Можно ли сказать, что одна часть важнее другой, предпочесть величественную крону глубоким корням, вековые поставить выше краткоживущих листьев? Разумеется, король не знал в точности, для чего нужны листья, но всем известно, что дерево, лишившееся листвы из-за пожара или болезни, обречено умереть. Может ли какая-либо его часть уцелеть, когда остальные погибнут? Эдуард полагал или, вернее, начинал догадываться, что ни одна ветвь государственного древа не может существовать без другой.
Так обстояло дело в Англии. Здесь все нуждались друг в друге, и король начал понемногу понимать, в чем заключаются его обязанности. Государство было саморегулирующейся системой, оно приспосабливалось и к внешним событиям, и к внутренним переменам, однако на это требовалось время, а в переходный период страна могла пасть жертвой нападения извне. Следовательно, обязанностью правителя было предвидеть возможные сбои и, вовремя внося небольшие поправки, восстанавливать разновесие – здесь поощрять рост, там сдерживать, чтобы ни один орган этого колоссального тела не разросся в ущерб остальным. Нужно было обуздывать алчность крупных землевладельцев, но и не позволять лениться простонародью, особенно фрименам, этим свободным людям, склонным работать ровно столько, чтобы прокормить свою семью. Они должны были производить и некий излишек, не только на случай голода, но и для того, чтобы ремесленникам, купцам, строителям и всем остальным, кто вносит свой вклад в общее дело, не приходилось беспокоиться о куске хлеба. Кроме того, купцы могли обратить этот товар в деньги и не только приобрести за границей предметыроскоши и любимые знатью безделушки, но и закупить хлеб, если наступит неурожайный год и придется везти продукты из-за Ла-Манша.
Труднее всего королю было признать и поверить, что этот порядок вещей не выдумка и англичане действительно так живут.
Все они, от мала до велика, испытывали искреннее уважение друг к другу. Хозяин и слуга общались с простотой и легкостью, немыслимой в Нормандии. Разумеется, мужик мог часами жаловаться, как много ему приходится работать на господина, но он знал, что господин поддержит его в час нужды, защитит, когда нападут чужеземцы, построит в деревне церковь, а главное, предоставит ему ту свободу распоряжаться собственной жизнью и жизнью своей семьи, которую англичанин считает своим прирожденным правом, позволяющим ему сохранять уважение к самому себе. Разумеется, это имело и обратную сторону: часы, а то и дни они проводили в своих советах и витанах, без конца обсуждая какие-то пустяки. Спросили бы Эдуарда, он уладил бы подобное дело за полчаса, но в Англии приходится выслушивать мнение каждого. Кроме того, никто, даже рабы, не соизволит обратиться к высшим подобающим образом. До самой смерти Эдуарда раздражало, что он не слышит почтительного «хозяин», «господин», «ваше величество», «сир».
И все же, вопреки своему нормандскому воспитанию, он научился ценить такое устройство общества, при котором страну оплетала плотная сеть взаимопомощи и взаимозависимости, как по горизонтали: деревня и усадьба, село и город, рыбак и пастух, угольщик и кузнец, так и по вертикали – от короля до последнего раба. При этом каждая община принимала на себя попечение о престарелых и больных, детях и женщинах, отвечала за всех своих членов: совершишь бесчестный поступок и навлечешь на соседей дурную славу, они расправятся с тобой еще суровее, чем полагается по законам страны.
Король долго искал слово, способное передать сочетание личной выгоды с подлинным альтруизмом, и нашел это слово в латыни: прилагательные mutuusu communis, «взаимный» и «общий», напрашивались сами собой. Что-то прояснялось, когда он прибегал к латинскому термину: это общество живет per mutua, оно основано на взаимной зависимости и взаимопомощи.
Глава пятнадцатая
Коронация состоялась в Винчестере третьего апреля 1043 года, в праздник Пасхи, в присутствии всего Витана. Явился и старый Сивард, эрл Нортумбрии, и правивший Мерсией Леофрик. У этих смутьянов не было выбора: Уэссекс, Суссекс, Кент, Восточная Англия и графства долины Темзы выступили против них.
Вельможи и таны Англии всю пасхальную неделю провели в Винчестере. Целыми днями заседал совет, а поскольку погода оставалась холодной, даже морозной, собирались келейно, в тесных комнатках, наполненных дымом. Затянувшаяся зима истощила запасы угля, пришлось пустить в ход дрова. Вельможи вели переговоры, заключали сделки, торговались как барышники (в том числе и буквально, продавая лошадей), выпрашивали новые милости.
Постаревшие дружинники уходили на покой, получая собственные земельные наделы, их место занимали подросшие сыновья. Был установлен налог на содержание постоянной армии и флота, определена сумма налога и новые, весьма сложные способы его взимать. Эта подать именовалась «хергельд», ее собирали вместо прежних «датских денег», которыми некогда откупались от пиратских набегов. Были произведены назначения, заново разграничены полномочия королевского и местного суда, четко разделены обязанности королевских старост и графских шерифов, чтобы каждый знал, за что отвечает.
Клирики поспешно записывали все договоренности, поднося Эдуарду на подпись один документ за другим, и король утверждал грамотами обязанности, закреплял привилегии. Все присутствовавшие – эрлы и таны, церковники, писцы – не могли не признать разумность и основательность нового короля. Третий сын Годвина неотступно следовал за королем, порой мужчины брались за руки или слегка соприкасались плечами. Все это видели, но никого это обстоятельство не удивляло и не шокировало – не удивляло, поскольку от хитроумного Годвина как раз и следовало ожидать, что он сделает сынка фаворитом, и не шокировало, поскольку такого рода отношения были достаточно распространены, особенно среди холостяков, а по мнению англичан, частная жизнь человека касается только его самого и, может быть, еще Господа Бога, но никак не соседей (разумеется, это вовсе не означает, что соседи не вправе посплетничать между собой).
У Эдуарда отлегло от души. В Нормандии, хотя он и там не отказывал себе в подобных радостях, самый воздух был пропитан суровым благочестием клюнийских клириков, и постоянно приходилось выслушивать рассказы о том, что содомитам в аду отведено особое место, где их пытают раскаленными кочергами.
Особенно быстро Эдуард учился, когда что-нибудь в его королевстве не ладилось, а в первые годы беды сыпались одна за другой.
Лето после коронации выдалось холодное и влажное. Колосья еще до жатвы поела плесень, в День Всех Святых, когда выплачивалась большая часть налогов и податей, цены на зерно достигли небывалых цифр; теплой сырой осенью скот поразила чума, и к Рождеству стране грозил голод. Эдуард имел возможность убедиться, сколь ответственно ведет себя знать, как светские вельможи, так и епископы: они отворили свои житницы, снизили подати, закупали для бедняков зерно на континенте. Шумный и грубоватый сакс, епископ Уэлза, с утробным смехом уверял Эдуарда, что все это делается из эгоистических соображений, ведь если мужичье перемрет, придет конец праздной жизни лордов, однако король ясно видел, что его подданные руководствуются не столько личным интересом, сколько состраданием и чувством долга.
Тот же урок он усвоил и в лютую зиму 1047 года, когда птицы замерзали на ветвях деревьев и замертво валились на землю, когда звери и дикари с кельтских окраин вышли из своих лесов и кружили вокруг жилищ в поисках тепла и пищи, а снегопад на много недель отрезал друг от друга соседние усадьбы и деревни. В 1048-м землетрясение в Мерсии уничтожило Вустер, Дройтвич и Дерби и повлекло за собой лесные пожары.
Но впоследствии природа сменила гнев на милость. Климат сделался мягче: даже на севере, в Йорке, вновь сажали виноград. Население росло, но не голодало, благодаря усовершенствованным методам ведения хозяйства. Появились излишки, свободные деньги Эдуард решил потратить на несколько дорогих его сердцу затей, главной из которых стало сооружение Вестминстерского аббатства. К 1065 году простой народ утвердился в мысли, что Эдуард – святой, и все с энтузиазмом приписывали свое благосостояние его покровительству.
Но он не был святым. Хуже того, он до глубины души оставался нормандцем. Ему мало было английской музыки, искусства, книг, он тосковал о церемонном нормандском дворе. Чем более набожным он становился, тем охотнее прислушивался к нормандским священникам, смотревшим в рот Папе. Английская церковь не отличалась ни излишним благочестием, ни преданностью Риму. Священники исполняли свои обязанности, служили мессу, заботились о бедных, трудились, создавая дивной красоты книги и настенные росписи – лучшие в мире, далеко превосходившие все, что Эдуард видел в Нормандии, – однако этим церковнослужителям недоставало самоотречения, аскезы, умерщвления плоти. Все это казалось им подозрительно восторженным.
Однако голод, страшные зимы, землетрясения – все это происходило позже, а первое время короля тревожили политические и в то же время глубоко личные неурядицы. Первая неприятность постигла его еще до коронации; развязка этой истории наступила через полгода, в конце сентября.
Глава шестнадцатая
Вдовствующая королева Эмма, мать Эдуарда, держала собственный двор и занимала лучшее после королевских палат здание Винчестера. В конце февраля она вызвала к себе сына. Годвинсоны как раз отсутствовали – разъехались по своим графствам, а сам Годвин с Гарольдом отправились на север договариваться со старым Сивардом, эрлом Нортумбрии, и Леофриком, владетелем Мерсии. Приходилось идти на уступки, лишь бы северяне согласились признать Эдуарда королем.
Эмма, дочь Ришара, герцога Нормандии, была вдовой двух королей, матерью третьего и надеялась в скором времени увидеть еще одного своего сына на троне. Первый супруг Эммы, Этельред Неразумный, женился на ней в безвыходной ситуации, рассчитывая, что этот брак скрепит его союз с Нормандией и нормандцы перестанут поддерживать данов. Своей цели Этельред не достиг, но печальным следствием этого шага стало родство английской династии с нормандской, на котором и основывал спустя полвека свои притязания на престол Вильгельм Незаконнорожденный.
Эмма – ей в ту пору не исполнилось и двадцати лет – стала второй женой Этельреда. У него было несколько сыновей от первой жены, Эльфледы, в том числе Эдмунд, прозванный Железнобоким. Сыновья Эммы, Альфред и Эдуард, оставались на вторых ролях, тем более в ту пору, кот да могучий Эдмунд упорно защищал берега Англии от гораздо более грозного врага, чем те, с которыми воевал его отец. Главным противником англичан стал теперь молодой, но уже прославленный конунг датчан Канут. Этельред умер; Эдмунд Железнобокий, после множества кровавых битв, приведших к разделу королевства между ним и Канутом, последовал за отцом. Витан провозгласил Канута королем всей Англии.
Канут хотел придать законную силу власти, добытой в бою, а потому женился на вдове. Вероятно, Эмме его выбор польстил, она была даже увлечена новым мужем. Датчанин был младше ее по крайней мере на семь лет, высок, наделен необычайной силой, да и красив, если не принимать во внимание его нос – узкий и крючковатый. Волосы у него были длинные, светлые, глаза ярко сверкали.
К несчастью, у Канута уже была жена, Эльгива Нортгемптонская, английского (вернее, датского) рода, и хотя король якобы расстался с ней, Эльгива не только благополучно здравствовала, но и правила северными и восточными графствами Англии, а какое-то время и Норвегией, в качестве регентши при своем старшем сыне от Канута, Свене. Вторым их сыном был Гарольд Заячья Лапа. Эмма вновь оказалась на положении второй жены, как и при Этельреде, причем Этельред хотя бы успел овдоветь, прежде чем сделал ей предложение.
К 1043 году Эмма накопила огромное богатство. Выйдя замуж за Канута, она получила в качестве свадебного дара Эксетер, крупнейший город на западе страны, и все поборы с этого города поступали в ее распоряжение. Из двух ее царственных мужей один правил обширной империей, простиравшейся от полуночного солнца до мыса, который англичане называли Лендз-Энд, то есть «Край земли», а от Края земли – до берегов Балтики к востоку от Дании. Эмма хранила свои сокровища в золотой монете и драгоценностях на многие тысячи фунтов – все это было сложено в подвалах ее дома в Винчестере. До реальной власти ей так и не удалось дорваться, и она посвятила свою жизнь тому, чтобы приобрести нечто, почти столь же важное: деньги. Власть можно купить.
Эдуарда впустил в дом Стиганд, капеллан и советник королевы, крепкого сложения бенедиктинец с короткими песочного цвета волосами, выстриженными тонзурой. У монаха было красное квадратное лицо, нос картошкой, злобные голубые глазки, толстые губы и трясущиеся жирные щеки. Он был не старше Эдуарда, а то и моложе, состоял домашним священником при Кануте и Гарольде Заячья Лапа, и оба короля ценили его ум. В краткое царствование Гардиканута Стиганд предпочел уйти в тень, сделавшись капелланом и приближенным советником вдовствующей королевы. Эту должность он занимал и ныне. Монах провел Эдуарда в зал, возвестил о его приходе и исчез. Этот светский, амбициозный, сластолюбивый человек воплощал в глазах Эдуарда все пороки английской Церкви.
Каменные стены зала были увешаны гобеленами – только это излишество и позволяла себе Эмма, мебель почти отсутствовала, а воздух в помещении согревала одна-единственная жаровня. Королева не собиралась прожигать свои сбережения, тратясь на уголь, хотя и любила окружать себя красивыми дорогими вещами, тканными гобеленами, золотыми сосудами для вина; свое худое, но отнюдь не изможденное тело Эмма кутала в меха, украшала золотом и драгоценными камнями, а на голове носила золотой обруч, отделанный так богато, что он больше походил на корону. Меха, драгоценности, сосуды в любой момент можно продать, в отличие от золы и куриных костей. Когда Эдуард вошел, мать не поднялась ему навстречу с похожего на трон кресла, позволив сыну приблизиться и поцеловать ее в щеку, морщинистую, точно скорлупа грецкого ореха, но зато благоухавшую индийским сандалом.
– Ты пока не король, – заметила она, поясняя, почему не встает в его присутствии.
– Зато ты всегда будешь королевой, – откликнулся он, садясь на стул без подлокотников, приготовленный для него возле кресла матери.
Крашенные в рыжий цвет волосы королева убрала под венец. Взгляд ее ярких глаз зорок и проницателен, зрачки живые, бойкие, похожие на готовых взлететь птах. Эмме не сидится, длинные, коричневые, хищно загнутые ногти постукивают по украшенным львиными головами подлокотникам, ноги отбивают едва уловимый ритм. Вопросы о здоровье она нетерпеливо отметает.
– Итак, ты собираешься стать королем, – говорит она.
– Я стану королем.
– И эти наглецы будут править вместо тебя.
Эдуард пожимает плечами, стараясь не поддаваться раздражению.
– Сейчас они мне нужны. Это ненадолго.
– А когда надобность отпадет, ты скажешь им: дорогой Годвин, дорогой Свен, Гарольд и так далее, большое спасибо за все, что вы для меня сделали, а теперь будьте любезны передать мне свои графства и владения, а сами отправляйтесь жить куда-нибудь в Катай, к подножью Каракумов и Крыши Мира... – Она резко щелкает пальцами, вдовой королеве этот жест заменяет смех. – И они послушаются и уедут.
Он отвечает (глупо, конечно, но как удержаться и не назвать лишний раз имя тайной своей любви?):
– Ты не упомянула Тостига.
– О, своего мальчика можешь держать при себе. Он пустышка.
Раздражение перерастает в гнев, но Эдуард все еще сдерживается.
– Ты послала за мной, мама. Что ты хочешь мне сказать?
Она наклоняется вперед, смотрит ему прямо в глаза и шепчет:
– Скажи Сиварду и Леофрику: если им нужны деньги, чтобы собрать войско, которое сможет побить Годвинсонов, денег у нас достаточно.
Эти слова застали его врасплох. Эдуард поднялся, зашел за свой стул, двинулся куда-то вбок, словно пытаясь укрыться от матери, и лишь пройдя большую часть комнаты, повернулся и возвратился к ней.
– Если хоть одна душа нас услышит, – где-то поблизости крутится Стиганд, – нас обоих убьют.
Когтистые пальцы перестали выбивать такт, они обхватили подлокотники с такой силой, что распухшие суставы побелели.
– Господи, ты весь в отца. – Королева имела в виду Этельреда, но мысль ее тут же обращается к Годвину, голос дрожит от ярости и обиды: – Этот подлый негодяй правил Англией всякий раз, кот да твой отчим отправлялся на войну. Вы с Альфредом сидели в Нормандии, вы понятия ни о чем не имели, а об меня он просто ноги вытирал. А потом он убил твоего брата. Убил твоего брата! Это что, совсем ничего не значит? Слышишь, кастрат, бык холощеный: это что, ничего не значит?!
Эдуард тоже подается вперед, ударяя кулаком по ладони.
– Еще как значит! Но нужно выждать. Выждать, когда можно будет сквитаться без риска для меня, для тебя, – шипит он ей в самое ухо, не позволяя себе кричать. – Тогда мы сделаем это. Не ужели не понимаешь? Уэссекс, Суссекс, Кент, Восточная Англия, графства к северу от Темзы, корабли, моряки, дружинники... У тебя хватит сокровищ, чтобы нанять равное по силе войско?
– Хватит, даже без помощи Сиварда и Леофрика. Есть ведь еще нормандцы, мы можем позвать их. Даны, норвежцы. Шотландец Макбет[203] могучий воин и любит деньги, как все шотландцы...
– А когда эта наемная свора явится сюда и разорит страну или по крайней мере южные графства, когда Годвин и все его сыновья будут убиты – все до единого, потому что ни ты, ни я не будем чувствовать себя в безопасности, если останется в живых хоть один, – тогда народ этой страны захочет видеть меня своим королем, как ты думаешь?
– Народ? Ба! Что такое народ? Народ делает так, как ему велят. – Эмма всегда была истинной нормандкой.
– И ты полагаешь, – продолжает шипеть Эдуард, – что когда это наемное войско одержит победу, оно не сумеет подобрать себе другого князя, герцога, короля, которому оно предпочтет служить?
Эдуард несколько раз глубоко вздыхает, чтобы успокоиться, и снова садится рядом с Эммой.
– Мама, – теперь в его голосе звучит мольба, он в последний раз пытается урезонить королеву. – Ты сказала, что я похож на отца, и тем пыталась уязвить меня, но отец мой был глупцом, а я не так глуп, он упорствовал в своих ошибках, а я нет, он понапрасну растрачивал деньги и дешево ценил человеческую жизнь...
– А я нет, – подхватывает она, насмешливо качая головой.
Эдуард старается не обращать внимания на издевку, но силы уже на исходе.
– К несчастью, у меня сейчас нет другой опоры, кроме Годвина и его сыновей. В этом есть и хорошая сторона: я нуждаюсь в них, но и они, по счастью, нуждаются во мне. Так обстоит дело. Со временем все будет иначе, но пока дело обстоит именно так.
Эдуард наклонился, собираясь поцеловать мать на прощание, но она отшатнулась, словно эта ласка запятнала бы ее. Эдуард поднялся и направился к двери, лицом к которой сидела королева. Она приподнялась, вцепившись руками в подлокотники, украшенные львиными головами, и прокричала ему вслед:
– Трус, извращенец, ничтожество, глупец! Ты еще пожалеешь! Ты поплатишься за это! Ты вспомнишь Альфреда, моего первенца, твоего брата!
Капеллан Стиганд проводил Эдуарда до дверей.
Дело этим не кончилось. В сентябре того же года король Эдуард пребывал в Колчестере в качестве гостя Гарольда Годвинсона, эрла Восточной Англии. Они с Гарольдом нашли общий язык и вместе проверяли готовность флота: ходили слухи, и лазутчики подтверждали их, будто король Норвегии Магнус, сын святого Олава, которому удалось отнять власть у Свена и первой жены Канута Эльгивы, задумал несколько грабительских рейдов по берегам Англии, а может быть, и вторжение.
Эдуард стоял рядом с Гарольдом на пристани, глядя, как серый прилив накрывает коричневые отмели возле городских стен, как вода подымается по судоходному каналу, соединявшему море с руслом Темзы. Слуга доставал из корзины устриц, ловко вскрывал их ножом, солил склизкий комочек и предлагал по очереди то одному, то другому вельможе. Гарольд и Эдуард с удовольствием глотали устриц, хотя в этих местах они считались пищей самых что ни на есть бедняков, тех, что кроют крыши болотным тростником. Над головами кружили черноголовые и бурые чайки и пронзительно вопили, надеясь что-то урвать. Поедая моллюсков, король обсуждал с эрлом, где разместить ремонтный док, а где – склад, и удастся ли раздобыть достаточное количество строевого леса в краю, где растут преимущественно ива, ольха и тополь.
Издали послышался звук рога, они обернулись к мосту, продолжавшему Лондонскую дорогу через реку. Галопом приближались четверо всадников, один из них держал знамя, лучи солнца играли на шлемах и кольчугах. Сразу было видно, что это знатные люди. С расстояния в сотню шагов Гарольд узнал своего младшего брата Леофвина. Запыхавшись, юноша перебросил ногу через луку седла и соскочил на землю, поспешно доставая лист пергамента из подвешенного к поясу кошеля. Леофвин слегка поклонился королю, но послание все же вручил старшему брату. Печать на письме была сломана. Гарольд медленно прочел – не слишком-то он был сведущ в грамоте – и передал пергамент Эдуарду.
– Вот, смотри.
Эдуард прежде всего глянул на адрес, потом на подпись и титулы. Послание предназначалось Магнусу, королю Норвегии, от Эммы, королевы Англии. Затем Эдуард прочел текст, написанный не рукой Эммы, а, судя по почерку, ученым клириком. Содержание письма было простым и ясным: поскольку трон Англии достался ее сыну Эдуарду, трусу и содомиту, отдавшему страну во власть банды убийц и негодяев, Эмма, памятуя святость Олава, отца Магнуса, и славу самого Магнуса, мудрого и справедливого христианского принца, призывала его явиться в Англию и очистить эту страну. С этой целью она готова была передать ему принадлежавшие ей золото и драгоценности, общей ценой в тридцать тысяч фунтов.
– Это почерк твоей матери?
– Подпись ее.
Побледнев, Эдуард трясущимися руками перевернул лист пергамента, сложил половинки разломанного воскового оттиска.
– Печать тоже ее.
Гарольд пустил устричную раковину блинчиком по воде, – она пять раз успела отскочить от поднявшейся почти вровень с причалом приливной волны, – утер рот рукавом и обернулся к брату:
– Отец уже видел это?
– Да. Он-то и послал меня, сказал, мы...
– Как письмо попало к нему в руки?
– Его принес Стиганд. Эмма поручила ему выбор курьера.
– Ладно. Что сказал отец?
– Он велел нам встретиться с ним на мосту у Путни и лететь во весь опор в Винчестер. Надо добраться туда прежде, чем она прознает об этом.
– Зачем?
Леофвин (прыщей у него на лице поубавилось) оглянулся на Эдуарда.
– Говори, – поощрил его Гарольд, – короля это касается в первую очередь.
– Надо отобрать у нее сокровища, пока она еще что-нибудь не задумала, и поместить ее под стражу. Не в тюрьму, – добавил он, обращаясь к Эдуарду, – но под надзор людей, которым мы можем доверять.
– А что с сокровищем?
Краткая пауза.
– Оно пойдет в королевскую казну. Куда ж еще?
– Ты согласен? – обернулся Гарольд к Эдуарду.
Хоть раз мог бы обратиться к нему – «Ваше величество», «сир» или на крайний случай «Ваша милость»!
– Хорошо, – сказал он, – я сам поеду с вами.
Через два дня они вломились в ее дом – Эдуард впереди, за ним по пятам – Годвин, Свен, Тостиг, Гарольд и рвавшийся вперед Леофвин. За ними шли вооруженные ломами дружинники. На улице дожидались крытые телеги.
Они не соблюдали никаких формальностей, не зачитывали обвинение, не предъявляли королевский указ обыскать дом. Стиганд, прекрасно знавший, где что лежит, повел незваных гостей вниз, в погреб, и они принялись сбивать замки и вытаскивать наружу сундуки, среди которых попадались настолько тяжелые, что их с трудом поднимали четверо сильных мужчин. Эмма металась между ними, выкрикивая оскорбления, понося Годвина, пытаясь выцарапать ему глаза своими длинными заостренными ногтями. Она готова была собственноручно поквитаться с ним за убитого первенца. Королеву скрутили, но она вывернулась и на этот раз метнулась к Эдуарду, попыталась схватить его за яйца и заорала, что своими руками охолостит этого извращенца, склонного к противоестественному греху. Гарольд и Леофвин швырнули королеву назад в тронное кресло, и заодно Гарольд сорвал с ее плаща серебряную брошь в виде ястреба, когтящего добычу, – свадебный дар Канута.
Годвин и Свен тем временем обшарили комнату, снимали гобелены, собирали в мешки немногочисленные, но достаточно дорогие украшения, утварь и прочее. Теперь, когда Эмму удерживали силой, она не то чтобы успокоилась, но кое-как совладала с собой и сидела тихо, пока не вошел Стиганд. Он хотел сообщить, что еще немало добра осталось в верхних покоях, однако там слишком крепкие двери, а замки мавританской работы очень хорошие, жаль их ломать...
– Вот он! – вскричала королева и, вырвавшись из рук дружинников, поднялась на ноги. – Это он толкнул меня на это, сам составил письмо, сам написал, негодяй!
На клирика достаточно было взглянуть, чтобы понять: королева не солгала. И не вина перед матерью терзала с того дня душу Эдуарда, а тот взгляд, взгляд заговорщиков, которым обменялись монах и старый Годвин. Страх, ненависть и презрение к Годвину и ко всему его отродью – за исключением Тостига, которого он полюбил, и Гарольда, которого он научился уважать – злее прежнего язвили его сердце. Но худшее ждало его впереди.
Глава семнадцатая
Как-то в июне, на рассвете (недавно завершился первый год его царствования), Эдуард проснулся в верхних покоях большого дома в Чеддере и обнаружил, что Тостиг уже поднялся и сидит на скамье у окошка. Близился день солнцестояния, солнце только что поднялось над горизонтом, и юноша купался в волшебном свете восхода. Его золотистые волосы, пронизанные солнечными лучами, походили на нимб – обнаженный ангел, Люцифер до грехопадения...
Утренний хор птиц совершенно заглушил кукареканье петухов в птичнике и в ближней деревне. Легкий ветерок, просто движение воздуха, рожденное солнечным теплом, занес в комнату ароматы шпалерных роз и жимолости. Белохвостые ласточки, гнездившиеся в усадьбе, проносились взад и вперед, спеша к птенцам в глиняных гнездах под застрехами. Мелькнула над деревьями серая кукушка, наполнила лес своим ритмичным призывом: июньской порой по-новому пой.
Чуть подальше во всю мочь крошечных легких завопил младенец. Это в женском доме. Накануне Эдуард стал восприемником, крестным новорожденного. Как назвали малыша? Ага, Ательстан. Кем-то он будет, когда вырастет? «Епископом», – сказала мать, «дружинником», – возразил отец, вернее, отчим: отец ребенка умер еще до его рождения – отправился разорять птичьи гнезда и свалился со скалы[204].
Эдуард приподнялся на постели, заложил руки за голову, раздвинув локти. Он уже целый месяц жил в этом деревянном доме, где стены были обмазаны штукатуркой, и улаживал дела на юго-восточной окраине королевства. Хотя единственное отхожее место находилось снаружи, у дальнего конца здания, да и в целом это жилище проигрывало по сравнению с каменным нормандским замком со всеми необходимыми удобствами, все же Эдуард готов был признать и некую прелесть Англии, особенно теперь, в колдовскую пору раннего лета.
Король чувствовал себя немного сонным, расслабленным, он бы, пожалуй, еще вздремнул, но доносившиеся снаружи звуки и запах свежего хлеба, смешивавшийся с ароматами цветущих деревьев, подсказывали, что вскоре молодой тан, служивший при нем спальником, осторожно постучится в дверь. Знал король и причины столь приятной истомы: прошлой ночью он выпил чуть больше меда, чем обычно, а Тостиг любил его с такой страстью, какой даже эти пылкие любовники еще не ведали.
Эдуард облизал губу, нащупав языком небольшую ранку, оставленную зубами Тостига. Кожу в паху немного саднило – юноша слишком сильно терся о нее покрытым первым пушком подбородком. Эдуард поднес к лицу пальцы, жадно вдыхая еще сохранившийся запах.
– Прошлой ночью ты был... – начал и не договорил он.
Король собирался сказать «великолепен», но, услышав его голос, Тостиг резко обернулся, и Эдуард увидел, что по лицу юноши струятся слезы. Он тут же соскочил с кровати, опустился на колени у ног возлюбленного, повернул к себе его лицо.
– Не плачь, пожалуйста, не плачь, ты же знаешь, я все могу исправить, все сделаю. Что случилось, Тостиг?
Он поднялся, прижимая Тостига к себе, гладя его длинные волосы, шепча слова любви и утешения.
Тостиг уклонился от его объятий, поднял голову и посмотрел королю прямо в глаза.
– Я скажу тебе, что случилось, – хрипло выговорил он. Глаза его лихорадочно блестели. – Они женят тебя. Я давно собирался сказать тебе, но мы были так счастливы вместе, я просто не смог. Они хотят, чтобы ты взял в жены мою сестру Эдит.
– Кому это в голову взбрело? – заорал Эдуард, заранее зная ответ. Сжав кулаки, он с такой силой ударил по раздвинутым ставням, что ставень в свою очередь ударил в стену и отколол кусок штукатурки, за которым обнажилась доска. – Скорее они отправятся в ад! – И он заметался по комнате, разбрасывая сложенную на ночь одежду, потом снова врезал кулаком по ставню, и вновь отлетел кусок штукатурки. – Они все окажутся в аду, прежде чем заставят меня жениться, – повторил он.
Тостиг внимательно посмотрел на него, удивленно покачал головой, прогнал невольную улыбку с губ, подавил смешок.
– Ничего не получится, – сказал он, и его прекрасное лицо потемнело. – Говорю тебе, она шлюха, мерзкая шлюха. Она заставит тебя спать с ней, займет мое место в твоей постели.
– Ни за что, ни за что! – бушевал король. – Я не допущу.
– Придется. Еще как придется.
– Почему?
– Англии нужен от тебя наследник.
– Претендентов и так полно, а сколько еще народится...
– Вот именно – слишком много. Это приведет к сваре, к раздору. К гражданской войне.
Не Годвин объявил Эдуарду об этом решении, не кто-то из сыновей Годвина, а тот самый человек, который предал его мать, подтолкнув ее к измене, – Стиганд, получивший в награду за труды кафедру в Элмхэме, а надо учесть, что епископ Элмхэма окормлял Восточную Англию, которой правил Гарольд Годвинсон.
Встреча произошла в Бате, в покоях аббата бенедиктинского монастыря. Бенедиктинцы жили в Бате уже сотню лет, монастырь покуда не подвергся клюнийской реформе, так что беседа короля и епископа протекала в весьма комфортабельной, можно сказать, роскошной обстановке: высокие стулья с подушками вместо сидений, причем на подушках были вышиты не библейские сцены, а эпизоды охоты; мед разливали из серебряных кувшинов в серебряные чаши, на серебряных блюдах лежали вишни и лесная земляника. Снаружи, в монастырском саду, бабочки порхали над ароматическими травами, которыми монахи приправляли свою снедь, кружили шмели.
– Можно подумать, мне завтра предстоит умереть.
– «Да живет король вечно»! – откликнулся Стиганд, выплевывая вишневую косточку. – Эту молитву повторяют со времен царя Соломона, а толку-то что? Ты смертен, как и все. Впрочем, – вздохнул он, заворочавшись в кресле, выправляя под собой складки ризы, которую поленился снять после мессы; по запаху Эдуард догадался, что епископ выпустил газы, хорошо хоть хватило деликатности сделать это беззвучно, – впрочем, мы надеемся, что ты проживешь достаточно долго и увидишь, как твой сын и наследник достигнет совершеннолетия.
– Мы – это кто?
– Англия.
Повисло молчание. Стиганд был опытным дипломатом, он не стал первым прерывать паузу. Пока что он взял себе еще вишенку и, отвернувшись к окну, устремил взгляд на монастырь, на приземистую крышу церкви. Эдуард понимал, что нужно либо прогнать епископа, либо самому встать и уйти. Гнев душил его, и он был рад дать ему волю. Нужно раз и навсегда покончить с этим делом. Пусть выкладывает все начистоту. Наклонившись, он стукнул кулаком по столу и крикнул:
– И королевой непременно должна стать Эдит, дочь Годвина?!
Стиганд изобразил на лице недоумение.
– А как же иначе? Это же очевидно. Нам нужен принц английской крови, своя, надежная династия. Когда вновь утвердится преемственность английского королевского рода, все эти скандинавские родичи Канута, упокой Господи его душу, не говоря уж о нормандском ублюдке, племяннике твоей матери, который якобы тоже имеет какие-то права, позабудут о своих притязаниях на престол. Эдит – англичанка...
– Наполовину. Ее мать Гита – датчанка.
– Как и треть населения твоего королевства, и все эти люди считают себя англичанами. Они прожили здесь уже больше века. Кстати, им по душе придется и то, что она свойственница Канута. И при этом она настоящая англичанка, до мозга костей, такая же, как все мы. Как говорится, «настоящий яблочный пирог», англичанка до мозга костей.
– Ты можешь то же самое сказать об Этелинге.
– О другом Эдуарде? – Епископ снова выплюнул вишневую косточку, она легонько звякнула о край серебряного блюда. – Он несовершеннолетний и живет где-то в Венгрии.
Эдуард поднялся на ноги, пробежал по комнате, схватил чашу с медом и саданул ею по столу так, что янтарная влага расплескалась.
– Годвинсоны рвутся к власти. Вот о чем идет речь. Наследник из рода Годвина, – вот что им нужно. Даже если он родится от меня, я умру раньше, чем он достигнет совершеннолетия (ты очень любезно напомнил мне – от смерти не уйти), и тогда Англией будет править либо его дед, если старый боров переживет меня, либо дядья.
Одним из дядьев этого гипотетического младенца стал бы Тостиг. При одной мысли об этом в душе короля образовалась сосущая пустота, которую даже гнев не мог заполнить.
– Нет никаких причин для такого союза, – подвел итоги король. – Он не на пользу ни мне, ни Англии.
Стиганд чуть подвинулся вперед, мизинцем, украшенным перстнем, дотянулся до пролитого королем меда, подобрал капельку и слизнул.
– Для тебя тут есть кое-какие преимущества.
– А именно?
– Годвинсоны боятся того, что может произойти после твоей смерти. Нечего в прятки друг с другом играть – ты можешь завтра же свалиться с лошади или подцепить зимой неизлечимую простуду. Быть может, даже сейчас, в сию минуту, где-то поблизости бродит тайный убийца, или среди твоих дружинников кружит человек, которого мы знаем, но чьи истинные намерения от нас сокрыты. Но вот в чем загвоздка: кто бы ни стал твоим преемником, норвежец или нормандец, Годвинсоны останутся не у дел, если только...
Эдуард не слышал священника, он слышал только, как кровь ударяет в виски, чувствовал, как похолодели и увлажнились руки. Тем не менее, смысл этих слов был ясен, так ясен, словно тень Альфреда, убитого брата, шептала их ему в ухо.
– Если только Годвинсоны – один из них или все вместе – не поспособствуют этому «преемнику», умертвив меня, – подхватил он.
– Можешь думать что хочешь. Я этого не говорил.
Эдуард поднялся, отошел к незастекленному окну. В часовне запели службу третьего часа. Как все бенедиктинцы, здешние монахи в совершенстве владели искусством григорианского пения, оно пронзило душу короля ностальгической тоской об оставленной им простой жизни, о богослужении в Байё и Лизьё, где он еще не знал мирских интриг. Запах благовоний, печальный лик распятого Христа, скорбящая Мать, чистое, беззаботное благочестие юности... Глаза щипало от слез, защемило сердце. Король обернулся к двоедушному, коварному епископу.
– Как только у меня родится сын, они смогут убить меня.
– Витан не изберет королем ребенка. Горе стране...
– Которой правит младенец, – подхватил король.
Пение монахов стихло, слышалось только нудное жужжание попавшего в плен шмеля. Стиганд снова зашевелился на стуле, откашлялся.
– Пока что речь идет только об обручении, – сказал он. – Они предлагают провести церемонию на празднике урожая в Керне, что в графстве Дорсет.
Так и сделали. В сопровождении Гарольда и кучки дружинников, из которых еще предстояло сформировать личную гвардию Эдуарда, король выехал из Шерборна под проливным дождем. Охотничьи псы, крупные, длинноногие, с густой серой шерстью и очень похожие на волков, если не принимать во внимание по-собачьи широкие морды, бежали за лошадьми. Порой собаки бросались в сторону, привлеченные запахом зайца или завидев в поле куропаток. Шерсть их вскоре намокла, отяжелела, как и гривы лошадей и плащи всадников. Над поросшими буком холмами перекатывался гром.
Всадники явно были не в духе.
– Может, пошлем вперед гонца и отложим эту затею на пару дней?
– Не получится, – возразил Гарольд.
– Почему?
– Праздник урожая. Особенный день.
– Безусловно. День выплаты ренты. Так, что еще? Заканчивается сбор урожая, снимают ограду с полей, чтобы до весеннего сева, то есть до Благовещенья, мог свободно пастись скот. Весьма разумно – ведь навоз послужит удобрением. Дальше что? «День каравая», в церкви освящается ячменный хлеб из свежемолотого зерна. Однако почему этот день так подходит для обручения?
На Гарольда речь короля произвела некоторое впечатление: надо же, нормандский аристократ, воспитанный в монастырях и каменных дворцах на сказаниях о Деве Марии и подвигах эпохи Карла Великого, сумел так быстро вникнуть в то, что составляло жизнь его подданных. Тем не менее Эдуард знал пока далеко не все.
– В этом дне особая святость.
Какое-то время они ехали молча. Копыта лошадей глухо били по известняковой дороге, порой высекая искры из прожилок кремня. Звенели удила. Эдуард хмурился все сильнее.
– Это день шабаша, – произнес он наконец.
Гарольд промолчал, сжав губы так, что они побелели.
– Я не стану участвовать в языческих радениях! – вскричал Эдуард, натягивая поводья. Его жеребец фыркнул и закинул голову, ожидая команды поворачивать. Дождь полил сильнее, над головой повисли серебряные нити, холмы Даунса накрыла серая мгла.
– В этом нет ничего дурного, – возразил Гарольд.
– Настоящая бесовщина, и ты сам это знаешь. Как ты решился участвовать в таком деле?
– Да полно. Самый обычный праздник, немножко поплясать, повеселиться малость, – настаивал Гарольд. – Не беда.
– Здешний народ всегда готов повеселиться, было бы что выпить, но я бы предпочел вернуться в Шерборн и не мокнуть под дождем.
– Поехали. Это серьезнее, чем ты думаешь.
Эдуард нехотя повернул к югу.
– Почему это так важно?
– Здесь почти все помнят о своих кельтских корнях. Говорят, у завоевателей саксов не хватало женщин, они брали их из числа пленниц, а мужчин обращали в рабство. Конечно, все тут приняли христианство, давно уже, много поколений назад, но сохраняют и старые обычаи, особенно женщины. Это всего лишь традиция и к вере не имеет отношения.
– Тогда почему я должен с ней считаться?
Гарольд вздохнул. Уговорить короля оказалось не так-то просто. Все этот проклятый дождь, из-за него спор начался раньше, чем он рассчитывал.
– Они задерживают налоги, не отдают своих сыновей в дружинники, а когда их призывают в ополчение, поворачивают назад, едва дойдя до западного берега Стаура. Они говорят, что наш король – не их король, наша королева – не их королева. Нужно переломить такое отношение, чтобы заручиться их поддержкой на случай нужды. Сегодняшний праздник – самый удобный случай. Если местные примут тебя и Эдит – они почитают королеву не меньше, чем короля, – они последуют за тобой, будут защищать тебя, с готовностью придут на помощь...
– Ты хочешь убедить меня, что, совершив какие-то дурацкие обряды, я сумею завоевать доверие народа, живущего к западу от Стаура, Фрома и Паррета?
– Да. Вплоть до границы Корнуолла.
– Хорошо, я вытерплю это, но не стану участвовать в кощунстве, в поклонении дьяволу и в чем-нибудь подобном.
Гарольд молча пнул лошадь каблуком, заставив ее перейти на рысь. Эдуард, дружинники и собаки, разбрызгивая грязь, устремились за ним.
Дождь поутих, когда они подъехали к Керну, открылся вид на меловые холмы, в ту пору увенчанные рощей падуба, и над холмами ненадолго показалась радуга. Король и его спутники спустились в долину, проехали вдоль ручья к маленькому женскому монастырю и там отыскали дорогу, вдоль которой стояли – не слишком, впрочем, тесными рядами – обитатели соседних сел. Одни пришли в звериных масках, другие несли в руках обручи, перевитые летними цветами или колосьями ячменя. Несколько шутов кривлялись в толпе, ударяя детей свиным пузырем, подвязанным к длинной палке. Многие держались особняком, стояли вяло и безучастно, даже испытывали какую-то неловкость – так показалось Эдуарду.
Не доехав до аббатства и небольшой усадьбы, примыкавшей к монастырю, всадники свернули налево от ручья и начали подниматься на утес. Краем глаза Эдуард увидел гигантское изображение на склоне холма – дерн в этом месте срезали, обнажив белый известняк. Это был Воитель Керна.
Воитель держал – и посейчас держит – в правой руке занесенную дубину из падуба, самого надежного дерева, а в левой – львиную шкуру. Между ног поднимается, почти касаясь пупка, напряженный фаллос. Геркулес, Король-Падуб, победивший Короля-Дуба в день середины лета. Ведьмы поклоняются ему и поныне в праздник урожая, который тогда приходился на первое августа, а теперь на двенадцатое. Словно в честь великана на ветвях падуба, росшего на склоне горы, высыпали маленькие почки, белые и лиловатые.
Годвинсоны уже вернулись из-под Дорчестера, где они заранее собрались в Мейден-Кастл, кельтской крепости, которую местные жители считали священным местом. Все они ждали короля на вершине горы с фигурой Воителя Керна, на краю леса. Среди Годвинсонов стояла девушка, укрытая зеленым плащом, не высокая, но хорошего сложения. Король почувствовал легкий укол любопытства – впервые ему предстояло увидеть Эдит. Она отвернулась, прошла по дорожке из дерна и вместе с одетыми в белое женщинами скрылась в роще. Издали он различал теперь только ее стопы, белые, изысканные, обвитые золотистыми ремешками сандалий.
Первая часть праздника проходила за пределами рощи. Это была длинная и, на взгляд короля, скучная церемония, не имевшая ничего общего с христианством, хотя там и присутствовал старый священник, неразборчиво бормотавший что-то на испорченной латыни и крестившийся к месту и не к месту. Кое-что произносилось на старинном диалекте Уэссекса, и можно было разобрать отдельные слова, но в основном звучал певучий язык кельтов, бывший еще в ходу в некоторых областях Франции. Эдуард тщетно пытался понять, что происходит на его глазах, в чем он принимает участие: то ли это саксонский обряд, перенесенный сюда шесть столетий назад из лесов Тюрингии, то ли еще более древний, кельтский, и даже кельтская литургия, а может быть, эклектическая смесь обеих традиций?
Королю поднесли необычное горьковатое питье в плоской глиняной миске. Этот сосуд, покрытый спиралеобразным узором из точек, нашли по соседству в кургане, где покоились древние короли. Эдуард боялся пить отвар – не яд ли? но Гарольд подал ему пример, благоговейно приложившись к своей чаше. Потом Эдуарду вымазали все лицо смесью слюны и грязи – и глаза, и рот, и нос, хлестнули ореховым прутом. Сперва король подозревал, что все это изрядно затянувшийся розыгрыш, что Годвинсоны решили подшутить над ним, но, обернувшись, не заметил улыбок – только очень серьезные, даже торжественные лица. Здесь присутствовал и Тостиг – они не виделись со времени встречи короля с епископом Стигандом в Бате. Глаза юноши, опухшие и покрасневшие от слез, избегали взгляда любовника.
Наконец короля повели в рощу. Гарольд шел рядом с ним, будущий шурин выступал в роли дружки жениха. Блестели мокрые стволы деревьев, на листьях переливались жемчужины дождя, громко жужжали пчелы, тяжело перелетая с цветка на цветок. Картина была яркой и резко отчетливой, проступала каждая деталь – оттенки зелени, трепет листвы, сверкающая капелька воды, в которую ударилсолнечный луч, мокрые деревья и восходящий от земли пар, дурманящий и без того помраченный рассудок. Самым ужасным – или самым прекрасным – было ощущение жара, распространявшегося внизу живота и по ягодицам. Источником жара оказались мошонка и член, изрядно набухший, как не без смущения обнаружил король.
Посреди рощи открылась круглая поляна, а посреди поляны – круглый гладкий камень, поросший желтым мхом, высотой примерно в фут и около шести футов в диаметре. Валун окружало кольцо травы, единственное здесь пятно зелени. Поодаль, в тени падуба, уже ничего не росло.
Перед камнем рядами стояли женщины, они покинули празднество раньше мужчин. Эдит в зеленом платье замерла чуть в стороне, в арке, образованной ветвями цветущего падуба, листья, богатые эфирными маслами, влажно блестели. Женщины стояли спиной к Эдуарду и его спутникам, лицом к камню. То ли почувствовав присутствие короля, то ли повинуясь какому-то знаку, Эдит повернулась и откинула зеленый муслиновый капюшон, закрывавший ее лицо. У короля перехватило дыхание.
Ярко-рыжие волосы невесты были перевиты жемчужной нитью, кожа ее была безупречно белой, такой белой кожи он никогда в жизни не видел. Высокий лоб, под сводом темных бровей широко расставленные глаза цвета морской воды. Тонкие, изящные черты лица, полные губы, прямой нос, крепкий подбородок, шея – точно выточенная из слоновой кости. Но именно волосы, ярко-рыжие, пламенные волосы придавали ей почти сверхъестественную красоту. Эдит вовсе не была похожа на Тостига. Эдуард втайне надеялся на их сходство, но теперь позабыл о своих мечтах, ибо представшее перед ним лицо вполне могло быть лицом невероятно красивого мальчика-андрогина на пороге созревания. Короля особенно привлекали юноши этого возраста, быть может, потому, что первый сексуальный опыт он приобрел лет в четырнадцать вот с таким же ангелочком.
Эдит протянула суженому руку, такую же длинную и белую, как и ее ноги, растянула рот в улыбке, но глаза остались холодны. Король надел на безымянный палец невесты золотое кольцо, позаимствованное из материнской сокровищницы, и позволил ей проделать то же самое с его пальцем. Когда девушка прикоснулась к нему, Эдуард невольно вздрогнул. Она покрепче ухватила жениха за руку и прошла с ним под аркой из падуба к священному валуну.
Начало сказываться действие зелья, которым опоили короля. В отвар, несомненно, подмешали сок особых грибов, вызывающих галлюцинации и усиливающих похоть. Теперь красавица принудила Эдуарда отведать вдобавок хмельной напиток. Одна из спутниц протянула Эдит золотую чашу, богато украшенную каменьями. В воспаленном уме Эдуарда мелькнуло воспоминание о том, что они находятся неподалеку от Гластонбери, где нередко являлись видения Святого Грааля, если не сама священная чаша. Эдит уговорила, скорее даже заставила короля осушить чашу одним глотком. Это был всего-навсего сидр, однако сидр двухлетней выдержки, крепкий, с насыщенным вкусом, вероятно, этот напиток тоже содержал наркотические добавки. Сидр имел символическое значение – поднося нареченному перебродивший яблочный сок, неземная, но столь осязаемая, близкая, но вечно ускользающая красавица представала перед ним в образе Яблочной Богини.
Вторая служанка передала будущей королеве ветвь яблони с тяжелыми плодами. Эдит выбрала одно яблоко, его тут же сорвали, разрезали кремневым ножом, не как обычно, сверху вниз, но особым и запретным способом – поперек, так что половинки, распавшись, открыли в середине звезду из пяти содержавших семена гнезд, причем каждая перегородка оказалась разделена надвое. Такой разрез был табуирован, поскольку обнажившиеся семенные гнезда больше всего напоминали вульву. Эдит протянула половину яблока королю и съела свою долю, внимательно, исподлобья, наблюдая за тем, как ест он. Теперь она символически становилась Фрейей, Гольдой, Хельдой, Хильдой, Остарой в глазах тех, кто еще не забыл своих саксонских, германских корней, а для кельтов она была Рианнон, Арианрод, Керридвен, Блодуэдд, Дану, Анна. А кем стал он? В тот час он был героем или богом, рожденным богиней, соблазненным богиней, принесенным в жертву богине.
Участники священнодействия окружили их. Две девушки расстегнули спереди платье Эдит, распахнули его, как занавес, остальные занялись одеждой короля. Голова у него плыла, сердце стучало. Он никогда прежде не видел обнаженную женщину, женщину в одних только золотых сандалиях. Эдуард разрывался надвое, испытывая отвращение и похоть. Отвращение в нем вызывали ярко-рыжие волосы между ног невесты. Он и не думал, что у женщин тоже растут там волосы, и счел это свойственным одной только Эдит уродством. Из тумана и ветвей падуба позади Эдит проступила какая-то фигура, и когда Эдуард разглядел этот призрак, ужас окончательно заглушил в нем желание – то была голова барана, бараньи рога на голове закутанного в меха мужчины. Между ног сатира торчал торжествующий фаллос, сатир благословлял им брачующихся, благословлял всю свадьбу.
Иллюзия? Спектакль? Правды Эдуард так и не узнал, но если то была игра, Годвинсоны зашли чересчур далеко и самих себя перехитрили. В любом случае, как только Эдуарду предстало это видение, он распознал в нем бесовство. Его охватило исступление, какое находит на воинов в битве и какого он сам никогда не испытывал. Вцепившись что было сил в уже расстегнутые служанками одежды, король вырвался из круга обступивших его женщин, выскочил из толпы и кинулся к подножию горы, где ждали слуги и лошади. Полыхнула молния, ударил гром, с новой силой хлынул дождь.
Женщины, оставшиеся на прогалине, оправляли платье на Эдит.
– Мразь! – сказала она, отряхиваясь от брызг. – Дерьмо!
Много лет спустя, когда Тостиг женился и вернулся ко двору в качестве главного советника и единственного друга короля, он поведал Эдуарду истину, о которой король лишь отчасти догадывался.
– Они знали, что обычно женщины не вызывают у тебя желания, а потому решили, что нужно опоить тебя любовным зельем, и придумали эту фантасмагорию, чтобы ты хоть раз возбудился и овладел Эдит. Одного раза в присутствии свидетелей было бы достаточно.
– Где они научились колдовству? Неужели все еще справляют обряды старой веры?
– Нет. Лишь по праздникам вспоминают старинные поверья, отдельные приметы, связанные со свадьбой, рождением ребенка или похоронами.
– Что же, они заново воссоздали все это?
– Более-менее. Есть такая старуха в Керне, она уверяет, будто помнит все, как было, и сохраняет «часть наследия Англии» – так она выражается. Наверное, с ней посоветовались.
Но и спустя десять лет Эдуард бился над этой загадкой:
– Даже если бы произошло соитие, не могли же они быть уверены, что она понесет с первого же раза?
– Вот почему назначили обручение, а не свадьбу. Пока Эдит не вошла в твою семью, она могла спать с кем угодно и сколько пожелает. У нее оставался на это еще по меньшей мере месяц.
– А если б ребенок уродился не в нее и не в меня?
– Любой младенец, рожденный Эдит, удался бы лицом в Годвинсонов, поскольку она не подпускала к себе никого, кроме них.
– Никого, кроме братьев?
– Да, и отца.
– И тебя в том числе?
– Только не меня, – рассмеялся Тостиг. – Мы с ней никогда не ладили.
Двадцать третьего января 1045 года Стиганд провел скромную брачную церемонию, соединив Эдуарда с Эдит. Эдуарду ни разу не удалось овладеть женой, хотя в течение недолгого периода от брачной ночи до начала поста он был близок к этому. Короля возбуждали стопы Эдит, длинные, с высоким подъемом, безупречно белые – ей ведь было тогда всего шестнадцать лет. Прелестные стопы в золотых сандалиях запомнились ему со дня обручения, он ласкал ноги Эдит, но выше колена подняться так и не посмел. Сначала Эдит недоумевала, терялась в догадках, ведь она давно утратила девственность и была уверена, что знает, как надо действовать. Вскоре растерянность сменилась неукротимым гневом и презрением. Глубокое унижение испытывали оба. Король предложил сделать перерыв на время поста; когда же пост закончился, навсегда отлучил Эдит от своего ложа. Оплакивая разлуку с Тостигом, Эдуард предпочитал хранить целомудрие. Эдит утешалась в объятиях случайных любовников, избегая беременности, поскольку она прекрасно знала, что король отречется и от нее, и от ребенка.
В последнюю их совместную ночь она бросила королю угрозу:
– Думаешь, если я останусь бездетной, ты помешаешь Годвинсонам захватить трон? Ошибаешься: наследника определяет Витан, а Витан – в руках Годвинсонов.
Всю жизнь Эдуард положил на то, чтобы помешать сбыться ее предсказанию.
Глава восемнадцатая
Эдуард был соткан из противоречий. Этот суховатый, начитанный, трезво мыслящий человек не мог удержаться от слез потрясения и восторга, слушая музыку, рассматривая внутреннее убранство и архитектуру соборов. Однако ни в чем противоречивость его натуры не выступала так ярко, как в отношениях с Годвинсонами. Этой дружбой-враждой была порождена обострившаяся ныне проблема престолонаследия.
Годвина Эдуард ненавидел, Гарольда почти против собственной воли научился уважать, Тостига любил, на Эдит женился, и этот брак, когда отгремели первые бури, превратился в союз двух людей, презиравших друг друга, но умевших скрывать свои эмоции и держаться на расстоянии. Ненависть и уважение, любовь и несчастный брак – все привязывало Эдуарда к клану Годвинсонов, и как бы он ни мечтал избавиться от этой зависимости, за все время царствования Эдуарду не удалось даже ослабить ненавистные узы, ведь на самом деле ни король, ни эрлы не могли выжить поодиночке.
После первых шести лет правления Эдуарду показалось, что он может справиться сам. В 1048 году он без помощи Годвинсонов снарядил флот и прогнал викингов, тревоживших остров Уайт. Многие посты в стране заняли нормандцы, в основном из низшего духовенства. Эдуард выдал свою вдовую сестру Годгифу за графа Булонского Эсташа, приближенного герцога Вильгельма, и пригласил к себе в гости эту чету. В 1051-м король сделал нормандца Робера, епископа Лондонского, архиепископом Кентерберийским, а на лондонскую кафедру пригласил другого нормандца, Уильяма.
Власть и влияние Годвинсонов шли на убыль. Оставалось только заручиться поддержкой северных эрлов, Сиварда и Леофрика, на случай вооруженного столкновения. Эдуард, епископы Лондона и Кентербери, а также зять короля граф Эсташ Булонский тайно встретились в королевском маноре в Чилтерне и задумали подстрекнуть Годвина к явному ослушанию, граничащему с изменой. Вот что предложил Эсташ: съездить в Дувр и поручить своим людям устроить беспорядки в городе. Так и сделали, но, как обычно бывает в таких случаях, верные слуги пали жертвой неведомой им интриги – горожане расправились с ними. Эдуард приказал Годвину беспощадно покарать город, поправший все обычаи гостеприимства. По словам короля, это преступление было тем более вопиющим, что Дувр, один из важнейших портов страны, обязан гарантировать безопасность всем путешественникам.
Разобравшись в обстоятельствах дела, Годвин счел, что жители Дувра правы и не заслуживают наказания. Король вызвал эрла в Глостер, обвинив в ослушании. Тем временем Годвинсоны собрали войско, и самыми младшими участниками этого похода оказались Уолт Эдвинсон из Иверна и Ательстан из Чеддера по прозвищу Тимор. Разбирательство в Глостере отложили на сентябрь, а к тому времени ополчение Годвинсонов поредело – начался сбор урожая – и всей семейке пришлось на год отправиться в изгнание. Даже королеву Эдит отлучили от двора и сослали в монастырь. Однако в следующем году Эдуард допустил несколько грубых просчетов – должно быть, успех вскружил ему голову.
Во-первых, он пригласил в Англию незаконнорожденного герцога Нормандии Вильгельма, придав этому визиту государственную важность.
К двадцати трем годам Вильгельм наконец утвердился на престоле, который у него оспаривали, пока герцог был несовершеннолетним. В Англии Вильгельм пробыл недолго, но достаточно, чтобы Эдуард предложил ему стать своим преемником и даже высказал намерение завещать ему трон. Что касается Вильгельма, то он обещал до последнего отстаивать свои права на английский престол.
Во-вторых, лучшие земли из числа отобранных у Годвинсонов достались не северным эрлам, а нормандским приятелям Эдуарда, так что когда Годвинсоны возвратились, северяне отказались во второй раз помогать королю.
Для Эдуарда наступил самый горький момент в его долгой борьбе с Годвинсонами: он вынужден был капитулировать. Роберу и многим другим нормандцам пришлось отправиться восвояси. Витан принял клятву Годвинсонов и снял с них все обвинения, включая обвинение в убийстве Альфреда, старшего брата Эдуарда. Услышав об оправдании Годвина, королева Эмма в приступе ярости рухнула на пол, переломила бедро и вскоре скончалась. Королева Эдит вернулась ко двору и не только закрепила за собой отдельные апартаменты в основных резиденциях короля, но распорядилась существенно расширить отведенные ей покои, чтобы они могли вместить развлекавших королеву поэтов, музыкантов, танцоров и, несомненно, множество ее любовников.
Стиганд, к тому времени ставший епископом Винчестера, постоянно шпионил в пользу Годвинсонов и давал королю советы, которые были им на руку. За это они вознаградили своего союзника саном епископа Кентерберийского. Лишь один Папа из числа часто сменявшихся в ту пору наместников святого Петра согласился с этим назначением. И предшественники, и преемники этого понтифика не только не признавали Стиганда епископом, но даже отлучали его от Церкви, однако это никого не беспокоило. Проведение важнейших обрядов, например освящение новых церквей, Стиганд препоручал архиепископу Йорка. Самого Стиганда подобные церемонии только утомляли – истинным призванием этого клирика была политика. Сан епископа Кентерберийского наделял его определенным могуществом: оба епископата владели землями, приносили высокий доход. Оба епископата, ибо Стиганд, захватив Кентер бери, вовсе не собирался отказаться от Винчестера, хотя каноническими правилами запрещалось совмещать две должности.
Одно лишь событие отчасти утешило короля. Годвин решил остаться при дворе, конечно же затем, чтобы заранее узнавать о любой затевавшейся против него интриге, и Эдуарду пришлось смириться с его присутствием. Более того, на пиру он отводил эрлу почетное место рядом с собой – собственно, только ради пира Годвин выбирался из постели, которую делили с ним одна пышнотелая наложница за другой, – и с подозрительной щедростью потчевал его и угощал вином.
В пасхальный понедельник, через полгода после своего возвращения, Годвин вскочил из-за стола, одной рукой схватился за голову, другой за грудь, черная кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул на стол, опрокинув все блюда и чаши. Через два дня его не стало.
Говорили, будто эрл, клянясь, что неповинен в смерти Альфреда, обратился к Господу, прося покарать его удушьем, если он солгал, – вот и захлебнулся черной кровью. В действительности причиной его смерти стала разбухшая печень и расширение вен пищевода – сосуды лопнули, и Годвин истек кровью.
С того момента и началось продлившееся двенадцать лет мирное и благополучное царствование. Страна процветала, даже климат улучшился.
Эдуард учился понимать и уважать обычаи своих подданных, а потому все лучше правил ими, стараясь вмешиваться в их жизнь пореже, только в тех случаях, когда система самоуправления давала сбой. Главным его советником стал Тостиг. Пока Годвинсоны были в изгнании, Тостиг женился на Юдит, родственнице графа Фландрского, у которого они гостили. Тостигу уже минуло тридцать лет; как и все Годвинсоны, он ел и пил не в меру, лицо его огрубело, да и подставлять свой зад ему больше не хотелось. Эдуард тоже утратил вкус к подобного рода забавам. Но они остались близкими друзьями, и Тостиг умело руководил королем, знакомя его с хитросплетениями английских законов и обычаев.
Тем временем в 1054 году старый Сивард, эрл Нортумбрии, и его сын помогли Малькольму, сыну Дункана, свергнуть с престола Шотландии Макбета. В сражении был убит молодой Сивард, а в 1055-м умер старый эрл, оставив единственного отпрыска, Вальтеофа[205], неполных десяти лет от роду. У эрла хватало датско-английских родичей, мечтавших наследовать ему, однако Эдуард поступил по-своему, то ли в память былой любви, то ли в благодарность за множество оказанных услуг, а может быть, попросту уступая нажиму Годвинсонов, отдал Нортумбрию Тостигу.
Смуты еще продолжались в Мерсии, где правил Эльфгар, сын Леофрика, один из самых беспокойных властителей в королевстве. Он уже дважды восставал против короля или, вернее, против Годвинсонов, дважды подвергался изгнанию. В первый раз Эльфгар отправился в Ирландию, собрал войско, вступил в союз с Гриффитом, именовавшим себя королем Уэльса, и выдал за него замуж свою старшую дочь. Вместе они разоряли пограничные земли между Уэльсом и Англией, плели заговоры с норвежцами, пытавшимися высадиться на севере страны. В первой же кампании Гарольд разгромил уэльсцев, однако Гриффит уцелел. Тостиг прогнал норвежцев, и Эльфгар остался в одиночестве. Только верность дружинников и танов, принесших вместе со своим эрлом общую присягу, спасла Эльфгара, тем более что Эдуард и Гарольд желали мира. В 1062 году беспокойный правитель умер, кажется, своей смертью. Ему наследовал двадцатилетний сын Эдвин, который, по молодости лет, не представлял угрозы для былых врагов своего отца.
В 1057 году по совету Тостига Эдуард предложил Этелингу, сыну Эдмунда Железнобокого, возвратиться домой из Венгрии и привезти с собой малютку-сына. Король поклялся, что жизнь его кузена будет в безопасности и Этелинг получит все подобающие его происхождению почести (за исключением короны). Подобное приглашение таило в себе угрозу: отказ был бы воспринят как проявление враждебности, как доказательство того, что Этелинг помышляет о престоле. В таком случае Этелингу, согласно обычаям той эпохи, следовало опасаться подосланных убийц. Потомок английских королей предпочел принять приглашение и выехал в Англию. К несчастью, он умер на пути из Дувра в Лондон. На этот раз нет оснований подозревать чей-то злой умысел, хотя это и было бы в полном соответствии с духом времени. Четырехлетний сын Этелинга, Эдгар, тоже именовавшийся Этелингом, остался жить при дворе Эдуарда. Там он и вырос, странный, одинокий мальчик, прятавшийся в темных углах и сосавший палец.
Целомудрие Эдуарда и привычка к воздержанию (только забродивший мед он пил вволю) снискали королю репутацию аскета, признаться, не слишком заслуженную: в религии его больше привлекала эстетическая сторона. Со страстью дилетанта он любил религиозное искусство, разыскивал и приобретал богато иллюстрированные Евангелия, молитвенники и даже полные своды Библии – с золотым обрезом, с обилием лазури, с рисунками винчестерской школы. Король пускался в дальние путешествия, чтобы послушать пение монахов, если ему хвалили тот или иной хор. По воле Исповедника епископы и священники надевали все более пышные облачения; пользуясь его покровительством, золотых и серебряных дел мастера изготавливали кадильницы, дароносицы, потиры, ковчежцы для мощей, наперсные кресты, и слава их гремела по всей Европе. Эти драгоценные изделия не стоили подданным ни гроша, за них Эдуард расплачивался богатствами, накопленными королевой Эммой. Государственная казна была полна, благодаря всеобщему процветанию и росту доходов, а также хорошему управлению.
Эдуард отказался от хергельда, обременительной для народа подати на содержание войска. В результате возросло благосостояние англичан, равно как и слава самого короля, но число обученных дружинников сократилось, и боевые корабли вытащили на берег.
Поступил ли так Эдуард исключительно из соображений экономии или тут крылось нечто большее? Ведь если бы в сражении при Сенлак-Хилле Гарольд располагал вдвое большим числом воинов, нормандское завоевание просто не состоялось бы. Однако на тот момент Гарольд и Тостиг командовали достаточно сильным флотом, чтобы в двух сражениях разбить Гриффита, этого неугомонного уэльского королька, постоянно совершавшего налеты на приграничные земли. С тех пор как сорока годами ранее Эдмунд Железнобокий заключил союз с Канутом, Англии пришлось вести только эти две кампании, причем обе за пределами страны, в Уэльсе. Запад еще не знал столь продолжительного мира, да и в последующие века подобное затишье наступало нечасто.
Глава девятнадцатая
В марте 1065 года, узнав, что он умирает от болезни под названием «диабетес меллитус», что значит «медовая моча», король послал за Уильямом, епископом Лондонским, которому удалось сохранить свою кафедру, когда большинство нормандцев были изгнаны. К этому епископу Годвинсоны относились терпимо, поскольку не придавали особого значения Лондону: хоть он и стал крупнейшим городом страны, но, с их точки зрения, оставался провинцией, гаванью на окраине Англии, где по большей части селились иностранцы. Лондон жил своей собственной жизнью, по своим законам и обычаям. Товары прибывали и отправлялись дальше, купцы платили налоги, на судьбы страны все это никак не влияло.
Епископ Уильям был высок и тощ, суровое, словно высеченное из камня лицо носило следы аскетической жизни, череп был почти лысым за исключением узкого кольца черных волос вокруг тонзуры. Поднявшись наверх, в спальню короля, Уильям невольно поморщился, почуяв застоявшийся в комнате сладковатый неприятный запах, но отважно придвинул стул поближе к ложу больного. Он начал читать вечерню, сам отвечая на свои возгласы, если король запинался или мямлил. Завершив службу, он откинулся на стуле и поглядел на короля в упор. Взгляд короля казался рассеянным, седые волосы стояли дыбом над истощенным бледным лицом; темные глаза епископа смотрели умно и пристально.
– Я умираю, Уильям, – пробормотал король.
– Знаю, – отвечал епископ. – Но у тебя еще достаточно времени, чтобы снискать себе радушный прием у врат святого Петра.
– Только святые легко проходят во врата небес.
Уильям промолчал – эта пауза в разговоре давала королю понять, что все можно уладить.
– В юности я часто предавался мерзкому греху, – сказал Эдуард.
– Можешь забыть о содомии, если ты это имеешь в виду. На твоей совести гораздо более серьезные провинности: ты не способствовал церковной реформе в Англии, ты позволял священникам жениться и брать себе сожительниц, ты закрывал глаза не только на их блуд, но и на их обжорство и пьянство. Здешние клирики едва ли знают о существовании Папы, не говоря уж о том, кто он такой! – Епископ сердито откашлялся, двинул стулом так, что ножки заскрипели, и продолжил обличительный монолог: – Разумеется, это не могло не сказаться на благочестии простого народа. Ты ничего не сделал, почти ничего, во всяком случае, чтобы положить конец языческим радениям, ты разрешил народу жить в благополучии, расточать плоды своих трудов в праздности и роскоши, ты не настаивал, чтобы крестьяне отдавали излишки Богу, Церкви... – Епископ наливался гневом. – Все люди должны возвращать Создателю то, что остается после удовлетворения насущных потребностей. Церковь и лорды, которые являются естественными защитниками и покровителями Церкви, обязаны требовать от каждого мужика, работающего в поле, все, что он может дать. Только в таком случае души простых людей не подвергнутся соблазну легкомысленно расточать плоды своего труда и получат надежду на спасение и искупление при гласе последней трубы.
Епископ принялся расхаживать по комнате, грозя обличительным перстом распростертому на одре болезни монарху, чуть заикаясь и брызжа слюной на взрывных согласных.
– Это еще не все...
– Мне нужно пописать.
– Я имею в виду эту гниющую рану на лице нашей страны, это безбожное семейство...
– МНЕ НУЖНО ПОПИСАТЬ!
– А, ладно. Позвать слугу?
– Нет. Скорей! Под кроватью. Прошу тебя.
Под кроватью? Монарх ожидает, что епископ полезет под кровать? Что ж, епископ наклонился, приподнял свисавшую до полу простыню, сунул вниз голову и плечи.
– Силы небесные, – сказал он. И вытащил из-под кровати плоский горшок в форме корзины для бутылок с оттопыренной ручкой. – Ты об этом просил?
Но король уже откинулся на подушку, прикрыв глаза и слегка улыбаясь.
– Слишком поздно, – пробормотал он, извиваясь под покрывалом. – Так что ты говорил насчет гниющей раны?
Епископ с откровенным презрением поглядел на короля и встряхнул головой, словно отгоняя от себя этот вздор.
– Да, гниющая рана. Эти безбожные Годвинсоны. А Стиганд! Он отлучен от Церкви, но все еще таскает свою... тушу не только из Кентербери в Винчестер, но и по всей стране, словно князь Церкви – он, а не великий понтифик...
– Напомни мне, пожалуйста, – Эдуард с трудом открыл глаза, – кто у нас сейчас Папа? Они так часто менялись в последние десять лет...
– Не помню. Не имя существенно, а сан наместника Бога на земле. Ты грешил неисполнением долга, и эти грехи ввергнут тебя на многие века в Чистилище, а то и куда похуже, если ты заранее их не искупишь. Нужно привести в порядок свой дом. Возблагодарим Господа за то, что Он дал тебе время на это.
– Аминь. Именно поэтому я послал за тобой. Я знаю, что мне следует сделать. Нужно передать трон герцогу Вильгельму, иначе Годвинсоны возведут на престол Этелинга и будут править от его имени, а то выберут королем самого Гарольда.
– Верно! Абсолютно верно!
– Вильгельм изгонит Стиганда, и его, то есть ваши, клирики проведут реформу Церкви. Он сокрушит Годвинсонов... Только мне не хотелось бы, чтобы Гарольда убили. Он хороший человек, я давно убедился в этом, к тому же святой Петр может заметить на моих руках кровавое пятно...
– Тьфу!
– И у него так много братьев... Нет, нужно придумать что-нибудь похитрее убийства.
Епископ снова прошелся по комнате, склонив голову и сложив руки за спиной. Он, как и Эдуард, имел привычку в задумчивости перебирать бусины своих новомодных четок, которые так и щелкали в его пальцах. Уильям был удивлен тем, как четко Эдуард сформулировал стоявшую перед ними задачу. Да, тело короля разъедает болезнь, но разум все еще ясен, проницателен и остер.
– Кажется, придумал!
– Что, если мы...
Король и епископ заговорили одновременно, но священнослужитель, никогда не забывавший об иерархии, тут же уступил:
– Говори первым!
– Надо сделать так, чтобы Гарольд вынужден был присягнуть Вильгельму, поклясться, что примет его сторону. Но как этого добиться?
– Если отправить его в Нормандию...
– Если б удалось заманить его в Нормандию...
– Знаю! – Король приподнялся на подушках, лицо его сияло. – Герцог Вильгельм удерживает при своем дворе в качестве заложников двух близких родичей Гарольда: его племянника Вульфнота и кузена Хакона. Гарольд много раз просил меня выменять его родичей на каких-нибудь других заложников. Я предложу ему отправиться в Нормандию и лично ходатайствовать перед герцогом об их освобождении... Но как заставить его присягнуть Вильгельму?
– Это уж герцогу решать. Нужно поставить Гарольда в такое положение, чтобы он оказался в долгу у герцога. Вот если б Вильгельм спас ему жизнь или что-то в этом роде... – Епископ засунул четки за широкий и тяжелый пояс, удерживавший его ризу, и принялся грызть ногти. – Придумал, кажется, придумал. Нужно написать письма... моему брату во Христе, епископу Руанскому...
– Зашифруйте их, – тревожно попросил Эдуард.
– Зашифрую, зашифрую, – подхватил епископ, сердясь на ненужное указание. – Он передаст их герцогу Вильгельму... да-да, все устроится. В чем дело?
Эдуард закашлялся, опустил голову, ему, видимо, было не по себе.
– Дело в том, – забормотал он, – что я слишком доволен, слишком удовлетворен этой нашей – как это называют англичане? – в общем, нашим тайным планом.
– Почему бы и нет? Так и должно быть, так и должно быть. Мы делаем богоугодное дело.
– Но не грех ли это, что я так радуюсь, оставив напоследок Годвинсонов с носом?
– Господи, какой же тут грех?
Епископ уставился на короля, являвшего собой самый искренний образ раскаяния. Разумеется, человеку, стоящему одной ногой в могиле, следует избегать даже тени греха, но Исповедник чересчур далеко заходит в своей святости.
– Да нет же, господи, – повторил епископ. – Привести свой дом в порядок – наша обязанность.
Он благословил короля, подставил свой пастырский перстень для поцелуя и пообещал через денек вернуться, чтобы вместе с ним отслужить мессу.
Спустившись по лестнице, Уильям подозвал к себе какого-то юношу, который праздно подпирал стену. Парню явно нечем было заняться.
– Твоему господину нужно сменить постель, – сказал епископ.
Эдгар Этелинг, имевший от рождения больше прав на английский престол, чем Гарольд, герцог Вильгельм и даже сам Эдуард, сделал непристойный жест за спиной у поспешившего прочь из дворца епископа и, подозвав человека менее знатного, чем он сам, велел ему выполнить это поручение.
Часть III Клятва
Глава двадцатая
Вот каким образом – хотя Уолт, лежавший в полузабытьи в гостинице у стен Никеи, разумеется, не мог знать всех этих обстоятельств – Гарольд и его ближние дружинники оказались при дворе герцога Вильгельма и внимали «Песни о Роланде» в исполнении Тайлефера. Поездка эта привела к катастрофе, а подстроил западню как раз Тайлефер. Тайлефер? Тот самый, что теперь превратился в фокусника и за свои кощунственные проделки угодил в тюрьму, да еще и Квинта за собой потянул? И дети этого Тайлефера теперь ухаживают за ним? Я схожу с ума, со стоном сказал себе Уолт. Но арфа – вот она лежит, никуда не делась.
Путешествие в Нормандию началось из гавани Чичестера, где сливается множество течений, пролагающих себе путь между большими и малыми островами. Конец лета, легкий, но упорный западный ветер гонит по небу белые облачка, мохнатые, спутанные, точно клубки шерсти. За спиной Уолта – церковь, в крипте которой похоронена дочь Канута, перед глазами – скала с выступом, похожим на высокое кресло. Предание называет эту скалу «троном Канута» – здесь король, восседая на престоле, приказал приливу остановиться, но тем не менее весенняя вода поднялась и размыла стену, так что Кануту пришлось, отступив на несколько ярдов, окружить гавань новой, более широкой и крепкой оградой.
Перспектива морского перехода тревожила Уолта, и даже теперь, вспоминая о нем, он не мог отделаться от ужаса, который внушало ему море, тем более что ветер разгулялся вовсю, раскачивал вязы у главного дома и примыкавших к нему флигелей. Хорошо хоть их судно, стоявшее у самого берега, было настоящим кораблем, шириной в десять футов и не менее сорока футов от носа до кормы, с высокими укрепленными бортами. Команда опытных моряков возилась на палубе, проверяя такелаж и заливая щели горячей каменноугольной смолой.
Рядом с Уолтом семь неизменных товарищей: телохранители, comitati Гарольда. Они почти никогда не выпускают из виду друг друга и своего лорда. Тощие, жилистые, покрытые татуировкой, они стояли и сидели тесной группкой, каждый бросил у своих ног пару больших и тяжелых мешков или сумок из прочной кожи, в которых лежали доспехи – кольчуги, шлемы, топоры и мечи. Уже не мальчики – всем давно перевалило за двадцать, всех, за исключением одного, Уолт знал с детства. Новичком среди них был Даффид, уэльский принц, племянник Гриффита, претендовавшего на власть не только над Уэльсом, но и над плодородными равнинами Уая, Лугга и Ди.
Верховодил по-прежнему Ульфрик. Он так и остался самым крупным и злобным среди своих сверстников, хотя теперь на него можно было полностью положиться, что в воинском строю, что в разведке на границе Уэльса. Ательстан, прозванный Тимором, ростом не вышел, но научился хитрости, единственному оружию слабых и затравленных. Он стал ближайшим другом Уолта.
Они осваивали воинское ремесло не только под руководством Эрика, но и в уэльскую кампанию. Гарольд и Тостиг с небольшой армией, ядро которой составляли эти самые юноши, раскололи войско Гриффита как орех, зажав его в тисках – Гарольд надвигался с моря и реки, а Тостиг – со стороны Брекон-Биконз. Гриффиту удалось добраться только до крепости, укрытой в Кембрийских горах. В этом уэльском селении родные братья, уставшие от неприятностей, которые навлек на них король Уэльса, отрубили ему голову и послали ее Гарольду. Гарольд, не удовлетворившись таким трофеем, потребовал в придачу заложников. Одним из заложников как раз и оказался Даффид, смуглый поджарый юнец, скорый на всякие проделки.
Вот он подходит к Уолту, пряча за спиной потертый кожаный кошель.
– Уолти, – мелодично протянул он, – у меня есть самое сильное средство против смерти на море. Я бы с радостью отдал его тебе, но не могу этого сделать – оберег достался мне от тетки.
– Разве ты не можешь распорядиться своей вещью, как пожелаешь?
– Все не так просто, понимаешь. Тетушка Блодуэдд потребовала с меня за талисман золотую монету. В этом его секрет – если отдать талисман задаром, а не в обмен на золото, он утратит свою силу. Мне очень жаль, я же знаю, ты боишься утонуть.
– А что это такое?
Даффид вытащил из кошеля сморщенный коричневый мешочек, не более шести дюймов в длину и трех в ширину. Похоже на какой-то орган давно умершего животного.
– Это сычуг, – пояснил он, – желудок пожранной акулы.
– Как это – «пожранной»?
– Ну, что тут непонятного? Взяли акулу и съели.
– Если ее съели, как мог желудок уцелеть?
– Сычуг, то есть желудок морской акулы, не съедобен, потому что в нем содержится желчь. Это всем известно.
– Мелкая, должно быть, была акула.
– Это же очень старинная реликвия. Сычуг просто съежился. Если у тебя нет золотой монеты, дай серебряный шиллинг. Авось сойдет – серебро тоже благородный металл.
Уолт выудил из кошелька шиллинг, но, когда он вложил монету в руку уэльского юнца, получив взамен подозрительный темный пузырь, вся компания во главе с Ульфриком разразилась гомерическим хохотом.
Уолт швырнул свою покупку за борт, и тут же ее подхватила прожорливая чайка. Дикий страх охватил Уолта. Он понимал, что Даффид попросту обманул его, и все же не мог отделаться от ужасного чувства: теперь-то ему уж точно не избегнуть смерти в волнах.
– Где наш предводитель? – спросил Уолт, скрывая растерянность. Повернувшись, он краешком глаза заметил, как капитан корабля, толстяк в одежде, перемазанной засохшим свиным жиром, принял из рук какого-то монаха туго набитый кошелек. В тот момент Уолт не придал никакого значения увиденному: наверно, капитану заплатили, чтобы он перевез их через Ла-Манш.
– Мы упустим отлив, если он не поторопится, – продолжал Уолт, имея в виду задержавшегося где-то Гарольда.
– Не знаешь, где предводитель? – расхохотался Ульфрик. – А где сейчас его клинок, догадываешься?
Длинные руки, словно тонкие ветви тополя, обвились вокруг шеи Гарольда, длинные бедра раздвинулись, обхватили с обеих сторон его талию, круглые колени согнулись и длинные стопы сплелись между ягодицами эрла, надавливая, подталкивая его глубже внутрь возлюбленной. Эдит стиснула бедра, сжала глубоко внутри мышцы, удерживая в себе его пульсирующий член так долго, как только могла.
– Да, да! Господи, да!
Гарольд расплылся в улыбке. Вот и все. Эдит вытянула ноги, Гарольд скатился на постель, повернулся на спину и просунул руку ей под плечо. Эдит приникла головой к его груди. Они лежали, тихо лаская друг друга, потом ненадолго задремали, пока лучи солнца не проникли в щели между ставнями и комната не наполнилась утренним светом.
– Не уходи, – пробормотала она. – Все, что тебе нужно, есть здесь, в этих стенах.
– Король велит мне. Я вассал короля.
– Король твой враг. Только глупец пойдет туда, куда его посылают враги.
– Это ненадолго, самое большее на месяц. – Гарольд старался говорить беззаботно. – Вульфнот и Хакон слишком задержались в Нормандии. Пора им вернуться домой и научиться быть англичанами, а то вырастут из них еще два Эдуарда.
– Но зачем тебе самому ехать за ними? Зачем? Ты едешь по приказу одного врага к другому врагу.
– Герцог Вильгельм не враг мне.
– Он хочет стать королем.
– Ну и что? Если Витан после смерти Эдуарда выберет его королем, я поддержу его. Если выберут меня, я буду рассчитывать на его поддержку.
Эдит Лебединая Шея тяжко вздохнула. Он знала: Гарольд не уступит, не изменит решения, не прислушается ни к ее доводам, ни к интуиции. Он будет до хрипоты называть черное белым, лишь бы не признать ее правоту. Он проделает это спокойно и ласково, нипочем не выйдет из себя и все равно настоит на своем.
Эдит села и повернулась так, чтобы устроиться между бедрами Гарольда и видеть его лицо. Она любовалась его длинными вьющимися волосами, темными, с проблесками рыжины, с проседью на висках, пушистыми усами, твердостью чисто выбритого подбородка, хорошо очерченным ртом с приподнятыми уголками губ; в улыбке приоткрывались слева два сломанных зуба и шрам, почти полностью скрытый усами. Широкая грудь, густо покрытая рыжеватыми волосами, плоский крепкий живот – когда Гарольд напрягал его, отчетливо обрисовывались мышцы пресса. Ничего не изменилось в нем за эти годы, кроме выражения глаз. Эдит по-прежнему могла пробудить в них улыбку, но все чаще глаза Гарольда, окруженные мелкими морщинками, оставались печально-усталыми, и вокруг них сгущались темные, похожие на синяки, тени.
Гарольд тоже вглядывался в женщину, сидевшую перед ним – худощавая, но сильная, кожа больше не светится, как светилась в пятнадцать лет, она приобрела оттенок густых сливок и кое-где проступили родинки. Девчачий жирок сошел, под кожей играют хорошо тренированные мускулы. Груди сохранили свою полноту, Гарольду нравилась грудь женщины, кормившей детей, соски увеличились и потемнели, кожа вокруг них слегка потрескалась. Она родила ему троих детей, но сохранила высокую талию, плоский живот. Ему нравились даже растяжки внизу живота, хотя Эдит считала их уродливыми и ругала Гарольда за то, что он наградил ее ими. И шея все та же, давшая ей имя, с которым она войдет в легенду – Эдит Лебединая Шея.
Эдит, датскую принцессу, в четырнадцать лет выдали замуж за ирландского тана Катберта. Маленькое королевство, скорее островок датчан в Ирландии, пыталось заключить союз с местными вождями. Катберт был к тому времени стариком, не способным к супружеской жизни. В 1047 году в эти места приехал Гарольд, и они полюбили друг друга, Эдит родила ему подряд двух сыновей, а несколько лет спустя – дочь. Когда Катберт умер, Гарольд хотел жениться на Эдит, но прочие Годвинсоны воспротивились: рано или поздно он должен будет вступить в такой брак, который принесет семье выгодные связи, обратит опасного врага в друга. До сих пор ему удавалось избежать брачных уз, и все свободное время он проводил с Эдит.
Она наклонилась над возлюбленным, так что ее груди почти касались его тела, и ее палец пустился в путь, начав со лба, продвинулся к губам, к поврежденному зубу, вниз по правой руке до самого глубокого шрама длиной в шесть дюймов, – грубо зашитого разреза, который порой воспалялся, когда начинал выходить очередной осколок кости. Уэльский топор, нанесший эту рану, наделал бы большую беду, если б Уолт не отразил удар.
Эдит поднесла его руку к губам, провела языком по рубцу, потом уронила голову ему на грудь и отыскала самую маленькую отметину, внизу под ребрами, где уэльская стрела, пробив кольчугу, оцарапала кожу, но глубоко проникнуть не смогла. Она поцеловала и этот след тоже, потом подняла голову и, почти касаясь лицом его лица, прошептала:
– Возвращайся целым, прошу тебя. Не хочу больше шрамов. Разлюблю тебя, если появятся новые.
Ни смех мужей, ни сладость меда
не радуют скитальца морского,
лишь чаек крик, лишь зов баклана...
Нет на земле человека,
пусть он щедр и отважен, пусть дерзок в деяньях,
пусть Богом благодатно одарен, –
кто пучины морской не страшится.
И все ж ни арфы песнь, ни кольца, ни любовь
не утолят тоску по ветру и волне.
Корабль плыл мимо отмелей Уэст-Витгеринга, где грелись на солнце большие серые тюлени и крачки, точно молнии, ударяли в море. Западный ветер наполнил паруса, высокие, черно-синие, покрытые снежной пеной волны подхватили, подняли, понесли корабль вперед. Сидя у мачты, Хельмрик, прозванный Золотым, единственный норвежец среди телохранителей Гарольда и единственный его музыкант, напевал протяжные заунывные песни – на слух Гарольда, мелодия не менялась, о чем бы он ни пел.
Черные дельфины неслись рядом с ними, выгибая спины, почти выскакивая из воды или мелькая тенью у самой поверхности. Ульфрик попытался загарпунить дельфина, но оказался чересчур неуклюж и медлителен. Стайка макрели сверкнула, появившись на гребне волны, и дельфины устремились вслед за ней, ускользнув от Ульфрика. За кормой парили, раскинув крылья и полностью доверившись ветру, чайки, дозорный на носу то и дело восклицал: «Вон они, вон они!», завидев впереди стаю горбатых китов. Спины и черные плавники горбачей отчетливо выделялись на фоне сверкавшего и переливавшегося всеми красками моря. Бездонное море, полное сокровищ, полное жизни!
Гарольд оглядел восемь ближних дружинников, переводя взгляд с одного лица на другое: Даффид и Тимор играли в кости, изощряясь в пустой забаве, где все зависело от удачи и нахальства; два брата из Гемпшира, Рип и Шир, краснощекие, темноволосые, без проблеска датской рыжины или золота викингов – древняя германская кровь текла в их жилах, они были родом из ютской деревушки Торниг-Хилл, «Гора Тора»; Ульфрик – беспощадный убийца, ни жалость, ни ложно понятое великодушие не помешают ему добить умирающего, который, глядишь, мог бы напоследок нанести удар победителю; Альберт из Кента, невысокий, с морщинистым, вопреки юному возрасту, лицом, но крепкий, как старая яблоня, самый выносливый, когда иней примерзает к бороде и неделю приходится голодать; и Уолт – бедняга Уолт, едва корабль вышел из гавани, как он перевесился через борт и изверг в воду все содержимое своего желудка. Честный Уолт, надежнейший из всех. В пятьдесят шестом году, во время второго похода против Гриффита, он отчасти расплатился сГарольдом, вернув ему одну из двух жизней, которые был ему должен: если бы не он, эрл не отделался бы шрамом на руке, боевой топор пронзил бы легкое или сердце.
Славные парни, все как на подбор, необузданные, отчаянные, готовые к любому проявлению ненужной и глупой отваги, к нелепым пари, гуляки и моты, напивающиеся до бесчувствия, лишь бы не сдаться раньше других, но каждый из них неколебим как скала, каждый ответит противнику ударом на удар и будет биться до тех пор, пока не хлынет горячая кровь и обломки кости не прорвут побледневшую кожу.
Из оков груди рвется сердце,
Вместе с пеной морской душа умчалась,
Погналась за китом, уплыла далеко.
Мало странствий земных, снова чайка кличет –
Хриплым голосом поет о путях морских, о дороге китовой
[206].
И Хельмрик Норвежец с ними, и его арфа.
Глава двадцать первая
На рассвете поднялся легкий западный ветер, экипаж принялся за работу. Ульфрик опустил за борт парусиновую бадью и хорошенько облил своих спутников. Матросы развернули парус, и вскоре корабль двинулся в путь, прямо на красный глаз восходящего солнца. Гарольд спустился на главную палубу и постучал в дверь капитанской каюты. Дверь была заперта изнутри. Призвав на помощь Ульфрика, Гарольд взломал дверь. Капитан храпел в подвесной койке, крошечная каюта провоняла мочой и дешевым спиртным. Ульфрик сбросил шкипера на пол, и вдвоем они отволокли его наверх, на корму.
– Почему мы плывем на восток, а не на юг? – спросил Гарольд.
– Ветер дует с запада.
– Но не с юго-запада, верно? Подтяни парус, и судно повернет по крайней мере на треть круга к югу.
Вместо того чтобы изменить курс корабля, капитан попытался изменить курс беседы.
– Клянусь, лорд Гарольд, вчера мы шли хорошо! – воскликнул он. – Весь день прямиком на юг.
Мы уже у берегов Нормандии, в пяти милях к югу будет Арроманш, а за ним – Байё. Если ветер продержится, к полудню мы будем в Гавре.
– Ты лжешь. От Селси мы плыли на восток...
– Ветер переменился, милорд, клянусь, он переменился, как только мы отплыли от земли.
– Если подведешь нас, я тебя на куски разрублю и за борт выброшу. Хуже того, мы тебе не заплатим.
Уолт стоял под ними на палубе, вытирая мокрые от соленой воды волосы. Услышав эти слова, он опустил полотенце и посмотрел вверх – голова его находилась примерно на уровне их колен.
– Ему уже заплатили.
Гарольд глянул вниз.
– Я не платил.
– Какой-то монах передал ему кошелек. Вчера. Там было много денег.
– Когда именно?
– Вчера, ближе к полудню. Когда мы ждали тебя.
Гарольд обернулся к Ульфрику:
– Отведи его в каюту и разберись.
Ульфрик Жестокий повел капитана прочь.
Корабль продолжал путь. Кормчий с непроницаемым выражением лица понемногу поворачивал руль так, чтобы солнце отошло влево – судно брало курс к северо-востоку.
На горизонте по правому борту появилось темное пятно. Снова закричали чайки, приближавшаяся земля расступалась, образуя широкую бухту, уже видны были черные точки – рыбацкие лодки, маленькие, но больше плетеных ирландских челноков. Моряки подтянули парус, кормчий еще немного повернул руль, так что теперь нос корабля смотрел почти прямо на восток, и направил судно в гавань. На северном берегу стоял маленький порт или рыбацкая деревушка, а немного дальше на другой стороне виднелся большой город.
Из каюты капитана доносились звуки ударов, тяжелое дыхание, короткие пронзительные вскрики.
– Гавр, – предположил Уолт.
Тимор нахмурился.
– Гавр намного больше, – возразил он. Тимор умел читать, любил поговорить с людьми и ухитрялся выяснить много интересного о тех местах, куда они отправлялись.
Раздался чудовищный вопль, перешедший в хрип. Ульфрик вынырнул из каюты, наклонив голову, чтобы не удариться о притолоку. В одной руке он держал кошелек.
– Пятнадцать золотых, – сообщил он, кинув кошелек Гарольду.
В другой руке Ульфрик Жестокий нес голову капитана – ее он бросил за борт и обтер свои лапищи об окровавленную куртку.
– Это не Сена, – продолжал он, – и не Гавр. Это Сомма, сказал капитан. Впереди, на южном берегу – Сен-Валери. Подонку заплатили, чтобы он доставил нас сюда. Мне нужно умыться.
Он снова опустил бадью за борт и зачерпнул воды.
Побледнев от гнева, Гарольд ринулся на бак. Уолт и Даффид метнулись за ним.
– Понтье! – выкрикнул эрл. – Это вовсе не Нормандия, это владения графа Гюи де Понтье. Мы явились на его земли незваными, нежданными и вооруженными в придачу!
– А если повернуть? – предложил Уолт. – Поплывем обратно...
– Не получится. Ветер встречный. Да и – видишь?
Позади, всего в полумиле, два длинных, быстрых, черных корабля гнались за ними, гребцы слаженно работали веслами – то ли хотели перехватить чужаков, то ли загоняли их в глубь залива, к берегу, как овчарки отбившуюся от стада овцу.
– Вооруженные и незваные, но вряд ли нежданные, – пробормотал Даффид.
Три недели спустя герцог Вильгельм принимал англичан в пиршественном зале своего замка в Руане. Они прошли по длинному залу к возвышению, где герцог восседал на троне, окруженный своими советниками, баронами и священнослужителями. Волосы Бастарда были подстрижены коротко, не по английской моде, на голове красовалась корона, кольчугу прикрывала накидка с гербом Нормандии: лев passant regardant, идущий вполоборота к зрителю. Хозяин вышел к ужину в сапогах, в рукавицах с раструбами, не сняв с пояса длинный меч. Острие меча упиралось в пол, левая рука герцога покоилась на рукояти. Гарольд подумал, что обычаи в Нормандии вряд ли отличаются от принятых во всем христианском мире, а значит, усевшись за стол с оружием, Ублюдок сознательно нанес гостям оскорбление.
Даже когда Вильгельм сидел, было видно, что он высок ростом, выше Гарольда, но тощ и не столь крепкого сложения. Ухоженные усы заканчивались острыми кончиками и торчали так, словно герцог смазывал их воском; как и треугольная бородка, усы были заметно темнее волос. Он был бы красив, если б не мешки под глазами и не чересчур крупный орлиный нос. На щеках Вильгельма играл здоровый румянец человека, проводящего гораздо больше времени на свежем воздухе, нежели за пиршественным столом. Ему исполнилось тридцать шесть лет, на шесть лет меньше, чем Гарольду. Когда Вильгельм спустился в зал и двинулся к Гарольду длинными скачками – не напрямик, а заходя сбоку, Уолт припомнил волка в горах Уэльса – тот так же подкрадывался по снегу к их палаткам.
– Дорогой Арольд, козен мой! – вскричал Вильгельм по-английски, однако с сильным нормандским акцентом. – Наконец-то мы встретились! – Он положил обе руки эрлу на плечи, расцеловал его в обе щеки и отступил, чтобы получше разглядеть дорогого гостя. – Столько слышал про тебя, и все только хорошее. Иди сюда, познакомься с моими советниками. Твоим людям не обязательно идти с тобой...
Но телохранители сомкнулись вокруг Гарольда, не желая ни на шаг отставать от него. Эрл махнул рукой, отстраняя их.
Вильгельм поставил ногу на первую ступеньку помоста и тут же остановился, побагровев от ярости.
– Недоумки! – заорал он на нормандском диалекте, взвизгнув на последнем слоге, словно мелом по графитовой табличке провели. – Я же сказал: убрать все со стола. – Он резко взмахнул рукой, так что чуть не огрел Гарольда по уху. Тот едва успел уклониться. – Уберите прочь пергамент, чернила, таблички, всю эту ерунду! Вы что, не видите: мы принимаем гостя, самого бессильного – тьфу ты, черт, я хотел сказать – всесильного, какой когда-либо удостаивал своим посещением наш зал?! – На последнем слове голос его вновь сорвался. – Совет окончен. Окончен, говорю вам! Вина! Вина! И воды, разумеется.
Обернувшись, он обхватил Гарольда рукой за плечи – зазвенели кольца кольчуги – и повлек его за собой к помосту, вновь пытаясь говорить по-английски.
– Видишь ли, Арольд, я терпеть не могу беспорядка. Всему свое место и свой час. Я держал с приближенными совет, совет закончен, наступило время пира: прочь пергамент, пора повеселиться. Будь так добр, скажи своим людям, чтобы перестали болтать, точно прачки у деревенского пруда. Очень тебя прошу.
Вильгельм вернулся к трону, установленному на фут выше других сидений, и жестом предложил Гарольду сесть напротив. Герцог явно исчерпал запас английских слов и перешел на нормандский вариант французского. Гарольд хорошо понимал это наречие, и не было нужды говорить чересчур медленно и громко, но люди подобного склада всегда так разговаривают с иноземцами.
– Как поживает мой царственный кузен Эдуард? Не слишком хорошо, как я понимаю.
Он чуть было не сказал: «надеюсь».
– Не слишком хорошо, но не так уж и плохо. Он отказался от меда и сладких фруктов и может прожить еще несколько лет. Он шлет тебе поклон.
– Несколько лет? С медовой болезнью? Год, самое большее. Очень хорошо, что мы с тобой смогли встретиться. Сегодня у нас с тобой состоится небольшая беседа, я уверен, таких бесед будет много и все окажутся очень полезными. Прежде всего, сожалею о столь неудачной высадке. Надеюсь, Гюи де Понтье хорошо обращался с тобой?
Гарольд пожал плечами.
– Плохо? Налить вина? А воды? Не надо? Я всегда до заката разбавляю вино водой. Помогает сохранить ясность мыслей, ты согласен? На чем мы остановились? Ах да, Гюи де Понтье. Тебе повезло, что у меня нашлись деньги, чтобы уплатить ему выкуп. Он потребовал невероятную сумму. Сколько мы заплатили, епископ?
Церковнослужитель, сидевший рядом с герцогом, слегка откашлялся.
– Королевский выкуп, мой господин.
– Нет, нет, епископ. Не королевский. Но немаленький, что и говорить. Сотню золотых?
Епископ наклонил голову, опасаясь проронить лишнее слово. Вильгельм гнул свое:
– Уверен, он бы повесил тебя, если б я не подоспел с деньгами. Конечно, Понтье мой вассал, хоть его земли лежат и за пределами Нормандии, но он был в своем праве, вполне в своем праве...
Герцог стянул с рук перчатки, вытащил нож из миски с яблоками – их принесли одновременно с вином – и занялся своими ногтями.
– Кстати говоря, – продолжал он, и на этот раз его голос и впрямь напоминал рычание волка, – фактически я купил твою жизнь. Ты мой должник, Арольд. Как мы оценим этот долг? – Голос становился все жестче, Вильгельм словно гвоздями прибивал каждое слово. – Полагаю, теперь ты мой вассал? Можем ли мы, дорогой мой Арольд, дорогой козен, с этого дня считать тебя нашим вассалом, преданным нам человеком?
Молчание. Нормандцы пристально следили за Гарольдом серо-стальными, невыразительными глазами. Эрл почувствовал, как холодок пробежал по спине. Выпрямившись на стуле, он посмотрел прямо в глаза Ублюдку.
– Здесь, в Нормандии, и повсюду, где ты правишь или будешь править по закону и с согласия народа, я буду твоим смиренным и верным слугой.
И он, не уклоняясь, встретил взгляд Ублюдка.
– Очень хорошо, очень хорошо. Отлично сказано. – Герцог поднялся на ноги. – Потом мы еще вернемся к этому вопросу, а пока дворецкий проводит тебя в твои покои.
Две недели спустя они пробирались на запад через нормандский бокаж[207] из Кана к горе Сен-Мишель. Вильгельм и Гарольд ехали рядом, каждый под своим знаменем (золотого дракона Уэссекса вез Уолт), однако Вильгельм ревниво следил за тем, чтобы его огромный черный жеребец на полголовы опережал мерина, которого он одолжил Гарольду. Позади с железным грохотом скакали шестьсот или семьсот «рыцарей» – так здесь называли тяжеловооруженных конных солдат, за ними шла пехота, около тысячи человек, и, наконец, обоз, тележки, запряженные мулами. За день они продвигались не более чем на десять или двенадцать миль, то и дело останавливаясь и поджидая отставших, пока командующие обсуждали маршрут.
Медлительное воинство было, однако, весьма дисциплинированным – этого Гарольд не мог не признать. Чуть что, извлекались карты, раздавались инструкции, назначались командиры, которые уводили часть отрядов на параллельную дорогу или в обход, если главный тракт оказывался чересчур узким для всей армии. Место дневного привала всегда определялось заранее, как правило, под защитой крепости или замка. Замков было великое множество, особенно ближе к границе с Бретанью. Сенешали – хозяева замков – принимали знатных гостей сообразно их достоинству и кормили всю армию за свой счет, вернее, за счет крепостных и рабов, обрабатывавших эти земли. Точно так же Вильгельм устраивался и на ночь.
Пейзаж напоминал юго-запад Англии, Дорсет в особенности, однако строения были совсем другие. Главное здание, обычно значительно большее, чем в английских манорах, а также хозяйственные постройки сооружали не из деревянного каркаса, обитого досками и оштукатуренного, а из камня, кирпича или скрепленного известкой кремня. Дом окружали изгородями и стенами, защищали укреплениями, так что господская усадьба выглядела не столько жилищем, сколько крепостью или маленьким замком с башенками и узкими прорезями бойниц. Даже церкви, поражавшие своими размерами и роскошью по сравнению с крытыми соломой английскими часовнями, казалось, готовились к обороне от нежеланных гостей, а не приглашали войти.
А крестьяне! Тощие, согбенные, угрюмые! В Англии в таких землянках жили разве что рабы. Они не выходили на дорогу приветствовать герцога, как сделали бы англичане, если б мимо проезжал их эрл, а тем более король. Рядом с пастухом, сторожившим коров, свиней или даже овец, непременно дежурил вооруженный воин.
Посреди каждой деревни, через которую они проезжали, они видели крест и виселицу, и почти на каждой виселице гнил тяжелый плод.
– Главное, порядок! – крикнул Вильгельм, перекрывая грохот копыт, когда они проезжали мимо очередных столбов, и Гарольд не сумел скрыть ужас и отвращение. – Порядок и дисциплина. Все на своих местах, и всему свое место.
Виселицы, колодки, тюрьмы. В Англии тюрьмы были только в больших городах. Деревня и манор сами разбирались с правонарушителями, судили их на сходе общины; за каждое преступление, от убийства до мелкой кражи, назначалась определенная пеня, и поэтому в тюрьмах не было надобности. Если преступник не мог расплатиться, его обращали в рабство до тех пор, пока он сам или родичи не скопят деньги, чтобы его выкупить, но не бросали гнить в тесной камере. В Нормандии, однако, не было смысла устанавливать пеню: уплатить ее могли бы разве что владельцы угодий, поскольку весь излишек, заработанный простонародьем, принадлежал господину.
С какой целью войско медленно, но неуклонно продвигалось вперед по этой плодородной равнине, по земле, текущей молоком, медом и нищетой? Конан, граф Динана, отказался признать Вильгельма своим сюзереном, помешав тем самым Вильгельму создать очередную буферную зону между Нормандией и ее могущественными соседями, французским королевством и герцогством бургундским, с которыми он вот уже почти два десятилетия вел войну. Вильгельм пекся о том, чтобы владельцы приграничных территорий платили дань ему, а не Франции или Бургундии. На северо-востоке ему удалось заключить подобный договор с Гюи де Понтье, наступила очередь Динана на юго-западе.
Местность сделалась ровной и каменистой, трава на пастбищах менее сочной. Когда они перевалили через горный хребет, пейзаж изменился, в лучах заходящего солнца сияла и переливалась вода широкого, разделенного на рукава залива со множеством песчаных и грязевых отмелей. К северу таяла в лиловой дали окаймленная низкими холмами южная оконечность Шербургского полуострова, а прямо перед глазами простиралась плоская низменность, соляные болота, тростниковые заросли – коричневые с зеленым оттенком ковры с серебряными нитями ручьев тянулись далеко на запад. Гора Сен-Мишель господствовала над всей округой, на ее вершине, хорошо заметная даже с расстояния в десять миль, стояла нормандская крепость с высокими башнями, а у подножья – маленькое селение рыбаков и овцеводов. Поблизости на солончаковой траве и в тростниках паслись – и посейчас пасутся – барашки, чье мясо считалось особым деликатесом. Эта крепость на правом берегу реки, соединенная с материком только дамбой, затопляемой каждым приливом, – крайняя точка нормандских владений на западе, – защищала герцогство от вторжения из Бретани. Во всяком случае, должна была защищать, однако вот уже несколько недель Конан осаждал гору, сосредоточив свое немногочисленное войско на другом конце дамбы, и гарнизону крепости приходилось питаться исключительно рыбой.
Вильгельм остановился, прикрыл ладонью глаза от солнца, пожевал в задумчивости нижнюю губу.
– Очень хорошо, – сказал он, – очень хорошо. – Словно все было выполнено точно в срок по его приказам, лучшего нечего и желать. Герцог резко взмахнул рукой, давая сигнал к наступлению. Он был уверен, что этот жест видит вся армия, растянувшаяся на пологом склоне, хотя движение герцога могли заметить не более пятидесяти человек, стоявших рядом. Встряхнув поводьями, пришпорив коня, герцог начал спускаться с горы, направляясь в сторону маленькой деревни на южном краю залива, откуда поднимались клубы дыма.
В то утро сожгли деревню Понтобо. На земле валялись трупы: мужчины с перерезанным горлом, насаженные на копья дети, женщины с разорванными гениталиями – изнасиловав, их напоследок проткнули копьем или мечом. Вильгельм очень разгневался, не потому, что жалел своих подданных или мечтал отомстить за них, а потому, во-первых, что в тот вечер его войско осталось без крова и пищи, а во-вторых, это злодеяние являлось прямым вызовом его титулу и власти, его имени и достоинству. Кто-то позаботился о том, чтобы оскорбление не прошло незамеченным – на белой стене красовалась вырезанная мечом надпись: «Добро пожаловать, Ублюдок!»
Глава двадцать вторая
Угрюмый, безмолвный серый рассвет, густой стылый туман над болотами. Выпь кричит вдали, как кричала всю ночь, и от этого звука мороз подирает по коже. Лагерь проснулся, гремят доспехи, позвякивает сбруя. Вильгельм отдал приказ, две трубы пропели сигнал, и армия во всеоружии двинулась дальше. Люди ворчали – они не ужинали, а теперь лишились и завтрака.
– Завтрак, – крикнул Вильгельм, обнажая меч и приподнимаясь в седле, черный жеребец заходил под ним кругами, – завтрак нам приготовит граф Конан. Вперед... марш!
Даже сидя в седле, трудно было разглядеть что-нибудь впереди. Если верить проводникам, они вышли на полукруглую равнину миль в десять диаметром, надвое разделенную рекой Куэснон. В центре дуги располагался другой конец дамбы, соединявший гору Сен-Мишель с сушей. Плоская равнина поросла тростником и высокой жесткой травой. От основного русла отделялись узкие каналы и ручейки, кое-где вновь соединявшиеся с ним. Даже если бы туман рассеялся, на такой местности нелегко было бы отыскать Конана и его войско.
Град стрел, обрушившийся на нормандцев из зарослей тростника, выдал присутствие противника. Вреда они не причинили, поскольку в передних рядах ехали закованные в доспехи рыцари. Вражеские лучники пользовались маленькими луками, больше пригодными для охоты на дичь, – они могли похвастать меткостью, но не дальнобойностью, к тому же наконечники ломались о броню. Однако шальная стрела угодила в бедро черного жеребца, на котором скакал Вильгельм. Конь сорвался с места, словно его огрели хлыстом, и понесся через болота. Комья грязи фонтаном взлетали над его головой, встревоженные птицы с криками метались во все стороны. Черный жеребец с маху перепрыгивал через широкие ручьи, пока в одной из заводей конь и ездок (сейчас Вильгельма трудно было назвать «всадником») не наткнулись на маленькую лодчонку. Сидевший в ней старик вытаскивал из воды сеть, полную живых угрей. При виде извивавшихся рыб конь остановился, дрожа и хрипя, Вильгельм сумел наконец левой рукой подобрать поводья, а правой выхватил меч и одним ударом снес голову старику. Голова покатилась на дно лодки, Вильгельм дотянулся до нее и проткнул мечом. С этой добычей он возвратился к своему войску.
– Проучил уб... подонка, – заявил он, сбрасывая седую голову под копыта коня, на котором неподвижно восседал Гарольд.
– Может быть, стоит послать разведчиков, – неуверенно сказал англичанин.
– Послать... фу-уф... посмотреть, что там дальше? – Герцог с трудом переводил дыхание после своей эскапады. – Я как раз хотел поручить тебе это. Зачем ты слезаешь с коня?
– Они не заметят нас, если мы пойдем пешком.
– Но если заметят, вам не уйти.
– Мы рискнем. Рип, Альберт, Даффид и Тимор, вы пойдете рядом со мной. Остальные нас прикроют. Дай нам час, – обратился он к герцогу.
К величайшему изумлению герцога и всех нормандцев, Гарольд и дружинники не только сошли с коней, но сняли с себя шлемы и кольчуги, отложили в сторону щиты, мечи и копья и безоружными скользнули в заросли тростника, предварительно вымазав себе лица жидкой грязью. Такая маскировка в сочетании с серыми туниками сделала англичан невидимками.
Четверо выбранных Гарольдом телохранителей последовали за ним, Гарольд шел посредине, Рип и Альберт – по бокам, чуть в стороне, а Даффид и Тимор шагов на десять за ними, так что все вместе они образовывали букву W. Еще четверо дружинников крались в двадцати шагах позади основного отряда, соблюдая большие интервалы, чем первая пятерка. Таким образом, они охватывали довольно обширную территорию, причем каждый не упускал из виду ближайшего товарища и мог бы услышать оклик даже того, кто находился на дальнем краю группы.
Отойдя примерно на полмили от реки, Рип обнаружил бретонца, который сидел в камышах всего в сорока шагах от него, повернувшись спиной. Рип не сразу сообразил, в чем дело: этот человек отошел по нужде и сел лицом к своим, чтобы успеть вовремя встать и прикрыться, если кто-нибудь приблизится к нему. Подобравшись вплотную, Рип коротким зазубренным кинжалом перерезал бретонцу горло, и вся группа проскользнула сквозь брешь, образовавшуюся в цепи противника.
Они вернулись раньше чем через час – как раз вовремя, чтобы услышать, как Вильгельм пронзительным голосом поносит Гарольда и его присных:
– Видите, господа, каков этот Гарольд! Пополз на брюхе, точно раб! Разве такое пристало вельможе, князю? Попомните мое слово: больше мы его не увидим. Либо они все, воспользовавшись такой возможностью, скроются, бросив оружие и доспехи, и поспешат в свою Англию, либо попадутся в руки Конана. Конан отнюдь не дурак, он выставил повсюду патрули и живо их схватит.
– В таком случае – да здравствует Вильгельм, король Англии! – воскликнул виконт Робер Фиц-Алан, и все окружавшие Вильгельма рыцари забряцали оружием, ударили тяжелыми рукавицами по щитам, сотрясаясь от смеха.
Внезапно перед ними вырос Гарольд. Он взял из рук ближайшего к нему рыцаря копье и быстро набросал на засохшей грязи, прямо перед копытами герцогского жеребца, план местности.
– Береговая линия, – коротко пояснил он. – Здесь река, здесь дамба, гора Сен-Мишель. Бретонцы разделились надвое, примерно на одинаковые по силе отряды, по шесть сотен всадников во всеоружии, по четыре или пять сотен крестьян, в основном лучники. Первый отряд на восточном берегу главного русла прикрывает проход на дамбу с нашей стороны, второй отряд разворачивается на западном берегу в направлении с севера на юг, левый фланг у берега моря, где почва тверже, песок и галька. Река в этом месте довольно широка, но видны песчаные отмели, так что, думаю, ее можно перейти вброд; впрочем, близится время прилива. Полагаю, как только прилив накроет дамбу и гарнизон уже не сможет выбраться из крепости, Конан отведет войска, охраняющие дамбу, назад через реку и соединит их с тамошним отрядом. Ему нужно точно выбрать время, когда дамба станет недоступной для осажденных, а сам он еще сможет перебраться через реку. Начав атаку в тот момент, когда он будет выполнять этот маневр, мы застигнем его врасплох. Если ты пройдешь с войском около мили и построишь его в боевом порядке, я мог бы двинуться вперед и подать тебе трубой сигнал, когда наступит время для атаки.
Гарольд откинул волосы со лба, глянул на Вильгельма, заслонив глаза рукой от солнца, вышедшего наконец из-за туч и поднявшегося над головой Бастарда. Высокий шлем с забралом, почти полностью скрывавшим лицо, кольчуга, черная на фоне подсвеченного солнечными лучами тумана, и большой щит в форме листа показались в тот миг чем-то инородным и страшным. Гарольд с трудом сдержал дрожь.
Вильгельм дернул повод, поворачивая коня.
– Я лучше знаю, что нужно делать. Мы станем слева и в центре, отвлечем противника, а тем временем треть наших сил перейдет реку, ударит ему в тыл и обратит в бегство. Тогда и мы ринемся в атаку.
Не обращая больше внимания на Гарольда, он поспешно отдал приказ своим командирам.
Не все вышло так, как было задумано. Отряд, поднявшийся выше по течению, чтобы напасть на Конана с фланга, наткнулся на препятствие: кони по колено увязли в болоте. Конан на это и рассчитывал. Ниже по течению дно, как и предполагал Гарольд, оказалось гораздо тверже, и там воины герцога смогли переправиться, но тем самым они подставили свой фланг противнику, охранявшему вход на дамбу. Вильгельм приказал атаковать, потом отступил, снова ринулся в атаку, и постепенно стало ясно, что, неся большие потери, он, однако, шаг за шагом оттесняет Конана и вбивает клин между двумя отрядами бретонцев. К исходу утра нормандцы, застрявшие в болоте, наконец выбрались из трясины и поспешили на помощь герцогу. Конан дал приказ отступать и отвел основные силы за реку, потеряв лишь часть воинов, вступивших в бой на восточном берегу. Армия герцога пострадала намного больше, так что о преследовании противника не могло быть и речи.
Гарольд с дружинниками наблюдал за сражением с небольшого пригорка у реки. Удивлен ли он всем происходящим – Уолт и его друзья не могли понять, но сами они испытывали немалое удивление.
Тяжеловооруженные воины так и не спешились, они-то есть рыцари, а не крестьянское ополчение – сражались верхом. Ничего подобного англичане раньше не видели. По их понятиям, лошади были нужны для того, чтобы как можно быстрее добраться из одного места в другое, сохраняя силы для нового сражения. Оказавшись у цели, воин пешим вступает в бой. Когда силы сторон примерно равны, ратники бросаются друг на друга, размахивая топорами и мечами, обмениваясь ударами, пока кому-то не удается добиться преимущества; если же враг с самого начала обладает численным превосходством, войско строится тесными рядами, выставив перед собой сомкнутые щиты, и выдерживает атаку за атакой, пока вся дружина не поляжет или противник не выдохнется. Вот и вся стратегия, но если полководец опытен и умен, как Гарольд, если он заранее выяснит сильные и слабые стороны противника и разведает ландшафт, чтобы воспользоваться возвышенностями или другими выгодными особенностями местности, это решает дело – победа наверняка останется за ним.
– Неужели они так и не слезут с коней и не начнут биться, как подобает мужчинам? – недоумевал Уолт.
Гарольд покачал головой. Он не отрывал глаз от поля боя, даже губу закусил, сосредоточившись.
Еще пристальней, чем за ходом битвы, он следил за самим герцогом. Ублюдок всюду поспевал, вел своих людей в атаку, двух жеребцов убили под ним, причем второму прокололи брюхо вражеские пехотинцы, в ряды которых Вильгельм опрометчиво заехал. Казалось бы, один посреди десяти или двенадцати врагов, вооруженных не только топорами и копьями, но и луками, герцог был обречен, однако он успел соскочить с падавшего коня – успел, несмотря на тяжелые доспехи. Он отразил все удары щитом и ринулся вперед, а через несколько мгновений ополченцы уже бежали прочь от его жалящего меча. Конюх подвел своему господину третью лошадь. Был и другой момент; от ряд нормандских рыцарей дрогнул и обратился в бегство, в сторону реки, но Вильгельм галопом вылетел из схватки, перехватил дезертиров, развернул и снова погнал в бой.
Гарольд вздохнул и обернулся к Уолту:
– Знаешь, в чем его секрет?
– В нем дьявол сидит.
– Наверное. Но главное – он просто не понимает, что и его могут ранить, не думает об этом. Он так уверен в себе, в своем превосходстве, что ему даже в голову не придет опасаться равного по силам противника, который мог бы нанести ему увечье. Это особый дар, опасный дар, но, во всяком случае, пока его не ранят, этот человек может творить чудеса.
Вскоре все было кончено. Бой замирал, армия Конана постепенно таяла в вечерних сумерках, и тут заговорил Ульфрик.
– Вот что я скажу, – заявил он, – нашему ополчению ни за что не выстоять против вооруженных всадников.
– Это не страшно, – возразил Гарольд.
– В самом деле?
– Конечно. Рыцари не доберутся до ополчения – им никогда не удастся прорвать ряды дружины.
Конан проложил себе путь назад в Динан – его войско почти не уступало численностью армии Вильгельма. Мятежник заперся в укрепленной части города. Он ожидал, что нормандец потребует от него вассальной присяги, обложит его земли данью и удалится восвояси, но Вильгельм чересчур осердился. Он послал в Руан за подкреплением и осадил город, тем временем часть войска грабила окрестные деревушки. Отчасти ему хотелось потешить себя и своих людей, но был в его действиях и тонкий расчет: отныне ни один вельможа Бретани не решится поддержать человека, выступившего против Нормандии.
Три недели Вильгельм и Гарольд, дожидаясь подмоги, осматривали снаружи крепость. Динан был построен в устье реки Ране, на уступе скалы. Город казался неприступным, однако Гарольд подметил, что стены, поднимавшиеся над утесом, хотя и выглядели снизу чрезвычайно высокими, на самом деле возвышались над крутым обрывом не более чем на сорок футов, а это означало, что даже небольшой отряд, вскарабкавшись на скалу, смог бы с помощью осадных лестниц перебраться через стены.
Вильгельм смерил своего «кузена» ледяным взглядом и погладил бородку.
– Вот и сделай это.
Гарольд указал плотникам, какого размера должны быть лестницы, чтобы их можно было по одной поднять на веревках, а затем скрепить воедино. Он велел заготовить корабельные канаты – легкие, длинные и прочные. Вместе с Хельмриком, который отличался не только музыкальным слухом, но и орлиным зрением, Гарольд каждое утро и каждый вечер в течение недели наблюдал через реку за бастионами крепости, запоминая перемещения караулов.
Тимор привык лазить по скалам, он научился этому в ущельях Чеддера, так же, как отец, добывая из соколиных гнезд птенцов, которых растили для охоты. Безлунной, морозной и звездной октябрьской ночью Тимор вместе с Даффидом забрался на скалу, спустил оттуда веревки и по частям поднял наверх осадные лестницы.
Гарольд первым перелез через стену, но никто не мог заранее знать, что по ту сторону ограждения тянется узкий, едва в фут шириной, карниз, а под ним, на пятьдесят футов ниже – каменный двор, где белело развешанное на веревке белье. Перемахнув через стену, Гарольд по инерции едва не полетел с карниза, но Уолт успел ухватить своего господина за ворот стеганой куртки и удержал его, не дав свалиться на камни.
Отдышавшись, Гарольд протянул дружиннику руку.
– Спасибо, Уолт. Я твой должник.
Позднее, когда все было кончено (Конан ускользнул, воспользовавшись веревками, забытыми людьми Гарольда), эрл и его телохранитель вышли на рыночную площадь захваченного города. Вокруг горели дома, нормандцы методично уничтожали всех пленных мужского пола, кроме самых юных и самых старых, насиловали и убивали женщин, которые еще могли иметь детей.
Лицо Гарольда побелело от гнева, отвращения и какого-то смутного страха, но он заставил себя прислушаться к словам Уолта:
– В Уэксфорде, в Ирландии. Я был еще мальчишкой. Ты спас меня, когда я чуть не утонул, а потом помешал Ульфрику вышибить мне мозги. Я все еще твой должник.
– Ты спас мне жизнь в Уэльсе.
– Я просто вовремя подставил щит.
Они прошли по узкой мощеной улице. Вдоль обочины бежали потоки вина и крови. Гарольд закрыл лицо, спасаясь от вони пожарища, горящей плоти, фекалий, и почти вслепую продолжал путь. Уолт шел за ним, припоминая, как его господин обычно отходил в сторону, отворачивался, отзывал восемь ближних дружинников, когда его войско разоряло пограничную деревушку, жители которой держали сторону уэльсцев, или грабило городишко, оказавший чересчур упорное сопротивление.
Внезапно Гарольд обернулся к своему телохранителю.
– Уолт! – воскликнул он. – Нельзя допустить, чтобы эти нормандцы хозяйничали в нашей стране. Мы всё должны сделать, только бы их остановить.
– Само собой...
– Клянись.
И Уолт поклялся.
Глава двадцать третья
На следующий день рано поутру Вильгельм посвятил Гарольда в рыцари, заставив его вновь принести присягу в верности. К нескрываемому разочарованию Ублюдка, Гарольд слово в слово повторил прежнюю присягу: он обещал служить Вильгельму всюду, где тот будет законным владыкой. После этого армия построилась боевым порядком и двинулась через перешеек Шербургского полуострова к Байё. Переход занял около недели, и по прибытии Гарольд попросил у герцога аудиенцию.
Его проводили в зал, где Вильгельм, в окружении клириков, вновь горбился над документами. По-видимому, совет проверял сбор осенней дани, которую знатные вассалы Западной Нормандии выплачивали деньгами и натурой. Эти бароны не принимали участия в победоносной кампании, хотя и послали Вильгельму людей и деньги. По словам герцога, все они камнем висели у него на шее: каждому из них принадлежал большой замок, а то и несколько замков на границе герцогства, а это означало, что бароны могли плести интриги и вступать в сговор со своими собратьями по ту сторону границы и напрямую с французским королем и герцогом Бургундии. Они вроде бы признавали Вильгельма своим сюзереном, а себя вассалами, сидящими на его земле, но зато им безоговорочно подчинялись мелкие землевладельцы, а через их посредство и остальное население страны, вплоть до обрабатывавших эту землю крепостных.
– Придет день, дорогой Гарольд, и я наведу полный порядок... с твоей помощью, надеюсь.
Было ясно, какой день герцог имеет в виду и на какого рода помощь он рассчитывает.
– Тогда я избавлюсь от этой обузы, передам ее кому-нибудь из сыновей и все устрою по-своему, самым правильным и разумным образом – каждая вещь в свое время и на своем месте. Что я могу сейчас сделать для тебя?
– Прошло шесть недель с тех пор, как я покинул Англию. Мне пора возвращаться.
– Да-да, конечно. Кстати – это, разумеется, вздор, пустая формальность, но все-таки: к человеку, который посвятил тебя в рыцари, принято обращаться «ваша милость» или «сир» – то есть «сэр», хотел я сказать. В таком духе. А? Ладно, оставим это. Вздор, – повторил он. – Просто лучше делать так. Договорились? А теперь скажи: что тебе нужно? Зачем ты пришел ко мне?
– Как тебе известно, герцог Вильгельм, – только такое обращение он и сумел выжать из себя, – я приехал в Нормандию, чтобы забрать домой моего юного кузена Вульфнота и моего племянника Хакона. Пока что мне не удалось увидеться с ними. Я даже не знаю, где они находятся.
– О, на это тебе может дать ответ Ланфранк. Он у нас знает ответы почти на все вопросы. – Приложив указательный палец к кончику внушительного носа, Вильгельм заговорщически понизил голос: – Сведущий человек, педант, но чертовски хорошо управляется с делами. Мне без него не обойтись. – Вновь повысив голос, Вильгельм распорядился: – Эй, кто-нибудь, разыщите Ланфранка. Он где-то тут. Может быть, у себя в кабинете. – И вновь обернулся к Гарольду: – Садись. Выпей, отдохни. Стакан воды моему другу Гарольд!
Гарольд сел рядом с герцогом, тот фамильярно обхватил его рукой за плечи, склонился к его лицу – и Гарольд ощутил запах болотной травы, ненасытной волчьей утробы.
– Говори со мной прямо, и я так же прямо отвечу тебе. Можно звать тебя «Гарри»?
– Не обязательно.
– Тебе это не нравится? Слишком простецки? Хочешь соблюдать со мной церемонии?
– Не в этом дело. «Гарри» – уменьшительное от «Генри», а не от «Гарольда». Генри – нормандское имя.
– А ты не нормандец?
Повисло долгое молчание. Гарольд прекрасно понимал, что хочет сказать герцог: «Ты не нормандец – пока».
– Гарольд, – сказал он хриплым шепотом, – Гарольд, при каких условиях ты под держишь меня и признаешь мои права на трон Эдуарда?
– Я поддержу тебя, если Витан, по своей воле и без принуждения, предложит тебе корону.
– Сколько у тебя братьев? Четверо, пятеро? И все они члены Витана? А еще твои приверженцы – сколько их? Ладно. Сформулируем по-другому. При каких обстоятельствах ты сам поддержишь меня перед Витаном?
– Если это будет необходимо, чтобы предотвратить войну или вторжение, я бы мог признать тебя королем Англии, но с одним непременным условием: ты назначишь меня вице-королем и своим полномочным представителем, чтобы я правил Англией от твоего имени. Сам ты будешь держаться подальше, наведываться к нам только с официальными визитами, и в этом случае гвардию будут составлять не твои люди, а мои. Когда тебе понадобятся воины и оружие для защиты твоих интересов на континенте, я тебе их пришлю.
Вильгельм в задумчивости грыз костяшки пальцев, потом покачал головой.
– Не пойдет. Хочу избавиться от Нормандии. Она мне осточертела. Надо начать все с начала, с нуля. На этот раз все сделаем как надо.
Гарольда переполняли гнев и отчаяние, он обливался потом, лицо скривилось в уродливой гримасе. Вильгельм с минуту озадаченно наблюдал за ним, потом объявил:
– А вот и Ланфранк-ломбардец. Родом из Ломбардии, понимаешь. Он нам поможет – чертовски умный парень.
Ланфранк, сверстник Гарольда, носил рясу бенедиктинца, но на груди у него красовался большой золотой крест (правда, без украшений), а на пальце – перстень, весьма напоминавший епископский. Он был крепко сбит, невысок, с крупной челюстью и с бледным одутловатым лицом; руки сильные с тяжелыми кистями. В постоянно настороженном взгляде сквозили ум и хитрость.
– Ланфранк, скажи Гарольду, где сейчас его кузен и племянник.
– В Ле-Беке, господин мой. Учатся.
– Там у Ланфранка свой монастырь, при котором он устроил школу, главным образом, разумеется, для священнослужителей, но есть и отделение для сыновей вельмож, они учатся читать, писать, изучают право, риторику и все такое. Ланфранк, через пару дней Гарольд уезжает. Привези сюда поскорее мальчишек, мы устроим в их честь пир или что-нибудь в этом роде, проводим по-хорошему. Ну вот, Гарольд, надеюсь, ты доволен. А теперь... – Он взял со стола лист пергамента и обернулся к писцу, застывшему наготове с чернильницей и пером в руках. – Этот подонок Монморанси опять нам недоплатил. Прочти его письмо... Гарольд, – сказал он, в последний раз обращаясь к англичанину, – если располагаешь временем, сходи в женский монастырь и попроси настоятельницу показать гобелены, которые ткут в ее обители. На них стоит посмотреть.
Гарольд понял, что аудиенция окончена. Поднявшись, он заставил себя слегка наклонить голову и вышел из зала. Как только Гарольд отошел достаточно далеко, чтобы слова герцога не достигли его слуха, Вильгельм ухватил Ланфранка за рукав и силой усадил на стул, только что освобожденный Гарольдом.
– Убл... подонок не желает мне подыграть. Я дважды пытался. Стоит на своем: будет служить мне лишь в тех краях, где я буду править по закону. В Англии для этого требуется согласие Витана, а Витан идет у него на поводу.
Переплетя толстые пальцы, Ланфранк погрузился в раздумье.
– Есть более высокая власть, – произнес он. – Существует авторитет, голос которого заглушит болтовню каких-то стариков на захудалом острове на краю цивилизованной земли.
– Ты имеешь в виду Рим, Папу. Верно – но как нам привлечь его на свою сторону?
– Отправь делегацию в Рим. Я могу возглавить посольство. Пусть Александр[208] благословит твое предприятие, пришлет тебе какую-нибудь эмблему, священное знамя, реликвию, что-нибудь в этом роде.
– Он потребует что-то взамен.
– Разумеется, но эту малость мы можем предоставить ему безо всякого ущерба для себя. Ему нужны гарантии того, что ты призовешь к порядку Церковь Англии, проведешь клюнийскую реформу, во всех церковных вопросах будешь признавать верховенство Рима.
– Это значит, что Церковь станет еще сильнее.
– Да, но тем самым Церковь сможет способствовать укреплению государства, послужит тем противовесом мятежным баронам, которого тебе так недостает в Нормандии.
– Чтобы осуществить эти реформы, понадобится надежный человек, – с хитроватой усмешкой произнес Вильгельм. – У тебя есть кто-нибудь на примете?
Ломбардец слегка покраснел, повел плечами – неожиданно кокетливый жест для такого крупного мужчины. Лицо его оставалось бесстрастным.
– Кентербери? – поинтересовался Вильгельм тем полупрезрительным тоном, каковой служил для него единственно возможным проявлением фамильярности и дружеского расположения.
Вновь легкое пожатие плечами.
– Сперва надо выгнать Стиганда, – пробормотал учитель из Ле-Бека[209].
– Это не составит труда.
Они помолчали с минуту.
– Остается еще проклятый Витан, – буркнул Вильгельм.
Учитель оглянулся, убедился, что никто из писцов не прислушивается к разговору, и на всякий случай склонился к самому уху хозяина.
– Это можно устроить, – прошипел он. – Чтобы доставить Вульфнота и Хакона из Ле-Бека, понадобится по меньшей мере два дня. За это время мошенник Тайлефер что-нибудь да выдумает.
Глава двадцать четвертая
В сопровождении Уолта, Хельмрика, Даффида и Тимора Гарольд пересек двор и вышел к женскому монастырю. Монахи проводили их к красивому портику с изящными колоннами и округлыми арками. Колоннада привела к двойным дверям с небольшим глазком. Перед дверями лежала дорожка длиной в шестьдесят футов, а шириной всего в двадцать дюймов. На узком коврике были изображены чудеса Девы, явленные пилигримам на Млечном пути, то есть на дороге в Сантьяго-де-Компостела. Этот рассказ в картинках весьма походил на современные комиксы.
Чрезвычайно развеселившись, пятеро англичан принялись высмеивать комическую неуклюжесть фигур, полное отсутствие индивидуальных черт,примитивные узоры и так далее, пока все не полегли от хохота, услышав реплику Даффида: эти застывшие рожи напомнили-де ему сосредоточенное выражение лица человека, избавляющегося от длительного запора. Тимор обратил внимания на ошибки в убогих латинских надписях, которые сопровождали каждый эпизод, а Гарольд, не раз наблюдавший затем, как длинными вечерами при свете свечи работает иглой Эдит Лебединая Шея, заявил, что перед ними отнюдь не гобелены, а просто-напросто вышивка, и не слишком искусная в придачу.
«Segnurs barons», dist li empere Carles,
«Veez les porz e les destreiz passages:
Kar me jugez ki ert en le rereguarde...»
Карл говорит: «О господа вассалы!
Видите вы теснины и провалы.
Назначьте мне вождя для арьергарда»
[210].
– Он хорош, – пробормотал Хельмрик. – Настоящий мастер.
– И арфа неплохая, – отметил Тимор.
В зале под ними в самом центре на четырехугольном возвышении стоял человек в темной одежде, его редкие черные волосы не скрывали высокого лба. Склонившись над великолепной арфой, он играл и пел, лицо его судорожно подергивалось, когда в промежутке между строфами он наигрывал импровизации, эхом вторившие настроению или содержанию только что пропетых стихов. Арфа, будто корабль, была построена из планок хорошо выдержанного дерева, прибитых медными гвоздями к скрытой под ними раме, корпус был выложен сусальным золотом и перламутром. Шейка, изогнутая, как гребень волны, поднималась вверх почти на два фута; она была сделана из темного дерева, отполированного до нестерпимого блеска и, по-видимому, столь твердого, что инкрустировать ее было невозможно, хотя каким-то инструментом и удалось просверлить в грифе дыры для колков, на которые натягивались струны.
– О чем это? – шепотом спросил Уолт. – Черт меня побери, если я хоть что-нибудь понял в этой тарабарщине.
– Ш-ш! – прошипел Ульфрик.
– «Песнь о Роланде», – шепотом ответил Хельмрик, касаясь губами уха Уолта. – Новая версия. Поэма о предательстве. Ганелон ловит императора Карла на слове и вынуждает его вверить Роланду арьергард, когда французы уходят из Испании. Вот слушай...
Quant ot Rollant qu’il ert an la rereguarde
Ireement parlat a sun parastre
«Ahi! Culvert, malvais hom de put aire...»
– О чем он поет? – взвыл в отчаянии Уолт.
– Роланд проклинает своего отчима Ганелона за то, что тот навязал ему командование арьергардом...
В конце зала на высоком помосте установили стол; посредине в тронных креслах восседали Вильгельм и его супруга Матильда. Если в Вильгельме было добрых шесть футов роста, то в герцогине не более четырех. Это была маленькая невзрачная женщина, изнуренная многими родами, со сморщенным обезьяньим личиком.
– Ему бы на плечо ее посадить, – сказал Ульфрик.
– И был бы он точь-в-точь бродячий певец с обезьянкой, – подхватил Альфред.
Гарольда, как почетного гостя, усадили по другую руку от Матильды. Начали разносить блюда, по большей части покрытые белым бланманже или залитые соусом, потом подали крем и желе, подслащенные кристаллами из тростника, который мавры выращивают на побережье Малаги. Еда была либо водянистой, либо чересчур пряной, либо приторной. От такой жратвы в желудке забурчит, ворчал Ульфрик, после наших-то добрых кусков говядины и баранины.
Уолта беспокоило другое: нормандцы пили мало, вино разбавляли водой, а Гарольд пил неумеренно, и слуги всё подливали и подливали ему в чашу.
То, что произошло потом, было, конечно же, иллюзией, массовым гипнозом. Менестрель – это и был Тайлефер – допел первую часть «Песни о Роланде». Ему похлопали с некоторым облегчением (песнь была очень длинная). Певца сменили две мавританские танцовщицы, рабыни, присланные с Сицилии, к тому времени почти полностью покоренной нормандцами. Гарольду – а также Уолту, сидевшему на другом конце стола – почудилось, что зал потемнел и наполнился дымом, словно начали жечь благовония, хотя на самом деле ничего подобного не было.
Гарольда танцовщицы не заинтересовали, разве что их сладострастные движения напомнили ему об Эдит, и сердце его сдавила тоска. Чтобы заглушить тоску, он начал пить еще больше, и ему налили рейнского вина, более сладкого и густого и гораздо более крепкого, чем шипучий напиток из Реймса, столь любимый нормандцами.
– Прямо молочко Богородицы, верно? – поощрил Гарольда сидевший по левую руку от него барон и вновь наполнил ему чашу.
И когда Гарольд вновь глянул в зал поверх серебряного края своего сосуда, начали происходить странные события.
На его глазах – быть может, и на глазах многих других гостей – танцовщицы превратились в юношей, и Гарольд сразу же понял, что это его кузен Вульфнот и племянник Хакон, сын Свена. Мальчики стояли на подмостках, потупив глаза, руки у них были связаны за спиной, на шею была накинута петля. Приподняв головы, юноши посмотрели через весь зал прямо на Гарольда, и взгляды их выражали мольбу.
Гарольд вскочил на стол, разбрасывая во все стороны чаши и тарелки. Раздались возмущенные крики, но герцог Вильгельм, поднявшись на ноги, знаком приказал придворным не шуметь и дождаться исхода этой сцены. Расталкивая рыцарей, сметая угощение и посуду, Гарольд пронесся по длинному столу, но как только он добежал до края стола и собирался перепрыгнуть на подмостки, юноши куда-то исчезли, их место занял Тайлефер. Маг стоял лицом к лицу с Гарольдом, держа в руках белую льняную скатерть, сложенную в несколько слоев. Тайлефер приложил палец к губам, Гарольд невольно остановился. Весь зал замер. Подняв ткань за два краешка, Тайлефер встряхнул ею так ловко, что она горизонтально, точно ковер-самолет, повисла в воздухе между фокусником и эрлом.
Ткань медленно опустилась, остановившись в трех футах от пола и приняла форму аккуратно расстеленной скатерти. Края ее свисали вниз, середина была ровной и гладкой, словно под ней в самом деле находился стол, однако стола-то и не было. Все затаили дыхание, многие крестились, не которые хлопали в ладоши и кричали от восторга.
Тайлефер пальцем указал себе за спину. Гарольд поднял глаза и вверху, на галерее, окружавшей зал, увидел тех же юношей, но теперь они стояли у балюстрады, и глаза их были закрыты повязками. Петли все так же были накинуты на шеи заложников, а другой конец веревки тянулся к потолочной балке.
Тайлефер ухмыльнулся, между бородой и короткими усиками блеснули ровные белые зубы.
– Клянись! – потребовал он. – Клянись – не то... Положи руки на стол и клянись.
Гарольд повиновался.
– Я вассал герцога Вильгельма, – произнес он. – Клянусь!
– Дальше!
– Я приму его сторону и всеми силами поддержу его как наследника английского престола.
Стены зала клонились то в одну сторону, то в другую. Гарольд ухватился за скатерть, чтобы устоять на ногах. Ткань оказалась тверже камня.
– Еще раз. Громче, чтобы все слышали.
– Я вассал герцога Вильгельма. Я приму его сторону и всеми силами поддержу его как наследника английского престола.
Факелы ярко вспыхнули, фигуры обреченных юношей растаяли в воздухе, все гости, кроме восьмерых дружинников Гарольда, вопили от восторга, барабаня по столу тарелками и кубками.
Тайлефер сдернул ткань. Под скатертью оказался стол, которого не было прежде, а на столе – два золотых ковчежца. Фокусник высоко поднял первый ковчежец, затем второй и показал их публике. Прогремел густой бас Одо, епископа Байё[211], сводного брата Вильгельма:
– Палец святого Людовика, – объявил он, – и ухо святого Дионисия[212]. Нет нужды напоминать тебе, граф Гарольд, – он сложил губы трубочкой, – что присяга, принесенная на подобной святыне, не может быть забыта или нарушена.
Гарольд без чувств рухнул на пол.
Да. Так оно и было или почти так. Уолт очнулся от забытья. Он лежал в каморке гостиницы под Никеей на койке Тайлефера. Тайлефер! Это он все подстроил, ублюдок!
Близился рассвет, слышался крик петуха, а над самым ухом – нежное, мелодичное пение старинной арфы. Уолт открыл глаза. Девушка, Аделиза, танцевала медленный восточный танец, ее брат Ален аккомпанировал ей.
Часть IV Короткая поездка по Малой Азии
Глава двадцать пятая
Девушка была так прекрасна, что Уолт на какое-то время забыл, кто ее отец. Муслиновое платьице, единственная ее одежда, если не считать жемчужных нитей в волосах, просвечивало насквозь, и даже в тусклом свете раннего утра Уолт различал все изгибы юного тела, невысокие холмики девичьих грудей, тенистую ложбинку между ягодицами, а когда она поворачивалась – легкий, совсем еще редкий пушок между бедрами, особенно если Аделиза перемещалась так, чтобы оказаться чуть сбоку от маленького окошка в солнечном луче. Перебирая струны, похлопывая ладонью по деке, чтобы подчеркнуть ритм, Ален извлекал из арфы капризную, то печальную, то радостную мелодию, как нельзя лучше соответствовавшую артистическому, умышленному эротизму танца.
Уолт поднял голову и тут же снова откинулся на подушки. Боль пронзила скулу, несколько зубов с этой стороны было разбито. Он судорожно вздохнул и вскрикнул от боли тонким, жалобным голосом. Арфа тут же умолкла, Аделиза присела возле него, широко разведя ноги, муслиновая юбка вспорхнула вокруг ее тела и тоже опустилась на пол. Она вплотную приблизила лицо к его лицу, длинные волосы девушки упали Уолту на лоб, он увидел перед собой маленькие груди цвета меда. Груди были крепкие, но сейчас, когда Аделиза так низко наклонилась, они слегка обвисли, оказались тяжелее, чем думалось, когда она высоко держала их в танце. На шее Аделизы виднелась маленькая родинка.
– Дружочек! – шепнула она. – Как ты себя чувствуешь? Мы все сделаем, чтобы тебе полегчало. Ты и твой товарищ такие добрые, такие храбрые. Вы пытались спасти папочку.
Вовсе я не собирался выручать твоего папочку, подумал Уолт. Я бросился на помощь Квинту. Перегнувшись через край кровати, Уолт выплюнул комок спекшейся крови и слюны с осколками зубов и капельками гноя. Вновь зазвучала арфа, и Аделиза принялась вертеться, изгибаться, вытягивая шею, делая томные глаза, приподнимаясь и покачиваясь на носочках, видневшихся из-под подола платья. На лодыжках позвякивали крошечные серебряные колокольчики.
Вот уже два года (или больше?) с того лета перед последней битвой желание тревожило Уолта разве что в смутных снах, о которых он тут же забывал. Сквозь запекшуюся кровь и боль он с трудом выговорил:
– Твой отец знает про эти танцы?
Она капризно надула губки, слегка отвернулась.
– Разумеется, знает. Он сам меня научил.
– Он тебя учил?
– Да. Мы едем на Восток, где мужчины платят большие деньги, чтобы посмотреть на такое искусство. Это будет хорошая прибавка к тому, что заработает отец.
Да уж, дьявольские фокусы ее папаши!...
Ален прислонил арфу к стене. Она издала напоследок приглушенный стон, словно печалясь, что не понадобится больше.
– Надо собираться, – предупредил он. – Примерно через час папу и твоего друга поведут на суд.
Этот мальчик, тонкий, но высокий – ростом он догонял сестру, – отличался от Аделизы более светлой мастью, и характер у него был тише, спокойнее, не такой бойкий и легкомысленный, как у сестры. В толпе, на представлении, Ален вовсе не привлекал к себе внимания, публику развлекали Тайлефер и Аделиза, однако теперь он, хоть и младший годами, брал руководство на себя.
– Животных и поклажу мы оставим здесь, пойдем пешком, – распорядился Ален. – Поглядим, как все обернется. Уолт присмотрит за вещами.
Уолт попытался сделать шаг, обеими руками схватился за голову и чуть было снова не рухнул на постель.
– Нет, нет! – запротестовал он. – Я тоже пойду. Я нужен Квинту.
Ален пожал плечами.
– Ладно, тогда запрем все понадежнее. Пошли. Времени у нас в обрез.
Аделиза пока что стянула через голову муслиновое платье и стала обливаться водой из кувшина, который она с вечера наполнила колодезной водой. Вода стекала в глубокую сковороду, предназначенную, вероятно, для приготовления ужина на большое семейство.
Со двора доносились возгласы погонщиков и конюхов, ржание и рев вьючного скота, стук копыт по камням. Караван готовился покинуть город, но Уолт, хотя шум, предвещавший скорый отъезд, тревожил его, не мог оторвать глаз от девушки.
– Нечего подсматривать, – проворчала она, быстро натягивая на себя тусклую бесформенную одежду из хлопка и убирая волосы под капюшон.
Аделиза распушила брови – теперь казалось, будто она их никогда не выщипывала и не причесывала – и преобразилась в такую скромницу, ну прямо монашка. Куда подевалась гурия, которой она была только что, куда подевалась Приснодева, которую Аделиза изображала накануне? Перед Уолтом стояла простая деревенская девчонка, собравшаяся пойти в город на рынок. Ален тем временем вышел и вернулся с тремя горячими, только из печи, лепешками и с кувшином молока. Уолт не смог разжевать хлеб, пока Аделиза не посоветовала размочить его в молоке.
Здание суда было построено еще до Никейского собора, а потому в его центре располагался атрий под открытым небом, окруженный портиками с коринфскими колоннами. Мрамор там и сям отваливался, обнажалась кирпичная основа, а черепичная крыша проросла сорняками.
Огромные стаи ласточек, летевшие из степей по ту сторону Черного моря, усеяли весь верх здания и, смешавшись с многоголосыми птичьими семействами, поселившимися здесь раньше, подняли столь пронзительный крик, что с трудом можно было расслышать речи людей.
Уолт и дети Тайлефера слились с толпой во дворе. Судьи и писцы собирались в дальнем портике. Некоторые судьи носили предписанные обычаем мантии, похожие на тоги римских магистратов, чьи барельефы, лишившиеся за прошедшие века носов, рук или ног, украшали фронтон здания. Посреди своих помощников стоял верховный судья, приземистый, толстый, лысый. В отличие от каменных собратьев, взиравших на него сверху, у этого носик был пуговкой, а глаза косые. Председатель сопел и пыхтел и спешил как можно скорее закончить заседание. Его ждали дела поважнее – например, бани.
Зазвенел надтреснутый колокольчик, тюремные стражи, гремя доспехами и бряцая мечами, вывели два десятка заключенных, в цепях и наручниках. Мальчишку, укравшего накануне утром на рынке цыпленка, уличили с помощью свидетелей, приговорили к порке и отвели в соседний двор. Через минуту послышались удары тростью и вопли воришки, неотличимые от пронзительного крика ласточек. Нищему, который прикидывался безногим, отрубили три пальца. Рыботорговец, подсунувший покупателям тухлую макрель, на полгода лишился лицензии.
Публика в основном состояла из свидетелей и родственников обвиняемых, после рассмотрения каждого дела толпа редела, и к тому моменту, как вызвали Тайлефера и Квинта, во дворе оставалось всего с полдюжины зрителей, включая Уолта, Аделизу и Алена. Рядом с ними стояла та загадочная высокая рыжеволосая женщина в сине-зеленом переливчатом платье, надетом поверх белой шелковой рубашки, и с изумрудно-зеленым шелковым шарфом на голове, которую Уолт заметил накануне, перед арестом Квинта и Тайлефера.
После ночи, проведенной в темнице, обвиняемые выглядели не так уж плохо. Внимательно всмотревшись в Тайлефера, Уолт убедился, что это тот самый человек, который вынудил его господина дать опрометчивую, но тем не менее нерушимую клятву. Ярость и жажда мести вскипели в англичанине.
Первым перед судьей предстал Квинт, обвиняемый в нарушении общественного спокойствия, нападении на представителя власти и сопротивлении при аресте. Квинт откашлялся, одной ногой оперся на нижнюю ступеньку цоколя колоннады, неуклюже дотронулся скованными руками до края кожаной шляпы с широкими полями и произнес в свою защиту такую речь:
– Не стану отрицать свою попытку заступиться за человека, который за последние двенадцать часов или около того сделался для меня одним из самых близких и почитаемых друзей...
«Близких и почитаемых»! Этот прожженный плут, если не шарлатан, этот приспешник самого Дьявола!
– Однако, поскольку ни один из его поступков не казался мне предосудительным и поскольку мое поведение можно счесть опрометчивым и необдуманным, но отнюдь не предумышленным, я прошу вас принять в рассмотрение не те физические действия, к которым побудил меня рассудок, но то, что Стагирит[213] в «Никомаховой этике» именует «наклонностью души». Так, в книге пятой, глава...
– Берегись, сакс, ты впадаешь в ересь британца Пелагия[214], чьим излюбленным речением было «Если должен, могу», отрицавшее Благодать Господню, – предупредил его судья, судя по рясе и смахивавшему на гриб головному убору – клирик. Тощее красное лицо этого священнослужителя ясно говорило о том, что постоянные запоры отнюдь не способствуют смягчению нрава.
Светский судья, чьи глаза глядели в разные стороны и потому могли отличить истину от лжи, перебив своего коллегу, отчетливо и язвительно произнес приговор:
– Виновен по предъявленным статьям. – Последние два слова он намеренно выделил. – Штраф двадцать серебреников и покинуть пределы города до наступления вечера, возвращаться запрещено. Следующий!
– Ваша честь, прошу вас... одно слово.
– Что еще? Покороче и без кощунства – это в твоих же интересах.
– Ваша честь, я не могу уплатить двадцать серебряных монет. У меня осталась только горсть медяков. Видите ли, на пути в Никею меня ограбили...
– Шесть недель в городской тюрьме, затем покинуть пределы города. Следующий!
– Ваша честь! – глубоким, медоточивым голосом заговорила высокая дама с рыжими волосами. – Я уплачу за него штраф и прослежу, чтобы до захода солнца он уехал из города.
Взгляды немногочисленных зрителей устремились на нее, но рыжеволосая дама поднялась, прямая и гордая, как королева, и удалилась.
– Следующий! – рявкнул председательствующий, и к нему подтолкнули Тайлефера.
Жонглера обвиняли в богохульстве. Пять свидетелей описали фокусы с веревкой, которая то разваливалась на три куска, то вновь являла единство трех частей, а главное, они рассказали, как фокусник в непристойной и двусмысленной манере изображал непорочное зачатие Девы от Святого Духа, принявшего образ голубя. Судья-клирик произнес довольно пространную речь, цитируя Святое Писание и тексты Святых Отцов. Все аргументы сводились к тому, что подобного рода представление, несомненно, было кощунством. Тайлефер не защищался, он только плечами пожал да криво усмехнулся.
– Виновен по предъявленным статьям!
Судьи сблизили головы, на этот раз явно верховодил священнослужитель. Несколько минут они совещались. Аделиза схватила Уолта за левую руку, стиснула ее, сжимая все крепче. Краска отлила от ее лица, девушка кусала губы, ногти ее все глубже впивались в ладонь Уолта.
Судьи слегка отодвинулись друг от друга, чинно сели рядом. На лице клирика проступило ликование, почти блаженство. Председательствующий поднялся и шагнул вперед.
– Распять его! – рявкнул он. – За час до заката нынче вечером!
Уолт испытал миг торжества, но, к его удивлению, Аделиза выпустила его руку, подняла голову, и на ее лице тоже засияла улыбка.
– Как я рада! – воскликнула она. – Распятие – это у папочки здорово выходит. Я все боюсь, что однажды они додумаются его обезглавить. Вот тогда папочке и правда придется туговато.
Стражники дернули цепь, заставив Тайлефера стронуться с места, но фокусник еще не закончил представление: подняв скованные руки, он сдвинул шлем с головы ближайшего солдата; из-под шлема выпорхнули два белых голубя, они взмыли вверх, точь-в-точь как давешний, полетели вслед за Аделизой – девушка уже шла к выходу, – закружились над ней и опустились ей на плечи.
Когда она вышла на галерею, с архитравов и фризов вспорхнули еще четыре голубя и присоединились к первым.
Глава двадцать шестая
Сердце Уолта дрогнуло и потянулось к Аделизе. Как бы твердо она ни верила в искусство отца, думал англичанин, ей с братом еще может понадобиться его помощь, а потому весьма расстроился, обнаружив, что Квинт и таинственная дама спешат отбыть из города. Помимо всего прочего, он никогда не видел казни на кресте, а тем более столь заслуженной казни.
Но, прежде чем отправиться к судебному приставу и уплатить штраф, дама обязала друзей поступить к ней на службу. Она заявила, что направляется в Памфилию, в город Сиду на южном берегу Малой Азии, и не желает расставаться со своими деньгами, пока Квинт не поклянется стать ее спутником и защитником, поскольку до сих пор она вынуждена была путешествовать одна. Разумеется, Уолт может присоединиться к ним. Дама брала на себя все дорожные расходы. Чуть позже она сообщила, что осталась вдовой и продолжает дело своего мужа, купца, торговавшего маленькими, но чрезвычайно редкими и ценными камнями и различными изделиями из них, геммами, камеями и тому подобным, которые приобретает в Италии, а продает в Самарканде, покупая на вырученные деньги ляпис-лазурь. Ее спутника и телохранителя несколько дней тому назад загрыз медведь.
Торопливо ведя своих новых слуг по городским улочкам, дама предложила им называть себя Теодорой[215], для них, дескать, она была даром Божьим. Они заглянули в конюшни, где уже дожидалась белая верховая лошадь для дамы и мул, купленный ею для Квинта. Бойко поторговавшись с барышником, рыжеволосая дама обзавелась еще и ослом для Уолта.
Уолт отвел Квинта в сторону.
– Я не могу сесть на осла, – пробормотал он.
– Почему, собственно?
– Это меня унизит.
– Садись на него и унизь осла.
– Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.
Квинт покачался на каблуках, подергал свою кожаную шляпу за поля.
– Вон что, – протянул он. – Мы вспомнили о своем благородном происхождении, так, что ли? Ты бы в зеркало на себя поглядел.
Уолт осторожно коснулся запекшейся ссадины на щеке, взглянул на свою одежду, уже измазанную, а ведь только два дня назад ее стирал, но с тех пор ему пришлось поваляться в пыли, да и кровь на нее попала. Уолт ощутил в душе то чувство, которое давным-давно похоронил: стыд. Ему было стыдно.
– Ты ездил верхом после того, как лишился руки? – спросил Квинт.
– Нет.
– Так начни с нуля и проложи себе путь наверх.
Квинт повернулся к Уолту спиной и сосредоточился на собственных трудностях: судя по тому, как он карабкался на мула, он тоже не был мастером верховой езды: разве что не садился лицом в сторону хвоста, зато, чересчур задрав ногу, едва не перелетел через седло.
Теодора любовалась этим зрелищем с насмешливой улыбкой на полных губах, накрашенных так густо, что они утратили естественную форму. Убедившись, что оба надежно сидят в седле, она легонько коснулась бока своей лошадки гибким хлыстом, отделанным слоновой костью, и во главе своего маленького отряда выехала из конюшни, направившись к городским воротам. Только что нанятые «телохранители» неуклюжей рысцой поспешали ей вслед. Дорога вела в широкую долину, по которой текла река, бравшая начало в окрестных горах. Росшие рядом с водой редкие вечнозеленые дубы придавали долине сходство с парком.
Примерно в миле впереди путники увидели облако пыли, окружавшее тот самый караван, который часом ранее покинул город, выехав через дальние ворота. Прибавив ходу, они нагнали караван и перешли на шаг, что вполне устраивало Уолта, поскольку от тряской рысцы усиливалась боль в разбитых зубах и щеке.
Караван насчитывал около ста человек, включая женщин, детей и грудных младенцев, и около трехсот животных – в основном это были ослы и мулы, а также вереницы верблюдов, по шесть-семь животных в одной цепи. Процессию возглавлял осел, за ним следовал верблюд, на котором восседал проводник – старый, седобородый, но жилистый и державшийся очень прямо человек в длинных свободных одеждах из хлопка, в большом тюрбане, покачивавшемся, точно сигнальный фонарь на флагмане. Сыновья старика потребовали с новых попутчиков плату за покровительство и защиту.
Ветви дубов ежегодно обрубали, сжигая их на уголь, от низких стволов отходило не более двух-трех больших ветвей, раскинутых как руки. Эти деревья, похожие на странные распятия, напомнили Уолту о судьбе Тайлефера.
– Человеку, приговоренному к казни на кресте, не позавидуешь, – поделился он своими мыслями с Квинтом, стараясь не упускать из виду круп кобылы, на которой сидела Теодора. – Жаль детей, останутся сиротами. Но, признаться, у меня есть причины ненавидеть Тайлефера.
– За то, что он вынудил твоего Гарольда произнести какие-то там клятвы над парой высохших собачьих костей?
– А еще он вел нормандцев в бой, распевая «Песнь о Роланде».
– Это было искупление.
– Искупление?!
– Он сам покарал себя за то, что служил злу. Ведь он погиб в этом сражении.
– He погиб, как видишь. И вообще, что ты о нем знаешь?
– Мы с ним проговорили всю ночь напролет. Он умный человек и, на мой взгляд, хороший. Я рассказал ему о тебе, как ты служил Гарольду. Он просил передать тебе, что, на его взгляд, клятва почти не повлияла на исход событий, но в любом случае он сожалеет о своем поступке.
– Этим он не отделается! – Уолт не мог выразить свою мысль словами, хотя вполне отчетливо понимал, что клятва, вырванная обманом, кружила над полем битвы, как ворон, как падальщик. Никто из бойцов, ни с той, ни с другой стороны не забывал о ней, одних она лишала сил, других ободряла.
Квинт, кажется, догадывался о том, что происходило в душе Уолта.
– Знаешь, ведь эта клятва могла и Бастарда мучить, он же знал, что мошеннически вырвал ее у Гарольда.
– Не думаю. Ты просто не представляешь себе, что это за человек. Для него все средства хороши, а если пришлось пустить в ход хитрость – тем лучше, он еще и гордиться будет своим умом и коварством.
Квинт кивнул, соглашаясь.
– Может быть, ты и прав. Но поговорим лучше о Тайлефере. Прежний Тайлефер в самом деле погиб при Сенлак-Хилле.
– То есть как? Что значит – «прежний Тайлефер»?
– То и значит: придворный музыкант, богатый, всеми уважаемый артист умер. Он родился заново в облике бродячего фокусника. Ремесло как ремесло, куда лучше его прежних занятий. Достойнее и честнее быть бродячим фокусником, чем придворным льстецом. Он родился заново и поклялся следовать по стопам величайшего Фокусника всех времен, уподобившись ему и телом и душой.
Маленького ослика, такого низкорослого, что подошвы наездника касались бледной придорожной травы, приходилось понукать, пиная коленом в бок, чтобы шел побыстрее. Слабосильное животное все время отставало от других, а рысцой его гнать Уолт не мог, поскольку от тряски тут же обострялась боль в щеке и деснах.
– Ладно, на этот раз ему конец. И ты уж меня извини, если я скажу: и слава богу.
Они миновали равнину и спустились в ущелье, над которым нависали утесы, гораздо более высокие и обрывистые, чем в Чеддере, – больше Уолту не с чем было сравнить это место, он почти не запомнил расщелины в горах вдоль русла Рейна и Дуная, где побывал с год назад. Проносились красноклювые клушицы, свистом призывая друг друга. Там, где скалы омывались водой, росли изумрудный папоротник и большие голубые цветы. Над уступами, едва различимые в высоте, неспешно парили, описывая большие круги, орлы и стервятники.
Издалека донесся зов трубы, а потом грохот, от которого всколыхнулся воздух и задрожала земля. Неужто землетрясение? He похоже. Сыновья проводника помчались вдоль каравана, приказывая всем сойти с дороги, прижаться к скалам, а тем, кто остался на другой стороне, войти в обмелевшую реку. Прежде чем люди успели понять, что происходит, следовавшее в хвосте каравана семейство цыган было сброшено наземь, их пожитки втоптаны в грязь, упряжные мулы разбежались во все стороны: конный отряд влетел в ущелье и с ходу врезался в караван. Всадники были вооружены до зубов, предводители носили цилиндрические сплющенные наверху шлемы с плюмажем, каких Уолт никогда прежде не видел. По меньшей мере пять тысяч человек тяжелым галопом проскакали мимо, вздымая тучи пыли, сверкая до блеска надраенными доспехами. Стук копыт громом отдавался в узком ущелье. Посреди войска ехали знаменосцы, растягивая на двух шестах полотнище с именем Христовым.
– Кто это? Что за дьявол?!
Квинт обернулся к Уолту. Англичанин стал белый как мел, его била дрожь. Вид множества тяжеловооруженных всадников пробудил слишком болезненные воспоминания. Фриз даже забеспокоился, не забьется ли Уолт вновь в припадке, как несколько дней назад.
– Уверяю тебя, это не нормандцы, слышишь, не нормандцы. Думаю, это воины императора скачут навстречу вторгшимся в страну туркам-сельджукам.
Он пристально наблюдал, как Уолт борется с собой, как он выпрямляется, трясет головой, отгоняя тяжелые мысли. С презрительной гримасой англичанин снова взгромоздился на осла, свесив длинные ноги почти до земли.
Он поправляется, подумал Квинт. К нему вернулась наивная спесь дружинника, воспрещающая ездить на осле, он стойко пережил внезапную встречу с Тайлефером, совладал с воспоминаниями, которые пробудило появление всадников. Отчасти эти симптомы огорчили Квинта: от души желая своему другу выздороветь, он понимал, что, по мере того как Уолт будет становиться прежним, цельным Уолтом, он перестанет служить столь привлекательным объектом для изучения и сочувствия. Для настоящего интеллектуала, каковым считал себя Квинт, необразованный воин и мелкий землевладелец, с обычными для таких людей предубеждениями, не представлял особого интереса в качестве постоянного спутника и собеседника.
– А что это за город Сида, куда мы едем? – спросил Уолт.
– Насколько я понял нашу госпожу, это порт недалеко от Адалии. Она заверила меня, что там мы сможем сесть на корабль и добраться до Святой Земли. О, боже!
– Что случилось?
– Наша госпожа! Куда она подевалась? Мы потеряли ее из виду, когда мимо нас проезжали солдаты императора.
Они отыскали Теодору вблизи головы каравана в обществе еврейского купца и его семьи. По-видимому, Теодора легко нашла общий язык с этими людьми, как будто была знакома с ними раньше, во всяком случае, казалось, что у них много общего.
Обернувшись к Уолту и Квинту, она резко отчитала их за то, что они позволили себе отстать, и предупредила: если хотят и впредь пользоваться ее покровительством, они должны все время находиться рядом.
В Уолте нарастало подозрение: эта женщина торговала ляпис-лазурью, легко сходилась с евреями, и он был уверен, что ее рыжие волосы на самом деле – парик.
Еще два дня продвигался вперед караван, по утомительно петлявшей дороге, по ущельям и холмам, то вверх, к водоразделу, то снова вниз, уже по другую сторону. Караван проходил мимо деревень, мимо хижин, сложенных из нетесаных камней и жавшихся к невысоким крепостям. Из ворот выходили вооруженные люди, закутанные в шкуры горных животных, бородатые и усатые, словно викинги, но, в отличие от них, черноволосые. Они требовали пошлины, обычно товаром, а не деньгами – какой прок от денег посреди диких гор?
На ночь они останавливались в караван-сараях, не уступавших размерами иному собору, только на месте боковых приделов находились конюшни, а вверху, где полагалось быть церковным хорам, комнаты для постояльцев. Дважды на протяжении двух ночей подряд в этих караван-сараях жизнь Уолта и Квинта подвергалась опасности.
В первый вечер Теодора дала Квинту денег на покупку рубленой баранины и трех лепешек. Она велела раздобыть где-нибудь решетку, нажарить котлет и одну принести ей в комнату, которую дама сняла на галерее. Продукты Квинт купил у какого-то калеки. Разносчик обмотал культю правой ноги в рваные тряпки, его руки, особенно ногти, были черны от грязи, и, несмотря на решительность, с какой этот человек расталкивал более опрятных продавцов, Квинт предпочел бы не брать у него еду, однако Уолт из солидарности с увечным сказал: «Почему бы и нет? Ему деньги нужнее».
Они отнесли мясо в отведенный им сарай, разожгли соломенным жгутом несколько больших кусков угля, и вскоре на решетке зашипели котлеты, пуская сок и жир. Уолт занялся лепешками, но, едва надрезав одну из них, вскрикнул и выронил нож.
Огромная оранжевая многоножка, не запеченная в хлебе, а нарочно засунутая в готовую лепешку – ведь она была еще жива, хотя нож разрезал ее надвое – яростно извивалась, поднимая жесткую голову, угрожающе шевеля парой серповидных жвал, на кончиках которых уже выступили крошечные капельки яда. Услышав испуганный и гневный вопль Уолта, Квинт бросил решетку, вырвал у приятеля половину лепешки, швырнул на пол и изо всех сил вдавил подошву, пока не затрещали хитиновые осколки и животное не превратилось в месиво из множества ног и желто-коричневой жижи. Это существо в длину было не меньше раскрытой ладони взрослого человека, от кончика мизинца до кончика большого пальца.
– Укуси она тебя, ты почувствовал бы страшную боль, – выдохнул Квинт, – началось бы воспаление и гангрена, а потом – смерть.
– Торговец пытался убить меня! – вскрикнул Уолт.
– Или меня. Он не мог предвидеть, кто из нас будет резать хлеб.
– Что с остальной едой?
– Выбрось все. Пусть Теодора даст нам еще денег или обойдется без ужина.
– Но с какой стати он сделал это? Это не случайность.
– Стоит разыскать его. Поговорить.
Но, разумеется, торговец давно сбежал, и найти его не удалось.
На другое утро, уже в другом караван-сарае, сворачивая мешок, который они по-прежнему использовали по ночам как общую подстилку, Квинт обнаружил под ним большого тарантула, полосатого, обросшего волосами. Странно, как им удалось во сне не раздавить паука. Уолт подумал, что скорее всего в плитах, на которых они расстелили мешок, оставалась щель, однако, когда он отодвинул в сторону неплотно прилегавший камешек, отверстие показалось Уолту чересчур маленьким для такого гиганта, и норы там не было. Значит, чудовище не пряталось между камнями, чтобы выползти ночью. Откуда же оно взялось?
– Укус этой гадины заставляет человека танцевать, – заметил Квинт, взяв в руки сандалию и изо всех сил молотя по тарантулу. – Будешь плясать и плясать, пока не рухнешь замертво.
– Я буду? Или ты? – намекнул Уолт.
– Или я.
Раны на щеке Уолта гноились, челюсть распухла так, что лицо напоминало раздутый свиной пузырь, разрисованный ребенком, или доверху налитый бурдюк. И болело зверски, особенно во время еды.
Глава двадцать седьмая
На третий день около четырех часов пополудни они подошли к Дорилее, стоявшей на развилке двух дорог. Одна дорога вела на юго-восток, к древнему городу Иконию и дальше, к гаваням южного побережья, откуда корабли плыли на Кипр, в Левант и в Палестину. Это был важный торговый путь, однако он существенно уступал второму: то было начало Золотого Пути в Самарканд и далее в Катай. В Дорилее караван разделился надвое, многие купцы направлялись на край света за специями и шелками, надеясь выменять их на золото, янтарь, драгоценные камни и жемчуга. Как раз таким добром торговала и Теодора, но теперь она ехала не в Самарканд, а, как она сказала, домой, в Сиду, поскольку весь запас ляпис-лазури она уже продала оптовому торговцу в Никомидии.
Когда караван подошел к надежным городским стенам, сложенным не из кирпича, а из каменных блоков, Уолт и Квинт обратили внимание на троих людей, расположившихся под здоровенным старым вязом. Приблизившись к ним, Квинт и Уолт оторопели и вытаращили глаза от изумления; что до Уолта, то его даже холодный пот прошиб. Так и есть: вот упряжная лошадь и осел, оба нагруженные немалой поклажей, вот невысокий темноволосый печальный мужчина, прелестная девочка лет четырнадцати, мальчик на пару лет помоложе.
– Призраки! – пробормотал Уолт.
– Они отбрасывают тень, – возразил Квинт.
Друзья отделились от каравана, не обращая внимания на прозвучавший им вслед гневный и укоризненный оклик Теодоры. Спрыгнув с мула, Квинт принялся поочередно обнимать Аделизу, Алена и Тайлефера. Уолт медлил, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Внезапный восторг, охвативший его при встрече, застиг Уолта врасплох, ему лишь с трудом удалось убедить себя, будто он вовсе не рад чудесному спасению Тайлефера. Высвободившись из объятий Квинта, фокусник смущенно пожал плечами, насмешливо сморщил нос и ограничился короткой репликой:
– Как видишь, я тоже воскрес на третий день.
– Неправда! – попрекнула его Аделиза. – Папочке бы все шутки шутить. На рассвете он слез с креста и к вечеру почти выздоровел.
И все же Тайлефер еще не вполне оправился, лицо его казалось даже более бледным и мрачным, чем прежде, новые морщины проступили на лбу и щеках, на руках еще оставались бинты, ходил он с трудом, опираясь на плечи своих детей. То, что он подвергся казни, не вызывало сомнений, но Тайлефер не собирался никому объяснять, каким образом он спасся да еще опередил их на пути в Дорилею.
Итак, караван разделился, меньшая часть его направилась на юг с другим проводником, низеньким круглолицым греком с огромными усами и щетиной на подбородке. Он повел своих спутников вокруг городской стены к караван-сараю, расположенному к югу от городских ворот. Здесь Теодора и ее новый знакомец расположились в удобных апартаментах на первом этаже, а всем остальным велели по очереди дежурить во дворе.
– Там разложили костры, и ночи пока не холодные, – заявила Теодора.
Неправда – потому-то и разложили костры, что в ту пору, после осеннего равноденствия, высоко в горах сразу после захода солнца всех начинал пробирать озноб. Два десятка путешественников собралось тесной кучкой у огня, передавая друг другу кожаные фляги с вином, то и дело подбрасывая в костер пахучие сосновые дрова, так что от ночного холода никто особо не страдал. Они жарили курятину над костром, насадив ее большими кусками на палки или ножи, и пили вино, Уолт, пожалуй, больше всех. Хозяин то и дело подливал во фляги и бурдюки из здоровенного бочонка. Вино выдерживали в бочке больше года, и оно сделалось крепким и немного терпким, темным, насыщенным.
Квинт и Тайлефер тут же погрузились в сложную богословскую дискуссию. Уолт, несколько обиженный тем предпочтением, которое бывший монах оказывал бывшему менестрелю, не прислушивался к разговору, тем более что эта парочка, похоже, продолжила спор, начатый ночью в никейской тюрьме, с того самого места, на котором им пришлось прерваться. Ничего не понимая в их рассуждениях, Уолт поневоле выбрал себе в собеседники винный мех, вмещавший две кварты. Так ему легче было перенести присутствие фокусника.
– За три дня нашего знакомства, – начал Квинт, вытирая горлышко очередной фляги и передавая ее дальше, – я наблюдал несколько твоих представлений, целью которых, очевидно, было пародировать учение Церкви и представить в глупом виде самые основы христианской веры. Ты передразнивал учение о единстве Троицы, Благовещенье, страдания и Воскресение Христа. Поневоле я задаюсь вопросом: зачем ты это делал?
Тайлефер, оторвавшись от фляги, пристально посмотрел на своего собеседника поверх горлышка довольно большого сосуда, который в мерцающем свете костра выглядел уж вовсе гигантским. Во взгляде фокусника мелькнуло подозрение: несмотря ни на что, Квинт мог все-таки оказаться агентом духовной полиции.
– Признаюсь, меня это потому заинтересовало, – поспешно продолжал Квинт, угадав его мысли, – что моя вера тоже подверглась чересчур тяжкому испытанию: слишком уж много нелепостей в этом учении. Мне всегда казалось, что утверждение Тертуллиана «Верю, ибо абсурдно» принадлежит к числу самых идиотских из всех идиотских благоглупостей Отцов Церкви.
Тайлефер сделал еще глоток, убедился, что фляга пуста, опустил ее и внезапно икнул, точнее, рыгнул. Сидевший рядом с фокусником погонщик, жирный коротышка, взял сосуд из его рук, перевернул, потряс и разразился бранью, смысл которой был вполне ясен, хотя он ругался на диалекте Памфилии.
Тайлефер обратил на него взгляд больших, нежных, исполненных сострадания глаз.
– Друг мой, – вкрадчиво сказал он, – пойди к колодцу и наполни доверху этот сосуд – в нем ты обнаружишь все, чего может пожелать разумный человек.
Погонщик, немного поколебавшись, поднялся на ноги и отошел. Квинт вопросительно приподнял брови, Тайлефер безмолвно пожал плечами, слегка выпятив губы.
Подвинувшись ближе к Квинту, тем самым окончательно отстранив Уолта от общей беседы, волшебник зашептал ему быстро, настойчиво, но даже в волнении не повышая голоса:
– На чем зиждутся догматы нашей религии? Иначе говоря, чем она так привлекает людей? Во-первых, она сулит человеку вечную жизнь, требуя взамен только одного: чтобы он поверил, будто он избран, отмечен Богом. Для человека, с присущим ему избыточным самомнением, поверить в такое совсем не трудно, а если тебе недостает самонадеянности, лазейка все-таки найдется: вечная жизнь обещана также смиренным и кротким. Далее, эта религия предлагает нам довольно разумные и вполне приемлемые этические правила, основанные на Десяти Заповедях, дополненных заветом любить Господа и друг друга, но в то же время наши наставники заявляют, что, как бы хорошо ты себя ни вел, важно не это, а принадлежишь ли ты к числу избранных.
– Вот это и стало для меня камнем преткновения! – воскликнул Квинт. – Вот почему еще в монастыре я сделался последователем британца Пелагия. Меня изгнали из ордена за то, что я пытался отстаивать его взгляды. Не хочу распространяться об этом, но меня объявили еретиком и собирались уже предать в руки светских властей. Я едва ускользнул.
Тайлефер охотно продолжил эту тему.
– Да и наш на редкость ученый судья, похоже, что-то заподозрил и тоже заговорил о Пелагии. Как это? «Если должен, могу»? Но Пелагий зашел еще дальше, а именно он учил, что человек обладает свободной волей и может самостоятельно, без помощи благодати, сделать выбор между добром и злом...
– Да, да, да! – горячо подхватил Квинт. Подобный энтузиазм весьма типичен для собеседников, наделенных интеллектом и притязающих на определенные познания в той или иной области, когда они, оседлав каждый своего конька, обнаруживают, что скачут бок о бок к уже ясной им обоим цели. – И разве тем самым Пелагий не возвратил человеческому роду то высшее достоинство, которым наделял его иСтагирит Аристотель, рисуя портрет Человека великодушного, как он его называет?
Но тут вернулся погонщик и прервал его речь:
– Я сделал, как ты сказал, враль проклятый, а в ведре всего-навсего вода!
Тайлефер попытался было убедить пьяницу, что подвыпившему человеку нечего больше желать, кроме глотка воды, но поймал выразительный взгляд Квинта и проворно достал пару медяков из своего кошелька.
– Извини, – сказал он, – пойди и наполни за мой счет флягу тем, чего тебе хочется.
Погонщик рассмотрел монеты при свете костра и поплелся обратно к бочонку.
Тайлефер снова пожал плечами.
– Порой выигрываешь, порой проигрываешь, – философски заметил он.
– Прости, – сказал Квинт, которому неудача Тайлефера напомнила об исходном пункте беседы, – прости, но я хотел бы вернуться к началу нашего разговора. Зачем ты подражаешь чудесам?
– Я как раз собирался тебе ответить. Большинство людей принимает свидетельство Иисуса благодаря чудесам, а я стремлюсь убедить всех, что подобные чудеса доступны любому смертному, если он как следует изощрится в искусстве иллюзии и внушения...
– Значит, ты хочешь доказать, что Иисус был фокусником?
– Вот именно. Фокусником из фокусников, но все же – фокусником.
Уолт решил, что с него довольно. Святошей он не был, почитал Рождество и Пасху, а в остальное время ограничивался коротенькой молитвой поутру и на сон грядущий, но его товарищи хватили через край. Англичанин поднялся, пробормотав, что отойдет по нужде, и решительно зашагал прочь, слыша за спиной непотребные стишки, которые принялся декламировать Квинт и охотно подхватил Тайлефер:
Тому, кто не верит, что я – божество,
Не дам ни капли вина моего.
Пусть он мне заплатит сперва за труды –
Ведь сделать не просто вино из воды.
Тайлефер поднялся, покачиваясь, дирижируя флягой. Подняв вверх забинтованную правую руку, он дал Квинту знак помолчать, а сам запел соло, дурашливым, бездумно веселым голосом[216]:
И зло, и добро я творил, как умел,
А чтоб усомниться никто не посмел
В святой и высокой моей правоте,
Себя я позволил распять на кресте.
К счастью, никто, кроме Квинта и Уолта, не мог бы разобрать диковинную смесь нормандского с английским, на которой пел Тайлефер. Тем не менее Уолт снова ощутил былую неприязнь к этому шарлатану.
Отойдя в сторону и тоже пошатываясь, он искал местечко помочиться. Чудо превращения вина в воду. Пьян в стельку. Целый мех вина осушил. Зато под хмельком боль в челюсти притихла, стала почти терпимой.
Подняв голову, Уолт увидел над собой окно, в котором мерцал огонек единственной свечи. Все расплывалось перед его глазами, стоявшая у окна женщина в белой вышитой рубашке сняла с головы пышный рыжий парик, тряхнула головой, черные локоны рассыпались по плечам. Ну и что, подумал Уолт, женщины – они и есть женщины, обманщицы. Лишь один, уже почти дремлющий уголок сознания предостерегал его: это что-то значит, нужно быть настороже. Силуэт женщины в окне показался знакомым. Имя так и вертится на языке. Иезавель?[217] Нет, как-то по-другому.
Наступив на спящего, он извинился, потом опять извинился, распахнув дверь в ближайшее стойло и едва не упав – так она легко подалась. Взнузданный осел фыркнул и снова принялся с шумом жевать зерно из своей кормушки, погонщик, обрабатывавший служанку, зажав ее в углу у стены, глянул через плечо и обругал незваного гостя. Уолт снова вывалился на улицу, добрался до соседнего стойла. Его обитатель как раз мочился, обильно, словно лошадь, а не мул, и Уолт счел – большого вреда не будет, если он присоединится к нему. Неуклюже, одной рукой, он извлек свой инструмент, полюбовался длинной струей, блеснувшей в свете костра, а когда струя сникла, Уолт слегка поласкал себя, зажав крайнюю плоть между большим и указательным пальцами, подвигал туда-сюда. Много уже времени прошло, вздохнул он и вспомнил, как танцевала перед ним Аделиза.
Он вышел, звезды вращались вокруг какой-то неподвижной точки над его головой, дым догоравшего костра поднимался к небу, голубой пылью припорошив густой, темно-лиловый мрак небосвода. Казалось, над головой нависает крона мирового древа, отяжелевшая от груза пурпурных плодов. Покачиваясь, сворачивая то влево, то вправо, словно заблудившаяся, забывшая свой путь планета, Уолт бродил среди спящих – лежат, словно окаменевшие волны, словно киты, укачиваемые вздымающимся океаном – и наконец рухнул между Аленом и Аделизой.
Тайлефер с Квинтом, чередуясь, пели, пытаясь положить слова на мелодию «Veni, Creator Spiritus»[218]. Нелегкая задача, но они с ней как-то справлялись:
Мамаша моя непорочной была
И от голубка невзначай понесла.
И вот, триедин и, как папа, крылат,
Я в небо вознесся, всеблаг и тресвят.
Тонкими загорелыми пальцами Аделиза потянулась к его правому запястью, погладила культю. Как приятно! Уолт забылся тяжелым хмельным сном, по-прежнему мучимый болью в щеке и разбитых зубах.
Глава двадцать восьмая
Прянул он с берега, и сомкнулись над ним бурливые волны. Рассвет обратился в день, день стал вечером и ночью, а ночь рассветом, прежде чем коснулся он дна. Полвека чудовище, драконова самка владела глухоморьем, всей ширью и глубью его, охраняя от смертных свои пределы. Ныне почуяла лютая тварь, что проник человек в ее логово, вцепилась когтями в храбреца, но защитила ратника вязь кольчуги, не пробили лапы броню.
Жадно, словно одержимая похотью, прижала она его к себе и увлекла в бездну, впивались морские чудища в железный нагрудник, таращились голодные глаза.
К обманчивой приманке света плыла она, пока не достигла безводных покоев, палат украшенных, где грудой лежали сокровища и на стенах висело оружие. Ярко вспыхнуло пламя, и предстал герою смертоносный лик. Он занес клинок – здесь вода не мешала размаху – всю силу рук вложил в удар, и меч запел боевую песнь. Много шлемов разрубил этот меч, сокрушал он плетенье кольчуги, обрекая гибели злосчастных воинов, но отскочило острие от плоти драконицы, притупилось о ее кость. В гневе отбросил воин дамасский меч, с рукоятью, обвитой змеями, – себе доверился, положился на силу рук своих, роди неувядающей славы рискнул быстротечной жизнью. Намертво стиснул он плечи врагини и грянул ее оземь. В ярости извивалась драконица, опутала, оплела ему ноги, зашатался воитель и упал. Занесла она нож над ним, пылая местью за сына, отпрыска единственного, но выдержала кольчуга силу удара.
Вырвался храбрый, поднялся на ноги и увидел на стене меч, отраду воина. Выкованный великанами, огромный и тяжкий, только герою клинок был под силу. Свирепым ударом сокрушил ратник хребет чудовища, отсек голову, и рухнула наземь мертвая туша. Задымилось лезвие меча, железо расплавилось, только золотая рукоять уцелела – огнем полыхала кровь змеиная, ядом кипела кровь морской владычицы, погибшей в пещере. Взял победитель вражью голову, стиснул золотую рукоять и проложил себе путь на сушу Успокоились воды, смертью чудовища очищенные от прежней скверны, перестали бурлить кровью, и стихла гроза под облаками...[219]
Уолт обливался потом во сне, он изверг сперму, обильную, словно у кита, семя залило живот, и напряженное копье наконец-то утомленно обвисло. Резкий запах проник сквозь одеяло, наполнил ноздри Уолта и Аделизы, она что-то забормотала, вздыхая во сне, уткнулась лицом ему в плечо. Два года, два года, немалый срок.
– Этот твой приятель, – кивком указал Тайлефер на Уолта, – держу пари, бравый жеребец. Не хотелось бы, чтобы он попользовался моей дочерью под общим одеялом.
– Это вряд ли. Он еще не собрал себя из осколков. У него травма.
– Что-что?
– «Травма» – по-гречески «рана». Я обозначаю этим словом раны души. Боюсь, даже до сражения, в котором он потерял руку и веру в себя, он мало на что был способен. Он боится женского оргазма, когда ногти царапают спину, зубы впиваются мужчине в плечо. Типичный англосакс. Женщина для него – воплощение ужаса. Вот он, герой-завоеватель...
Речь обоих собеседников оставалась внятной и связной, только темп замедлился, словно они перенеслись в иное измерение, где время течет медленнее, чем в нашем мире.
– Кажется, я понимаю, – подхватил Тайлефер. – Труби, труба, бей, барабан! Воины отправляются в поход в длинных ладьях. Женщин с собой не берут. Изогнутая корма, голова дракона на носу, режь мужчин, насилуй баб. Они захватывают новые земли и поселяются там, но отныне и навеки женщины для них – чуждая, враждебная раса...
– Они прядут и ткут в темных хижинах, – нараспев продолжал Квинт, – они произносят заклятия, варят зелья, кровь течет у них из срамного места, они душат своих первенцев пуповиной, они вечно замышляют жестокую месть своим властителям. Да, понять это можно. Грехи отцов лягут на детей, до третьего и четвертого колена...
– И так далее. Пока не разорвется круг.
– Круг?
– Цепь, я имел в виду. Пока эта цепь не прервется.
Квинт кивнул, одобрив исправленную метафору, и принялся развивать свою мысль:
– Да, это продолжается вовеки, приводит ко все новым извращениям, любые отношения между полами постоянно нарушаются, искажаются, обращаются во зло.
– Что-то вроде племенной памяти?
– Черт, нет. То есть – нельзя сказать, что это буквально передается с кровью. Так или иначе, завоеватели и туземцы тут же перемешиваются, в девочках и мальчиках течет одна и та же кровь. Но определенная модель, я бы даже сказал на греческий лад – парадигма поведения передается от матери к дочери, от отца к сыну. Или нет, не совсем так.
– Не совсем?
– Этим дело не исчерпывается. – Квинт разошелся вовсю, тема явно задела его за живое. – Мальчики, подрастая, учатся не только у отцов, но и у своих сверстников. Субкультура мальчиков-подростков воспроизводится повсюду, где живут люди, и в основе ее всегда грабеж и насилие. Женщины – шлюхи, врежь посильнее и втыкай свое орудие. А потом их настигает чувство вины, которое влечет за собой страх...
– Да, да! Страх! – воскликнул Тайлефер. – Они боятся возмездия. Женщины-де сговариваются против нас. Там, на кухне, в поле, в коровнике, они тянут коров и овец за сосцы, ш-ш, льется в подойник молоко, ш-ш, шепчутся они, собирая в лесах белену и наперстянку, паслен и смертоносные грибы, и снова шепчутся и сплетничают. Но ведь это касается отнюдь не одних англосаксов, не только англичан, которые насилуют женщин, а потом раскаиваются и превращают своих возлюбленных то в хрупкий и нежный цветок, то в кумир на пьедестале, а то в ведьм и чудовищ. Нет-нет, это происходит повсюду, где завоеватели являются из чужой страны и берут силком местных женщин, убив сперва их мужей и сыновей.
– А такое случается почти везде, – согласился Квинт. – Разве что евреи представляют собой особый случай. Когда они пришли в Ханаан, женщин они привели с собой. Женщины и мужчины этого народа уважают друг друга, мужчины не идеализируют женщин, но и не пытаются господствовать над ними, а у женщин нет потребности в мести.
Этот разговор пробудил в Уолте давние воспоминания. Погружаясь в сон, он вновь видел перед собой то отдельные, то сливавшиеся друг с другом образы корнуольской девочки, насмерть забитой Ульфриком, и Эрики, его единственной любви, дочери владетеля Шротона. У них с Эрикой все было хорошо, как бы там ни разглагольствовал Квинт. Хорошо? Чудесно, просто замечательно, черт побери! Уолт прижался к Аделизе и заснул глубоким и более спокойным сном.
Глава двадцать девятая
Камешки, которыми был вымощен внутренний дворик, впились ему в бок и в ягодицы, спина замерзла. Уолт повернулся и только теперь почувствовал, что живот его вымазан чем-то скользким, липким и теплым. Винные пары туманили рассудок, он с трудом сообразил, в чем дело: во сне он прижимался к Аделизе, левой рукой обхватил ее спину, единственной ладонью придерживая девушку за плечо. Ее маленькая аккуратная головка покоилась на плече Уолта, темные волосы касались его носа и губ, теплое дыхание веяло ему на грудь. Нижняя часть ее тела лежала на Уолте, поперек его живота, одно колено Аделиза приподняла во сне выше другого, и Уолт, к своему смущению, обнаружил, что обрубок, оставшийся от его правой руки, проник между ног девушки. В культе бился пульс, ее щипало и покалывало, вернулась способность к осязанию, которую рука полностью утратила два (или три?) года тому назад, когда стихла боль от раны и осталась ледяная пустота – тогда Уолт скреб и грыз зубами безобразный обрубок, пытаясь хоть таким способом пробудить его к жизни.
Он был настолько пьян, что на миг ему померещилось, будто кисть отрастает снова: крошечный, как у младенца, кулачок пробьется наружу через уродливый шрам и постепенно сформируется нормальная правая рука. Он поспешно потянул обрубок к себе, но пальцы Аделизы сомкнулись на искалеченном запястье, вынуждая руку оставаться там, где она была. Девушка быстро задвигала бедрами, потерлась ими о культю, подталкивая ее внутрь себя, удовлетворенно вздохнула.
Светало, запели петухи, кто-то проснулся, дрожа от озноба и озираясь с испугом – все вокруг было покрыто тонкой пленкой инея – встал кряхтя и раздул угли, оставшиеся от вчерашнего костра. Вслед за первым путешественником поднялись, зевая и потягиваясь, все остальные и разбрелись по стойлам, чтобы справить нужду. Из колодца ведром черпали воду, две служанки обносили гостей горячими, только из печи, лепешками и парным, хранившим тепло вымени козьим молоком. Час спустя упряжных и верховых животных вывели на равнину, пухлый проводник-грек поправил на голове шапчонку, его верблюд, покачиваясь, тронулся с места, и караван двинулся в путь.
Три дня они шли по дороге, все так же петлявшей среди гор, но здесь долины были шире, а горы не столь отвесные, как прежде, и у подножия простирались луга. К холмам лепились деревенские хижины, сложенные из кизяков. Один дом громоздился над другим, так что плоские крыши превращались в ступеньки, и обитатели верхних домов развешивали свое белье или ложились погреться на послеполуденном, все еще жарком солнышке, буквально над головой тех, кто жил ниже. Никаких достойных упоминания событий не происходило. Держалась хорошая погода, караван шел не торопясь, не было нужды переходить на рысь, и это было на пользу Уолту, которому разбитые зубы напоминали о себе только по ночам.
Хозяйка их, кажется, поссорилась со своими новыми друзьями, во всяком случае, она больше времени проводила в компании Уолта и Квинта, просила их не отлучаться и всегда держать оружие наготове – она боялась разбойников и прочих напастей, поскольку они заехали уже в довольно дикую местность, где и деревень-то почти не попадалось. Квинта она вовлекала в философские беседы, а когда караван останавливался отдохнуть или напоить животных, уговаривала Тайлефера показать какой-нибудь фокус. Тайлефер угрюмо отказывался, вместо этого он предлагал Алену и Аделизе продемонстрировать свое искусство – для практики, как он говорил.
На ночь они устраивались уже заведенным порядком. Уолт всегда обнимал во сне Аделизу, и хотя эти объятия нельзя было бы назвать совершенно невинными, ни ему, ни ей они не причиняли вреда, более того, с Уолтом творились чудеса: с каждым днем застарелые шишки на его культе все больше рассасывались, кожа обретала чувствительность, он ощущал теплое покалывание в руке, когда Аделиза ласкала ее под ворохом одеял и плащей, которыми они укрывались. С раной на лице дело обстояло хуже. Снаружи она затянулась, и щека быстро заживала, а вот разбитые зубы все ныли, а порой адски болели.
В полях, с которых недавно был собран урожай пшеницы, жгли стерню. Оранжевое пламя продвигалось широкими рядами, точно вражеская армия, и окутывало поля густыми клубами голубовато-белого дыма. Крестьяне шли на противника с граблями и щитами из плотной кожи на высоких шестах – с их помощью они прибивали к земле огонь, который грозил распространиться на сады и леса. Здесь выращивали не только пшеницу, но и какие-то желтоватые стебли, высотой примерно по пояс, увенчанные коричневой коробочкой в форме яйца. Коробочка шуршала и щелкала на ветру, а потом лопалась, и порошком сыпались крошечные черные шарики. На коробочках виднелись аккуратные спирали надрезов, их сделали, когда плод был еще зеленым и сочным, не разрушив внутреннюю камеру с семенами. Вокруг надрезов еще сохранились следы коричневой, почти черной пасты, оставшейся от засохшего сока. Высокие стебли тоже сжигали, от них шел едва заметный сладковатый дымок, кое-кто из путников впадал от него в дремоту, другие начинали беспричинно хихикать.
Третий день пути от Дорилеи завершился, как и все предыдущие, в караван-сарае, стоявшем за городскими стенами. Стены эти возвышались на почти отвесной скале, с выступа которой можно было обозреть всю простиравшуюся на восток равнину: они добрались до плато в самом центре субконтинента. Приземистая черная крепость, громоздившаяся на выступе скалы, словно сжимала в своих объятиях утес. На ее башнях развевались большие знамена с монограммой «ХР» и другими христианскими символами. У подножия горы примерно в полумиле от караван-сарая расположился военный лагерь, из-за ограды путники слышали воинственный зов трубы и ржание коней.
– Черный Замок опия, – сообщил Квинт, входя в ворота караван-сарая. – Так называют это место здешние обитатели, хотя с тех пор, как триста лет назад император Лев Третий[220] разбил арабов, византийцы именуют ее «Никополь».
– Откуда ты все знаешь? – раздраженно спросил Уолт. К концу дня разбитые зубы казались раскаленными добела стальными стержнями, боль пронзала мозг.
Квинт поморщился, задетый его тоном.
– Я всегда стараюсь все выяснить, – сказал он. – Я любознателен от природы и уж по меньшей мере хочу знать, где я в данный момент нахожусь и что это за место. И, кстати говоря, тут мы найдем средство от боли, которая все еще мучает тебя.
Они поужинали у костра. Теодора – это стало уже привычным – сидела рядом, предпочитая их общество одинокой спальне наверху. Квинт обследовал стойла вокруг караван-сарая и вскоре принес маленький черный шарик, завернутый в ломкий коричневый лист. Присев на корточки перед Уолтом, он протянул ему шарик:
– Возьми на палец и разотри хорошенько десны, где зубы сломаны, потом еще языком размажь. Накопи побольше слюны и не сразу сглатывай.
– И что будет?
– Боль пройдет.
– И ты увидишь сны – такие сны! – добавил Тайлефер.
– Но сперва, как только утихнет боль, мы разыщем цирюльника или хотя бы кузнеца.
Уолт резко выпрямился.
– Ни в коем случае. Я не позволю выдирать зубы.
Аделиза опустилась на колени позади Уолта, сомкнула руки у него на груди, потерлась щекой о его щеку.
– Другого выхода нет. У тебя изо рта пахнет, как от падали, три дня пролежавшей на солнце.
Ален привел высокого бритоголового человека. В переднем кармане его кожаного фартука зловеще поблескивали какие-то инструменты. Зубодер наклонился над Уолтом и полез короткими пальцами в раскрытый рот – вроде бы только затем, чтобы обнаружить источник мучительной боли. На самом деле он искусно прятал в руке пару страшных щипцов, и пока Квинт, Тайлефер и Ален помогали Аделизе удерживать плечи и голову Уолта, цирюльник ловко удалил первый, самый дальний пенек.
Оставалось еще пять сломанных зубов, но второй раз Уолта врасплох не застали: крепко сжав челюсти, он извивался и рвался из дружеских объятий, пока кровь и гной не хлынули носом, так что он едва не захлебнулся. Волей-неволей ему пришлось открыть рот, и гигант в кожаном переднике тут же воспользовался удобным моментом и выдрал второй зуб. Вокруг собрались зеваки, лица их казались гротескно-уродливыми в свете костра, они гоготали и улюлюкали – еще четыре разбитых зуба долой изо рта, и осколки посыпались в подставленную Теодорой миску.
Когда все закончилось, Квинт дал Уолту вина прополоскать рот, потом воды, потом еще вина, пока не унялось кровотечение; он принес еще один черный шарик, укрыл друга одеялом, подоткнув его со всех сторон, и велел ему спать, а все остальные собрались у костра и, хлебая из мисок куриный бульон с кусочками мяса, продолжили ученый разговор, длившийся уже не первый вечер.
– Жизнь, – начал Тайлефер, – это калейдоскоп мимолетных ощущений, над которыми наш разум кружит, словно голубь Ноя над покрытой водами землей. Мы пытаемся с помощью слов извлечь какой-то смысл из этих впечатлений, но значение, содержащееся в них, все время меняется, и строить на подобном основании систему, способную объяснить мир, – все равно что возводить дом на песке, а Назарянин советовал воздержаться от подобных попыток.
– И предлагал довериться Церкви и ее учению, стоящему на твердой скале, – со свойственным ему суховатым юмором вставил Квинт.
– Но и Церковь учит словами, а что такое слова? Слово – не предмет, а знак, всего-навсего знак.
– Камень есть камень есть камень, – подхватил Квинт, вытаскивая большой булыжник из груды камней, отброшенных строителями. – Если я ударю тебя этим камнем, ты узнаешь в нем камень. Но где таится его каменность? Одним и тем же словом я могу обозначить и этот осколок в моей руке, и ту огромную скалу, на которой стоит черный замок. Этим камнем я могу ударить тебя, с того, большого, – столкнуть.
Тихим, но уверенным голосом вмешалась Теодора, поправляя непослушный локон рыжего парика:
– Разве камень, с которого ты мог бы спихнуть Тайлефера, не имеет ничего общего с тем, которым ты можешь его ударить? Разве не существует такой вещи, как каменность? Разве Пантократор не создал одной рукой камень, а другой песок? Погоди-ка... – она прикинула что-то, бормоча про себя и загибая пальцы, – да, на третий день. Так вот, каменность. Разве в разуме Всемогущего еще до того, как он на третий день приступил к работе, не было каменности, той сущности, которая присутствует во всех камнях и скалах и делает их тем, что они есть?
– Бывают, например, камни прочные, не разрушаемые, – вставил Тайлефер, отрывая винный мех от губ и вытирая его раструб, прежде чем передать сосуд другому жаждущему. – Но это я так, к слову. Надо подумать.
– Не надо пытаться заглянуть в разум Бога-Творца, – заговорил Квинт.
– Кошмар и ужас, – не удержался от очередного замечания Тайлефер. – Разум Творца! Идея камня! Банка с червями!
– Но, как ты сказала, на третий день были созданы камни и скалы во всем разнообразии форм, размеров, свойств, вещества, из которого они состоят, и на шестой день человек абстрагировал эти формы, размеры и качества, создав «идею камня» – только так и не иначе.
– Однако Адам дал камням и скалам имя, опираясь на идею камня, восприняв эту сущность, – настаивала Теодора.
– Не следует изобретать сущности сверх необходимости, иными словами: если можешь обойтись без них, будь добр обойтись[221].
– Остро, – похвалил Тайлефер, – ох и остро!
Уолт слабо застонал во сне. Аделиза склонилась над ним, утерла подолом своего плаща струйку крови, вытекшую из уголка его рта, опустилась рядом на подстилку, натянула на себя и Уолта как можно больше одеял, прижалась к нему, обнимая его, как во все прежние ночи, вот уже почти целую неделю.
Уолту снился сон. На этот раз сон был свободен от страха и боли. Уолт чувствовал прикосновение женских рук, обнимавших его, опий пьянил сильнее вина, и Мнемозина закружилась в танце с Морфеем, уводя спящего в счастливый мир прошлого.
Глава тридцатая
Увидев его, она обратилась в бегство, он преследовал ее по краю маленького ячменного поля. Колосья уже поднялись на фут от земли, сделались изумрудно-зелеными. На бегу они спугнули с гнезда пару жаворонков, и те закружили над зеленым океаном травы, там, где сине-серые тучи мчались наперегонки, словно подражая людям. На краю поля, где начинался откос высокого холма, росли кусты бузины, почки только-только начали распускаться гроздьями крошечных белых звездочек. Теплый воздух был наполнен их острым и сладким ароматом.
Кто была она? Эрика, дочь владетеля Шротона, чьи земли примыкали к землям его отца, с чьими братьями он вел потешные войны и купался в Стауре у мельничной запруды. Эрика была всего годом моложе. Уолт помнил, как она росла, как неуклюжий малыш, непрерывно сосавший палец, превратился в тощего, смахивавшего на мальчишку подростка, пронзительными воплями подбадривавшего братьев, когда Уолт и другие мальчишки из Иверна гнали их по терновому валу. А потом... потом Глостер, Ирландия, Корнуолл, Лондон, Тидворт-Кэмп и Уэльс, он стал дружинником, телохранителем, comitatus, неразлучным спутником господина, его щитом в бою. За эти годы он и видел-то ее всего несколько раз, издали, через поле, или в соседнем саду под яблоней, когда гостил дома на Рождество или приезжал помочь отцу во время сбора урожая.
Ему исполнилось шестнадцать, на шее уже красовался первый шрам от кинжала, спускавшийся на левое плечо (шрам был неглубокий, через годик-другой он превратится в тонкую белую линию). Шрам Уолт заработал не в сражении, а в разведке, когда шел впереди основного войска в первом походе против Гриффита в Брекон-Биконз, в начале морозной весны. К концу мая он вернулся домой, семья и все соседи приняли его как героя. Через два дня после его приезда отец Уолта встретился с отцом Эрики, который все еще оплакивал смерть обоих сыновей. Они погибли двумя годами раньше, в 1054-м, когда в пору коровьего мора отведали зараженного мяса – сперва их охватило безумие, потом разбил паралич.
После сговора состоялось обручение. Обряд совершили в новой хижине, построенной специально для такого случая, убранной цветами весны и раннего лета. Хижину поставили у ручья, отделявшего одно имение от другого, там, где росли заячья капуста и калужница болотная. Зимородки, вестники лета, кружили над ручьем. Было решено отложить свадьбу до той поры, когда завершится служба Уолта в дружине.
Два дня спустя мальчик из Шротона пробрался на господский двор в Иверне и отыскал Уолта у загона. Вместе с Бэром (крестьянином, знавшим толк в строительстве изгородей) Уолт заострял топором ясеневые жерди – три точно отмеренных удара по основанию каждой жерди, и из-под коры проступало белое как снег дерево. Нужно огородить новое поле от оленей и куда лучше делать из ясеня жерди, чем копья, как привык Уолт, заметил Бэр. Однако копья нужны именно для того, чтобы защищать наши дома, возразил Уолт.
– Господин Уолт, – запищал мальчишка, хватая его за рукав, – моя госпожа сказала, вы дадите мне пенни за эту весточку.
– А кто твоя госпожа? – Он догадывался, кто послал гонца, но сердце забилось учащенно, и непривычный спазм сдавил горло, на миг Уолт перестал дышать. Эрика поцеловала его при обручении, поцеловала горячо прямо в губы, как того требовал обычай. Не французский клевок в щеку, а настоящий английский поцелуй.
– Леди Эрика, кто же еще? Разве ты не хочешь узнать, что она велела передать тебе?
– Хочу, конечно.
Пауза.
Уолт обернулся к Бэру. Слуга был ненамного старше его, но успел уже обзавестись женой и ребенком.
– Пенни не найдется?
Бэр покачал головой.
– Пойду добуду. – Уолт положил топор.
– Не стоит, – усмехнулся мальчишка. – Она мне уже дала. – Он с гордостью показал монету. – Дашь мне пенни в следующий раз. Госпожа хочет получше узнать тебя, она будет ждать у края ячменного поля ее отца, к западу от Хэмблдона. Принеси что-нибудь поесть и попить.
– Когда?
– Почем я знаю? Сейчас? Или завтра? Может быть, нынче вечером? Я бы на твоем месте отправился прямо сейчас.
И бесенок удрал, ловко уклонившись от не совсем шутливой затрещины.
Полчаса спустя Уолт пробрался сквозь заросли бузины, раздвигая низко растущие ветки. Дур ной знак – обломать дерево, из которого был сделан Крест Спасителя и на котором повесился Иуда. Эти предосторожности замедлили его продвижение. Когда он вышел с другой стороны зарослей, Эрика исчезла. Куда она делась?
Прикрыв глаза от солнца, юноша стал осматривать отвесный склон холма, подымавшийся на двести футов вверх, к заросшим травой валам. На самом откосе, чересчур крутом для деревьев, росла только трава, низкие кусты терновника, чьи почки съежились, почернели и опали две недели тому назад, и боярышник, уже покрывшийся свежей зеленой листвой и крошечными шариками только что раскрывшихся бутонов. В траве пробивалось множество мелких цветов, способных расти даже на известняке. И тут Уолт увидел Эрику – она стояла высоко на гребне ближайшего вала. Он узнал ее гибкие загорелые руки, длинные светлые волосы, белую рубашку.
Уолт полез вверх на гору, цепляясь руками за густые пучки травы, упираясь ногами. Он быстро запыхался и от души проклинал мешочек с хлебом и сыром и овечий желудок, в котором он нес сидр. Поклажа болталась у него на спине, сползала и моталась между ногами, точно коровье вымя. Разумеется, пока он добрался до вершины, Эрика снова скрылась. Может, окликнуть ее? Нет уж, затеяла игру в прятки, так пусть сама теперь позовет.
Древние строители оставили глубокий ров между двумя насыпями, в нем было душно, над головой лениво жужжали пчелы, в нос бил назойливый запах свежего овечьего помета. В голубой дали простиралась Долина Белого Оленя. Приближалась самая жаркая часть дня, воздух застыл, все вокруг казалось неподвижным, только из долины доносилось позвякивание коровьих колокольчиков.
– Эрика!
Ее имя почти против воли сорвалось с губ. В ответ, гораздо ближе, чем он ожидал, послышался легкий смешок. Уолт поспешно обернулся и успел уловить движение, быстрый промельк одежды в зарослях боярышника чуть ниже хребта, на котором он стоял, всего в десяти шагах от него. Уолт кинулся туда и настиг Эрику – она сидела на траве, подтянув колени к подбородку, опустив подол платья до земли и засунув в рот травинку. Она оглянулась на него через плечо.
– Ты принес нам поесть? – спросила девушка, тряхнув головой, чтобы длинные светлые пряди не заслоняли лицо. В негромком ласковом голосе звенел смех. Она немножко покапризничала насчет сидра – дескать, почему чашек нет, и от овечьего желудка попахивает бараниной, разве такой напиток годится для леди? Сыр с голубыми прожилками Эрика узнала и отдала ему должное – это был кусок от головки, припасенной ее отцом специально для праздника обручения.
Сперва они стеснялись друг друга, прятались за детские воспоминания. Помнишь то, помнишь это, а что твоя мама сказала, когда ты вернулся домой? Я плакала не потому, что ты попал в меня камнем, а потому, что напоролась на колючку.
Как жаль твоих братьев.
Как жаль твою мать.
Она была стара, она прожила хорошую жизнь, но твои братья...
Эрика заплакала, и Уолт обнял ее за теплые, пахнувшие молоком плечи, уткнулся лицом в душистые волосы, попытался утешить.
Мне пора. Ты придешь завтра? В то же время.
Встретимся здесь.
В следующий раз он принес сидр в глиняном кувшине, прихватил две чашки, а Эрика принесла ячменные пирожки с медом, завернутые в сладкие листья каштана. Не так-то просто было подняться в гору, не расплескав при этом сидр.
– Сколько у нас будет детей? – спросила она, облизывая испачканные медом губы.
– Сколько Бог пошлет.
– Глупости, я же не Дева Мария.
Уолт почувствовал, как радость расцветает у него в груди. Он повернул Эрику лицом к себе, слизнул с подбородка темно-коричневую капельку меда.
Она со смешком оттолкнула его, но ее ладонь так и осталась у него на колене.
– Что даст тебе Гарольд, когда твоя служба придет к концу?
– Все земли между Стауром и Эйвоном, – он имел в виду Гемпширский Эйвон, с истоком возле Стоунхенджа.
– Глупенький, тогда ты сам станешь эрлом.
– Ну, по крайней мере, часть этих земель. Столько, сколько нужно, чтобы ты была настоящей леди.
– Я и так настоящая леди, благодарю покорно!
– Да, конечно.
Она улеглась на травянистом склоне, сплела пальцы обеих рук на лбу, юбка приподнялась выше колен.
– Я красивая?
– Как яблоневый цвет в апреле, как пшеничное поле в июле, как свежие сливки, как леса в октябре, когда листья становятся красными и золотыми, как февральский снег.
– Мои кузины в Чайлд-Оукфорде говорят, что я некрасивая, но это потому, что они обе сами хотели бы выйти за тебя замуж.
– Молодая любовь сильна. Я бы мог запереть тебя в доме, но ты выберешься, все равно что кот, почуявший за милю киску в охоте.
Они сидели с отцом за большим столом в пиршественном зале при свете одной-единственной свечи. Слуги и фримены давно разошлись по своим хижинам. Отец стал совсем седой, с тех пор как умерла мать Уолта, он не прикасался гребнем к волосам.
– Да и вообще, тебе только на пользу чаще видеться с ней. Познакомитесь поближе. Что хорошего в том, чтобы жениться на чужом человеке.
Он выпил, обтер рукой запущенную, грязноватую бороду.
– Жаль, что матери твоей нет с нами. Она бы тебя кое-чему научила.
– Чему?
– Насчет женщин, как у них что устроено.
Уолт мог только смутно догадываться, о чем говорит отец. Наверное, о месячных и тому подобном.
Они выпили еще по одной.
– Скоро тебе уезжать.
– К Иванову дню я должен быть в Винчестере. Я тебе говорил.
– Говорил. Я забыл. Все-то я забываю.
Уолт накрыл ладонью распухшие пальцы отца, слегка пожал их.
– Это не важно.
– Важно. Земле нужен хороший хозяин.
– Я вернусь.
– Чем скорее, тем лучше.
Они выпили еще, отломили по куску хлеба, закусили.
– Не вздумай сделать ей ребенка, если не собираешься вскоре вернуться и стать отцом.
Уолт призадумался, вспомнил, как Эрика откидывалась на спину, опускаясь на траву, как улыбалась ему, как светились глаза цвета васильков. Не так-то легко будет следовать отцовскому совету, если у Эрики на уме то же самое, что и у него, а Уолт подозревал, что так оно и есть.
Немножко неловко было обнаружить, что с тем душевным волнением, которое пробуждает в нем мысль об Эрике, переплетается откровенно плотское желание. Однако отец еще не закончил свою мысль:
– Есть такие способы, – он побарабанил пальцами по столу, лицо старика налилось кровью, – ты можешь... О, черт бы все это побрал, твоя мать сумела бы объяснить гораздо лучше...
Наконец, старик заставил себя поднять глаза и посмотреть сыну в лицо.
– В общем... в общем, пусть вам обоим будет хорошо, только не позорь ее и нас, никаких ублюдков. Договорились?
Тан Иверна наклонился над столом, крепко сжал плечо сына, одним глотком осушил чашу и побрел в свою одинокую постель.
Должно быть, Эрика поговорила с матерью или с теткой. Разумеется, как и все дети, она в свое время наблюдала со смехом повадки животных, видела, как бык лижет промежность коровы, вместо того чтобы сразу забраться на нее, и все такое прочее. И вот как-то раз, когда они выпили сидр и съели сморщенные яблоки прошлогоднего урожая, хранившиеся в сене на чердаке амбара (собственно, для этой цели в основном и заготавливали сено, поскольку лучших животных, оставленных на развод, кормили более питательным кормом, а остальных резали на мясо, как только наступали холода), Эрика без лишних слов притянула его к себе, опустилась на спину, увлекая его за собой, подставляя поцелуям лицо, губы, шею, плечи. Уолт приподнял ее платье, и, встряхнув головой, она сбросила одежду, рассыпались ее прекрасные волосы. На миг он остановился, потрясенный плавной округлостью, млечной белизной ее тела, двумя полушариями грудей с сосками, похожими на чуть недозрелые ягоды, сводом живота с притаившимся в голубоватой тени пупком, полными бедрами, ярко-рыжей порослью между ними, более рыжей, чем ее волосы (леди-лиса из сказки), длинными, гладкими, сильными ногами. Склонив голову, он слегка сжал зубами ее сосок.
Секунду спустя Эрика принялась за его штаны и куртку и не успокоилась, пока под ярким светом солнца и пенье жаворонков он не предстал таким же обнаженным, как она сама. Одной рукой она взяла его пульсирующий член, а другой обхватила Уолта за худые, жилистые плечи и снова притянула любимого к себе так, чтобы петушок его попал в узкую щель между их телами.
Сотрясаясь сильнее, чем горы при землетрясении и леса во время урагана, Уолт попытался опуститься немного ниже, проложить путь внутрь нее, но Эрика крепко сдавила его ягодицы, впилась в них ногтями, вынудив кончить прежде, чем он сумел продвинуться вниз. Задыхаясь, умирая от восторга и муки незавершенного слияния, он оторвался от нее и посмотрел вниз, на Эрику, на целый мир наслаждений, щедро открывшийся ему.
Она взяла его за руки, обняла за плечи.
– Ты еще не все сделал, Уолт, нет, не все. – Она положила ему руку на потный лоб и толкнула вниз. Уолт прижался щекой к животу, покрытому струями жидкого жемчуга, губы его коснулись увлажненного, пропитанного ее особым запахом местечка. Раздвинув колени, Эрика закинула ноги ему на плечи, чтобы его губы и язык смогли проникнуть вовнутрь. Уолт скользил вниз по покрытому травой склону, дикий тимьян колол его живот и пах, ему пришлось упереться пальцами ног, чтобы удержаться на месте, он вцепился руками в траву по обе стороны от ее бедер, но пучки травы остались у него в ладонях.
Эрика надавила рукой на его шею, на затылок, немного подвинулась, потом ухватила за волосы и подтянула его голову ближе к себе, чтобы его губы и язык оказались именно там, где им следовало быть, и тогда Уолт ощутил, как набухает и пульсирует под его языком маленький комочек плоти, и вот уже Эрика извивается и стонет, а он впивает хлынувшую ему в рот влагу, свежую, как морская вода, но лишенную ее горечи, сладкую, как мед, но не приторную.
А когда все закончилось, и жар, багрянцем разлившийся по ее груди, немного остыл, и голова ее уже не моталась из стороны в сторону, когда все завершилось, они лежали, целуясь, осторожно ощупывая, лаская и изучая друг друга, пока все не началось снова, на этот раз не столь яростно, но еще более слаженно. Она исследовала его татуировки, крылатого дракона, «храбрый побеждает», «У. Л. Э.» внутри сердечка – это ей понравилось, значит, он думал о ней и раньше, задолго до обручения.
Наконец она надела платье и сказала:
– Побудь тут. Не хочу, чтобы видели, как мы возвращаемся вместе.
Он смотрел ей вслед – она то шла, то бежала вприпрыжку, когда ее вынуждала к этому крутизна склона, один раз поскользнулась и чуть было не шлепнулась, обернулась и с улыбкой помахала ему рукой. Сердце Уолта разрывалось, не в силах вместить блаженство, которое, казалось, окружало его со всех сторон, состояло из всего, что он впитывал зрением и слухом, осязанием и обонянием. Вся земля вокруг, и эти холмы, и эта трава, изрядно пострадавшая от их совокупления, и те дальние горы – все было Эрикой. Она была душой этой земли.
Кругом цвел сад: сквозь дерн пробивались дикие цветы, тимьян, клевер, вика, лен, журавельник, незабудки, бурачник, колокольчики, просвирник, молочай. Почки терновника набухли и лопнули, и его одуряющий запах плотно окутывал Уолта – запах более чувственный, чем у любого растения, а почему так, он догадался, припомнив вкус, оставшийся у него на языке, и посмотрев на свои руки. Уолт поглядел вниз, на расстилавшуюся перед ним равнину. Она тянулась до голубых гор в шести милях к северу, где расположен Шефтсбери, до холмов по правую руку от него, чьи очертания напоминали формы лежащей на земле женщины – расширялись у бедер, опадали у талии, а затем набухали двойняшками грудей. Ниже, за холмами виднелась лесная лощина.
Ласточки стремительно рассекали воздух, ликуя, выписывали такие петли, что Уолт успевал заметить лишь быстро промелькнувшее белое пятно хвоста высоко над полями и деревьями. А еще выше с пронзительными криками носились стрижи. Стая ворон гнала прочь от своих гнезд обнаглевшего кречета, самец кукушки пел звонкую песенку, а его подружка, прокравшись в отсутствие хозяев в чужое гнездо, подкидывала яйцо.
Все это было едино, одно живое существо, сплетенное из многих. И поля, и пастбища, все, что росло на земле, и сложенные из земли валы, все, созданное человеком, вписывалось в этот пейзаж, не чуждое ему, не враждебное, но придающее гармонию месту, которое без человеческих усилий осталось бы пустынным и диким.
Уолт еще раз облизал губы, наслаждаясь вкусом, похожим на вкус терновых ягод. Соломенные волосы, рассыпанные по медовым плечам, белая рубашка в зеленых пятнах показались вдали на гребне еще одного мелового травянистого холма. Эрика пересекла луг, пройдя мимо трех пасшихся на нем коней, подошла к ограде своей усадьбы. Еще один шаг – и она взлетела, оседлав верхнюю перекладину изгороди. Зная, что Уолт смотрит ей вслед, Эрика подняла руку и помахала ему. Шалая, дерзкая. Сердце его пело от счастья.
Глава тридцать первая
Перекати-поле, пыль, песок цвета охры, пересохшие русла рек, на горизонте – марево далеких гор. Так выглядит теперь центральная равнина Малой Азии, если ехать от Афиона или Анкары в Конию, Иконий древности. Но в середине XI века эти места были совсем другими, там рос дубовый лес, дававший людям и древесину, и уголь, и дубильные вещества; дикие кабаны и домашние свиньи до отвала кормились желудями, и мясо у них было темно-красное, почти без сала. Те желуди, которые ускользали от внимания свиней, не могли прорасти под сенью родительского леса: им не хватало света и влаги, а потому требовалось совсем немного усилий для того, чтобы содержать лес в должном порядке. Дубрава превратилась в парк. Широкие просеки служили для проезда охотников и солдат, а поблизости от деревень крестьяне могли растить в тени деревьев пшеницу и виноград, не вырубая эти дубы.
Так почему же теперь здесь полупустыня? События, с которых началась гибель лесов, наши герои могли наблюдать, остановившись в предгорье Тавра к юго-западу от Икония. Здесь состоялась битва между армиями турков-сельджуков и византийского императора. Внизу путники видели огромную равнину, а вдали – белые стены и башни Икония, где тысячу с лишним лет тому назад на рыночной площади проповедовал апостол Павел; по равнине скакали галопом и рысью, ехали на колесницах, шагали плотными рядами, строились в фаланги двадцать или тридцать тысяч солдат. Крест столкнулся с Полумесяцем. Между стволамидубов мелькали украшенные флажками копья, готовые нанести удар. В рядах турков ехали на низкорослых лошадках славившиеся своей скорострельностью лучники с маленькими луками, в рядах христиан стрелки склонялись над металлическими прикладами арбалетов. Музыканты в леопардовых шкурах трубили в рога и трубы. С одной стороны колебались знамена с буквами X и Р, с другой древки штандартов с серебряными полумесяцами были увешаны колокольчиками и султанами из конских хвостов. Алла, Алла! Барабаны рассыпают дробь. Победили всадники с тюрбанами на шлемах. Часа три противники скакали взад и вперед по равнине, а потом – почему, наблюдатели так и не смогли понять – воины на западном краю поля дрогнули и обратились в бегство, продираясь сквозь дубовую рощу, бросая свои пожитки, товарищей, вьючных животных, припасы, рабов и женщин.
Тайлефер уверял, что так происходит на любой войне: христиане оставили противнику большую добычу и тем самым выиграли время для бегства. Вслед за победоносной армией сельджуков с востока устремились женщины, дети, рабы, занимая место, с которого только что сдвинулось войско. Эти люди не обращали внимания на город, над которым уже подымались к небу черные тучи дыма. Они поспешно раскинули под дубами тысячи черных шатров и пустили пастись десятки тысяч рыжих и черных коз.
Козы предпочитают дубы любой другой пище, они срывают листья, до которых могут дотянуться, и сдирают кору с молодых деревьев. Пастухи, удовлетворяющие свои потребности козьим молоком и йогуртом, сыром, мясом, шерстью и шкурами, способствуют уничтожению леса, срезая для своих подопечных более высокие ветви. Одного или двух поколений хватило для того, чтобы уничтожить древние дубравы не только Малой, но и Центральной Азии.
Это зрелище произвело сильное впечатление на Квинта.
– За ними будущее. Они завоюют мир, – провозгласил он и ткнул посохом упрямого мула в бок, подгоняя его вверх по крутой тропинке.
Женщина, которую Уолт называл Теодорой, одетая в павлиньего цвета платье, поглядела через плечо. Грациозные черные копытца ее скакуна твердо ступали по гравию.
– Что будущее – турки? – переспросила она.
– Не просто турки! – крикнул в ответ Квинт. – Ислам. Полумесяц. – С каждым словом его энтузиазм разгорался. – Полумесяц, вот именно. Растущая луна. Только представьте себе: западный край Полумесяца, мавры вторглись в Испанию, от Франции их отделяют только Пиренеи, а здесь, на восточном конце, турки уже подбираются к Константинополю и его землям. Помяните мое слово, они захватят всю Европу.
Тайлефер ехал на своем крупном жеребце, за спиной у него сидела, цепляясь за отца, Аделиза, по обе стороны от седла низко свисали мешки, набитые всевозможными приспособлениями фокусника.
– Мне у них кое-что не нравится, – сказала Аделиза. – Их священная книга запрещает вино.
– На земле, но не в раю, дорогая. На небесах можешь пить все, что пожелаешь, и полуобнаженные гурии будут подносить тебе чаши с пьянящими напитками.
– Лучше бы нагие ганимеды, – надула губки девушка.
Теодора обратила на Квинта свой темный, чувственный взор.
– Книга стихов, фляга с вином и ты рядом со мной под сенью леса – это и есть рай, – голос ее перекрыл шум движущегося каравана. – К чему нам ждать неземного блаженства?
Через пять лет Квинт познакомился с поэтом Омаром[222], повторил ему слова Теодоры, и юный поэт включил их, немного подправив, в свой сборник.
– Да, ты права, – откликнулся Квинт, заставляя ленивого мула перейти на рысь, чтобы поравняться с дамой, но та, догадавшись о его намерениях, встряхнула поводьями, и ее изящная охотничья лошадка тоже перешла на рысь, заметно обогнав Квинта. – Из праха мы пришли и в прах обратимся, цветы полевые, и все такое прочее, однако древние правильно говорили, древние нашли верный ответ: плюнь на завтрашний день и его заботы, лови преходящую радость, не презирай ни любовь, ни ее забавы – сегодняшний день твой... Вот об этом я и говорил прошлой ночью – только это и важно, только здесь и сейчас...
Тропинка резко сворачивала, поднимаясь по крутому склону, так что могло показаться, будто Теодора едет над головой Квинта в противоположном направлении, навстречу ему.
– Твои «здесь и сейчас» весьма напоминают сущности, – попрекнула она. – Разве не так?
– Нет, это абстракции. Совсем другое дело.
Уолт, ехавший следом за Квинтом, по-кошачьи фыркнул от злости.
– Там погибали люди, – сказал он, обращаясь к Тайлеферу, – руки и ноги отрубали от тел, стрелы вонзались в бока и живот, черная кровь хлестала изо рта, а эти двое, что они знают об этом? Они смотрят свысока, а что они видят?
– Больше, чем ты, юноша, – возразил Тайлефер, придержав своего коня и поджидая Уолта. – Это была цивилизованная битва. Нескольких ранило, кое-кто погиб, но как только турки показали свою мощь, свое множество и свои боевые порядки, христиане почувствовали необоримое желание отступить, и мусульмане им не препятствовали. Это совсем не похоже на кровавую сечу, в какой довелось побывать тебе.
Молчание, перестук копыт.
– Ты был там. Тебе виднее, – проворчал наконец Уолт. – Но ведь была и слава, была честь и вечная память героям. Была верность дружинников, сплошной стеной стоявших вокруг дарителя колец.
Перед мысленным взором обоих вновь, как наяву, встала горстка измученных воинов, бившихся до конца, а серое небо чернело, и приближалась ночь, и вороны кружили над ними. Дружинник и певец снова увидели, как дрожат и колеблются покрытые кровью щиты, которые слишком долго пришлось удерживать в руках, дождь сыплет, как небесные стрелы, и стрелы – как дождь, а вокруг, словно вороны, на расстоянии удара меча или топора кружат всадники, дожидаясь, пока упадет последний щит, пока рухнет последний защитник Англии...
Вздохнув, Тайлефер пришпорил коня и присоединился к ученой парочке, обсуждавшей преимущества ислама.
– У них тоже хватает проблем, – подал он реплику.
– В самом деле?
– У них свои разделения, секты, ереси, как и у христиан. Дом, разделенный в себе, как говорится. Это их погубит.
– Ничего, они с этим разберутся, – возразил Квинт. – Они утвердят свой Закон, и тогда их ничто не остановит.
Молчание, перестук копыт.
– Так ты обратишься в мусульманство?
– Почему бы и нет? Гораздо более разумная религия, чем наша. Что скажешь?
– Может быть. Мне особенно нравится одна секта.
– Какая?
– Исмаилиты[223], – пояснил Тайлефер. – У них теперь новый вождь, молодой человек, который сумел свести все нужное человеку знание к одной фразе.
– А именно?
– Ничто не запрещено. Все возможно.
– По-моему, это все-таки две фразы.
– Вот педант! – И он придержал коня, чтобы отстать от Квинта.
– Но это уже конец, – заговорил Тайлефер, подъезжая к Уолту и продолжая прерванный разговор. – Нечеловеческий ужас сражения – это итог. Обстановка была крайне тревожная, когда Гарольд вернулся из Байё, не так ли? Его поджидали дурные вести. Это и было начало конца, верно?
– Дурные вести, очень дурные. Только тогда никто не мог понять, насколько это скверно.
– Расскажи, – попросил Тайлефер.
Уолт посмотрел на него. Темное лицо искажала боль и мольба, щеки глубоко запали, на забинтованных руках проступили кровавые пятна. Должно быть, ему очень больно сжимать обеими руками поводья. Он обращался к Уолту с мольбой, в надежде убедиться, что не он один виновен в судьбе, постигшей английского короля, и Уолт, все еще не готовый простить, по крайней мере пожалел своего спутника и продолжил рассказ.
Часть V Последний английский король
Глава тридцать вторая
Около полудня корабль скользнул на мелководье гавани Чичестера. Жирные серые в крапинку тюлени еще нежились на песке, крачки, или, как еще называют их, морские ласточки, носились над водой и стремительно ныряли вниз, к волне, вылавливая мальков. Море затихло, сделалось бархатистым, лиловым, волн почти не было. Небо ясное, лишь в низине собиралась легкая дымка. В усталой зелени лета давно проступило золото позднего октября, седое золото дубов и вязов, яркое золото бука, светлое, как новенькая монета, золото березовых и тополиных листьев, трепещущих на фоне серебряных и оловянных стволов.
Отлив заканчивался, скоро начнет прибывать вода. Мужчины с корзинами в руках, в предназначенных для прибрежного лова сандалиях на круглых подошвах из черного дерева, неуклюже брели к берегу от устричных банок или закидывали сети, ожидая прилива и новой добычи. Из рыбацкой деревушки тянуло дымком, а когда корабль одолел последний вал и приблизился к берегу, Гарольд и его спутники с наслаждением вдохнули кисло-сладкий, свежий аромат яблок, превращавшихся под прессом в сидр.
Как хорошо вернуться домой! Хельмрик, прозванный Золотым, знал песню и на этот случай, что-то о моряке, пришедшем из плавания. Сидя у мачты, Уолт с Даффидом учили юных Вульфнота и Хакона играть в кости, а Гарольд стоял на корме, глядя вперед. Он надеялся, что весть об их возвращении обогнала их и достигла Бошема, и Эдит Лебединая Шея встретит его на причале. Клятва, данная в Байё, висела на шее Гарольда, словно огромная мертвая птица, словно убитый альбатрос. Ему нужно было поговорить об этом, тихо и спокойно, с кем-то, кому он мог доверять.
Они обогнули мыс и увидели впереди шпиль колокольни, «трон Канута» и причал. Группа вооруженных всадников сгрудилась на берегу вокруг своего вождя, превосходившего их ростом и выделявшегося в толпе светлыми волосами. Даже на таком расстоянии нельзя было не узнать Тостига. Хотя его длинные волосы утратили с годами шелковистость и в них мелькала седина, он по-прежнему стягивал их на затылке, обнажая облысевший череп и спуская длинный хвост на ворот кожаной куртки.
Корабль уткнулся в тяжелые длинные бревна, покрытые водорослями и моллюсками, парус спустили под громкие крики экипажа, предостерегавшего сухопутных зевак – пусть отойдут в сторонку, не то огромным полотнищем башку снесет. Юнга спрыгнул на причал с просмоленной веревкой в руках, кто-то из слуг Тостига помог ему, вместе они привязали канат к столбу. Тостиг стиснул брата в объятиях, но Гарольд резко высвободился.
– Что привело тебя сюда? Вряд ли только братская любовь и желание встретить меня.
Тостиг, по старшинству третий из братьев (их разделяла совсем небольшая разница в возрасте), всегда был требователен и претендовал на особое внимание к своей персоне. Все, что ему хотелось, Тостиг считал своим по праву рождения, загребал обеими руками, не считаясь ни с законами, ни с чьими бы то ни было интересами. Он был уверен, что главная цель жизни Гарольда – заботиться о нем, тем более теперь, когда Эдуард вот-вот отправится в тот край, откуда ни один не возвращался. С годами Тостиг отнюдь не избавился от юношеской заносчивости, напротив, сделался еще более надменным, подозрительным и вспыльчивым, мгновенно оскорблялся, когда никто и не думал его задеть, был нетерпелив и не внимал доводам разума. Он давно утратил красоту и обаяние юности, зато его хитрость, жестокость и честолюбие только возросли.
Он сразу же взорвался:
– Эти ублюдки, мать их так, выперли меня!
Гарольд невольно попятился.
– Не кричи. Расскажи, что случилось.
– Разумеется, расскажу! Чего ради я приехал, по-твоему?!
– Спокойно. Не при всех, в доме. Эдит здесь?
– Твоя краля? Тут где-то болтается. Но вот что я тебе скажу... – Он запнулся, увидев, как потемнело, налившись кровью, лицо Гарольда.
– Какие бы вести ты ни принес, они подождут, пока мы выпьем и поедим и я повидаюсь с Эдит. Встретимся в зале, вечером.
За едой Тостиг дулся и грубил, проливал мед на стол, чересчур дружелюбному мастифу заехал бараньей ногой по носу, притворился, будто не заметил Эдит, когда она подошла подлить ему меда, но стоило ей отойти, с едва приглушенным ругательством подозвал к себе. Гарольд не собирался долго терпеть подобные выходки и, как только ужин закончился, подал женщинам, слугам и телохранителям знак удалиться. Ульфрик, старший из дружинников, повел людей в дальний конец зала. Вместе с приближенными Тостига они принялись чистить оружие, занялись игрой в кости и еще немного выпили, прислушиваясь к тому, как Хельмрик бренчит на своей арфе.
– Итак, – заговорил Гарольд, оставшись наедине с братом, – «они тебя выперли». Кто, как и почему?
Эдит уже дала ему ответы на эти и некоторые другие вопросы, но Гарольда интересовала точка зрения Тостига.
– Таны Нортумбрии. Собрали совет графства, явились в Йорк, перебили моих людей...
– А где был ты?
– В Бритфордской усадьбе, возле Солсбери. Они захватили склад оружия и мою казну...
– Почему? С чего все началось?
– Я обложил их налогом. Дополнительный сбор. Для тебя, Гарольд. Король умирает. Он уже десять лет не собирал хергельд. Когда он умрет, нам потребуются все люди, все оружие, какое мы сможем собрать...
– Нам?
– Нам. Тебе, мне, Годвинсонам. Будь я там, с войском, с мечом, я бы...
Глаза у него разгорелись, Тостиг с размаху ударил кулаком правой руки по открытой ладони левой, решительно отбросил волосы со лба. При свете факелов Гарольд видел, как блестит от пота лицо Тостига, как растянулись в хищном оскале его губы.
– Ты же знаешь, я бы их!...
– Знаю, – пробормотал Гарольд, думая про себя: тебя бы зарезали, как взбесившегося быка, и пришлось бы объявить войну – Уэссекс против Нортумбрии, саксы против данов, все как в добрые старые времена. – Кто подсказал тебе мысль собрать хергельд? – Гарольд был уверен, что сам Тостиг до такого бы не додумался.
– Эдит, наша королева, – строптиво ответил брат.
– С какой стати? – Гарольд с трудом верил ему. После громкого скандала в 1052 году, в результате которого Эдит пришлось несколько месяцев провести в монастыре с весьма суровым уставом, их сестра перестала вмешиваться в государственные дела.
– Бедный Эдди умирает. Ты уехал, мы думали, что Ублюдок постарается избавиться от тебя, раз уж ему представился такой случай. Эдит приняла и другие меры, чтобы защитить нас.
Тостиг замолчал, выжидая. Гарольд вытер вспотевшие руки о полы куртки и поспешно отхлебнул из кружки. Он пил пиво – вина он достаточно выпил в Нормандии, а мед пьют в дни торжества. Сейчас ему праздновать нечего.
– Давай, выкладывай.
Отвернувшись от брата, Тостиг подрезал ногти коротким кинжалом, с которым никогда не расставался.
– Она наняла двух человек убить Коспатрика.
– И что?
– Сдох, вот что.
– Черт, черт, черт! Зачем она это сделала?
Тостиг тяжело вздохнул.
– Она думала, что, оставшись без тебя и Эдди, мы, – «мы» подразумевало Годвинсонов, – мы должны поддержать Этелинга. Он несовершеннолетний, и можно было бы установить регентство: Эдит и, скажем, Стиганд...
– Стиганд тоже замешан?
– Конечно. Он-то все и устроил. Эдит думала, что сыновья Эльфгара, Эдвин, эрл Мерсии, и его младший брат Моркар, подыскивают подходящего кандидата на престол. Им, как и нам, не хватает королевской крови, так что они вполне могли выбрать Коспатрика.
Несколько веков назад на территории Нортумбрии было два королевства – Берниция и Дейра. Последним представителем королевской династии Берниции был юный Коспатрик, которого Эдуард удерживал при дворе, как и Этелинга, и по той же причине – потому что он представлял собой угрозу.
– Что им известно о вашем заговоре?
– Почти все. Эти придурки пытались утопить мальчишку, он сопротивлялся, они стукнули его по голове, один из них попался и под пыткой сознался, что ему заплатила Эдит.
– Ад и все дьяволы! Что же теперь?
– Эдвин хочет, чтобы вместо меня эрлом Нортумбрии стал его брат Моркар. Вот чего им надо. Чертово отродье этого подонка Эльфгара хочет снова занять свои земли. А тут еще налоги и смерть Коспатрика, так что в дело вмешались не только таны Нортумбрии, все гораздо хуже, черт бы их подрал. Братья подняли оба королевства, – Тостиг подразумевал Мерсию и Нортумбрию, – не только дружинников, но и ополчение набрали, и двинулись на юг.
Восемь дет тому назад Эльфгар, граф Мерсии, последний крупный землевладелец в стране не из числа Годвинсонов, за измену лишился части своих владений, переданных семейству Годвина. Тогда он породнился с Гриффитом, заключил с ним военный союз и призвал на помощь норвежцев. Только к 1062 году Гарольду и Тостигу удалось покончить с Гриффитом, Эльфгар очень кстати помер, а его наследник Эдвин, тогда совсем еще юный, не представлял существенной угрозы. Но едва миновало три года, и все повторилось: старинный союз Мерсии и Нортумбрии во главе с молодыми и неопытными вождями вновь бросает вызов королю и всей Англии.
Гарольд задумался, не обращая внимания на лихорадочное нетерпение брата. Наконец Гарольд тяжело вздохнул и задал следующий вопрос:
– Как сейчас король?
– Плох. К Рождеству помрет.
– Где он?
– В Оксфорде.
– А Эдвин и Моркар?
– Я же тебе сказал: они набрали войско, вместе с уэльскими ублюдками. Три дня назад, когда я уезжал от короля, они шли к Нортгемптону.
Гарольд снова вздохнул и допил пиво. Усталость навалилась на него, он почувствовал себя старым, колени болели и подгибались.
– Ульфрик! – позвал он. – За два часа до рассвета седлай коней. Едем в Оксфорд.
Оставив Тостига, он направился в женский дом. Четырех часов не прошло с тех пор, как после двухмесячного отсутствия он вернулся в Англию, и вот уже снова в путь. Эдит Лебединая Шея уложила его в свою постель и прилегла рядом. Они уже предавались любви в тот день, и поскольку Эдит видела, что Гарольд устал и расстроен, она молча притянула его голову себе на грудь и попыталась убаюкать возлюбленного.
Гарольд не хотел спать, ему еще многое нужно было обсудить с Эдит, и прежде всего участь их сыновей, Эгберта и Годфрика; старшему исполнилось восемнадцать, а младшему – семнадцать лет.
– С ними все в порядке, – успокаивала его Эдит, пытаясь разгладить морщины на его лбу, повыше натягивая одеяло. – Конхобар присмотрит за ними, не волнуйся. – Конхобар, младший брат Катберта, приходился ей деверем. С тех пор как старый Катберт, муж Эдит, впал в детство, Конхобар и другие родичи присматривали за детьми Эдит, когда та уезжала в Англию. С собой она не брала их из соображений безопасности.
– Хорошо. Но ты тоже возвращайся в Уэксфорд. Оставайся там, пока все не уладится.
Эдит погладила рукой его бок, чуть сильнее надавила на закаменевшие мышцы пониже ребер.
Гарольд, все еще о чем-то тревожась, оттолкнул ее руку.
– Что такое? – спросила она. – Знаю, знаю. У тебя осталась прекрасная девушка в Нормандии, тебе не терпится вернуться к ней.
– Хуже, – сказал Гарольд.
Он не выдержал и рассказал Эдит о клятвах, принесенных Вильгельму, о последней, самой мучительной для него присяге.
– Он вырвал ее обманом, хуже того, он сговорился с дьяволом, потому что никакой фокусник не мог бы внушить то, что тебе померещилось.
Эдит села на постели, наклонилась над Гарольдом и заговорила так убежденно и твердо, как только могла:
– Послушай, эту клятву нельзя принимать всерьез. Не дай ей угнездиться в твоем сердце, словно червю, и подточить твою решимость. Вырви ее из сердца. Растопчи и забудь.
И все же в немногие оставшиеся ему месяцы она то и дело желчью подкатывала к его горлу, тяжестью давила на грудь, когда Гарольд просыпался поутру.
Они выехали еще до рассвета. Эдит Лебединая Шея придержала его коня за узду.
– Поезжай Долиной Белой Лошади, – тихо сказала она. – Принеси Ей в дар цветы, а еще лучше – дубовую ветвь. Может быть, Она защитит тебя от твоей глупой клятвы.
Гарольд наклонился в седле, целуя Эдит, прижал ладонь к ее щеке.
– Я так и сделаю, – ответил он.
Расстояние более чем в сотню миль они одолели за два дня и к полудню третьего прибыли в Оксфорд. Почти всю дорогу они ехали по земле, принадлежавшей Гарольду, часто меняли лошадей, потому и поспели так быстро, хотя Гарольд сделал небольшой крюк, чтобы побывать у высокой скалы с вырезанным на ней контуром Белой Лошади. Сойдя с коня, он подошел поближе и положил возле головы Лошади дубовую ветку с золотыми листьями, заранее сорванную в долине. Он хотел помолиться, но не знал, какие слова придутся по нраву этому существу, какой язык она предпочитает. Кто она? Прекрасная дама с кольцами на пальцах и колокольчиками на щиколотках, которая скачет на белой лошади. Ее изображение, правда уменьшенное, и по сей день можно видеть в церкви Бэнбери, на том берегу Темзы.
Гарольд посмотрел вниз, увидел по ту сторону долины городские огни и вновь почувствовал усталость. Он оглянулся на брата. Тостиг сидел, напряженно выпрямившись в седле, лицо его пылало, голубые глаза превратились в щелочки, холодный ветер выбил слюну, прилипшую к уголку рта – злой у него рот, хоть губы и толстые. Тостиг нетерпеливо потряс удилами.
– Поехали, Гарольд! – крикнул он. – Зададим перцу подонкам! – Копыта его коня выбивали комья почвы и дерна, когда Тостиг ринулся вниз по крутому склону, разгоняясь для прыжка через невысокую колючую изгородь, усыпанную похожими на кровь ягодами.
Свернул бы себе шею, подумал Гарольд, неторопливо следуя за братом и не подгоняя своих людей. Шею бы себе свернул, пока мы еще не доехали, пока не произошло то, что непременно произойдет.
Глава тридцать третья
В 1065 году Оксфорд был процветающим городом, стены его были крепче, а замок – больше, чем в большинстве английских городов. Этому способствовало его местоположение: Оксфорд не только стоял на границе древнего королевства Мерсии, но и был крупным портом на судоходном участке Темзы, одним из главных торговых поселений, потому-то здесь и построили большой замок. Университета еще не было, пройдет столетие, прежде чем деловой купеческий город увидит первые готические шпили, а затем превратится в улей студенческих пансионов.
Король со своей свитой – клириками, слугами, писцами – занял дворец; архиепископам и епископам, вельможам и старейшинам, созванным по случаю государственного кризиса на Витангемот, пришлось разместиться в городе, где насчитывалось около трехсот больших домов. Чуть севернее от города на Порт-Медоу, широком заливном лугу площадью примерно в четыреста акров, стояли шатры Эдвина и Моркара. Молодые вожди привели с собой более тысячи воинов.
Пронесся слух, что гораздо большее войско захватило Нортгемптон и разоряет приграничные территории, которые Эдвин считает исконной частью Мерсии, хотя Эдуард и отдал эти земли Тостигу.
Почти полвека Кануту, Годвину и Годвинсонам удавалось вести военные действия исключительно на границах и побережье Англии. С тех пор, как Эдмунд Железнобокий решил с Канутом вопрос о престолонаследии, в центральных графствах, в самом сердце Англии не случалось кровопролития, но теперь вновь, как четырнадцать лет назад в Глостере, возникла угроза междоусобицы, и опять по той же причине – из-за соперничества двух наиболее могущественных кланов.
Эдвин и Моркар, внуки Леофрика, эрла Мерсии, хорошо рассчитали время для удара. После смерти Эдуарда права любого наследника – будь то Этелинг или Гарольд – будет оспаривать Вильгельм Незаконнорожденный, и, вероятно, норвежский король Харальд также предъявит свои права на престол, основываясь на договоре, который заключили между собой еще в 1039 году его отец Магнус и сын Канута Гардиканут[224]. С этой двойной угрозой страна могла справиться только объединенными силами. В обмен на поддержку со стороны северных и северо-восточных графств Эдвин хотел заранее выговорить определенные гарантии, и Гарольд понимал, что ему придется пойти на любые уступки. С каждым шагом, приближавшим его к Оксфорду, сердце Годвинсона наливалось свинцом.
Местный замок, хотя и был достаточно просторен, представлял собой всего лишь укрепленное поселение в углу между двумя старыми крепостными стенами, защищавшими две его стороны. Ничего общего с твердыней нормандцев. Не было отвесных каменных стен, снаружи без труда можно было разглядеть косую крышу главного здания, во внутреннем дворе располагались оружейные склады, конюшни и амбары, а также крытые соломой хижины для женщин и прислуги; невысокая изгородь отделяла загон для овец и шести дойных коров; десятки людей свободно приходили и уходили, жгли костры и готовили пищу.
Дружинники, громыхая оружием, расхаживали с решительным видом – так солдаты во все времена стараются показать начальству, будто заняты важным делом; монахи бегали взад-вперед, подвесив чернильницы к поясу, с листами пергамента под мышкой – у них-то хлопот было по горло; суетились кузнецы и коновалы, повара, пастухи и пастушки, строители и плотники, которым велено было срочно привести замок в порядок, торговцы и нищие, бродячие актеры, дети, зеваки, собаки, кошки и даже зяблики, выклевывавшие зерна из конских яблок. В воздухе мешались бодрящие запахи дыма, навоза, похлебки, жареного мяса. Шум, суматоха, какой-то деревенский бедлам. Трудно представить больший контраст с тем, что Гарольд видел во внутреннем дворе нормандских замков Руана или Байё. Здесь никто не стремился к порядку, но всему находилось место и каждый делал свое дело, не дожидаясь указаний и не нуждаясь в них.
Архиепископ Стиганд встретил Годвинсонов у дверей. Уже поставив ногу на ступеньку, Гарольд обернулся к Тостигу:
– Не ходи со мной. Позволь мне самому все уладить.
Тостиг вспыхнул, вцепился в рукоятку меча, костяшки его пальцев побелели.
– Забери своих людей. Найдите себе дом в городе.
Помедлив с минуту, Тостиг плюнул на землю прямо под ноги брату, повернулся и махнул рукой, подзывая дюжину своих спутников.
Стиганд взял Гарольда за руку. Гарольд склонился, чтобы поцеловать перстень епископа, но Стиганд быстро отдернул руку.
– Брось эти глупости, – проворчал он, обнимая эрла за плечи, и они вместе вошли в широкие двери. – Разумно ли это? – хрипло шепнул он Гарольду, имея в виду его обращение с братом.
– Разумно или нет, что сделано, то сделано. Как себя чувствует король?
– То лучше, то хуже, по большей части хуже. Одна стопа у него холодная и, похоже, мертвая, зрение слабеет, но разум его ясен. Он, конечно же, горой стоит за Тостига, не желает уступать. Как съездил в Нормандию?
В зале было темно и чересчур жарко, топили, не жалея угля. Монахи, не умолкая, тянули псалом за псалмом. Эдуард лежал в дальнем конце зала на высоком ложе, уставленном свечами и весьма походившем на катафалк. Король опирался на подушки, черты лица заострились, проступил нездоровый румянец, седые волосы стояли дыбом. Гарольд замедлил шаги, чтобы ответить Стиганду.
– Плохо, – сказал он. – Ублюдок хитростью и угрозами взял с меня клятву, что я буду поддерживать его. Он и за твоей шкурой охотится – знаешь такого Ланфранка из Ломбардии?
– Наставник из Ле-Бека? Мерзкий маленький интриган. А что?
– Он рассчитывает на твою кафедру. Поехал в Рим за папским благословением.
– Ладно, постараемся сделать, что сможем. Насколько я понимаю, ты хочешь отдать Эдвину и Моркару все, чего пожелают, лишь бы они стояли за нас против Бастарда?
– Придется. В конце концов, это не навеки. Потом мы разберемся с ними по-свойски, но сейчас они нам нужны. Пусть берут, что хотят.
Они приблизились к королевскому ложу. Эдуард поднял голову, глаза под покрасневшими веками напряженно всматривались во вновь прибывших. Белые пальцы машинально перебирали край покрывала.
– Гарольд? Где ты пропадал? Ты был мне нужен.
– Ты послал меня в Нормандию. Помнишь? В Нормандию за Вульфнотом и Хаконом.
– Я послал?
О да, именно ты, подумал Гарольд. И может быть, не кто другой, а ты сам подкупил кормчего, чтобы он доставил нас в Понтье, где начались наши беды.
– Не важно. Главное, ты вернулся, – продолжал король. – Ты все уладишь. – Он снова повел взглядом вокруг себя, всматриваясь в сумрак, прикидываясь, будто ищет кого-то, кого рядом не было. – А где же Тостиг? Он выехал навстречу тебе.
– Отправился в город искать себе жилье.
– С какой стати? – раскапризничался умирающий. – Здесь полно места. Сядь рядом, Гарольд. Пусть этот жирный священник отойдет подальше.
Стиганд отодвинулся в тень. Гарольд нашел стул и сел рядом с королем.
– Гарольд, мы не позволим им уйти безнаказанными. Они бросили вызов мне, моей власти, а я еще не покойник. Проклятье! Словом, это государственная измена.
Король тяжело вздохнул и умолк, но Гарольд предпочел воздержаться от ответа, так что Эдуарду пришлось продолжать:
– Не стану говорить тебе, что значит для меня Тостиг. – Его лицо закаменело, но тусклые глаза на миг ожили, молодо блеснули. Посмеет ли Гарольд усмехнуться, как-то отозваться на его слова? – Десять лет он помогал мне, вел все дела, собирал налоги. Когда тебе пришлось туго, он помог управиться с уэльсцами. Да что говорить. Вот что: собери войско и усмири этих северных бродяг так, как усмирил уэльсцев. Я не допущу, чтобы у Тостига отняли Нортумбрию, и довольно об этом.
Король еще выше приподнялся на подушках, дернул за край одеяла, и Гарольд отчетливо почувствовал исходившую от больного вонь.
– Проклятая нога совсем сгнила. Чувствуешь, как пахнет? Чувствуешь? Ничего, привыкнешь. Так. Нормандия, значит. Как там герцог?
– Как нельзя лучше. Шлет тебе сердечный привет и молится за скорейшее твое выздоровление.
– Весьма сомневаюсь. В любом случае молитвы тут не помогут. Но он славный молодой человек. Он будет превосходно править вами, когда меня не станет. Ты видел его. Что скажешь?
Гарольд промолчал.
– Ну же, говори... я задал тебе вопрос.
– Я готов восхищаться Вильгельмом. Он храбр, он неутомим. Однако Англии нужен король-англичанин.
Эдуард пристально посмотрел на своего эрла, и Гарольд не уклонился от его взгляда.
– Ты сам хочешь стать королем, – сказал наконец Эдуард.
– Пусть решает Витан. Я подам голос за Этелинга.
– За сопливого мальчишку? Чтобы он сосал палец, сидя на троне? Ладно, это пока терпит. Сначала прогоним нортумбрийских выскочек. И поживее, я спешу обратно в Вестминстер. На Рождество мы освятим собор. Я намерен присутствовать при церемонии, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни... скорее всего, так оно и будет.
Король махнул дрожащей рукой, и Гарольд понял, что аудиенция закончена.
Он побрел обратно через зал. Стиганд нагнал его.
– Он хоть понимает, что делает?
– Прекрасно понимает, – угрюмо ответил Стиганд. – А если не знает, как это осуществить, советуется с другим Вильгельмом, с Уильямом, епископом Лондона.
– Значит, он намеренно раздувает гражданскую войну, чтобы расчистить путь в Англию герцогу Вильгельму? Зачем ему это понадобилось?
– Он хочет отомстить Годвинсонам. К тому же надеется на канонизацию.
– Эдуард хочет стать святым?! – Гарольд только головой покачал. Потом он вспомнил о другом хлопотливом деле: – С какой стати Эдит распорядилась убить Коспатрика?
– Это уж ты сам у нее спроси.
Он так и поступил. Королева Англии заняла самый высокий дом рядом с главным зданием, завесила оштукатуренные стены лучшими гобеленами из своих запасов, зажгла золотые масляные лампы мавританской работы с необычайно прихотливым рисунком. Все эти сокровища Эдит возила за собой, куда бы ни перемещался королевский двор. В комнате с высоким сводчатым потолком пахло нардом и розовой водой, арфист негромко подыгрывал пению лютни, королева уютно свернулась в большом кресле, перебросив ноги через правый подлокотник, а на левый оперлась рукой, откинув словно охваченную пламенем голову. Эта женщина наполняла собой любое, даже самое просторное помещение, не оставляя места ни для кого – ярко-рыжие волосы, перевитые жемчужными нитями, ослепительная белизна кожи, длинное облегающее платье из венецианской парчи. Ее красота до сих пор вызывала у Гарольда невольные спазмы в горле, она была прекрасна вопреки возрасту (шестью годами моложе его, то есть ей уже шло к сорока), только морщинки на шее, «гусиные лапки» в уголках глаз да слишком тонкие губы могли выдать ее годы, но Эдит никогда не выставляла их напоказ в беспощадном свете дня.
Афганская борзая, узкомордая и лохматая, с длинной светло-золотой шерстью – подарок персидского посла, пытавшегося заключить выгодный торговый договор с Англией, – оскалив зубы, поднялась навстречу Гарольду, но, услышав негромкую команду хозяйки, осела на задние лапы.
Эдит подставила брату щеку, он скользнул по ней губами, потом учтиво пожал ей руку.
Выпрямившись после поцелуя, Гарольд внимательно поглядел на сестру. Она встретила его взгляд, распахнув накладные ресницы, изготовленные по моде того времени из паучьих лапок.
– Ты сердишься на меня, – сказала она. – Сердишься, я вижу.
– Зачем ты велела убить Коспатрика?
– Мы слышали, что герцог Вильгельм собирается убить тебя, только подыскивает такой способ, чтобы его не могли обвинить в твоей смерти. Никто не надеялся на твое возвращение. Мы же не знали, что ты присягнешь ему. Представь себе: Англия останется без моего дражайшего супруга и без лучшего из моих братьев. Мерсия и Нортумбрия с Коспатриком во главе – он королевской крови, из древней династии Нортумбрии – выступят против Этелинга и остальных графств Англии. Вильгельму только того и надо, чтобы мы принялись рвать друг друга на части.
– Именно это и произошло. Нортумбрия поднялась отомстить за Коспатрика.
«Эдит была истинной дочерью своего отца, истинной сестрой Гарольда. Опустив колени, она резко выпрямилась в кресле.
– Вранье! – возмутилась она. – Кто тебе это сказал? Они уже двинулись на нас, они собирались посадить Коспатрика на престол Нортумбрии, как они говорили, а при случае и всей Англии, сам понимаешь. Хоть это нам удалось предотвратить.
Гарольд закружил по комнате, покусывая ногти, кольчуга на нем зазвенела. Эта женщина умна, беспощадна, красива – бесценный союзник и опасный враг. Он знал, в ближайшие месяцы ему понадобится ее поддержка.
– Ладно, – сказал он наконец, – как видишь, я вернулся. Я буду править страной, когда твой муж умрет, буду править по крайней мере до тех пор, пока Этелинг не достигнет совершеннолетия. Ты поможешь мне, но главное – делай все, как я скажу. Обещай мне ничего не предпринимать без меня. Не вздумай действовать за моей спиной.
Былая уверенность и сила, казалось, вернулись к Гарольду. Эдит почувствовала это, и у нее сильней застучало сердце: она не только охотно согласилась с братом, но и настойчиво предложила ему остаться, выпить вина. Гарольд пристроился рядом с сестрой на подлокотнике большого кресла, обхватил ее левой рукой за плечи. Эдит прислонилась головой к его груди.
– Ты... так уверен в себе. Ты твердо решил стать королем?
– Корона – вещь неплохая, но, в конце концов, это всего лишь игрушка. Мы – ты, Тостиг, наши младшенькие и я – правили Англией с тех пор, как умер отец. Для этого не обязательно иметь корону.
– Так почему же ты?...
– Вильгельм. Его нормандцы. Они... они... – Гарольд запнулся, подыскивая слова, которыми он мог бы передать, как омерзительны эти нормандцы и как отвращение к ним заставило его острее ощутить любовь к своему народу, к английскому укладу. Беспомощно рассмеявшись, он пожал плечами и сказал попросту: – Ублюдки они, вот кто.
Глава тридцать четвертая
Эдвин и Моркар отказались войти в замок для встречи с Гарольдом, Гарольд не желал выходить к ним на Порт-Медоу. Между городом и лугом, где стояли шатры северных эрлов, сновали гонцы. Наконец им удалось назначить свидание на утро, через два часа после рассвета, в ризнице большого построенного на саксонский манер собора. На этом свидании строжайшим образом соблюдались правила «королевского мира»: никакого оружия в радиусе ста шагов от места встречи, по десять невооруженных человек в каждой делегации и не более того. К удивлению северян, Гарольд согласился с тем, что Тостигу, о землях которого и вели спор, лучше не присутствовать на переговорах.
Было решено, что от имени потомков Эльфгара будет говорить Элдред, архиепископ Йоркский, а от имени Гарольда, представлявшего короля, – Стиганд, архиепископ Кентерберийский. Их задача – открыть переговоры, но сначала оба епископа и сопровождающие их священники отслужат короткую мессу и помолятся о том, чтобы Святой Дух наполнил все сердца искренней любовью к миру и готовностью уладить спор по справедливости.
Когда служба и прочие формальности были завершены, епископ Йорка изложил претензии северян к Тостигу: он слишком сурово расправляется с теми, кто уклоняется от уплаты дани; не считаясь с чувствами своих подданных, отвергает местные обычаи, если находит, что они бессмысленны и не приносят очевидной пользы; с танами Нортумбрии обращается так, словно они какие-то язычники, и без достаточных на то причин обвиняет в сговоре с собратьями по ту сторону границы. В свою очередь, таны подозревали Тостига в сговоре с шотландским королем Малькольмом, ведь эрл дружил с ним с тех самых пор, как сопровождал Малькольма от шотландской границы до Вестминстера, на свидание с королем Эдуардом. К тому же шерифы и прочие приспешники Тостига полагали, что люди, привыкшие к норвежским и датским говорам, обязаны понимать их южный диалект – одним словом: довольно, жители Нортумбрии не желают больше видеть Годвинсона, они призвали на его место Моркара, брата Эдвина, эрла Мерсии.
Стиганд отвечал резко, гремел басом, словно из большой бочки: он пришел сюда не затем, чтобы опровергать лживые выдумки насчет Тостига, справедливого и умелого правителя, отважного полководца, проявившего себя в последнем походе на Уэльс, а пришел он только затем, чтобы напомнить всем о праве короля вознаграждать своих верных слуг землями и титулами, ибо именно в этом и состоит привилегия короля, лорда, дарителя колец. Король пожелал, чтобы Тостиг сделался эрлом Нортумбрии и сохранил за собой этот титул. Всякий, кто пытается опровергнуть право короля, может сразу же убираться отсюда и бежать из страны, покуда его не обвинили в государственной измене.
Тупик. Тимор, стоявший рядом с Уолтом около двери, открывавшейся из ризницы в церковь, – двое дружинников Эдвина караулили по другую сторону той же двери – шепнул на ухо другу:
– Мы тут весь день пробудем, а то и несколько дней.
– Почему? – удивился Уолт. – По-моему, все ясно.
– Ни та, ни другая сторона еще не завела речь о главном. Никто не осмеливается. Пока дело не дойдет до этого, мы с места не сдвинемся.
– О главном?
– Дело не в Тостиге. Вопрос в том, на какие уступки готов пойти Гарольд, чтобы эти варвары поддержали его, когда умрет король.
– А!
Дверь, возле которой стоял Уолт, была удобным наблюдательным пунктом, и он начал с большим интересом вслушиваться в происходящее.
Два брата, Эдвин и Моркар. Эдвин старше, ему недавно миновало двадцать, он красивее брата и хорошо сложен, но лицо слабовольное – маловат подбородок, узок лоб. Моркар еще совсем юн, темноволос, немного смущен, не знает, как надо держаться на таких переговорах, но в нем есть внутренняя сила, которой недостает Эдвину.
На их стороне епископ Йоркский. Рука почтенного старца слегка дрожит, сжимая наперсный крест. Епископ всегда соблюдал каноническое право, и Рим терпит его по этой причине, к тому же он дряхл – все равно скоро придется подыскивать преемника. К Стиганду Папа не столь снисходителен: он отлучил его от Церкви за совмещение церковных должностей, не говоря уже о том, что Стиганд женат.
Эти двое дополняли друг друга. Стиганд следил за тем, чтобы священники неукоснительно исполняли пастырские обязанности. Пусть себе женятся, если хотят; пусть они неграмотны и не слишком благочестивы – лишь бы добросовестно служили мессу и находили отклик в сердцах простых людей. Этой цели Стиганд достиг, крестьяне охотно расставались с десятиной и другими церковными податями и не считали, что зазря тратят время, отдавая Церкви один из десяти или даже один из пяти рабочих дней. Элдред тем временем заботился о благосостоянии и репутации немногочисленных монастырей, поддерживал в должном порядке церковные здания, и самое главное, именно он рукополагал священников и епископов, венчал знатных людей, придавая этим обрядам каноническую легитимность: таинство считалось бы недействительным, соверши его отлученный епископ Стиганд.
Клирики столпились подле очага вокруг небольшого стола. Обе стороны держали наготове карты и хартии, перья и чернильницы, графитные дощечки и скрипучие карандаши. Нужно согласовать уступки, определить территории, свободные от войск, назначить дату следующей встречи, а писцы занесут все это в протокол.
Небольшая ризница наполнилась дымом от огня, пылавшего в широком каменном камине. Наверно, трубу давно не чистили и дрова положили невысушенные.
Эдвин выступил вперед, прошел по задымленной комнате поближе к Гарольду.
Эрлы обменялись не слишком сердечными приветствиями. Эдвин расколол привезенный издалека грецкий орех, протянул половинку Гарольду, но тот рассмеялся:
– Все или ничего!
Эдвин, пожав плечами, положил ядро себе в рот и бросил скорлупу на пол.
– Ты это не всерьез, – заявил он.
– Насчет чего?
– Насчет того, чтобы побить нас в бою или обвинить в измене. Чушь все это!
– Почему же? Урожай собран. Хороший урожай, в стране хватает и хлеба, и денег. Можно набирать ополчение. Мы с братьями выставим четыре тысячи дружинников на поле и сразимся за короля. Вы продержитесь не дольше, чем... – Гарольд поискал свежее, оригинальное и выразительное сравнение и нашел его: – чем снег в аду. Мы разделаемся с вами еще до зимы.
Это означало: пока король еще жив.
Эдвин снова пожал плечами и отошел назад к Моркару.
– Твое мужичье не станет драться, – с северной оттяжечкой произнес он.
И тут кто-то забарабанил в дверь. Ворвался молодой клирик. Король, сказал он, впал в глубокий сон, и никто не может его разбудить. Все собрание бегом, а у кого были лошади, верхом устремилось обратно к замку. Одним из первых в застеленный камышом зал влетел Гарольд, за ним по пятам следовали Уолт, Тимор и оба мятежных эрла из Мерсии. Слуги, несшие епископов в паланкинах, немного отстали от них.
Эдуард утопал в подушках, сцепив изуродованные артритом пальцы на одеяле. В пальцах были зажаты хрустальные, отделанные золотом бусины четок. Цвет его лица казался почти здоровым, но дыхание сталоповерхностным, с присвистом. Суеверные люди отмечали опрятность его постели, спокойствие позы, мирное выражение лица – свидетельство святости, готовности предстать перед Создателем. Более практичные обращали внимание на королеву Эдит, сидевшую чуть в стороне в окружении своих фрейлин, в черном платье муарового шелка, с белой сеткой на уложенных в пучок волосах и маленькой золотой диадемой.
Приблизившись к постели, все сняли головные уборы и смолкли, старались ступать как можно тише, только что не приподымались на цыпочки, придерживая руками доспехи и украшения, чтобы они не звенели. Лорды окружили королевское ложе, и с минуту царила тишина. Потом монахи, стоявшие позади королевы, тихо запели «Miserere»[225].
– Конец эпохи? – прошептал Моркар.
– Будем надеяться, еще нет, – буркнул Гарольд.
Эдуард приоткрыл розоватый, стеклянный глаз.
– Ячменную похлебку! – потребовал он. – И везите меня в Вестминстер.
Ему удалось до смерти напугать эрлов.
Они вышли на свежий воздух, под теплый дождь, от которого цыплята разбегались во все стороны. Эдвин остановился, обернулся к Гарольду:
– Не будем зря время терять. Без нас тебе с Вильгельмом не справиться. Ты знаешь, чего мы хотим. Дай нам это, и мы на твоей стороне. Вместе мы прогоним Ублюдка.
– А если я откажусь?
– Тогда тебе придется собирать ополчение и драться с нами. – Эдвин резко развернулся, скользкие камешки полетели из-под его ног, ударили в заднюю дверь замка. – Послушай, если мы не получим то, за чем пришли, мы не вернемся в Йорк без драки. И с Вильгельмом мы не намерены ни о чем договариваться, не такие уж мы дураки. Ясное дело, этот нормандец явится в Англию не затем, чтобы заново разделить ее между англичанами.
Гарольд, не ожидавший от Эдвина подобной проницательности, уставился на своего собеседника.
– Да, ты прав. Никому из нас, никому, – подчеркнул он, – не следует обольщаться на этот счет. Хорошо, я поговорю с Тостигом. Мы еще встретимся.
– Слюнтяй, размазня! Бесхребетная, безмозглая, трусливая баба!
Прислонившись к двери, Гарольд ждал, пока этот поток гнева иссякнет. Тостиг носился по большой комнате, нанятой им у преуспевающего пивовара, лихорадочно озираясь в поисках вещей, которые можно было бы разбить, однако он успел уже переколотить все, что тут было, не исключая и наполненной почти на треть ночной вазы. Уцелела только тяжеленная дубовая кровать, но и ее Тостиг несколько раз приподнимал и швырял, пока не успокоился хотя бы настолько, чтобы членораздельно изложить свой взгляд на сложившееся положение.
– Ты хоть понимаешь, что ты наделал?! Ты меня обесчестил. Ты обесчестил и меня, и мою жену, и ее брата, графа Брюгге. Но прежде всего ты обесчестил себя самого. Как ты мог так поступить со мной?
Гарольд оттолкнулся от двери и выпрямился.
– Я тебя прекрасно понимаю. Но и ты пойми: настало время, когда надо принимать во внимание более важные вещи, чем твоя, или моя честь, или даже честь всей нашей семьи.
– Какие еще важные вещи? Что за чушь ты несешь? Ты пожертвовал моей честью и собственным добрым именем исключительно ради шанса стать королем, ухватить корону для себя одного.
– Не в этом дело. Меня вполне устроит, если королем станет Этелинг.
– Да? Так что же это за важная вещь, гораздо более важная, чем твоя или моя честь?
Гарольд подошел к окну, раздвинул ставни. В комнату ворвались уличные запахи, уличный шум. Каждый занят своим делом – торговцы, ремесленники, мастеровые. Вдали маячили горы, леса. Легкий дождик дымкой повис над окрестностями. До вечера уже недалеко. Из соседнего кабачка донесся взрыв смеха. Там Гарольд оставил восьмерых своих дружинников. Скоро и он присоединится к ним, выпьет кружечку пива. Отвернувшись от окна, он снова обратился к брату.
– Это трудно объяснить, – сказал он, – но я попробую. Все это, деревни, округа, графства, все люди, которые в них живут, вправе рассчитывать на нашу защиту. Если мы развяжем войну, если ради своей чести мы будем драться с Нортумбрией, много людей погибнет, много деревень будет разорено, города будут разграблены, земля опустеет...
– По какому праву мы правим этой землей? Скажи мне, Гарольд!
Гарольд пожал плечами, и Тостиг сам ответил на свой вопрос:
– По праву чести. Благодаря нашему имени. Откажись от имени и чести, лиши меня графства, и ни один человек не последует за тобой. Ты отрекаешься от своего права на власть.
– Ты не дал мне закончить. Если мы сразимся за твои права, мы победим. Мы вернем тебе графство.
– Я пока что его не потерял!
– И тогда имя Годвинсонов станет ненавистно всем, кто живет к северу от Трента[226], по крайней мере на ближайшие двадцать лет. А через несколько месяцев, может быть, через считанные недели, нам придется позвать северян на помощь против нормандцев. Нам – тем из нас, кто уцелеет – придется позвать тех, кто останется в живых на севере. А они не придут, потому что мы только вторглись на их землю, сожгли их деревни, изнасиловали женщин, убили мужчин. Они пошлют нас куда подальше.
– Но у нас останется честь, наше доброе имя. Пусть они боятся Годвинсонов, пусть ненавидят, но они будут уважать нас и будут рады подчиниться нам.
– Заткнись, гаденыш! – Гарольд был вне себя. – Ты ничего не понимаешь. Эти люди ценят свой образ жизни, они будут сражаться за него, но мы должны вести их в бой. Они этого ждут от нас...
– Их жизнь останется такой, какая она есть, кто бы ими ни правил. Допустим, Бастард победит. Этого не случится, но давай допустим. И что с того? Подымет налоги, потребует одного вооруженного воина с пяти гайдов, как и мы. Прогонит тех танов, которые держат нашу сторону, и заменит их своими ставленниками, как мы сделали в свое время. Только и всего! Для крестьян и батраков, для ремесленников и горожан, для простого народа ничего не изменится.
– Изменится, еще как изменится! Это я и пытаюсь вдолбить в твою тупую башку. Я видел, как живут люди в Нормандии. Девять человек из десяти там рабы. Господа творят, что хотят, владеют всем, нет ни закона, ни права, и они твердо уверены, что такова воля Господня...
– Чушь собачья! Ты пожертвуешь мной ради мужиков?
Гарольд промолчал.
– А, мать твою, можешь трахнуть себя в зад! – Тостиг в последний раз промчался по комнате, казалось, он готов был наброситься на старшего брата. – Я бы понял тебя, если б ты подличал ради короны, но пойти на это только потому, что этому отребью в деревнях и городах лучше будет-де под твоей властью, чем при Вильгельме! Хватит с меня, я ухожу!
– Куда?
– Для начала объеду свои земли между Оксфордом и Дувром, соберу людей. Двести человек, пятьсот, если удастся...
– Мне... нам они понадобятся, когда Незаконнорожденный явится сюда.
– Это мои люди. Мы с Юдит уезжаем в Брюгге, там перезимуем, потом я вернусь. Можешь положиться на свою хваленую интуицию – я вернусь. А теперь – пошел к черту!
Наутро в большом зале замка заседал Витангемот. Король Эдуард главенствовал в совете, опираясь на подушки, приветливо улыбаясь и подслеповато вглядываясь в мелькавшие перед ним тени.
Епископ Элдред призвал собравшихся соблюдать тишину и порядок, и вскоре король задремал, корона слегка съехала набок, ближе к левому уху.
Человек пятнадцать среди присутствовавших обладали реальным влиянием: два архиепископа, Гарольд и двое его младших братьев, Леофвин и Гирт, а также Эдвин с Моркаром и еще несколько епископов и аббатов. Их поддерживали около тридцати крупных землевладельцев – эрлов, олдерменов и танов.
Первым заговорил Гарольд. Он сообщил, что Эдвин и Моркар присутствовали сегодня вместе с ним в церкви Крайстчерч и дали торжественную клятву, что, когда король умрет (мы все молимся о том, чтобы он прожил еще много лет, – аминь, аминь, подхватили собравшиеся), они признают наследника, выбранного Витангемотом, и поддержат его оружием, деньгами, родством, землями и всем, чем они располагают. И самое главное: они выступят против любого вторжения иноземцев и посягательства на престол.
Эдвин и Моркар отведут от городских стен и распустят свои войска, распустят и тех своих приверженцев, которые в данный момент грабят окрестности Нортгемптона или тревожат иные области Англии, отошлют их всех по домам и положат конец насилию и бесчинству.
Заручившись этими обязательствами, Гарольд, действуя от имени короля, ныне передает Моркару, брату Эдвина, эрла Мерсии, – Нортумбрию и утверждает за ним все привилегии, права, доходы и так далее, и так далее.
Вроде бы удалось. Слегка вспотев, гадая про себя, правильно ли в конце концов он поступил, Гарольд подошел к Эдвину, обнял его, взял за руку и вместе с ним повернулся лицом к собранию.
– Господа, – молвил Эдвин, – Гарольд говорил мудро и хорошо. Отныне между его семьей и моей будет дружба, любовь и согласие, и в подтверждение этого я предлагаю Гарольду в жены мою сестру Элдит, чтобы их брак стал союзом не только двух людей, но и двух семейств на благо всего народа.
Гарольд побледнел, лицо его на миг сделалось серым, точно свинец, потом кровь снова прихлынула к нему. Он не выпустил руку Эдвина, и северянин тоже побледнел от боли, когда Гарольд словно тисками сдавил ему пальцы. Гарольд быстро окинул взглядом членов Витангемота, на некоторых лицах он различил усмешку, кое-кто тревожно свел брови, но большинство сидело совершенно спокойно, будто каменные изваяния, изо всех сил стараясь скрыть чувства, которые вызвала в них тщательно продуманная и крайне рискованная выходка Эдвина.
Все были в курсе дела: Гарольд не был женат, что едва ли приличествовало человеку его положения. Вот уже тринадцать или четырнадцать лет он жил с любовницей, женой тана, владевшего землями в старинном поселении данов в Уэксфорде. Эдит Лебединая Шея всю жизнь оставалась любовницей, наложницей Гарольда. Никто не считается с наложницами, когда речь идет о политике. Разумеется, Гарольд имел полное право позаботиться о ней, обеспечить и ее, и рожденных ею детей – как вельможа распорядится своими средствами, это никого не касается – но в борьбе за власть она не имела никакого значения.
Однако предложенный Эдвином союз имел и другую цель: лишив Тостига графства и вынудив его удалиться в изгнание, сыны Эльфгара нанесли Годвинсонам серьезный урон, подорвали их престиж и отобрали часть территории, которую те контролировали, а этот брак стал бы еще одним шагом в том же направлении. Если Элдит в скором времени родит Гарольду сына – а братья, конечно же, на это и рассчитывали, – в один прекрасный день этот сын предъявит свои права на английский престол. Скорее всего, этот день наступит, когда мальчик будет еще совсем юным, быть может, даже несовершеннолетним. В таком случае регентшей станет королева и, конечно же, призовет к власти своих ближайших родичей. Сыновья Эльфгара сделали тот же ход в попытке укрепить свою власть и влияние на будущего короля, какой в свое время сделали Годвинсоны, заставив Эдуарда жениться на Эдит.
Гарольд покачал головой – не в знак отказа, просто пытаясь прояснить свои мысли, – и выпустил руку Эдвина. Сейчас он обязан был принять во внимание главное: публично отказавшись от этого брака в присутствии Витана, он нанесет Элдит и ее родичам такую обиду, что не останется и призрака надежды на союз, а тем более дружбу между двумя могущественными кланами. Отвечая Эдвину, Гарольд старался тщательно подбирать каждое слово – так тщательно, как это возможно для человека, которого застигли врасплох.
– Брат мой Эдвин! Молва о красоте и целомудрии твоей сестры разошлась по всем краям земли. – Поскольку девице едва минуло тринадцать лет, на ее целомудрие, очевидно, можно было рассчитывать. – Этот образец добродетели заслуживает того, чтобы свадьба была сыграна со всей доступной нам роскошью. Позднее мы посоветуемся и решим, как нам это сделать. Не стоит легкомысленно, без должных приготовлений, решать подобные вопросы, а сейчас нас ждут другие, не менее важные дела...
– Но ты женишься на ней?
Гарольд, уже оправившийся от первоначального потрясения, отступил на шаг, оглядел молодого человека с ног до головы, а затем посмотрел ему прямо в глаза, заставив Эдвина отвести взгляд.
– Разумеется. Когда придет время.
Больше он ничего не намеревался говорить.
Гарольд уже шагнул в сторону, но тут вмешался Моркар:
– Еще одно дело надо уладить, Гарольд.
– Какое?
Повернув голову, Гарольд постарался сочетать в выражении лица монаршее, да, именно монаршее, благоволение с некоторым недовольством.
Моркар покраснел, но не отступил.
– Ты отдал мне Нортумбрию. Когда это графство было пожаловано твоему брату Тостигу, Вальтеофу, сыну старого Сиварда, было всего восемь лет, но теперь ему восемнадцать...
– Разве Вальтеоф не может сам говорить за себя?
– Могу, мой господин.
Из рядов танов, окружавших братьев, выступил молодой человек, на редкость высокий, крепко сбитый, пригожий.
– Чего же ты хочешь, Вальтеоф?
– Графства Нортгемптон и Хантингдон, мой господин, которые принадлежали твоему брату Тостигу, как и Нортумбрия...
– Довольно! Тостиг отправился в Дувр. Он отказался от того, что дороже всех земель – от моей братской любви. Бери себе земли.
Кто-то зашевелился рядом с Гарольдом, зашелся в кашле. Король, о котором все забыли.
Оправившись от приступа, Эдуард сел, опираясь на королеву, которая обнимала его за плечи, а другой рукой отирала ему пот со лба.
– Тостиг! – прохрипел король, откашлялся еще раз и повторил: – Тостиг!
Он оглядел зал, прикрывая глаза ладонью, заметил, что корона криво сидит на голове, поправил ее.
– Тостиг! – позвал король. – Кто сказал, что мой Тости уехал? Уехал, не попрощавшись со мной?
– Ты спал, Эдди, – прошептала ему на ухо королева Эдит. – Он не хотел тебя будить.
– Он хороший мальчик, добрый мальчик, – забормотал король. – Он вернется, он скоро вернется.
Он откинулся на подушки, по-прежнему опираясь на руку жены.
– Тости вернется! – прохрипел он в последний раз с каким-то мстительным торжеством.
Этот возглас прозвучал в ушах тех, кто его расслышал, заклинанием, даже проклятием, и, вторя ему, холодный северный ветер прорвался в щель под дверью, приподнял и раскидал солому, покрывавшую плитки пола.
Глава тридцать пятая
Пронзительный холод. Северо-восточный ветер, как плакальщица, завывает над Темзой, проносится над равнинами и болотами между Вестминстером и Лондоном, серебрит седую воду легкой пеной, которую увлекает прилив и течение реки. Серая грязь клочьями сбивается в камышах. Ветер подхватывает струйки дыма, поднимающиеся над тысячей очагов за старой римской стеной, и несет запахи города – древесный дым, запахи кузницы, кожевенной мастерской, пивоварни, человеческих испражнений и навоза, – несет их прямо к большим западным вратам самого нового в Европе собора.
Вокруг собора толпятся люди, жмутся друг к другу от холода, отчего толпа кажется меньше, все стараются поплотнее укутаться в плащи и звериные шкуры, ворчат и жалуются, что приходится долго ждать. Советники и представители знатнейших вельмож страны обсуждают порядок процессии. Король умирает в ста ярдах отсюда, в Доме Совета, а потому чрезвычайно важно, в какой последовательности вельможи войдут в церковь:
тот, кто войдет последним, и есть основной претендент на престол.
Чуть поодаль от толпы держатся три группы всадников; две из них, по-видимому, сообща противостоят третьей. По одну сторону больших церковных врат – братья Эдвин и Моркар, эрл Мерсии и свежеиспеченный эрл Нортумбрии, каждый со своим знаменосцем, их лохматые, крепкие кони бьют копытами и мотают головами, громко звеня упряжью. Вокруг братьев сгрудилось около сотни верховых – таны и дружинники, а позади еще сотня конюхов, слуг и фрименов. Дружинники явились во всеоружии, надели шлемы и кольчуги, прихватили с собой широкие мечи и боевые топоры, щиты в форме листа висят у них за плечами; у слуг в руках семифутовые копья и выпуклые круглые щиты, покрытые блестящей кожей.
По другую сторону – Гарольд Годвинсон, эрл Уэссекса, и его свита, равная по численности совокупным силам Эдвина и Моркара. Рядом с ним стоят его младшие братья – Леофвин, эрл Кента, и Гирт, эрл Восточной Англии.
Уолт ехал на малорослой лошадке со знаменем Гарольда в руках, уперев конец древка в правую ногу. Золотой дракон Уэссекса на некогда пурпурном, а теперь тускло-красном фоне. Рядом скакал помощник знаменосца, смуглый уэльский принц Даффид.
Поглядев на высившиеся перед ним стены, Уолт невольно вздрогнул, и не только от холода.
Собор, который сейчас должны были освятить, показался ему каким-то чудовищем.
Второй такой громады не сыщешь во всем христианском мире, подумал Уолт. Во всяком случае, это самое большое здание в Англии. Разумеется, о его размерах можно было догадываться и раньше, еще в те времена, когда Уолт впервые побывал в Вестминстере или даже когда увидел его из Лондона, стоя у излучины реки, но до сих пор здание было опутано плотной сетью строительных лесов, проход к нему преграждали изгороди и лачуги рабочих. Чем выше становился собор, тем выше взмывали лебедки и канаты для подъема грузов; дым костров и каменная пыль окутывали его облаком, а ближе к концу строительства к ним прибавились ядовитые пары свинца и меди. Смердящая туча порой заволакивала небо, и солнце посреди дня становилось кроваво-красным.
Этот собор был чужим и страшным – пришелец, завоеватель, вторгшийся на их землю. Чересчур громоздкий, сложенный из больших блоков бледно-серого камня, цветом он вполне напоминал труп. Камень добывали в дальнем краю королевства, вырубали в глубоких шахтах, вытаскивали, грузили на повозки, везли сюда и здесь подвергали окончательной обработке. Сколько людей надорвалось, таская эти блоки, обтесывая их, прилаживая друг к другу примитивные каменные кубы...
Высоченные круглые колонны, соединенные друг с другом полукруглыми арками (а над ними галереи с арками поменьше), позволили поднять свод втрое, вчетверо выше, чем в любой саксонской церкви. В этом соборе могла бы разместиться небольшая деревня. Колоссальное здание было совершенно чуждо и сердцу, и вере Уолта, как и любого англичанина. Люди, начертившие план этого собора, пригнавшие сюда кельтских рабов, которые выполняли работы и умирали на них, – эти люди были французами, нормандцами, они говорили на своем гнусавом наречии и гордились этим. Большинство ремесленников – стекольщики, каменщики, кузнецы, работавшие со свинцом и медью – тоже были нормандцами, а некоторые явились из еще более отдаленных стран, и язык их был уж вовсе непонятен англичанам.
Этот собор был воплощением римской веры, веры Папы и императора, а не того народа, к которому принадлежал Уолт. Церковь говорила на латыни, клирики считали латынь общим, объединяющим всех языком, однако для Уолта это был тайный язык посвященных, наделявший их особой властью и привилегиями. Уолт представлял себе мир по ту сторону Пролива как единое целое, частью которого были и Нормандия, и Рим: эдакое похожее на Гренделя[227] чудовище, перемалывающее все, что попадется ему на пути. Европа?
Уолт снова вздрогнул, пожал плечами и стал вспоминать церкви, в которых он чувствовал себя уютно. Лучшие из них не превосходили размерами господского дома в усадьбе, многие были существенно меньше, просто хижины – деревянный каркас и переплетенные прутья, обмазанные штукатуркой, утоптанная красная глина пола и соломенная крыша, маленький алтарь – все просто и понятно. Статуи, вырезанные из камня, и картины на оштукатуренных стенах рассказывали о Человеке, у которого были мать и друзья, который знал голод, жажду и холод, но бывал также на праздниках и на свадьбах, словом, о Человеке, с которым можно поговорить. Священники, служившие в таких часовенках, невнятно бормотали латинскую мессу, разбирая в ней примерно столько же, сколько и прихожане; зато они говорили с людьми на родном языке, обращаясь к ним со словом утешения и сочувствия, сорадовались и скорбели с ними, а в тяжелые времена, когда падал скот или дети погибали от лихорадки, освобождали крестьян от десятины, а то и делились сыром или мешком ячменя.
Какое-то движение в толпе отвлекло Уолта от его мыслей. Сидя в седле, он мог разглядеть приближавшуюся к собору процессию. Из Лондона вниз по узкой улочке, пересекавшей Ривер-Флит, верхом на жеребце ехал нормандец Уильям, епископ Лондонский, перед ним несли крест и кадильницу, позади шли монахи и пели.
Архиепископ Стиганд тем временем плыл из Ламбета на красивой барке под пышным балдахином. Архиепископ Кентерберийский, отлученный Папой от Церкви. Почему? Якобы за обилие должностей и жен, но на самом деле за то, что он сакс, и за то, что ради него жители Кентербери прогнали прежнего епископа, нормандца Робера.
Из палат большого дома, расположенного между собором и берегом, к которому вот-вот должна была причалить барка Стиганда, в столь же роскошном паланкине вынесли королеву Эдит. Над ее высокими скулами и глубоко посаженными глазами сиял простой золотой ободок. Руки в перчатках из белой выделанной кожи, в золотых перстнях с аметистами, вцепились в серые и черные меха, бобровые, медвежьи, волчьи шкуры, которыми королеву укрыли от мороза.
Гарольд перебросил через луку седла ногу в толстом шерстяном чулке с кожаными подвязками, проворно соскочил на землю и направился к паланкину сестры. Гарольд достиг поры мужского расцвета, не первого расцвета молодости, наступающего вслед за ранней юностью, но силы и уверенности зрелого мужчины, достиг того возраста, после которого колесо жизни поворачивается и устремляется к старости. В густых, меченных сединой волосах Гарольда тоже мелькнул золотой ободок; на плечи, поверх серовато-коричневой рубашки, был наброшен тяжелый алый плащ, скрепленный искусно сделанной золотой фибулой в виде дракона. На крепком бедре подпрыгивал при ходьбе широкий меч с золотой рукоятью, скрытый в кожаных ножнах с тисненым узором.
Уолт передал знамя Даффиду и последовал за своим господином, почтительно соблюдая дистанцию, но готовый при малейшем признаке опасности кинуться на выручку.
Остановившись возле носилок, Гарольд взял обеими руками затянутую в перчатку руку сестры, поднес ее к губам и прошептал:
– Королю совсем плохо?
– Он не может удержать ни мочу, ни дерьмо. От него воняет.
– Сколько осталось?
– Нормандские врачи и священники говорят – до весны.
– Когда погода наладится и Ублюдку будет удобнее переплыть через Пролив?
Эдит птичьим движением свела укутанные в мех плечи.
– Шаман из племени данов, которого прислала наша мать, посмотрел руны и сказал, это случится в последний день Рождества.
– Жаль, что дела так плохи.
Королева отдернула руку, на крашеных губах заиграла легкая усмешка, и она с трудом подавила смешок.
Гарольд огляделся.
– Для королевы у тебя слишком маленькая свита.
– У меня слишком маленькая свита для сестры эрла Уэссекса.
– Пусть мои дружинники идут перед тобой и позади тебя.
Эдит пожала плечами – так она привыкла выражать согласие; Уолт, повинуясь знаку Гарольда, подозвал телохранителей, и они плотным кольцом окружили королеву.
Уильям, епископ Лондона, постучал в высокие врата нижним концом украшенного драгоценными камнями креста и – на латыни, разумеется, – велел бесам убираться прочь. Внутри врат открылась меньшая створка, на холод выбежала стайка мальчишек, одетых бесенятами. Священники вступили в центральный неф, пение монахов сделалось громче, воздух наполнился запахом ладана. Первыми в церковь вошли эрлы Кента и Восточной Англии, за ними – эрлы Нортумбрии и Мерсии. Гарольд, эрл Уэссекса, вошел последним, рядом с королевой Эдит.
Глава тридцать шестая
– Это ты, Моркар?
– Да, сир.
– Подойди ближе. Я не могу разглядеть тебя.
Моркар придвинулся к постели. Он заставил себя не зажимать нос, стер с лица гримасу отвращения. Король лежал в облаке вони, в густой смеси запахов жидкого кала, мочи, ладана и лекарственных мазей, которыми доктора натирали его распухшие суставы, похожие на узловатые ветки ивы. Но все это забивал самый омерзительный запах незатягивающейся раны, гниющей заживо плоти. Ноги короля поразила гангрена.
Моркар обернулся к Эдвину, взгляд его растерянно скользнул по скрещению длинных закопченных балок, эрл покосился на раскаленные жаровни, расставленные посреди зала через одинаковые промежутки вплоть до дверей, на занавесы и гобелены, скрывавшие ниши, где спала прислуга. Опустившись на колени у кровати, покрытой дорогими мехами, юноша поцеловал сапфир, – оправа перстня глубоко въелась в изуродованный подагрой палец, так осколок железа или глиняный черепок, застряв в дереве, с годами заплывает корой. Другой рукой король нащупывал у себя на груди ковчежец со святыми реликвиями. В резном хрустальном ковчежце, оправленном в золото, хранилась щепочка от Креста Христова.
– Моркар, эрл Нортумбрии! – Старик зашевелился, откашлялся. – Подойди ближе, чтобы нас не подслушали.
Моркар почти вплотную придвинул лицо к лицу умирающего, заглянул в водянистые глаза, из уголков которых сочилась желтая слизь, убедился, что радужку почти сплошь затянуло белой, точно сахарный сироп, пленкой.
– Мне напомнили, что я не скрепил печатью хартию, утверждающую за тобой этот титул. Кому ты принесешь присягу, когда я умру?
Опасный вопрос, вопрос с подвохом.
– Тому, кого изберет Витан.
– А в чью пользу ты выскажешься на заседании Витана?
Король зашевелился, в лицо Моркару хлынула густая вонь, он с трудом подавил рвотные позывы. Можно и потерпеть, когда речь идет о том, чтобы узаконить свои права на добрый кус королевства. Новоиспеченный эрл подыскивал наиболее благоразумный ответ.
– Я последую совету Эдвина, моего старшего брата.
Эдуард Исповедник вздохнул, с трудом втягивая воздух в заполненные жидкостью легкие.
– Юлишь, как лиса. Позови Эдвина.
Моркар махнул рукой брату, тот опустился на колени рядом с ним и тоже приложился к кольцу.
– В чью пользу прозвучит голос Эдвина, когда соберется Витан?
– Сир, живите...
– Тысячу лет? Полно с меня этих глупостей, мальчик! – Лихорадочный румянец на миг окрасил щеки больного. – Ты не должен выступать за Гарольда Годвинсона. Вильгельм, герцог Вильгельм – вот человек, который нам нужен.
Молодые люди остались стоять на коленях, но ничего не ответили.
Неподалеку от того места, где разыгралась эта сцена, в покоях настоятеля Вестминстерского собора, Уильям, епископ Лондона, вел другую беседу – с Гарольдом Годвинсоном, эрлом Уэссекса. Сперва они молча дожидались подогретого вина, заказанного епископом. За последний год этот высокий и худой человек утратил остатки волос, так что его тонзура превратилась в обычную лысину.
Монах принес серебряный кувшин и две чаши из рога, оправленного в серебрю. Воздух наполнился ароматами муската и корицы.
– Ты не сможешь выдвинуть собственную кандидатуру в Витане. Ты принес вассальную присягу герцогу Вильгельму и пообещал отстаивать его права. Ты поклялся на мизинце святого Людовика и безымянном пальце святого Дионисия. Такими клятвами не разбрасываются.
– По-моему, это было ухо святого Дионисия, а не палец.
Епископ нахмурился: легкомыслие собеседника граничило с кощунством.
Они выпили. Уильям едва прикоснулся губами к горячей янтарной жидкости, но Гарольд с наслаждением проглотил ее, прислушиваясь, как разливается тепло по пищеводу и желудку. Поставил чашу на стол, утер темные усы и рассмеялся.
– Это был фокус, шарлатанство. Такие штуки старики проделывают, чтобы удивить или позабавить внуков. Иллюзия. Реликвии спрятали под покрывало, а когда я поклялся, ткань сняли.
– Но и в таком случае клятва остается клятвой.
– Это был фокус. – Щеки цвета дубленой кожи покраснели от гнева. – Я поклялся соблюдать верность Вильгельму в его стране, в Нормандии, и всюду, где он правит законно, только и всего.
– Когда Эдуард умрет, эта страна тоже будет принадлежать герцогу. Если ты нарушишь клятву, тебя отлучат от Церкви.
– Эта земля будет принадлежать ему только в том случае, если Витан его изберет.
– С каких пор закон позволяет кучке стариков и наглых юношей решать, кому быть королем?
– Это хороший закон.
– Народ не может выбирать короля. Королей избирает Господь, и они правят по Божьей воле.
– Каким же образом Господь обнаруживает свою волю?
– Существует династия, ближайший наследник. Вильгельм состоит в родстве с Эдуардом, а ты нет. В твоих жилах нет ни капли королевской крови.
Гарольд задумался на минуту. Чаша с горячим вином грела широкие, покрытые шрамами ладони. Жар разливался по телу, оживился ум. Крепкий напиток пробудил мечту, которая затаилась в душе с той самой минуты, как сестра сказала ему о скорой кончине Исповедника. Вот уже тринадцать лет, с тех пор, как скончался Годвин, Гарольд был королем Англии во всем, кроме титула. Теперь и титул стал ему доступен. Не то чтобы с детской жадностью он тянулся к короне и скипетру, и все же это был бы последний шаг к полной свободе – даже по имени быть самому себе господином, никому не приносить присяги. Отвернувшись от прелата, Гарольд поспешил скрыть улыбку, неудержимо расплывавшуюся по лицу. Одним глотком эрл допил вино и сказал:
– Господин мой епископ, вы сняли пелену с моих глаз, указали мне путь истины и всю неправедность стезей моих. – Голос его отнюдь не звучал сокрушенно, напротив, он звенел торжеством. – Я выскажусь на совете за королевскую кровь.
– Объяснись.
– Я выскажусь в пользу принца Эдгара Этелинга, сына Эдуарда Этелинга, который был сыном Эдмунда Железнобокого, короля Уэссекса, а тот был сыном Этельреда, короля Англии. Во всей стране не найти человека, чья кровь была бы чище королевской крови принца Эдгара.
Епископ впился зубами в костяшки своих пальцев с такой силой, что они покраснели.
– Ты отдашь государство во власть пятнадцатилетнего мальчишки! – проскрежетал он наконец.
– Если такова воля Божья – да будет так.
Оба они прекрасно понимали, что на это Витан не пойдет.
Первого января 1066 года, в день Обрезания Господня, Уильям, епископ Лондона, в сопровождении своего капеллана и монахов-чернорясников из нового аббатства вошел в покои короля. Перед ним несли огромную серебряную кадильницу, мальчики-служки поднимали свечи в серебряных подсвечниках, с которых свешивался приличествующий покаянию пурпур, большое распятие из дерева, инкрустированного слоновой костью, также задрапировали пурпуром. Епископу сообщили, что король все чаще впадает в беспамятство и обмороки с каждым разом становятся все продолжительней. Нельзя дольше откладывать последнюю исповедь и соборование.
Церемония заняла мало времени. Король давно покаялся в пороках юных и зрелых лет и получил отпущение; последние годы жизни он посвятил благочестивым размышлениям и добрым де лам и не раз исповедовался в былых грехах. Теперь Эдуарду Исповеднику почти не в чем было каяться, кроме приступов раздражения, вызванных старостью и болезнями, да отчаяния, которое он испытал, поняв, что не в силах присутствовать на освящении собора. Уильям даровал королю отпущение грехов, потом сжал в своих ладонях его распухшую, изъеденную болезнью руку, ласково погладил и тихим, нежным голосом заговорил об испытаниях и терпении Иова, о Моисее, увидевшем издали Святую Землю, но так и не сумевшем туда войти, о других утешительных примерах.
Потом он напомнил, что благочестие и добрые дела короля стали известны его святейшеству Папе и тот не раз с глубоким восхищением высказывался о его безгрешной, во всяком случае в последние годы, жизни; идет речь о том, сказал он, чтобы причислить короля сразу же после смерти к лику блаженных, а там и до полной канонизации недалеко. Уже несколько королей удостоились сана святого за верную службу Папе, за то, что привели заблудившихся христиан под святое иго Рима. Людовик Благочестивый, король Франции, заранее подготовился ко дню Страшного суда и прямым путем отправился на небеса[228].
– Только одно остается, чтобы скрепить печатью святую жизнь, отданную служению истинной Церкви, – продолжал епископ. – Нужны гарантии того, что кельты не вернутся к старым своим верованиям, даны не соскользнут в язычество, а злоупотребления английских священников будут искоренены – для этого твоим преемником должен стать герцог Вильгельм. Его святейшество Папа дал ему свое благословение, теперь слово за тобой.
Морщины между седыми бровями короля сделались глубже, незрячие глаза оставались неподвижными. Епископ склонился к самому лицу короля, пытаясь расслышать его шепот.
– Я уже высказал свою волю, – пробормотал старик.
– Нужно подтверждение, публичное подтверждение, чтобы народ принял герцога как законного короля.
Брови короля беспомощно задвигались. Епископ с досадой подумал, что он опоздал: Исповедник совсем плох, он уже не сумеет появиться на людях, а тем более что-то сказать во всеуслышанье. Епископ поднял голову, оглядел большой зал, королевских дружинников и танов, особо выделив длинную неуклюжую фигуру Этелинга, который в эти тревожные дни с особым усердием посасывал большой палец. Не укрылось от глаз епископа и отсутствие знатных вельмож и их свиты. Как бы то ни было, нужно сделать это прямо сейчас, другой возможности, видимо, не представится. Епископ возвысил голос и заговорил со всей торжественностью князя Церкви:
– Король провозгласил наследником своего царственного кузена Вильгельма, герцога Нормандии. Я слышал это из его собственных уст.
Развернувшись на каблуках, епископ двинулся прочь, на ходу раздавая благословения. Монахи из аббатства и часовни при церкви святого Павла на Лудгейг Хилл, где настоятелем был сам епископ, поспешно выстроились, продолжили петь «Miserere» с того места, на котором им пришлось прерваться, и двинулись за своим главой.
На пороге Уильям остановился, втянул полные легкие свежего морозного воздуха, покачал головой и с утонченным презрением промолвил:
– Полагаю, там мы обоняли запахи истинной святости.
Рождество бывает только раз в году. Люди Эдвина и Моркара собрались повеселиться в здании, где еще недавно жили архитекторы, работавшие на строительстве собора. Эрлы уединились за занавесом, отделявшим кабинет главного архитектора от большого зала. Здесь стоял большой стол, на гладкой столешнице так и остался лежать лист пергамента. Чертеж, выполненный черными чернилами, изображал конструкцию северной башни, на верху которой еще предстояло разместить колокола. Тут же лежали и хитроумные приспособления для измерения углов и пара скрепленных концами булавок, с помощью которых вымеряли расстояния на чертеже.
Остались и стулья, их деревянные сиденья и спинки были для мягкости оплетены кожаными ремешками.
Снаружи донесся радостный вопль – прибыла бочка темного эля. Молодой слуга принес братьям кувшин эля и две чаши. Эдвин налил себе эля, выпил, утер редкие усики и откинулся на спинку стула. В комнате было темно, единственным источником света служила пара коптивших свечей. Лицо Эдвина оставалось в тени.
– Нечисто играет, а, Моркар?
– Да.
– Что же нам делать? Мы же не знаем, как он условился с Тостигом. Если что, нас прикончат.
Они уже несколько раз обсуждали это, но наступило время поговорить всерьез.
– Тостиг так просто взял и уехал, бросил тебе Нортумбрию, словно обноски с плеча.
– Говорят, он вдребезги разнес комнату, чуть не набросился на Гарольда.
– Говорят!
– Он забрал с собой дружинников и деньги.
– Все это, вполне возможно, показуха.
– Так что же?
– Я ничего не говорю. Я говорю – возможно. Что, если Гарольд, ставши королем, влезет по нашим спинам на трон, отпихнет нас и скажет – проваливайте?
– Он и Тостиг. Тостиг, эрл Нортумбрии.
– А может, и Мерсии. Гарольд пока что не женился на нашей Элдит. Даже день не назвал.
– Она же страх какая маленькая. Ребенок просто. Ты сказал, ей тринадцать лет, но ей еще только должно исполниться тринадцать. Мне было шесть, когда она родилась.
– Двенадцать, тринадцать, один черт.
– Мама говорит, у нее даже месячные не начались. Эдвин, она еще ребенок.
– Значит, Гарольду повезло. Послушай меня, Моркар. Мы поддержим его в Витане, но пусть сперва назначит день свадьбы. Скажем ему напрямую: ни один человек не придет на его зов из Денло[229], пока он не женится по всем правилам, а если король умрет, так и не подписав этот клочок пергамента, не узаконив твой титул, то пусть Гарольд с этого и начнет свое царствование. А теперь допивай, и пошли спать.
Глава тридцать седьмая
Три дня спустя, около двух часов пополудни, когда бледное солнце с трудом пробивалось сквозь низкие тучи на юго-западной стороне неба, двое всадников выехали из усадьбы Гарольда возле Уолтхэма. В этом имении эрл всегда останавливался, если дела призывали его в Лондон. Пять лет тому назад Гарольд построил здесь небольшую часовню, где хранился кусочек Животворящего Креста. Воздух был морозный, почти ледяной, мелкие снежинки, точно мошка, мелькали перед глазами, под копытами коней хрустел лед. Всадники проехали три мили по восточному берегу речки Ли, оставляя слева опушку Эппинг-Фореста, дубы и почерневший боярышник, приникший к промерзшей земле. Никаких признаков жизни вокруг, разве что двое крестьян, закутанных в шерстяные одежды и шкуры по самые глаза, укладывали хворост на сани да две вороны терзали кроличьи кости, оставленные на берегу реки удачно поохотившейся лисой.
Миновав деревушку Лейтон, всадники по длинному и узкому деревянному мосту перебрались на другой берег реки Ли и поехали по гати через пустошь Хэкни-Маршез. Лошади осторожно нащупывали путь среди кочек, верховые порой обменивались репликами.
– Когда ты женишься на леди Эрике?
– Когда ты покончишь со своими врагами.
Копыта оскальзываются, лошади осторожно ступают по промороженной грязи.
– Не стоит откладывать надолго.
– Я не могу оставить своего господина, когда он нуждается во мне.
Гарольд рассмеялся.
– Так будет до самой моей смерти. Но знаешь, брак дело долгое, а свадьба – быстрое. Напомни мне, где она живет?
– В Шротоне, графство Дорсет. У подножия Хэмблдона, примерно в трех милях от Керна и Воителя. В Долине Белого Оленя.
– Хорошая земля. Очень хорошая.
Путь вел в гору, вокруг селения Ислингтон, с высоты они могли сквозь вечерние сумерки и туман разглядеть дым, как всегда поднимавшийся над Лондоном.
Почувствовав под ногами более ровную дорогу, лошади перешли на рысь и легко побежали под горку, но добравшись до прибрежной равнины с богатой наносной почвой, вновь замедлили бег. Поле, по которому они скакали, успели вспахать, но еще не боронили, комья черной земли тускло блестели над глубокими, заполненными снегом бороздами. В полумиле от Вестминстера они выехали на широкий Стрэнд. Уже почти стемнело, туман над рекой сгущался, всадники едва различали перед собой головы лошадей. Из марева выплыли черные хибарки, окружавшие недавно достроенный собор. Из-за стен, сложенных из плетеного ивняка, отчетливо доносились кашель, вздохи и негромкие разговоры рабочих, солдат, танов и слуг – они заканчивали ужин, перед тем как приняться за огромные кувшины эля.
Тусклые темно-оранжевые лучи сальных свечей и масляных ламп проникали сквозь щели вокруг дверей. В пристройках тихонько мычали коровы, фыркали и топали ногами лошади на конюшне. Стены аббатства, прорезанные высокими черными окнами, замаячили впереди, словно огромный белый призрак. Повернув возле северной башни, Гарольд и его дружинник поскакали прямо на огни, горевшие перед большим домом. Изнутри доносилось жалобное пение монахов, оплакивавших на латыни траву засохшую и цвет увядший. Они приблизились к входу, и тут невидимая рука сорвала с подставки один из факелов и ткнула его прямо в лицо переднему всаднику, так что глаза его, привыкшие к темноте, на миг ослепли.
– Кто идет? Остановитесь и назовите себя.
– Люди короля. Гарольд, эрл Уэссекса, и мой дружинник Уолт. Ну же, Вульфстан, ты меня знаешь.
Гарольд перекинул ногу через седло и спрыгнул наземь, Уолт последовал за ним.
Стражник в полном вооружении подозвал конюха, который взял обеих лошадей за узду и куда-то повел.
– Король спит, – понизив голос предупредил Вульфстан. – Быть может, в последний раз.
– Я пришел повидать мою сродницу, а не короля. Брат не должен оставлять сестру одну в тяжелое для нее время, когда она вот-вот станет вдовой. Ей нужна поддержка близких.
Вульфстан все еще колебался, его мохнатые темные брови близко сошлись под ободком шлема, однако он не мог устоять перед уверенным тоном этого вельможи, который давно уже обладал большой властью, а в ближайшие дни, как все догадывались, собирался получить и корону. Обернувшись, стражник откинул щеколду, постучал в дверь рукояткой кинжала и пробурчал какой-то приказ. Изнутри отодвинули засов, и дверь распахнулась.
Дом почти опустел, короля перенесли в верхнюю комнату над дальним концом зала, но его постель можно было разглядеть снизу, поскольку ее отделяла от зала не стена, а всего-навсего незадернутая занавеска. Монахи пели, служки кадили; по крутой лестнице сновали юноши, поднося медные и оловянные чаши с ароматизированной водой, которой обтирали пылавшее жаром тело умирающего. Почти все придворные, за исключением немногочисленной охраны у дверей, покинули короля. Таны, дружинники, слуги – все предпочли переселиться в соседние дома, где еще пахло рождественским плющом и остролистом.
Гарольд, почти не глядя на утомительную для окружающих драму последней схватки обреченного со смертью, прошел по правой стороне зала в большой альков. Вход в это помещение был завешан двумя гобеленами. На одном была изображена королева-охотница верхом на серой в яблоках лошади и с серебряным луком в руках, перед ней в тени гигантских дубов бежала косуля; на другом гобелене король и королева уже восседали в пиршественном зале за столом, уставленным кубками, а пониже охотники разделывали косулю, в боку которой еще торчала меткая стрела.
Гарольд поднял руку и постучал в дубовую притолоку, негромко назвался. Тихий голосоткликнулся ему. Две дамы проскользнули между занавесями и, торопливо шурша развевающимися юбками, просеменили в зал, к ближайшей от двери печке. Гарольд оглянулся на Уолта.
– Жди здесь, никого не пропускай, наш разговор не слушай. Надо будет – позову.
Он отодвинул занавеску и вошел. Королева Эдит лежала на постели, повернувшись на бок, подпирая голову рукой. Меха устилали постель, окутывали саму королеву поверх простого платья из белой венецианской парчи, расшитого на швах и низком вороте золотой канителью. Рыжие волосы она распустила по плечам, не забыв перевить их нитями мелкого речного жемчуга.
Гарольд придвинул стул вплотную к кровати и взял в свои руки ту ладонь, на которую сестра не опиралась.
– Надеюсь, для похорон у тебя найдется более уместный наряд.
– Конечно. Это я могла бы надеть на торжество коронации.
– Чьей?
Эдит надула полные губы.
– Бог решит.
– Бог не станет в это вмешиваться!
Эдит втянула в себя воздух.
– Ты слишком заносчив, Гарольд. Ты искушаешь судьбу подобными речами.
Он пожал плечами.
– Ладно, перейдем к делу. Что посулил тебе герцог Вильгельм?
– Дворец королевы Эммы в Винчестере и собственный двор.
– Я могу дать тебе больше.
– Что именно?
– Настоящего мужа.
Она вздохнула не без горечи, повернулась на спину, маленькие груди поднялись и опали, темные соски на миг проступили сквозь тонкий шелк.
– Ты еще можешь родить ребенка...
– Во всяком случае, любиться я еще могу, и я бы предпочла нормального мужа, которому нет нужды втыкать чужой член себе в задницу, но если бы только это мне и требовалось, я бы нашла, с кем поблудить.
– Я дам тебе короля.
– Какого короля?
– Ирландского. Там, на юге, правят наши родичи даны. Я бывал в тех краях, ты же знаешь. Там люди изысканнее, они лучше разбираются в золоте и драгоценных камнях, их певцы и музыканты гораздо искуснее наших. Все, что ты любишь. Так далеко на запад нормандцы не заберутся.
– И тем самым ты избавишься от меня, верно?
– Да нет же. Я приеду в гости, когда все уладится.
Теперь он сжимал в своих руках обе ладони сестры, касался мягкого теплого свода ее живота.
– Так что же тебе от меня надо? – спросила она.
Наклонившись, он зашептал ей в ухо. Эдит вздрогнула, когда усы Гарольда коснулись ее лица, и крепче сжала его руки.
– Да, – прошептала она, – да, я сделаю это, хорошо.
Он выпрямился, и улыбка заиграла на лице. Эдит посмотрела на брата в упор, на его сине-зеленые глаза, копну темных, начавших седеть волос, крепкую шею, широкие плечи. Выпустив его руки, королева засунула обе ладони ему под куртку, провела по бокам от талии до плеч, завела руки брату за спину, коснулась лопаток, радуясь железным мышцам и твердым, как камень, костям. Она притянула Гарольда к себе.
– Двадцать лет назад ты был у меня первым. По правде говоря, ты был единственным – настоящим...
– Я думал, отец...
– Это было в четырнадцать лет, он заставил меня. А ты, после того, как был со мной, ты отдал меня этому порченому монаху, этому содомиту... я хочу тебя снова, Гарольд. Удели мне частичку себя, и я сделаю тебя королем Англии.
Уолт, стоявший у входа в альков, оглядел зал, от ближайших к нему теней до светлого проема вдали, спрашивая себя, слышал ли кто этот вопль, и если слышал, мог ли принять его за плач женщины, скорбящей по умирающему мужу? Какой-нибудь монах мог и ошибиться, но настоящий мужчина сразу бы понял, в чем дело...
Сам он относился к происходящему спокойно, даже с сочувствием. По закону кровосмешение каралось продажей в рабство, но по всей стране такие сношения были обычным делом, они укрепляли родственные узы, а родство – основа всего общественного здания. Старинные боги только этим и занимались. Он подумал, что сказала бы по этому поводу другая Эдит, Эдит Лебединая Шея, и сразу же отмахнулся от этой мысли. Не его это дело.
За час до рассвета Гарольд раздвинул занавеси, обхватил Уолта за плечи и отвел его к большим дверям.
– Оставайся здесь, пока король не умрет, – приказал он. – Посмотри, что произойдет, а потом мчись в Уолтхэм, словно вспугнутая ворона, – мне нужно узнать обо всем как можно быстрее.
Хлопнул Уолта по плечу, прошел через зал и скрылся. Уолт прислонился к деревянному косяку двери и принялся ждать, гадая, долго ли ему еще терпеть завывание монахов и собирается ли кто-нибудь из собравшихся в зале нынче завтракать.
Фрейлины возвратились. Мальчик принес поднос с едой – вареные яйца, ржаной хлеб, парное молоко. Уолт попросил накормить и его, но паж возразил, что яйца предназначены только для женщин и больных. Он сбегал куда-то и принес еще хлеба с тонкими ломтиками красной копченой говядины и чашу эля. Уолт поинтересовался, какая нынче погода, мальчик ответил, что снегопад продолжается, но не слишком сильный, дороги не заметет. Он обещал присмотреть, чтобы лошадку Уолта накормили и напоили, прежде чем подседлать.
Через четыре часа после рассвета, когда монахи пели службу третьего часа, вокруг кровати, где лежал король, началось какое-то движение. Мальчик-прислужник сорвался с места, второпях наступил на полу своей одежды и упал. Уолт первым подскочил к нему, поднял его на ноги и шепотом спросил:
– Что случилось?
– Король. Он уже хрипит.
Мальчик ринулся бежать дальше, но занавес уже раздвинулся – одна из дам, состоявших при королеве, не спускала с него глаз, – и вышла королева Эдит, подметая пол треном длинного черного платья, отделанного горностаем. Волосы ее были убраны траурными лентами также с каймой из горностая. Королева быстро, с высоко поднятой головой, прошла через зал, ее худощавое тело казалось воплощением королевского достоинства. Монахи расступились перед ней, как море перед Моисеем. Эдит взошла по лестнице, опустилась на колени у ложа умирающего, приложила ухо к его губам.
В горле у Эдуарда что-то заскрипело, словно сухая ветка на ветру, пузырек слюны вылетел изо рта и тут же лопнул. Король выпустил газы. Король умер.
Королева Эдит поднялась, распрямилась во весь рост, посмотрела вниз, в зал, и промолвила громким, отчетливым голосом – он раздался сверху, точно звук трубы:
– Супруг мой, король, умер. – Она набрала в грудь побольше воздуха и продолжала: – Вот его последние слова: «Предсказываю: выбор Витана падет на Гарольда Годвинсона. За него мой голос»[230].
Когда королева произносила эти слова, ее окружало сияние, которого никто не замечал прежде, во все двадцать с лишним лет ее замужества. Этой женщине вдовство было к лицу.
Глава тридцать восьмая
На следующий день, шестого января 1066 года, в день Крещения Господня, в день, когда Он явлен был трем волхвам и всему миру, Гарольд Годвинсон, эрл Уэссекса, был явлен своему народу в качестве короля.
Но прежде, чем избирать нового короля, нужно было избавиться от старого. Рано утром, как только собрались все имевшие право заседать в Витане, западные двери широко распахнулись, и тело Исповедника на высоко поднятых носилках вынесли в каменный зал, на холодный воздух. Дыхание смешивалось с дымом благовоний, впереди несли крест, окутанный черной тканью, монахи пели «Requiescat in Aetemum»[231]. Члены Витана обнажили головы, кое-кто опустился на колени, а затем все последовали в траурной процессии за королевой Эдит, надевшей свою серебряную корону с чередовавшимися жемчужными крестами и сапфирами. Они перешли в центральную часть зала. Эдит остановилась, закрывая лицо тонкой вуалью из расшитого шелка, слегка покачнулась, но Гарольд поспешно подхватил сестру и остаток пути прошел рядом с ней.
У часовни они свернули вправо, прошли через северный придел храма и приблизились к главному алтарю. Распятие еще не было отделено ширмой, окна не успели застеклить, здесь царил холод, хотя в церковь порой заглядывали яркие лучи солнца. Ряд камней извлекли из свежей кладки, вырыли продолговатую яму в намытой Темзой земле – король ляжет в могилу под плитами собора.
Заупокойную мессу служил Элдред, архиепископ Йоркский.
Члены Витана, почти сто человек, стояли вокруг могилы. Одни, озябнув, потихоньку переминались с ноги на ногу, другие кашляли или чихали, наиболее невоспитанные зевали и сплевывали – им было скучно, и те, кто еще не видел новый собор, разбрелись по сторонам поглазеть на его чудеса.
Наконец служба закончилась. Один из слуг снял с головы Исповедника корону, пряди седых волос на миг поднялись от легкого дуновения ветерка. Другой слуга снял с груди короля золотой крест, инкрустированный дорогими камнями, и заменил его деревянным, третий с большим трудом стащил с распухшего безымянного пальца королевский перстень с гигантским сапфиром.
Тело на черных кожаных ремнях опустили в могилу. Королева выступила вперед и бросила в могилу пучок бессмертников, перевитых веточкой розмарина.
– Нежнейшее – нежнейшему, – молвила она. – Спи с миром![232] – и отвернулась, промокая глаза платком.
Едва отзвучало последнее «аминь», все чуть ли не бегом устремились в южный придел, где уже были расставлены столы, скамьи и стулья.
Архиепископ Элдред уселся в большое кресло во главе стола и призвал собравшихся к порядку.
– Король умер, – провозгласил он, – и нам, членам Витана Англии, подобает избрать нового короля. Кто выскажется первым? Гарольд, сын Годвина! От имени короля ты правил этой страной и защищал ее более десяти лет. Тебе слово.
Гарольд поднялся с похожего на трон кресла – Уолт расстарался и обеспечил его этим подобием престола, пока все были заняты заупокойной службой, – и вышел на открытое пространство перед столом.
– Ваше преосвященство и вы, сотоварищи, премудрые члены Витана! В столь важном деле мы не должны руководствоваться соображениями выгоды или своими страхами. Доверимся Богу, последуем обычаю наших предков и изберем того, в чьих жилах течет королевская кровь, – Эдгара Этелинга, внука Эдуарда Железнобокого, последнего потомка Седрика[233]. Я, Гарольд, эрл Уэссекса, отдаю ему свой голос.
Ропот изумления, громкий ропот. Это предложение не было полной неожиданностью для членов Витана, в конце концов, главному претенденту на престол приличествует скромность, он должен хотя бы для виду продемонстрировать нежелание принять корону, однако подобная формулировка, к тому же столь категорически высказанная, удивила многих, а некоторых даже возмутила.
Выступил Этельвин, епископ Дарема, единственный, кстати говоря, английский епископ, который продолжит борьбу против Вильгельма после Завоевания.
– Право первородства – это франкский, римский обычай, а не английский, не саксонский и не датский. Позвольте мне напомнить, что Витан не должен обращать внимания на такие суеверия, как чистота крови и первородство по мужской линии. Мы должны выбрать человека, по возможности из числа родных или сподвижников покойного короля, который лучше всех способен защищать королевство и народ.
Освульф, правивший северной маркой, областью Карлайла, заговорил об опасном положении государства, напомнил, что Малькольм в Шотландии после смерти Макбета объединил страну, а в Норвегии набирает силу Харальд Суровый Правитель. Таны Освульфа и Моркара не смогут противостоять столь мощному противнику без опытного предводителя и без поддержки южных эрлов во главе с сильным королем. К этому Освульф добавил, что, согласно свидетельству королевы, Исповедник перед смертью завещал престол Гарольду.
После Освульфа слово взял Эдвин, за ним – Моркар. Они говорили о том, что в ближайшие месяцы для управления страной потребуется зрелость, мудрость, а главное – опыт.
Но один непокорный голос произнес вслух то, о чем другие предпочитали молчать.
– Со всем смирением, – заговорил настоятель Гластонбери (он был уже очень стар), – и не желая никого обидеть, я должен все-таки спросить: разве ничего не значит то обстоятельство, что Гарольд Годвинсон на древних и чтимых реликвиях принес присягу герцогу Вильгельму и обещал посадить нормандца на наш престол?
Сквозь поднявшийся шум прорезался голос Элдреда. Этот епископ тоже был стар, но говорил громко и отчетливо.
– Присягу вырвали обманом. Гарольд дал клятву из сострадания к своим родичам, которые, как он думал, находились в смертельной опасности. И в любом случае эта клятва – пустой звук, – громыхал епископ, – потому что Гарольд не вправе распоряжаться короной. Он пообещал Вильгельму то, что не в его власти. Только Витан, только мы все, собравшись вместе, можем избрать короля, только Витангемоту принадлежит эта привилегия. Так утверждают закон и старинные традиции Англии.
Заседание продолжалось, члены Витана стали высказываться увереннее, когда основное препятствие было устранено. Вскоре стало ясно, что противиться провозглашению Гарольда некому: нормандские священники во главе с Уильямом, епископом Лондонским, давно выскользнули из собора, большинство из них заранее сложили пожитки и теперь, должно быть, уже всходили на корабль. Исход заседания был ясен, но все, и молодые, и старые, непременно хотели принять участие в обсуждении столь важного дела, и каждый считал своим долгом повторить то, что было уже десять раз сказано и пересказано. Наконец Элдред взял Гарольда за руку, высоко ее поднял и воскликнул:
– Давайте изберем и наречем Гарольда королем Англии.
Все громкими криками одобрили его слова.
Эдвин и Моркар вместе с Леофвином и Гиртом накинули на плечи нового короля алый, затканный золотом плащ и проводили его к огромному трону, стоявшему на возвышении у церковных хоров. Вынесли скипетр и державу и вручили их королю. Элдред поднял корону, тремя часами ранее снятую с головы Исповедника, и надел ее на голову Гарольда. Большие двери распахнулись, и все видные граждане Лондона, которые не поленились отшагать три мили и пустились в путь, как только прослышали о кончине короля, толпой хлынули в храм.
Стиганд, стоявший слева от Гарольда, распростер руки и провозгласил:
– Hie residet Harold Rex Angtorum. – На престоле Гарольд, Король Английский.
Выйдя из собора, Гарольд первым делом подписал хартию, утверждавшую права Моркара на Нортумбрию, и назначил праздник Благовещенья днем своей свадьбы с Элдит.
В ту ночь Гарольд, его братья и столько дружинников, скольких смог вместить большой зал Вестминстера, собрались на пир в доме, где только что умер король. Они слушали музыку, пили и хвастали, как подобает мужчинам, теми подвигами, которые им предстояло совершить ради своих господ. К рассвету отважные ребята успели наголо побрить Ублюдка Вильгельма, сорвать с него одежду, трахнуть в зад, расчленить, выпотрошить как рыбу, – и все это после того, как каждый дружинник одолел его в поединке. Та же участь, само собой, постигла и всякого нормандца, посмевшего вступить вместе с герцогом на английскую землю.
Около полуночи новый король, закутавшись в плащ и надев высокие сапоги, потихоньку вышел из зала. Уолт последовал за своим господином по хрустящему снегу, под светом льдистых звезд, к большому белому зданию, которое, как представлялось издали, заслоняло от них весь мир. Когда стены собора нависали прямо над головой, казалось, что, кроме него, ничего не земле не существует.
Король распахнул дверь в южный придел и постоял на пороге, пока глаза не привыкли к темноте. Свечей было немного, две лампады горели перед дарохранительницей. Гарольд не выказал ни малейшего желания преклонять колени перед алтарем. Здесь, под сводом из белого камня, освещение было более тусклым, чем сияние звезд на дворе.
Гарольд свернул вправо, Уолт за ним. Слева остался высокий каменный блок, алтарь, символизировавший в глазах верующих тот стол, за которым Христос преломил хлеб со своими друзьями и пил с ними вино. Гарольд подошел к каменным плитам, накрывавшим тело Эдуарда, склонил голову, но молиться не стал. Он тяжело вздохнул, он вздыхал снова и снова, будто что-то мучило его. Уолт невольно рванулся к своему господину, и Гарольд услышал его движение.
– Это ты, Уолт?
– Да, сир.
– К черту, Уолт. Я не смогу полагаться на тебя, если ты будешь так обращаться ко мне. Поди сюда.
Уолт встал рядом с ним.
– Ты думаешь, самое трудное позади, да? «Многая лета королю!» – и все сладится само собой? Нет, это еще только начало. Если мы продержимся хотя бы год, тогда, быть может, мы уцелеем. Эдди, наш дорогой Эдди! Он уготовил нам путь через лес, полный скрытых ям и капканов. Где бы он ни был сейчас, он дожидается, чтобы мы угодили в ловушку.
Гарольд снова вздохнул, поднял голову и оглядел толстые колонны, высокие округлые арки, черные дыры, которые еще предстояло застеклить, чтобы они превратились в окна, дымящие свечи. Его пробрала дрожь.
– Едва лишь освятили этот собор, Уолт, он сделался усыпальницей одного короля и видел, как всходил на престол другой, но если дело обернется так, как хотят того Эдди на небесах и Ублюдок на земле, я стану последним английским королем. Не будет больше Англии, той Англии, какой ее знаем ты и я.
Часть VI 1066
Глава тридцать девятая
Итак, – сказал Квинт, – кузнецы трудятся, юноши продают землю и покупают боевых коней, и все думают только о чести.
– Примерно так, – согласился Уолт, постукивая по земле недавно выструганным посохом из орешника.
– Я слышал, что два мастера работают три недели, пока изготовят хороший меч, – припомнил Тайлефер. – Это правда?
Они поднимались по северному склону крайней гряды Тавра. Проводник обещал, что впереди их ждет последняя, самая последняя вершина, с которой они увидят море, а затем, если не считать небольших холмов, дорога все время пойдет вниз. Оно бы хорошо, после трехдневного перехода по горам животные устали, почти всем путешественникам пришлось спешиться и подгонять скотину палками сзади или тянуть ее вперед за недоуздок.
– Правда.
Дорога петляла, огибая приземистые дубы, нависшие над кручей, корни их торчали наружу в расщелинах известняка. Примерно в двухстах шагах ниже упавшие деревья лежали в мутном от мела ручье, струившемся среди покрытых лишайниками валунов. Уолт, отдуваясь, постарался объяснить:
– Меч должен быть достаточно тяжелым, чтобы прорубить доспехи или по крайней мере чтобы удар сбил врага с ног, даже если его шлем или кольчуга уцелеют, но при этом достаточно легким, чтобы сильный воин мог без устали сражаться от рассвета до заката. Кстати, это зависит не только от тяжести, но и от правильного распределения веса. Сталь должна быть прочной, но гибкой. Самый лучший клинок можно согнуть так, что острие почти коснется рукояти, а потом меч вновь распрямится, без изгибов и заломов. Лезвие должно быть острым и твердым, не зазубриваться. У нас для твердости добавляют уголь или окалину. Чтобы закалить металл, его погружают в лошадиную мочу, желательно от кобылицы в охоте. И конечно, рукоять меча, и головка, и эфес, все должно быть отделано золотом, серебром, медью, финифтью в соответствии с титулом и заслугами владельца.
– Да уж, это особенно важно, – иронически вставил Квинт.
– Конечно. Хороший, богато украшенный меч внушает врагу страх, но если противник и сам достойный воин, при виде такого меча в нем пробуждается мужество и готовность принять вызов.
Квинт в очередной раз отметил в убеждениях Уолта противоречие, которое не поддавалось доступной ему логике, хотя для англичан, по-видимому, тут не было никакого парадокса.
– Ну и как же создают это чудесное оружие? – полюбопытствовал Тайлефер.
– Мастер-кузнец, Вёланд[234], прежде всего выбирает железные бруски, проверяет, правильно ли они обработаны, выдержан ли срок, и тому подобное, потом кладет эти бруски в длинные песчаные канавки, примерно три фута в длину и чуть больше дюйма в ширину. Понимаете, это не простой деревенский кузнец, которого просят сделать плужный лемех или садовый нож. Тот, кто выковывает меч, должен знать древний обычай...
– Чушь, – буркнул Квинт.
– Он берет три таких бруска, точнее, три железных прута, – продолжал Уолт, не обращая внимания на этот комментарий, – и вместе со своим подручным нагревает эти стержни, пока они не раскалятся докрасна в кирпичной печи, на углях из древесины ольхи...
– ...которая также обладает магическими свойствами, – не удержался Квинт.
– Нет, – спокойно возразил ему Уолт. – Скорее наоборот: многие жители лесов считают ольху крестьянским деревом, она ведь растет у рек и на лугах. Важно другое: ее угли дают больше жара. Огромными щипцами кузнец и его помощник несколько раз поворачивают стержни, закручивают винтом, прежде чем сплавить их воедино. Изгибы придадут клинку упругость. Этот процесс именуется «созданием узора». Мастера бьют по металлу, пока он не примет форму клинка, и оставляют посередине длинную бороздку – желобок. От этого меч становится более гибким и легким, не теряя прочности. Затем они обрабатывают кромку лезвия с обеих сторон. Я уже говорил, как.
– Узоры, конечно же, складываются в руны и магические заклинания?
Уолт готов был дать волю раздражению, – сколько можно подначивать? – но тут Аделиза и Ален повернули обратно, помчались по извилистой дорожке, лавируя между верблюдами и осликами, а там, где склон горы был не столь крут, они ломились сквозь кусты, пренебрегая петлями тропинки. За три недели, что прошли с тех пор, как Уолт впервые увидел ее, когда она танцевала в полутемной комнате под звуки арфы Алена, Аделиза, стоявшая на грани отрочества и юности, еще на несколько шагов приблизилась к расцвету. Сейчас, при свете солнца, в коротком, до колен платьице, с разлетевшимися кудрями, которые выбились из-под узкой повязки, она была похожа на косулю или на юную валькирию.
Рассердившись, что сестра бежит первой, Ален решил срезать последний поворот, споткнулся, ободрав колени, и кубарем скатился к ногам взрослых.
– Мы добрались до вершины! – в два голоса завопили брат и сестра. – Первый осел уже наверху. Там есть источник. И море оттуда видно, не синее, не зеленое, а золотое, совершенно золотое, все горит и сверкает, словно огромное золотое блюдо или щит, тот самый щит Ахилла, про который папочка поет иногда. Там большие корабли, по пять рядов весел на каждом...
– Квинкверемы плывут в Ниневию, – пробормотал Тайлефер, почувствовав, как подступают стихи.
– Ты не мог с такого расстояния сосчитать, сколько там гребцов! – осадила брата Аделиза.
– Вообще-то эти узоры, – продолжал Уолт, – подчеркнутые шлифовкой или вкраплением золота, хотя и кажутся столь замысловатыми и точно выверенными, возникают сами собой, отчего весь процесс и называют «созданием узора».
Но все уже забыли об Уолте и его повести.
Вид действительно был великолепным. В Памфилии хребет Тавра близко подходит к морю, в пяти-шести милях от берега уже возвышаются его отроги, уходящие на семь, а то и восемь тысяч футов в небо. Узкая прибрежная равнина охватывает залив, словно нефритовое ожерелье с жемчужными подвесками. Четыре жемчужины – Адалия, Перга, Аспенд, Сида, главные города этой области. Земля здесь так богата, что плодов ее хватает для процветания четырех портов, отстоящих не более чем на пять миль друг от друга, и в каждом – свой форум, храмы, театр, цирк, гавань. К тому времени, когда Уолт увидел эти места, близился их упадок. В отсутствие Pax Romana, всеобщего мира, установленного некогда римлянами, торговые города становились добычей пиратов, чуть ли не каждый год переходили из рук в руки всевозможных сатрапов, калифов, королей, императоров, христиан обеих конфессий – но пока еще они процветали.
Основным источником изобилия были горы, дававшие древесину, дичь и меха, а главное – всевозможные каменья, от драгоценных до самых обычных. Подножие Тавра покрывали виноградники и оливковые рощи, на равнине выращивали хлопок, ткань из которого превосходила качеством даже египетскую. Здесь уже появились завезенные арабами и турками апельсины и лимоны, сахарный тростник, абрикосы, баклажаны, специи – тмин и кориандр, новые для Европы сорта арбуза, благоухающие цветы – жасмин, гвоздики и многие другие, на основе которых составляли духи, и, разумеется, здесь, как повсюду, росли злаки и корнеплоды – пища бедняков, корм вьючного и молочного скота.
И дары моря. В тот день путники лакомились на ужин омаром трех футов длиной и без клешней. Уолт был уверен, что омар без клешней – какое-то отклонение от нормы, если не творение самого дьявола, и уж конечно, эта тварь окажется ядовитой. Друзья с трудом уговорили его отведать новое блюдо.
И конечно же, в этом раю даже в конце октября было тепло, к полудню становилось жарко, и лишь по ночам возвращалась прохлада.
В ту ночь они пировали в доме Юниперы. Уолт уверился, что именно так, а не Джессикой и не Теодорой зовут их рыжеволосую госпожу, облаченную в шаль с павлиньими глазками, в изумрудной головной повязке и в золотых сандалиях. Юнипера сказала, что за недели, проведенные в пути, она научилась ценить их общество и защиту; она сплетничала с Аделизой, дивилась фокусам ее отца и внимала его песням, она чуть не плакала от умиления, когда Ален играл на арфе, черпала мудрость и знания в философских беседах с Квинтом. Разумеется, напади на них разбойники или попутчики, проку от ее новоявленных друзей было бы что от пучка соломы, потому Юнипера и дорожила Уолтом: хоть он и лишился руки, его осанка, а особенно его глаза свидетельствовали о том, что этот человек недорого ценит свою жизнь и с готовностью пожертвует ею за других.
И все же этот малый казался самым мрачным, замкнутым, несчастным человеком, какого ей только доводилось видеть. И теперь, накануне расставания, леди не постеснялась задать откровенный вопрос: отчего Уолт сделался таким? Ей ответил Квинт: Уолт был одним из ближайших соратников Гарольда, короля Англии. Почти все они погибли, защищая короля.
Завоевание Англии уже превратилось в легенды и песни. Вильгельм не постеснялся пустить в ход самую беззастенчивую пропаганду, чтобы представить англичанина варваром и глупцом, легкомысленно нарушившим свою клятву. Услышав об этом, Уолт тут же воскликнул, что после Господа нашего Иисуса Христа Гарольд был лучшим среди людей.
– Так докажи, что нормандцы лгут! – бросила ему вызов Юнипера.
Служанки Юниперы – она не держала в доме мужчин – уже убрали со стола пустой панцирь омара, кости, оставшиеся от павлина, окорок свиньи, прокоптившийся на горном воздухе, засахаренные ядрышки абрикосов, круги сыра, сваренного из молока горной козы. Они вдоволь выпили местного темного вина, полюбовались танцами Аделизы, аплодируя все более плавным и чувственным движениям – казалось, маленькие округлые груди, пупок и бедра совершенно самостоятельно выписывают круги и овалы, повинуясь звукам, которые извлекал из арфы Ален. Вдали, за пределами гавани, серебрилось вечернее море. Чересчур рано для отхода ко сну.
Тайлефер прикинул, что со времени его распятия в Никее прошло около сорока дней, а стало быть, пора завершить представление; он развлек публику левитацией, воспарив на открытой террасе до вершины пальмы. Дочка умоляла его вовремя остановиться: Иисус, напоминала она, скрылся за дымкой, а нынче небо безоблачное, совершенно пустое, если не считать ласточек, собирающихся в стаи перед отлетом в Африку, так что папочка выполнил этот трюк даже лучше своего предшественника.
Но англичанин угрюмо молчал, и лицо его за лил багровый румянец, куда более яркий, чем красные пятна на быстро заживающей культе.
Эта история не годится для столь прекрасного, изысканного вечера, каким они наслаждаются, пробормотал он наконец. Это рассказ о ранах и смерти, о боли, предательстве и трагедии.
Квинт решил спровоцировать друга.
– Да-да, предательство, – подхватил он. – Предательство и трагедия. Подумать только, целая страна обречена на века угнетения и рабства только из-за тщеславия и капризов одного брата и бестолковых распоряжений другого, возомнившего себя полководцем...
Уолт захлебнулся глотком вина и схватился за нож.
– Король Гарольд – величайший из полководцев, когда-либо живших на земле, – загремел он. – Он затмил всех ваших Александров и Алп-Арсланов. Проглоти свои слова или проглотишь клинок!
Квинт вскочил и укрылся за стулом Тайлефера, явно рассчитывая, что в случае необходимости фокусник подымет его в воздух, подальше от взбесившегося англичанина. Здесь он чувствовал себя в безопасности и продолжал поддразнивать Уолта, багровый кончик его носа зловеще светился:
– Полководец? Вздумал сражаться по старинке, как в сагах, где дружинники бьются, сдвинув щиты. К какой тактике он прибег? Стоял на вершине холма, словно в землю врос, пока его не изрубили, как капусту! Самой грубой его ошибкой было взглянуть на покрытое тучами небо и заявить: «Не вижу никаких стрел!»[235].
Квинт зашел слишком далеко. Перелетев через стол, Уолт набросился на него, колотя насмешника по лицу обрубком правой руки, а левой размахивая ножом – к счастью, серебряный столовый прибор с тупым лезвием и закругленным острием никому не мог причинить вреда. Общими усилиями Ален, Аделиза, Юнипера и многочисленные служанки наконец справились с Уолтом и усадили его на место.
– По крайней мере чертов монах-расстрига мог бы извиниться! – буркнул Уолт, задыхаясь. Девушки поспешно убирали разбитую посуду.
– Расскажи нам, как все было на самом деле. Если убедишь меня, что я не прав, я охотно попрошу у тебя прошения.
Повисло долгое молчание. Кто смотрел в свою тарелку, кто на стены, расписанные разнообразными фресками, от фривольных до религиозных. Аделиза гладила короткошерстую дымчатую кошку, вывезенную, как уверяла Юнипера, из Эфиопии, страны царицы Савской. Тайлефер откашлялся и сказал:
– Начни с рассказа о том, как Гарольд готовился к этой битве. Его короновали в праздник Богоявления, а вторжение произошло лишь спустя девять месяцев. Времени было более чем достаточно, чтобы подготовить нам достойный прием. Если он такой искусный полководец, как ты утверждаешь, он должен был принять меры.
Уолт глянул на него, промокая салфеткой кровь из разбитого носа – Аделиза стукнула его кубком.
– Ты был там, ты и рассказывай, – прорычал он.
– Я был там отчасти, – возразил Тайлефер.
– Это как понимать?
– Объясню в другой раз. Сейчас твоя очередь. Одно могу тебе сказать: к маю твой Гарольд успел столько сделать, что Вильгельм едва не отказался от своей затеи. Уверен, он бы забыл про английский престол, да боялся потерять лицо. Что же потом пошло не так?
Уолт вздохнул, сдаваясь.
– Ладно, – сказал он. – Если вам так хочется, я расскажу. – Он протянул Аделизе свою чашу, чтобы она налила ему вина взамен разлитого. – Боюсь только, моя история расходится с тем, что сочинил задним числом Ублюдок. В одном ты прав: к концу апреля мы были готовы, вполне готовы. Сразу после коронации Гарольд разослал нас по графствам набирать людей, учить и вооружать новобранцев.
Глава сороковая
Подожди снаружи, – распорядилась Эрика, соскочив со своей большеголовой лошадки, рыжей и белобрюхой. Поводья она накинула на низкий сук яблони, покрытой серебристым и зеленоватым лишайником. На дереве еще висело несколько желтых сморщенных плодов.
С луки седла Эрика сняла мягкий мешок, сшитый из кожи, бросила Уолту быстрый взгляд, обернулась и пошла по высохшей, прибитой заморозками траве к маленькому домику. Остроносые башмаки оставляли отчетливые отпечатки на дерне, уже истоптанном курами, собаками и босоногими ребятишками.
Прямая, высокая, Эрика носила кожаный пояс с хитроумной серебряной пряжкой, он стягивал ее длинное шерстяное платье, крашенное вайдой в синий цвет, подчеркивая талию и бедра. Голодная полудикая кошка выгнула спину, заплевала, зашипела на гостью, но Эрика, наклонившись, что-то прошептала ей, и кошка, задрав хвост, принялась тереться мордочкой о ее ногу. Отворив дверь, Эрика пригнулась под низкой притолокой и скрылась из виду.
Оно и лучше. Женские дела. Послед не выходит, что-то такое. Новорожденный пищал, как голодный котенок, потом из хижины донесся резкий вскрик – мучилась роженица.
Уолт видел, как в битве мужчинам отсекали руки, разрубали головы топором или мечом, так что мозг, зубы, осколки черепа брызгали во все стороны, но от одной мысли о плаценте или пуповине его поташнивало. Лошадь зафыркала, черным копытом высекла искры то ли из мерзлой земли, то ли из кремня. Уолт спешился, отвел коня к старой яблоне, а сам подошел к покосившемуся частоколу, который окружал хижину и примыкавшие к ней два акра земли. Забор давно нуждался в починке, хотя и мог еще уберечь огород от нашествия лис, а кур удержать дома. Уолт начал рассматривать окрестности поверх забора, но на саму изгородь предпочел не облокачиваться.
Воздух замер, он казался голубовато-фиолетовым в своей неподвижности, сильный мороз разукрасил деревья, убелил леса, карабкавшиеся к вершине холма. Все замерло, даже вороны не прыгали по крестьянским наделам, не кружили над деревьями, даже черного дрозда не видать на соломенной крыше – слишком холодно. Изо рта вылетал пар, оседал на усах, капельки мгновенно замерзали. Мороз пробирал Уолта под пестрой шубой из шкурок ласки, бобра и хорька, студил ноги в крепких сапогах из воловьей кожи. Только рукам было тепло в глубоких меховых рукавицах, черных, блестящих, сшитых из куска медвежьей шкуры. Польский король много таких шкур прислал Гарольду, поздравляя его с восшествием на престол.
Озноб бил Уолта не только от холода, но и от мысли, что там, в Иверне, отец лежит больной, похоже, не встанет. Уолт хотел бы побыть со стариком, но Гарольд дал ему множество поручений, которым придется посвятить остаток дня.
В хижине вновь раздались вопли и стоны, Уолт нехотя обернулся, но тут же послышался треск ломаемых надвое сучьев, над крышей начал тонкой струйкой подниматься белый дым. Дверь распахнулась, выскочил маленький мальчик, отмахиваясь на ходу от липнувшего к нему дыма. На вид мальчугану было лет семь или восемь, лицо чумазое, беззубая улыбка растягивала рот, белобрысые волосы слиплись от грязи. Сам вроде толстый, а руки и ноги как палочки. Да нет, вовсе он не толстый, просто обмотал вокруг тела все нашедшиеся дома обрывки материи и шкур.
– Она сказала, чтобы ты ехал обратно и привез молока, свежего хлеба и немного сыра, – пропищал малыш.
– Кто – она?
– Госпожа Эрика. У твоей тети в кладовке найдется сушеная мята, а может быть, и свежая есть в горшочке, если мороз не побил, так она сказала. Она велела нам ехать побыстрее.
– Нам?
– Она сказала, чтобы ты меня взял, а то забудешь, зачем она тебя послала.
– Хлеб, сыр, мята.
– И молоко.
Обрадовавшись, что может что-то сделать, Уолт подсадил мальчика на своего коня поближе к голове, а сам запрыгнул в седло и обхватил мальчишку сзади рукой.
– Держись крепче за гриву. Тебя как зовут?
– Фред.
– Альфред?
– Нет, просто Фред. А тебя?
– Уолт.
– Вальтеоф?
– Нет, просто Уолт.
– Мне понадобилась мята, она усиливает схватки. А все остальное – потому что в доме нет еды.
– А почему нет еды?
– Потому что Винк, ее муж, был глупцом. Порезал себе ногу серпом во время жатвы, нога нагноилась, и два месяца назад он умер. Фриде пришлось продать корову, теленка они съели – еще одна глупость. В доме остался только бульон из костей.
– Сама-то она как? Я имею в виду, насчет этого...
Он не мог произнести вслух слово «послед».
Эрика вздохнула, покрепче ухватилась за поводья, покачала головой. Прошло два часа с тех пор, как они подоспели к роженице, самое трудное вроде бы уже позади. Теперь они неторопливо ехали по известняковой тропинке в лес, на встречу с семейством углежогов – Уолту требовалось переговорить с ними от имени короля. Эрика обернулась к жениху, взгляд ее светло-голубых глаз встретился с его взглядом, соломенная прядь упала из-под капюшона на лоб. Уолту захотелось коснуться этой пряди.
– И да, и нет. Это оказался не послед, у нее были близнецы. Второй родился мертвым. Боюсь, и первый ребенок, девочка, вряд ли выживет. Да и сама Фрида...
– Их нужно перевезти в усадьбу, верно? – Он имел в виду усадьбу своего отца, огороженное поселение вокруг большого дома. – Там о них позаботятся.
– Да, но она боится переезжать в усадьбу.
– Это еще почему?
– Уолт, дорогой мой, тебе многому придется учиться, чтобы взять хозяйство в свои руки. Винк был фрименом, свободным крестьянином, ему принадлежал огород возле хижины и еще пара гайдов на северном краю деревни. Теперь его участок перешел к Фреду и Фриде. Если они переберутся в усадьбу, ты можешь забрать землю в обмен на защиту и покровительство, и они утратят свободу. Вот чего она боится.
– Что же делать?
– Пообещай, что она, Фред и малыш останутся в усадьбе лишь до тех пор, пока не сумеют сами позаботиться о себе. Фрида поверит, что надел у нее не отнимут, только если ты присягнешь в этом на деревенском совете. Пока ты не дашь клятву, она с места не сдвинется.
До ближайшего совета – мута, оставалось два дня. Хотелось бы надеяться, что мать Фреда продержится так долго. Эрика сказала, если больная не умрет в течение ближайших шести часов, то доживет до мута, а умрет, значит, так суждено.
Из низины, заросшей березами, тропинка тянулась вверх, к длинной волнообразной гряде холмов, поднимавшейся над Долиной Белого Оленя до самого Шефтсбери. Придержав коней, Уолт и Эрика оглянулись назад, на пройденный путь, на Иверн, Шротон и похожий на спину кита Хэмблдон, на простиравшуюся во все стороны седую от инея долину, поля и леса. Там и сям над далеко разбросанными селениями подымался голубоватый дымок. Уолт знал: когда закончится его служба, большая часть того, что он видит сейчас, будет принадлежать ему, ему и Эрике. Но впервые он задумался над тем, что жизнь знатного тана и даже эрла отнюдь не сводится к пирам и охоте.
Они перебрались на другую сторону холма. Здесь лес рос гуще, дуб, ясень и падуб вытеснили березу. Глубокое молчание леса сомкнулось над ними, перестук лошадиных копыт, слышавшееся порой конское ржание или легкий звон упряжи казались почти кощунством. Наконец Эрика заметила знак, белую засечку, оставленную топором на темно-серой коре ясеня. В этом месте они свернули с тропы.
Склон становился все круче, мерзлые комья земли так прочно срослись с осыпавшимися желудями, что в любой момент лошади могли поскользнуться и покалечиться. Эрика и Уолт спешились и повели лошадей в поводу. Темно-зеленые падубы, обычно такие нарядные, выглядели сиротливо: коралловые ягоды давно расклевали дрозды, а ветки были обглоданы так, словно их специально подровняли примерно на высоте плеч рослого мужчины. Вскоре путники поняли, кто тут потрудился: в ста шагах впереди стадо оленей сосредоточенно чавкало, поедая мясистые листья, один олень от усердия даже уперся передними копытами в серебристый ствол. Животные замерли на мгновение, словно на картинке, и тут же исчезли, не выдав себя ни звуком – ни одна ветка не хрустнула у них под ногами, не зашуршал лист, даже когда они по очереди принялись перепрыгивать через мелкий, но широкий ручей, скованный льдом. Олени приближались к ручью, наклонив головы, высматривая подходящее место для прыжка и приземления, а затем высоко задирали морды и вытягивали шеи так, словно собирались взлететь к верхушкам деревьев.
– Уже недалеко, – промолвила Эрика. Примерно в полумиле залаял пес, за ним другой.
На росчисти стояло шесть хижин, маленьких даже по сравнению с жилищем Фриды, просто круглые шатры, сплетенные из прутьев и накрытые дерном, а под ним – ямы, землянки. Рядом возвышались пять печей для обжига, пять больших, с тонкими стенками пирамид, сложенных из дубовых сучьев и тоже накрытых сверху дерном. Воздух над ними колебался от жара.
Угольщики собрались полукругом на порядочном расстоянии от приезжих, настороженные, готовые вступить в бой или убежать. Они держали в руках топоры и большие ножи, инструменты своего ремесла и в то же время оружие. Говорили они на кельтском наречии Корнуолла, однако считали себя древнее кельтов, и некоторые ученые монахи утверждали, что это последние потомки людей каменного века, которых загнал в тогда еще девственные леса пришедший ему на смену бронзовый век. Они часто переходили с места на место, мгновенно исчезали, почуяв угрозу, кормились мясом птиц и зверей, если удавалось подстрелить их или поймать в ловушку, и продавали уголь, меняли его на любые необходимые товары.
У племени был вождь и была королева, которую они чтили превыше вождя, хотя именно вождю надлежало вести переговоры и улаживать отношения с внешним миром. Звали вождя Бран[236], это был крупный мужчина, сложением напоминавший кузнеца и с ног до головы закутанный в меха. От маски оленя, красовавшейся у него на голове, отходило семь ветвистых рогов, а ниже маски лицо закрывала кустистая черная борода, к которой никогда не прикасалась бритва. Располагая небольшим запасом слов, Бран объяснялся по-английски не слишком свободно: помогал себе взмахами рук, знаками, на пальцах прикидывал числа. Иногда Эрика приходила ему на помощь, подсказывала нужное слово.
Уолт просил тысячу бушелей угля сверх того, что обычно продавали углежоги, причем срочно, к пятнадцатому апреля. По древнему календарю в этот день заканчивался месяц Черной Ольхи, а черная ольха, по словам углежогов, – лучшая древесина для угля, «самая яростная, самая жаркая в схватке с огнем».
Бран правил углежогами от реки Стаур на западе до Эймсбери-Эйвон на востоке. Обе реки сливались у гавани Туинхэм и с оглушительным грохотом обрушивались в море у Хенгистберихед. На широкой плоской вершине горы Хенгистбери были найдены богатые залежи железа, и Уолт надеялся, что ему удастся доставить избытки угля к новым рудникам, привезти туда же кузнецов и создать новые оружейные мастерские.
Время подгоняло. В устье Сены уже начали строить большой флот, Бастард собирал большее войско, чем удавалось выставить на поле битвы какому-либо английскому королю со времен Эдмунда Железнобокого. Вторжения ожидали в конце апреля, как только стихнут весенние бури.
Воинам требовалось оружие и доспехи, не сотнями, а тысячами, и здесь, в сердце леса Крэнбурн-Чейз, Бран, пользуясь моментом, заключил в начале февраля невероятно выгодную сделку, запросив втрое против обычной цены. Не изжадности, заверил он Уолта, но потому, что придется рубить даже подрастающие деревья и пройдет года три, прежде чем восстановится нарушенное равновесие. Вдобавок с Уолта причиталось большое количество эля и вина (мед жители дубовых рощ и сами поставляли соседям), копченые окорока и соль.
Но самое главное условие Бран приберег напоследок.
– Каждый год, – заговорил он, сидя на стволе упавшего ясеня, ковыряя в зубах острием большого ножа и поминутно сплевывая, а старейшины его племени (среди них были не только мужчины, но и женщины) стояли рядом, кивками подтверждая его слова, – каждый год мира приносит этой стране все большее процветание, все больше детей доживают до зрелости, растут деревни и города, вам нужно больше земли под пшеницу, ячмень и сады. Вы расчищаете лес, вырубаете, выжигаете его, лес с каждым годом отступает. Если не будет войн и сражений, вам не понадобятся мечи и щиты. Болота по обе стороны Эйвона уже осушили, извели черную ольху, которая так нужна вам теперь...
– Никто не в состоянии уследить за этим. Даже король не может, – перебил вождя Уолт.
– Пусть так, – признал Бран, – но за каждые пять гайдов расчищенного леса ваш король и его эрлы будут отдавать один гайд в полную нашу собственность, и король должен подтвердить наше право охотиться в этих лесах, пока они существуют. Дай нам твое слово и слово короля Гарольда, тогда пять племен, живущих между Стауром и Эйвоном, и наши родичи, живущие между Эйвоном и Итченом, предоставят тебе твою тысячу бушелей.
Они продолжали торговаться далеко за полдень, оранжево-красное зимнее солнце низко висело над лесом, почти задевая верхушки деревьев, вскоре оно сделалось багровым и стало спускаться к западу. Из самой большой хижины, где ее принимала королева углежогов, вышла Эрика и попросила мужчин договариваться поскорее: от Иверна и Шротона их отделяло три часа езды, им уже не хватит дневного света, чтобы вернуться. Уолт дал слово к последнему дню Масленицы привезти из Винчестера хартии и грамоты, закрепляющие права Брана на новые угодья, а Бран обещал завтра же отправить вниз по Стауру в Туинхэм лодки, груженные углем из старых запасов.
Садясь на коня, Уолт крепко стиснул плечо Брана.
– В твоих же интересах соблюсти наш договор, старик, – предупредил он его. – Если Гарольду не хватит оружия и королем сделается Незаконнорожденный, вам тоже конец.
– С чего бы это? Завоевателю понадобится все оружие, какое только можно достать.
– Если победит Ублюдок, войн больше не будет, а вот охотиться он любит.
– Места хватит для всех.
– Нет, Бран. Сперва он загонит вас в угол, потом обратит в христиан и, наконец, в рабов. Вильгельм ни с кем не станет делиться добычей.
Они снова перевалили через холмы, отделявшие Чейз от Долины Белого Оленя. На дальней линии горизонта солнце опустилось до самой земли, гигантские лиловые тени ложились на припорошенную снегом тропу, последние лучи вспыхивали между столбами дыма, поднимавшимися к небу над обеими усадьбами. Эрика придержала коня и, потянувшись к Уолту, коснулась его руки.
– Их королева дала мне подарки в обмен на мою брошь, – сказала она. – Брошь моей матери.
– Что за дары? – поинтересовался Уолт.
Она протянула ему кусочек кремня, округлый, с голубыми и белыми прожилками. Хотя камень был невелик, легко помещался в маленькой ладони Эрики, ошибиться в значении формы, приданной ему природой, было невозможно: это было тело беременной женщины, выпяченный живот, налившиеся груди. А второй дар – ветка дуба, с темно-золотыми листьями поздней осени и с тремя каштанового цвета желудями, крепившимися каждый к свой шапочке.
Уолт почувствовал, как много означают эти дары для Эрики.
– Сохрани их, – сказал он. – Эти талисманы принесут нам счастье и трех здоровых детей.
Усмехнувшись, Эрика убрала подарки королевы в свою сумку.
– Ты хорошо говорил с углежогами, – похвалила она. – И с Фридой тоже.
Он слегка покраснел и промолчал.
– Ты здорово вырос за последние пять лет.
Она намекает на ту любовную игру жарким летом у старинного крепостного вала Хэмблдона?
– Теперь ты – мужчина.
Копыта коней снова застучали по дорожке из известняка и кремния, петлявшей между березами. Уолт хотел ответить: «Ты тоже стала женщиной», но эта фраза показалась ему чересчур банальной, к тому же она означала бы, что действительно стал мужчиной в самом грубом, примитивном смысле этого слова.
– Но ответь мне, – продолжала Эрика, – чей ты слуга: Гарольда или короля?
Загадка какая-то. Англичане любят загадки.
– Разве возможно одно без другого?
– Я хочу сказать: когда дело дойдет до битвы, за что ты будешь сражаться – за Гарольда или за все это?
Он медлил с ответом, понимая, что Эрике его ответ не понравится. Пятнадцать лет он прожил вдали от «всего этого», хотя часто думал о родном очаге и тосковал по нему. Теперь «все это» вызывало у него легкое раздражение. Повседневная рутина: проверять, не расшатались ли изгороди, защищающие поля от оленей, не наведались ли крысы в амбар, готовы ли к весенней вспашке бороны, которыми пользовались сообща зависимые крестьяне; послать плотника к старой вдове починить прялку, уладить на совете спор из-за межи, самому судить, кто виноват в том, что паренек, отправившийся погулять с луком и стрелами, случайно подстрелил свинопаса. Мальчишка увлекся, преследуя красноногую куропатку, и забрался на вересковую пустошь, куда ему ходить вовсе не следовало. Через месяц на совете сотни нужно будет точно определить вергельд, если родичи свинопаса потребуют уплатить пеню... и так далее, и тому подобное.
Эти хлопоты разительно отличались от привычной жизни дружинника, от бесконечных тренировок и воинского товарищества, грохота доспехов в бою, пиров и похвальбы за чашей меда, от торжества коронации, от простого и твердого знания: он человек Гарольда и останется им до самой смерти, потому что это и значит быть дружинником, да не простым дружинником, а постоянным спутником Гарольда, его «комитатом», членом той восьмерки, которая, сдвинув щиты, станет последней защитой короля в битве и беззаветно поляжет рядом с ним.
И все же Уолт понимал, о чем спрашивает Эрика.
Они поскакали дальше, мимо усадьбы Иверн, по дороге, соединявшей ее со Шротоном. Дорогу уже привели в порядок, ведь когда Уолт женится на Эрике, два селения сольются в одно. При свете звезд они без труда различали знакомый путь через поля, через березовую рощу. Тонкие деревца призрачно серебрились в темноте.
– Я человек Гарольда, но все это принадлежит ему.
Это только отчасти было уверткой. Уолт чувствовал, что в словах его – правда.
– Я буду держать эту землю от его имени и, может быть, получу еще много, много земли.
Даритель колец, даритель земли. Гарольд, конечно, не станет отнимать у соседей Уолта, верных королю танов, их владения, однако... однако Уолт как-никак стал уже не только телохранителем, но и олдерменом, ему поручено набирать ополчение, доверено заседать в Витангемоте, а потом Гарольд сделает его настоящим эрлом, эрлом Дорсета, например, и соседние таны будут держать земли от него, а не напрямую от короля или эрла Уэссекса...
Но Эрика не закончила свою мысль:
– Держишь ли ты землю от Гарольда или от короля, она не твоя собственная, она передана тебе, да и королю она не принадлежит, ему вверили ее люди, которые обрабатывают эту землю в обмен на покровительство и защиту. Ты дважды в долгу, перед королем и перед людьми, и ты обязан беречь эту землю и заботиться о тех, кто живет на ней.
– Итак, – сказал он и сам потянулся рукой навстречу ее руке, – твой вопрос содержит в себе ответ. Сражаться за короля и значит сражаться за эту землю и этот народ.
Она улыбнулась, довольная его ответом, – довольная, но не совсем. Они добрались до ворот ее усадьбы.
– Когда начнется поход?
Он только плечами пожал.
– Кто знает? – Сделал глубокий вдох и решился: – Давай сперва поженимся.
Глава сорок первая
Уолт распахнул широкие, не запертые на засов ворота, прошел в огороженную часть усадьбы. Да, ворота были не заперты, а к чему их запирать? Небольшой запас монет, праздничная посуда, украшения, одежда из лучшего меха, кашмирской шерсти, шелка и тонкого полотна хранились в закрытых сундуках, а все остальное имущество тана ничем не отличалось от богатств, накопленных его крестьянами и жителями окрестных деревень. Никто не решился бы на воровство, разве что в пору крайней нужды, а если б такой отчаянный человек и нашелся, его уличили бы на ближайшем совете – как укрыться от глаз соседей?
Хотя Эрика согласилась сыграть свадьбу до начала войны, Уолт чувствовал тяжесть на сердце. Он не признался своей невесте в том, что отец его страдает не обычным упадком сил, какой случается у стариков зимой, что он умирает. Отчасти он скрыл это потому, что не хотел огорчать девушку, не хотел возлагать на нее лишние заботы, но отчасти и потому, что со смертью отца наступал конец старой семьи, которая включала когда-то и его родителей, и братьев с сестрами. Эрика лишь тенью проходила по краешку его детских воспоминаний, и Уолту казалось правильнее одному проститься с прежней жизнью, ни с кем не деля печали.
В зале было темно, только сальная свечка горела на дальнем конце стола да огонь пылал в жаровне. Отец лежал на подстилке, седая голова покоилась на подушке, множество меховых одеял, главным образом из бобровых шкур, громоздилось на нем и вокруг него. Старуха Анна, в чьих жилах текла кельтская кровь, старейшая обитательница усадьбы, сидела на стуле в головах больного, занятая каким-то рукодельем. Присмотревшись, Уолт заметил, что Анна забыла продеть нитку в ушко иглы, и кусок льна на пяльцах в ее левой руке хранит лишь следы старой вышивки.
– Как он? – спросил Уолт, сбрасывая с плеч свою пеструю шубу.
– Час от часу все хуже, – ответила старуха. – Он уже отходит.
Уолт склонился над отцом. Из открытого, влажного от слюны рта вырывалось слабое прерывистое дыхание, каждый вздох давался с трудом.
– Позвать священника?
– Не стоит. Он уже примирился. Он готов уйти.
– Откуда ты знаешь?
– Он смотрел на закате, как по ту сторону ручья заходит солнце. Оно выкатилось на миг за деревьями – огромный красный шар – и скрылось. Тогда он велел закрыть двери и растопить очаг. Попросил горшок, написал с наперсток, выдавил из себя дерьма с горошину, как козий орешек. С тех пор он не ест и не пьет. Я много раз это видела. Те, кому настала пора покидать мир, знают, что надо делать.
– Скажи мне.
– Они хотят уйти чистыми.
Уолт присел у ног Анны, следя за тем, как шевелятся ее распухшие пальцы, взад-вперед, словно усталые крабы, двигаясь над пяльцами. Теперь Уолт сообразил, что старуха вовсе не выжила из ума и не ослепла, не пытается шить пустой, без нитки, иголкой, нет, она старательно, стежок за стежком, удаляет старую вышивку. Анна прочла его мысли.
– Рисунок уже поблек, – пояснила она, – нитки истончились, а основа еще вполне годится. Наверное, твоя Эрика захочет вышить на ней что-нибудь новое.
Они прислушались к тишине, заполненной тихими звуками: старик втягивал в себя воздух, каждый вздох длился не дольше, чем удар пульса. В жаровне шуршал, осыпаясь, уголь, на соломенной крыше возилась мышь или зимующая птица, пучок соломы упал вниз.
– У него была неплохая жизнь, – пробормотала старуха.
Уолт понимал: она не приговор произносит, не оценку дает, это было бы немыслимо, и не потому, что умирающий был ее господином, а она – дочерью отпущенного на волю крепостного, не в этом дело: никто здесь, ни господа, ни рабы, не привык судить своих ближних. Судили поступки, не людей.
– Да, неплохая. Ему повезло, он родился в хорошие времена.
Когда Эдвину сравнялось десять лет, прекратились войны между данами и саксами, Кнут призывал в походы на Скандинавию английских данов, а от западных саксов требовал только денег. Бывал, конечно, голод, случался и мор, но не так часто, и ни одно бедствие не длилось больше года.
Они сидели рядом. Холод давал о себе знать, Уолт подбросил угля в жаровню.
– Могу молока тебе подогреть.
– Не стоит. А ему?
– Я же сказала: ему это уже ни к чему.
Она снова заговорила, Уолт придвинулся ближе, чтобы разобрать ее слова.
– Когда я была молодой, монахи, приезжавшие сюда из Шефтсбери, рассказывали нелепое предание. В прежние времена, говорили они, римский священник пытался обратить наш народ в христианство, и тогда один старик в Витане сказал: посмотрите на воробья, который залетел из бурной ночи в дом, к теплому очагу. Он снова улетит от огня и вернется в бурю и тьму. Пока к нам не пришел этот священник, мы все были подобны этому воробью, мы не видели ничего за пределами дома, где горит очаг.
– Что тут нелепого?
– Глупо надеяться, будто мы когда-то узнаем о том, что кроется во тьме. Но кое-чему это предание все-таки учит.
– Чему же?
– Мы все должны делиться друг с другом от нем и теплом, пока они есть у нас. Помогать другим справиться с этой жизнью. Больше у нас ничего нет. Ну вот, готово! – Она отложила в сторону пяльцы. Маленькие дырочки просвечивали в полотне там, где еще недавно были нитки.
Эдвин умер за час до того, как пропел петух. Смерть оказалась не столь легкой, как предсказывала Анна. Он задыхался, кашлял, приподнимался на постели – глаза выпучились на истощенном, посеревшем лице, пот ручьями струился по шее, собираясь в ямках между напрягшимися сухожилиями, умирающий из последних сил пытался вдохнуть. Анна и Уолт поддерживали его.
– Это не человек в нем так мучается и бьется, – сказала старуха, когда Эдвин яростно затряс головой. – Это всего-навсего тело. Тело ведь не распоряжается собой. Как вода – поставишь ее на огонь, она закипит.
Еще одна, последняя судорога, и тело откинулось на постель, бессильное, как пучок травы.
На следующий день из Шефтсбери приехал священник, прочел молитвы, сумел разжечь кадильницу и помахал ею над покойником, обмытым, уложенным на высоких козлах в лучшем шерстяном плаще, крашенном шафраном. Священник спросил, где они намереваются похоронить тана. На деревенском кладбище, как всех, ответили ему.
– Стало быть, эта земля освящена? – спросил священник своим сдобным, сытым голосом.
Никто не знал наверное. Ни церкви, ни часовни там не было.
Стали решать вопрос, что положить Эдвину в могилу. У тана была красивая оловянная чаша, с ободком из необработанных гранатов, с бусинами вокруг донышка. Он любил пить из нее на пиру. В сундуке нашелся меч: стальной клинок длиной в три фута, изящная рукоять, ножны из коры ивы, поверх них натянута алая кожа. Уолт осмотрел ножны, извлек клинок, взмахнул им несколько раз и решил, что меч для него слишком легок: он-то вымахал на шесть дюймов выше отца. К тому же Уолт больше доверял своему оружию, опробованному в войне с Уэльсом. Пусть Эдвин берет с собой меч, так и не пригодившийся ему при жизни, пусть отражает им чудовищ, поджидающих человека во тьме внешней, за пределами света и тепла пиршественной залы.
Глава сорок вторая
Сидя верхом на гнедом жеребце (подарок ко дню коронации от султана Гранады), Гарольд смотрел вниз с Портсдауна на большую гавань примерно в миле впереди и построенную римлянами крепость Портчестер. Гавань Портсмута сияла и переливалась, словно серебряный щит, вокруг квадратной башни и городских стен с бойницами. Залив был почти круглый, с узким выходом в море. Множество причалов и лодочных мостков сбегало со всех сторон с заболоченной земли в воду; упряжки по десять-двенадцать лошадей волокли к берегу неохватные стволы дубов, а на берегу без устали трудились плотники, распиливая эти бревна длинными двуручными пилами. Там, где течение реки было достаточно быстрым, ставили облегчавшие плотницкий труд водяные лесопильни. Возле них еще сотни ремесленников, вооружившись топорами, теслами, буравами и сверлами, рубанками, молотками и железными гвоздями (гвозди мешками поставляли из Форест-оф-Дина), выстругивали, обтесывали, сколачивали распиленные доски согласно указаниям корабелов.
Уже построенные суда, длиной в семьдесят футов, по тридцать-сорок весел на каждом, покачиваясь на глади залива, лавировали на неглубокой воде. Хлопали паруса на ветру, солнечные блики играли на наконечниках копий, на круглых и треугольных щитах. Экипажи отрабатывали приемы посадки на суда и высадки на берег. Легкий бриз развевал разноцветные, полосатые флаги, натягивал узкие знамена, раздвоенные на конце, словно ласточкин хвост. Все выглядело как нельзя лучше – стройно, аккуратно, четко. Не забыть похвалить брата Леофвина, ответственного за подготовку флота.
Пятьдесят кораблей уже спустили на воду, еще около полусотни были почти готовы. Экипаж боевой ладьи состоял из тридцати человек, обученных и возглавляемых немногими ветеранами-моряками, которые продолжали служить на протяжении нескольких десятилетий мира или участвовали в коротких походах на Уэльс. Тогда под командованием Гарольда они поднялись на судах по Аску и Уаю и с помощью подоспевшего Тостига зажали Гриффита в клещи. А где Тостиг теперь? В Брюгге? Согласно последним сведениям, его люди драят обросшие ракушками днища двух десятков кораблей, которыми располагает мятежный эрл; он разослал вестников, шпионов, или, как в народе говорят, «соглядатаев», по всем усадьбам и манорам некогда принадлежавших ему южных графств. Гонцы Тостига распространяют зловещие слухи, возбуждают недоверие к королю.
Гарольд тяжко вздохнул, и взгляд его снова обратился к простиравшейся перед ним гавани. Англы, даны, юты, саксы, даже кельты из западных областей и лесов Кента. Эти народы впервые объединились и приняли общее имя – англичане. Англов, собственно говоря, было меньше, чем саксов или данов, но ни один дан не согласился бы именоваться саксом, и у саксов гонора не меньше, так что все охотно сделались англами, англичанами. И все же у Гарольда было пока слишком мало воинов; не больше трех тысяч человек здесь, на юге, прошли подготовку и получали плату дружинников и примерно столько же на севере. Около шести тысяч бойцов, куда меньше, чем черных и белощеких казарок, собиравшихся большими клинообразными стаями перед боевыми судами Гарольда, готовясь к ежегодному отлету домой – в Исландию и дальше, в те страны полуночного солнца, о которых поется в сагах.
Лошади вокруг Гарольда ржали, били копытами, звенели сбруей. Несмотря на пробивавшееся сквозь тучи весеннее солнце, животные мерзли на открытой всем ветрам вершине горы. Ветер развернул знамя, древко которого, как обычно, держал Уолт. Золотой дракон на некогда пурпурном фоне, теперь вылинявшем и сделавшемся красным – герб Уэссекса. Гарольд озабоченно нахмурился: это знамя, вьющееся теперь у него над головой, по преданию, сопутствовало Эдмунду Железнобокому в битве при Ашингдоне ровно полвека тому назад. Тогда дружинники из Мерсии предали Эдмунда, и королю пришлось обратиться в бегство. Железнобокий начал переговоры с Канутом, и месяц спустя спор между ними был решен в пользу данов: Эдмунд сохранил за собой Уэссекс, Канут забрал все остальное. Еще через два месяца Эдмунд скончался, и Канут получил все.
Раньше Гарольду не приходило в голову, что знамя может стать для него дурным предвестием. Люди оборачивались, снимали головные уборы, завидев его, и в битве они будут отстаивать этот стяг, покуда он реет над ними. Однако совпадения накладывались одно на другое, сгущаясь зловещей тенью: пятьдесят лет, вторжение иноземцев, предательство Мерсии.
Чуть ниже на укрытом от ветра склоне горы дожидались несколько женщин, тоже верхами. Гарольд приехал в эти места не только затем, чтобы осмотреть растущее войско и флот, но и желая проводить Эдит Лебединую Шею из Бошема в Уэймут, откуда она собиралась отплыть в Уэксфорд и вместе с детьми дожидаться исхода событий. Гарольду пришло в голову, что по пути он может заехать еще в одно место. Он подозвал к себе Уолта. Уолт передал штандарт Даффиду и подъехал к королю.
– Уолт, по дороге в Уэймут мы остановимся в Керне. Я хочу повидаться с матерью, пока есть время. Она может кое в чем мне помочь.
– Еще десять миль – и мы бы проехали через Иверн.
– Посмотрим. Во всяком случае, я отпущу тебя на денек домой.
Король снова обратил лицо к югу, прикрыл глаза от сверкавшего серебром Солента. Там, вдали, простирались зеленые холмы острова[237]. Сомнения вновь нахлынули на Гарольда. В любое место от Эксетера до устья Темзы может ударить копье норманнов. Или нет? Они теперь нормандцы, не норманны, миновало сто лет с тех пор, как изогнутые черные суда с драконьими головами на носах являлись в Англию через Пролив[238]. Как многие завоеватели до них и после них, северяне не брали с собой женщин. Их внуки и правнуки, рожденные от дочерей земледельцев, утратили навыки мореходов. Вильгельм выберет самый короткий путь, в этом Гарольд был уверен. Чтобы высадиться к западу от Острова, ему понадобится восточный ветер, а при восточном ветре он не рискнет выйти в море, побоится, как бы не унесло мимо Фастнет-Рок через океан прямиком в Винланд[239]. Нет, гости явятся с южным или юго-западным ветром, самым коротким путем, и как только они отчалят от берега, флот, который строит Гарольд, погонится за ними по пятам, тот же самый ветер окажется и для него попутным, а на берегу нормандцев будут ждать дружинники и ополченцы. Мы сразимся на берегу, думал Гарольд, а если им удастся проникнуть в глубь суши, будем бить их на лугах и на холмах.
Успокоившись, он притронулся шпорами к бокам гнедого жеребца и поскакал вниз по холму к своей любимой – пусть не единственной любви его жизни, но единственной женщине, которую он любил.
– Обосрались! – заорал Вильгельм, и Ланфранк с неудовольствием приподнял брови. Его ломбардской утонченности претила грубость, даже из государевых уст.
Кроме Ланфранка рядом с Вильгельмом стояли его сводные братья – Одо, епископ Байё, и Робер Бомон, а также старый Эсташ, граф Булони, зять Эдуарда Исповедника. Только что им сообщили, что за последние дни пять нормандских баронов решили отказаться от похода, а неделей раньше от предприятия откололись еще двое. Нет, конечно, они готовы помочь сюзерену деньгами и даже кое-какими припасами, как требует вассальная присяга, преданность господину и все прочее, однако теперь, когда пронесся слух о близящемся союзе между Бургундией и Францией, они считают за лучшее оставаться дома по крайней мере до конца года, ибо сейчас не время для экспедиции в чужие края. На самом-то деле рассуждали они примерно так: с какой стати рисковать жизнью в сражениях против превосходящих сил противника, когда у нас и так есть надежные замки и обширные земли, а наш герцог страдает манией величия и заносится так, словно на вершок до неба не достает?
В то утро Вильгельм побывал в Гавре и имел удовольствие лицезреть, как два его новехоньких корабля перевернулись кверху дном под напором внезапно налетевшего, но не слишком сильного ветра.
Теперь он носился вокруг дубового стола, пинками разбрасывая во все стороны табуреты (только Вильгельму поставили кресло, всем остальным – трехногие табуреты), размахивал кулаками.
– В дерьме! – твердил он. – Все эти паршивые короли и герцоги от Сицилии до Польши только и ждут, чтобы я плюхнулся на задницу, а именно это и должно произойти. Армии нет, корабли, стоит на них дохнуть, валятся кверху брюхом, точно блохастый щенок. Глупо было полагаться на этот сброд. Кто из вас присоветовал мне это?
Он яростно озирался, собравшиеся отводили взгляд, никто не смел ответить.
Робер откашлялся и робко высказал предложение:
– Поищем союзников? Уэльс? Шотландия? Харальд?
Одо, загибая пальцы, отверг эти предложения одно за другим:
– Уэльсцев Гарольд уже бил, он взял у них заложников, и они боятся его. Что касается шотландцев, Моркар и Эдвин могут еще колебаться, чью сторону им принять, покуда Гарольд не обрюхатит их сестру, но если ты явишься к ним с шотландцами, это привяжет их к Гарольду прочнее, чем любой родственный союз. Харальд? Харальд стар, но все еще первый полководец в мире – прошу прощения, второй! – если он высадится на севере и победит, что весьма вероятно, поскольку норвежцы Нортумбрии, а может быть, и даны встанут за него, он не остановится на достигнутом. Тебе придется воевать не только с Англией, но и с Норвегией.
– И еще одно, – вставил Эсташ, отличавшийся лучшей памятью, чем все присутствовавшие. – Харальд тоже может предъявить претензии на английский престол. Его права не столь очевидны, как твои, – торопливо добавил он, – но все же...
Повисло мрачное, зловещее молчание. Ланфранк, едва скрывавший нетерпение и с презрением слушавший досужую болтовню, откашлялся в свой черед.
– Не пойму, чего вы все так переполошились.
– Не поймешь?! – Оба кулака Вильгельма грохнули по столу перед носом у аббата. – Может, ваша святость соизволит поделиться с нами своими радужными планами? Только прежде, чем раскроешь рот, учти: тебе же будет лучше, если скажешь что-нибудь путное. Я тут кое-что слышал насчет твоего заведения в Ле-Беке, насчет разврата и мужеложества – не прикрыть твою школу, а?
Глаза Ланфранка потемнели, но он подавил невольную судорогу гнева. Он был мастером компромиссов, умел уступать и поддаваться, проявлять, где понадобится, гибкость, зато никогда не упускал своего шанса.
– Сир, – заговорил священник, – господа! Мне кажется, все складывается не так уж плохо. – Он подвигался на трехногом табурете, устраиваясь поудобнее. – Во-первых, бароны. Если они отправятся с нами через Пролив, поведут своих людей, тогда после победы тебе придется наделить их землями. Они станут еще могущественнее, чем прежде, и досаждать тебе будут хуже прежнего. Пусть вместо ополчения дадут тебе денег. Собери с них все до гроша и на их золото найми других, бери всякого человека, который явится к тебе на коне и во всеоружии. К чему ограничиваться одной Нормандией? Все младшие сыновья от Литвы до Пиренеев с радостью последуют за тобой, многие и платы не спросят, если ты посулишь им землю.
Вильгельм опустился в свое тронное кресло, наклонился вперед, сцепив огромные ручищи.
– На то, чтобы набрать войско за границей, уйдет несколько месяцев.
– Очень хорошо, – улыбнулся Ланфранк и, нагнувшись, вытащил из плоской кожаной сумки свиток прекрасно выделанного пергамента. Он развязал ленточку, которой был перетянут свиток, развернул перед собой тонкую ягнячью кожу, покрытую паутиной черных строк, написанных впопыхах, с кляксами, без каких-либо завитушек. Проведя пальцем вниз по листу, ломбардец нашел то, что требовалось: – Во-первых. Незачем так спешить. После того, как мы разобьем Гарольда и разберемся с остальными Годвинсонами, нам придется еще подавлять сопротивление на местах, а для этого нужно обеспечить достаточный запас продовольствия себе и войску, не полагаясь на подвоз провианта через Пролив. Уже поэтому нам следует отложить вторжение, пока не будет собран урожай. Если мы явимся в Англию до конца июля, все житницы будут пусты, а если мы уничтожим в бою ополчение, некому будет жать хлеб...
Вильгельм снова ударил кулаками по столу, на этот раз с хищной ухмылкой:
– Пусть убл... придурки сперва заготовят запас зерна на год, а потом мы покончим с ними. Почему никто из вас не подумал об этом? – Он снова обернулся к этому чужаку, церковнику из Ломбардии. – Так когда мы отправляемся? В сентябре-октябре? К тому времени мы успеем набрать людей, способных сражаться, и построим корабли, которые будут держаться на воде. Но как же ветер, Ланфранк, ветер и бури? Разве осенью не начнется ненастье?
– На рубеже сентября и октября обычно ненадолго устанавливается хорошая погода. Бури, как правило, заканчиваются к середине сентября.
– Что ж, ты у нас священник, вот и обратись к Всевышнему. Пусть не чинит препятствий, когда наступит удобный момент. Дальше что?
– Тостиг, мой господин, брат...
– Незачем объяснять мне, кто такой Тостиг. Чего он хочет, кроме своей Нортумбрии?
Глава сорок третья
Они двинулись по старой римской дороге через перевал Портсдаун к Саутгемптону. Боярышник уже готов был выстрелить цветами, появились бутоны на шиповнике и жимолости. Колокольчики сплошным ковром устилали подножье лесов, в складках холмов склонились головками первоцветы. Эдит и Гарольд решили пройтись пешком. Эдит Лебединая Шея наклонилась, сорвала три первоцвета, сняла фибулу, закреплявшую плащ Гарольда на плече, и хотела приколоть к его куртке цветы, но тут сильная рука Гарольда остановила ее, ухватив за тонкое запястье. Король опустил голову, присматриваясь к цветам.
– Никогда раньше не замечал этих красных пятнышек, – удивился он.
– Дар фей, – пояснила Эдит. – В них таится благоухание цветка. Вот, понюхай. – И тут же, коснувшись его локтя: – Слышишь – кукушка!
Они пошли дальше, Рип нагнал их, принял из рук Эдит и Гарольда поводья лошадей. Королевская свита, множество мужчин и женщин, слегка приотстала от них. Взяв Гарольда за руку, Эдит робко заговорила с ним:
– Так что же произошло?
– Я не дотронулся до нее, вот что.
– Я знаю.
– Знаешь?
– Конечно, знаю.
– Ты держишь шпиона под моей кроватью?
Она рассмеялась:
– Тогда мне не пришлось бы спрашивать, верно? Ну-ка, рассказывай все как есть.
Он постарался припомнить. Свадьбу отпраздновали в большом соборе в Оксфорде. Моркар и Эдвин предпочли бы Вестминстерское аббатство, но Гарольд возразил: нет, в аббатстве состоится коронация Элдит, когда все беды будут позади. Эрлы понимали – это просто отговорки. Они предложили поехать в Йорк, но и от этого Гарольд отказался. Йорк расположен далеко на севере, а он предпочитал оставаться на юге страны. Даже тогда, в марте, он боялся покинуть юг. Гарольд рассказал Эдит, как все происходило:
– Было холодно. Помнишь, какой стоял март? Даже подснежников не было. Эта бедняжка прямо тряслась, пока я не велел накинуть на нее меховой плащ поверх свадебного платья.
– Она дрожала не только от холода?
– Конечно. Она была до смерти напугана.
– Какая она?
– Братья говорят, ей исполнилось четырнадцать, а на мой взгляд – не больше двенадцати. Тощая, темные волосы мышиными хвостиками, не слишком чистые: холодно было, не удалось их как следует промыть. Она простудилась, из носу у нее текло, губы обметало, на лбу и щеках какие-то пятна.
– Да полно! К чему это? Ты же знаешь, я не ревнива.
– Ты хотела знать, как обстоят дела.
– Конечно. На моем месте ты бы тоже спросил.
– Да, наверное.
В молчании они прошли несколько шагов, потом Эдит слегка сжала ему руку, побуждая продолжать.
– Ладно, – произнес он, – но имей в виду: правду знаю лишь я и эта бедняжка. От тебя у меня тайн нет, но ты помалкивай: если ее братьям станет известно, что она осталась девственницей, наш союз развалится.
– Что же ты сделал?
– Я читал ей вслух, пока она не уснула.
– Ты не так уж хорошо читаешь.
– Ну, эти истории я знаю наизусть. Мне их мать в детстве рассказывала.
– По-датски?
– Кое-что по-датски, кое-что по-английски.
– Что же это за истории?
– Волшебные сказки, загадки. И те ирландские сказания, которые ты нашим детям пела. Еще «Битву при Мэлдоне».
– Должно быть, ты привел ее в восторг.
– Во всяком случае, я нагнал на нее сон.
Гита, мать Годвинсонов, была ровесницей давно перевалившего за середину столетия. В Англию Гита приехала из Дании: ее брат Ульф взял в жены родную сестру Канута, а Гиту в 1018 году выдали замуж за Годвина, которому Канут даровал титул эрла, вверив ему управление Островом. Таким образом, хотя в жилах Гиты текла не королевская кровь, она приходилась свойственницей Кануту, и поселившиеся в Англии даны чтили ее и ее сыновей. Еще до смерти Годвина Гита удалилась в монастырь возле Керна в Дорсете и там, как говаривали, сделалась жрицей старой веры. Поначалу она училась у той старухи, которая сотворила таинство обручения Эдуарда и дочери Гиты. С помощью этого действа Годвинсоны надеялись хоть на несколько минут внушить королю желание, чтобы он смог овладеть Эдит. Однако эти события происходили за восемь лет до того, как в Керн приехала Гита.
Гита возделывала сад, скрещивала и прививала плодовые деревья, а также розы, выводила новые сорта. Ей удалось создать первый со времен римского владычества цветочный бордюр, он тянулся вдоль южной стены монастыря и состоял из ирисов, больших маргариток, аканфа, златоцветников, розовых и красных гвоздик. В холодную или сырую погоду Гита удалялась в свою келью, погружалась в ветхие манускрипты, однако книжной премудрости ей было недостаточно, она слушала бродячих певцов, беседовала с деревенскими женщинами, молочницами, повитухами, и пыталась по крупицам восстановить некую прарелигию, соединяя воспоминания о языческих верованиях данов, на которых она выросла, с пережитками культа Богини, сохранившимися к западу от Стаура. Именно эта женщина могла выткать для Гарольда его личное знамя, придумать герб, который, как он надеялся, пересилил бы зловещие предзнаменования золотого дракона Уэссекса.
Когда-то Гита отличалась высоким ростом и крепким сложением, но годы сгорбили ее, серые волосы поредели, морщинистые щеки напоминали скорлупу грецкого ореха. Она приняла Гарольда и его свиту, нарядившись в пурпурное платье, отороченное мехом, и в большой черный бархатный колпак с мягкими полями. На шее висело тяжелое серебряное ожерелье, украшенное гранатами, аметистами и топазами. Ожерелье раскачивалось, цепляясь за все подряд.
Гита горячо обняла Гарольда и Эдит, повела их в свой обнесенный стеной сад, усадила за стол, распорядилась принести медовуху и сок. Над головой свисали ветви поздноцветущей вишни, ее белые цветы на фоне неистовой голубизны неба внушали каждому, кто на них смотрел, почти чувственный восторг. Порывы ветра обрывали лепестки, и они, кружась, падали на траву.
– Белая Пасха, – заметил Гарольд. – На две недели позже обычного срока.
– Чушь! – бодро возразила Гита. – Белое для Одина[240] и ежегодного жертвоприношения короля, чтобы весенний посев завязался в земле.
Принесли мед и кислый сок. Гита заставила гостей выпить этот напиток, сделанный в первую неделю мая из выжатого яблочного сока с добавлением уксуса.
– Очищает мочевой пузырь и кровь. Вот так. Почему вы решили навестить меня?
Гарольд рассказал матери, как ему почудилось, будто герб Железнобокого на его штандарте принесет несчастье. Да и вообще королю подобает иметь собственное знамя. Не возьмется ли мать вышить для него стяг?
Вскинув руку, Гита патетическим жестом указала поверх низкой черепичной крыши на редкие ивы у ручья и поросшую падубом долину.
– Воитель Керна! – воскликнула она. – Я вытку для тебя его точное изображение на ярко-зеленом фоне. Восемь на шесть футов. Что скажешь?
Эдит и Гарольд молча переглянулись.
– В точности воспроизведешь его? – спросил Гарольд.
– Разумеется! Это образ мужественности, знак силы. Твоим ребятам это понравится, а нормандцы ужас как обозлятся.
– Он... – Эдит сделала паузу, так что ни у кого не оставалось сомнения, что она имеет в виду, – он несколько великоват.
Гарольд покраснел.
– Когда ты сделаешь знамя? – спросил он.
– Успею. До Михайлова дня[241] оно тебе не понадобится.
Глава сорок четвертая
Юнипера зажала в густо накрашенных губах большую перламутровую виноградину. Поверх ее головы, поверх рыжих кудрей, стянутых золотой сеточкой, Уолт видел, как восточный край неба за окружавшими темный склон амфитеатра кипарисами обретает лиловый, словно спелая слива, оттенок. Кровотечение из носа прекратилось.
– И все это обернулось против него, – заметила она. – Поделом ему: нечего было полагаться на старую веру.
– Неправда! – отозвался Квинт, отделяя от корочки последний слой белого козьего сыра. – Я уверен: Воитель сделал для Гарольда все, что обещала Гита. Эти вещи существуют только в сознании людей. Если с точки зрения кельтов и ополчения Воитель Керна означал мощь и силу, значит, он помог им сражаться.
– По правде сказать, примерно через неделю после этой поездки в Керн дела пошли намного хуже, – признался Уолт.
Юнипера улыбнулась – ласково, но не без ехидства.
– Продолжай, – поощрила она Уолта. – С чего все началось? Дай-ка я угадаю. С кометы?
– Нет, к тому времени комета уже исчезла. Она появилась двадцать четвертого апреля. Конечно, люди считали это дурным знамением, но Гарольд только смеялся: надо еще определить, для кого дурное, говорил он.
– Это неправильно, – настаивала Юнипера. – Подобные явления всегда предвещают большие перемены. Он уже занял престол, а Вильгельм нет. Стало быть, перемена ожидалась в пользу Вильгельма.
– Но комету видели повсюду, – напомнил ей Квинт.
– А разве у нас ничего не происходит? Мусульмане захватят страну еще до конца века. Алп-Арслан, Вильгельм Завоеватель...
– Не называй его так! – с мукой в голосе выкрикнул Уолт.
Юнипера только плечами пожала и отделила от лозы еще одну гроздь.
– Ладно, – уступила она. – Значит, дело не в комете. Так что же случилось?
– Вернулся Тостиг. Явился в Бембридж с тысячей воинов и сорока кораблями.
– И что произошло? – спросил Ален, пощипывая струны арфы. На какое-то время он отвлекся от рассказа, но сейчас, когда запахло битвой, мальчик снова заинтересовался.
– Ничего особенного, – ответил Уолт.
Леофвин, уполномоченный на то Гарольдом, вытеснил Тостига из Бембриджа и погнал его на восток вдоль побережья вплоть до Сэндвича, где Тостигу удалось ненадолго закрепиться. Тостиг захватил корабли, стоявшие в гавани, и силой заставил моряков остаться на этих судах. Леофвин не упускал мятежного брата из виду, но в бой с ним не вступал, а Гарольд тем временем отправился в Лондон, закончил набор ополчения и выступил с войском на Сэндвич. Теперь Тостигу угрожали сразу две армии, не говоря уж о флоте, и он предпочел покинуть Сэндвич, поднялся по реке Бернхэм до Норфолка и проник в залив Хамбер. Двинувшись на юг, он потерпел сокрушительное поражение от войска старинного королевства Линдси во главе с Эдвином, эрлом Мерсии. Тостиг ускользнул с остатками своих людей, но на побережье Йоркшира наткнулся на Моркара, и тот завершил начатое братом. С двенадцатью суденышками – все, что уцелело от его флота, – Тостиг бежал на север, в Шотландию, где изгнанника принял старинный друг, король Малькольм.
В целом Гарольд был доволен тем, как проявили себя жители Мерсии и Нортумбрии. Он уже почти не сомневался в преданности северян, хотя и понимал: Эдвин и Моркар сражались прежде всего затем, чтобы не дать Тостигу вновь овладеть Нортумбрией. Кроме того, Гарольд убедился, что принятых мер вполне достаточно – флот был надежен и хорошо послужил ему; в каком бы месте ни высадились захватчики, через два дня верные королю войска могли дать им отпор.
Июнь перешел в июль, лето подвигалось к середине, лазутчики Гарольда то и дело сновали через Пролив. Они утверждали, что Вильгельм не выйдет в море до середины июля. Но вот уже и август начался, и в первые три дня этого месяца Уолт отпраздновал свадьбу с Эрикой, а потом вернулся в Портчестер обучать только что набранных дружинников и ополчение, которое Гарольд не решился распустить. Теперь лазутчики в качестве вероятной даты вторжения называли середину августа, но, по словам Уолта, именно тогда, в самом начале августа, настроение начало неуловимо меняться. Вновь заговорили о клятве на священных реликвиях, принесенной минувшим годом в Байё.
Подоспела пора жатвы, и тут план Ланфранка оправдал себя: крестьяне, обязанные служить без жалования всего два месяца, опасались лишиться запасов на зиму, роптали и возмущались. Сперва их отпускали по домам небольшими группами, потом отпустили почти всех, обязав вернуться по первому требованию. И погода прояснилась: неделю за неделей на небе не появлялось ни облачка, и ветер дул только с севера или северо-востока.
– Это все скучновато, – пожаловалась Юнипера.
– Северный ветер, – не обращая внимания на ее слова, продолжал Уолт, – мешал переправиться Вильгельму, но зато он позволил Харальду отплыть из Норвегии...
– Еще один Гарольд? Как тут не запутаться!
– Харальд, – поправил ее Уолт. – Король Норвегии. Наверняка ты слышала о нем. Он раньше служил вашему императору и императрице Зое[242].
– Ах, этот Харальд! Я и не знала, что он стал королем Норвегии. Боже, какой мужчина! Однажды я видела его – красавец, волосы цвета червонного золота, рост по меньшей мере семь футов. Подумать только, он еще жив!
– Он умер.
– Но ты ведь сказал...
– А я бы хотел больше узнать про Вильгельма и его войско, – вмешался Квинт. – Что они-то поделывали все лето?
– А я почем знаю? – слегка обиделся Уолт. – Меня там не было.
– А Тайлефер был. Ты же был в Нормандии, верно? Ты мог бы рассказать нам эту часть истории, прежде чем Уолт перейдет к ее завершению.
Тайлефер наклонился над столом, в одной руке нож, в другой – гранат.
– Говорили, в нем сидит дьявол или он рожден от дьявола. Пожалуй, точнее не скажешь, если, конечно, допустить, что дьявол существует...
– Несомненно, дьявол существует, – угрюмо проворчал Уолт.
– He так уж несомненно, – парировал Квинт. – Но ты лучше объясни нам, почему ты прибегаешь к столь сильным выражениям? Полагаю, Вильгельм был всего-навсего человеком, не больше и не меньше.
– Трудно передать это словами. – Тайлефер надрезал ножом твердую кожуру граната, разломил плод надвое, так что обнажились две сердцевидные коробочки, заполненные семенами в сочной оболочке. Бывший менестрель вгрызся в плод, набрав полный рот семян, и принялся жевать, порой сокрушая зубами косточки, порой выплевывая их в подставленную руку. Красный сок потек по его подбородку.
– Поаккуратнее с этим плодом, – возмутилась Юнипера. – Его место – в святая святых.
– Я знаю. Я черпаю в нем вдохновение[243].
– Что еще за вздор? – сердито воскликнул Квинт.
Тайлефер и Юнипера обменялись понимающими взглядами, а Уолт зевнул и подумал, что снова выпил лишнего.
– В его темных глазах стояла пустота, сколько ни всматривайся – ничего не увидишь, ни души, ни личности. Его будто велакакая-то внешняя сила, он не имел собственных желаний и старался оправдать ожидания других людей. Это вовсе не означает, что он отличался кротостью, покорностью, – напротив. Скажем так: Вильгельм был вынужден постоянно что-то доказывать, он стремился совершить что-то такое, что помогло бы ему утвердиться в своих глазах и глазах окружающих, но достигнутого всегда оказывалось мало, и, пришпорив себя, он мчался дальше. Связано ли это с его происхождением и воспитанием? Да, вероятно. Дочь честного кожевника, погубившая свою репутацию, но так и не ставшая настоящей герцогиней, должно быть, постоянно твердила своему первенцу: «Вилли, что бы люди ни говорили, ты герцог и сын герцога, ты должен вести себя соответственно, ты должен получить свое, никому не уступай...» Что-нибудь в этом роде. Но было и нечто большее.
Иногда он походил на живого мертвеца, на человека, одержимого духом, который явился неведомо откуда и завладел его телом. Это проявлялось даже в самых обычных его жестах, в том, как он ходил, ел, пил. Он двигался рывками, склонив голову набок, подаваясь вперед, руки заложив за спину, так что казалось, будто они связаны, будто он сам попросил, чтобы ему связали руки за спиной, иначе ему не удержаться от очередного злодейства. От какого злодейства? Да он бы вырвал печень у новорожденного младенца и сожрал, если бы счел, что это добавит к его облику необходимый штрих.
Несмотря на странные, порывистые движения, вовсе не выглядел неуклюжим, он хорошо ездил верхом, только слишком жестоко обращался с лошадью – полагаю, лошади не слишком радовались такому наезднику. В бою Вильгельм был силен, быстр и свиреп, как лев. Он не верил, что его могут ранить, и даже если у него текла кровь, считал это царапиной.
– Он умен? – поинтересовался Квинт.
– Хитер, скорее. Он мог просчитать следующий ход или воспользоваться чужим советом, но перспективу он охватить не в состоянии.
– Как это? – удивилась Юнипера.
– Да очень просто. И пример тому – его притязания на английскую корону. Ведь Нормандия гораздо меньше, беднее Англии, это во всех отношениях отсталая страна. У Вильгельма не было ни армии, ни средств, необходимых для такого предприятия.
– Но он двадцать лет воевал с Бретанью, Францией и Анжу...
– Это пустяки, пограничные стычки.
– Но что-то же было в нем, кроме хитрости и склонности к насилию?
– Вот что: он полностью, всей душой предан своей идее. Раз приняв решение, Ублюдок ни о чем больше не думал, не сомневался, не колебался, он прямо, упорно, неуклонно шел к цели, и ничто не могло его остановить. Он готов был выслушать и принять, даже с каким-то смирением, любой совет, любую мысль, любую подсказку, способствовавшую осуществлению его плана, но становился абсолютно глух, когда заходила речь о препонах на пути к цели, не допускал даже вероятности того, что эти препятствия могут оказаться непреодолимыми. Люди, окружавшие Вильгельма, Одо, Робер, Ланфранк, давно разгадали эту его особенность и сумели стать хорошими помощниками герцогу. Они уже не пытались понять, что будет лучше, что хуже, но душу свою и тело превратили в послушные орудия своего господина и превосходно служили его честолюбивым замыслам. В Нормандии мало воинов? Добудем в другом месте. Нет кораблей, нет опытных моряков? Построим флот, дождемся попутного ветра, хорошей погоды, поплывем самым коротким путем. Нет денег? Выжмем из крестьян все до колоска, отнимем у Церкви золотые и серебряные украшения и расплавим их, будем занимать, занимать повсюду – вернем после победы. Знаете ли вы, что все украшения, утварь, ковчежцы, облачения священников и прочие сокровища нормандских монастырей, соборов и церквей доставлены из Англии, выделены из английской добычи взамен тех, которыми Вильгельм расплатился со своим войском?
Уолт застонал.
– Я так понимаю, он наделен огромной работоспособностью и не упускает из виду мелочей, – высказал предположение Квинт.
– Вовсе нет, вовсе нет, – с несокрушимой уверенностью возразил Тайлефер. – Да, он все время трудится, не дает себе передышки, он раздражителен, нетерпелив, дергает подчиненных, давит на них, негодует, если вчера не исполнили то, что взбрело ему в голову сегодня, вечно вмешивается в чужую работу, хотя ничего в ней не смыслит. Его «деятельность», его безжалостный, неутомимый натиск, часто мешает делу и приводит к обратным результатам.
– Она антипродуктивна, – подсказал Квинт, любитель неологизмов.
– Вроде того. Кстати, насчет деталей ты тоже не прав. Да он просто плюет на них, пока что-нибудь не произойдет – тут он, конечно, устроит всеобщий разнос. Однако, хотя важных подробностей он и не видит, герцог маниакально привержен порядку. Если выложить перед ним ряд неверных деталей и одну правильную, он тут же отшвырнет от себя правильную. Так-то он и приобрел славу великого организатора, и эта система отчасти оправдала себя, когда начали прибывать наемники.
– Пестрая смесь, я полагаю?
– Пестрая? Их объединяло только одно – преступные наклонности. Они были способны решительно на все. Ты же знаешь, как это бывает: у человека есть добрый конь, хорошее оружие, он умеет пользоваться и тем, и другим, доспехи и лошадь принадлежат лично ему, а не выданы каким-нибудь князем или вельможей, который может и отобрать свое имущество – такой человек уверен, что вправе творить все, чего пожелает, покуда не наткнется на двух всадников на добрых конях и во всеоружии. Так вот, если ты обладаешь чем-то ценным, землей, семьей или хотя бы честью, способностью отличать добро от зла – тогда еще есть надежда, что ты используешь лошадь и доспехи ради сколько-нибудь достойного дела, например, будешь защищать людей, которые от тебя зависят, или сражаться с человеком, который пытается отнять у тебя твои владения, но беда в том, что у этой оравы не было ничего. Младшие сыновья, незаконнорожденные, ублюдок на ублюдке, все эти Фитц-как-их-бишь[244], немало и знатных, богатых прежде людей, совершивших какие-нибудь преступления, изгнанных или бежавших из родных мест. Были и просто наемники, викинги, литовцы, латвийцы, поляки, франки, ломбардцы, баски, даже мавры – можешь себе это представить?
Они начали прибывать весной. Когда они выстроились на берегу Нормандии, то выглядели как настоящее отребье, и наш главный Бастард впал в ярость. Ни один человек не переправится через Пролив, заявил он, пока не будет обмундирован, как все нормандское войско: конический шлем с забралом, кольчуга длиной до колен, с разрезом ниже талии спереди и сзади, чтобы не мешала сидеть на коне и закрывала бедра, копье, узкий щит и вспомогательное оружие. Только в вопросе о вспомогательном оружии наш полководец допускал поблажки, поскольку понимал, что в сражении от него больше всего проку. Пусть каждый воин сражается привычным для него оружием, будь это булава, боевой топор или меч. Далее, сапоги со шпорами и хороший конь – отличный конь без изъяна, желательно жеребец или мерин. Если у пришельцев не было подходящего снаряжения, им предлагалось либо купить новое, либо отдать свою рухлядь в переплавку и переделку – это оплачивала казна. Разумеется, почти все предпочли второе, поскольку денег ни у кого не было. Эти распоряжения Вильгельм отдал еще весной. Он полагал, что к сентябрю все будет готово.
Герцог разделил свое войско на три отряда. Все, кто пришел с запада и юга, именовались бретонцами, им предстояло сражаться на левом фланге. Пришедших с севера и восточного берега Рейна он окрестил франками и обещал поставить на правом фланге. Нормандцы и те, кто претендовал на это звание (многие явились из новых колоний, например, с Сицилии), должны были сражаться в центре рядом с самим Вильгельмом, чтобы хоть кто-то разбирал его приказы. В каждый отряд он назначил командиров из числа нормандцев и тех, кто принял нормандские имена, всяких там Говардов, Кейтов, Уолдергрейвов, Хоу, Хейгью, Уорренов, Фитц-Осбернов, Мале. И надо помнить, что этому сборищу необузданных авантюристов, распутников, убийц, святотатцев, насильников нечего было терять, когда дело дойдет до битвы. Лишиться руки, ноги, жизни – подумаешь, важность, им и так на редкость повезло, что до сих пор не убили. Все они знали, что рано или поздно их искрошат в схватке или вздернут на виселицу. Терять им было нечего, а приобрести они могли весь мир. А вот англичане страшились утратить очень многое, все, что вмещалось в это слово – «Англия». Когда человек сражается за то, чем он дорожит, он хочет остаться в живых, чтобы обладать этим и впредь, но когда захватчик сражается за то, чем еще только вожделеет завладеть, неудача ему страшнее гибели. Трудно разделить эти два состояния духа, и слепую, отчаянную решимость легко перепутать с истинной отвагой...
Но тут Тайлефер заметил, что его слова больно задевают Уолта, и смолк. Юнипера резко поднялась.
– Пора спать, – объявила она. – Твои дети уже заснули. Наверное, завтра вечером Уолт расскажет нам конец этой печальной саги. Я жду не дождусь узнать, какая судьба постигла Харальда.
Усталые, захмелевшие, они разбрелись по от деланным мрамором коридорам в те комнаты, которые указала им Юнипера. Тайлефер нес Аделизу на руках, Квинт вел за руку сонного Алена. Уолт, шедший позади, слышал только обрывок их разговора. Речь все еще шла об армии Вильгельма.
– Какой сброд! – говорил Квинт. – Что наемники, что их вождь! Я пытаюсь подыскать слово, которое означало бы болезнь души, такое помрачение духа, при котором любой поступок кажется допустимым. «Психопаты». Что скажешь? Свора психопатов. И подумать только, несмотря на все мятежи и восстания, они сделались правителями Англии на... как ты думаешь, надолго? Навсегда, должно быть.
– По меньшей мере, на тысячу лет, – отозвался Тайлефер.
Восстания? Мятежи? Значит, в Англии еще что-то происходит? Не все закончилось битвой при Гастингсе и смертью короля?
Словно ледяная ладонь стиснула сердце Уолта. Англичанин чувствовал отвращение к самому себе, он стал себе жалок и мерзок.
А Тайлефер, улегшись в постель, долго еще не мог уснуть. Его тоже тревожили воспоминания, маячила высокая фигура неистового герцога: вот он носится взад-вперед, теребит козлиную бородку, брызжет слюной и пронзительным гнусавым голосом отчитывает кого-то за малейшую неисправность. «Все на своем месте и всему свое место! – орет он. – Запишите. Запишите все от слова до слова, чтобы все было сделано как надо. Я требую, чтобы все было записано и хранилось вплоть до Судного дня».
Странно это, если учесть, что Вильгельм практически не умел читать.
Глава сорок пятая
Значит, ты видела Харальда Хардероде. – Квинт перегнулся через стол, наклоняясь к Юнипере, пристально глядя в ее сумрачные глаза своими бледно-голубыми.
Леди слегка покраснела.
– Давно это было.
– Он уехал из этих мест девятнадцать лет тому назад. Вернулся в Норвегию и унаследовал престол, когда умер Магнус.
– Я была... девчонкой, совсем ребенком. Ему недавно миновало двадцать. Как он был красив! И такой огромный! Я тогда жила в Эфесе со своим первым мужем. Я вышла замуж очень рано, понимаете? – Она обвела взглядом сотрапезников, приподняла нежное, белое, словно молочная пенка, лицо. – В Эфес съехались богатые люди, купцы, толстосумы. Харальд хотел одолжить денег, чтобы подготовить экспедицию на Крит и Мальту и вернуть острова императрице.
– Ты видела его?
– Да. Мельком, конечно. Ему пообещали деньги, он, в свою очередь, посулил от имени императрицы Зои, что в случае успеха этого похода будут снижены пошлины, и все завершилось пиром, вернее сказать, небольшой пирушкой.
Поджав губы, Юнипера внимательно оглядела своих слушателей.
– Твоя очередь, Уолт, – распорядилась она. – Расскажи нам, что делал Харальд в тысяча шестьдесят шестом году. Тогда он был уже стар.
– Да, верно. Лет за пятьдесят.
Юнипера тихонько вздохнула.
– Это был великий воитель, – продолжал Уолт. – Могучий воин и хороший полководец. Его называли последним из викингов. Не знаю, почему он вообразил, что Англия должна принадлежать ему...
– Полагаю, – вставил Квинт, – дело обстояло примерно так: после смерти Канута на английский трон претендовал Магнус, потом, когда Гарольд Заячья Лапа умер, оставался только Гардиканут, и они с Магнусом пришли к соглашению...
– Опять вы про скучное! – надула губки Юнипера.
– Да уж, – подхватили Аделиза с Аленом. – Ну же, Уолт, расскажи самое интересное.
– Попытаюсь. Так вот: что там происходило у Тостига с Харальдом, как давно они вели переговоры, наверное никто не знает...
– Ну так и нечего говорить об этом!
– Так или иначе, в первой половине сентября, когда погода была еще ясной и ветер дул с севера, Харальд снарядил большой флот и двинулся в Англию. Он плыл из Норвегии мимо Оркнейских островов и там, по-видимому, соединился с Тостигом. Он высадился на побережье Нортумбрии, разорил Скарборо...
– Ты сказал – большое войско. Насколько большое?
– Двести боевых кораблей. Это примерно десять тысяч человек.
– О да, это много.
– То-то и оно. Мы были в Лондоне, когда пришла весть о падении Скарборо. Это случилось двенадцатого сентября...
– Десять тысяч? Ты не в своем уме! – вскрикнул Гарольд.
– Двести боевых кораблей, – повторил малыш Альберт, принесший это известие. – Я сам сосчитал. Значит, около десяти тысяч человек.
– Не впадай в панику. – Гирт вальяжно развалился за столом. – Там еще лошади, провиант, обслуга. Думаю, наберется не более шести тысяч тяжеловооруженных солдат.
– Все равно это вдвое больше, чем у Эдвина и Моркара.
– Полно тебе! Урожай уже собран, они созовут ополчение, хоть десять тысяч, хоть двадцать.
– На это уйдет месяц, а то и больше. К тому времени Харальд от них мокрого места не оставит. Ему бы половины такого войска хватило, чтобы вышибить дух из этого цыпленка Эдвина. Да что там, с этим и Тостиг бы справился.
Воцарилось молчание. Все шестеро – братья Гарольда Леофвин и Гирт, дружинники Уолт, Ульфрик, Тимор и Альберт выжидательно уставились на короля. Гарольд провел ладонями по лицу, медленно встал, прошел через маленький зал и вышел на улицу. Они смотрели ему вслед. Леофвин приподнялся было, собираясь последовать за братом, но Гирт удержал его, положив ему руку на плечо.
Опустив голову, Гарольд медленно побрел по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, к западным вратам монастырской церкви (аббатство Уолтхэм было создано на средства Гарольда, тогда еще эрла Уэссекса). Король остановился перед дубовой дверью, увенчанной сводчатой аркой, словно в рассеянности оглядел колонны, полукруглый тимпан над ними. Не слишком роскошная церковь, он мог бы дотянуться до ног святой Елены, изображенной на тимпане. Как и большинство местных жителей, Гарольд считал святую Елену британкой или англичанкой[245] – он не настолько разбирался в истории, чтобы отличить одно понятие от другого.
Елена стояла на коленях перед Честным Крестом, который ей удалось разыскать благодаря вещему сну. Мать императора окружали фигурки рабочих с лопатами и заступами, они были меньше по размеру, чем государыня, поскольку их роль была не так существенна. Над головой Елены парили ангелы, а на самом верху располагалась Троица. Выпуклый рельеф, настолько мастерски выполненный, что казалось, персонажи вот-вот спрыгнут с него, был обильно украшен лазурью, киноварью, позолотой.
Распахнув дверь, Гарольд по-прежнему неторопливо двинулся по центральному нефу к главному алтарю. По обе стороны несли караул толстые круглые колонны, на каждой из них был вырезан свой узор, где елочка, где ромбы, и листья капителей тоже всякий раз выглядели по-разному, а между ними там и сям выглядывали маленькие уродцы, то ли гномы, то ли гоблины. На колоннах покоились дубовые балки и свод, усиливавшие сходство с лесом, с деревом-храмом, и крыша напоминала кровлю амбара. На главных балках и перекрытиях расположились украшенные листовым золотом, ярко расписанные ангелы с арфами, лирами, гобоями и трубами. Гарольд остановился перед ступенями престола, все в той же рассеянности разглядывая сложное кружево из золота и хрусталя, эмали и драгоценных камней на ковчежце, врезанном в центр распятия. Отсюда, не подходя вплотную к кресту, он не мог разглядеть заключенную в янтарь щепку бузины, но знал, что реликвия находится здесь, у него перед глазами, – частица Животворящего Креста.
Гарольд не был набожен, да и христианином был только наполовину, но он вполне ощущал таинственную силу, исходившую от святыни, хотя реликвия не вызывала у него благоговейного трепета.
Постепенно волнение, охватившее Гарольда, улеглось, мир и спокойствие вошли в его душу. На это он и надеялся. Незачем обдумывать дальнейшие шаги, все и так было ясно, требовались только уверенность и отвага: уверенность в собственной правоте и отвага, чтобы без колебаний идти до конца. В эти минуты Гарольд обрел необходимые ему силы. Он вышел из церкви и вернулся к друзьям.
– Мы пойдем на север, – объявил он.
Несмотря на прозвучавшую в голосе Гарольда решимость, на всех лицах отразились сомнение и страх, хотя в глубине души каждый понимал, что король прав и другого выхода нет.
– Но сперва прикроем свои задницы, – сказал Гарольд.
Четыре с половиной тысячи дружинников, разделенные на пять отрядов, охраняли побережье. Они стояли в Портчестере и Бошеме, расположились в Литтлгемптоне в устье Аруна, заняли позиции в Певенси и Гастингсе. В каждой гавани хватало кораблей, чтобы свезти всех воинов в одно место, туда, где высадятся нормандцы. Были у них и лошади, на случай если задует встречный ветер и придется мчаться к месту сражения верхами. Гарольд позаботился расчистить прибрежные дороги, убедился, что все мосты целы и броды пригодны для переправы. За береговой линией, на холмах у подножья большого леса Уилда, разбили около двадцати военных лагерей для ополченцев из Суссекса и Кента – это еще пять тысяч человек. Жатва уже закончилась.
Учитывая, что Вильгельм должен переправиться через Пролив, как только ветер окажется попутным (а это могло случиться еще до битвы с Норвежцем или, хуже того, как раз в тот момент, когда король с дружиной окажутся далеко на севере), Гарольд сделал три важных распоряжения: он приказал дружинникам собраться в Лондоне, – отсюда они могли двинуться на юг даже в последний момент, пока не прозвучит приказ идти в Йорк; судам он тоже велел оставаться в устье Темзы. Поскольку Гарольд забрал с кораблей солдат, флот никак не мог воспрепятствовать Вильгельму переправиться через море, зато из Лондона флот мог двинуться на юг или на север, как...
– Погоди! – буркнул Квинт. – Мы получили общее представление об этой кампании. Насколько я понимаю, блестящая стратегия Вильгельма заключалась в том, чтобы оттягивать вторжение до тех пор, пока корабли Гарольда не начали разваливаться на куски, так что их пришлось срочно ремонтировать, припасы у него иссякли, а ополчение почти рассеялось.
– Ерунда! – возмутился Уолт. – Гарольд был опытным военачальником, он не допустил бы ничего подобного.
Пожав плечами, Квинт запихнул в рот пол-яблока.
– Так в чем заключалась его замечательная стратегия? – пробормотал он, жуя.
Все свои планы Гарольд изложил им тогда же, в большом доме в Уолтхэме, через десять минут после того, как узнал о вторжении норвежцев.
Он велел разделить ополчение на маленькие отряды, которые могли прокормиться сами, не сделавшись бременем для местных жителей. Эти отряды должны были охранять вторую линию обороны у леса на холмах Даунса.
– Если Вильгельм высадится до того, как мы окажемся в Уотфорд-Гэп, мы повернем назад и встретимся с ним лицом к лицу, – сказал Гарольд. – Флот поплывет туда же и потопит его корабли, где бы они ни прятались. Ополчение должно будет задержать его, не ввязываясь в битву, пока мы не сойдемся с ним на том поле, какое сами выберем. Но если мы минуем Уотфорд-Гэп, а он так и не выйдет в море, мы пойдем вперед и разделаемся с Харальдом. Лишь бы Эдвин и Моркар не вступили с ним в схватку до нашего прихода, а уж мы выпроводим Норвежца из страны, это точно.
Ну а далее, если Вильгельм и к тому времени не снарядит экспедицию, мы вернемся, ничего не потеряв, а если вторжение начнется, пока мы будем воевать в Нортумбрии или где еще, то пусть себе идет в глубь Острова, хоть до самой Темзы. Ему придется оставить свой флот, и, коли повезет, наши корабли перехватят его суда, ополчение последует за ним по пятам и будет тревожить тылы, а когда он доберется до Темзы, его будут ждать обе армии – и южная, и та, что вернется с севера. Если он захочет драться, мы разобьем его, если запросит мира, ткнем его носом в грязь. Но весь этот план держится на одном условии: только бы Эдвин и Моркар не завязали битву одни, без нас. Они должны отступать перед Харальдом и ждать подкрепления.
Харальд и Тостиг поплыли по Хамберу и Узе к Йорку. Для начала Тостиг решил осадить Йорк – большой город с развитым ремеслом и торговлей, к тому же порт (хотя Йорк расположен в тридцати милях от моря, его отделяла от берега плоская болотистая равнина, по которой текли судоходные реки). Йорк почти не уступал размерами Лондону, говорили даже, что он больше. К северу от Тиса Тостиг не пользовался популярностью, но с гражданами Йорка ему удавалось найти общий язык, и он заверил Харальда, что, получив определенные гарантии, они капитулируют.
Союзники поднялись по Узе мимо Селби – этот город уплатил немалую дань, чтобы избегнуть разграбления, добрались до Рикколла и там прослышали, что Эдвин и Моркар собирают свои силы у Тадкастера, примерно в восьми милях к востоку. Незваные гости причалили в Рикколле, намереваясь идти на Йорк по берегу Узы, чтобы река прикрывала с запада их левый фланг, но Эдвин и Моркар тем временем тоже продвинулись к Йорку примерно на десять миль. Тимор нагнал их на полпути между Тадкастером и Йорком, вечером восемнадцатого сентября.
Войско Мерсии и Нортумбрии растянулось на три мили по римской дороге, соединявшей Йорк с Лидсом. С помощью насыпи строители приподняли эту дорогу над болотами. Был пасмурный, но не холодный день, на юго-западе клубились тучи, еще выше парили белые перистые облака. После длительного бездождья – самого длительного на памяти старожилов – надвигалась перемена погоды.
Солнце спускалось к Пеннинским горам. Тимор попробовал было срезать путь, но лошади с трудом вытягивают копыта из болотистой почвы, остававшейся влажной даже после столь засушливого лета. Шестеро всадников вернулись на римскую дорогу, покорно следуя ее мостам и дамбам, хотя с каждой минутой продвижение замедлялось: ополчение, тянувшееся в хвосте колонны, заполонило всю дорогу и ползло вперед вялым, отнюдь не маршевым шагом. Впереди скакали дружинники по четыре в ряд, и ни один из них не собирался уступать путь. Приходилось расталкивать их силой. В результате Тимор добрался до Эдвина и Моркара лишь вечером, когда эрлы уже въехали в Йорк и уселись пировать в большом доме.
Тимор предъявил верительные грамоты слуге, и тот отнес их Эдвину. Эдвин небрежно проглядел бумаги и обернулся к брату, но Моркар только головой потряс – дескать, прочти сам – и вновь принялся обгладывать большую кость. Слуга принес Тимору кусок хлеба с сыром и флягу темного водянистого эля, любимого напитка местных жителей. Наевшись до отвала, эрлы наконец позвали Тимора. Его вынудили остановиться у подмостков и стоя разговаривать с братьями, сидевшими во главе стола.
– Ты от Гарольда?
– Да.
– Из числа его военных советников?
– Да.
– Так что он хочет нам сказать?
Тимор набрал в легкие побольше воздуха.
– Он просит вас не вступать в сражение с Харальдом и ждать подкрепления.
Лица обоих братьев омрачились, они начали перешептываться друг с другом. Их приспешники и таны сидели молча. Моркар уставился на Тимора.
– Значит, он думает, мы не в состоянии сами справиться с Харальдом и с этим выродком Тостигом?
– Он так не думает. Он думает, что если вы вступите в битву одни, вы потеряете слишком много воинов, которые еще понадобятся нам для войны с Вильгельмом.
– Стало быть, он понимает, что без нас ему Вильгельма не побить?
Эдуард Исповедник сумел бы проглотить свою гордость и сказать: да. Гарольд приказал Тимору повторить тот ответ, который он уже дал Моркару, только на другой лад:
– Он может побить Вильгельма, но это слишком дорого обойдется. Подумайте сами, насколько лучше будет для нас всех, если удастся отразить обоих завоевателей, сохранив при этом как можно больше людей.
Эдвин издевательски рассмеялся.
– Не много славы в том, чтобы числом задавить неприятеля.
Братья отвернулись от Тимора, словно забыв о его существовании. Эдвин потребовал игральные кости, Моркар снова наполнил вином свой рог. Тимор терпеливо ждал. Эдвин бросил кости, тан, сидевший слева от него, подобрал их и бросил в свой черед. Все захохотали, результат почему-то развеселил их. Моркар махнул рукой арфисту, тот начал перебирать струны. Тимор шагнул вперед.
– Господа мои! – окликнул он эрлов. – Король желает, чтобы вы не вступали одни в битву с Харальдом.
Молчание повисло в зале. Лицо Эдвина вспыхнуло гневом, он откинулся на спинку стула, растопырил локти, склонил голову набок и заговорил почти шепотом:
– Подойди поближе, коротышка, и послушай, что скажут тебе эрлы Нортумбрии и Мерсии. Первое: погода переменилась. Твой господин не мог этого не заметить. Даже если он уже выступил в поход на север, разве не повернет он теперь обратно, понимая, что герцог, должно быть, в этот самый час спускает на воду суда?
– Нет, милорд. Он поручил мне заверить вас клятвой от его имени: прежде всего он пойдет на север.
– Он дал эту клятву, когда ветер дул с севера. Дальше: Харальд пришел сюда не один, а вместе с Тостигом, братом твоего господина. Собирается ли Гарольд поступить с братом как с изменником или постарается забыть все раздоры? Не пытайся ответить на этот вопрос, ибо никто не знает, что творится в сердце человека, когда опасность грозит его близким. И последнее: если мы не выйдем на бой с Харальдом, нам придется либо оставить этот город – наш город – на разграбление, либо выдержать осаду. Стены здесь ничтожны, оборонительные сооружения, пока тут правил Тостиг, не отстраивали ни разу, улицы узкие, дома деревянные. Если мы останемся в Йорке, Харальду достаточно будет поджечь его, чтобы рассеять и перебить наше войско. Нет, мы должны принять бой, мы сразимся в чистом поле. Завтра же. Есть подходящее место между городом и Фулфорд-Бриджем. Если хочешь, оставайся с нами, посмотришь, как настоящие вояки разделаются со стариком и этим предателем, привыкшим задирать подол своей куртки.
Тимор решил, что аудиенция закончена, и повернулся уходить. Он был мал ростом и тощ, однако так же не любил разубеждать, просить и заискивать, как любой вельможа и воин. Но тут Моркар вскочил со стула, обежал вокруг стола и последовал за Тимором. Ухватив его за плечо, эрл развернул дружинника лицом к себе и прошипел прямо в ухо, чтобы никто другой не услышал:
– А когда ты доложишь своему хозяину, как мы побили норвежцев, добавь еще кое-что: спроси его от имени Эдвина и Моркара, да, спроси его, почему наша сестра, на которой он женат вот уже полгода, остается девственницей. Мы должны это знать, потому что существует только два объяснения: либо у него яиц нет, но это вряд ли, судя по его ирландским ублюдкам, либо он намерен избавиться от нашей сестры, как только мы выиграем для него все сражения. Скажи ему: я, Моркар, эрл Нортумбрии, хочу получить честный ответ, я потребую у него ответа, как только мы встретимся, и плевать мне, что он – король!
От Моркара так разило медовухой, что Тимор сообразил: малейшее возражение закончится дракой, а то и просто прибьют. Он молча вышел из зала, руководствуясь вовсе не «Timor mortis», а самым обыкновенным благоразумием, которое, как известно, неразлучно с истинной доблестью.
Глава сорок шестая
Шесть дней спустя Гарольд обходил поле боя, усеянное непогребенными трупами. Здесь не кружились стервятники, не шарили мародеры, ибо к тому времени гораздо больше тел лежало на другом поле, в восьми милях к востоку, у Стэмфорд-Бриджа, и все животные, птицы и люди, искавшие поживу среди погибших, перекочевали туда. Тимор, очевидец первой битвы, рассказал о ней королю и Уолту.
– Я стоял вон там, чуть позади знаменосца Эдвина. Как видишь, до Йорка отсюда меньше мили. Мы рассчитывали укрыться за городскими стенами, если дело пойдет плохо. Почва тут почти ровная, всего несколько холмов – там разместился наш левый фланг. Это давало нам преимущество.
Земля здесь оставалась невозделанной. Берега реки заросли камышом, тростником, жесткой травой и низким болотным миртом, а там, где начинались холмы, рос также вереск. Ничто не сковывало передвижение войск. Здесь, вероятно, было общинное пастбище; спускаясь к водопою, скот вытоптал широкие прогалины на берегах реки.
– К югу земля совсем плоская, болотистая, – указал рукой Тимор, – но правый фланг упирался в берег реки Узы...
– Ваша линия обороны доходила до самой реки? – уточнил Гарольд.
– Да.
– Сколько дружинников было у Эдвина с Моркаром?
– Примерно четыре тысячи.
Гарольд опустил тяжелые веки, глаза его почти закрылись.
– Говоришь, левый фланг поставили на склоне?
– Да.
– Чертовски растянутая линия обороны. Разве четыре тысячи воинов могли ее удержать?
– Все так, но еще было пять тысяч ополченцев. Ополчение поставили справа внизу, думали, там безопаснее, прикрывает река, а лучших дружинников отправили на левый фланг. По их плану, эти дружинники из Нортумбрии во главе с Моркаром должны были атаковать правый фланг Харальда, обрушиться на него с холмов, пока остальная дружина удерживает центр, а ополчение – правый фланг.
– Но прямо посреди их позиции текла вторая река.
Речушка петляла в высокой траве и тростниках. Довольно мелкая, узкая, она впадала в Узу, и в месте слияния двух рек образовался широкий треугольный участок жидкой грязи. К пологим берегам – речка больше смахивала на канаву – тоже пригоняли скот на водопой. Вода стояла в ней вровень с землей.
– С тех пор прошел дождь, тогда воды было поменьше...
– Да, но глубины хватало, а берег скользкий, оступишься – полетишь прямо в воду. И почва между этой речонкой и Узой была столь же болотистой – правда? Здесь утонула по меньшей мере тысяча человек. Рассказывай дальше. Вы заняли позицию, когда подошли основные силы Харальда?
– Да.
– Его разведчики, его передовые отряды успели все как следует рассмотреть. Тостиг прожил десять лет в этих местах, он знал их, как свои пять пальцев. – Гарольд горестно покачал головой, потер обеими руками лицо и сморщился. – Одного не понимаю – как хоть кому-то из вас удалось уцелеть?
Тимор сразу же отметил, что враги идут на них в отменном порядке. Они были хорошо вооружены и выучены: спешившись и оставив лошадей на попечение обоза, северяне строем двинулись вперед. Бледно-желтый свет, отражавшийся от поверхности воды, заиграл на их шлемах и кольчугах. На головах некоторых норвежцев красовались старинные шлемы викингов с рогами или крыльями. Впереди бежали легковооруженные пехотинцы и лучники, отряд прикрытия, который мог дать отпор ополченцам Мерсии и Нортумбрии и задержать их, пока дружинники построятся для боя. В центре войска развевались знамена Тостига и Харальда. Черный ворон Харальда на белом фоне, Разоритель Земель, уже более столетия наводивший страх на ближние и дальние страны.
Правый фланг норвежцев достиг подножия холма, они направлялись к речушке, к тому месту примерно в полумиле от слияния с Узой, где она не превышала шириной канаву. Моркар повел своих нортумбрийцев вниз по склону. Легковооруженные английские ополченцы-застрельщики, оказавшись между сближавшимися армиями, дали залп из луков, метнули в северян копья, топоры, камни, привязанные к коротким рукояткам, и тут же рассыпались, пропуская вперед дружинников. Первый натиск англичан оказался достаточно сильным, чтобы отбросить пришельцев на пятьдесят ярдов, однако норвежцы упорно сражались за каждый дюйм земли.
– Они сдвинули щиты?
– Только когда на них насели.
Оглядывая истоптанный склон, устланный телами павших, Тимор припомнил, как англичане вновь и вновь шли в атаку, как таны вели их, размахивая огромными боевыми топорами и тяжелыми мечами, как они врезались в ряды норвежцев, а те, пустив в ход старую уловку, расступались, позволяли нападающим проникнуть за пер вый ряд обороны, а потом, разделив, раздробив их на небольшие группы, рубили в куски. Постепенно атаки становились все реже, нортумбрийцы устали и отступили. Отдохнув, они снова ринулись в бой, но с каждым отвоеванным ярдом англичане лишались того преимущества, которое первоначально давала им высота. К полудню начал сказываться численный перевес противника, атака захлебнулась. Моркара ранили еще в самом начале битвы, ему было трудно сражаться, хотя он остался стоять на холме и оттуда руководил своими воинами.
– Норвежцы стояли на месте, не пытались сами напасть?
– Нет. Тогда еще нет.
– Что было дальше?
– Ничего особенного. В центре дружинники Мерсии переправились через речку, и норвежцы чуть отступили и остановились. Здесь силы были равны, какое-то время противники бросали друг в друга копья и камни, выкрикивали оскорбления, потом воины Мерсии устремились вперед, норвежцы отошли ярдов на двадцать, сдвинули щиты и отразили их...
– О, этот старый Харальд – хитрый дьявол!
Тимор, участвовавший в деле, хорошо понимал, что Гарольд имеет в виду, и восхищался тем, как король, обследуя поле битвы, легко разобрался в ходе сражения. Ополчение англичан стояло на правом фланге, в углу, образованном слиянием рек; когда отряд дружинников, стоявший в центре, переправился через ручей, ополчение, не дожидаясь приказа и сломав строй, последовало за ним. В этот момент – а время давно уже перевалило за полдень – всадники, окружавшие знамя с вороном, внезапно повернули влево. Харальд спешился, взял в руки огромный двуручный топор и сам повел свежие, еще не участвовавшие в битве силы через топкий, заболоченный участок земли, где скот спускался на водопой (дождь еще не прошел, и почва была более твердой, пояснил Тимор). Харальд обрушился на ополчение, не успевшее восстановить свои ряды. В тот же миг центр норвежского войска неумолимо двинулся вперед. Ополчение и дружинников из Мерсии отбросили назад к ручью, причем в том самом месте, где ручей неожиданно сужался и крутые берега подымались на четыре, а то и на пять футов. В результате ополченцы свалились в канаву с западной стороны, дружинники – с восточной, и все войско пришло в смятение.
– Он уничтожил их, – продолжал Тимор. – Резня продолжалась до самого вечера. К тому времени англичане были окружены со всех сторон – врагами, ручьем и рекой, и норвежцы превосходили их численно. Наши хорошо держались, делали все, что могли.
Король и его спутники вышли на северо-западный берег, где вповалку лежали нагие тела. Когда битва закончилась и вожди обеих сторон обсуждали условия, на которых Йорк мог бы сдаться, не подвергаясь разорению огнем и мечом, норвежцы приказали пленникам снять с убитых кольчуги, подобрать все щиты, мечи и шлемы. Огромная куча доспехов все еще лежала у водопоя, она перешла теперь в руки Гарольда. Увы, оружия в Англии было теперь больше, чем воинов, умеющих им владеть!
Гарольд остановился, в последний раз окинул взглядом поле битвы и тяжело вздохнул.
– На прошлой неделе пришли вести из Нормандии. Вильгельм дождался юго-западного ветра. Он дует уже вторую неделю. Герцог мог давно уже переправиться, но этот хитрый ублюдок предпочел воспользоваться попутным ветром для испытания своего флота. Поплыл от Кана через залив Сены до Сен-Валери на Сомме. Помните Сен-Валери и графа Гюи де Понтье? Пару кораблей и несколько лошадей он потерял, зато это плавание было даже более дальним, чем предстоящий переход через Пролив.
Два ворона бились над трупом, оспаривая добычу, хлопали черными крылами и норовили выклевать глаза. Стоявший рядом с Гарольдом Рип из Торнинг-Хилл задрал подол куртки, приспустил штаны и помочился, аккуратно направив струю прямо в рот покойнику. Левая щека Рипа была разрублена до кости, мухи копошились в ране. У него были заняты обе руки, он тряхнул головой, отгоняя мух.
– Он вполне мог уже переправиться, – продолжал Гарольд. – Почем знать, быть может, он уже в Лондоне...
– Должна признаться, – перебила Уолта Юнипера, – я уже запуталась. Только что ты передал нам рассказ твоего друга Тимора о битве у Йорка, верно?
– Да.
– И ты рассказывал то, что ты сам слышал почти через неделю после этой битвы?
– Да.
– To есть уже после второго сражения, в котором Гарольд разбил норвежцев?
– Да, на следующий день.
Бойко вмешалась Аделиза:
– Двадцатое сентября, битва при Фулфорде. Двадцать пятое сентября, битва при Стэмфорд-Бридже. Двадцать шестого Тимор рассказал Гарольду и Уолту о битве при Фулфорде. Ясно?
– Ясно-ясно. Значит, теперь ты поведаешь нам о битве при Стэмфорд-Бридже, в которой ты сам принимал участие.
– Минуточку, – вмешался Квинт. – Нагромоздить две битвы одну на другую, да еще третья впереди – это уж чересчур. Сперва послушаем Тайлефера. Пусть расскажет, что происходило тем временем в Нормандии. И о плавании из Кана в Сен-Валери не забудь.
– Представьте себе, – Тайлефер принял арфу из рук сына, повернул пару колков, упер край арфы в сиденье стула между своих ног, извлек несколько аккордов. Сусальное золото и перламутр на деке арфы блестели и переливались в свете масляной лампы. – Представьте себе жемчужное, винноцветное море...
– Что это еще за «винноцветное»? – нетерпеливо переспросил Квинт. Он терпеть не мог признаваться в своем невежестве, но не мог не утолить любопытство.
– Фиолетовое, с легким налетом, как на спелой сливе или виноградине, – придерживая арфу левой рукой, Тайлефер дотянулся до вазы с фруктами и достал оттуда винноцветную сливу. – Прекрасный день для морского перехода, – продолжал он, выплюнув косточку и наигрывая незамысловатую песню, какую поют матросы, поднимая парус. – Слабому ветру не хватало сил разогнать лиловато-желтую дымку, висевшую над горизонтом, позади того жемчужного ожерелья, каким казалось издали побережье острова Уайт...
– Вы видели его с расстояния в сто миль? – осклабился Квинт. – Вот уж не поверю.
– Пожалуйста, Квинт, не мешай нашему другу излагать свою историю так, как он считает нужным. В конце концов, ты сам хотел немного отвлечься...
– Сто пятьдесят длинных кораблей, более пятидесяти судов поменьше; на пять, а то и десять миль от берега не уцелело ни одного дерева. Все срубили, стволы приволокли на длинный песчаный пляж под низкими белыми скалами. Между скалами, в длинных песчаных дюнах с колючей синей травой, на лугах и в лесу на росчисти жили в шатрах и палатках три тысячи рыцарей, то есть тяжеловооруженных всадников, тысячи две пеших воинов и, наверно, столько же лучников, пращников, копейщиков. В день отплытия нам хватало хлопот и переживаний. Вначале все подумали: началось, и всходили на суда в уверенности, что едут в Англию – к славе, деньгам, собственной земле, если, конечно, не канут в пучину.
Первые минут двадцать все шло довольно хорошо, мы держались не более чем в миле от берега, ветер был легкий, но устойчивый. Издалека это казалось, наверное, красивым зрелищем, но вблизи – я плыл на третьем корабле береговой линии – было видно, как все к черту смешалось. Что такое «береговая линия»? Ах да, наш анально ретентивный полководец...
– Что-о?
– Речь идет о психическом расстройстве, вызванном чересчур внимательным отношением к акту дефекации в пору раннего детства, – пояснил Квинт. – Мы с Тайлефером много говорили об этом. Симптомами такового расстройства являются навязчивое стремление к порядку даже в мелочах, взрывы неконтролируемого гнева, когда что-то оказывается не на месте или не исправно...
– Ладно, мы поняли. Ты утверждаешь, что Вильгельм распределил свои корабли в два ряда...
– Вообще-то в три.
– В три ряда, потому что сорок лет назад матушка давала ему затрещину, если он испражнялся не вовремя или в неположенном месте?
– Вот именно. Его мать, любовница герцога, так и не ставшая законной супругой, чувствовала себя неуверенно. Бедная женщина из кожи вон лезла, стараясь привить сыну хорошие манеры, чтобы он ее не подвел.
– Чушь собачья! Продолжай, Тайлефер, только не надо все усложнять. Ты плыл на третьем корабле в ближайшем к берегу ряду...
Тайлефер подергал струну и продолжил рассказ.
– «Мора», судно герцога, было, разумеется, флагманом передней линии, на нем развевался длинный бело-золотой стяг, присланный из Рима с папским благословением. Беда в том, что хотя внешне наши корабли выглядели одинаково, их строили второпях разные команды корабелов, одни более умелые, другие неопытные, так что под парусами суда вели себя совершенно непредсказуемо.
Корабль, следовавший вплотную за флагманом, начал нагонять его и ударил носом в корму «Моры». Чтобы такое не повторилось, капитан этого судна стал отворачивать вбок, и его снесло к средней линии. По дороге он перехватил ветер из парусов «Моры», тем самым замедлив продвижение герцога, и вперед вырвались корабли береговой линии. Герцог рвал и метал, он визжал от ярости. Наш капитан перепугался до смерти и приказал кормчему переложить руль, чтобы тоже отвернуть в сторону, и тут, конечно же, корабль, плывший за нами, врезался носом прямехонько нам в борт. Это столкновение начало волнами распространяться по всей флотилии. Не прошло и получаса с тех пор, как мы вышли в море, и Довиль был еще виден впереди по правому борту, а мы уже кружили на месте, то и дело наталкиваясь друг на друга. Кто спускал, кто подымал паруса, кони ржали и били копытами, некоторые из них срывались с привязи и сигали за борт, и все это время каждый, кто находился на расстоянии ста ярдов от флагмана, – а мы почти все сгрудились вокруг него, – слышал, как наш безумец ревет, как затравленный бык.
Положение спас епископ Одо, сводный брат герцога, более рослый, чем он, единственный человек во всем флоте и войске, который его не боялся. Епископ отыскал ведро и веревку, спустил ведро за борт, зачерпнул воды и хорошенько облил братца. Тот оправился от припадка, начал давать разумные и внятныеуказания, выслушал (большая редкость для него) совет капитана «Моры» и передал приказ другим капитанам. Всем кораблям было велено пропустить «Мору» вперед и двигаться следом, но более свободным порядком, не прижимаясь друг к другу и не слишком заботясь о том, чтобы непременно удержать свое место в строю. Главное, не обгонять герцога.
Дальше несколько часов все шло неплохо. День давно перевалил за середину, а мы все плыли вдоль берега, волны мерно вздымались, перекликались чайки, поскрипывали корабельные снасти...
Тайлефер уже почти пел, его арфа воспроизводила каждый описанный им звук. Глаза певца затуманились, внутренний взор его возвращал, воскрешал воспоминание... и вдруг мелодия оборвалась пронзительной жалобой. Тайлефер поднял голову, оглядел друзей.
– Только четыре корабля утонули. Их плохо осмолили, они наполнились водой и пошли ко дну со всеми гребцами и солдатами. Разумеется, когда солнце село у нас за спиной и ветер стих, воинам пришлось засучить рукава и взяться за весла вместе с гребцами. С непривычки лопасти весел слишком глубоко зарывались в воду, с десяток не опытных гребцов, чересчур резко выдернув весла из воды, кувырком слетело со скамей за борт. Тут все опять пошло вверх тормашками. Отлив подхватил нас и понес в море. Ты не веришь этому, госпожа? Здесь, в Сиде, все по-другому, но в наших северных широтах море дважды в сутки отступает на полмили, оставляя за собой отмели, и высота приливной или отливной волны достигает двадцати футов. Около полуночи мы доползли до Дьеппа, там причалили и вытащили корабли на берег. Еще хорошо, что нас ждали и зажгли маяки – луны в тот день не было.
На следующий день наступил штиль, нам пришлось грести всю дорогу до Сен-Валери на Сомме. Двадцать пять миль на веслах – немалый путь, все наши воины были изнурены, ладони у них покрылись мозолями, они бы не смогли удержать ни меч, ни топор, руки и ноги у них просто отваливались, спины не разгибались. Напади Гарольд в тот день или на следующий, он бы нас голыми руками взял.
Но до отплытия в Англию оставалось еще две недели, и Вильгельм позаботился о том, чтобы суда починили, пополнили команды и чтобы его люди научились как следует грести. Он даже устраивал гонки на Сомме, раздавая награды лучшим экипажам, а сам со своими приближенными сидел на берегу реки в шатре, попивая игристое винцо из Реймса и закусывая копченой лососиной. К нам явились лучшие шлюхи из Реймса, Руана и даже Парижа, так что в целом мы очень неплохо проводили время.
Арфа запела озорную песенку.
– Он все-таки настоял, чтобы и во время перехода в Англию «Мора» во что бы то ни стало плыла впереди. Двадцать седьмого сентября подул попутный ветер, но весь день ушел на погрузку, отплыли уже с наступлением темноты. На рассвете над морем повис туман, и казалось, что «Мора» плывет посреди Пролива одна, других кораблей не было видно. Друзья, бывшие на борту флагмана, говорили мне, что им сделалось по-настоящему страшно: замершее море, крупные капли росы на снастях, фырканье китов где-то поблизости. Герцог забрался на корму к рулевому и огляделся по сторонам. «Отлично, – сказал он. – Если придется, мы и с одним экипажем этих засранцев отделаем, вот посмотрите». Но тут дымка рассеялась, и он увидел в миле позади часть своего флота...
– А правда ли, что, спрыгнув на берег, он...
– Погоди! Хватит на сегодня! – решительно запротестовала Юнипера. – Мы уже забежали вперед. Теперь нужно вернуться на несколько дней назад, к битве при Стэмфорд-Бридже. Завтра Уолт расскажет нам, что произошло в тот день и последующие.
Глава сорок седьмая
Мы смогли выступить из Уолтхэм-Эбби только в самый день битвы при Фулфорде, – продолжил свой рассказ Уолт. – Гарольд не собирался рисковать, он хотел сперва убедиться, что флот благополучно укрылся в Лондоне за мостом Саутворк, и не трогался с места, пока не прибыли дружинники из гарнизонов южного побережья и вся армия не была в сборе. На рассвете двадцатого числа мы перешли через Ли и двинулись по Эрмин-стрит. Примерно четыре тысячи дружинников верхами. Гарольд послал вперед гонцов набирать ополчение во всех крупных городах, лежавших на нашем пути или поблизости: в Хертфорде, Хантингдоне, Грэнтхэме и Линкольне, так что на третий день, когда мы добрались до Линкольна, у нас было уже три тысячи воинов, только многие из них были пешие и не слишком хорошо вооружены. На следующий день мы пришли в Тадкастер...
– Всего четыре дня? – Квинт, как всегда, был настроен скептически. – Какое же расстояние вы прошли?
– Около ста восьмидесяти миль. Но ведь мы шли по Эрмин-стрит, она хоть и узкая, зато очень ровная, утоптанная, покрыта дерном. И вот, к тому времени когда мы добрались до Тадкастера, у нас набралось еще три или четыре тысячи...
– Войско не может преодолеть такое расстояние за четыре дня. Даже сам Александр...
– А мы преодолели. Я же тебе говорил, Александр – мальчишка по сравнению с нашим Гарольдом.
Юнипера заступилась за Уолта:
– Если будешь перебивать, уйдешь из-за стола.
Квинт смолк, но, слушая повесть Уолта, он громко хрустел миндальным бисквитом всякий раз, когда ему казалось, будто рассказчик выходит за рамки правдоподобия.
Всего за неделю Гарольду удалось создать превосходную систему связи – такой Англия прежде не знала. Вдоль всей Эрмин-стрит, а также к югу от Лондона и до самого побережья были размещены верховые, передававшие по эстафете срочные известия. Именно таким образом в Грэнтхэме Гарольд узнал об ослушании северных эрлов, решивших вступить в бой, не дожидаясь короля, о битве при Фулфорде и о том, что армия Эдвина и Моркара практически уничтожена. Без дружинников и ополчения Мерсии и Нортумбрии Гарольд мог выставить против Харальда войско примерно в полтора раза меньшее, чем силы завоевателей, понесших незначительные потери. Под началом Харальда оставалось более пяти тысяч хорошо вооруженных и закаленных в битвах воинов. Разумеется, ополчение давало численный перевес Гарольду, но ведь крестьяне годятся только для того, чтобы преследовать уже разбитого противника или держать оборону, укрываясь за валом и рвом. На поле сражения толку от них мало.
Соглядатаи сообщили Гарольду, что из-под Фулфорда Харальд двинул основные силы к Стэмфорд-Бриджу, в восьми милях от Йорка, и оттуда ведет переговоры с жителями города, а также с Эдвином и Моркаром. Норвежец хотел получить заложников, большой выкуп и запас продовольствия, угрожая в противном случае сжечь Йорк. Лишившись войска, Эдвин и Моркар мало что могли предложить захватчику, разве что пообещать свою поддержку, если Вильгельм побьет Гарольда. Обе стороны понятия не имели, где сейчас находится Гарольд, но предполагали, что, вопреки ручательству Тимора, король остается на юге и там поджидает Вильгельма.
На протяжении вечера и ночи, пока войско восстанавливало свои силы в Тадкастере, Гарольд пытался оценить положение. На рассвете двадцать пятого сентября его армия снялась с лагеря и прошла семнадцать миль до Стэмфорд-Бриджа, явившись туда за два часа до полудня...
– Ты плохо рассказываешь. Становится скучно, – пожаловался Ален, и остальные согласились с ним. Уолт в два глотка осушил стакан пурпурного вина, напрягся, как струна, выхватил нож, взмахнул им, разрубив пополам пламя свечи, и испустил резкий, устрашающий вопль, нечто среднее между ревом и визгом. Все так и подскочили.
– Что это было? – спросила Юнипера.
– Воинский клич, – ответил Уолт, протягивая пустой стакан Аделизе. Девушка покорно наполнила стакан, Уолт выпил еще и продолжил рассказ. Больше никто не осмеливался перебивать.
День был солнечный, теплый, но влажный, тучи и дымка висели над головой, вдали, на западе, перекатывался гром. Нужно было взобраться на холм, не такой уж высокий, но разведчики предупредили, что за ним стоят норвежцы, и от этого холм казался более крутым и грозным, чем на самом деле. Мы миновали по пути усадьбу Хелмсли, из ворот ее выскочили детишки, побежали рядом с отрядом, крича, что нам-де ни за что не побить норвежцев, это настоящие великаны, но пока никого не грабили и вели себя дружелюбно.
На вершине холма Гарольд дал приказ остановиться, взглянул на другую сторону и велел дружинникам построиться в четыре ряда, расстояние два шага между воинами в одном ряду и пять шагов между рядами. Отозвав нас восьмерых и своих братьев Леофвина и Гирта, Гарольд рассказал, как обстоят дела и что следует делать: внизу на западном берегу реки примерно тысяча норвежцев охраняет большой – не менее пяти шагов в ширину – мост. Основная часть войска растянулась по холмам на другом берегу, за ними – открытое поле. Урожай с поля собран, но земля еще не вспахана, а изгороди убрали, чтобы скот мог пастись, заодно удобряя почву. Караул у моста держит наготове оружие, но все остальные, чувствуя себя в безопасности, разлеглись вокруг костров, варят что-то на обед, а доспехи сложили в кучу. На верху, на крутом обрыве стояло с десяток больших шатров, и над ними реяло знамя Ворона.
– Итак, – сказал Гарольд, – я даю вам двадцать минут, чтобы перебить охрану на мосту. Тогда наш передовой отряд переберется через речку прежде, чем основная часть норвежского войска успеет взяться за оружие. Ульфрик, ты будешь в арьергарде со своей тысячей. Когда передовые расчистят вам путь, вы перейдете через мост и построитесь там, охраняя восточный его конец, а потом либо подождете, пока не переправятся остальные, либо, если противник будет в растерянности, сами двинетесь вперед. Только дождитесь приказа, ясно?
Мы спешились, отправили коней в тыл и двинулись к мосту. Преодолели последние пятьдесят ярдов, отделявшие нас от вершины, перевалили через гребень холма тремя длинными рядами, каждая линия растянулась почти на тысячу шагов. То-то бедолаги растерялись, завидев сверкающие шлемы на вершине холма. Они-то думали, до самого Лондона нет никого, кто мог бы оказать им сопротивление. Мы – Гарольд, я и Хельмрик Золотой – шли в центре второго ряда. У Гарольда было теперь два знамени: Хельмрик нес золотого дракона Уэссекса, то самое знамя, под которым пятьдесят лет тому назад сражался Железнобокий, а я тащил новый флаг, который вышила Гарольду его мать. Древко длиной в двенадцать футов, по моим ощущениям, весило с тонну, хотя само полотнище из тонкой шерсти и шелка (шесть на восемь футов, в натуральную величину, как и обещала Гита) горделиво развевалось в воздухе даже при легком ветерке. Знамя крепилось к древку вертикально, чтобы Воитель Керна стоял во весь рост. Ярко-зеленый фон, а сам Воитель белый, точь-в-точь как на скале, с огромной дубинкой и не уступающим ей по размеру горделиво поднятым членом. «Выбью вам мозги дубинкой, всажу свой кол вам в задницу, и когда ваши женщины увидят это, они только порадуются вашей гибели». Мы сбежали вниз с холма, испустив боевой клич...
Уолт набрал полные легкие воздуха, но Юнипера успела остановить его:
– Не делай этого!
– Ну хорошо. Только представьте себе, как этот крик вырывается из трех тысяч глоток разом!
Юнипера содрогнулась.
Разумеется, многие обратились в бегство, большинство бросилось к мосту. Хотя он был довольно широк, второпях они мешали друг другу и толкались, падали в реку, и тяжелые доспехи увлекали их на дно; другие бежали в разные стороны вдоль берега реки, и все же немало норвежцев построилось в боевой порядок и приняло наш натиск на щиты. Поздно! Мы не давали им укрыться за щитами, наши топоры отсекали им руки и ноги, рубили головы. Потекла красная кровь, заливая кольчуги; из дыр, которые мы прорубили в доспехах, из разверстых ран торчали обломки костей, белые, словно ясеневая лучина, нащепанная для растопки. Мозги вытекали из черепов, как жидкое яйцо из скорлупы. Они пытались обороняться, пытались убивать и увечить наших, но руки у них еле двигались, будто свинцом налились.
Прошло всего четыре дня после того, как они побывали в сражении, и только человек, сам участвовавший в битве, полдня, а то и дольше державший щит и махавший топором или мечом, воздавая ударом за удар и сам получая раны, может понять, сколько сил отбирает бой. Нам потребовалось десять минут из предоставленных Гарольдом двадцати, чтобы расчистить проход к мосту, и Ульфрик со своим отрядом вышел вперед, намереваясь перейти на тот берег. Один только норвежец, один-единственный из всей тысячи, стоял у него на пути.
Сперва мы приняли его за самого Харальда, такой он был высокий, полных семь футов с сапогами и шлемом. Шлем украшали огромные бычьи рога, со лба к наносице вились молнии Тора из чеканного золота, из-под шлема виднелись рыжие усы и борода. Кольчуга на нем была не из колец, а из цельных металлических пластинок, они так и сверкали на солнце. Под кольчугой норвежец носил плотную кожаную куртку, прошитую большими металлическими клепками, поверх штанов были такие же поножи, лодыжки и голень защищали высокие сапоги. За спиной у него висела шкура большущего черного медведя, скреплявшаяся у горла когтями зверя. Большой щит, отделанный бронзой и серебром, обтянутый красной, начищенной до металлического блеска кожей, был не круглым, а клиновидным, и столь искусно вращал им воин, что в оружье и доспехах казался неуязвимым.
В правой руке он сжимал рукоять огромного боевого топора с изогнутой лопастью. Блестящая сталь, широкая и толстая у обуха, становилась ближе к лезвию тонкой и острой, как бритва. Длина дуги от края до края составляла не менее двух футов, рукоять была длиной в полтора ярда; на конце ее красовался шар с шипами, предназначенный не столько для того, чтобы разбивать головы, сколько для того, чтобы утяжелить оружие. Да, это был настоящий берсерк – так в северных странах именуют телохранителей короля, которые должны заслужить почетное звание отчаянными подвигами. В бою их отличает неистовая, доходящая до безумия ярость.
По мосту к неприятелю разом могло приблизиться не более трех воинов. Он быстро расправился с первыми тремя: одному почти напрочь отрубил голову – кровь из разрезанной артерии била фонтаном на фут в высоту, пока ноги убитого не подогнулись и он не рухнул; на второго удар обрушился сверху и разбил ему голову вместе с железным шлемом; а третий словно на крыльях слетел в реку, и снесло его в заросли камышей. Он истек кровью, и тьмой покрылися очи – не спасла его кольчуга, белая пена пошла из разрубленных легких, и торчали из раны осколки ребер.
Нападавшие сделались осторожнее, прибегали к различным уловкам: один пытался отвлечь внимание гиганта, пока второй заходил с другой стороны, но берсерк с легкостью разгадывал все хитрости, и спастись удавалось лишь самым проворным, кто успевал вовремя отскочить, но и тех немало он покалечил. И при этом он ревел и вопил, одержимый кровавой похотью, а когда наши пятились назад, разражался бранью, сопровождая ее непристойными жестами.
Гарольд выходил из себя, он видел – и все мы видели, – как норвежцы на холме вооружаются и готовятся к битве. Знамя с Вороном уже выдернули из земли у шатра и понесли к середине склона, где Харальд и Тостиг поспешно облачались в доспехи. С каждой минутой мы теряли преимущество внезапности. В нетерпении Гарольд сам уже выхватил меч и кинулся к великану. Мы с трудом удержали короля, и Ульфрик, ростом почти не уступавший воину с севера, подобрал с земли чей-то топор и двинулся к мосту.
Норвежец распознал в Ульфрике противника, равного ему силой и коварством, и прибег к неожиданной уловке: стоило Ульфрику ступить на мост, берсерк отбросил щит и принялся с хриплым смехом скакать взад и вперед, как будто дразня Ульфрика. Свободной левой рукой викинг вытащил из какой-то сумы пригоршню песка и, как только Ульфрик, сделав особенно сильный и быстрый выпад топором, приблизился к нему почти вплотную, швырнул песок прямо ему в глаза и подсечкой опрокинул своего противника наземь. Мы слышали, как Ульфрик с грохотом рухнул на бревна моста. Берсерк немедленно воспользовался его падением и одним мощным ударом отсек Ульфрику голову, пинком сбросил его тело в реку, уже окрасившуюся кровью, а голову поднял и показал нам. Из безжизненного рта Ульфрика донеслось тонкое протяжное завывание, и только потом глаза его закатились. Норвежец швырнул голову в воду, и она упала на спину Ульфрику, тело которого как раз проплывало мимо, уносимое течением.
– Это не годится, – промолвил Даффид, сблизившийся за последние месяцы с Ульфриком. – Никуда не годится.
Он отбежал чуть дальше, где вверх по течению реки росла ольха и низко склонялись над водой ивы. Вернулся он в челноке, который еще раньше высмотрел у заброшенного хлева. Отталкиваясь от дна восьмифутовым ясеневым копьем, позаимствованным у какого-то ополченца, Даффид приближался к мосту. Сразу за мостом была излучина, так что Даффид подплывал к врагу со спины, и берсерк мог заметить его, только оглянувшись через левое плечо. Мы сразу сообразили, что задумал Даффид, и постарались отвлечь норвежца, швыряя в него камнями, а Тимор, вспрыгнув на мост с правой стороны, приплясывал, выкрикивая оскорбления и ловко ускользая от ударов страшного топора.
Челнок подплывал все ближе.
Теперь Даффиду предстояло самое трудное: как только копье в его руках снова превратится в оружие, оно перестанет служить шестом, удерживающим челнок. Даффид справился со своей задачей, течение понесло его прямиком под мост. Наше войско затихло, гигант принялся растерянно оборачиваться по сторонам, чуя опасность, но не понимая, с какой стороны она надвигается.
Он стоял, раскорячившись, на двух бревнах моста.
Даффид изо всех сил ударил копьем вверх, в щель между досками, его копье вонзилось в рыжего великана снизу, точно посредине между яйцами и дырой в заднице, широкий наконечник копья проник в его чрево. Даффид выпустил из рук древко копья, и течение вынесло его с другой стороны моста. Он был малость забрызган кровью и дерьмом викинга...
Берсерк умер не сразу, он умирал медленно, минут десять или даже больше, вися на копье, которое не давало ему упасть, а мы все мчались мимо него на другую сторону реки. Кто-то на ходу сорвал с побежденного врага шлем, другие плевали в него, пробегая мимо, дергали за бороду и длинные рыжие волосы. Весь остаток дня и часть еле дующего он все стоял, как огромное чучело, пока не налетели вороны, добравшиеся до тех частей его тела, куда не могли проникнуть наши мечи и стрелы.
Увидев, что норвежцы тем временем построились, Гарольд потребовал своего коня. Мы с Хельмриком везли за королем боевые штандарты, Альберт – знамя мирных переговоров. Норвежцы выстроились так, как у них принято для обороны: равнобедренным треугольником, прямой угол которого почти упирался в наши ряды, в этом углу реял Ворон. Когда мы приблизились к ним и остановились на таком расстоянии, куда не долетит топор, Харальд и Тостиг вышли нам навстречу.
Гарольд заговорил сперва с Тостигом.
– Брат! – окликнул он его. – К чему все это? Четыре дня назад ты разбил войско северян. Эдвин и Моркар ослушались меня, теперь у них нет людей. Оставь норвежцев, возьми своих дружинников, сразись на моей стороне против Вильгельма, и ты снова станешь эрлом Нортумбрии.
Лицо Тостига залил гневный румянец.
– Брат, ты мог предложить мне все это год назад. Теперь поздно извиняться.
– Тости, летом я навестил нашу мать, она заклинала меня примириться с братьями, чтобы все мы, ее сыновья, могли приехать к ней и попировать, как пировали прежде. Ради нее, прошу тебя, оставь этих чужаков, вернись к своей семье.
Тостиг молча стоял перед нами, все еще красивый, хотя сильно растолстел и щеки у него стали красные, обрюзгшие. Он по-прежнему стягивал в хвост жесткие соломенные волосы. Чуть поколебавшись, Тостиг отвернулся от брата, нахлобучил на голову шлем и пошел назад, к переднему краю норвежцев, где вился стяг с Вороном.
Харальд остановился на склоне холма, теперь он казался одного роста с Гарольдом, хотя наш король сидел на коне.
– Тостигу ты предложил графство. Что ты предложишь мне?
Гнев и горечь переполняли Гарольда. С ног до головы осмотрев норвежца, дважды смерив его взглядом, он сказал:
– Семь футов английской земли. Ты и этого не стоишь.
Битва продолжалась почти до ночи. Численностью оба войска не уступали друг другу. Мы получили некоторое преимущество, выиграв первую схватку у моста, они занимали более выгодную позицию на склоне холма. Мы устали после долгого похода, они были изнурены сражением, которое выиграли четыре дня назад. Дело не только в тяжести оружия, в кольчуге, липнущей к спине: люди, которых ты убиваешь и калечишь в бою, их духи кружат над тобой, ожидая, когда наступит твой час и ты присоединишься к ним. Вот что угнетало норвежцев, а спустя три недели то же самое предстояло испытать и нам.
Долгая, трудная была битва. Обе стороны жаждали только победы, понимая, что поражение обернется гибелью. У нас за спиной оставалась река, и если бы противник прорвал наши ряды, дело кончилось бы хуже, чем под Фулфордом.
Норвежцам тоже некуда было бежать, мы отрезали их от кораблей. Они не поддавались ни на дюйм, а мы не прекращали атаковать, зная, что если ослабеет наш натиск, норвежцы тут же перейдут в наступление. Нужно было прорываться, нанося удары топором и мечом, убивать или быть убитым. Гарольд был повсюду, он ободрял оробевших, вновь и вновь гнал людей в бой, а мы, Хельмрик и я, повсюду носили за ним знамена. Не так-то легко левой рукой удерживать двенадцатифутовый шест, а правой сжимать меч и отбиваться от этих разбойников, когда они приближаются вплотную, да еще пытаться разобрать, что приказывает тебе твой господин.
Перед наступлением сумерек – заходящее солнце светило нам в спины, а норвежцам в глаза – Гарольд послал Альберта за ополчением, которое расположилось по обе стороны моста и на самом мосту. Крестьяне хлынули вперед, словно река в половодье, крича и вопя, размахивая булавами и копьями. Они разом выпустили все стрелы и принялись швырять во врагов камни и топоры. Благодаря счастливой случайности ополченцы решили исход битвы: как раз в этот момент Харальд, стоявший сразу за передним рядом своих людей, снял шлем, чтобы утереть лицо, и метко нацеленный камень поразил его прямо в лоб. Харальд упал наземь. Вероятно, сперва он был лишь оглушен, но его не смогли быстро привести в чувство, и вскоре по рядам норвежцев прокатился слух, который наши встретили радостным кличем: Харальд мертв.
Королевский сан сам по себе обладает силой. Тостиг пытался удержать своих воинов, но боевой дух оставил викингов...
Вот и все. Тостиг продолжал сражаться, кажется, только он один еще и держался на ногах, вокруг него лежали мертвые и умирающие. Мы подошли ближе и увидели, что Тостиг истекает кровью, хлещущей из десятка, а то и двух десятков ран. Уронив меч и щит, он потянулся снять шлем. Гарольд подбежал помочь брату, но тот рухнул наземь, прежде чем король подоспел к нему. Гарольд приподнял его, обнимая за плечи, голова Тостига опустилась ему на грудь.
Он успел еще кое-что вымолвить, умирая. Сперва: «Говорил же я тебе, что вернусь», а потом, глядя на Воителя Керна, которого я держал над его головой, сказал брату: «Хорошее знамя, Гарольд. Мне нравится».
Гарольд отпустил Олава, сына Харальда, в Норвегию с остатками его армии. Они приплыли к нам на двух сотнях кораблей, для обратного пути понадобилось всего две дюжины. Тостига с почестями похоронили в соборе Йорка, Харальд получил свои семь футов английской земли на том самом месте, где упал. А пока совершалось все это, войско, только что отмахавшее без малого двести миль и выдержавшее тяжелейшую из битв, какие разыгрывались до той поры на английской земле, отдыхало. Мы устали, господи, как мы устали! Мы понесли большие потери, из четырех тысяч дружинников, явившихся сюда из Уолтхэма, уцелело менее трех тысяч, хотя все мы, кроме пятисот павших, пошли в Гастингс. Ульфрика не было с нами, не было Хельмрика – какой-то сакс метнул в него топор, приняв за врага. Маленького Альберта мы так и не нашли, ни живым, ни мертвым. Три тысячи трупов осталось на этом поле...
Через два дня, двадцать седьмого сентября, Вильгельм отплыл из Сен-Валери и на следующий день к вечеру высадился в Певенси. Мы узнали об этом тремя днями позже, в воскресенье, через шесть дней после битвы при Стэмфорд-Бридже.
Часть VII Все это
Глава сорок восьмая
На следующее утро, проснувшись довольно поздно, Квинт, Тайлефер и Уолт отправились прогуляться по Сиде. Этот красивый город располагался на побережье между двумя мысами, отстоявшими друг от друга примерно на полмили. От мыса до мыса шла новая крепостная стена с башнями, облицованная красновато-коричневым камнем. Она изгибалась дугой, возвышаясь над узкой равниной, где выращивали хлопок и фрукты; по ту сторону долины уходили ввысь горы, заросшие лесом, к подножью лепились оливковые рощи и виноградники.
Короткая мощеная дорога привела их в город, уютный, но обветшавший. В среднем раз в двадцать лет его разоряли пираты, изысканные парки и сады чередовались с пустырями; корни кедров и кипарисов, пробившись наружу, взломали мраморные плиты во дворах заброшенных вилл, и вместо клумб буйно разрослись лесные цветы; ящерки грелись на солнце, мелькали, словно золотисто-зеленые искорки, в одичавших розовых кустах. Друзья шли от гавани узкими улицами, над головами висело белье, быстро сохнувшее в теплом ароматном воздухе. Они купили маленькие коричневые булочки, усыпанные коричневым же сахаром, который получали здесь из сахарного тростника, купили виноград и фиги, длинные липкие и сладкие палочки из смеси миндального ореха, кунжутного масла и меда. Тайлефер наполнил обе фляги – одну вином, другую водой.
Они вышли на старинную площадь. Здесь еще стояли храмы и колоннады, хотя площадь густо заросла ракитником и куманикой, мраморные блоки и кирпичи растащили для строительства новых домов или ремонта тех самых улиц, по которым только что прошли путники. Статуи сбросили с пьедесталов, наиболее хрупкие и выступающие их части – носы, пальцы, пенисы – отломились и разбились вдребезги. Правда, в искусственном гроте, святилище нимф, укрытом от чужих взглядов пышным кустарником и решеткой, они наткнулись на трех мраморных Харит, простиравших руки над небольшим прудом с неподвижной темной водой. Две Грации повернулись к храму, выставив на обозрение путников великолепные зады, а та, что посередине, смотрела на изящно изогнутую ногу своей сестры. Мрамор был медового цвета, почти без прожилок. На ближней стороне пруда кто-то оставил небольшую ветку с тремя золотыми плодами айвы, очевидно, приношение богиням. Все трое мужчин ощутили в груди какое-то сладостное томление – желание соединялось в нем с преклонением перед божеством.
На внутренней стороне площади они обнаружили руины древнего театра. Бесчисленные ряды полукругом поднимались вверх над тенистыми галереями, прямая, стягивавшая дугу, служила сценой. Театр разрушили не вандалы, а землетрясение. Почти всю мраморную облицовку содрали, но огромные скрепленные известкой блоки, которые греки и римляне использовали при строительстве общественных зданий, устояли перед натиском последующих поколений, пытавшихся растащить стены по кирпичику. Трое путников поднялись по высоким ступеням, сели на самом верху – отсюда был виден залив, его изумрудно-зеленая, потом синяя, фиолетовая и, наконец, розовато-лиловая вода, треугольные паруса рыбачьих лодок, маленькие торговые суденышки и чистая ясная линия горизонта. К северу уходили горы, высокие пики Тавра, и на нем...
– Господи, снег! – воскликнул Квинт.
Да, это был снег, чистый, без всякой примеси, такой яркий, каким бывает только осенний снег в горах.
Разложив свои припасы на разбитой каменной плите, на которую не позарились мародеры, друзья неторопливо принялись за еду – спешить было некуда, и хотелось продлить удовольствие. После первых же глотков вина Уолт погрузился в сон. Это был даже не сон, а грезы, навеянные той веткой с тремя золотыми плодами айвы в храме Харит.
Процессия, вернее просто толпа, шла по меловой дорожке через поля, через березовую рощу. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листья берез, бросали на белый известняк желтые пятна света, чередовавшиеся с лиловыми тенями. Завывали дудки, палочки били по обтянутым кожей барабанам. Впереди шагал Уолт, волосы его украшал венок из цветов, на шее висела еще одна гирлянда. Бэр, самый сильный мужчина в Иверне, нес за хозяином десятифутовый дубовый шест, тоже увитый цветами, увенчанный цветочной короной. Легкий ветер раздувал разноцветные ткани одежд. Уолт накинул ярко-зеленый плащ поверх крашенной шафраном рубашки, надел золотой обруч на шею, золотой фибулой скрепил плащ, сверкали золотые браслеты на обеих руках, золотая пряжка на поясе, ярче золота блестели начищенные сапоги.
Все собрались, все, жившие, работавшие, служившие в Иверне, надели лучшие свои одежды, которые накануне постирали и высушили, разложив на кустах. Самые сильные юноши тащили бочонки эля или большие кожаные бутыли с брагой, двое волокли полуторагодовалого кабанчика, только нынче утром убитого и выпотрошенного, но еще не разделанного, два лесника перебросили через плечо по косуле. Крестьяне несли за ноги живых кур и уток, а гуси вперевалку бежали за толпой, пытаясь взмахнуть подрезанными крыльями. Неугомонно болтавшим ребятишкам вручили корзины с хлебами, сырами и пирогами из ячменя и меда, строго-настрого запретив пробовать это лакомство по дороге. Собралось более ста человек, многие пришли из соседних деревень и усадеб, явился даже Бран, вождь углежогов, в рогатой оленьей маске, а за ним следовали пять угольно черных подручных.
За ручьем, возле которого десять лет тому назад обручились Уолт и Эрика, гостей встречали старейшины Шротона вместе с дядей, тетей и кузинами Эрики из Чайлд-Оукфорда, усадьбы, расположенной по ту сторону холма. Старейшины Иверна, Уолт и Бэр, дудочники и барабанщики торжественно перешли на ту сторону по узкому мостику, и там новые родичи заключили их в объятия, в то время как остальные гости, шлепая по воде, переходили ручей вброд.
Пологая дорожка шла вверх через поля. Урожай уже был собран, и вид открывался по меньшей мере на полмили, до соседней усадьбы и деревень вокруг Хэмблдона. Там, в полумиле впереди, у ворот своего дома, в белом платье, с золотой сеточкой на соломенных волосах, под аркой из ветвей плодоносной яблони ждала его Эрика.
– Скоро надо будет спуститься на рынок, – предупредил Тайлефер, выплевывая виноградные косточки в руку, заставляя их исчезнуть и вновь обнаруживая в ухе Уолта. – Сударыня заказывала морского окуня.
– Уолт куда-то ушел от нас, – добавил фокусник, проводя рукой перед словно ослепшими глазами англичанина.
Уолт встряхнул головой, рассмеялся – не часто он смеялся после той битвы.
– Сны наяву.
Квинт устремил беспокойный взгляд на залив.
– Только что причалил корабль, – сообщил он, – под мусульманским флагом с полумесяцем.
Приплыл с запада, стало быть, по всей вероятности, пойдет дальше на восток, в Тир, Сидон, а то и в Иоппию. Стоит поговорить с капитаном. В любом случае нельзя бесконечно злоупотреблять гостеприимством нашей госпожи, лучше самим уехать, пока нас не прогнали.
Уолта охватило сомнение, озноб прошел по коже.
– Ты еще не раздумал ехать в Святую Землю?
– Нет, мне кажется, стоит посмотреть на те места, где давал представление Искуснейший Фокусник. – Квинт обернулся к Тайлеферу. – А ты что скажешь? Пополнил бы свой репертуар.
– Да я уж и так все его фокусы освоил, разве что не смогу накормить толпу пятью хлебами.
– Научись этому, и мы разбогатеем.
Они потянулись, зевая, и только Уолт, раздираемый противоречивыми чувствами, не находил себе места. Он принялся обкусывать ногти левой руки, но Квинт отметил, что его пациент больше не грызет культю правой, затянувшуюся здоровой кожей.
– Ну что ж, – подвел итоги Тайлефер, – купим окуня для госпожи Амаранты, а потом разузнаем, возьмут ли нас на корабль.
– К окуню хорошо бы сладкого укропа, – предложил Квинт, спускаясь по каменным скамьям, служившим ступенями амфитеатра. – Что тебя смущает, Уолт?
Уолт приостановился на ступеньку выше Квинта.
– Вы называете нашу хозяйку Амарантой, – сказал он.
– Это ее имя.
– Не Джессика, не Теодора и не Юнипера?
– Разумеется, нет. С чего ты взял? А, понял! – Квинт хлопнул себя по лбу. – «Теодора» потому, что в Никее она пошутила, мол, она для нас все равно что дар Божий. А Джессика? Ты же не думаешь...
– Мне казалось, Теодора... то есть Амаранта – это та самая еврейская прелюбодейка и убийца, только она переменила обличье. Она шла за нами от Никомидии, пела и плакала по ночам, украла золото из твоего мешка...
Они стояли уже на сцене театра, Квинт небрежно прислонился к отколовшейся мраморной глыбе.
– Ты все перепутал, Уолт, это какой-то кошмар. Не было никакой Джессики. Жена Симона бен Давида, торговавшего ляпис-лазурью, не была еврейкой. Женщина, следовавшая за нами по горам и плакавшая ночью, – плод твоего воображения. Не знаю, кто украл у меня деньги, но сомневаюсь, чтобы это сделала женщина.
– А та, которая купалась в горном озере?
– Наяда, – пожал плечами Квинт. – Почему бы и нет? Или пастушка, как я и предположил с самого начала. С чего ты взял, что все это была Амаранта?
– По-моему, она на них похожа. Рыжие волосы на самом деле парик, я видел, как она снимала его в караван-сарае, в Дорилее, кажется, а свои волосы у нее черные.
– Рыжие парики нынче в моде.
– Она знакома с купцами-евреями.
– Я тоже, но я не еврей.
– Она хотела нас убить, подбросила ядовитую многоножку, а потом гигантского паука.
– Уолт, дорогой мой! Такая опасность подстерегает любого путника. Здесь на каждому шагу водятся такие твари.
– Ты был болен, – вмешался Тайлефер. – После того удара по голове, который ты схлопотал от стражника в Никомидии, ты заболел, у тебя была лихорадка...
– И опиум, разумеется. У него есть свои побочные эффекты. И не забывай, Тайлефер, – обернулся Квинт к фокуснику, – наш друг и так был в расстройстве, он тяжко болел после сражения, пострадало не только его тело, но и душа. Она была словно разорвана надвое и пребывала в таком состоянии два, а то и три года. Только теперь его душа снова обретает цельность.
– И все же, – Тайлефер выхватил из воздуха шелковый шарф, скатал его в комочек, сунул себе в рот и дюйм за дюймом начал вытаскивать из уха Квинта, – и все же странно, как все совпадает, все персонажи, все события соединяются друг с другом, повинуясь особого рода логике, словно еще один сюжет в сложной повести Уолта.
– Прекрати! – рассердился Квинт, отмахиваясь от шелкового шарфа. – Да, вот именно: фантазии Уолта обладают логикой вымысла, сказочной повести: события нанизываются друг на друга таким образом, что слушатель начинает предвидеть связи и совпадения, которых сам Уолт не замечает. Это самый примитивный вид драматической иронии, ведь человеческий разум склонен подгонять реальные факты под заранее известную схему. Так мы подводим под единое понятие камешек и скалу, вместо того чтобы сосредоточить свое внимание на конкретности и уникальности каждого явления; так мы стараемся наложить на действительные события, каждое из которых происходит один и только один раз, не повторяясь, безо всякой связи с другими, сюжет какого-нибудь романа, например, «Золотого осла» Апулея.
– Мне нравится «Золотой осел»...
– Неужели? Подумать только! По мне, высокое, смешное, ужасное, сладострастное – все чередуется в этой книге с ошеломительной быстротой.
– Но ведь такова и жизнь, которую ты противопоставляешь шаблонам упорядоченного повествования...
Не обращая внимания на возражение Тайлефера, Квинт продолжал, даже не запнувшись:
– Хотя повсюду в этой книге чувствуется богатая фантазия и подлинная страсть, в не меньшей степени дают себя знать аффектация, бьющие на эффект красоты стиля, стремление выразить все как можно изысканнее, препятствующее автору писать по-настоящему хорошо. И самое скверное: эта книга скрывает в себе герметическое учение неоплатонизма, заклятого врага аристотелевского эмпиризма, который один лишь способен раскрыть нам тайны вселенной... – Словно вспомнив что-то, Квинт обернулся к Уолту, который стоял у него за спиной, потирая культей затылок. – А откуда взялось еще одно имя – «Юнипера»?
– He знаю, – пробормотал Уолт. – Я выдумал его, должно быть[246]. – Чтобы переменить тему, он в последний раз оглядел сцену и спросил: – Что это за место?
– Ти-а-тор, – по слогам произнес Тайлефер. – Место для увеселения публики и создания иллюзий. Когда-то на глазах восхищенных зрителей здесь оживали чудесные вымыслы.
Вскочив на сцену, приняв артистическую позу, бывший менестрель продекламировал:
Обломки гор,
Разя в упор,
Собьют затвор
С ворот тюрьмы;
И Феб с небес
Блеснет вразрез,
Чтоб мрак исчез
Тайлефер изящно раскланялся с друзьями, стоявшими перед сценой.
– И что же случилось? – удивился Уолт. – Почему ти-а-тора больше нет?
– Христиане, – проворчал Квинт. – Проклятые христиане. Вечно все портят.
Глава сорок девятая
Итак, – сказала Амаранта, отделяя серебряным ножом изрядный кус от рыбы, лежавшей у нее на тарелке, – вы намереваетесь отплыть послезавтра? В Иоппию, а оттуда в Иерусалим?
– Таков мой план, – ответил Квинт, – если будет попутный ветер. Кают на этом корабле нет, но нам они все равно были бы не по карману. Поплывем на палубе. Будем надеяться, останется местечко после того, как хозяин нагрузит судно хлопком.
Все пили белое вино из запотевших от холода бокалов. К вечеру местные виноторговцы послали крепких рабов в горы, и те принесли с вершины снег в мешках и бочонках. В тот вечер все сколько-нибудь знатные или богатые жители Сиды пили вино со льдом, и повара готовили шербеты, подслащая их медом и соком граната.
– Тогда Уолту следует поторопиться со своей историей. Обидно будет, если ты уедешь, так и не дорассказав. На чем мы остановились?
Отодвинув кости окуня, хозяйка положила себе маленькую телячью котлетку из большой миски, которую только что поставил перед ней повар. Котлеток было около тридцати, они пахли тимьяном и чесноком, а дно сосуда, где они лежали, устилали миндальные орешки вперемешку с зернами пшеницы. Ален вновь начал перебирать струны отцовской арфы.
– Уолт добрался до Йорка вместе с Гарольдом, и там они узнали, что тремя днями раньше герцог Вильгельм высадился в Певенси, – напомнил он.
– Ах да. И прежде чем мы услышим о том, что делал дальше Гарольд, твой отец должен рассказать нам, как нормандцы переправились через Пролив и высадились на берег. Он ведь был очевидцем этих событий. Тебе нужна арфа?
Тайлефер провел широкой ладонью по редеющим темным волосам и тоже положил себе на тарелку котлетки.
– Нет, мадам. Ален сыграет нам тот или иной аккорд, если почувствует, что рассказ нуждается в музыкальном сопровождении. В том, что я собираюсь рассказать, очень мало музыки, если не считать криков чаек над головой, плеска воды под кормой корабля, скрипенья мачт и свиста канатов. Да и героики во всем этом мало.
– Так соберись с мыслями и продолжай.
Хозяйка бросила тонкое, словно сухая щепка, ребрышко на пол. Серая эфиопская кошка вступила в борьбу за эту добычу с кудрявой болонкой и победила, конечно же.
– Последние дни сентября выдались ясными и теплыми, верный признак того, что солнечную, но прохладную осень сменит бабье лето. Утром двадцать седьмого числа поднялся бриз, теплый благоуханный ветерок, именно такой, о каком мечтают виноделы, ибо этот ветер придает лозе особую сладость, а вслед за ветром приходят дожди, от которых плоды винограда наливаются соком...
– Уймись, ты же не Вергилий.
– Я просто пытаюсь сказать, что двадцать седьмого сентября мы наконец дождались устойчивого южного ветра.
– Так и скажи.
– Я уже сказал.
Герцог Вильгельм отдал приказ начать погрузку. После той неразберихи, неудач и человеческих потерь, которыми сопровождался переход вдоль побережья, Вильгельм составил целый протокол: какие корабли загружать в первую очередь, что грузить, кому всходить на них, и так далее и тому подобное, вплоть до того, в какой последовательности нам следует выходить из порта. И вот весь день бароны, бейлифы[248], капитаны, писцы, командиры, конюхи и слуги носились взад-вперед по пристани и по всему берегу, размахивая записками с инструкциями, которые многие из них не могли прочесть – грамотных-то было мало, и все страшно боялись допустить какую-нибудь ошибку, сделать что-нибудь лишнее или, наоборот, не выполнить того, что предписано.
К полудню герцог начал догадываться, что дело не двигается с места, и сам взялся за работу. Я и сейчас вижу, как он мечется по пристани в Сен-Валери, размахивает руками, гонит солдат в одну сторону, моряков в другую, собственноручно вышвыривает запасы корма для лошадей из какого-то корабля и велит наполнить его пшеницей, лошадей заталкивает в узкий проход между скамьями для гребцов, а потом выводит их оттуда, когда конюх доложил ему, что животных еще не поили. Давно перевалило за полдень, близился вечер, солнце уходило за тучу на западной половине небосклона. Вильгельм выходил из себя. Один писец из Ле-Бека попытался намекнуть, что, если он не отменит последнее свое распоряжение, флот отчалит в обратном порядке по сравнению с первоначально намеченным. Вильгельм столкнул бедолагу в воду, выхватил у слуги поводья своего черного боевого жеребца и отправился прямиком на «Мору», а там приказал экипажу без промедления ставить паруса и выходить в море.
Разумеется, как только герцог убрался, все пошло гораздо быстрее, и спустя час, еще до темноты, весь флот отчалил от берега. Мы всего лишь на милю отстали от флагмана. Армия набралась не такая уж большая, две тысячи тяжеловооруженных всадников, три тысячи пеших воинов и еще три тысячи легковооруженных – это уже не рыцари, а по большей части лучники. Ну и, как положено, повара, конюхи, оружейники, писцы и все прочие. Чуть менее десяти тысяч человек.
Ночью ветер немного стих или переменил направление, так что часа через два после рассвета, двадцать восьмого числа, когда мы увидели землю, этооказался Бич-Хед, большой мыс с очень высокими и ослепительно белыми скалами в двух милях к западу от залива Певенси. Учитывая, что переход мы совершили в темноте, нельзя было не похвалить наших навигаторов: французский лоцман, рыбак из Сен-Валери, прекрасно знал, куда он нас ведет, поскольку французы часто вторгались в английские воды.
Примерно через час флот вошел в гавань Певенси. По пути мы захватили английского рыбака, и он подтвердил, что гарнизона в крепости нет. Между далеко выступавшими молами (еще римской постройки) тянулся топкий, усыпанный гравием берег. «Мора» с разгону наскочила на него носом, и Вильгельм во всех своих доспехах поспешно спрыгнул с корабля – ему ведь непременно нужно было первым ступить на английскую землю. Само собой, он свалился в воду, и его с трудом подняли на ноги.
Других приключений не было, после полудня вся армия оказалась за стенами римской крепости, а корабли вытащили на берег. Все шло хорошо, даже чересчур хорошо. Нигде не было видно ни одного английского воина, ни одного корабля. Естественно, Вильгельм заподозрил, что ему устроили ловушку. Он пригрозил пыткой местным жителям (это были два старика с женами), и те сообщили, что войска, находившиеся прежде в крепости, а также корабли, стоявшие в гавани, ушли еще две недели тому назад. Вильгельм приказал пытать их для пущей уверенности, но больше ничего старики сказать не смогли, и когда одна из женщин умерла под пыткой, Вильгельм махнул на остальных рукой.
Свойственная Вильгельму подозрительность усугублялась новой и неясной для него ситуацией. Герцог решил, что предосторожность не помешает, и распорядился насыпать новый земляной вал, более высокий, чем римские стены, и укрепить его бревнами, которые он специально для этой цели вез через Пролив. Тем временем он разослал всадников по окрестным деревням до самого Даунса, приказав выведать, что тут все-таки происходит. Нигде не находили ни людей, ни коней, ни кораблей, но, как и предсказывал Ланфранк, амбары были полны хлеба, на полях паслись коровы и овцы.
Постепенно Вильгельм стал успокаиваться. Пришло известие, что Гарольд отправился на север навстречу какому-то врагу – никто не знал, какому именно – и забрал с собой все войско. И все же Вильгельм страшился западни, боялся пасть жертвой какой-то сложной интриги, боялся удалиться от своих кораблей, выйти на открытое место, словно английская армия могла внезапно появиться из воздуха и уничтожить его силы на суше, а английский флот тем временем сжег бы его корабли. Но когда Вильгельм убедился, что на пятнадцать миль в округе, то есть, по его понятиям, на расстоянии дневного перехода, войска и в помине нет, он удалился от берега настолько, насколько смог отважиться – на шесть миль – и остановился у Гастингса.
Залив Певенси окружен болотами, там мало деревень, и трудно было бы снабжать армию продовольствием, да и в качестве военного лагеря Гастингс представлялся более надежным. Он расположен на возвышенности между двумя реками, Бредой и Булверхитом, гавань закрыта от нападения с моря и суши, город окружен богатыми усадьбами. Деревни обезлюдели, ополчение спряталось за холмами в лесах и ожидало возвращения Гарольда. Вильгельм тщательно и планомерно занялся мародерством. Немногих мужчин, которых застигли в домах, он повесил, с женщинами обошлись обычным манером, детей согнали в сараи, чтобы со временем продать в рабство, младенцев насадили на копья... Вильгельм называл это оздоровлением расы.
Через неделю стало окончательно ясно, что Гарольд и его армия находятся далеко к северу от Лондона. Мы догадывались, что только серьезная угроза, вторжение Тостига, а то и самого Харальда, могла вынудить его оставить незащищенным юг. Вильгельм потирал руки: оба его соперника вцепились друг другу в глотку – вот потеха...
– Похоже, ты не любил Вильгельма?
– Нет, мадам, не любил.
Дожевывая последнюю котлету, Уолт пробормотал:
– Так какого же черта ты подстроил ловушку Гарольду? – Лицо его раскраснелось, вина было выпито много, как обычно бывает, когда напитки подают охлажденными.
– Когда-нибудь я расскажу тебе. Или Аделиза, если она помнит.
– Я помню, папочка, – откликнулась Аделиза, покачав головой, так что волосы ее рассыпались по плечам. Опустив взгляд, она уставилась в тарелку и слегка надула губы.
– Рассказывай! – потребовал Уолт, но его остановила Амаранта:
– Лучше в другой раз. Сейчас это отвлечет нас от основного сюжета.
– Надеюсь, он по крайней мере объяснит, с чего это он так рвался вести в бой армию Ублюдка, да еще и петь при этом.
– Непременно объясню, – суховато пообещал Тайлефер.
И все же, когда советники предложили Вильгельму, не теряя времени, двинуться на Лондон и либо принудить богатых горожан принять его сторону, либо разграбить и сжечь город, он отказался: в Гастингсе герцог чувствовал себя в безопасности, почти как дома. Он уже начал строить замок – первый из тех, что предстояло возвести в этой стране (укрепленные замки – еще одна его мания), и ему было спокойнее, когда корабли оставались у него под рукой. Видимо, Вильгельм предполагал, что Гарольд может привести армию (как многие предрекали), во много раз превосходящую его собственную, и рассчитывал попросту погрузиться на корабли, распрощаться с Англией и уплыть домой.
Седьмого октября, через девять дней после высадки, мы получили известия из Лондона. Пятого числа Гарольд вернулся с севера и привел с собой передовой отряд дружинников. Вильгельм узнал также о двух битвах, при Фулфорде и при Стэмфорд-Бридже. Для него это были хорошие новости: Харальд мертв, одним претендентом на престол меньше. Кроме того, раньше он опасался, что Гарольд выставит на поле до двадцати тысяч солдат, считая и северян, но воины Мерсии и Нортумбрии полегли при Фулфорде, да и дружинники из Уэссекса и южных графств, хотя и одержали победу при Стэмфорд-Бридже, тоже понесли тяжелые потери. Теперь казалось вероятным, что силы противников будут равны, может быть даже, у Вильгельма окажется некоторое преимущество. Советники убеждали его осадить Лондон, пока не подоспело все войско Гарольда, но Вильгельм стоял на своем. Из полученных сообщений становилось ясно: Гарольд отличный полководец, его люди – закаленные бойцы. С Норвежцем не всякий бы справился.
Разумеется, вслух он этого не сказал, но привел более веские доводы.
– Первое, – заявил он, обращаясь к Одо, Роберу и всем прочим, – мерзавец до сих пор держит флот в устье Темзы и, судя по всему, корабли приведены в боевую готовность. Если мы покинем свои корабли, они нагрянут с моря, сожгут наши суда и зажмут нас в тиски. Второе, если мы двинемся на север, Гарольд начнет отступать, заманивая нас в глубь страны, пока не наберет себе новое войско. Мы будем идти по выжженной земле, погибая от голода. К тому же Гарольд сможет сам выбрать место битвы, а если захочет, затянет войну вплоть до Рождества, истощит наши силы, гоняя нас взад-вперед по вражеской территории, и через три месяца от войска ничего не останется.
– Однако, ваша милость!...
– «Сир», Одо, «сир» или «ваше величество». Мы теперь на английской земле, и это мое королевство.
– Что же нам делать, сир? Мы же не можем сидеть сложа руки и дожидаться Гарольда!
– Отчего же? У нас отличная крепость, опустошим все амбары и склады на сорок миль в округе, свезем запасы в Гастингс, пригоним сюда каждую овцу, каждую корову, каждую лошадь...
– Лошадей тут, похоже, нет.
– Не важно, каждую свинью, цыпленка, утку, гуся. Всю скотину пригнать или зарезать и доставить тушу. Тем временем все деревни и города сжечь, женщин изнасиловать, их отродье убить...
– Мы это и делаем.
– Делайте как следует. Найдите уязвимое место. Придумывайте новые измывательства и непременно оставляйте в живых несколько очевидцев. Знаю я этих англичан, они сразу раскисают, когда опасность угрожает их близким. Они потребуют, чтобы Гарольд как можно скорее остановил вторжение. Для этого ему придется явиться сюда, а если он сам не придет, мы двинемся дальше вдоль берега к Дувру или Сэндвичу и там будем делать то же самое. Ну же, Одо, пусть наши мальчики развлекутся, пусть присмотрятся к здешнему добру, пусть поймут: одно усилие, одно настоящее сражение – и они смогут всю жизнь жиреть, как свинья на отбросах!
Тринадцатого числа, в пятницу, мы узнали, что передовой отряд Гарольда занял позицию в пяти милях от нас на холмах Даунса, на краю большого леса. Они добирались из Лондона, шли день и ночь, и, насколько мы поняли, король привел с собой всего пять тысяч человек. Четырнадцатого, поднявшись до рассвета, Роже Монтгомери, опытный воин из Фландрии, взял хороших, крепких лошадей и полдюжины солдат и отправился на разведку. Он вернулся в шатер к Вильгельму еще до того, как солнце осветило равнину к востоку от Гастингса...
– Ты был там? Ты видел это своими глазами?
– Я был там.
– У них хорошая позиция для обороны, – сказал Монтгомери, тощий, зловещего вида человек с высокими скулами. Он носил черный суконный берет, сдвинув его к левому уху, так что два серебряных талисмана болтались прямо над правым глазом. – Думаю, он не рассчитывает, что мы нападем на него. Для этого нам потребовалось бы вдвое больше солдат.
– Тогда чего же он ждет?
– Полагаю, это место сбора. Из леса выходят ополченцы и присоединяются к нему, с севера, вероятно, тоже подходят войска. Когда он соберет все свое войско, он будет атаковать.
– Чего, по-твоему, он ожидает от нас?
– Это зависит от того, сколько людей ему удастся собрать в ближайшие дни. Если их будет достаточно, он может рассчитывать, что мы вступим в переговоры, чтобы обеспечить себе безопасное возвращение домой...
– Ладно, хватит. Пошли, надерем ему задницу.
– Господин мой!
– «Сир»!
– Сир, у него очень сильная позиция. Мы не сможем выбить его оттуда.
– К черту, Роже! Мы выступим, как только все построятся. Или нет – сперва я проведу короткую беседу с людьми, а потом мы выступим. Да, Тайлефер? Чего тебе?
Я пытался внести свою лепту в этот разговор. Услышав, что Вильгельм собирается произнести перед войском напутственную речь, я понял, что наступил его звездный час. Все представлялось ему театральной пьесой, которую он сочинял на ходу, стремясь поразить весь мир – державных правителей, Папу и потомство. Пожалуй, подумал я, и для меня найдется тут роль.
– Сир, – заговорил я, – позвольте мне возглавить передовые отряды, когда они двинутся на холм. Я возьму ребек, буду петь нашим храбрецам о древних подвигах, слава которых доселе осталась непревзойденной, о чести и самоотверженности, о том, что до конца времен их имена не сотрутся из памяти людей!
– Хорошо, только не забудь спеть и о том, сколько поживы принесет победа.
Обернувшись к слуге, Вильгельм знаком распорядился подать кольчугу, висевшую на крестовине. Он страшно спешил и в конце концов надел кольчугу задом наперед, так что лев, герб Нормандии, оказался у него на спине. Когда Монтгомери указал герцогу на его ошибку, Вильгельм побледнел, только что не посинел от ярости. Я заподозрил, что первой жертвой в этот день станет не ваш покорный слуга, как я рассчитывал, а ни в чем не повинный лакей.
– Сир! – воскликнул я в тот момент, когда герцог резким движением высвободился из кольчуги, повернул ее и принялся вновь натягивать на плечи. – Это ясное предзнаменование великой перемены, которая свершится сегодня: из герцога вы станете королем!
И этот глупец проглотил мою лесть, расхохотался от удовольствия и похлопал дрожащего слугу по спине.
Разумеется, речь перед битвой удалось расслышать немногим воинам, но не для них она и предназначалась: главным образом герцог старался ради меня, ведь я обещал сочинить песнь о его походе. Эта речь должна была войти в эпос.
Рыцарей построили на дороге у стен Гастингса в колонну по четыре, их узкие знамена хлопали на древках под холодным серым небом. На востоке из-под длинной черной тучи показался краешек солнца, на западе еще не зашла убывающая луна, утренняя звезда стояла в зените. Кони храпели, грызли удила, гремели доспехи, так что даже те, кто находился недалеко от герцога, различали только отдельные слова. Вильгельм разъезжал вдоль передового отряда из четырех сотен человек, то и дело переходя с шага на рысь. Поскольку войско заняло всю дорогу, герцогу приходилось скакать по известняковому бордюру, расположенному чуть повыше. Лошадь все время сбивалась, пару раз он чуть не вылетел из седла.
– Нормандцы, соотечественники! – начал он. – Равно как и воины, прибывшие к нам из других краев! Мы собрались здесь не восхвалять Гарольда, но похоронить его. Учтите: это достойный противник, не какой-нибудь слабак. В ближайшие часы многие из нас погибнут, им будет воздана честь, вечная память и все такое, но главное – чем больше потерь мы понесем, тем больше достанется уцелевшим при разделе добычи.
Впрочем, не в этом суть. Нет, вовсе не в этом. Мы собрались сегодня, чтобы открыть... чтобы начать новую главу мировой истории. Учтите вот что: сегодня этот маленький заброшенный остров с его варварским населением станет частью большой Европы, утратит свою обособленность, позабудет свои дрянные обычаи, сделается культурным, да, вот именно, культурным, как мы сами. Если не будешь держать чертово знамя ровно, яйца оторву!
На чем я остановился? Гарольд именует себя королем этого славного и благословенного острова, а по какому праву? Потому что дряхлые старики покорно закивали головами, когда он приставил им к горлу меч, и не только он, но весь выводок братьев. Выводок братьев... Змеиное отродье. Змеи подколодные, гадюки. Многие из вас видели, как год тому назад он присягал быть моим вассалом, служить мне, как королю и сюзерену, он клялся на этих самых святынях, которые вы сейчас... Где они, на хрен? Роже, они в моем шатре, будь другом, принеси. Ланфранк велел мне надеть их на шею.
Так. Словом, я что хочу сказать: на нашей стороне право, на нашей стороне сила. Спустим с привязи псов войны и глада, рвущихся к травле, пусть растерзают их в клочья! Бог за Вильгельма и Англию, святой... Кто у нас святой покровитель Англии? Мать твою, Одо, ты же епископ, ты должен знать!
Святой Георгий? Это кто еще такой? Ладно, сойдет. Бог за Вильгельма! Англия, Нормандия, святой Георгий – вот наш клич!
Тайлефер доел последнюю ложку шербета.
– Вот и все, – сказал он. На побледневшем лице фокусника выступили мелкие капельки пота. – Вот и все. Короткая речь, и мы двинулись. Мне нальют еще немного вина?
– Но святой Георгий родом из этих мест. Да, конечно, вот вино. Он тут убивал драконов, принцесс спасал. Какое отношение он имеет к Англии и Нормандии?
– Да, он из Каппадокии[249], – подхватил Квинт.
– Все равно. – Тайлефер налил себе вина, залпом выпил стакан. – Просто первое имя, пришедшее Одо на ум. Не думаю, что этот клич приживется.
Глава пятидесятая
Уолт шел в свою комнату по длинной террасе, выложенной мраморными плитами. Гавань с террасы было видно плохо, зато отлично просматривалось открытое море, в тот вечер неспокойное. Под ущербной луной, затеняя ее, пробегали торопливые облака. Из полумрака глубокой ниши протянулась рука и сомкнулась на правой руке Уолта повыше изувеченного запястья.
– Уолт? – тихо окликнула его Аделиза, увлекая за собой в нишу. Прежде это углубление в стене предназначалось для статуи, но местный епископ, заручившись поддержкой значительной части ремесленников, со всей суровостью отстаивал указ, запрещавший создавать литые или тесаные изображения (храм Граций, уцелевший на форуме, чудом ускользнул от бдительного ока церковника), и Амаранта распорядилась перенести в подвал дома статуи, которые можно было разглядеть снаружи, а фрески замазать штукатуркой.
Лунный свет почти не проникал в нишу, Уолт угадывал присутствие девушки, ощущая тепло и аромат ее тела, но лица ее разглядеть не мог.
– Уолт, – повторила она (ощупав культю, она убедилась, что перед нею действительно тот, кого она искала), – Уолт, папочка хочет, чтобы я рассказала тебе, как и почему он проделал тот фокус, который вынудил эрла Гарольда принести присягу на верность Вильгельму.
– Разве он сам не может мне рассказать?
– Он бы предпочел, чтобы ты услышал об этом от меня.
– Что ж, давай.
– На самом деле мой отец не прибегает ни к какому волшебству. Он пользуется различными механизмами, приемами, с помощью которых можно исказить изображение, заставляет законы природы проявить себя необычным, хотя и вполне естественным образом, но в первую очередь он пользуется – можно даже сказать, злоупотребляет – наивностью публики, ее желанием обмануться. Люди платят за то, чтобы посмотреть на чудо, и каждый, сам того не сознавая, подыгрывает «волшебнику», желая получить за свои денежки побольше удовольствия.
Хотя близость Аделизы и опьяняла Уолта, он еще не вовсе лишился способности рассуждать.
– Но Гарольд вовсе не желал, чтобы его обманули, и его никак нельзя назвать доверчивым зевакой.
– Совершенно верно. Вот почему в тот раз было чертовски трудно создать нужную иллюзию. Как ты помнишь, главную роль в этом представлении играли два юноши, стоявшие на галерее, очень высоко над залом, с петлями на шее, а концы веревок были привязаны к балкам над их головами.
– Да. Это ведь были юный кузен Гарольда и его племянник, совсем еще мальчик.
– Ничего подобного. Это были Ален и я. Нас специально нарядили, намазали лица гримом. Ты вспомни, Гарольд много лет не видел своих родичей, зал был скудно освещен, полон дыма, так что было нетрудно внушить ему мысль, будто он вот-вот увидит жестокую смерть своих близких, тех самых, ради спасения которых он прибыл в Нормандию...
Она почувствовала, что Уолт готов взорваться, и продолжала поспешно:
– То есть сама картина была вполне реальной, отнюдь не иллюзией, и веревки были настоящими. – Она провела пальцами по своему горлу. Глаза уже привыкли к темноте, Уолт смог разглядеть это движение, белизну нежной шеи. – Веревки были настоящие и угроза – реальной. Вильгельм предупредил отца, что нас повесят на месте, если он не вынудит Гарольда дать клятву. Что было делать папочке?
В самом деле, что? Какой отец поступил бы иначе на его месте? Разумеется, последствия поступка, продиктованного родительской любовью, оказались во много раз ужаснее, чем смерть юной девушки и маленького мальчика, но это если подсчитывать общую сумму добра и зла, а в тот момент...
Уолт глубоко, тяжко вздохнул.
– Ладно, – сказал он, – что сделано, то сделано. Ничего уже не исправишь.
Аделиза приподнялась на цыпочки, поцеловала его в щеку, и на миг Уолт почувствовал, как ее юное тело прижалось к нему, но вовсе не из желания продлить объятие он ухватил Аделизу за руку и не дал ей уйти.
– Почему твой отец сам не рассказал мне об этом?
Она робко повернулась к нему.
– Квинт всегда рядом, – ответила она. – Папочка думал, Квинт, с его скептическим умом, непременно поставит под сомнение этот рассказ. Вернее, Квинт сочтет разговор, который может примирить тебя с Тайлефером и сделать вас друзьями, еще одним образчиком романа, где вопреки реальной жизни царят не судьба и случай, а правила связного сюжета, нанизывающего удивительные совпадения. Папочка опасался, что Квинт не захочет понять: сами события подчинялись логике вымысла, складываясь в единый сюжет. Так или иначе, папочка надеется, что теперь вы станете друзьями, и ты не будешь держать на него зла.
Это Уолт пропустил мимо ушей, его интересовало другое:
– Так это чувство вины вынудило Тайлефера вести нормандцев в бой и первым пасть на поле сражения?
– О нет. Конечно, папочка сожалел о том, что сделал, но не настолько же! Нет, просто он предвидел, что битва предстоит тяжелая. В бою погибают, как правило, только единожды. Вот он и решил, что лучший способ уцелеть – это пасть в самом начале сражения. Он засунул в ребек пузырь, наполненный свиной кровью, и как только англичане принялись метать камни и дротики, вылил кровь из пузыря себе на голову и повалился на землю. Была и другая причина: папочка был по горло сыт Вильгельмом и воспользовался возможностью ускользнуть от него.
Аделиза еще раз поцеловала Уолта и ушла.
Уолт лег в постель, но уснуть не мог. Не сомнения тревожили его, хотя кое-какие неточности в рассказе Аделизы могли бы насторожить более проницательного слушателя, а пробужденные ее прикосновением воспоминания о других объятиях, о родстве, дружбе и любви, о счастливых временах. Уже несколько лет Уолт отталкивал от себя эти воспоминания, как только они пытались прорваться из-за порога бессознательного и затопить его разум. Как ни тяжела память о пережитом горе, еще тяжелее вспоминать об утраченном счастье.
Глава пятьдесят первая
В сопровождении толпы гостей из Иверна и близлежащих деревень Уолт пересек луг с выжженной солнцем травой, поднялся на холм, на поляну, где жители Шротона обычно устраивали гулянья. Эрика в платье из тонкого белого хлопка стояла на другом конце поляны, подружки, одетые в зеленое, держали над головой невесты сплетенные яблоневые ветви, прогибавшиеся под тяжестью плодов. Позади Эрики среди дубов и ясеней виднелись соломенные кровли амбаров и коровников, черепичные крыши ее усадьбы и церкви. Дальше начинались пологие склоны, внизу поля, где уже сжали хлеб, а на крутизне росли только боярышник и терновник, и так вплоть до обильных травой валов Хэмблдона. Голубой дымок вился над усадьбой. Вокруг поляны расставили высокие столы, соорудили из подручных материалов шатры, жаровни наполнили углем, но еще не растопили. На дальнем от деревни краю поляны мужчины заготовили дрова для огромного костра, чтобы к вечеру изжарить на нем быка. Тепла и света от огня должно было хватить на все ночное веселье.
Даже в августе, после долгих солнечных дней, ранним утром было прохладно, хотя роса уже высохла. Свежая прохлада ложилась на новые или постиранные накануне одежды, на отмытые, оттертые дочиста лица детей. Праздничное настроение сделало легкой и упругой походку взрослых, слышалось в шуме, суете, приветствиях и болтовне, в песнях, которые кое-кто уже начал запевать, ощущалось в той уверенности, с какой все встречали этот день. Что бы там ни ждало впереди, нынешний день обещал веселье.
Воплощением всех надежд и чаяний была Эрика. Ей исполнилось двадцать четыре года, она расцвела и стала настоящей красавицей. Она была как налившийся колос, как незамутненный источник для жаждущих уст. Но не только развившееся тело, не одна лишь плотская красота составляли секрет ее обаяния. Высокая, но отнюдь не долговязая, стройная и сильная, но без грубых мышц, избавившаяся от девичьей пухлости, но сохранившая яркое цветение юности, она предстала перед Уолтом словно богиня. Белое, похожее на тунику платье со множеством складок доходило до колен, а на плечи Эрика накинула плащ из тонкого сукна красно-коричневого цвета, перевила длинные светлые волосы нитями речного жемчуга, открыв высокий лоб. Из-под темных бровей светло-голубые глаза смотрели с тихой улыбкой, той самой улыбкой, которая приподнимала уголки ее нежных губ. И все же, несмотря на улыбку, на лице Эрики проступала сосредоточенная серьезность, еле заметные морщинки в уголках глаз свидетельствовали о чувстве долга и ответственности, о скорби ранних утрат и о готовности принять жизнь такой, какова она есть.
Уолт остановился в пяти шагах от Эрики, и по лицу жениха она угадала, что он охвачен смятением, не знает, что и как надо делать. Девушка передала букет ближайшей из подружек и почти бегом пустилась навстречу возлюбленному, кинулась ему на шею. Почувствовав, как руки Уолта сомкнулись у нее на спине, она приветствовала его горячим, долгим поцелуем в губы. Радостные клики разнеслись по поляне. Оторвавшись от Уолта, раскрасневшись – румянец спустился даже на шею и грудь, видневшуюся в вырезе платья, – Эрика взяла нареченного за руку и провела его под яблоневой аркой.
В отличие от Иверна, Шротон располагал собственной церковью, ее не так давно построили из бревен, замазав щели известкой, и увенчали невысоким шпилем-колокольней – не для благовеста, но для заупокойного звона и набата, предупреждавшего о приближении врагов. Ближайшие родственники с обеих сторон, а также самые старые и уважаемые из свободных крестьян построились позади жениха и невесты и проводили их в часовню. Церковка была маленькой, но светлой, никакие витражи не мешали солнечным лучам проникать сквозь узкие сводчатые окна. Внутри ничего лишнего, только алтарь – плита портлендского камня на четырех дубовых пеньках. Церковь наполнили цветами и плодами из местных садов и лесов, охапками роз, лаванды, больших полевых ромашек, плетенками с яблоками, грушами, клубникой, со стен свешивались колосья ячменя.
Священник выслушал короткие обеты. Жених и невеста выучили наизусть положенную формулу, но слова их шли от сердца. Затем святой отец проследил, как молодые обменялись кольцами, и благословил их союз. На все про все хватило десяти минут.
Они вернулись на поляну. На самую большую повозку, какую только удалось отыскать в обеих деревнях, поставили стулья для новобрачных, сделали навес из соломы, усыпанной цветами, и все, не соблюдая очереди, подходили с дарами, клялись в верности господам, желали им долголетия и многих детей.
Не прошло и получаса, как Эрика начала проявлять нетерпение:
– Давай плясать. Вон, все уже пляшут. Только сперва сними с себя золото, чересчур пышно для наших мест.
Уолт помог молодой жене спуститься вниз, на площадку из дерна, и она понеслась прочь, изгибаясь в танце, отплясывая заодно со своими подружками под музыку барабанов и дудок, наяривавших безумную джигу, и все женщины присоединились к танцу, ловко лавируя между накрытыми столами.
Так они праздновали и веселились до самых сумерек, пока не подоспел зажаренный на костре бык. Только вот места в желудке осталось маловато: все уже угостились козленком, фаршированным яблоками и запеченным на углях от ореховых прутьев (традиционное блюдо в начале Месяца Яблок и Орехов), съели сыры, цыплят, гусей, поглотили груду хлеба со свежим маслом, запеканки, орехи с мягкой зеленой скорлупой и белой, податливой мякотью, яблоки, только что сорванные с дерева, и яблоки в меду, начиненные гвоздикой и корицей, нанизанные на ореховые прутья и запеченные над маленьким костром, какие во множестве горели на поляне. И пили, пили, пили огромными флягами и бочонками, пили прошлогодний сидр и пиво, сваренное из ячменя предыдущего урожая – новый урожай был только что собран, пришла пора освободить место для свежего зерна.
Люди пили, и веселились, и затеивали игры, а Уолт награждал победителей призами. Из древесины вяза вырезали три деревянных шара, их полагалось прокатить по длинной дорожке из широких планок, сбив девять кеглей на дальнем конце. Каждый по очереди пробовал свои силы, хотя всем было известно, что приз разыграют между собой два умельца, один из Шротона, другой из Чайлд-Оукфорда, способные одним ударом сбить все девять кеглей, набрав двадцать семь очков за три броска. Они продолжали соревноваться, пока наконец ловкач из Шротона слегка не промазал, оставив одну кеглю несбитой, а его соперник из Чайлд-Оукфорда получил обычную в таких случаях награду, полуторагодовалую свинью. Потом настал черед скачек. Участники описывали круги вокруг поляны, в качестве препятствий на их пути расставили невысокие заборчики; потом стреляли из лука – не по мишени, а в чучела зайцев и птиц, которых тащили перед лучниками по земле или внезапно подбрасывали в воздух. На сжатом поле показывали свое умение фримены, имевшие собственный плуг с упряжкой волов, причем очки начислялись за ровную и глубокую вспашку, а не за скорость, с какой пахарь проводил борозду. Победил дядюшка Фреда, посадивший мальчика на грядиль. Овдовевшая мать Фреда, уверившись, что земля останется за ней и ее семьей, сумела оправиться после родов, но оба близнеца умерли.
Были и другие состязания: мужчины рубили дрова (тут победил один из углежогов, пришедших вместе с Браном), бросали кожаный башмак, соревнуясь, кто дальше закинет; заводили корову в загон и, расставив колышки, спорили, на каком месте она опорожнится; нарезали прутья и плели из них звенья изгороди (победил Бэр). Эрика, водя за собой покорного Уолта, строго оценивала соломенных кукол, принесенных детьми, пироги, домашние напитки, снадобья от зимней слабости (здесь не оказалось равных Анне, той самой, что дежурила вместе с Уолтом у смертного ложа его отца: она советовала применять растирку из сосновой смолы), а еще надо было осмотреть изделия искусных вязальщиц, ткачих, красильщиц, вышивальщиц, плотников, столяров, краснодеревщиков.
Прослышав о празднестве или завидев дым, далеко расползавшийся под туманным небом, начали сходиться люди со всей округи, и никто не являлся с пустыми руками: тащили мехи медовухи, сумки с пирогами, несли барабаны, дудки, ребеки, как будто без них шума было недостаточно.
И никто не заговаривал о том, что, несомненно, тревожило каждого в эти дни, никто не расспрашивал о Вильгельме, о готовившемся вторжении, хотя все понимали, что ждать осталось недолго. Урожай был собран, большинству мужчин предстояло вместе с Уолтом вернуться в Суссекс, присоединиться к ополчению, и все знали, что Уолт, телохранитель короля, сам теперь сделавшийся таном, при благоприятном обороте событий станет эрлом.
Приближалась ночь, красный диск солнца просвечивал на горизонте сквозь розоватую дымку, небо на западе казалось сперва зеленым, как нефрит, потом посинело, в воздухе замелькали ласточки и стрижи, кормившие уже второй за лето выводок, грачи уселись на вершины деревьев. Коршуны и сарычи парили над поляной, привлеченные то ли восходившими от костров струями теплого воздуха, то ли запахом жареного мяса, достигавшим даже той высоты, где они кружили, ловя последние отблески уходившего за гору светила. Наступил час покоя, час, когда каждый мог усесться на прогревшуюся траву и ромашки, жевать обгоревшую или недожаренную, сочащуюся кровью говядину, прихлебывать эль и болтать обо всем, что случилось за день, о давних и грядущих празднествах. Только дети неутомимо сновали вокруг, играя, гоняясь друг за другом. Лишь самые маленькие выбились из сил и уснули.
На востоке выкатилась огромная оранжевая луна, почти полная; кто-то подбросил в большой костер еще несколько веток, искры взметнулись вверх, дым повалил гуще. На большую тележку, которая так и осталась стоять на краю поляны, забрались флейтисты, завели свою пронзительную, с переливами, плясовую мелодию, барабаны подхватили напев, а потом и вовсе заглушили песню флейты. И вся толпа, все пять сотен человек, почуяв, что настал долгожданный миг, повалила на поляну, кто парами, кто рядами, кто хороводом, одни двигались легко и проворно, других уже шатало от выпивки или усталости, но в пляс пошли все.
До той поры свадьба молодого тана и хозяйки соседнего имения была праздником общины: заново приносились клятвы в подтверждение старинного уклада, прав и обязанностей, соединявших жителей усадьбы и деревни в единое целое, но теперь веселье сделалось вольнее, безудержнее, неистовее. Мир поплыл, закружился, и каждый на свой лад искал в нем тех радостей, какие приносят человеку танец, вино и любовь.
Эрика и Уолт схватились за руки, но он был плохим танцором, ему довольно было покачиваться на каблуках, глядя, как изгибается и вертится во все стороны Эрика, как развеваются ее локоны, касаясь порой его щеки, как складки ее простенького платья распрямляются, подчеркивая с каждым движением изгиб бедра или округлость груди, как проступают под мышками влажные пятна. Наконец она остановилась, улыбнулась во весь рот, снова взяла Уолта за руку.
– Довольно, – проговорила она, – пусть они веселятся. – И мягким, но решительным движением увлекла Уолта на поле, к нижнему склону холма.
Они были тут не одни, другие парочки уже протоптали путь через боярышник или поднялись на вершину холма и бродили между двумя старинными валами, отыскивая местечко поукромнее, где трава, покрывавшая известковую почву, могла предоставить им мягкую постель. Но Эрика повела возлюбленного через две глубокие канавы мимо второго вала на длинный, постепенно подымавшийся горб у вершины холма. Овцы, заметив приближение людей, отошли подальше, трава была объедена, но аромат тимьяна, сохранившийся после жаркого дня, все еще чувствовался на пастбище.
Эрика остановилась на самой вершине и вновь обняла Уолта, поцеловала его долгим, неторопливым поцелуем, потом, чуть отодвинувшись от мужа, стала медленно его поворачивать, чтобы он мог посмотреть сперва на север, через долину в сторону Шефтсбери, затем вниз, на поле, где горел огромный костер и разлетались искры, когда большой сук проваливался внутрь, в пещеру жара, менявшую свой цвет, игравшую всеми оттенками оранжевого и красного в зависимости от легчайшего дуновения воздуха. Издали доносились приглушенные звуки музыки, смеха, пения, гремели барабаны.
Она повернула его лицом к западу, еще хранившему на горизонте теплый отсвет солнца. Планета любви взошла и горела, точно зеленая искра, над ломаной линией гор; она повернула его лицом к югу, где река Стаур извивалась серебряной змеей, пронизывая тьму леса, обхватив своей петлей квадратный Ход-Хилл, некогда римский лагерь. И все это было залито светом гигантской луны, сиявшей на востоке. Теперь, когда она выкатилась на ясное небо, луна из оранжевой сделалась серебряной, и власть ее над ночью казалась еще могущественнее, чем власть солнца над днем. Держа Уолта за руку, Эрика смущенно присела, поклонилась Луне, и Уолт, едва сознавая, что делает, тоже склонил перед ней голову, чувствуя, как все его существо – и сердце, и разум, и душу, и тело от макушки, на которой волосы поднялись дыбом, до кончиков нетерпеливо шевелившихся на ногах пальцев – пронизала древняя Радость.
Эрика заставила его снять одежду, через голову стянула с себя платье. Уолт хотел обнять ее, уложить на землю, но Эрика, обеими руками взяв мужа за руки, мягко понудила его опуститься на колени, потом откинуться на спину. Она оседлала Уолта, упершись коленями в землю по обе стороны от его бедер, наклонилась вперед, стала медленно гладить его шею, плечи, руки, грудь, а он, приподняв руки, обхватил ладонями ее груди, стал ощупывать бока и бедра. Эрика все ниже склонялась к нему, и Уолт смог коснуться ее ягодиц. Наконец, немного подвигавшись взад-вперед, не стесняясь помочь ему и поощряя Уолта пальцами нащупывать путь, она приняла его в себя. Потом они затихли на миг без движения, лицо Эрики почти касалось его лица. Она прошептала:
– Вот видишь, почти не больно.
И начала раскачиваться на нем, словно наездница, взад-вперед, вверх и вниз, все быстрее, и просила его держаться, и он держался, терпел, кусая губы так, что они начали кровоточить, цепляясь за землю ногтями, припоминая, чему учил его Даффид, считая чертовыми дюжинами до трехсот тридцати восьми и обратно, пока, высоко запрокинув голову, Эрика не испустила низкий, протяжный крик.
Ему показалось даже, что он не имеет никакого отношения к ее торжеству, но тут она опустилась, клубочком свернулась на нем, и принялась ласкать возлюбленного, и смех ее перемежался со вздохами и стонами, и так продолжалось, пока луна не побледнела, достигнув другого края небосвода, пока не посветлел горизонт на востоке и солнце не разогнало предрассветную прохладу. Запели жаворонки, стрижи снова замелькали над кочками и кротовинами, невдалеке залаял пастушеский пес. Они натянули на себя одежду, поцеловались и вдруг...
– Поймай меня, если сумеешь! – Она помчалась вниз и белою ланью мелькнула вдали, перескакивая через рвы у старинного вала.
Глава пятьдесят вторая
Упорный ветер, ночью поднявший волну, пришел с запада, а потому юнга с облюбованного Квинтом корабля, маленький арапчонок, с кожей цвета корицы, босой и почти голый, если не считать длинной желтой фуфайки да узкой головной повязки, спозаранку начал дубасить кулаками в дверь виллы и выкликать пассажиров. Как выяснилось, капитан уже закончил все дела в городе и не желал упускать попутный ветер, а стало быть, если Квинт и все прочие, кто купил себе места на палубе судна, не явятся в течение часа, якорь поднимут без них.
Квинт и Уолт путешествовали налегке, в отличие от Тайлефера и его детей. Конь и мул менестреля все еще стояли в конюшне примерно в полумиле от дома Амаранты. За ними послали служанок: хотя Тайлефер не собирался брать животных с собой, он хотел навьючить на них чемоданы и сумки со всеми принадлежностями фокусника, арфу и прочие пожитки, иначе пришлось бы прибегнуть к услугам носильщиков, а те, почуяв спешку, запросили бы вдвое против обычной цены.
Через полчаса коня и осла привели, еще пятнадцать минут ушло на то, чтобы взвалить им на спину добро Тайлефера и более-менее надежно его приторочить, после чего все чуть ли не бегом пустились по мощеным улочкам, разметая во все стороны очистки от овощей, которыми была усыпана дорога, и примчались в гавань с запасом по меньшей мере в пять минут. Поспели все, в том числе и Амаранта в сопровождении двух служанок.
Ветер и впрямь разыгрался, он дергал за плащи и юбки, раздувал хлопавший, не закрепленный еще парус, и корабль даже здесь, в гавани, ощутимо раскачивался. Чайки кружили, опускались на борт, прежде чем умчаться на другую сторону гавани, поискать объедков у рыбачьего причала, где женщины уже потрошили и чистили рыбу после ночного лова. На корабле, отплывавшем в Святую Землю, и на нескольких соседних матросы изо всех сил тянули канаты, подымая паруса. За оконечностью мыса море, по контрасту с мчавшимися по нему белыми барашками, казалось почти черным.
Тайлефер проследил за тем, как его скарб с помощью маленькой лебедки перегружают на палубу, и обратился к Амаранте:
– Хочешь купить хорошую вьючную лошадь и мула?
– Папочка! – хватая отца за руку, воскликнула Аделиза. – Ты мог бы и подарить их нашей милой хозяйке за ее гостеприимство.
Амаранта улыбнулась.
– Выставь их на аукцион, – предложила она, оглядев небольшую группу торговцев, разносчиков, грузчиков и просто зевак.
Тайлефер послушался, и Амаранта, перебив все ставки, вручила ему три золотые монеты, которые вынула из особого кошелька ее старая служанка.
– Это справедливая цена, – сказала она. – Хотя, конечно, я смогу получить кое-какую прибыль, если продам их на ярмарке.
Наступил тот неловкий момент, который неизменно наступает при прощании: все слова уже сказаны, и непонятно, когда же отплывет корабль или двинется в путь караван. Тяжело было на сердце у Уолта, его точили сомнения, он бесцельно бродил по набережной, сам с собою рассуждая о предстоящем путешествии. Его томил не только страх перед морской могилой, но и внезапно нахлынувшая тоска по дому, по родному очагу.
Услышав английскую речь, он обернулся к морю и увидел внизу маленькое суденышко с открытой палубой, скорее даже ладью, разве что посредине кораблик был немного шире, чем знакомые Уолту длинные боевые суда, да корма и нос немного повыше. Но все равно он был впятеро меньше арабской галеры, на которой друзья собирались плыть в Иоппию, меньше, чем тот корабль, который в 1065 году перевез Гарольда из Бошема в Сен-Валери, – не было даже капитанской каюты. Как и арабская галера, это суденышко тоже загружалось мешками с хлопком, а под ними Уолт разглядел ящики соленой рыбы и копченой свинины. На корме вверх дном лежал маленький гребной челнок, точь-в-точь рыбацкая лодчонка.
– Нам потребуется еще одна пара рук, – вот какие слова он разобрал.
– Еще одна пара рук и перемена ветра, – подхватил второй голос.
Моряки говорили на диалекте Уэссекса, судя по акценту, они были родом из средней части графства, из Саутгемптона. Типичные англичане с виду: крепкий толстячок со слегка выпученными глазами, в холщовой одежде, изрядно потрепанной и засалившейся, и его товарищ, пониже ростом, поуже в плечах, с рыжими волосами и меланхолической складкой губ.
Уолт перегнулся через ограждение набережной, сердце у него сильно забилось, во рту пересохло.
– У меня только одна рука, – сказал он, – но я берусь отработать проезд до Англии...
Оба подняли головы.
– Тебе случалось плавать на таком корабле? – спросил старший.
– Конечно, – солгал Уолт. – Как, по-твоему, я попал сюда?
Они быстро договорились: Уолту причиталась десятая доля всей прибыли, какую они получат на пути от Сиды до Саутгемптона. С легким сердцем он вернулся к прежним товарищам, голова его шла кругом. Квинт уже терял терпение.
– Через пять минут мы отплываем! – крикнул он.
– Без меня. Хватит с меня странствий. Я нашел английское судно. Вернусь домой либо утону.
Они быстро обменялись прощальными восклицаниями, словами сожаления, словами благодарности. Особенно Уолт благодарил своих спутников – Аделизу, вернувшую жизнь его культе, Алена и даже самого Тайлефера за удивительные фокусы и таинственное воздействие их музыки, но более всех он благодарил Квинта, присматривавшего за ним, когда он был беспомощен, Квинта, который разговаривал с ним, и слушал, и помог... тут он запнулся.
– Помог тебе понять? – подсказал Квинт. – Надеюсь, ты убедишься: это был целительный опыт.
Он употребил греческое слово – «терапевтический».
– Но мы так и не дослушали повесть о великой битве, – вздохнул Ален.
– Когда отплывает английское судно? – спросила Амаранта.
– Когда ветер переменится.
– Значит, я услышу о битве, – с удовлетворением заключила она.
Арабский капитан звал своих пассажиров на борт, теряя терпение.
Поцелуи, рукопожатия, объятия, дружеское похлопывание по спине, горячий поцелуй Аделизы – и вот уже четверо путников поднимаются по сходням. Швартовые канаты отвязаны, парус развернут и приведен к ветру. Гребцы, сидевшие вдоль обоих бортов, налегли на весла, выводя корабль из гавани, а как только вышли в открытое море, весла убрали на палубу, парус раздулся, и Уолт не мог уже различить лица друзей, ставших ему такими близкими, он видел только шарф, которым Аделиза продолжала махать с высокой кормы, стоя возле рулевого. Уолт попытался представить себе те места, куда они направлялись. Святую Землю, восточные страны за ней, долгие переходы по пустыне, под усыпанным крупными звездами небом, попытался представить, как Тайлефер и Ален будут показывать свои фокусы все новымзрителям, наживая очередные неприятности, как Квинт будет беседовать с философами, учеными мужами и путешественниками, с арабами, жителями Тартарии и неведомыми обитателями Катая, и сладостная музыка арфы будет сопровождать их в пути, и Аделиза будет танцевать... Глаза Уолта наполнились слезами, и на миг он пожалел о принятом решении.
Но потом он вспомнил свой дом, Иверн и Эрику, и сердце заныло от тоски. Когда взгляд Уолта прояснился, арабская галера превратилась в пятнышко далеко на востоке, там, где сходились небо и море.
– Пойдем, – позвала его Амаранта, – отдохни и закончи для меня рассказ о великой битве.
Глава пятьдесят третья
Узнав, что Вильгельм высадился в Певенси, мы со всей поспешностью выступили в поход и за четыре с половиной дня добрались из Йорка в Лондон, остановившись в Уолтхэм-Эбби. Получилось даже быстрее, чем когда мы шли на север, однако с такой скоростью весь путь проделал только передовой отряд, тысяча дружинников, личная гвардия короля, и во главе нее неразлучные с Гарольдом телохранители. Теперь их оставалось пятеро: Даффид, Рип, Шир, Тимор...
– И ты.
– И я.
В следующие два дня к нам подоспело еще две тысячи тяжеловооруженных дружинников Леофвина и Гирта, за ними плелось пять сотен раненых.
Что нам следовало делать?
Выбор был прост: либо оставаться возле Лондона и ждать подкреплений, либо сразу же двинуться на юг и прижать Вильгельма к берегу, не давая ему тронуться с места до подхода основных наших сил. Многие советники Гарольда предпочли бы остаться в Лондоне или по крайней мере не уходить далеко, только переправиться через Темзу для защиты города, занять позицию в Норт-Даунсе и посмотреть, что будет делать Нормандец. Однако таким образом мы предоставляли Ублюдку полную свободу действий, и, хотя Лондон был ценной добычей, захватчики могли с тем же успехом двинуться на запад вдоль побережья, перемещаться из порта в порт, ведя за собой флот, дойти до Саутгемптона и напасть на Винчестер, который никак не уступал значением Лондону, тем более что в Винчестере оставалась государственная казна.
Но дни неуклонно сменяли друг друга, приходили все новые сообщения о зверских расправах, учиненных Вильгельмом, и горожане Пяти Портов[250] обратились к Гарольду, умоляя спасти их, пока и они не пали жертвой насилия.
Утром одиннадцатого октября Гарольд начал действовать. Его люди успели отдохнуть с неделю, Эдвин и Моркар, по слухам, выступили из Йорка. Гарольд хорошо знал окрестности к северу от Гастингса, и это тоже повлияло на его решение.
Он собрал предводителей отрядов в маленьком пиршественном зале Уолтхэма. Достав из нерастопленного очага кусок угля, Гарольд провел несколько линий на каменном полу. Все столпились вокруг, те, кто оказался впереди, наклонялись, опускались на колени, чтобы стоявшие сзади могли разглядеть чертеж. Гарольд поднял голову. Взгляд его ясных голубых глаз был суров, но полон уверенности – уверенности в себе, своих братьях и своих людях.
– Многим из вас хорошо известна позиция, которую я собираюсь занять, – заговорил он. – Это место находится примерно в шести милях к северу от Гастингса, где лесная дорога из Тон-Бриджа в Лондон соединяется со старым прибрежным трактом на холмах Даунса. – Повернув кусок угля более широкой стороной, Гарольд одним взмахом руки обозначил возле своих колен Андредесвилд, потом наметил на опушке леса прибрежную дорогу с востока на запад и перекресток, где гряда холмов, по которым пролегал путь, сворачивала на юг, в сторону Гастингса.
– Здесь дороги сливаются, поднимаясь по отрогу от Даунса на круглый холм, господствующий над равниной. Дорога минует вершину этого холма, прежде чем уйти вниз, к Гастингсу. По обе стороны холма глубокие ложбины, там текут ручьи, поэтому почва внизу влажная, тяжелая. Вначале подъем не очень крут, но за двести ярдов до вершины склон становится почти отвесным. На гребне, чуть западнее самой высокой точки, растет одинокая яблоня.
Итак, сегодня днем мы тронемся в путь и постараемся добраться до этой яблони, которая будет местом сбора, до наступления ночи на пятницу, тринадцатое. – Тут Гарольд передернул плечами, но упорно продолжал: – Мы встанем в боевом порядке вдоль этого хребта. Я займу центр у самого дерева, Гирт расположится справа, Леофвин слева, каждый со своими телохранителями и дружинниками. Ополчение встретится с нами там же. Передовые отряды ополчения распределим на флангах нашей позиции, а тех, кто подоспеет позже, поставим в резерв, позади дружинников. Здесь, в Уолтхэме, мы оставим проводников, они известят северян, где мы находимся, и как можно скорее приведут их нам на подмогу.
Это очень сильная позиция, Вильгельм не сможет оттуда нас выбить. Будем надеяться, он сразу поймет, что сражаться бессмысленно, и даже пытаться не станет, но если он все же нападет, мы отразим атаку. Ему придется все начинать сызнова. Тем временем начнут подходить подкрепления, которые возместят наши потери, а Вильгельму неоткуда взять новых воинов. Как только численность нашего войска в полтора раза превысит количество его солдат, а это произойдет самое позднее через неделю, мы предложим ему свои условия, возьмем заложников, потребуем возместить весь причиненный ущерб, отказаться от притязаний на то, что ему никогда не принадлежало, и отпустим его восвояси... Вопросы есть?
Леофвин глянул на Гирта, тот кивнул, распрямился, посмотрел прямо в лицо Гарольду, который тоже распрямил плечи, словно готовясь отразить удар. Младшие сыновья Годвина славились беззаветной отвагой и силой. Как и все Годвинсоны, они были красивы, держались гордо и прямо.
– Брат, мы с Гиртом кое о чем поговорили, и сейчас я скажу за нас обоих. Для нас та клятва, которую у тебя обманом вырвали в Байё, ничего не значит, но многие в твоем войске – быть может, такие найдутся даже в этом зале, и уж конечно среди дружинников и тем более в ополчении – думают, что тебе не следует вести английское войско против Ублюдка. Выслушай меня, Гарольд! Твой план очень хорош, он принесет нам победу, но, согласись... – тут уголки его губ приподнялись в легкой улыбке, зашевелились усы, – согласись, этот план не так уж сложен, для его выполнения не требуется ни хитрости, ни особого ума. Словом, мы с Гиртом вполне справимся без тебя. Более того, если все сложится не так, как задумано, у Англии останется законный король. Ты наберешь новое войско, продолжишь сопротивление, а если мы потеряем тебя, все будет кончено.
Кровь, прихлынувшая было к щекам Гарольда, медленно отливала, кожа на лице, задубевшая в военных походах и в охотничьих потехах, сделалась непривычно белой. Закусив губы, Гарольд резко развернулся и вышел из зала. Как и в прошлый раз, он удалился в монастырскую часовню, а вернулся спокойным и печальным: он принял решение. Едва переступив порог, Гарольд остановился, и люди, собравшиеся в зале, обернулись и посмотрели на него.
– Братья, – сказал он, – я король. Я, и никто другой. Я должен сам отстаивать свой титул и свои права, а если я поступлю иначе, в сердца наших воинов закрадется сомнение: кто должен править – тот ли, кто прячется за спинами своих младших братьев, или тот, кто лично ведет мужей в битву. А теперь... – он уверенно шагнул вперед и снова занял место перед остывшим очагом, – обсудим детали.
На следующий день, когда начало смеркаться, Гарольд и пять его телохранителей первыми прибыли к месту сбора. Отсюда, с вершины холма, он видел лагерь нормандцев примерно в шести милях внизу, к северу от маленького города и гавани. Он убедился, что земляная насыпь и стены наскоро сложенного замка уже поднялись над окрестными полями и болотами, заслоняя мачты стоявших в порту кораблей. Солнечный свет играл на поверхности моря, обращая свинец, каким вода казалась под серыми тучами, в золото. Сильный ветер развевал полотнища с золотым драконом и Воителем Керна; люди, истекавшие потом после двенадцати часов непрерывной скачки, начинали дрожать от холода.
Уолт тоже поглядел вниз, на нормандцев и море, потом оглянулся на лес, через который они только что проехали. Оттуда показалась длинная цепочка воинов, наконечники копий и шлемы ярко сверкали, ровный шорох и свист сопровождал их движение, в него врывался пронзительный скрип тележных колес. Потом Уолт посмотрел на яблоню.
Кору и ветви дерева покрывал серый лишайник, рассыпавшийся в труху при малейшем прикосновении. На изогнутых сучьях еще держалось с десяток мелких, сморщенных и изъеденных червями плодов. Видимо, в то долгое, холодное и засушливое лето яблоне не хватило воды, корни ее тщетно пытались нащупать хоть каплю влаги в известковой почве. Дерево умерло.
Глава пятьдесят четвертая
К семи часам утра стало ясно, что Вильгельм решился атаковать. Разведчики, посланные в нормандский лагерь, вернулись с донесением, что неприятель вооружается и строится. Вскоре англичане увидели над дорогой облако пыли. Гарольд выстроил линию обороны: она занимала весь гребень холма от одной лощины до другой, от ручья до леса; длина ее составляла тысячу ярдов. Дружинники стояли в четыре ряда, на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы свободно орудовать боевым топором или мечом, между ними оставались зазоры, сквозь которые лучники из ополчения могли выбежать вперед и, выпустив стрелы, снова укрыться за спинами дружинников. Даффид и Уолт с помощью Рипа, Шира и Тимора вырыли возле седой яблони ямы в твердой известковой почве и укрепили в них древки знамен. В этой битве понадобятся обе руки.
Гарольд подозвал своих братьев и отдал последние распоряжения. Они будут биться в открытом строю, если только Вильгельм не сосредоточит удар в одном месте, направив туда множество тяжеловооруженных воинов. В таком случае, а также при нападении конницы, дружинникам следует применить обычную тактику: сдвинуть щиты, образовав непреодолимый заслон. Нечего бояться рыцарей, говорил король, лошади не решатся прыгать через ограду из щитов, а как только всадники приблизятся вплотную, можно разделаться сперва с лошадьми, а затем с седоками.
– Опасаться следует лишь одного, – сказал Гарольд в заключение, – а именно превосходящих сил противника. Однако, чтобы удержать позиции наверху, вполне достаточно тех людей, которыми мы располагаем, и три тысячи справятся с этой задачей не хуже, чем десять. Но помните: только этот гребень, этот холм защищают нас. Если вы стронетесь с места, не важно, вперед или назад, всему конец. Вот вам последний приказ: стоять стеной! Стоять намертво!
Он обнял братьев, пожал им руки и отошел. Что-то особенное чувствовалось и в голосе Гарольда, и в его движениях, когда он надевал шлем и кольчугу. Потом он попросил Уолта пристегнуть ворот кольчуги к нижней части шлема, дотронулся до золотого ободка, помолчал немного и усмехнулся:
– Ровно сидит?
– Да, – ответил Уолт.
– Вот и хорошо. – Он глубоко вздохнул, шлепнул одной кожаной рукавицей о другую. – Что ж, пошли.
Нормандцы находились уже в полумиле от нас. В авангарде шли лучники, а основная часть войска построилась сомкнутыми рядами, пешие впереди, за ними рыцари на конях. В таком порядке три колонны нормандцев начали восхождение на гору. Англичане легко распознали Вильгельма: он превосходил ростом большинство бойцов в обеих армиях, долговязая тощая фигура кренилась вправо и влево. Герцог объезжал на огромном черном жеребце своих людей, постоянно сбиваясь с рыси на галоп. Реял штандарт со львом, десяток телохранителей едва поспевали за своим господином. Даже на таком расстоянии слышался пронзительный голос, почти визг: опять построились не в том порядке, ровнее, еще ровнее! В точности выполнять приказы! С вершины горы можно было различить и белое с золотом папское знамя, и даже висевший на шее герцога ковчежец с мощами, теми самыми, на которых Гарольд принес опрометчивую клятву.
Нормандцы пошли в атаку, лучники и легковооруженные воины прикрывали движение главных сил. Гарольд распорядился, чтобы английские ополченцы выбежали вперед и потеснили вражеских лучников. В этот момент из рядов нормандцев вырвался какой-то нелепо подпрыгивавший человек в пурпурном плаще менестреля, с черной бородой и почти лысой макушкой. В руках у него была небольшая гитара:
Paien s’adubent desobsercs sarazineis
Tuit li plusur en sunt dublez en treis
Lacent lor elmes mult bons sarraguzeis
Ceignente spees del’acer vianeis...
На лаврах всех сарацинские брони,
А у иных юшман проложен втрое.
На голове шелом из Сарагосы,
Меч при боку из вьенской стали доброй...
[251]
– Это был Тайлефер?
– Да, это был он.
На певца обрушился град стрел и камней, кровь заструилась по лицу, и он осел на землю. Передние ряды нормандцев прошли по нему, и больше Тайлефера никто не видел, пока мы не наткнулись на него у стен Никеи, где он потешал толпу, зарабатывая себе на хлеб насущный.
Около тысячи ополченцев просочились сквозь наши ряды. В руках, в мешках и кожаных петлях, притороченных к поясу, были метательные снаряды: маленькие топорики, камни, насаженные на короткую рукоять, обычные камни без рукояти – ополченцы взяли столько, сколько смогли унести. Нормандские лучники оказались бессильны, им приходилось стрелять снизу вверх, их стрелы теряли скорость и могли разве что оцарапать руку, шею или бедро, к тому же стреляли лучники вразнобой, так что наши вполне успевали уклониться от стрел. Англичане же бросали свои камни и топоры сверху вниз, подступая все ближе, многих лучников они сбили с ног, прочих заставили отступить, спрятаться за спины тяжеловооруженных воинов.
Справиться с этими было труднее: укрытые щитами в форме листа, стальными шлемами, длинными кольчугами, они медленно, но неуклонно продвигались вперед, и хотя в некоторых из них тоже угодили метательные снаряды, ни стрелы, ни град камней их не остановили. Ополчение отступило, соблюдая должный порядок, а если кто и припустил со всех ног, то не от страха, а от радости, что маневр удался. И тут мы, дружинники, телохранители, обнажили мечи, сдвинули щиты и, набрав в легкие побольше воздуха, приняли бой.
Первая атака, когда копье прощупывает твою броню, первый удар, когда меч обрушивается на край твоего щита, и металлический скрежет, когда лезвие твоего меча или топора врезается в кольчугу под ребрами противника и ты видишь, как лицо его искажается яростью и болью и кровь хлещет из разрубленного бока – все это бьет по тебе, поражая душу и тело. Вдруг понимаешь: да этот ублюдок хочет меня прикончить! – а помешать ему можно только убив его, и он валится на бок, но за ним появляется следующий.
Англичане и нормандцы сошлись лицом к лицу, бой превратился во множество отдельных поединков. Во время сражения одно единоборство затягивается, другое заканчивается быстрее, приходится все время немного смещаться: твой противник падает, и ты можешь помочь соседу, твой сосед падает, и тебе приходится иметь дело сразу с двумя противниками. Каждый воин пускает в ход оружие, которым лучше владеет: топор, меч, булаву, напрягает все силы, старается скрыть от недруга свою слабость, свои уязвимые места. Те, кто крупнее телом, полагаются на свой щит и на силу удара; те, кто помельче, как Даффид и Тимор, больше рассчитывают на проворство и ловкость. Когда силы противников примерно равны, победа, как правило, достается тем, кто занял более выгодную позицию, кто лучше подготовился и искуснее владеет оружием, у кого крепче доспехи. Вскоре мы почувствовали, как давит на спину и плечи тяжесть кольчуги, как сотрясается тело от все новых ударов, отраженных щитом или мечом; внутри все горело, несмотря на прохладный день, томили голод и жажда. Еще бы, нормандцы-то две недели отдыхали и отъедались после высадки, а мы недавно выдержали бой при Стэмфорде и дважды прошли чуть ли не всю Англию из конца в конец.
Наконец трубы дали сигнал к отступлению, атака захлебнулась. В пылу битвы некоторые дружинники испустили победный клич и, сломав ряды, бросились преследовать отступавших, но Гарольд грозно окликнул их. Почти все вспомнили первоначальный наказ и возвратились. Даже самые лихие, увидев, что остались в одиночестве, остановились, осыпая врага оскорблениями и поднятыми с земли камнями, а потом тоже вернулись в строй.
Стоя под яблоней, у своих знамен, Гарольд пытался оценить положение. Справа и слева еще возвышались, не дрогнув, штандарты его братьев, склон горы был усыпан мертвыми и умирающими, и большинство составляли нормандцы. Наше войско почти не поредело. Обернувшись в сторону леса, Гарольд увидел спешивший на подмогу отряд: около сотни дружинников из Мерсии и вдвое больше ополченцев с тесаками на плечах, с круглыми щитами за спиной. Гарольд снова посмотрел вниз, на нормандскую армию, и улыбнулся. Если повезет, к полудню или чуть позже наши силы сравняются и даже превзойдут силы противника.
Я тоже сделал смотр: после гибели Ульфрика я остался старшим из телохранителей. Даффид лежал на земле, Тимор склонился над ним, пытаясь перевязать ему лицо. Скверный удар, щека разрублена до кости. Рипу сломали руку, Шир только что вернулся из задних рядов, проводив брата в арьергард. Моей правой руке тоже здорово досталось, то ли сильный ушиб, то ли рана, под кольчугой не разберешь. Рука ныла нестерпимо, но пока еще действовала, и я знал, что в пылу схватки и думать позабуду о боли. Зато мы остались в живых, и самое главное – был цел и невредим наш вождь, наш господин, наш король.
Вновь запели трубы, и на этот раз у подножия холма собрались всадники. На копьях у них развевались узкие полоски флажков, шлемы казались черными на фоне сиявшего вдалеке моря, копыта коней выбивали из дерна осколки кремня, звенела упряжь, кони храпели, ржали, вторя зову трубы. Гарольд и его братья на левом и правом флангах приказали дружинникам перестроиться в два ряда. Передний ряд сдвинул щиты так, чтобы края их сомкнулись и образовали прочную стену длиной в восемьсот ярдов. Оставшиеся во втором ряду были готовы закрыть собой брешь в этой живой стене, коли погибнет кто-нибудь из товарищей, или вступить в схватку с рыцарем, сумевшим прорваться сквозь первый ряд защитников.
Герцог Вильгельм самолично вел нормандцев в бой, над забралом его шлема поблескивал золотой ободок, рядом мелькало алое полотнище с золотым львом и бело-золотое папское знамя. Вслед за герцогом двинулся в атаку отряд конницы, три ряда всадников по сто пятьдесят воинов в каждом. Они продвигались размеренной рысью, соблюдая строй. Чуть позади них выступили еще два таких же отряда, прикрывавшие центр с флангов, и земля задрожала от топота копыт.
Наших охватила тревога: мало кому доводилось сражаться со всадниками. Хотя Гарольд перед сражением предупредил, какой тактики следует придерживаться, и, слушая его, мы верили, что этот план сработает, на миг мы утратили мужество. Боевые кони оказались куда крупнее, чем мы себе представляли, по большей части гнедые и вороные лоснящиеся жеребцы-четырехлетки, на несколько ладоней выше тех лошадок, которыми мы пользовались для охоты и больших переходов.
С расстояния в двадцать ярдов нормандцы метнули в нас копья. Они целились поверх голов, и копья перелетели через наши щиты, не причинив особого вреда; это потом валявшиеся под ногами длинные шесты стали мешать нам, то и дело попадая под ноги. Выхватив мечи и булавы (Вильгельм орудовал шипастой булавой длиной в добрый ярд), рыцари пустили коней в галоп и со страшным грохотом и воплем помчались вперед, преодолев последние разделявшие нас ярды. Хотелось бежать без оглядки от несущейся лавины коней и железа, но мы устояли и стена щитов не дрогнула. Едва доскакав до первого ряда дружинников, лошади повернули головы, не желая тыкаться мордами в мечи, но со злобным ржанием напирали на нас плечами и боками, а рыцари наносили удар за ударом по нашим шлемам и верхней кромке щитов – сидя в седле, они были выше пешего строя.
Кое-где им удалось прорвать оборону – здесь щит подался вперед, там воин опрокинулся навзничь, кровь хлынула из разрубленной головы. Но стоило рыцарю направить своего огромного тяжелого жеребца в открывшийся просвет, сразу слышался крик: «Убейте животное, потом человека, сперва лошадь, потом всадника!»
Это оказалось не так-то просто, хотя лошадей и не защищала броня. Мы вонзали мечи им в бока и шеи, рубили топорами ноги, но своими тяжелыми копытами кони наносили нам почти такой же ущерб, как всадники, которых мы пытались столкнуть с седла. Тогда закованный в доспехи рыцарь валился наземь беспомощной грудой, разбиваясь под тяжестью собственного вооружения. Иной раз спешенному воину удавалось подняться и даже прорваться через вторую линию обороны, но там на него набрасывались ополченцы, пятеро, шестеро на одного, ловко уклоняясь от меча или булавы, хватали супостата за колени, за шею, валили наземь, перерезали горло ножом, а если рыцарь успевал особенно обозлить мужиков, они рассекали кольчугу и добирались до гениталий.
Передний наш ряд еще держался, но мы несли тяжелые потери, за смерть каждого рыцаря расплачиваясь гибелью троих, а то и четверых англичан. Под Вильгельмом убили коня, наши таны и дружинники обступили его кольцом. Это происходило в нескольких ярдах от штандартов Гарольда, так близко эти двое сошлись в сражении только раз. На миг их взгляды встретились, повисло ледяное молчание, а потом, яростно вопя, размахивая своей чудовищной булавой, Вильгельм проложил себе путь, оставляя позади разбитые черепа и переломанные ребра. Ни царапины на нем не было, он был забрызган чужой кровью. В числе прочих он уложил и Шира из Торнинг-Хилла.
Двадцать минут спустя снова запели трубы, и нормандские всадники отступили. Мы смеялись над ними – увы, преждевременно. Они всего-навсего дали передышку утомленным коням и бойцам. Почти сразу же всадников сменили пехотинцы, но на этот раз Гарольд приказал дружине оставаться на месте, сомкнув щиты, а против стены щитов пехотинцы ничего поделать не могут. Зато они выиграли время; рыцари перевели дух, а многие сменили лошадей.
Всадники вновь ринулись на поредевшую дружину, и впервые я почувствовал, как в душу закрадывается усталость. Мы вступили в битву с надеждой, почти уверенные в своем торжестве, но теперь к утомлению и горечи примешивался едкий привкус страха. Вокруг и впереди нас повсюду лежали люди, умиравшие от страшных ран, красивые, гордые лица искажала гримаса смертной муки, ярости и страха. Кровь текла повсюду, под ногами хрустели осколки костей, мозги и лиловатые кишки летели во все стороны, и этот мерзостный запах, запах крови и дерьма, запах бойни и отхожего места...
Я прикрыл глаза руками, меня охватила тоска по дому, по Иверну, по тем ночам, когда Эрика сжимала меня в объятиях и, положив голову ей на грудь, я слышал, как ровно бьется ее сердце, вдыхал ее тепло, наслаждаясь покоем утоленного желания, сладостным отдыхом хорошо потрудившегося тела.
Но и на нормандцах начало сказываться напряжение битвы. Центр, где командовал Ублюдок, пересевший на норовистого гнедого жеребца, еще держался, но на нашем правом, а для нормандцев левом фланге ряды захватчиков сбились, всадники на свежих лошадях вырвались вперед, те, кто так и не сменил коня, приотстали. Прежде чем подняться к вершине, нормандцам нужно было преодолеть пологий заболоченный спуск, а затем более крутой подъем. Лошади увязали в рыхлой и влажной почве, и ряды нормандцев спешились, не достигнув нашей передовой линии. Рыцари приближались к нам группами по десять-двенадцать человек, и англичане, воспользовавшись своим преимуществом, окружали эти маленькие группки и рубили всадников по одному. Всадники, поднимавшиеся за ними, мешкали в нерешительности. Увидев это, второй ряд наших дружинников тоже сорвался с места и помчался вниз по склону, чтобы добить врага. Ополчение устремилось следом. Нормандская конница, удиравшая через ложбину, столкнулась на другой ее стороне с собственной пехотой, приведя и ее в смятение.
В гуще схватки, завязавшейся вокруг знамен, Гарольд не мог понять, что происходит, а Вильгельм гораздо отчетливее различал все со спины своего коня. Вырвавшись из боя, он помчался по склону холма. Он визжал от ярости, колотя своих рыцарей мечом плашмя (булаву он уже потерял), и вынудил их повернуть, выстроив какое-то подобие боевой линии в тот самый миг, когда передние ряды англичан, в свой черед преодолевшие широкий овраг, поднялись по другому его краю и обрушились на позиции нормандцев.
Какой-то ополченец, взыскуя бессмертной славы, одним взмахом острого как бритва кинжала перерезал шею гнедому жеребцу, и Вильгельм второй раз за день свалился на землю.
Вокруг поднялись громкие крики ликования и отчаяния, нападавшие и оборонявшиеся застыли, не успев опустить руку, уже занесенную для удара. Всадники поворачивали лошадей и, заслоняя глаза от солнца, заглядывали в глубокую ложбину.
Вильгельм спихнул с седла одного из рыцарей, вспрыгнул на его коня, но золотой обруч, похожий на корону, свалился с его головы, и никто не узнавал герцога, пока он не сорвал с головы шлем, швырнув его в того самого англичанина, который убил под ним жеребца. Выхватив древко флага у своего знаменосца, умудрившегося в гуще схватки не отстать от господина, Вильгельм вновь помчался вдоль нестройных рядов своих войск, демонстрируя и нормандцам, и англичанам, что он еще жив. Его воины, и конные, и пешие, воспряли духом. Теперь они двинулись с края оврага вниз, в ту болотистую котловину, где сосредоточилось большинство англичан. Гирт и его эрлы, побоявшиеся ослушаться приказа Гарольда, не подоспели на помощь, и триста или четыреста дружинников пали на месте, прежде чем остальным удалось вернуться на гребень холма.
Ход сражения переломился в пользу Вильгельма. Англичане испытывали отчаяние, всегда сменяющее обманутую надежду. Они потеряли больше людей, чем могли себе позволить, и, хуже того, убедились в справедливости молвы: Вильгельм был неуязвим, либо потому, что он и впрямь приходился родным сыном дьяволу, либо, как многие шептались, потому, что на шее у него висел ковчежец с теми самыми реликвиями, на которых Гарольд присягнул герцогу, уступив ему права на престол.
Глава пятьдесят пятая
Ровно в полдень, когда желтый, словно лимон, солнечный диск едва просвечивал между туч у нас над головой, нормандцы – ты только представь себе! – устроили обеденный перерыв. Все утро из Гастингса подвозили им на телегах корзины хлеба, большие круглые нормандские сыры и желтые безвкусные яблоки, которые они считают лучшим деликатесом, и теперь, не расстраивая рядов, бдительно следя за нами, вся эта шушера расстелила перед собой платки и скатерти, расселась на разбитом копытами дерне и принялась жевать. А мы почти ничем не запаслись. Ополченцы, да и то не все, прихватили с собой кое-что перекусить и поделились едой с нами, дружинниками, но этого было явно недостаточно. Тайлефер, может, и ухитрился бы накормить тысячное войско пятью хлебами и двумя рыбами, но его с нами не было. Особенно мучила жажда, а напиться можно было только из ручья в той самой ложбине, которая находилась под прицелом нормандцев. Когда кто-нибудь пытался спуститься к ручью и снимал с себя шлем, чтобы зачерпнуть воды, его осыпали градом стрел. Особой беды в этом не было, главное, лицо не подставлять, но после такого обстрела человек смахивал на подушечку для иголок.
Ровно в два часа дня нормандцы снова атаковали. Теперь они были в лучшей форме, чем мы, хотя к нам подоспели на помощь еще две сотни воинов из Лондона.
– Этого мало, – пробормотал Гарольд. Он поставил вновь прибывших на правом фланге, чтобы возместить потери, которые мы понесли внизу, когда дружинники увлеклись, преследуя отступавшего противника.
На этот раз Вильгельм сосредоточил основной удар на левом фланге, где до сей поры почти не было боевых действий. Снова застрельщиками выступали пехотинцы, но далеко на своем правом фланге, то есть напротив нашего левого, в том месте, где почва вновь становилась ровной и даже немного опускалась, Вильгельм поставил конницу (это были в основном франки и наемники с восточных берегов Рейна). Далее произошло примерно то же, что утром, когда нас атаковали бретонцы, однако теперь Вильгельм все предусмотрел. Не думаю, что отступление пехотинцев было притворным, нет, им-то мы всыпали по первое число, но когда они ринулись в разные стороны, а наши дружинники погнались за ними, всадники уже были наготове, они не только прикрыли отступление своих, но и нам нанесли немалый ущерб. Леофвин бросился к своим воинам, приказывая немедленно вернуться на гребень холма, построиться в прежнем порядке, пока пехотинцы не повернули и не обрушились на них, и в этот момент ему в спину угодило пущенное рыцарем копье.
Леофвин упал, его люди пришли в смятение, они кружили вокруг него, словно овцы, лишившиеся пастуха, словно безголовые цыплята, и это дало франкам время построиться и снова атаковать, одновременно и конным, и пешим строем, прежде чем дружинники Леофвина успели подняться на холм.
Гарольд заглушил горе яростью. Он помчался вдоль наших рядов, мы с Даффидом схватили знамена и чуть ли не бегом бросились за ним. Всем командирам Гарольд повторил приказ: стоять на месте, удерживать свои позиции во что бы то ни стало, даже если нормандцы отступят, даже если вся нормандская армия – правда, на это уже никто не надеялся – обратится в бегство.
Снова наступило затишье: хотя основная сила первой послеполуденной атаки пришлась на восточный край холма, в этой битве участвовали все, и обе стороны понесли тяжелые потери. Мы все изнемогали, а нормандцы утомились даже больше, чем мы: хоть они и поели хорошенько, но мыто стояли на месте, а они уже пять или шесть раз поднимались и спускались по склону холма. Примерно к четырем часам пополудни, через два часа после того, как возобновилось сражение, грязное месиво под ногами, трупы лошадей, мертвые и умирающие люди, бьющиеся в агонии животные, кровь и дерьмо повсюду – все говорило о безнадежной усталости обеих сторон, о том, что битва ни для кого не завершится победой.
Гарольда это устраивало, нас всех это устраивало как нельзя лучше: если мы продержимся до темноты, нормандцам конец, они не смогут остаться на ночь в лагере у подножья холма, открытом для нападения сверху. Им придется укрыться в крепости, и может быть, Гарольд разрешит нашим ополченцам потрепать их во время отхода. Завтра к нам с севера и запада подойдут подкрепления, и тогда Вильгельм запросит мира, попытается добиться условий повыгодней, и все будет хорошо. С полчаса мы так стояли, надеясь, что все обойдется, но все это время мы видели, как носится вдоль своих рядов безумный герцог, как орет, приподнимаясь в стременах, выкрикивает вперемежку приказания, насмешки, ругательства. И что же? Представь себе, ему все же удалось вновь построить свое воинство. Теперь он поставил всадников впереди, поскольку всадники, как он убедился, несли наименьшие потери и при этом причиняли большой ущерб даже сомкнувшей щиты дружине.
Мы повторяли друг другу слова Гарольда: «Они в последний раз атакуют, выдержим этот натиск – и мы победили».
Вильгельм повел передовую линию всадников вверх, остановил ее примерно в пятидесяти ярдах от нас – будь у наших лучников хоть одна стрела, с этого расстояния они сумели бы поразить Ублюдка. Выехав вперед, он преспокойно повернулся к нам спиной и обратился с воззванием к нормандцам. Мы слышали его пронзительный, порой срывавшийся голос, короткие, рубленые фразы:
– Земля всем. Замки, рабы, женщины – мужчин не останется. Говядина, баранина, свинина – каждый день. Охотиться повсюду, собственные гончие, собственные лошади. Вдоволь меда и вина, чтобы не просыхать до конца жизни...
Его конь, уже третий за день, на этот раз темно-гнедой, задрожал, затанцевал под ним. Это движение обратило разум Вильгельма к более высоким материям:
– Сегодня вы переворачиваете новую страницу истории. Новый порядок, тысячелетнее царство. Ваши сыновья унаследуют эту землю, и сыновья ваших сыновей. До Судного дня или уж по крайней мере на тысячу лет. Да! Следуйте за мной, и получите землю на тысячу лет. Тысяча лет – пустяки! Соберитесь с силами, напрягите мышцы, кричите: Бог за Вильгельма, Англия будет нашей, и этот, как его, святой Георгий, что ли? Да, святой Георгий!
– Крест Христов, защити нас! – прошептал Гарольд.
Вильгельм развернул своего коня, взмахнул булавой (ему уже добыли новую), вонзил шпоры в бока своему коню, тот взвился на дыбы и едва не сбросил всадника, но Вильгельм цепко держался в седле. Он тут же укротил лошадь и медленной рысью двинулся вперед, придерживая поводья; все его люди последовали за ним. Мы поняли, как поняли и нормандцы: на этот раз Вильгельм не намерен отступать. Несмотря на все его вопли и чудовищный бред, несмотря на жестокость и придирчивость в мелочах, несмотря на то, что этот человек плохо владел своим длинным телом, в нем таилась особая сила – черная, наводившая ужас мощь. Да, мы знали, что его можно ранить и из раны пойдет кровь, только сам он не знал этого и потому был неуязвим.
Еще несколько мгновений, и все началось сызнова. Кони боками и грудью напирали на щиты, булавы и мечи сверкали над нашими головами, слышались крики раненых, грохот сталкивавшихся доспехов и ржание лошадей. Порой фонтан крови – своей ли собственной или чужой, – взметнувшись перед глазами, ослеплял воинов, строй то смыкался так тесно, что дружинники едва могли взмахнуть рукой и дышали с трудом, то вдруг раздвигался, и кто-то оставался в одиночестве, лошадь обрушивалась на него или булава разбивала голову... Потом всадники отступили, их место заняли пешие воины. Сражение вновь превратилось в ряд поединков, только теперь, стоило разомкнуть щиты и вступить в бой, врагов оказывалось трое против двоих, а то и двое против одного. В начале дня мы стояли плечом к плечу в два ряда, а в разомкнутом строю в четыре, и занимали весь гребень холма, теперь же, несмотря на подоспевшие подкрепления, мы едва составляли один ряд. Конечно, нормандцы понесли не меньшие потери, но они могли сосредоточить всю силу удара в том месте, где цепочка наших казалась слабее всего. Так они и поступили: вслед за пехотинцами в образовавшиеся бреши ворвались всадники.
Нам оставалось только одно. Я уже говорил, кажется, что гребень холма соединялся с Даунсом и лесом перешейком, более узким, чем сам холм. Так вот, чтобы сжать ряды, нам нужно было занять этот краешек, отступив к краю холма. Примерно за час до заката мы начали отступать, спокойно, соблюдая должный порядок – это был знакомый маневр, но Ублюдок, заметив это, понял, что, того гляди, утратит с таким трудом добытое преимущество, и попытался с двадцатью всадниками галопом обойти нас с правого фланга. Они мчались так быстро, что и впрямь могли отрезать нам путь к отступлению, не поспеши Гирт нам на помощь. Его дружинники заставили всадников повернуть вспять, только сперва Ублюдок на всем скаку поразил Гирта булавой в лицо.
Гарольд видел смерть брата. Гневаться сил уже не было, глаза его наполнились слезами, он едва не заплакал, но, покачав головой, приказал самому себе: «Потом, потом!»
Мы добрались до перешейка и, сдвинув ряды, встали неколебимой стеной. Однако этот маневр, как вскоре выяснилось, принес больше вреда, чем пользы. Во-первых, нам пришлось отойти от яблони. Яблоня словно говорила нам: «Вот предел, его же не преступишь!», а теперь ее даже не видать было из-за хлынувших нормандцев, хотя мы отступили всего на сотню ярдов. Это не пустяк, в сражении и такие вещи играют роль. А во-вторых, мы лишились преимущества высоты. Сперва, правда, это не имело особого значения, поскольку почва в том месте была довольно ровная.
Ненадолго сражение прервалось. Ублюдок, должно быть, пытался оценить новую ситуацию. Тем временем начался дождь, не слишком сильный, но рукояти мечей становились скользкими, их труднее было удержать...
– Ты никогда не рассказывал про свой меч. Он был особенный? Старый верный друг, выкованный гоблинами в волшебных пещерах? Наследие отца?
– Нет, ничего подобного. – Наслушалась менестрелей, подумал Уолт. – Волшебные мечи только в сказках бывают, Эскалибур, Дюрандаль[252] и все такое. Просто меч как меч, я выбрал его, потому что он подходил мне по длине и весу.
И он продолжал рассказ.
Еще и дождь, как будто мало было пролито крови. Почва под ногами становилась все более скользкой. И тут Ублюдок отдал глупейшее на первый взгляд распоряжение: вновь послать в бой лучников. До сих пор, когда лучники стреляли в нас снизу, стрелы не причиняли особого вреда, они ведь легкие и даже плотную кожу не могли пронзить, не то что сталь. Они отскакивали от наших щитов и шлемов, и большую часть стрел нормандцы истратили впустую.
Но герцог снова приказал лучникам вступить в сражение, а на том участке, который мы оставили, валялось множество их же собственных стрел, так что они собрали достаточно для пары залпов. Первый залп опять же не нанес нам ущерба, и тот да кто-то из полководцев, может быть сам Ублюдок, поскакал вдоль строя и велел лучникам целиться повыше, чтобы стрелы перелетали через стену щитов. Идиотский приказ, честное слово, ведь рассчитать дугу полета почти невозможно. Нормандцы стояли так близко к нам, что стрела, пущенная вверх, могла с тем же успехом упасть на кого-нибудь из них, а мы все были защищены шлемами...
– И что же?
Четыре лебедя вылетели из-за леса, устремившись к морю. Гарольд поднял голову и поглядел им вслед. Мы все слышали, как крылья захлопали сперва позади нашего войска, потом слева, и все невольно оглянулись. Гарольд сосчитал их, всех четверых, давая им имена своих братьев: «Свен, Тостиг, Леофвин, Гирт». И в этот миг дурацкая маленькая стрела вонзилась ему в правый глаз.
Эта рана не была смертельной, он всего-навсего лишился глаза, но от этого удара он пошатнулся и упал навзничь. Так всегда бывает, даже если пальцем в глаз ткнуть со всей силы, и, конечно, кровь хлынула, залила ему все лицо. С минуту он лежал неподвижно, это опять же естественно: когда внезапно пронзает боль, не сразу понимаешь, насколько тяжела рана. И эта минута решила дело: по всему войску пронесся слух, что Гарольд убит. Оба наших фланга уже лишились своих вождей, а теперь мы потеряли короля. Да, королевский сан много значит. Король – не просто даритель колец, что бы там ни утверждал Квинт. Братья Гарольда, которые могли бы стать королями после него, погибли еще раньше. Часть дружинников, стоявших на дальних краях нашего ряда, дрогнула и обратилась в бегство, увлекая за собой ополчение, прежде чем мы сумели поднять Гарольда на ноги и обтереть ему лицо, чтобы люди увидели – король еще жив.
Нас осталось всего пять сотен, мы не могли удержать даже этот узкий перешеек. Мы построились кругом, защищая короля и знамена. Солнце почти село. У нас еще оставался шанс: если б мы продержались до темноты, мы сумели бы под покровом ночи вывести Гарольда с поля битвы. Вильгельм послал конный отряд вдогонку за беглецами, и мы видели сверху, как часть всадников в полутьме попала в глубокий ров на склоне холма: некоторые рыцари вылетели из седла, и наши люди сумели-таки перерезать им глотки, прежде чем пали сами.
Однако всадники возвращались. Теперь они могли кружить около нас, набрасываться со всех сторон, выбирая поудобнее угол для удара мечом или булавой. Из восьми ближних дружинников уцелели только Даффид, Тимор и я. Гарольд сильно страдал от раны, но повторял нам: «Держите повыше знамена, держите знамена!»
Короткое затишье, мы не сразу поняли, что затевает Ублюдок. Он подозвал к себе пятерых рыцарей, самых сильных и выносливых. Нормандцы были в пятидесяти ярдах, при свете факелов всадники черными силуэтами вырисовывались на фоне потемневшего неба. Рыцари галопом помчались на нас, дружинники, стоявшие в наружном кольце, все были ранены, держались из последних сил. Они не смогли отразить нападение, четырем рыцарям удалось прорваться внутрь кольца, и тогда... тогда это произошло.
– Гарольд погиб.
– Да. Но для меня самое страшное не это. Хуже всего, что я не исполнил свой долг. Я должен был пасть рядом с ним.
– Но почему?
– Ну... просто... так полагается.
Но Уолт хотел выжить. Он хотел вернуться в Иверн, к Эрике, домой. За них он сражался, и в тот критический момент дружинник повернулся спиной к истекшему тысячелетию, когда для человека его рода и звания вся жизнь сводилась к пиршественному залу, к празднеству и похвальбе, к военной выучке и присяге на верность. Умереть за своего вождя, умереть, сомкнув свой щит со щитами друзей, – да, то была высшая доблесть, но превыше чести оказалось желание жить со своими близкими и служить им жизнью, а не смертью.
Когда опустился меч, огромный двуручный меч, Уолт мог заслонить короля своим телом, но попытался отразить удар только мечом и правой рукой. В тот миг, когда он сделал этот выбор, английская культура достигла вершины, на смену варварству битв пришла любовь к жизни и ее радостям, пришло желание жить и помогать жить другим. Но в тот же миг начался и закат этой культуры.
Не будем винить Уолта. Битва все равно уже была проиграна. Да, телохранитель обязан умереть со своим господином, но слишком яркая память о родном очаге, обо всем, что научила его любить Эрика, помешала Уолту стяжать вечную славу. Он вышел из этой битвы обремененный тройным, непосильным грузом вины: за то, что не умер вместе с Гарольдом, за то, что позволил закрасться в свое сердце предательской любви к дому, за то, что не нашел в себе сил после сражения вернуться в Иверн, где его присутствие было – он знал это – необходимо.
– Как ты спасся?
– Даффид погиб, но Тимор уцелел и в темноте перевязал мою рану. Он сказал, он мой должник, он так и не расквитался за тот случай в детстве, когда я не дал ему утонуть. Потом он ушел, а я потерял сознание. Я пришел в себя незадолго до рассвета. Над холмом уже собирались стервятники и вороны, ходили какие-то люди, женщины с факелами...
– Не надо плакать. Расскажи, что это были за женщины?
– Эдит Лебединая Шея и ее служанки. На следующий день, когда Тимор провожал меня в Дувр, он рассказал, что Эдит заставила его отвезти ее в Бошем, а не в Уэймут, как велел Гарольд. Гарольда они собирали по кусочкам. Его изрубили, как капусту, только тело сохранилось в кольчуге, хотя и кольчуга во многих местах была изодрана. Но Эдит узнала Гарольда.
Вскоре после рассвета Вильгельм застиг их. Он сказал, Гарольд нарушил клятву перед Богом и недостоин упокоиться в освященной земле. Тогда Эдит и мы, горсточка оставшихся в живых, похоронили короля на берегу возле Гастингса, завернули его в полотнище с Воителем Керна, сделали саван из знамени, вытканного для него матерью.
По щекам Уолта текли слезы.
Помолчав, Амаранта спросила:
– Что же ты будешь делать теперь?
– Я вернусь. Там, в гавани, английское судно. Я буду работать и расплачусь за проезд.
– Я могу дать тебе денег.
– Нет, деньги мне ни к чему.
– Этот корабль так мал. Разве ты не боишься утонуть?
– Ужасно боюсь.
Эпилог
На обратный путь понадобился год. Пирей, Венеция, Мессина, Валенсия и Кадис, где жили мавры, Сантьяго-де-Компостела. По дороге мореплаватели собирали слухи о событиях в Англии, жадно внимая слухам о продолжающемся сопротивлении. Они узнали, что сыновья Гарольда и Эдит приплыли из Ирландии и высадились на западе Острова, но потерпели поражение; Восточная Англия восстала, но восставших предал переметчик Херворд. Север все еще боролся против человека, уже получившего прозвище Завоевателя. Повсюду, где Завоеватель наталкивался на сопротивление, он разорял окрестности, сжигал деревни и строил замки для своих нормандцев и наемников. Захватчиков насчитывалось всего несколько тысяч, но они были вооружены до зубов, никогда не слезали с седла и держали в страхе поредевшее население, грабя и насилуя в свое удовольствие.
Хэм и Седрик предлагали высадить Уолта в Уэймуте, но он попросил пересечь залив и высадить его в Лулворт-Коув. Они спустили на воду челнок, Седрик перевёз Уолта на берег. Примерно в пяти шагах от берега Уолт перешагнул через борт в пронизанное солнечными лучами мелководье. Сверкающие песчинки взметнулись из-под ног, взвихрились облачком и осели на гальке и на мелких, отполированных морем осколках ракушек. Он оттолкнул легкую черную лодочку и помахал на прощание гребцу. Повернувшись к берегу, он начал подниматься по галечному откосу к полоске зеленой травы, соединявшей отвесный меловой утес с плодородной сушей. Колючие, лилово-розовые цветы валерианы торчали над восковыми листочками, низко над утесом кружились клушицы. Он почти дома.
Солнце ушло за тучи. Путник посмотрел вверх, на стягивавшуюся к северо-западу тьму, поднялся к перевалу между двумя холмами и оглянулся назад, на море. Лучи солнца все еще подсвечивали доставивший его на родину корабль, там ставили паруса, лодочку подняли на борт и уложили сохнуть. Вплоть до самого горизонта море отливало серебром, но белые скалы прямо на глазах покрывались тьмой, лиловая тень тучи скользнула над водой, словно преследуя корабль. Путник снова повернул в глубь острова и пошел по тропинке, уводившей сквозь кустарник и лесок к север ной стороне холма. Стайки скворцов, издали похожие на облачко пыли, вились далеко внизу, слетаясь на осенний совет. Лето кончилось. Впереди зима.
Примечания
1
Один ярд приблизительно равен 91,4 см. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)
2
Бородач – крупная хищная птица.
(обратно)
3
Один фут приблизительно равен 30,4 см.
(обратно)
4
Один дюйм равен 2,54 см.
(обратно)
5
Одна миля равна 1609,3 метра.
(обратно)
6
То есть Папа Римский.
(обратно)
7
Керамбит – нож с изогнутым клинком и заточкой, как правило, с внутренней стороны.
(обратно)
8
Опиум (тур.).
(обратно)
9
Гребешок – двустворчатый моллюск.
(обратно)
10
Каракка – большое парусное судно XV–XVI веков.
(обратно)
11
Бизань-мачта – кормовая мачта на трехмачтовых и многомачтовых судах.
(обратно)
12
Здесь и ниже приводится отрывок из Корана.
(обратно)
13
Один фунт приблизительно равен 450 граммам.
(обратно)
14
То есть подготовить тело к погребению.
(обратно)
15
А теперь сидеть прямо (фр.).
(обратно)
16
Держать пятки вниз (фр.).
(обратно)
17
И изобразить улыбку на своем лице (фр.).
(обратно)
18
Все в порядке, Жанна (фр.).
(обратно)
19
Гэлы – субэтническая группа шотландцев, проживающая на северо-западе Шотландии и Гебридских островах.
(обратно)
20
Дофин – титул наследника французского престола, являющегося потомком правящего короля.
(обратно)
21
Где вы нашли это? (фр.)
(обратно)
22
Это был подарок моего отца (фр.).
(обратно)
23
Так называемый (фр.).
(обратно)
24
Султан газиев – титул османских султанов. Газии – участники войн мусульман с немусульманскими народами.
(обратно)
25
Бомбарда – название первых артиллерийских орудий различного калибра и конструкции, имевших распространение в XIV–XV веках.
(обратно)
26
Тигель – емкость для плавления металла.
(обратно)
27
Иерихон – город в Палестине, имевший в древности мощные стены, которые, согласно библейской легенде, рухнули при его осаде.
(обратно)
28
Дюгонь – водное млекопитающее.
(обратно)
29
Комболои – особые четки, которые используются не для отсчета молитв, как обычные четки, а для простого перекидывания в руках.
(обратно)
30
Планшир – горизонтальный деревянный брус в верхней части борта судна.
(обратно)
31
Такелаж – общее название всех снастей на судне.
(обратно)
32
Сипахи – разновидность турецкой тяжелой кавалерии.
(обратно)
33
Греческий огонь – горючая смесь, применявшаяся в военных целях византийцами.
(обратно)
34
Альхамдулиллах – ритуальное молитвенное восклицание, используемое в арабских и других мусульманских странах для восхваления Аллаха.
(обратно)
35
Азапы – род легкой пехоты в османской армии, нерегулярные вспомогательные войска авангарда.
(обратно)
36
Стикс – река, через которую, согласно древнегреческим мифам, умерших перевозили в страну мертвых. Считалось, что вода в этой реке черная.
(обратно)
37
Кто вы? (фр.)
(обратно)
38
Вы пришли сюда ради демона (фр.).
(обратно)
39
Я могу вам помочь, если вы мне позволите (фр.).
(обратно)
40
Огни святого Эльма – разряд в форме светящихся пучков или кисточек, возникающий на острых концах высоких предметов при большой напряженности электрического поля в атмосфере.
(обратно)
41
«Аллаху акбар» – фраза, означающая в переводе с арабского «Аллах – величайший» или же «Аллах велик».
(обратно)
42
Французское имя Жан соответствует английскому имени Джон.
(обратно)
43
Гачупин – презрительное прозвище испанцев, переселившихся в колонии.
(обратно)
44
Торре-Леаль (от исп. Torre leal) – верная крепость.
(обратно)
45
Сегундон – второй сын в знатных семействах, не наследующий родовой титул и родовое имение.
(обратно)
46
Да придет мне на помощь бог! (лат.)
(обратно)
47
Господи, помоги мне скорей (лат.)
(обратно)
48
Глас народа – глас божий (лат.).
(обратно)
49
Возможно, итальянский вариант французского слова «balourde» — тупица, увалень, невежа.
(обратно)
50
Молочная сестра Марии Медичи, жена маршала д'Анкра (1576–1617).
(обратно)
51
Дело парижского сапожника Пикара, сержанта буржуазной милиции, среди которой его слово имело большой вес. Консини хотел нарушить правило, за исполнением которого следил Пикар. Маршал д'Анкр приказал отлупить его палками. Народ пришел в такую ярость, что д'Анкр счел свою жизнь в опасности и покинул Париж. Слуги, исполнявшие его приказание, были повешены. (прим. автора).
(обратно)
52
Фаворит Людовика XIII, отличившийся при неудачной осаде в 1620 году Монтобана, города, вошедшего в провозглашенный протестантами Союз реформированных провинций. Умер в 1621 г.
(обратно)
53
После казни Консино Консини, одного из влиятельнейших приближенных, в 1617 году Мария была изгнана из Парижа и содержалась под стражей в замке Блуа. Верная ей аристократия подняла мятеж, который продолжался в течение 1617–1620 гг.
(обратно)
54
Брак Людовика XIII с Анной Австрийской и Елизаветы, сестры короля. (прим. автора)
(обратно)
55
Который стал великим Конде. (прим. автора)
(обратно)
56
Несомненно, речь идет о сыне или племяннике авантюриста, которому Катерина Медичи поручила управление городом Жья (прим. автора)
(обратно)
57
Юридический термин, означающий распоряжение, например дар, наследство, в соответствии с которым одно лицо жалует другому какое-то имущество с тем, чтобы оно передало его третьему лицу в условленный срок. Возможно, нечто типа доверенности. (Прим. перев.)
(обратно)
58
Ля Рошель и Монтобан даже по договору 1622 года останутся у протестантов. (Прим. перев.)
(обратно)
59
Сперва Генрих Наварский был союзником тогдашнего короля Франции Генриха III (Прим. перев.)
(обратно)
60
Генрих Порубленный — герцог де Гиз, один из вдохновителей Лиги, претендент на королевский престол, участвовал в заговоре против Генриха III и по его приказу был убит в 1588 году. (Прим. перев.)
(обратно)
61
Франциск, брат Генриха III. (Прим. перев.)
(обратно)
62
Месье — прозвище Франциска. Мир, заключенный после Пятой религиозной войны в Болье в 1576 году, предоставил гугенотам восемь укрепленных городов и право участия в парламентах страны. (Прим. перев.)
(обратно)
63
В наши дни он называется Фейи, до того: Сели, Сюли, Сейи. (прим. автора)
(обратно)
64
Стрела (франц.).
(обратно)
65
Ребро свода, закраина.
(обратно)
66
Точный рисунок дыбы, а также замка, тиса, остатков могилы Шарлотты д'Альбре можно найти в книге де ля Трембле и де ля Вильжия «Живописные эскизы департамента Индр». (прим. автора).
(обратно)
67
Луиза Борджиа, позже вышла замуж за Луи де Ля Тремуйля, затем за Филиппа де Бурбон-Бюссе. (прим. автора)
(обратно)
68
В старину Св. Лориан был одним из самых почитаемых святых в Берри. (прим. автора).
(обратно)
69
1562–1563 гг. — первая религиозная война во Франции.
(обратно)
70
Оноре д'Юрфе — представитель прециозной литературы. Роман «Астрея» закончен в 1618 году.
(обратно)
71
Не знаю, какова дальнейшая судьба этого портрета. Мне случилось видеть похожий в коллекции знаменитого генерала Пепа. Известно, что существует также шедевр, вышедший из-под кисти Рафаэля. На нем Борджа почти красив, по крайней мере в его лице столько достоинства, в его образе столько элегантности, что не сразу начинаешь его ненавидеть. Но пристально на него посмотрев, ощущаешь неподдельный ужас. Правая рука, тонкая и белая, как у женщины, спокойно сжимает рукоятку клинка, висящего на боку. Она держит его со столь замечательной ловкостью, что кажется: он вот-вот ударит. Так хорошо передано движение, что заранее видно, как будет нанесен удар, сверху-вниз, прямо в сердце жертвы. Портрет велик тем, что вышел из-под кисти великого мастера, который не пытался приукрасить моральную жестокость своей модели, которая прорывается сквозь ужасающее спокойствие его лица. (прим. автора)
(обратно)
72
Дорожная карета.
(обратно)
73
Как известно, прециозной литературе были свойственны образные сравнения, некоторые из которых постоянно заменяли обыкновенные слова и выражения.
(обратно)
74
Жак Калло, фр. график, 1592–1635, в виртуозных по мастерству офортах причудливую фантастику сочетал с острыми реалистическими наблюдениями.
(обратно)
75
Babiole переводится также как «безделушка».
(обратно)
76
Род лютни.
(обратно)
77
Вид волынки.
(обратно)
78
Ленное владение.
(обратно)
79
Ремень стремени.
(обратно)
80
Игра слов: voix lactee — молочный голос и Voie lactee — Млечный путь произносятся одинаково.
(обратно)
81
Этот орнамент, вошедший в моду во времена Генриха IV, возможно появился во Франции вместе с Марией Медичи, как аллюзия на гербе ее дома: семь маленьких шариков, олицетворяющих пилюли, память о профессии родоначальника их семьи. (прим. автора).
(обратно)
82
Мереи — род черепицы из дубовых планочек, которыми были крыты почти все замки в Берри. (прим. автора).
(обратно)
83
Артиллерийское орудие калибра 45—100 мм, применялось в XVI–XVIII вв.
(обратно)
84
Это одно из редких во Франции мест, где еще встречается дикий бальзамин с желтыми цветами. (прим. автора).
(обратно)
85
Каретниками называли кучеров.
(обратно)
86
Аврора, Утренняя Заря. (прим. автора).
(обратно)
87
Иисус. (прим. автора)
(обратно)
88
Евангелие. (прим. автора)
(обратно)
89
Guiterne, народный струнный музыкальный инструмент, род гитары.
(обратно)
90
Стрела.
(обратно)
91
Ошейниками приковывали преступника к стене камеры или к позорному столбу.
(обратно)
92
Похоронный.
(обратно)
93
Франциск, брат Генриха III.
(обратно)
94
Генрих IV был убит 14 мая 1610 г.
(обратно)
95
Воротник или выпуск на груди.
(обратно)
96
Драпировка стен зала изображала деревья, листву и птиц без людей и без определенного пейзажа. Она называлась овернской и, видимо, изготовлялась в Клермоне.
(обратно)
97
Высокая ободковая оправа для камня (прим. верстальщика).
(обратно)
98
Реналь, «История Берри» (прим. автора).
(обратно)
99
Мемуары господина Лене (прим. автора).
(обратно)
100
Шарлотта де ла Тремуйль, жена Анри де Конде, первою из носивших это имя, заключенная в течение восьми лет, оправданная, но невиновность ее не была доказана (прим. автора).
(обратно)
101
Анри Мартен. Неизданное письмо (прим. автора).
(обратно)
102
Гомаристы — религиозно-политическое течение в голландской протестантской церкви, ортодоксальные кальвинисты; их поддерживала мелкая буржуазия и горожане (прим. верстальщика).
(обратно)
103
Эти украшения, любопытная археологическая редкость, сохранились по традиции в некоторых местностях: гончары Вернея делают очень красивые вещи по старинным образцам. Небольшая ваза с четырьмя или шестью ручками, укрепленная на множестве деталей, над которой возвышаются цветы или птицы, встречаются в их системе орнамента.
(обратно)
104
Облат — человек, пожертвовавшим монастырю свое имущество и живущий в монастыре, но не давший обета. (Прим. пер.)
(обратно)
105
В оригинале: Geault-Rouge, т. е. петух, gallus.
(обратно)
106
Монтей. «История французов различных сословий». (прим. автора)
(обратно)
107
Фамилия лейтенанта означает «разорение», капитана «мрачный, погребальный». (Прим. пер.)
(обратно)
108
Рейтаров еще называли во Франции ландскнехтами, хотя они уже не носили копья. (прим. автора).
(обратно)
109
Так в печатном издании: после главы 51 идет глава 54 (прим. верстальщика).
(обратно)
110
Анри Мартен. «История Франции». (прим. автора)
(обратно)
111
В 1621 г. город Прива стал опорным пунктом гугенотского «государства в государстве». В 1629 г. после осады город был взят и разграблен войсками Людовика XIII, население было частично вырезано, частично изгнано (прим. верстальщика).
(обратно)
112
Брамины (или брахманы) — жрецы брахманизма, принадлежащие к высшей из четырех варн (каст). Брахманизм — древнеиндийская политическая религия, возникшая в I тыс. до н. э. и давшая религиозное обоснование учению о перерождении душ (реинкарнации) и разделению людей на сословия (варны). Основные божества индуизма — триада Брахма, Вишну и Шива. Восьмирукий, четырехликий Брахма — персонификация безличного мирового принципа и мирового творца. (Здесь и далее прим. ред.)
(обратно)
113
Шиизм — одно из двух (наряду с суннизмом) основных направлений в исламе. Возник в VII в. На почве споров о числе имамов (политических или религиозных правителей) и личности последнего из них шиизм раскололся на несколько сект. Шииты не признают суннитских халифов, считая законными преемниками Мухаммеда и толкователями ислама лишь династию имамов Алидов (потомков имама Али, женатого на дочери Мухаммеда Фатиме).
(обратно)
114
Суннизм — направление в исламе, признающее наряду с Кораном сунну (свод священных преданий о поступках и изречениях Мухаммеда). По вопросу о высшей мусульманской власти (имаме-халифе) опирается на «согласие всей общины»
(обратно)
115
Вишну — в индуизме творец мира, добрый страж и охранитель. Вместе с Брахмой и Шивой входит в божественную триаду. Олицетворяет творческую космическую энергию.
(обратно)
116
Ассассины (гашишины)— мусульманская секта, с особым ожесточением сражавшаяся с крестоносцами и наводившая ужас своими убийствами.
(обратно)
117
Одномачтовое каботажное судно.
(обратно)
118
Шива — благой, приносящий счастье — один из трех верховных богов индуистского пантеона. Воплощает разрушительное и созидательное начала. Изображается в грозном виде, но чаще — в священном танце, ибо силой космического танца Шива творит мир, является источником жизни вселенной.
(обратно)
119
Аватара (санскр. — «нисхождение» бога) — в индуизме воплощение бога Вишну в облике героев Кришны, Рамы, вепря, карлика и пр., совершающих подвиги на земле.
(обратно)
120
Парвати — одно из имен жены Шивы, завоевавшей сердце бога беззаветной любовью и верностью. От их брака родились Сканда, бог войны, предводитель войска богов, и слоноподобный бог Ганеша, возглавляющий свиту Шивы и считающийся богом мудрости и устранителем препятствий.
(обратно)
121
Ребек — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент.
(обратно)
122
Образ Кали, Черной богини (согласно индуистской мифологии, Кали — одна из ипостасей Дави, или Дурги, жены Шивы, олицетворение, грозного, губительного аспекта его божественной энергии. Культ Кали восходит к неарийским истокам, связан с кровавыми жертвоприношениями и занимает центральное место в верованиях тантристских и шактистских сект) у автора совмещен, по-видимому намеренно, с образами других богинь-разрушительниц.
(обратно)
123
Фут — мера длины — равен 30, 48 см; дюйм 25, 4 мм.
(обратно)
124
Фунт — мера веса равен примерно 453 г.
(обратно)
125
Арабский вариант имени царя Македонии, великого полководца Александра Македонского (356—323 до н. э.). Подчинив царство Ахеменидов (персов), вторгся в Ср. Азию, завоевал земли до р. Инд. Ал-Искандерия (Александрия) основана Александром Македонским в 332—331 гг. до н. э.
(обратно)
126
Ганза[нем. Hanse) — торговый и политический союз северонемецких городов в XIV-XVI вв. (формально существовал до 1699 г.) во главе с Любеком. Ганзейский союз осуществлял посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой.
(обратно)
127
Корова — священное животное индуизма; свинья — животное нечистое (согласно мусульманским представлениям).
(обратно)
128
Традиционное метафорическое название солнца в древней индийской поэзии.
(обратно)
129
По существу, герой рассказывает о событиях гражданской войны, разделившей страну на два лагеря — сторонников Ланкастеров (Генрих Шестой был Ланкастер) и Йорков (к ним относятся все персонажи романа, встреченные путешественниками в Кале: Уорик, Солсбери, Фальконбридж, Марч и др.). Известная под названием войны Алой и Белой розы (1455—1485), это была междоусобная борьба за престол между двумя ветвями династии Плантагенетов — Ланкастерами (в гербе алая роза) и Йорками (в гербе белая роза). Гибель в войне главных представителей обеих династий и значительной части феодальной знати облегчила приход к власти Тюдоров в 1485 г. Первый король династии Тюдоров — Генрих VII.
(обратно)
130
Олдермен — старший член городского самоуправления.
(обратно)
131
Одно из сражений войны Алой и Белой розы.
(обратно)
132
Исмаилиты — приверженцы шиитской секты, возникшей в Халифате в VIII в. и названной по имени Исмаила (старшего сына 6-го шиитского имама), которого исмаилиты считали законным 7-м имамом.
(обратно)
133
Суфисты — приверженцы мистико-аскетического направления в исламе, возникшего в VIII в., отрицающего мусульманскую обрядность, проповедующего аскетизм.
(обратно)
134
Джон Уиклиф (ок. 1330—1384) — английский реформатор, идеолог бюргерской ереси, предшественник Реформации. Требовал отобрать землю у церкви, отвергал необходимость папства, а также ряд католических обрядов и таинств.
(обратно)
135
Лолларды — народные проповедники, участники антикатолического крестьянско-плебейского движения в Англии и др. странах Западной Европы. Сыграли важную роль в подготовке народных восстаний в Англии в XIV-XV вв. (упомянутые ниже Уот Тайлер и Джон Болл, Джек Строу и Джон (Джек) Кэд — руководители и идеологи подобный восстаний), а также Реформации.
(обратно)
136
Целибат — обет целомудрия, как и другие обеты (нестяжания, послушания), дается при принятии сана или пострижении в монахи.
(обратно)
137
Уильям Оккам (1285—1349) — философ-схоласт, логик и церковно-политический писатель. Согласно принципу «бритвы Оккама», понятия, несводимые к интуитивному и опытному знанию, должны удаляться из науки.
(обратно)
138
Нарамник, часть епископского облачения, носимая на плечах.
(обратно)
139
Речь идет о короле Вильгельме I Завоевателе (ок. 1027—1087). Герцог из Нормандской династии, он в 1066 г. высадился в Англии и, разбив в битве при Гастингсе войско англо-саксонского короля Гарольда II, стал английским королем. Установил прямую вассальную зависимость всех феодалов от короля.
(обратно)
140
Роджер Бэкон (ок. 1214—1292) — английский философ и естествоиспытатель. Придавал большое значение математике и опыту, как научному эксперименту, так и внутреннему мистическому «озарению». Занимался оптикой, астрономией, алхимией; предвосхитил многие позднейшие открытия.
(обратно)
141
Ибн Рушд (1126—1198)— философ и врач. Жил в Андалусии и Марокко, был судьей и придворным врачом. Ибн Рушд разграничил «рациональную» религию (доступную образованным) и образно-аллегорическую религию (доступную всем), заложив тем самым основы учения о двойственной истине. Автор философских и медицинских трудов, оказавших большое влияние на средневековое европейское знание.
(обратно)
142
Авиценна (ибн Сина; ок. 980—1037)— ученый, философ, врач, музыкант. Жил в Средней Азии и Иране, был врачом и визиром при разных правителях. В философии продолжал традиции арабского аристотелизма, отчасти неоплатонизма. Основные философские сочинения «Книга исцеления», «Книга указаний и наставлений» — содержат также естественно-научные воззрения и музыкально-теоретические положения.
(обратно)
143
Аль-Кинди (ок.800 — ок.870)—, врач, математик, астроном, первый представитель арабского аристотелизма.
(обратно)
144
Аль-Хорезми (787 — ок.850) — среднеазиатский ученый, автор трактатов по арифметике, алгебре, астрономии, географии и др.
(обратно)
145
Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480—524)— христианский философ и римский государственный деятель. Обвиненный в заговоре против императора Теодориха, он в ожидании казни писал свое главное сочинение «Утешение философией», переведенное на английский язык Джефри Чосером (1340?—1400), великим поэтом-гуманистом.
(обратно)
146
Аристотель (384-322 до н.э.) — древнегреческий философ и ученый, ученик и соратник Платона, основоположник формальной логики. Сочинения Аристотеля охватывают все отрасли тогдашнего знания. Колебался между материализмом и идеализмом; идеи (формы, эйдосы) считал внутренними движущими силами вещей, неотделимыми от них, а источник движения и изменчивого бытия видел в вечном и неподвижном перводвигателе. Основные сочинения «Органон», «Метафизика», «Этика», «Поэтика» и др.
(обратно)
147
Гуситы — название сторонников Реформации католической церкви в Чехии (и отчасти Словакии) в 1-й половине XV века — участников Гуситского движения, последователей учения Яна Гуса и других народных проповедников.
(обратно)
148
Перипатетическая школа — философская школа, основанная Аристотелем.
(обратно)
149
Эмпиризм — философское направление, признающее чувственный опыт единственным источником достоверного знания.
(обратно)
150
Минускул — очень мелкий строчной шрифт.
(обратно)
151
Талант — самая крупная единица массы и денежно-счетная единица в Древней Греции, Вавилоне и др. областях Малой Азии; в библейской притче — в значении крупной денежной единицы.
(обратно)
152
Мне хотелось бы предупредить замечание педантов: да, Рабле напишет свою книгу лишь через сто лет после этих событий, но о великанах Гаргантюа и Пантагрюэле рассказывались легенды на всем протяжении Средних веков. (Прим. автора.)
(обратно)
153
Речь идет о будущем короле Англии Генрихе VII (1457—1509), первом из династии Тюдоров. Вступил на престол, одержав победу в битве при Босуорте над Ричардом III Йорком, последним из Плантагенетов.
(обратно)
154
Возле селения и замка Азенкур в 1415 году состоялось одно из самых примечательных сражений Столетней войны между Англией и Францией. Английские войска Генриха V разгромили большее по численности французское войско.
(обратно)
155
У Мортимер-Кросса близ Херефорда Эдуард, граф Марч, будущий король Англии Эдуард IV Йорк, одержал победу над передовыми отрядами (валлийцев и ирландцев) войска королевы
(обратно)
156
См. Новый Завет. Откровение Иоанна Богослова, глава 21.
(обратно)
157
Держава — символ власти монарха, чаще всего золотой шар или яйцо с крестом наверху.
(обратно)
158
Речь идет о будущем короле Англии Ричарде III Йорке (1452—1485), последнем короле из династии Плантагенетов.
(обратно)
159
Тацит Корнелий. О происхождении германцев. Пер. А. С. Бобовича. (Здесь и далее – прим. перев.)
(обратно)
160
Эдуард Исповедник – король Англии (1043–1066).
(обратно)
161
Канут (Кнут, Кнуд) – датский король, правивший также Англией и Норвегией (ум. 1035).
(обратно)
162
Годвинсоны – семья Годвина (ум. 1053), графа Уэссекса; члены семьи играли главенствующую роль в политической жизни Англии при Эдуарде Исповеднике.
(обратно)
163
Вильгельм Завоеватель, или Незаконнорожденный, – герцог Нормандии, в 1066 г. захвативший английский престол.
(обратно)
164
Шпоры в ту эпоху были нормандским нововведением.
(обратно)
165
Манор – господская усадьба в Англии.
(обратно)
166
Имеется в виду битва при Гастингсе (1066), в результате которой нормандцы овладели Англией.
(обратно)
167
Здесь и далее «Проливом» именуется Ла-Манш.
(обратно)
168
Баальбек (Гелиополис) – финикийский город, где император Каракалла (211–217) построил знаменитый храм Солнца.
(обратно)
169
Юстиниан – император (527–565) Восточной Римской империи (Византии), инициатор строительства храма святой Софии.
(обратно)
170
Катай – старинное название Китая.
(обратно)
171
Сантьяго-де-Компостела – место поклонения апостолу Иакову.
(обратно)
172
Иосиф Аримафейский после казни Христа снял Его с креста и похоронил в своей гробнице. Его родство с Иисусом, а тем более поездка Иисуса в Англию – апокриф.
(обратно)
173
Алп-Арслан Мухаммед ибн Дауд – сельджукский султан (ок. 1030–1073).
(обратно)
174
Таны, или тэны, – служилая знать раннесредневековой Англии. Эрл – ближайший помощник короля, правитель большой области, что соответствует европейскому титулу графа.
(обратно)
175
Гарольд Годвинсон (1020–1066) – английский король Гарольд II, правивший в 1066 г.
(обратно)
176
Юты – германское племя, один из народов, населявших Англию в раннем средневековье.
(обратно)
177
Керлы, или фримены, – свободные члены крестьянской общины.
(обратно)
178
Уэссекс – графство, а прежде саксонское королевство на юге Англии.
(обратно)
179
Витан, или Витангемот, – прообраз английского парламента.
(обратно)
180
Олдермены – старейшины, знатные, уважаемые люди.
(обратно)
181
Уэксфорд – графство и город в Ирландии.
(обратно)
182
Даны, или датчане, селились в Англии с IX в., образовав на севере-востоке собственную область Денло, т.е. «Датское право». Чтобы откупиться от новых набегов из Скандинавии, английские короли платили викингам дань, «датские деньги», позднее превращенную в подать на содержание войска (хергельд).
(обратно)
183
Мерсия и Нортумбрия – названия старинных английских королевств.
(обратно)
184
Имеется в виду древнеанглийская поэма о поражении восточных саксов и гибели их вождя в битве со скандинавами (991 г.).
(обратно)
185
Франки – общее название европейцев, в особенности германцев, на Востоке.
(обратно)
186
Бадахшан – область современного Афганистана; Оке – Аму-Дарья, Крыша Мира – Памир.
(обратно)
187
Гой – не еврей.
(обратно)
188
Лендз-Энд –»Конец земли», крайняя западная точка Великобритании.
(обратно)
189
Альфред Великий – король Уэссекса (849–899).
(обратно)
190
Фризия, историческая область на границе Германии и Голландии.
(обратно)
191
«Битва при Мэлдоне» (212–224, с некоторыми изменениями и пропусками). Все цитаты в тексте романа приводятся на современном английском. Для русского переложения были использованы переводы В. Г. Тихомирова, сделанные с древнеанглийского подлинника, см.: Древнеанглийская поэзия. М., 1982; Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. М., 1975.
(обратно)
192
Здесь и дальше Квинт будет изобретать термины, которые спустя восемь с половиной веков введет в оборот доктор Фрейд.
(обратно)
193
Гайд – примерно сорок гектаров.
(обратно)
194
Уолт так подробно описывает эту местность, поскольку здесь произойдет последний эпизод его истории – битва при Гастингсе (при Сенлак-Хилле).
(обратно)
195
Клюнийцы – приверженцы церковной реформы, инициированной бенедиктинским аббатством Юпони (Бургундия) в X-XI вв. Основные требования: ужесточение монастырского устава, безбрачие духовенства, отказ от купли-продажи церковных должностей; независимость монастырей от светской и епископской власти и непосредственное подчинение Папе.
(обратно)
196
Гардиканут (ок. 1019–1042) – король Англии и Дании.
(обратно)
197
Эдмунд II Железнобокий (ок. 993–1016) – король Англии.
(обратно)
198
Этельред II Неразумный (968–1016) – король Англии.
(обратно)
199
Гарольд I, король Англии, умер в 1040 г.
(обратно)
200
Рейнар – французское прозвище лисы.
(обратно)
201
Римский праздник луперкалий посвящался Фавну и богам плодородия, отмечался 15 февраля.
(обратно)
202
Ребек – струнный смычковый инструмент.
(обратно)
203
Исторический прототип шекспировского героя умер в 1057 г.
(обратно)
204
Внимательному читателю предлагается узнать в Ательстане Тимора, приятеля Уолта.
(обратно)
205
Вальтеоф, граф Нортумбрии, умер в 1076 г.
(обратно)
206
Обе строфы – фрагменты из древнеанглийской элегии «Морестранник» (21,39–47, 58–64).
(обратно)
207
Бокаж – специфически нормандский ландшафт: поля, окруженные изгородями из густого кустарника и деревьев.
(обратно)
208
Папа Римский Александр II (умер в 1075 г.).
(обратно)
209
Желания Ланфранка сбылись. Он вошел в историю как церковный деятель Англии (архиепископ Кентерберийский, 1070–1089).
(обратно)
210
«Песнь о Роланде» (LVIII). Пер. Б. Ярхо.
(обратно)
211
Одо, епископ Байё (1036–1097), после Завоевания – английский государственный деятель.
(обратно)
212
Святой Дионисий (Сен-Дени, умер ок. 258 г.) – покровитель Франции, принесший христианство в эту страну. Святой Людовик в этом контексте может быть только король Франции Людовик IX Святой (1214–1270), однако этот король жил почти на два века позже описываемых в романе событий.
(обратно)
213
Стагирит – Аристотель.
(обратно)
214
Христианский богослов Пелагий (354–418) учил, что первородный грех не передается по наследству и человек может спастись собственным усилием, без Божьей благодати.
(обратно)
215
Имя «Теодора» по-гречески означает «Божий дар».
(обратно)
216
Ср.: Джойс. Улисс, эп. 1. Фраза: «...запел... дурашливым, бездумно веселым голосом» – точная цитата (пер. С. Хоружего).
(обратно)
217
По-английски первые звуки имени кровавой библейской царицы Иезавели и имени «Джессика» совпадают.
(обратно)
218
«Приди, Дух-Создатель» (лат.) – гимн, составленный немецким архиепископом IX в. Рабаном Мавром.
(обратно)
219
Сон Уолта повторяет эпизод англосаксонского эпоса «Беовульф» (битва героя с матерью сраженного им чудовища).
(обратно)
220
Лев III Исавр (Лев Сириец; 657–741) – византийский император.
(обратно)
221
Запрет изобретать сущности сверх необходимости («бритва Оккама») введен английским философом Уильямом Оккамом (ок. 1285–1347).
(обратно)
222
Имеется в виду Омар Хайям.
(обратно)
223
Исмаилиты – секта мусульман-шиитов, породившая тайную организацию религиозных убийц-ассасинов.
(обратно)
224
Харальд Хардероде (Суровый Правитель) был не сыном Магнуса Доброго, а дядей.
(обратно)
225
«Помилуй меня, Господи» (лат.) – псалом 51 (50), входящий в заупокойную службу.
(обратно)
226
Река Трент отделяет южные графства Англии от северных.
(обратно)
227
Грендель – дракон, убитый Беовульфом.
(обратно)
228
По-видимому, Рэтбоун имеет в виду жившего на два века позже Людовика Святого.
(обратно)
229
Даны, или датчане, селились в Англии с IX в., образовав на севере-востоке собственную область Денло, т.е. «Датское право». Чтобы откупиться от новых набегов из Скандинавии, английские короли платили викингам дань, «датские деньги», позднее превращенную в подать на содержание войска (хергельд).
(обратно)
230
Ср.: «Гамлет» (V, 2). Пер. Б. Пастернака.
(обратно)
231
«Да упокоится в вечности» (лат.), более древний вариант реквиема.
(обратно)
232
«Гамлет» (V, 1). Слова королевы над могилой Офелии: «Нежнейшее – нежнейшей» (пер. Б. Пастернака).
(обратно)
233
«Седрик» – введенное Вальтером Скоттом неправильное написание имени основателя королевской династии Уэссекса, а в дальнейшем всей Англии, Кердика (ум. 534).
(обратно)
234
Вёланд, хромоногий мастер-кузнец, – персонаж англосаксонского и скандинавского фольклора, упоминается в «Беовульфе» и в «Старшей Эдде» («Песнь о Вёлунде»).
(обратно)
235
Гарольда погубила угодившая ему в глаз стрела.
(обратно)
236
Этот персонаж носит имя кельтского царя-великана, жившего в шатре.
(обратно)
237
Имеется в виду остров Уайт у южного побережья Британии, от которого остров отделяет пролив Солент – часть Ла-Манша.
(обратно)
238
Скандинавы, совершавшие морские грабительские и завоевательные походы в конце VIII – середине XI вв., именовались норманнами в Западной Европе, в Англии – данами, на Руси – варягами (самоназвание – викинги). В X в. они основали в Северной Франции герцогство Нормандию.
(обратно)
239
Фастнет-Рок находится на юго-западной оконечности Ирландии; Винландом викинги назвали открытое ими побережье Северной Америки.
(обратно)
240
Один – верховное божество скандинавской мифологии.
(обратно)
241
Михайлов день приходится на 29 сентября.
(обратно)
242
Харальд служил византийскому императору Михаилу IV в 1034–1042 гг.
(обратно)
243
В греческой мифологии гранат ассоциировался с Царством Мертвых, в христианской – с Воскресением Христа.
(обратно)
244
Приставка «Фитц» часто встречается в именах нормандских дворян. Она означает попросту «сын» и не подразумевает какого-то изъяна в происхождении.
(обратно)
245
Святая Елена (ок. 248–328), мать римского императора Константина, весьма вероятно, была родом из Британии.
(обратно)
246
Оба имени – Юнипера и Амаранта – связаны с символикой растений. Юпитера (от лат. Juniperus – можжевельник) символизирует смерть и воскресение: Амаранта – бессмертную любовь.
(обратно)
247
«Сон в летнюю ночь» (I, 2). Пер. М. Лозинского.
(обратно)
248
Бейлиф – английский термин, означающий представителя короля.
(обратно)
249
Святой Георгий принял мученичество в Никомидии (303 г. н.э.); Георгий из Каппадокии – деятель Церкви IV в.
(обратно)
250
В конфедерацию Пяти Портов входили Дувр, Сэндвич, Ромни, Гастингс и Хайт.
(обратно)
251
«Песнь о Роланде» (LXXIX). Пер. Б. Ярхо.
(обратно)
252
Эскалибур – меч короля Артура. Дюрандаль – меч Роланда.
(обратно)
Оглавление
Нейл Оливер
Повелитель теней
Пролог
Часть первая
Бадр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Часть вторая
Ленья
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Часть третья
Осада
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Часть четвертая
Свадьба
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Инге Отт
Тайна рыцарей тамплиеров
Сокровища мудрости
Разбойничий лес
Человек у костра
К морю
Путешествие
Святой город
Конюшни царя Соломона
Странная колонна
Пограничная земля на юго-востоке
Удивительное открытие
Знаки на камне
Тот, кто ищет воду, заблуждается
Еще одно разочарование
Обессиливающее отчаяние
Несчастье короля
Тот, кто идет с водой
Великий крестовый поход
Чужой на Западе
Тайник
Происходит хорошее и плохое
Новый крестовый поход
Могучее войско
Невыполненный приказ
Голод
Великое преступление
Добрый город
У цели?
Воспоминание возвращается
Решение Арнольда
Иерусалим потерян!
Рядом с сокровищами тамплиеров
Ролан в коричневом плаще
Придорожные столбы
Султан Саладин просчитался
Султан Саладин
Кто должен править Иерусалимом?
Великий ужас
Иерусалим рыдает
Домой?
Анна, гражданка Лиона
На Лебедином озере
Хочет ли этого Господь?
Домик
Необходимая самооборона
Вернувшийся домой
Приговор
Наказание за убийство
«Нечистые» кузены
Каструм Перегринорум
Куда?
Черная смерть
В Испанию
Отъезд втроем
Прекрасная девушка
Камень
Тоска по родине
Император вступает в Иерусалим
Постыдное намерение
Измена ордену тамплиеров
Альфонс, блудный сын
Там, где страдания
Лионский праздник
С помощью Катрин
Друг
Ночное соглашение
Только один лоскут кожи
Великая встреча
Избранные посланниками
Драгоценный груз
Пепел
Приложение
Великие магистры ордена тамплиеров
Хронологическая таблица
Висенте Рива Паласио
Пираты Мексиканского залива
Часть первая. ДЖОН МОРГАН
I. ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА
II. ПЕДРО-ЖИВОДЕР
III. В РОЩЕ ПАЛЬМАС-ЭРМАНАС
IV. ОХОТНИКИ
V. СЕНЬОРА МАГДАЛЕНА
VI. ВЕРБОВКА
VII. ПЛАНЫ И ПРИЗНАНИЯ
VIII. ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
IX. ПЕРВОЕ ДЕЛО
X. «САНТА-МАРИЯ ДЕ ЛА ВИКТОРИЯ»
XI. «ЗНАМЕНИТЫЙ КАНТАБРИЕЦ»
XII. СРАЖЕНИЕ И БУРЯ
XIII. ПЕРВАЯ ДОБЫЧА
XIV. ПУЭРТО-ПРИНСИПЕ
XV. ПУЭРТО-ПРИНСИПЕ (Продолжение)
XVI. РИЧАРД И БРОДЕЛИ
XVII. СПАСЕНИЕ
Часть вторая. РОД ГРАФОВ ТОРРЕ-ЛЕАЛЬ
I. СЕМЬЯ ГРАФА
II. ПЕРВАЯ ЗАПАДНЯ
III. ИНДИАНО
IV. МАРИНА
V. ЗНАМЯ КОРТЕСА
VI. ЗАМЫСЛЫ ДОНА ХУСТО
VII. НОЧНОЙ ПЕРЕПОЛОХ
VIII. ШАГ НАЗАД
IX. ДОБРОМ ИЛИ СИЛОЙ
X. ЖАЛОБА МОНАХИНЬ
XI. ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
XII. ПОВЕЛЕНИЕ ВИЦЕ-КОРОЛЯ
XIII. МОСКИТ
XIV. ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ
XV. ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ (Окончание)
XVI. К ЧЕМУ ПРИВЕЛА ИСТОРИЯ ПАУЛИТЫ
Часть третья. АНТОНИО ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА
I. ХУАН ДАРЬЕН
II. ДЖОН МОРГАН И ХУАН ДАРЬЕН
III. ПОРТОБЕЛО
IV. ВО ВЛАСТИ ОКЕАНА
V. ИСКРА ПОД ПЕПЛОМ
VI. ОБИДА
VII. ОСАДА
VIII. БЫВШИЕ СОПЕРНИКИ
IX. МЩЕНИЕ
X. ДОБРОМ ЗА ЗЛО
XI. ОХОТА НА БЫКА
XII. ДВОЕ ОСИРОТЕВШИХ
XIII. НА БОРТУ КОРАБЛЯ
XIV. ПОЕДИНОК
XV. РЕВНОСТЬ ЛЬВА
XVI. ИСПЫТАНИЕ
XVII. БРАНДЕР
Часть четвертая. СЫН ГРАФА
I. ТАИНСТВЕННАЯ ДАМА
II. СРЕДИ СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
III. ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ
IV. ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ
V. СДЕЛКА
VI. БРАЧНЫЕ ПЛАНЫ
VII. ШЕСТОЕ АВГУСТА
VIII. РАДОСТЬ ДОНА ХУСТО
IX. ТВЕРДОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
X. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
XI. НИТЬ АРИАДНЫ
XII. ПЛАН СОЮЗА
XIII. КАНУН СВАДЬБЫ
XIV. ПОХИЩЕНИЕ
XV. СОПЕРНИЦЫ
XVI. СЛЕД ПОТЕРЯН
XVII. МАТЬ И ДОЧЬ
XVIII. БРАТ И СЕСТРА
XIX. БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Эрнст Питаваль
Голова королевы. Том 1
Книга первая
В БОРЬБЕ ЗА ТРОН
Глава первая
БАЛ-МАСКАРАД
Глава вторая
СЭРРЕЙ И ВАРВИК
Глава третья
КАБАЧОК «КРАСНЫЙ ДУГЛАС»
Глава четвертая
ПАЖ
Глава пятая
МАРИЯ ЛОТАРИНГСКАЯ
Глава шестая
ЖЕНСКАЯ ХИТРОСТЬ
Глава седьмая
НАПАДЕНИЕ
Глава восьмая
ПРОЩАНИЕ
Глава девятая
ПРОРОЧЕСТВО
Глава десятая
ДВОЙНАЯ ИЗМЕНА
Глава одиннадцатая
РОКОВАЯ НОЧЬ
Глава двенадцатая
В ТАУЭРЕ
Глава тринадцатая
ФИЛЛИ
Глава четырнадцатая
У ЦЕРКВИ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ И В ЛУВРЕ
Глава пятнадцатая
МАСКАРАД
Глава шестнадцатая
ТЕМНИЦА ЛУВРА
Глава семнадцатая
ПЕРЕМЕНЫ
Глава восемнадцатая
СИРЕНА
Глава девятнадцатая
ЗАГОВОР В АМБУАЗЕ
Глава двадцатая
МЕСТЬ ЕКАТЕРИНЫ
Глава двадцать первая
ПРОЩАНЬЕ
Книга вторая
ДВОРЦОВЫЕ СТРАСТИ
Глава первая
ГРАФ ЛЕЙСТЕР
Глава вторая
ГОЛОС СОВЕСТИ
Глава третья
ВОЗМЕЗДИЕ
Глава четвертая
МАРИЯ СТЮАРТ И РЕФОРМАТОР
Глава пятая
МАРКИЗ КАСТЕЛЯР
Глава шестая
СВАТОВСТВО
Глава седьмая
СЕНТ-ЭНДРЮ
Глава восьмая
СТАРАЯ НЕНАВИСТЬ
Глава девятая
МАРИЯ И ЛЕЙСТЕР
Глава десятая
НЕМАЯ
Глава одиннадцатая
ОТКАЗ
Глава двенадцатая
НЕВЕСТА ЛОРДА
Эрнст Питаваль
Голова королевы. Том 2
Дворцовые страсти
Глава тринадцатая
ДАВИД РИЧЧИО
Глава четырнадцатая
УБИЙСТВО РИЧЧИО
Глава пятнадцатая
НЕПОСТОЯНСТВО
Глава шестнадцатая
В БУДУАРЕ КОРОЛЕВЫ
Глава семнадцатая
РАСЧЕТЫ С ДРУЗЬЯМИ
Глава восемнадцатая
ГРАФ БОСВЕЛ
Глава девятнадцатая
УБИЙСТВО ДАРНЛЕЯ
Глава двадцатая
ЛАМБЕРТ
Глава двадцать первая
ГОСПОДИН И СЛУГА
Глава двадцать вторая
ОБВИНИТЕЛЬ
Глава двадцать третья
КРИЗИС
Глава двадцать четвертая
ПРОКЛЯТИЕ ЗЛА
Глава двадцать пятая
ДОКУМЕНТ
Глава двадцать шестая
ОБМАНУТЫЙ РАСЧЕТ
Глава двадцать седьмая
СЕРЕБРЯНАЯ ШКАТУЛКА
Глава двадцать восьмая
В ЗАМКЕ ЛОХЛЕВИН
Глава двадцать девятая
БЕГСТВО
Глава тридцатая
ПОХОЖДЕНИЯ БОСВЕЛА
Глава тридцать первая
ТАЙНА ЛОРДА СПИТТЫ
Глава тридцать вторая
ПИРАТ КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ
Глава тридцать третья
МЕСТЬ
Глава тридцать четвертая
В РАТГОФ-КАСТЛЕ
Глава тридцать пятая
КОНЕЦ БОСВЕЛА
Глава тридцать шестая
КЛЯТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
Путь на эшафот
Глава первая
МОНАРШЕЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Глава вторая
ЧЭТСУОРТ
Глава третья
ВЫСШАЯ ПОЛИТИКА
Глава четвертая
СОВЕЩАНИЕ В ЭСКУРИАЛЕ
Глава пятая
ОТКРЫТИЕ
Глава шестая
ЦЕННАЯ ГОЛОВА
Глава седьмая
ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ
Глава восьмая
ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ ВАЛИНГЭМА
Глава девятая
НАСИЛИЕ
Глава десятая
ТЮРЕМЩИК
Глава одиннадцатая
БАБИНГТОН
Глава двенадцатая
ЗАГОВОР БАБИНГТОНА
Глава тринадцатая
ДЕЯНИЯ КИНГТОНА
Глава четырнадцатая
НОВЫЙ ЧУДОВИЩНЫЙ ПРОЦЕСС
Глава пятнадцатая
ОБВИНЕНИЕ МАРИИ СТЮАРТ
Глава шестнадцатая
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Глава семнадцатая
ПОПЫТКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Глава восемнадцатая
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВАЛИНГЭМА
Глава девятнадцатая
ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ
Глава двадцатая
МОРДИ
Глава двадцать первая
ХОРОШИЕ СОВЕТЫ
Глава двадцать вторая
ЭДУАРД МАК-ЛИН
Глава двадцать третья
МАК-ЛИН В ЛОНДОНЕ
Глава двадцать четвертая
УЖАСНАЯ НОЧЬ
Глава двадцать пятая
ОХОТА
Глава двадцать шестая
ИНТЕРЕС
Глава двадцать седьмая
БЕЗ ВЕРНЫХ СЛУГ
Глава двадцать восьмая
ОШИБКА В РАСЧЕТЕ
Глава двадцать девятая
ЭШАФОТ
Эпилог
Жорж Санд
Прекрасные господа из Буа-Доре
ТОМ ПЕРВЫЙ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
ТОМ ВТОРОЙ
Глава тридцать восьмая
Глава тридцать девятая
Глава сороковая
Глава сорок первая
Глава сорок вторая
Глава сорок третья
Глава сорок четвертая
Глава сорок пятая
Глава сорок шестая
Глава сорок седьмая
Глава сорок восьмая
Глава сорок девятая
Глава пятидесятая
Глава пятьдесят первая
Глава пятьдесят четвертая[109]
Глава пятьдесят пятая
Глава пятьдесят шестая
Глава пятьдесят седьмая
Глава пятьдесят восьмая
Глава пятьдесят девятая
Глава шестидесятая
Глава шестьдесят первая
Глава шестьдесят вторая
Глава шестьдесят третья
Глава шестьдесят четвертая
Глава шестьдесят пятая
Глава шестьдесят шестая
Глава шестьдесят седьмая
Глава шестьдесят восьмая
Глава шестьдесят девятая
Глава семидесятая
Глава семьдесят первая
Глава семьдесят вторая
Джордж Пейн Рейнсфорд Джемс
Братья по оружию
или
Возвращение из крестовых походов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
Джулиан Рэтбоун
Короли Альбиона
От автора
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая
Глава тридцать девятая
Глава сороковая
Глава сорок первая
Глава сорок вторая
Глава сорок третья
Глава сорок четвертая
Глава сорок пятая
Глава сорок шестая
Глава сорок седьмая
Глава сорок восьмая
Глава сорок девятая
Глава пятидесятая
Послесловие
Джулиан Рэтбоун
Последний английский король
От автора
Анахронизмы и историческая достоверность
Пролог. Год 1070
Часть I Скиталец
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Часть II Исповедник
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Часть III Клятва
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Глава двадцать третья
Глава двадцать четвертая
Часть IV Короткая поездка по Малой Азии
Глава двадцать пятая
Глава двадцать шестая
Глава двадцать седьмая
Глава двадцать восьмая
Глава двадцать девятая
Глава тридцатая
Глава тридцать первая
Часть V Последний английский король
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Глава тридцать четвертая
Глава тридцать пятая
Глава тридцать шестая
Глава тридцать седьмая
Глава тридцать восьмая
Часть VI 1066
Глава тридцать девятая
Глава сороковая
Глава сорок первая
Глава сорок вторая
Глава сорок третья
Глава сорок четвертая
Глава сорок пятая
Глава сорок шестая
Глава сорок седьмая
Часть VII Все это
Глава сорок восьмая
Глава сорок девятая
Глава пятидесятая
Глава пятьдесят первая
Глава пятьдесят вторая
Глава пятьдесят третья
Глава пятьдесят четвертая
Глава пятьдесят пятая
Эпилог
*** Примечания ***


 Зима в 1118 году была холодная ясная. Девять молодых графов со своими оруженосцами молча ехали сквозь ночь. Еще в полдень отправились они в путь из Труа, столицы Шампани, затем миновали Люзиньи, где стражник, стоявший на карауле в башне, затрубив в рог, подал сигнал закрыть ворота.
Серое небо постепенно чернело, снег был мертвенно бледный, и дорога расплывалась перед уставшими от напряжения глазами всадников. Вскоре ничего уже не было видно, и они остановились. Старший оруженосец неуклюже спрыгнул с коня, подышал себе на руки и начал зажигать просмоленную палку. Господа оставались на лошадях, нетерпеливо бивших копытами.
Наконец смола зашипела и стала потрескивать, взметнулись искры. Оруженосец вскарабкался на коня; держа в руке высоко над головой факел, он поскакал вперед. Красноватый свет факела освещал совсем небольшое пространство, выхватывая из темноты лица двух графов, ехавших впереди. То тут, то там в снегу сверкали кристаллы льда.
— Через час мы прибудем, — сказал один из графов, почти не разжимая губ. — Там за лесом уже начинается болото.
— При последней встрече с графом Шампанским на болотном острове вы тоже делали привал в Вандевре, господин де Пайен? — тихо спросил другой. — Меня не было с вами в тот раз.
Господин де Пайен кивнул головой:
— Только было тепло — не то, что сегодня, — и он показал на пар, шедший из конских ноздрей. Затем они опять замолчали.
Оруженосцы скакали позади всех, низко пригнувшись к шеям своих коней, чтобы не потерять след ехавших впереди. Свет факелов до них не доходил. Маленький Эсташ и толстый Эдюс, которым не было еще и двенадцати, ехали самыми последними. Здесь, между Труа и Вандевром, отсутствовала необходимость в арьергарде: это была дружественная земля графа Шампанского. Кони чуть приплясывали, почуяв болото. Они услышали, как оно хлюпает, и навострили уши.
— Стойте! — приказал господин де Пайен, а когда отряд остановился, добавил: — Оруженосец, передай факел господину де Монбару!
Оруженосец передал факел рыцарю, находившемуся рядом с господином де Пайеном.
— Там, справа от нас, — господин де Пайен указал в темноту рукой, державшей повод, — находится город Вандевр. Нам уже приходилось ночью располагаться здесь лагерем. Разведите костер, напоите коней, — сказал он оруженосцам, — на краю болота есть вода, и лед там тонкий. Сейчас я с другими господами вас оставлю. Рано утром мы сюда вернемся.
Рыцари сошли с коней и передали поводья своим оруженосцам. Затем они собрались вокруг господина де Монбара, высоко державшего факел, и под предводительством господина де Пайена вступили в кустарник, окаймлявший болото.
Оруженосцы прислушивались к затихавшему вдали шороху и видели, как исчезает во тьме свет факела. Но никто не промолвил ни слова. Они молча вели коней под уздцы и делали все так, как приказал господин де Пайен.
Костер разгорался с большим трудом, так как сучья, подобранные по дороге, заиндевели. Наконец зашипели подрагивающие языки пламени. Младшие оруженосцы сняли с коней поклажу и седла и положили их на некотором отдалении от костра. Постепенно костер запылал. Оруженосцы стреножили лошадей и повесили вокруг них торбы, расстелили у костра шкуры, опустились на них и, голодные, съели то, что нашлось у них в походных мешках. Эсташ и Эдюс устроились рядом. Присев на корточки, Эсташ толкнул друга в бок.
— Ночью на болоте? — пробормотал он. — Надеюсь, что они не увязнут!
— Они найдут дорогу даже во сне, — тихо ответил Эдюс.
— Что они там делают?
Эдюс пожал плечами:
— Неизвестно. Никто из младших оруженосцев об этом не говорит, ты, наверное, заметил. С уверенностью я могу сказать только одно: рано утром они вернутся со сверкающими глазами. Так было и в последний раз.
Мальчики плотно завернулись в плащи и приготовились, как следует поспать на расстеленных шкурах.
— Возможно, — сказал Эдюс Эсташу на ухо, — возможно, на этом болоте есть место, где твердая почва, и там они делают то, о чем не положено знать другим людям, — он перевернулся с боку на бок и заснул. Эсташ лежал, не засыпая.
Костер, некоторое время горевший ярким пламенем, теперь лишь чуть потрескивал. Вскоре от него остались только красные угли. «Ночью на болоте!»… По равномерно поднимавшимся и опускавшимся плащам Эсташ понял, что все остальные спали. Старший оруженосец храпел, прижавшись к седлу господина де Пайена. Слева за кустами были слышны шаги часового. Кричал сыч. «Ночью на болоте!»… Эсташ вдыхал запахи тлеющего костра, кожи, из которой были изготовлены седла, и гнилой болотной воды. Это был его первый ночной привал с тех пор, как он стал пажом у дружелюбно к нему настроенного господина де Монбара.
Недалеко от городка, где родился Эсташ и в котором жили его родители, также было болото. Но все избегали его, потому что там водились призраки и блуждающие огни, завлекавшие ночных странников в трясину. Разве не было их и в этом болоте? Но почему же тогда господа пошли туда? Разве они не боялись духов? И что у них была за тайна?
Эсташ размышлял еще некоторое время. Затем у него сами собой закрылись глаза. Ему снились докрасна раскаленные угли лагерного костра. Но этот костер был не на лугу рядом с ним, а в беззвездном небе, на которое он смотрел перед тем, как заснуть. Там он увидел великана с широко распростертыми крыльями и прекрасным, величественным, лицом, подобного которому еще не приходилось встречать Эсташу. На голове у великана сверкала золотом корона с ослепительным карбункулом в центре. Но внезапно этот величественный образ был низвергнут с небес и с ужасным, криком рухнул на землю.
Эсташ проснулся. Там, где ему привиделся светящийся образ, упавший на землю, догорали последние головешки лагерного костра. Товарищи спали; часового сменили. Все было так, как и должно было быть. Глядя на едва тлеющий костер, Эсташ снова уснул, и прежние видения вновь наполнили его сон. Он увидел маленького рыжего человека, одетого по-монашески. Своим посохом этот человек ворошил догорающие угли. Что он ищет у нашего лагерного костра? Почему его пропустили часовые? Возмущенный Эсташ хотел его прогнать. Тогда рыжий, улыбнувшись, подмигнул ему. Он сгреб в сторону обуглившиеся ветки, и Эсташ отпрянул, ослепленный — под углями лежал искрящийся карбункул, который был в короне у небесного великана, только расколотый на три части.
Самый маленький осколок можно было вставить в кольцо. Второй был размером с кулак, а третий — больше, чем первые два, вместе взятые. Эсташ вопросительно посмотрел на рыжего, но того уже не было. Мальчик открыл глаза. Лагерный костер стал серым пепелищем. Небо медленно бледнело. Оруженосцы ворочались под своими плащами, зевали. Они услышали шум, приближавшийся со стороны болота, и вскочили — рыцари возвращались в лагерь. Их глаза сверкали.
Эсташ и Эдюс подвели коней. Они помогали нагружать бочки и мешки, которые сняли накануне вечером: продовольствие было необходимо для недавно основанного монастыря, который хотели посетить их господа. Один молодой аббат с несколькими монахами того же возраста построил его в проклятом разбойничьем лесу Клерво. Звали аббата Бернар.
Господин де Пайен нетерпеливо торопил всех остальных. Рыцари сели в седла. Эсташ разбежался и под общий хохот одним прыжком вскочил на коня. Отряд отправился в путь.
Погода переменилась. Как только бледное солнце достигло зенита, на деревьях начал таять узорчатый иней. Эсташ не обращал внимания на признаки наступавшей весны. Сон, приснившийся ему ночью, стоял перед глазами, отчетливый, как картина: Эсташ видел тщедушного рыжего человека, откопавшего своим посохом сияющий камень. Чего хотел от него этот образ из сна, не отпускавший мальчика даже днем? Эсташ содрогнулся.
— Эй! — грубо закричал Эдюс, — ты еще спишь или с тобой что-то случилось?
— Если бы ты знал, — тихо сказал Эсташ, — что за сон я видел… — он некоторое время ехал рядом с Эдюсом молча, а затем добавил: — о карбункуле, — и пересказал весь сон.
Тем временем рыцари подъехали к краю леса. Господин де Пайен приказал им остановиться.
— Перед тем как въехать в лес Клерво, мы должны немного поесть, — сказал он.
Когда они сидели в лучах полуденного солнца и ели, Эдюс сказал Эсташу:
— Тот, кому приснился карбункул, делается причастным к такой тайне, которую он не должен никому доверять.
Он робко посмотрел на своего товарища. Эсташ, отрезавший себе кусок сала, в смятении выронил нож. В тот же миг господин де Пайен приказал снова отправляться в путь, и бойкий господин де Сент-Омер подозвал к себе Эдюса, своего пажа. Тесной группой отряд продвигался по ухабистой, недостроенной дороге через пользующийся дурной славой лес Клерво.
Эсташ не оглянулся на поляну, где они останавливались, и не увидел, как сверкает в снегу его нож, который он уронил в растерянности.
Лес был темный и густой, а дорога узкая. Зловеще вскрикивала сойка, и певчие птицы умолкали перед поступью конских копыт. Эсташ, озираясь, в страхе посмотрел на Эдюса, который опять ехал сзади. Разве там не шуршал подлесок? Разве у этих густых кустов не сто глаз?
Эдюс, увидев боязливый взгляд друга, покачал головой и, снисходительно улыбаясь, махнул рукой. Он и сам испытал подобный страх, когда впервые проезжал через этот лес. Но внезапно Эдюс пришпорил своего коня и закричал:
— Эсташ, у тебя за поясом нет ножа!
Эсташ ощупал привычное место — ножа, такого бесценного, такого необходимого, там не было. Ножа прапрадеда, подаренного ему на прощание старшим братом, который когда-то получил его в наследство в родном городке, Единственное оружие… Эсташ беспомощно посмотрел на Эдюса, а затем решительно повернул своего коня назад.
— Если ты поторопишься, — закричал Эдюс ему вслед, — то сможешь догнать нас еще до того, как мы въедем в монастырские ворота!
Эсташ скакал галопом назад сквозь густой лес. Он изо всех сил старался ехать как можно быстрее.
«Чего я боюсь? — спросил он себя, чтобы успокоиться. — Разве разбойники, обосновавшиеся когда-то в этом лесу, не ушли из него, когда Бернар начал строить монастырь? И разве Эдюс не встретил мой страх снисходительной улыбкой?»
И вот уже стала видна светлая поляна, на которой они утоляли голод. Там должен был лежать нож. Но ножа там не оказалось. Эсташ огляделся вокруг в поисках и на краю поляны заметил под кустом человека в залитой кровью рубашке. Он видел, как тот согнулся на холодной земле. Затем Эсташ заметил рукоятку своего ножа, торчащего из спины этого человека. Он в ужасе соскочил с коня и склонился над раненым.
— Эй! — несколько раз позвал Эсташ, прикоснувшись к его плечу, — ты меня слышишь?
Он протянул руку к ножу. Однако тотчас же убрал ее: нож, торчащий из спины, невозможно выдернуть без того, чтобы раненый не захлебнулся кровью. Это известно всем воинам. Эсташ заплакал, внезапно почувствовав свою беспомощность. У него не хватит сил посадить человека на коня, но и оставить его лежать здесь он не мог.
Раненый не слышал Эсташа.
— Послушай! — попытался мальчик еще раз, — я привезу тебя в монастырь, там тебя выходят!
Человек перестал корчиться от боли. Спустя мгновение он поднял лицо, и Эсташ увидел, что он еще молод.
— У меня есть конь, — обратился юный паж к раненому.
Человек поднял голову, огляделся вокруг, увидел коня и хотел что-то сказать мальчику, но изо рта у него хлынула кровь. Эсташ подвел коня к ближнему пню и привязал его к кусту. Еще мгновение он был в оцепенении от страха: разбойники могли вернуться, напасть и на него и отобрать коня.
Раненый приподнялся. Ножкрепко сидел у него в спине.
— Если ты сможешь встать на колени, — сказал Эсташ, — я буду поддерживать тебя спереди, и ты, возможно, поднимешься.
Человек попробовал сделать это. Все тело его содрогнулось, когда он, наконец, встал на ноги. Тяжело опершись Эсташа, он поплелся в сторону пня, но почти сразу упал. Изо рта у него обильно текла кровь. Эсташ тяжело дышал. «Как мне посадить его на коня?» — думал он в отчаянии. Как только Эсташу удалось перевести дух, ой снова поднял раненого на ноги и помог ему взобраться на пень.
— Крепко держись за седло! — сказал он, развязал подпругу и сунул под нее ногу раненого. Затем он изо всех сил поднял его и положил животом на коня.
Отдышавшись, Эсташ натянул подпругу, вскочил в седло и медленно поехал по ухабистой дороге через лес. Страх перед разбойниками странным образом прошел.
Раненый стонал. Изо рта у него непрерывно текла кровь. Эсташ не знал, удастся ли ему привезти раненого в монастырь живым. Но он знал, что поступает правильно. В этом он был совершенно уверен.
Вдруг впереди он услышал стремительно приближавшийся топот копыт. По лесной дороге навстречу ему мчались два всадника, и тут же в одном из них он узнал Эдюса. Другой был господин де Монбар, обеспокоенный отсутствием своего пажа. Но как только де Монбар увидел раненого, облегчение на его лице сменилось ужасом: он ошеломленно смотрел то на нож, то на Эсташа. Это продолжалось очень недолго. Затем господин де Монбар повернул коня назад и помчался рысью в сторону монастыря. Побледневший Эдюс молча ехал вслед за Эсташем.
Зима в 1118 году была холодная ясная. Девять молодых графов со своими оруженосцами молча ехали сквозь ночь. Еще в полдень отправились они в путь из Труа, столицы Шампани, затем миновали Люзиньи, где стражник, стоявший на карауле в башне, затрубив в рог, подал сигнал закрыть ворота.
Серое небо постепенно чернело, снег был мертвенно бледный, и дорога расплывалась перед уставшими от напряжения глазами всадников. Вскоре ничего уже не было видно, и они остановились. Старший оруженосец неуклюже спрыгнул с коня, подышал себе на руки и начал зажигать просмоленную палку. Господа оставались на лошадях, нетерпеливо бивших копытами.
Наконец смола зашипела и стала потрескивать, взметнулись искры. Оруженосец вскарабкался на коня; держа в руке высоко над головой факел, он поскакал вперед. Красноватый свет факела освещал совсем небольшое пространство, выхватывая из темноты лица двух графов, ехавших впереди. То тут, то там в снегу сверкали кристаллы льда.
— Через час мы прибудем, — сказал один из графов, почти не разжимая губ. — Там за лесом уже начинается болото.
— При последней встрече с графом Шампанским на болотном острове вы тоже делали привал в Вандевре, господин де Пайен? — тихо спросил другой. — Меня не было с вами в тот раз.
Господин де Пайен кивнул головой:
— Только было тепло — не то, что сегодня, — и он показал на пар, шедший из конских ноздрей. Затем они опять замолчали.
Оруженосцы скакали позади всех, низко пригнувшись к шеям своих коней, чтобы не потерять след ехавших впереди. Свет факелов до них не доходил. Маленький Эсташ и толстый Эдюс, которым не было еще и двенадцати, ехали самыми последними. Здесь, между Труа и Вандевром, отсутствовала необходимость в арьергарде: это была дружественная земля графа Шампанского. Кони чуть приплясывали, почуяв болото. Они услышали, как оно хлюпает, и навострили уши.
— Стойте! — приказал господин де Пайен, а когда отряд остановился, добавил: — Оруженосец, передай факел господину де Монбару!
Оруженосец передал факел рыцарю, находившемуся рядом с господином де Пайеном.
— Там, справа от нас, — господин де Пайен указал в темноту рукой, державшей повод, — находится город Вандевр. Нам уже приходилось ночью располагаться здесь лагерем. Разведите костер, напоите коней, — сказал он оруженосцам, — на краю болота есть вода, и лед там тонкий. Сейчас я с другими господами вас оставлю. Рано утром мы сюда вернемся.
Рыцари сошли с коней и передали поводья своим оруженосцам. Затем они собрались вокруг господина де Монбара, высоко державшего факел, и под предводительством господина де Пайена вступили в кустарник, окаймлявший болото.
Оруженосцы прислушивались к затихавшему вдали шороху и видели, как исчезает во тьме свет факела. Но никто не промолвил ни слова. Они молча вели коней под уздцы и делали все так, как приказал господин де Пайен.
Костер разгорался с большим трудом, так как сучья, подобранные по дороге, заиндевели. Наконец зашипели подрагивающие языки пламени. Младшие оруженосцы сняли с коней поклажу и седла и положили их на некотором отдалении от костра. Постепенно костер запылал. Оруженосцы стреножили лошадей и повесили вокруг них торбы, расстелили у костра шкуры, опустились на них и, голодные, съели то, что нашлось у них в походных мешках. Эсташ и Эдюс устроились рядом. Присев на корточки, Эсташ толкнул друга в бок.
— Ночью на болоте? — пробормотал он. — Надеюсь, что они не увязнут!
— Они найдут дорогу даже во сне, — тихо ответил Эдюс.
— Что они там делают?
Эдюс пожал плечами:
— Неизвестно. Никто из младших оруженосцев об этом не говорит, ты, наверное, заметил. С уверенностью я могу сказать только одно: рано утром они вернутся со сверкающими глазами. Так было и в последний раз.
Мальчики плотно завернулись в плащи и приготовились, как следует поспать на расстеленных шкурах.
— Возможно, — сказал Эдюс Эсташу на ухо, — возможно, на этом болоте есть место, где твердая почва, и там они делают то, о чем не положено знать другим людям, — он перевернулся с боку на бок и заснул. Эсташ лежал, не засыпая.
Костер, некоторое время горевший ярким пламенем, теперь лишь чуть потрескивал. Вскоре от него остались только красные угли. «Ночью на болоте!»… По равномерно поднимавшимся и опускавшимся плащам Эсташ понял, что все остальные спали. Старший оруженосец храпел, прижавшись к седлу господина де Пайена. Слева за кустами были слышны шаги часового. Кричал сыч. «Ночью на болоте!»… Эсташ вдыхал запахи тлеющего костра, кожи, из которой были изготовлены седла, и гнилой болотной воды. Это был его первый ночной привал с тех пор, как он стал пажом у дружелюбно к нему настроенного господина де Монбара.
Недалеко от городка, где родился Эсташ и в котором жили его родители, также было болото. Но все избегали его, потому что там водились призраки и блуждающие огни, завлекавшие ночных странников в трясину. Разве не было их и в этом болоте? Но почему же тогда господа пошли туда? Разве они не боялись духов? И что у них была за тайна?
Эсташ размышлял еще некоторое время. Затем у него сами собой закрылись глаза. Ему снились докрасна раскаленные угли лагерного костра. Но этот костер был не на лугу рядом с ним, а в беззвездном небе, на которое он смотрел перед тем, как заснуть. Там он увидел великана с широко распростертыми крыльями и прекрасным, величественным, лицом, подобного которому еще не приходилось встречать Эсташу. На голове у великана сверкала золотом корона с ослепительным карбункулом в центре. Но внезапно этот величественный образ был низвергнут с небес и с ужасным, криком рухнул на землю.
Эсташ проснулся. Там, где ему привиделся светящийся образ, упавший на землю, догорали последние головешки лагерного костра. Товарищи спали; часового сменили. Все было так, как и должно было быть. Глядя на едва тлеющий костер, Эсташ снова уснул, и прежние видения вновь наполнили его сон. Он увидел маленького рыжего человека, одетого по-монашески. Своим посохом этот человек ворошил догорающие угли. Что он ищет у нашего лагерного костра? Почему его пропустили часовые? Возмущенный Эсташ хотел его прогнать. Тогда рыжий, улыбнувшись, подмигнул ему. Он сгреб в сторону обуглившиеся ветки, и Эсташ отпрянул, ослепленный — под углями лежал искрящийся карбункул, который был в короне у небесного великана, только расколотый на три части.
Самый маленький осколок можно было вставить в кольцо. Второй был размером с кулак, а третий — больше, чем первые два, вместе взятые. Эсташ вопросительно посмотрел на рыжего, но того уже не было. Мальчик открыл глаза. Лагерный костер стал серым пепелищем. Небо медленно бледнело. Оруженосцы ворочались под своими плащами, зевали. Они услышали шум, приближавшийся со стороны болота, и вскочили — рыцари возвращались в лагерь. Их глаза сверкали.
Эсташ и Эдюс подвели коней. Они помогали нагружать бочки и мешки, которые сняли накануне вечером: продовольствие было необходимо для недавно основанного монастыря, который хотели посетить их господа. Один молодой аббат с несколькими монахами того же возраста построил его в проклятом разбойничьем лесу Клерво. Звали аббата Бернар.
Господин де Пайен нетерпеливо торопил всех остальных. Рыцари сели в седла. Эсташ разбежался и под общий хохот одним прыжком вскочил на коня. Отряд отправился в путь.
Погода переменилась. Как только бледное солнце достигло зенита, на деревьях начал таять узорчатый иней. Эсташ не обращал внимания на признаки наступавшей весны. Сон, приснившийся ему ночью, стоял перед глазами, отчетливый, как картина: Эсташ видел тщедушного рыжего человека, откопавшего своим посохом сияющий камень. Чего хотел от него этот образ из сна, не отпускавший мальчика даже днем? Эсташ содрогнулся.
— Эй! — грубо закричал Эдюс, — ты еще спишь или с тобой что-то случилось?
— Если бы ты знал, — тихо сказал Эсташ, — что за сон я видел… — он некоторое время ехал рядом с Эдюсом молча, а затем добавил: — о карбункуле, — и пересказал весь сон.
Тем временем рыцари подъехали к краю леса. Господин де Пайен приказал им остановиться.
— Перед тем как въехать в лес Клерво, мы должны немного поесть, — сказал он.
Когда они сидели в лучах полуденного солнца и ели, Эдюс сказал Эсташу:
— Тот, кому приснился карбункул, делается причастным к такой тайне, которую он не должен никому доверять.
Он робко посмотрел на своего товарища. Эсташ, отрезавший себе кусок сала, в смятении выронил нож. В тот же миг господин де Пайен приказал снова отправляться в путь, и бойкий господин де Сент-Омер подозвал к себе Эдюса, своего пажа. Тесной группой отряд продвигался по ухабистой, недостроенной дороге через пользующийся дурной славой лес Клерво.
Эсташ не оглянулся на поляну, где они останавливались, и не увидел, как сверкает в снегу его нож, который он уронил в растерянности.
Лес был темный и густой, а дорога узкая. Зловеще вскрикивала сойка, и певчие птицы умолкали перед поступью конских копыт. Эсташ, озираясь, в страхе посмотрел на Эдюса, который опять ехал сзади. Разве там не шуршал подлесок? Разве у этих густых кустов не сто глаз?
Эдюс, увидев боязливый взгляд друга, покачал головой и, снисходительно улыбаясь, махнул рукой. Он и сам испытал подобный страх, когда впервые проезжал через этот лес. Но внезапно Эдюс пришпорил своего коня и закричал:
— Эсташ, у тебя за поясом нет ножа!
Эсташ ощупал привычное место — ножа, такого бесценного, такого необходимого, там не было. Ножа прапрадеда, подаренного ему на прощание старшим братом, который когда-то получил его в наследство в родном городке, Единственное оружие… Эсташ беспомощно посмотрел на Эдюса, а затем решительно повернул своего коня назад.
— Если ты поторопишься, — закричал Эдюс ему вслед, — то сможешь догнать нас еще до того, как мы въедем в монастырские ворота!
Эсташ скакал галопом назад сквозь густой лес. Он изо всех сил старался ехать как можно быстрее.
«Чего я боюсь? — спросил он себя, чтобы успокоиться. — Разве разбойники, обосновавшиеся когда-то в этом лесу, не ушли из него, когда Бернар начал строить монастырь? И разве Эдюс не встретил мой страх снисходительной улыбкой?»
И вот уже стала видна светлая поляна, на которой они утоляли голод. Там должен был лежать нож. Но ножа там не оказалось. Эсташ огляделся вокруг в поисках и на краю поляны заметил под кустом человека в залитой кровью рубашке. Он видел, как тот согнулся на холодной земле. Затем Эсташ заметил рукоятку своего ножа, торчащего из спины этого человека. Он в ужасе соскочил с коня и склонился над раненым.
— Эй! — несколько раз позвал Эсташ, прикоснувшись к его плечу, — ты меня слышишь?
Он протянул руку к ножу. Однако тотчас же убрал ее: нож, торчащий из спины, невозможно выдернуть без того, чтобы раненый не захлебнулся кровью. Это известно всем воинам. Эсташ заплакал, внезапно почувствовав свою беспомощность. У него не хватит сил посадить человека на коня, но и оставить его лежать здесь он не мог.
Раненый не слышал Эсташа.
— Послушай! — попытался мальчик еще раз, — я привезу тебя в монастырь, там тебя выходят!
Человек перестал корчиться от боли. Спустя мгновение он поднял лицо, и Эсташ увидел, что он еще молод.
— У меня есть конь, — обратился юный паж к раненому.
Человек поднял голову, огляделся вокруг, увидел коня и хотел что-то сказать мальчику, но изо рта у него хлынула кровь. Эсташ подвел коня к ближнему пню и привязал его к кусту. Еще мгновение он был в оцепенении от страха: разбойники могли вернуться, напасть и на него и отобрать коня.
Раненый приподнялся. Ножкрепко сидел у него в спине.
— Если ты сможешь встать на колени, — сказал Эсташ, — я буду поддерживать тебя спереди, и ты, возможно, поднимешься.
Человек попробовал сделать это. Все тело его содрогнулось, когда он, наконец, встал на ноги. Тяжело опершись Эсташа, он поплелся в сторону пня, но почти сразу упал. Изо рта у него обильно текла кровь. Эсташ тяжело дышал. «Как мне посадить его на коня?» — думал он в отчаянии. Как только Эсташу удалось перевести дух, ой снова поднял раненого на ноги и помог ему взобраться на пень.
— Крепко держись за седло! — сказал он, развязал подпругу и сунул под нее ногу раненого. Затем он изо всех сил поднял его и положил животом на коня.
Отдышавшись, Эсташ натянул подпругу, вскочил в седло и медленно поехал по ухабистой дороге через лес. Страх перед разбойниками странным образом прошел.
Раненый стонал. Изо рта у него непрерывно текла кровь. Эсташ не знал, удастся ли ему привезти раненого в монастырь живым. Но он знал, что поступает правильно. В этом он был совершенно уверен.
Вдруг впереди он услышал стремительно приближавшийся топот копыт. По лесной дороге навстречу ему мчались два всадника, и тут же в одном из них он узнал Эдюса. Другой был господин де Монбар, обеспокоенный отсутствием своего пажа. Но как только де Монбар увидел раненого, облегчение на его лице сменилось ужасом: он ошеломленно смотрел то на нож, то на Эсташа. Это продолжалось очень недолго. Затем господин де Монбар повернул коня назад и помчался рысью в сторону монастыря. Побледневший Эдюс молча ехал вслед за Эсташем.
















 Холодным январским днем 1128 года странная группа людей, растянувшаяся по долине Сены, двигалась в направлении течения реки. Путешественники редко выбирали дорогу по этой глухой местности, и уж конечно, не зимой. Хорошо еще, что в тот год здесь не выпало снега! Так думали пастухи в горах Лангра, поившие своих овец водой из Сены. Они могли узнать контрабандистов, переправлявших свой жалкий товар из Бургундии в графство Шампань. Но те обычно тащили все, что было предназначено для продажи, в деревянных ящиках на спине.
Пастухи могли также узнать многих господ и рыцарей, проезжавших через горы со своей свитой, отправляясь на войну. Но у них никогда не было повозок, нагруженных скарбом. С повозками путешествовали обычно торговцы или бродячие актеры.
Из любопытства пастухи занялись подсчетом: всего было шесть повозок, и каждую тащил мул, на котором сидел рыцарь. Вытянув шеи, они увидели на каждой телеге по два тюка, прикрытых мешками. «И если все это не ради смеха, то похоже, что на повозках везут тесаные камни», — думали пастухи.
На рыцарях были остроконечные кожаные шапки и нагрудные панцири; у каждого с седла свисал обнаженный меч, а ведь на здешних границах сейчас царило спокойствие. Часть свиты ехала впереди повозок, образуя авангард, другая часть ехала в арьергарде — нет, ни о каких путешественниках здесь не могло быть и речи!
«Гей!» — кричали пастухи, обращаясь друг к другу, они жестикулировали и тихо свистели, продолжая наблюдать за проезжающими, пока те не скрылись из виду.
В арьергарде ехал Арнольд, сын Пьера. Украдкой он вытирал слезы со щек. Страну, где он родился, Арнольд находил ужасно безобразной. Эти черные деревья без листьев, эта гнилая и мокрая трава и туман, проникающий сквозь одежду, — и это в январе, когда в Святой Земле уже цветут деревья и от них распространяется великолепный аромат! А вскоре на них появятся золотые плоды. Огромные караваны воздухе только дурные запахи. И никто здесь не носит тюрбанов. Последние тюрбаны он видел в портовом спускаются к морю, звеня колокольчиками, и воздух пахнет пряностями, которые везут верблюды. Здесь же в городе Марселе, куда пришел королевский флот с прибывшими в Европу тамплиерами. С ними вернулась и семья Пьера. Арнольд был очень опечален, что мать так легко рассталась с маленьким домиком, с таким уютным внутренним двором. Ведь там они все-таки жили вместе с отцом! И Арнольд снова заплакал.
— Не плачь, малыш! — утешал его толстый Эдюс. — Ты еще увидишься с мамой.
Но Арнольд плакал не из-за матери. Ей эта страна нравилась. В первый раз после смерти отца Арнольд увидел радость на ее лице, когда в Лионе они встретились с каменотесами. Радость, конечно, омрачили слезы, но все же это была радость. Она не исчезла даже в тот момент, когда с матерью поздоровался хмурый дядя Арнольда и спросил: «Где мой брат?» Узнав, что Пьера больше нет в живых, он посмотрел на мальчиков испытующим взглядом, словно желая понять, сгодятся ли они когда-нибудь в каменотесы, и сказал:
— Моей хозяйки тоже больше нет в живых, — повернулся и прошел в дом впереди них.
Кухня была темная, но теплая. Обратившись к деверю, мать сказала:
— Арнольд завтра рано утром должен ехать. Тамплиеры хотят взять его к Пайену. Он встретится со своим господином. У тамплиеров работал твой брат.
И так как она поняла, что ему ничего не было известно о тамплиерах, она добавила:
— В Иерусалиме.
Деверь кивнул головой.
— Я хотел бы работать со старшим из твоих сыновей, — сказал он, — потому что он сильнее младшего.
На следующее утро Филипп проводил брата до ворот. Тамплиеры уже ожидали его. Толстый Эдюс подвел к Арнольду его коня, и братья, сжав губы, стали прощаться; они положили ладони на лоб, как это делают мусульмане, и слегка поклонились друг другу.
Когда Арнольд уже сидел в седле, Филипп что-то вынул из кармана и поднес к губам. Это был один из двух маленьких бедуинских рожков, подаренных королем на прощание сыновьям Пьера. «Это для того, чтобы вы не забывали Иерусалим», — сказал им тогда король дружеским тоном.
Филипп затрубил в рог, и Арнольд ответил. И это означало: «Мы никогда не забудем Иерусалим и, когда вырастем, вместе вновь его увидим!»
Господина де Пайена не было в обозе, проезжавшем через горы Лангра. Из Марселя он направился прямо в Труа, столицу Шампани, где 13 января по приглашению аббата из Клерво собрались высокопоставленные духовные и светские лица. В тот же день тамплиеры должны были утвердить устав ордена и право по собственному выбору принимать мужчин в орден Бедных Рыцарей Христовых.
Господин де Пайен спрыгнул с коня и пошел в кафедральный собор. Многочисленные свечи распространяли сладковатый аромат и золотистый свет, которого, однако, не хватало для того, чтобы осветить огромное пространство до самых сводов. Приглушенный шум голосов обволакивал собор.
Жан Мишель, который вел протокол, уже приготовил гусиные перья и разложил их перед собой на кафедре. Он смотрел на собравшихся и видел в первом ряду молодого графа Шампанского, которому дядя передал управление страной, епископа Оксерского, главного аббата цистерцианцев, и рядом с ним — Бернара Клервоского, надвинувшего капюшон на лицо в знак глубокой сосредоточенности. Никто из сидевших рядом не мог нарушить хода его мыслей. Когда же со стороны главного портала стал приближаться звон шпор, он приподнял капюшон и сказал:
— Это господин де Пайен.
Присутствующие встали, не прерывая своих разговоров, и приветственно поклонились вошедшему.
После того как господин де Пайен так же отвесил поклоны во все стороны, он сел рядом с Бернаром Клервоским. Звон колокольчика возвестил о начале заседаний Труаского Собора.
Разговоры тотчас же умолкли. В центр алтарных ступеней встал папский нунций, а слева и справа от него — архиепископы Реймсский и Санский. Нунций поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение. Затем последовали слова, которыми он открыл Собор.
Тем временем странный обоз тамплиеров добрался до крепости Шатийон, где они должны были оставаться до утра. Здесь их ожидали. Было условлено, что на следующий день они продолжат свой путь в сторону монастыря Клерво, ибо граф Шатийонский желал передать им продовольствие для монастыря.
Граф Шатийонский велел оруженосцам разместить повозки в сарае и пригласил тамплиеров на скромную трапезу. Его приказы звучали кратко и нетерпеливо, а приглашения — как приказ. И когда он сказал:
— Сегодня вечером пойдем на охоту, — никто не осмелился противоречить.
Трое тамплиеров остались в сарае стеречь ларцы. Когда же шумное общество в окружении свирепо лающих псов возвратилось вечером с охоты, то этих троих сменили господа де Сент-Омер, де Сент-Аман и де Мондидье.
Арнольд вечером, будучи в дурном настроении, ходил взад-вперед по конюшням. Он предавался ностальгии, ведь замки на Востоке были совсем не такими, как этот, который выглядел чуть лучше конюшни — тесный и грязный; и если посмотреть в зал, то там не было ничего, кроме тьмы. Нигде не стояло курильниц, распространявших ароматы, а под ногами шныряли куры. Слуги кричали друг на друга, не обращая внимания на господ, а дети графа возились в грязи, как щенки.
Как только стемнело, Арнольд заполз к повозкам в сарай. За ними он обнаружил кучу шестов, из которых смастерил себе лежанку. Он был так печален, что не мог даже заснуть. Если бы хоть Филипп был рядом с ним! Арнольд ворочался и смотрел в темноту. Затем услышал голоса рыцарей, стерегущих сокровища, господа сидели у входа на связках соломы. Их беседа успокоила его.
— У нас еще один день пути до болота, — это был низкий голос господина де Сент-Амана.
— Надеюсь, что перед самым концом ничего не случится! — господин де Мондидье вздохнул.
— Тогда бы нам не нужно было девять лет рыться в земле, как кротам, и наш любимый каменотес был бы жив! — прозвучал голос господина де Сент-Омера.
Наш любимый каменотес? Арнольд вздрогнул, напряженно прислушиваясь.
— Вы не смеете так говорить, — сказал господин де Сент-Аман. После этого в течение некоторого времени было тихо. — Каменные ларцы, — наконец продолжил он, — по мне, лучше бы их вообще не открывать.
— Как вы только можете такое говорить! — закричали двое остальных.
— Если там действительно записаны законы, по которым Господь сотворил мир, то вы должны понять мой страх!
— Чего вы боитесь? — спросил господин де Мондидье. — «По мере, числу и весу сотворил Я мир», — говорит Господь. Это ведь не значит, что человек сам без Его помощи может сотворить мир, как только узнает истинную меру, число и вес. Ваш страх я нахожу совершенно необоснованным. Разумеется, царь Соломон знал, для чего ему прятать свою мудрость.
Снова стало тихо, и казалось, что каждый погрузился в свои мысли.
— В то, что человек не может создать мир без помощи Господа, я охотно верю, — задумчиво сказал господин де Сент-Аман, — но разрушить наш мир человек может и без Господа, и этого я боюсь.
Господин де Сент-Омер откашлялся.
— В нашем ордене будет школа, — сказал он, — мудрейшие из наших братьев будут проходить посвящение в законы природы, исследованные царем Соломоном. И это будут люди, умеющие молчать. Могущественнее, чем тайны природы, воскресение из мертвых, дорогие друзья, ибо природа смертна. Итак, мы надеемся, что нашему ордену удастся постичь смертную природу с помощью силы Воскресения Спасителя нашего.
— Да будет так, — сурово ответили друзья.
Когда же Арнольд на следующее утро проснулся, разговоры рыцарей представились ему приснившимися.
Бледное солнце повисло в тумане над деревьями, когда обоз покинул Шатийонский замок и отправился в Клерво. Навстречу обозу выходили крестьяне, желавшие поехать на рынок, чтобы купить сено и зерно, так как последний год принес неурожай. Лица у них были скорбные. Повсюду одно и то же: того, что зарабатывали своим трудом, не хватало. Жены болели, а дети умирали еще в младенчестве. Хорошо жить хотя бы по соседству с монастырем, поскольку иногда там была земля, раскорчеванная под пашню, которую можно взять в аренду, или же давали работу и расплачивались продовольствием, в крайнем случае можно было просить милостыню.
К вечеру обоз въехал в Клервоский монастырь, и сердце у Арнольда горестно сжалось: здесь спасли от смерти его отца. Здесь его исцелили, и он выжил. Но почему же сейчас отца не было в живых? Арнольд подумал, что если бы здешний аббат находился в Иерусалиме, то отец был бы еще жив. Но он не хотел видеть аббата, испытывая страх перед его чудотворной силой.
У них взяли коней и повели на водопой; оруженосцы передали монахам привезенные от графа Шатийонского свертки, корзины и бочонки. Некоторые монахи выстроились длинной вереницей у корыта с водой — там, где ручей, протекавший через монастырь, был перегорожен плотиной. Чего они ждали, Арнольд не знал. Издалека доносились веселые трели пастушеской флейты. Блеяние и лай приближались, и в ворота протиснулись овцы, собаки и пастухи. Монахи стояли у корыта в два ряда. Палками они гнали овец сквозь этот проход в воду. Собаки плескались, отряхивались и обдавали брызгами стоявших вокруг. В первый раз после отъезда из Иерусалима Арнольда хоть что-то развеселило. Он попросил палку, и сам окунул какую-то овцу в воду, как это делали монахи. Потом он наблюдал за стрижкой овец. Внезапно Арнольд спохватился. Где же повозки и кони? Он бросил палку и побежал к воротам.
— Вот ты где! — услышал он позади голос привратника. — Твои господа искали тебя. Теперь они все поехали дальше. Но тебе нечего грустить, — утешал его монах, стерегущий ворота, — потому что они сказали, что ты хорошо умеешь ездить верхом и догонишь их. Вон там твой конь.
Арнольд стоял с испуганными глазами. Он ведь не знал, куда отправились тамплиеры со своими повозками.
Привратник, разгадавший мысли Арнольда, сказал:
— Поезжай прямо через этот лес, тогда ты быстро их догонишь. Тебе не нужно ничего опасаться. Здесь давно уже нет разбойников.
— Ты это точно знаешь? — спросил Арнольд дрожащим голосом. — Я беспокоюсь потому, что здесь в лесу напали на моего отца.
— На твоего отца?
— Да, на Пьера, лионского каменотеса.
Монах-привратник изумился и посмотрел на Арнольда с сомнением.
— Это произошло десять лет назад, — сказал Арнольд. — Аббат из этого монастыря спас ему жизнь.
— Что? — воскликнул монах, — ты сын Пьера? Да, тогда я понимаю, почему господин де Пайен хочет, чтобы ты был при нем до тех пор, пока он не возвратится в Святую Землю, — большими шагами монах подошел к коню, взял его за недоуздок и подвел к Арнольду. — Садись! — сказал он, и сам посадил мальчика в седло. — Ты догонишь их еще до Вандевра. Поезжай с Богом! — с этими словами он открыл ворота.
Когда Арнольд проезжал через лес, ему было страшно. Лес выглядел в точности так, как его описывал отец. Вопреки уверениям привратника Арнольду казалось, что из-за каждого куста за ним следят злые глаза. О, поскорее бы уже миновать этот лес! Он ударил коня хлыстом. Показалась лужайка, и вскоре Арнольд услышал голоса оруженосцев и смех толстого Эдюса. Но дрожь в коленях, начавшаяся еще там, в разбойничьем лесу, не прекращалась на протяжении всего дня; когда Арнольд вечером слез с коня в давно знакомом оруженосцам месте привала — лагере под Вандевром, — он едва держался на ногах.
И на этот раз оруженосцы развели костер и стали подбрасывать поленья в разгорающееся пламя. Они напоили коней водой из болота. Но рыцари снова запрягли лошадей в повозки и оставались рядом с ними. Казалось, они чего-то ожидают.
Издалека послышался стук копыт; он все приближался, с коней спрыгнули двое всадников и подошли к костру. Арнольд узнал господина де Пайена. Другой был рыжий монах небольшого роста. Арнольд поразился тому, что господин де Пайен принял в свое общество такого невзрачного человека в рясе. Однако рыцари подъехали к монаху и поцеловали ему руку, — тонкую белую руку, которой он слегка надвинул капюшон, как будто ему было холодно. Он улыбнулся и поднял голову, Арнольд посмотрел ему в глаза и больше не мог отвести от них взгляда.
— Это аббат из Клерво! — шепнул Эдюс на ухо Арнольду.
Но Арнольд, как только до него дошло, что сказал Эдюс, громко вскрикнул и разразился рыданиями. Как бы издалека он услышал голос господина де Пайена:
— Это сын того Пьера, которого вы исцелили, аббат Бернар.
Затем Арнольд почувствовал прикосновение к волосам узкой белой руки, и всего его словно окутало мягкое, теплое облако.
Долго Арнольд стоял неподвижно, не слыша, что происходило рядом с ним. Когда он открыл глаза и огляделся, рыцари и повозки исчезли. Аббата также не было поблизости. Костер трещал, разгораясь, а оруженосцы сидели вокруг него и ели.
Холодным январским днем 1128 года странная группа людей, растянувшаяся по долине Сены, двигалась в направлении течения реки. Путешественники редко выбирали дорогу по этой глухой местности, и уж конечно, не зимой. Хорошо еще, что в тот год здесь не выпало снега! Так думали пастухи в горах Лангра, поившие своих овец водой из Сены. Они могли узнать контрабандистов, переправлявших свой жалкий товар из Бургундии в графство Шампань. Но те обычно тащили все, что было предназначено для продажи, в деревянных ящиках на спине.
Пастухи могли также узнать многих господ и рыцарей, проезжавших через горы со своей свитой, отправляясь на войну. Но у них никогда не было повозок, нагруженных скарбом. С повозками путешествовали обычно торговцы или бродячие актеры.
Из любопытства пастухи занялись подсчетом: всего было шесть повозок, и каждую тащил мул, на котором сидел рыцарь. Вытянув шеи, они увидели на каждой телеге по два тюка, прикрытых мешками. «И если все это не ради смеха, то похоже, что на повозках везут тесаные камни», — думали пастухи.
На рыцарях были остроконечные кожаные шапки и нагрудные панцири; у каждого с седла свисал обнаженный меч, а ведь на здешних границах сейчас царило спокойствие. Часть свиты ехала впереди повозок, образуя авангард, другая часть ехала в арьергарде — нет, ни о каких путешественниках здесь не могло быть и речи!
«Гей!» — кричали пастухи, обращаясь друг к другу, они жестикулировали и тихо свистели, продолжая наблюдать за проезжающими, пока те не скрылись из виду.
В арьергарде ехал Арнольд, сын Пьера. Украдкой он вытирал слезы со щек. Страну, где он родился, Арнольд находил ужасно безобразной. Эти черные деревья без листьев, эта гнилая и мокрая трава и туман, проникающий сквозь одежду, — и это в январе, когда в Святой Земле уже цветут деревья и от них распространяется великолепный аромат! А вскоре на них появятся золотые плоды. Огромные караваны воздухе только дурные запахи. И никто здесь не носит тюрбанов. Последние тюрбаны он видел в портовом спускаются к морю, звеня колокольчиками, и воздух пахнет пряностями, которые везут верблюды. Здесь же в городе Марселе, куда пришел королевский флот с прибывшими в Европу тамплиерами. С ними вернулась и семья Пьера. Арнольд был очень опечален, что мать так легко рассталась с маленьким домиком, с таким уютным внутренним двором. Ведь там они все-таки жили вместе с отцом! И Арнольд снова заплакал.
— Не плачь, малыш! — утешал его толстый Эдюс. — Ты еще увидишься с мамой.
Но Арнольд плакал не из-за матери. Ей эта страна нравилась. В первый раз после смерти отца Арнольд увидел радость на ее лице, когда в Лионе они встретились с каменотесами. Радость, конечно, омрачили слезы, но все же это была радость. Она не исчезла даже в тот момент, когда с матерью поздоровался хмурый дядя Арнольда и спросил: «Где мой брат?» Узнав, что Пьера больше нет в живых, он посмотрел на мальчиков испытующим взглядом, словно желая понять, сгодятся ли они когда-нибудь в каменотесы, и сказал:
— Моей хозяйки тоже больше нет в живых, — повернулся и прошел в дом впереди них.
Кухня была темная, но теплая. Обратившись к деверю, мать сказала:
— Арнольд завтра рано утром должен ехать. Тамплиеры хотят взять его к Пайену. Он встретится со своим господином. У тамплиеров работал твой брат.
И так как она поняла, что ему ничего не было известно о тамплиерах, она добавила:
— В Иерусалиме.
Деверь кивнул головой.
— Я хотел бы работать со старшим из твоих сыновей, — сказал он, — потому что он сильнее младшего.
На следующее утро Филипп проводил брата до ворот. Тамплиеры уже ожидали его. Толстый Эдюс подвел к Арнольду его коня, и братья, сжав губы, стали прощаться; они положили ладони на лоб, как это делают мусульмане, и слегка поклонились друг другу.
Когда Арнольд уже сидел в седле, Филипп что-то вынул из кармана и поднес к губам. Это был один из двух маленьких бедуинских рожков, подаренных королем на прощание сыновьям Пьера. «Это для того, чтобы вы не забывали Иерусалим», — сказал им тогда король дружеским тоном.
Филипп затрубил в рог, и Арнольд ответил. И это означало: «Мы никогда не забудем Иерусалим и, когда вырастем, вместе вновь его увидим!»
Господина де Пайена не было в обозе, проезжавшем через горы Лангра. Из Марселя он направился прямо в Труа, столицу Шампани, где 13 января по приглашению аббата из Клерво собрались высокопоставленные духовные и светские лица. В тот же день тамплиеры должны были утвердить устав ордена и право по собственному выбору принимать мужчин в орден Бедных Рыцарей Христовых.
Господин де Пайен спрыгнул с коня и пошел в кафедральный собор. Многочисленные свечи распространяли сладковатый аромат и золотистый свет, которого, однако, не хватало для того, чтобы осветить огромное пространство до самых сводов. Приглушенный шум голосов обволакивал собор.
Жан Мишель, который вел протокол, уже приготовил гусиные перья и разложил их перед собой на кафедре. Он смотрел на собравшихся и видел в первом ряду молодого графа Шампанского, которому дядя передал управление страной, епископа Оксерского, главного аббата цистерцианцев, и рядом с ним — Бернара Клервоского, надвинувшего капюшон на лицо в знак глубокой сосредоточенности. Никто из сидевших рядом не мог нарушить хода его мыслей. Когда же со стороны главного портала стал приближаться звон шпор, он приподнял капюшон и сказал:
— Это господин де Пайен.
Присутствующие встали, не прерывая своих разговоров, и приветственно поклонились вошедшему.
После того как господин де Пайен так же отвесил поклоны во все стороны, он сел рядом с Бернаром Клервоским. Звон колокольчика возвестил о начале заседаний Труаского Собора.
Разговоры тотчас же умолкли. В центр алтарных ступеней встал папский нунций, а слева и справа от него — архиепископы Реймсский и Санский. Нунций поднял руку, чтобы сотворить крестное знамение. Затем последовали слова, которыми он открыл Собор.
Тем временем странный обоз тамплиеров добрался до крепости Шатийон, где они должны были оставаться до утра. Здесь их ожидали. Было условлено, что на следующий день они продолжат свой путь в сторону монастыря Клерво, ибо граф Шатийонский желал передать им продовольствие для монастыря.
Граф Шатийонский велел оруженосцам разместить повозки в сарае и пригласил тамплиеров на скромную трапезу. Его приказы звучали кратко и нетерпеливо, а приглашения — как приказ. И когда он сказал:
— Сегодня вечером пойдем на охоту, — никто не осмелился противоречить.
Трое тамплиеров остались в сарае стеречь ларцы. Когда же шумное общество в окружении свирепо лающих псов возвратилось вечером с охоты, то этих троих сменили господа де Сент-Омер, де Сент-Аман и де Мондидье.
Арнольд вечером, будучи в дурном настроении, ходил взад-вперед по конюшням. Он предавался ностальгии, ведь замки на Востоке были совсем не такими, как этот, который выглядел чуть лучше конюшни — тесный и грязный; и если посмотреть в зал, то там не было ничего, кроме тьмы. Нигде не стояло курильниц, распространявших ароматы, а под ногами шныряли куры. Слуги кричали друг на друга, не обращая внимания на господ, а дети графа возились в грязи, как щенки.
Как только стемнело, Арнольд заполз к повозкам в сарай. За ними он обнаружил кучу шестов, из которых смастерил себе лежанку. Он был так печален, что не мог даже заснуть. Если бы хоть Филипп был рядом с ним! Арнольд ворочался и смотрел в темноту. Затем услышал голоса рыцарей, стерегущих сокровища, господа сидели у входа на связках соломы. Их беседа успокоила его.
— У нас еще один день пути до болота, — это был низкий голос господина де Сент-Амана.
— Надеюсь, что перед самым концом ничего не случится! — господин де Мондидье вздохнул.
— Тогда бы нам не нужно было девять лет рыться в земле, как кротам, и наш любимый каменотес был бы жив! — прозвучал голос господина де Сент-Омера.
Наш любимый каменотес? Арнольд вздрогнул, напряженно прислушиваясь.
— Вы не смеете так говорить, — сказал господин де Сент-Аман. После этого в течение некоторого времени было тихо. — Каменные ларцы, — наконец продолжил он, — по мне, лучше бы их вообще не открывать.
— Как вы только можете такое говорить! — закричали двое остальных.
— Если там действительно записаны законы, по которым Господь сотворил мир, то вы должны понять мой страх!
— Чего вы боитесь? — спросил господин де Мондидье. — «По мере, числу и весу сотворил Я мир», — говорит Господь. Это ведь не значит, что человек сам без Его помощи может сотворить мир, как только узнает истинную меру, число и вес. Ваш страх я нахожу совершенно необоснованным. Разумеется, царь Соломон знал, для чего ему прятать свою мудрость.
Снова стало тихо, и казалось, что каждый погрузился в свои мысли.
— В то, что человек не может создать мир без помощи Господа, я охотно верю, — задумчиво сказал господин де Сент-Аман, — но разрушить наш мир человек может и без Господа, и этого я боюсь.
Господин де Сент-Омер откашлялся.
— В нашем ордене будет школа, — сказал он, — мудрейшие из наших братьев будут проходить посвящение в законы природы, исследованные царем Соломоном. И это будут люди, умеющие молчать. Могущественнее, чем тайны природы, воскресение из мертвых, дорогие друзья, ибо природа смертна. Итак, мы надеемся, что нашему ордену удастся постичь смертную природу с помощью силы Воскресения Спасителя нашего.
— Да будет так, — сурово ответили друзья.
Когда же Арнольд на следующее утро проснулся, разговоры рыцарей представились ему приснившимися.
Бледное солнце повисло в тумане над деревьями, когда обоз покинул Шатийонский замок и отправился в Клерво. Навстречу обозу выходили крестьяне, желавшие поехать на рынок, чтобы купить сено и зерно, так как последний год принес неурожай. Лица у них были скорбные. Повсюду одно и то же: того, что зарабатывали своим трудом, не хватало. Жены болели, а дети умирали еще в младенчестве. Хорошо жить хотя бы по соседству с монастырем, поскольку иногда там была земля, раскорчеванная под пашню, которую можно взять в аренду, или же давали работу и расплачивались продовольствием, в крайнем случае можно было просить милостыню.
К вечеру обоз въехал в Клервоский монастырь, и сердце у Арнольда горестно сжалось: здесь спасли от смерти его отца. Здесь его исцелили, и он выжил. Но почему же сейчас отца не было в живых? Арнольд подумал, что если бы здешний аббат находился в Иерусалиме, то отец был бы еще жив. Но он не хотел видеть аббата, испытывая страх перед его чудотворной силой.
У них взяли коней и повели на водопой; оруженосцы передали монахам привезенные от графа Шатийонского свертки, корзины и бочонки. Некоторые монахи выстроились длинной вереницей у корыта с водой — там, где ручей, протекавший через монастырь, был перегорожен плотиной. Чего они ждали, Арнольд не знал. Издалека доносились веселые трели пастушеской флейты. Блеяние и лай приближались, и в ворота протиснулись овцы, собаки и пастухи. Монахи стояли у корыта в два ряда. Палками они гнали овец сквозь этот проход в воду. Собаки плескались, отряхивались и обдавали брызгами стоявших вокруг. В первый раз после отъезда из Иерусалима Арнольда хоть что-то развеселило. Он попросил палку, и сам окунул какую-то овцу в воду, как это делали монахи. Потом он наблюдал за стрижкой овец. Внезапно Арнольд спохватился. Где же повозки и кони? Он бросил палку и побежал к воротам.
— Вот ты где! — услышал он позади голос привратника. — Твои господа искали тебя. Теперь они все поехали дальше. Но тебе нечего грустить, — утешал его монах, стерегущий ворота, — потому что они сказали, что ты хорошо умеешь ездить верхом и догонишь их. Вон там твой конь.
Арнольд стоял с испуганными глазами. Он ведь не знал, куда отправились тамплиеры со своими повозками.
Привратник, разгадавший мысли Арнольда, сказал:
— Поезжай прямо через этот лес, тогда ты быстро их догонишь. Тебе не нужно ничего опасаться. Здесь давно уже нет разбойников.
— Ты это точно знаешь? — спросил Арнольд дрожащим голосом. — Я беспокоюсь потому, что здесь в лесу напали на моего отца.
— На твоего отца?
— Да, на Пьера, лионского каменотеса.
Монах-привратник изумился и посмотрел на Арнольда с сомнением.
— Это произошло десять лет назад, — сказал Арнольд. — Аббат из этого монастыря спас ему жизнь.
— Что? — воскликнул монах, — ты сын Пьера? Да, тогда я понимаю, почему господин де Пайен хочет, чтобы ты был при нем до тех пор, пока он не возвратится в Святую Землю, — большими шагами монах подошел к коню, взял его за недоуздок и подвел к Арнольду. — Садись! — сказал он, и сам посадил мальчика в седло. — Ты догонишь их еще до Вандевра. Поезжай с Богом! — с этими словами он открыл ворота.
Когда Арнольд проезжал через лес, ему было страшно. Лес выглядел в точности так, как его описывал отец. Вопреки уверениям привратника Арнольду казалось, что из-за каждого куста за ним следят злые глаза. О, поскорее бы уже миновать этот лес! Он ударил коня хлыстом. Показалась лужайка, и вскоре Арнольд услышал голоса оруженосцев и смех толстого Эдюса. Но дрожь в коленях, начавшаяся еще там, в разбойничьем лесу, не прекращалась на протяжении всего дня; когда Арнольд вечером слез с коня в давно знакомом оруженосцам месте привала — лагере под Вандевром, — он едва держался на ногах.
И на этот раз оруженосцы развели костер и стали подбрасывать поленья в разгорающееся пламя. Они напоили коней водой из болота. Но рыцари снова запрягли лошадей в повозки и оставались рядом с ними. Казалось, они чего-то ожидают.
Издалека послышался стук копыт; он все приближался, с коней спрыгнули двое всадников и подошли к костру. Арнольд узнал господина де Пайена. Другой был рыжий монах небольшого роста. Арнольд поразился тому, что господин де Пайен принял в свое общество такого невзрачного человека в рясе. Однако рыцари подъехали к монаху и поцеловали ему руку, — тонкую белую руку, которой он слегка надвинул капюшон, как будто ему было холодно. Он улыбнулся и поднял голову, Арнольд посмотрел ему в глаза и больше не мог отвести от них взгляда.
— Это аббат из Клерво! — шепнул Эдюс на ухо Арнольду.
Но Арнольд, как только до него дошло, что сказал Эдюс, громко вскрикнул и разразился рыданиями. Как бы издалека он услышал голос господина де Пайена:
— Это сын того Пьера, которого вы исцелили, аббат Бернар.
Затем Арнольд почувствовал прикосновение к волосам узкой белой руки, и всего его словно окутало мягкое, теплое облако.
Долго Арнольд стоял неподвижно, не слыша, что происходило рядом с ним. Когда он открыл глаза и огляделся, рыцари и повозки исчезли. Аббата также не было поблизости. Костер трещал, разгораясь, а оруженосцы сидели вокруг него и ели.













 Замок Железных Часовых был воздвигнут графом Шампанским более пятидесяти лет назад. С большой предусмотрительностью граф выбрал это место, где с тех пор находилась тайная сокровищница тамплиеров; болото с его естественными и искусственными водоемами защищало замок так же надежно, как и непроходимый буковый кустарник, препятствовавший проникновению в замок в обход трясины. Ни один нежелательный гость не мог без ухищрений попасть на остров: механизм затопления срабатывал, и людей и коней засасывало хлюпающее, пузырящееся болото.
Со скрежетом опустился подъемный мост, и группа всадников выехала из замка. Они стремительно достигли оконечности острова и поехали по дамбе, с которой только что убрали воду. Плащи всадников развевались на ледяном утреннем ветру. Ещё перед тем как их кони совершили последний прыжок на сушу, вода снова стала прибывать, и дорога погрузилась под ее солоноватое зеркало.
Это были тамплиеры, впереди ехал Арнольд, сын Пьера — каменотеса из Лиона. Двадцать пять лет назад он вступил в этот рыцарский орден и вскоре получил титул «прюдома» — специалиста, ответственного за сооружение крепостей. В ордене о нем сложилось хорошее мнение.
Всадники ехали молча. Но каждый не раз огляделся вокруг, ибо эту болотистую местность они покидали навсегда.
Когда Арнольд возвратился с Востока, у него не было более страстного желания, чем докопаться до сути тамплиерской тайны, с которой столь тесно оказалась связанной судьба его отца. Поскольку Арнольд полагал, что постичь ее можно, лишь созрев для этого, он все время занимался самосовершенствованием. Но чем мудрее становился Арнольд, тем меньше он стремился к тайне и в конце концов понял, что никогда не сможет постичь её. Его способности ограничивались исключительно искусством каменотеса и архитектора, как это было и у всех его предков.
Но именно в тот момент, когда Арнольд достиг такой ступени самопознания, лионский магистр тамплиеров послал его в Замок Железных Часовых.
С тех пор Арнольд вместе с группой мастеров укрепил стены замаскированного замка и защитил фундамент всех дамб от болотной воды, которая в нескольких местах подмывала его. Еще никогда в жизни он так не приближался к сокровищнице тамплиеров, как сейчас! Но сердце его было спокойно и лишено желаний, и он без всякой горечи смотрел на мудрецов, избранных для того, чтобы воспользоваться великой тайной на благо мира.
То и дело некоторые из них выезжали из замка, отсутствовали несколько ночей и снова внезапно возвращались. Так и Арнольд однажды покинул замок и, как и они, вернулся. Незадолго до этого, однако, мудрецы собрались в большом зале, где стоял скромный круглый стол, за которым редко что-нибудь устраивали.
— Прюдом, — начали они, — вы знаете, что нашей задачей является так очистить мир, чтобы Христос в день Второго Пришествия мог принять его в Новый Иерусалим. К миру относится природа, которая окружает нас. Ему принадлежат и наши сердца, все наши помыслы, и одно зависит от другого. До сих пор вы, строители, возводили церкви, напоминающие могилы, до того они были темны нетяжелы. Столь же темными и тяжелыми были и мысли людей. Теперь мы хотим устранить тяжесть камня; вы должны строить церкви высокими и светлыми, чтобы мысли людей стали тоже высокими и светлыми — мысли о Воскресении! Поэтому мы хотим, чтобы вы основали архитектурную школу, в которой обучали бы новому способу возводить постройки. Вы должны разъяснять архитекторам смысл и цель сооружения высоких церквей и наставлять их в этой работе.
— Внешние стены следует ставить на такие опоры, чтобы на них не давил высокий свод. Поэтому части свода следует укреплять балками крест-накрест, — сказал Арнольд.
— Тайна высокого свода, прюдом, — камень, находящийся на его вершине. Вы можете также называть его замковым камнем, так как он замыкает вершину свода. Он поддерживает постройку сверху, подобно тому, как Господь держит мир.
С тех пор Арнольд обучал строителей, и они его понимали. Когда однажды он уезжал со своими сервиентами к югу, то спросил себя, нельзя ли ему теперь передать строителям часть той великой тайны, узнать которую он когда-то жаждал. Конечно, мудрецы, время от времени выезжавшие из Замка Железных Часовых, интересовались и другими областями жизни. Высокое чувство охватило Арнольда, как только ему стало ясно, что он уже находится в рядах тех, кто на болотистом острове служит человечеству и земле.
Эти мысли занимали Арнольда в течение всего пути на юг до тех пор, пока он не заметил, что отряд въехал в тот самый лес, где когда-то на Пьера напали разбойники. Одиннадцатилетним мальчиком Арнольд впервые увидел аббата, того самого чудотворца, который спас от смерти его отца. Но отца уже не было в живых; останки его похоронены на Востоке.
Мысли о прошлом постепенно поблекли; и по мере того, как Арнольд приближался к своему родному городу Лиону, в котором он не только родился, но и стал тамплиером, он все настойчивее спрашивал себя — какое у него будущее, что предложит ему орден в дальнейшем?
Замок Железных Часовых был воздвигнут графом Шампанским более пятидесяти лет назад. С большой предусмотрительностью граф выбрал это место, где с тех пор находилась тайная сокровищница тамплиеров; болото с его естественными и искусственными водоемами защищало замок так же надежно, как и непроходимый буковый кустарник, препятствовавший проникновению в замок в обход трясины. Ни один нежелательный гость не мог без ухищрений попасть на остров: механизм затопления срабатывал, и людей и коней засасывало хлюпающее, пузырящееся болото.
Со скрежетом опустился подъемный мост, и группа всадников выехала из замка. Они стремительно достигли оконечности острова и поехали по дамбе, с которой только что убрали воду. Плащи всадников развевались на ледяном утреннем ветру. Ещё перед тем как их кони совершили последний прыжок на сушу, вода снова стала прибывать, и дорога погрузилась под ее солоноватое зеркало.
Это были тамплиеры, впереди ехал Арнольд, сын Пьера — каменотеса из Лиона. Двадцать пять лет назад он вступил в этот рыцарский орден и вскоре получил титул «прюдома» — специалиста, ответственного за сооружение крепостей. В ордене о нем сложилось хорошее мнение.
Всадники ехали молча. Но каждый не раз огляделся вокруг, ибо эту болотистую местность они покидали навсегда.
Когда Арнольд возвратился с Востока, у него не было более страстного желания, чем докопаться до сути тамплиерской тайны, с которой столь тесно оказалась связанной судьба его отца. Поскольку Арнольд полагал, что постичь ее можно, лишь созрев для этого, он все время занимался самосовершенствованием. Но чем мудрее становился Арнольд, тем меньше он стремился к тайне и в конце концов понял, что никогда не сможет постичь её. Его способности ограничивались исключительно искусством каменотеса и архитектора, как это было и у всех его предков.
Но именно в тот момент, когда Арнольд достиг такой ступени самопознания, лионский магистр тамплиеров послал его в Замок Железных Часовых.
С тех пор Арнольд вместе с группой мастеров укрепил стены замаскированного замка и защитил фундамент всех дамб от болотной воды, которая в нескольких местах подмывала его. Еще никогда в жизни он так не приближался к сокровищнице тамплиеров, как сейчас! Но сердце его было спокойно и лишено желаний, и он без всякой горечи смотрел на мудрецов, избранных для того, чтобы воспользоваться великой тайной на благо мира.
То и дело некоторые из них выезжали из замка, отсутствовали несколько ночей и снова внезапно возвращались. Так и Арнольд однажды покинул замок и, как и они, вернулся. Незадолго до этого, однако, мудрецы собрались в большом зале, где стоял скромный круглый стол, за которым редко что-нибудь устраивали.
— Прюдом, — начали они, — вы знаете, что нашей задачей является так очистить мир, чтобы Христос в день Второго Пришествия мог принять его в Новый Иерусалим. К миру относится природа, которая окружает нас. Ему принадлежат и наши сердца, все наши помыслы, и одно зависит от другого. До сих пор вы, строители, возводили церкви, напоминающие могилы, до того они были темны нетяжелы. Столь же темными и тяжелыми были и мысли людей. Теперь мы хотим устранить тяжесть камня; вы должны строить церкви высокими и светлыми, чтобы мысли людей стали тоже высокими и светлыми — мысли о Воскресении! Поэтому мы хотим, чтобы вы основали архитектурную школу, в которой обучали бы новому способу возводить постройки. Вы должны разъяснять архитекторам смысл и цель сооружения высоких церквей и наставлять их в этой работе.
— Внешние стены следует ставить на такие опоры, чтобы на них не давил высокий свод. Поэтому части свода следует укреплять балками крест-накрест, — сказал Арнольд.
— Тайна высокого свода, прюдом, — камень, находящийся на его вершине. Вы можете также называть его замковым камнем, так как он замыкает вершину свода. Он поддерживает постройку сверху, подобно тому, как Господь держит мир.
С тех пор Арнольд обучал строителей, и они его понимали. Когда однажды он уезжал со своими сервиентами к югу, то спросил себя, нельзя ли ему теперь передать строителям часть той великой тайны, узнать которую он когда-то жаждал. Конечно, мудрецы, время от времени выезжавшие из Замка Железных Часовых, интересовались и другими областями жизни. Высокое чувство охватило Арнольда, как только ему стало ясно, что он уже находится в рядах тех, кто на болотистом острове служит человечеству и земле.
Эти мысли занимали Арнольда в течение всего пути на юг до тех пор, пока он не заметил, что отряд въехал в тот самый лес, где когда-то на Пьера напали разбойники. Одиннадцатилетним мальчиком Арнольд впервые увидел аббата, того самого чудотворца, который спас от смерти его отца. Но отца уже не было в живых; останки его похоронены на Востоке.
Мысли о прошлом постепенно поблекли; и по мере того, как Арнольд приближался к своему родному городу Лиону, в котором он не только родился, но и стал тамплиером, он все настойчивее спрашивал себя — какое у него будущее, что предложит ему орден в дальнейшем?






























 После того как у Деодата снова начало болеть плечо, он вынужден был распрощаться с работой каменотеса, которую так любил. От нестерпимой боли невозможно было даже пошевелить рукой. Теперь он работал писарем у лионского главного счетовода: собирал, приводил в порядок и снабжал номерами отчеты из восточных домов тамплиеров, прежде чем они попадали в парижский главный дом. Все данные по строительству Крепостей и комплектованию гарнизонов, сбору пожертвований, которые получал орден на Востоке, заносились Деодатом в списки, а затраченные суммы подсчитывались.
Так он сидел каждый день за большим столом напротив главного счетовода, и оба чуть слышно бормотали какие-то числа.
Однажды Деодат раскрыл очередное письмо с Востока, и руки его задрожали, голос перестал слушаться. Слезы лились у него из глаз и текли по седой бороде, когда он читал:
После того как у Деодата снова начало болеть плечо, он вынужден был распрощаться с работой каменотеса, которую так любил. От нестерпимой боли невозможно было даже пошевелить рукой. Теперь он работал писарем у лионского главного счетовода: собирал, приводил в порядок и снабжал номерами отчеты из восточных домов тамплиеров, прежде чем они попадали в парижский главный дом. Все данные по строительству Крепостей и комплектованию гарнизонов, сбору пожертвований, которые получал орден на Востоке, заносились Деодатом в списки, а затраченные суммы подсчитывались.
Так он сидел каждый день за большим столом напротив главного счетовода, и оба чуть слышно бормотали какие-то числа.
Однажды Деодат раскрыл очередное письмо с Востока, и руки его задрожали, голос перестал слушаться. Слезы лились у него из глаз и текли по седой бороде, когда он читал:













 – Поди-ка сюда, иудейский пес, – сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. – Садись, сын Моисея.
– Обращенный, обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор, – ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия. – Обращенный, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а все же лучше, чтобы все было ясно, как божий свет.
– Провались ты хоть на тот свет! Брось свои увертки и отвечай. Ты обманул меня?
– Да накажет меня бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал!
– Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец Железная Рука вовсе не возлюбленный Хулии?
– Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет, а между двумя такими утверждениями немалая разница.
– Ах ты собака, да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!
– Да убережет меня бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете.
– Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?
– Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство.
– Ну и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга.
– Возможно, – уклончиво заметил старик.
– Возможно? Говорю тебе, я в этом уверен, жалкий пес! – крикнул с раздражением живодер и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
– Потише, – с величайшим хладнокровием ответил Исаак, – потише, вы сломаете стол, а он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдется.
Живодер презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол.
– Что же нам предпринять? – продолжал он. – Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною, все из-за этого охотника! Проклятые охотники, и они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры! Все смазливые девушки в деревне только для них, не говоря уж о тех, что они привозят себе из Санто-Доминго, из Асо и откуда попало. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда остров Эспаньола станет сущим раем!
– Гм! – усмехнулся Исаак.
– Что же все-таки делать? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах.
– Вам надо похитить Хулию.
– Вот так совет! Чтобы охотник, узнав об этом, проткнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку? Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое.
– Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, взвалить его на плечо и потом еще и съесть, словно Милон Кротонский.
– Не важно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?
– Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?
– Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер.
– Где?
– За селением, в роще Пальмас-Эрманас.
– Отлично. Тогда слушайте: наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия – из своего дома. Не правда ли?
– Возможно.
– А распрощавшись – ведь волей-неволей им придется расстаться, – он отправится в свою хижину, а она к себе домой?
– Должно быть, так.
– И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна.
– Так оно и будет.
– Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, – бьюсь об заклад, она вас не узнает, – и тащите в лес, а потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены или вы предпочитаете оставить ее охотнику.
– Понятно, – со смехом ответил живодер. – А вдруг она меня узнает?
– А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается…
– Но как же мне переодеться?
– Обрядитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску да закутайтесь в плащ.
– Превосходно! Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее.
– Чего уж хитрее!
– Ну, прощай, пойду все подготовлю. Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг, я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила… Не забудь только.
Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания.
А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил:
– Кто это был здесь?
– Сеньор, – ответил Исаак, – его зовут Хуан, по кличке Медведь-толстосум.
– Моряк?
– Нет, сеньор, он – живодер.
– А! – протянул незнакомец с глубоким презрением. – Я почему-то решил, что он моряк. А о ком он говорил?
– О Хулии, одной из местных девушек.
– О какой же это Хулии?
– О Хулии Лафонт.
– Дочери Густава Лафонта?
– Да, сеньор.
– Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?
– Того самого.
– Негодяй! Пусть только попробует, гнусный мясник, тронуть хоть волос с головы этой девушки, – пробормотал, словно про себя, незнакомец. – Значит, свидание состоится сегодня вечером? – продолжал он.
– Да, сеньор.
– В Пальмас-Эрманас?
– Да, сеньор, на юге от…
– Я не нуждаюсь в объяснениях. Возьми!
– Что вы мне даете?
– Испанскую унцию.
– Но за что, сеньор?
– За твое сообщение. Прощай.
Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны.
– Бог Израиля! – воскликнул старик. – Бог Авраама! Не иначе это герцог! Какое, не герцог, а принц! Больше того – король! Золотая унция за такую малость!
И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото.
Когда Педро-живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Не мешкая, он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника.
Медведь-толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди.
Из окон дома лился свет. Притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому, Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью.
– Она еще здесь, – злорадно прошипел Педро. – Ну что ж, увидимся ночью.
И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови.
– Поди-ка сюда, иудейский пес, – сказал живодер, схватив его за руку и силком усаживая рядом с собой. – Садись, сын Моисея.
– Обращенный, обращенный, если изволите помнить, милостивый сеньор, – ответил старик, низко кланяясь и не выказывая никакого неудовольствия. – Обращенный, ибо хотя здесь и нет инквизиции, а все же лучше, чтобы все было ясно, как божий свет.
– Провались ты хоть на тот свет! Брось свои увертки и отвечай. Ты обманул меня?
– Да накажет меня бог отцов моих, если я когда-нибудь вас обманывал!
– Не говорил ли ты мне, что этот проклятый мексиканец Железная Рука вовсе не возлюбленный Хулии?
– Я говорил, что ничего об этом не знаю, но никогда не уверял, что этого нет, а между двумя такими утверждениями немалая разница.
– Ах ты собака, да я сдеру с тебя шкуру, как с теленка!
– Да убережет меня бог Давида от такой напасти! Впрочем, вы все равно ничего мне не сделаете.
– Ничего не сделаю? А почему это ты так уверен?
– Слишком уж я вам нужен и слишком много вам помогаю, чтобы вы решились на подобное безрассудство.
– Ну и хитрец же ты. Однако нам есть о чем подумать. Я твердо знаю, что Хулия и охотник любят друг друга.
– Возможно, – уклончиво заметил старик.
– Возможно? Говорю тебе, я в этом уверен, жалкий пес! – крикнул с раздражением живодер и изо всех сил стукнул кулаком по столу.
– Потише, – с величайшим хладнокровием ответил Исаак, – потише, вы сломаете стол, а он сделан из отличного дерева, и вам это дорого обойдется.
Живодер презрительно взглянул на него и слегка оттолкнул от себя стол.
– Что же нам предпринять? – продолжал он. – Эта любовь путает мне все карты. Хулия не захочет стать моей женой. Теперь я понимаю, почему она всегда пренебрегала мною, все из-за этого охотника! Проклятые охотники, и они еще смеют презирать нас и обзывать мясниками, а сами-то просто воры! Все смазливые девушки в деревне только для них, не говоря уж о тех, что они привозят себе из Санто-Доминго, из Асо и откуда попало. Хоть бы их всех чума унесла, вот когда остров Эспаньола станет сущим раем!
– Гм! – усмехнулся Исаак.
– Что же все-таки делать? Посоветуй. Я плачу тебе достаточно, чтобы ты помогал мне в моих делах.
– Вам надо похитить Хулию.
– Вот так совет! Чтобы охотник, узнав об этом, проткнул меня копьем или всадил мне пулю в лоб, как дикому быку? Нет, я не так глуп. Придумай что-нибудь другое.
– Да ведь у вас хватит сил убить быка одним ударом, взвалить его на плечо и потом еще и съесть, словно Милон Кротонский.
– Не важно, я не хочу ссориться с охотниками. Итак, что ты можешь придумать еще?
– Почему вы думаете, что Хулия и Железная Рука любят друг друга?
– Да я сегодня собственными ушами слышал, как они назначали друг другу свидание на вечер.
– Где?
– За селением, в роще Пальмас-Эрманас.
– Отлично. Тогда слушайте: наверняка охотник придет в рощу из лесу, где он ночует со своими друзьями-англичанами, а Хулия – из своего дома. Не правда ли?
– Возможно.
– А распрощавшись – ведь волей-неволей им придется расстаться, – он отправится в свою хижину, а она к себе домой?
– Должно быть, так.
– И Хулия придет в рощу и уйдет оттуда одна.
– Так оно и будет.
– Тогда спрячьтесь, подкараульте ее при возвращении, убедитесь в том, что она одна, а когда она пройдет мимо вас, хватайте ее, – бьюсь об заклад, она вас не узнает, – и тащите в лес, а потом придете ко мне и сами скажете, так ли уж хочется вам взять Хулию в жены или вы предпочитаете оставить ее охотнику.
– Понятно, – со смехом ответил живодер. – А вдруг она меня узнает?
– А вы переоденьтесь. Ночью, да еще переодетого, ни за что не узнает. К тому же перепугается…
– Но как же мне переодеться?
– Обрядитесь в костюм охотника, наденьте кожаную маску да закутайтесь в плащ.
– Превосходно! Если все сойдет удачно, то либо я и думать забуду о своей прихоти, либо девчонка перестанет ломаться и выйдет за меня замуж. А уж если дело сорвется, придумаем что-нибудь похитрее.
– Чего уж хитрее!
– Ну, прощай, пойду все подготовлю. Ах да, пришли ко мне кого-нибудь из слуг, я передам с ним телячью кожу для твоего маленького Даниила… Не забудь только.
Педро был так увлечен своей затеей, что, столкнувшись в дверях таверны с высоким человеком в черном плаще и черной шляпе, украшенной пером гуакамайи, почти не обратил на него внимания.
А новый пришелец направился прямо к хозяину и тоном человека, привыкшего повелевать, спросил:
– Кто это был здесь?
– Сеньор, – ответил Исаак, – его зовут Хуан, по кличке Медведь-толстосум.
– Моряк?
– Нет, сеньор, он – живодер.
– А! – протянул незнакомец с глубоким презрением. – Я почему-то решил, что он моряк. А о ком он говорил?
– О Хулии, одной из местных девушек.
– О какой же это Хулии?
– О Хулии Лафонт.
– Дочери Густава Лафонта?
– Да, сеньор.
– Отважного моряка, который умер в этих краях от чумы?
– Того самого.
– Негодяй! Пусть только попробует, гнусный мясник, тронуть хоть волос с головы этой девушки, – пробормотал, словно про себя, незнакомец. – Значит, свидание состоится сегодня вечером? – продолжал он.
– Да, сеньор.
– В Пальмас-Эрманас?
– Да, сеньор, на юге от…
– Я не нуждаюсь в объяснениях. Возьми!
– Что вы мне даете?
– Испанскую унцию.
– Но за что, сеньор?
– За твое сообщение. Прощай.
Старик, пораженный такой щедростью, рассыпался в благодарностях, но незнакомец даже не взглянул на него и, закрыв лицо плащом, вышел из таверны.
– Бог Израиля! – воскликнул старик. – Бог Авраама! Не иначе это герцог! Какое, не герцог, а принц! Больше того – король! Золотая унция за такую малость!
И он поспешил на свою половину, чтобы рассказать жене о невероятном событии и спрятать золото.
Когда Педро-живодер вышел из таверны, уже начало темнеть. Не мешкая, он направился домой, решив взглянуть по пути на дом Хулии, стоявший почти на окраине селения в густых зарослях цветущего кустарника.
Медведь-толстосум, крадучись, как шакал, подстерегающий добычу, обошел вокруг изгороди.
Из окон дома лился свет. Притаившись там, где изгородь подходила поближе к дому, Педро услыхал голоса. Хулия разговаривала с матерью.
– Она еще здесь, – злорадно прошипел Педро. – Ну что ж, увидимся ночью.
И он зашагал к своему дому, предвкушая удачу, словно тигр, почуявший запах крови.
 Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди.
– А здесь, со мной, ты ничего не боишься, радость моя?
– Чего же мне бояться, когда я с тобой, Антонио? Ведь ты мой возлюбленный, мой отец, мой брат. Рядом с тобой мне ничто не страшно.
– Ребенок!
– Это правда, Антонио, ты для меня – все. Садись вот на этот пень и слушай. Раз ты сам спросил, я отвечу тебе.
Хулия уселась рядом с охотником и начала говорить, рассеянно играя длинными кудрями юноши. Свет луны скользил по смуглому лбу охотника, отражаясь в его блестящих глазах, и озарял пылающее лицо девушки.
– Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его. Ведь ангелы так добры! Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя, этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но, поверишь ли, Антонио, с тех пор как я тебя узнала и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя. Такой же красивый, отважный и добрый, он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?
– Хулия! – воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. – Хулия, мое доброе, невинное дитя!
– Ах да, – встрепенулась девушка, – что ты хотел мне сказать?
– Ничего, – ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. – Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше.
– Нет, нет. Ты был чем-то опечален, неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой? Скажи, не то мне тоже станет грустно.
– Послушай, Хулия, ты никогда не ревновала меня?
– Ревновала? А что такое ревность? Я слышала, что люди ревнуют, но не понимаю, что это значит.
– Это значит – бояться потерять меня, бояться, что я полюблю другую женщину, что другая женщина полюбит меня.
– Ах, страх потерять тебя, да, это я знаю. Люди говорят, что в лесах есть свирепые дикие быки, которые бросаются на охотников и могут убить их. И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя и я молюсь пресвятой деве. А бояться, что ты полюбишь другую или тебя кто-нибудь полюбит? О, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе: «До чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец Антонио Железная Рука!» Я с ума схожу от радости и думаю: «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни». Правда?
– Правда, Хулия, правда. А другие мужчины не говорят тебе о своей любви?
– О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно.
– Ты прелесть! И ты действительно так любишь меня?
– Очень, очень люблю. И рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня: «Антонио, я очень люблю тебя; люби меня всегда; я не могу жить без тебя; когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешения. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя? И земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его! У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины…
Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой.
Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это.
– Что случилось, Антонио? – спросила она. – Ты видишь, твои псы забеспокоились.
– Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела: эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу.
Собаки словно поняли похвалу и, завиляв хвостами, снова улеглись у ног Хулии и Антонио.
– Умницы, – сказала девушка, лаская собак. – Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил.
– О, этот пес стоит любого раба.
– Мне пора, – вдруг заторопилась Хулия.
– Так быстро?
– Да, боюсь, как бы матушка не проснулась…
– Бедная сеньора Магдалена. Мне неприятно обманывать ее.
– Верно, но она сама виновата. Любит тебя, как сына, а вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец.
– Со временем мы уговорим ее.
– Дай-то бог, но боюсь, что не удастся… Прощай…
– Прощай, Хулия, прощай. Я провожу тебя.
– Нет, нет; кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай!
Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов.
Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов, а когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса.
Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.
Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия.
Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй.
Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги.
Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя, даже не взяла с собой Титана! Они защитили бы ее, а теперь она совсем одна.
Борьба была бесполезна, кругом, куда ни глянь, – глухая лесная чаща.
– Здесь, красотка, – заявил похититель, – здесь ты скажешь, любишь ли ты меня; здесь ты станешь моей по доброй воле или насильно.
– Негодяй! – крикнула Хулия. – Нет, нет и тысячу раз нет!
– Кто же поможет тебе? – продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
– Бог, – в смертельной тоске произнесла девушка.
– Бог, – повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула. Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ.
Тут похититель, который был не кто иной, как Медведь-толстосум, проявил неожиданную отвагу. Схватив Хулию за руку, он прикрыл ее своим телом и обнажил огромный нож.
Сталь сверкнула под бледным светом луны, однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед, и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную, растерянную Хулию.
– Оставь эту девушку, – повелительно произнес незнакомец.
Но Медведь-толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул:
– А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!
– Ах! Не уходите, сеньор, – взмолилась Хулия. – Защитите меня!
– Молчи, – прорычал живодер, стиснув руку девушки.
Хулия вскрикнула от боли.
Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр, бросился он на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь-толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился наутек, приговаривая:
– Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!
– Пойдем, дитя мое, – сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. – Пойдем, я провожу тебя до дому.
Сама не зная почему, девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку.
Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь.
Оба молча направились к селению.
– Мы пришли, спасибо, сеньор, – проговорила девушка.
– Это твой дом, дитя мое?
– Да, сеньор. Прощайте.
Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила:
– Как вас зовут?
Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал:
– Джон Морган.
– Джон Морган?
– Да, но храни это в тайне. Прощай. – И, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился.
Охотник нежно посмотрел на нее и снова прижал к груди.
– А здесь, со мной, ты ничего не боишься, радость моя?
– Чего же мне бояться, когда я с тобой, Антонио? Ведь ты мой возлюбленный, мой отец, мой брат. Рядом с тобой мне ничто не страшно.
– Ребенок!
– Это правда, Антонио, ты для меня – все. Садись вот на этот пень и слушай. Раз ты сам спросил, я отвечу тебе.
Хулия уселась рядом с охотником и начала говорить, рассеянно играя длинными кудрями юноши. Свет луны скользил по смуглому лбу охотника, отражаясь в его блестящих глазах, и озарял пылающее лицо девушки.
– Выслушай меня, Антонио, но только не смейся. Когда я была совсем крошкой, матушка научила меня молиться на ночь моему ангелу-хранителю, и я полюбила его. Ведь ангелы так добры! Матушка говорила, что ангел красивый, сильный, что он защитит меня и от дьявола, и от врагов, что он будет сражаться со всяким, кто захочет обидеть меня, и обязательно победит. Тогда я была ребенком и пыталась вообразить, какой он из себя, этот ангел, такой сильный, такой смелый и отважный. Я верила в него и никогда не боялась. Но, поверишь ли, Антонио, с тех пор как я тебя узнала и ты сказал, что любишь меня, я поняла, что мой ангел-хранитель всегда был похож на тебя. Такой же красивый, отважный и добрый, он, как и ты, думал и заботился обо мне непрестанно. Ведь это правда?
– Хулия! – воскликнул растроганный охотник, слушавший ее с улыбкой восхищения. – Хулия, мое доброе, невинное дитя!
– Ах да, – встрепенулась девушка, – что ты хотел мне сказать?
– Ничего, – ответил охотник, устыдившись, что мог хоть на мгновение заподозрить этого ребенка. – Ничего, кроме того, что люблю тебя с каждым днем все больше.
– Нет, нет. Ты был чем-то опечален, неужели я не знаю тебя? Скажи, что с тобой? Скажи, не то мне тоже станет грустно.
– Послушай, Хулия, ты никогда не ревновала меня?
– Ревновала? А что такое ревность? Я слышала, что люди ревнуют, но не понимаю, что это значит.
– Это значит – бояться потерять меня, бояться, что я полюблю другую женщину, что другая женщина полюбит меня.
– Ах, страх потерять тебя, да, это я знаю. Люди говорят, что в лесах есть свирепые дикие быки, которые бросаются на охотников и могут убить их. И когда я думаю об этом, мне становится страшно за тебя и я молюсь пресвятой деве. А бояться, что ты полюбишь другую или тебя кто-нибудь полюбит? О, если бы ты знал, как я бываю довольна, когда девушки говорят о тебе: «До чего хорош этот мексиканец! Какой храбрец Антонио Железная Рука!» Я с ума схожу от радости и думаю: «Он мой, только мой, и любит меня больше жизни». Правда?
– Правда, Хулия, правда. А другие мужчины не говорят тебе о своей любви?
– О, очень многие. Они посылают мне цветы и записки, смотрят на меня, вздыхают, бедняжки. А я думаю, могут ли они сравниться с моим Антонио? Но я радуюсь, когда говорят, что я хороша. Ведь если я нравлюсь им, значит, могу и тебе понравиться, а больше мне ничего не нужно.
– Ты прелесть! И ты действительно так любишь меня?
– Очень, очень люблю. И рада повторять это без конца тебе или самой себе, когда поливаю цветы и занимаюсь хозяйством. Я говорю так, словно ты стоишь рядом и слышишь меня: «Антонио, я очень люблю тебя; люби меня всегда; я не могу жить без тебя; когда же мы будем вместе?» И в этих словах я ищу утешения. А в свободное время я сажусь в саду и смотрю на горы, где ты охотишься. Помнишь, однажды ты пришел в наш сад после дождя? И земля была еще сырая? Нет, правда, помнишь? След твоей ноги остался на дорожке, и я много дней оберегала этот отпечаток. Как я огорчилась, когда ветер стер его! У тебя очень маленькие ноги, совсем как у женщины…
Девушка смотрела на охотника и улыбалась счастливой улыбкой.
Вдруг собаки подняли головы и насторожились. Хулия заметила это.
– Что случилось, Антонио? – спросила она. – Ты видишь, твои псы забеспокоились.
– Не бойся, радость моя. Наверное, они почуяли быка. Если бы грозила опасность, ты бы сразу увидела: эти твари знают лучше, чем люди, когда надо поднять тревогу.
Собаки словно поняли похвалу и, завиляв хвостами, снова улеглись у ног Хулии и Антонио.
– Умницы, – сказала девушка, лаская собак. – Я очень люблю их. Ведь они всегда с тобой и охраняют тебя так же, как меня охраняет Титан, которого ты мне подарил.
– О, этот пес стоит любого раба.
– Мне пора, – вдруг заторопилась Хулия.
– Так быстро?
– Да, боюсь, как бы матушка не проснулась…
– Бедная сеньора Магдалена. Мне неприятно обманывать ее.
– Верно, но она сама виновата. Любит тебя, как сына, а вбила себе в голову, что выдаст меня только за кого-нибудь из наших земляков, за француза. А я вот люблю тебя, хоть ты и мексиканец.
– Со временем мы уговорим ее.
– Дай-то бог, но боюсь, что не удастся… Прощай…
– Прощай, Хулия, прощай. Я провожу тебя.
– Нет, нет; кругом все спокойно, идти мне недалеко, и я так хорошо знаю дорогу, что, право, не стоит труда провожать меня. Прощай!
Хулия привстала на цыпочки и обменялась с Антонио поцелуем. Завернувшись в плащ, она побежала легче газели и скрылась в гуще гуаяканов.
Охотник некоторое время прислушивался к шелесту ее одежды, цеплявшейся за ветки кустов, а когда все затихло, вздохнул и, положив мушкет на плечо, зашагал в противоположном направлении. Вскоре и он затерялся в чаще леса.
Хулия вышла из рощи, в задумчивости пересекла поляну и снова вступила под сень деревьев.
Но едва она сделала несколько шагов, как услыхала треск ветвей. Она обернулась. Неожиданно из-за дерева вынырнул какой-то мужчина и грубо схватил ее в объятия.
Девушка в страхе закричала, но у нее перехватило горло, и крик был едва слышен. Она попыталась сопротивляться, но нападавший не давал ей пошевельнуться, и, содрогнувшись от ужаса и отвращения, девушка почувствовала на своих губах его поцелуй.
Хулия прятала лицо, пытаясь спастись от поцелуев, а незнакомец тащил ее куда-то в сторону от дороги.
Как раскаивалась она в том, что не позволила Антонио проводить себя, даже не взяла с собой Титана! Они защитили бы ее, а теперь она совсем одна.
Борьба была бесполезна, кругом, куда ни глянь, – глухая лесная чаща.
– Здесь, красотка, – заявил похититель, – здесь ты скажешь, любишь ли ты меня; здесь ты станешь моей по доброй воле или насильно.
– Негодяй! – крикнула Хулия. – Нет, нет и тысячу раз нет!
– Кто же поможет тебе? – продолжал тот, сжимая ее в своих железных объятиях и пытаясь поцеловать.
– Бог, – в смертельной тоске произнесла девушка.
– Бог, – повторил в густых зарослях глубокий властный голос.
Похититель в страхе поднял голову, а Хулия радостно вскрикнула. Сухие ветки затрещали под чьими-то шагами, и из тьмы появился высокий человек, с головы до ног завернутый в черный плащ.
Тут похититель, который был не кто иной, как Медведь-толстосум, проявил неожиданную отвагу. Схватив Хулию за руку, он прикрыл ее своим телом и обнажил огромный нож.
Сталь сверкнула под бледным светом луны, однако незнакомец бесстрашно шагнул вперед, и живодер отступил, потащив за собой ошеломленную, растерянную Хулию.
– Оставь эту девушку, – повелительно произнес незнакомец.
Но Медведь-толстосум решил не сдаваться и, набравшись храбрости, крикнул:
– А ты кто такой, чтобы мне указывать и вмешиваться не в свои дела? Иди своей дорогой и оставь меня в покое, если тебе дорога жизнь!
– Ах! Не уходите, сеньор, – взмолилась Хулия. – Защитите меня!
– Молчи, – прорычал живодер, стиснув руку девушки.
Хулия вскрикнула от боли.
Незнакомец не стал дольше ждать. Словно тигр, бросился он на живодера, вырвал у него из рук нож и швырнул негодяя на землю, прежде чем тот успел опомниться. Медведь-толстосум вскочил и, даже не оглянувшись, пустился наутек, приговаривая:
– Господи Иисусе, спаси нас! Это сам дьявол, сам дьявол!
– Пойдем, дитя мое, – сказал незнакомец, обращаясь к помертвевшей от ужаса Хулии. – Пойдем, я провожу тебя до дому.
Сама не зная почему, девушка прониклась доверием к неизвестному ей человеку и, не произнеся ни слова благодарности, смело оперлась на его руку.
Незнакомец рассмотрел при свете луны отнятый у живодера нож и с презрением отшвырнул его прочь.
Оба молча направились к селению.
– Мы пришли, спасибо, сеньор, – проговорила девушка.
– Это твой дом, дитя мое?
– Да, сеньор. Прощайте.
Хулия отошла от незнакомца, но внезапно вернулась и застенчиво спросила:
– Как вас зовут?
Незнакомец на мгновение заколебался, но потом, как бы решившись, сказал:
– Джон Морган.
– Джон Морган?
– Да, но храни это в тайне. Прощай. – И, не произнеся больше ни слова, он быстро удалился.
 Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью, со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет – в левой, он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан де Борика. Живодер трясся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хулии поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевшую от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул:
– Простите, сеньор! Эта женщина принадлежит мне!
Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить воле вице-адмирала. Но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.
– Спокойно, сеньор, – продолжал незнакомец, – не обнажайте против меня оружия, это вам дорого обойдется.
– Да кто же ты! – воскликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием.
– Антонио Железная Рука.
Бродели опустил оружие и скрипнул зубами.
– А почему эта женщина принадлежит тебе?
– Потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Эспаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов.
– Куда же ты везешь эту женщину?
– На Санта-Каталину или Тортугу, где мы вскоре должны обосноваться. Я имею на это право, я служу хорошо, я честно выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья? – спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой.
– Верно, он прав, – откликнулись все.
Бродели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость.
– А другая женщина? Эта-то, надеюсь, не твоя и ею мы можем распоряжаться!
Сеньора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту Железной Руки.
– Эта женщина, – торжественно произнес Антонио, – приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое – моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет, хотя бы он был самим адмиралом. Таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны… Не правда ли, друзья?
– Правильно, правильно, – закричали пираты.
Взбешенный Бродели прорычал какое-то проклятье и вышел, уведя пиратов с собой.
В каюте остались Железная Рука, Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан.
– Вы – настоящий мужчина, – сказал Хуан, пожимая руку Антонио.
– Благодарю вас, благодарю вас, – плача повторяла сеньора Магдалена.
Хулия, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, прижала к губам руку Антонио и шепнула:
– Ты ангел, Антонио… Я обожаю тебя.
Антонио затрепетал от восторга.
Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказания.
– Выслушайте меня, – сказал Антонио. – Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агуардьенте, которую пираты найдут на судне, вице-адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знайте, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милостив бог, отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно.
– А ты? – вырвалось у Хулии.
– Я, – ответил Антонио, – последую за тобой, как только смогу.
Сеньора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова.
– Поклянись, – сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее.
– Клянусь! Верь мне, – ответил Антонио, и девушка крепко сжала его руку.
Снасти заскрипели, корабль двинулся в путь.
Бродели, вице-адмирал Моргана, первым ворвался на корабль. Забрызганный кровью, со взлохмаченными волосами, держа широкую саблю в правой руке, а пистолет – в левой, он повел своих людей к каюте капитана. Там укрылись Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан де Борика. Живодер трясся от страха, женщины рыдали и молились. Пираты выломали дверь, и Бродели бросился к женщинам. Это была его военная добыча. Женщины принадлежали тому, кто первый захватит их, если только он сам не отдаст их своим подчиненным. Красота Хулии поразила вице-адмирала, несмотря на обуревавшее его яростное возбуждение. Эту добычу он не собирался делить ни с кем. Пират засунул пистолет за пояс и хотел уже схватить за руку помертвевшую от страха Хулию, когда неожиданно какой-то человек с силой оттолкнул его и громко воскликнул:
– Простите, сеньор! Эта женщина принадлежит мне!
Бродели в изумлении остановился, стараясь рассмотреть, кто этот дерзкий, осмелившийся перечить воле вице-адмирала. Но, не узнав его, отступил на шаг и схватился за саблю.
– Спокойно, сеньор, – продолжал незнакомец, – не обнажайте против меня оружия, это вам дорого обойдется.
– Да кто же ты! – воскликнул вице-адмирал, пораженный таким бесстрашием и хладнокровием.
– Антонио Железная Рука.
Бродели опустил оружие и скрипнул зубами.
– А почему эта женщина принадлежит тебе?
– Потому что это моя жена. Я посадил ее на корабль, когда был на Эспаньоле. Адмирал приказал мне поступить на испанское судно, вот почему и она оказалась здесь. Если бы не этот приказ, она была бы на одном из наших судов.
– Куда же ты везешь эту женщину?
– На Санта-Каталину или Тортугу, где мы вскоре должны обосноваться. Я имею на это право, я служу хорошо, я честно выполняю свой договор и вправе требовать уважения. Не правда ли, друзья? – спросил он, обращаясь к пиратам, которые с удивлением следили за неожиданной стычкой.
– Верно, он прав, – откликнулись все.
Бродели до крови закусил губу, стараясь скрыть свою ярость.
– А другая женщина? Эта-то, надеюсь, не твоя и ею мы можем распоряжаться!
Сеньора Магдалена побледнела, боясь, что она не попадет под защиту Железной Руки.
– Эта женщина, – торжественно произнес Антонио, – приходится моей жене матерью, а это ее муж. Все трое – моя семья, и она должна быть священной для моих начальников и товарищей. А если кто-нибудь посмеет проявить к этим людям малейшее неуважение, все мои товарищи встанут на их защиту, и оскорбитель погибнет, хотя бы он был самим адмиралом. Таков наш закон. Семью и честь каждого из нас защищают все, ибо если сегодня оскорбят меня, а все останутся равнодушны, завтра сами они окажутся жертвой, и все узы между нами будут порваны… Не правда ли, друзья?
– Правильно, правильно, – закричали пираты.
Взбешенный Бродели прорычал какое-то проклятье и вышел, уведя пиратов с собой.
В каюте остались Железная Рука, Хулия, сеньора Магдалена и Педро Хуан.
– Вы – настоящий мужчина, – сказал Хуан, пожимая руку Антонио.
– Благодарю вас, благодарю вас, – плача повторяла сеньора Магдалена.
Хулия, улучив минуту, когда никто не смотрел на них, прижала к губам руку Антонио и шепнула:
– Ты ангел, Антонио… Я обожаю тебя.
Антонио затрепетал от восторга.
Меж тем с палубы доносились стоны раненых, крики пиратов и голос вице-адмирала, отдававшего приказания.
– Выслушайте меня, – сказал Антонио. – Мы должны поговорить раньше, чем кто-нибудь вернется сюда. Опасность еще не миновала. Кто знает, быть может, опьяненный успехом или агуардьенте, которую пираты найдут на судне, вице-адмирал снова вспомнит о своих притязаниях. Знайте, я буду защищать вас до последнего вздоха. Хулия должна считаться моей женой. Корабль пойдет сейчас на Санта-Каталину. Этот остров Морган избрал для своей главной квартиры. Когда мы прибудем туда, я помогу вам, если милостив бог, отправиться в Мексику. Там вы заживете спокойно.
– А ты? – вырвалось у Хулии.
– Я, – ответил Антонио, – последую за тобой, как только смогу.
Сеньора Магдалена была так перепугана, что не обратила внимания на эти слова.
– Поклянись, – сказала Хулия, пользуясь тем, что мать не слушает ее.
– Клянусь! Верь мне, – ответил Антонио, и девушка крепко сжала его руку.
Снасти заскрипели, корабль двинулся в путь.

 В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды, с красными перьями на шляпах. Во главе отряда гарцевал Индиано верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой; такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами, столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов с силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седока и острые шпоры на своих боках.
Процессия начала строиться в принятом порядке – все участники были верхами. Королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица, а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, также как в иных случаях почетнее бывает замыкать шествие.
Все всадники, без сомнения, знали об этом, ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом, и, так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схватку. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты наземь. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев.
Нетрудно предположить, что дон Диего и дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке и густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага.
Смятение возрастало, все громче звучали крики бойцов и зрителей, бой разгорался, в тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие, слышен был грозный топот копыт. Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие:
– Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!
Сам вице-король в сопровождении множества кабальеро, алькальдов, алебардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения.
– Подчиняйтесь королю!
– Дорогу его светлости!
– Именем его величества! – кричали альгвасилы.
Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло.
А вокруг вице-короля, повторяя клич: «Именем короля! Именем правосудия!» – начали собираться все вооруженные участники шествия.
К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами, едва могли достать друг друга, лишь у немногих были разрезаны камзолы и выступило несколько капель крови.
Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалось, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессии под началом обоих своих воинственных предводителей.
На вид все как будто успокоилось. Дон Энрике и Индиано, с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальеро, не питавших никакой взаимной враждебности и обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласие и веселье.
В горячке утренних событий дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо.
Итак, он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном с ослепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали брильянты. В этой женщине было что-то фантастическое, она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией.
– О, если бы это была она! – воскликнул про себя дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой.
Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок.
«Она!» – подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли.
Дон Диего с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индиано.
В то же время с другой стороны подъехал к церкви отряд на белых конях, одетый в пунцовые с белым наряды, с красными перьями на шляпах. Во главе отряда гарцевал Индиано верхом на огневом белом коне с наброшенной на седло тигровой шкурой; такие же шкуры лежали на седлах у остальных всадников. Оба отряда встали рядом, и начальники их обменялись поклонами, столь сдержанными, что заметить их удалось лишь по легкому колыханию перьев. Однако кони врагов с силой забили копытами, почуяв, очевидно, нервную дрожь в руке седока и острые шпоры на своих боках.
Процессия начала строиться в принятом порядке – все участники были верхами. Королевский знаменосец взял в руки знамя, по обе стороны от него разместились вице-король, алькальды, все власти и коронные должностные лица, а за ними встали цехи и гильдии. Настало время занять место и для обоих отрядов. Наиболее почетным было место, непосредственно следующее за представителями власти. Идти впереди считалось особым отличием, также как в иных случаях почетнее бывает замыкать шествие.
Все всадники, без сомнения, знали об этом, ибо едва прошли цехи, как оба отряда, не соблюдая ни малейшей осторожности, ринулись занимать первое место. Разумеется, они столкнулись друг с другом, и, так как никто не хотел уступить, столкновение это грозило превратиться в схватку. С той и с другой стороны иные всадники были выбиты из седла, лошади опрокинуты наземь. Те же, кто твердо держался в стременах, вскипев, схватились за шпаги и бросились в бой, распознавая врагов по масти коней или по цвету одежды и перьев.
Нетрудно предположить, что дон Диего и дон Энрике немедля устремились друг к другу. Старая вражда вспыхнула в их сердцах, а кроме того, каждый чувствовал себя обязанным сражаться за честь своего отряда. Однако в общей свалке и густых клубах пыли почти невозможно было отыскать ненавистного врага.
Смятение возрастало, все громче звучали крики бойцов и зрителей, бой разгорался, в тучах пыли то и дело сверкало под лучами солнца оружие, слышен был грозный топот копыт. Оробевшие зеваки попятились, процессия остановилась, как вдруг послышались слова, неизменно оказывающие магическое действие:
– Подчиняйтесь его величеству! Подчиняйтесь правосудию! Именем короля! Именем правосудия!
Сам вице-король в сопровождении множества кабальеро, алькальдов, алебардистов и представителей правосудия прибыл к месту сражения.
– Подчиняйтесь королю!
– Дорогу его светлости!
– Именем его величества! – кричали альгвасилы.
Едва прозвучали эти слова, как словно по волшебству все лошади замерли неподвижно, все шпаги опустились, все языки онемели, пыль рассеялась, и теперь можно было рассмотреть, что же тут произошло.
А вокруг вице-короля, повторяя клич: «Именем короля! Именем правосудия!» – начали собираться все вооруженные участники шествия.
К счастью, раны, полученные в стычке, были незначительны. Всадники, вооруженные короткими шпагами, едва могли достать друг друга, лишь у немногих были разрезаны камзолы и выступило несколько капель крови.
Вице-король сурово отчитал виновных, однако, увидев, что потерь не оказалось, убедившись, что горячность бойцов объяснялась лишь их приверженностью к его величеству, а также принимая во внимание торжественный день, милостиво простил нарушителей порядка и повелел, чтобы оба отряда соединились и вместе выступили в процессии под началом обоих своих воинственных предводителей.
На вид все как будто успокоилось. Дон Энрике и Индиано, с изысканной любезностью уступая друг другу лучшее место, двинулись в путь, но сердца их были охвачены жгучей ненавистью и стремлением к мести. Напротив, среди остальных кабальеро, не питавших никакой взаимной враждебности и обманутых мнимым дружелюбием предводителей, вскоре воцарились согласие и веселье.
В горячке утренних событий дон Энрике совсем позабыл о полученном накануне письме незнакомки. Но, выехав на улицу Такуба, он вспомнил о нем и, сосредоточив все свое внимание, решил среди бесчисленного множества сеньор, сидевших у окон и на балконах, распознать по какому-нибудь тайному знаку ту, что написала письмо.
Итак, он принялся рассматривать всех дам, помня, что в письме говорилось о доме, стоящем со стороны его сердца. Улица уже подходила к концу, а он все еще не мог разгадать загадку. Но вот его взгляд остановился на балконе, убранном с ослепительной роскошью. Там сидела только одна женщина, но женщина эта была прекрасна. На ее черном платье, в черных волосах, на шее, на пальцах и запястьях, словно маленькие солнца, сверкали брильянты. В этой женщине было что-то фантастическое, она походила на царицу ночи из индейской легенды. Эта женщина, на которую, замирая от восторга, смотрели все, была донья Марина. Донья Марина равнодушно наблюдала за проходившей мимо процессией.
– О, если бы это была она! – воскликнул про себя дон Энрике, завороженный ее сказочной красотой.
Донья Марина, увидев юношу, сделала невольное движение, не укрывшееся от его зоркого взгляда, и выронила из рук цветок.
«Она!» – подумал юноша и, подскакав на коне к дому, взял цветок у человека, который подобрал его с земли.
Дон Диего с насмешливой улыбкой посмотрел на Энрике и, подняв голову, обменялся с дамой понимающим взглядом. Дон Энрике приколол цветок к груди и снова занял свое место рядом с Индиано.
 На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. Еще немного – и он упал бы, но тут подоспели дон Хусто, донья Фернанда и слуги. Нападавшие убежали, а донья Фернанда и дон Хусто узнали в спасенном ими человеке дона Энрике.
– Где моя дочь? – в ужасе спросила мать доньи Аны.
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Не знаете?! – позабыв об осторожности, воскликнула донья Фернанда.
– Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?
– Честью клянусь вам, это правда, – отвечал дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. – Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц.
– Но где же моя дочь? Дон Хусто, моя дочь! Ищите ее! Эти крики, эта борьба!.. О, недаром я говорила, что нам следует выйти!
– Скорее, бегом по всем ближним улицам! – крикнул слугам дон Хусто. – Не возвращайтесь, пока не найдете след.
Слуги разбежались в разные стороны, разнося весть о происшествии по всему городу.
Донья Фернанда, опираясь на руку дона Хусто, в отчаянии вернулась домой, а дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился куда глаза глядят, надеясь найти ключ к этой загадке.
Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве доньи Аны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.
На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. Еще немного – и он упал бы, но тут подоспели дон Хусто, донья Фернанда и слуги. Нападавшие убежали, а донья Фернанда и дон Хусто узнали в спасенном ими человеке дона Энрике.
– Где моя дочь? – в ужасе спросила мать доньи Аны.
– Не знаю, сеньора, – ответил дон Энрике.
– Не знаете?! – позабыв об осторожности, воскликнула донья Фернанда.
– Да как же вы можете не знать, если она ушла из дому, чтобы бежать с вами?
– Честью клянусь вам, это правда, – отвечал дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. – Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц.
– Но где же моя дочь? Дон Хусто, моя дочь! Ищите ее! Эти крики, эта борьба!.. О, недаром я говорила, что нам следует выйти!
– Скорее, бегом по всем ближним улицам! – крикнул слугам дон Хусто. – Не возвращайтесь, пока не найдете след.
Слуги разбежались в разные стороны, разнося весть о происшествии по всему городу.
Донья Фернанда, опираясь на руку дона Хусто, в отчаянии вернулась домой, а дон Энрике, не зная, что ему и думать, завернулся в плащ и отправился куда глаза глядят, надеясь найти ключ к этой загадке.
Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве доньи Аны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.
 – Когда начинать? – спросил один из них, закончив молитву.
– Этой же ночью, так что наутро мы уже будем свободны и богаты, – ответил Москит.
– А сколько дают?
– Мне вручено по двести песо для каждого из вас.
– Отправимся пешком?
– Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие.
– Идет. А что за лошади?
– Подходящие, я их уже смотрел, а я, как вам известно, в этом толк знаю. В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей.
– Здорово!
– А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в девять.
– Пошли.
Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул:
– Паулита, Паулита!
В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка, лет двадцати, в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка; вокруг крепкой и нежной шеи обвилась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые в ладно пригнанные шелковые башмачки.
– Ты звал меня? – наигранно ласково спросила девушка, подойдя к Москиту.
– Поди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока.
Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи.
– А что это за дело ты затеваешь на ночь глядя?
– Дело очень важное, но тебе о нем знать незачем, мое сокровище. – И он нежно взял ее за подбородок.
Паулита отвернулась с недовольной гримаской.
– Что это, ты сердишься на меня, красотка?
– Да, – кокетливо ответила Паулита.
– За что же, скажи, моя радость?
– За то, что ты мне не доверяешь.
– Я ведь знаю, ты смелая женщина, тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине.
– И все-таки не хочешь рассказать, что ты будешь делать ночью.
– Я тебе все расскажу потом.
– Потом я и без тебя узнаю. Вот почему я больше люблю Вьюна, он от меня ничего не скрывает.
– Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке.
– Пусть выродок, но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его.
– Ладно, ладно, я знаю, что ты все это говоришь, чтобы подразнить меня. Но лучше оставь его в покое.
– А, ты сердишься?
– Очень.
– Ревнуешь?
– Может быть.
– Значит, ты меня очень любишь?
– Больше жизни.
– Обманщик, – весело сказала Паулита и, приподняв рукой лицо Москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить.
– Ох и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай…
Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой – играя черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее.
– Какая ты красивая! – воскликнул Москит.
– Ладно, ладно, рассказывай!
– Ну, слушай. Дело нехитрое – сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэранаваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить.
– А потом?
– Больше ничего.
– И сколько вам заплатят?
– Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести.
– Сколько вас?
– Четверо.
– Тогда это не опасно.
– Но их ведь шестеро.
– Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь.
– Пожалуй, верно. Опасность не очень велика.
– Еще бы! А как зовут этого пленника?
– Не знаю.
– Не лги, – сказала Паулита, ласково дергая его за ухо.
– Вот любопытная!
– Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца. Как зовут пленника?
– Обязательно хочешь добиться своего?
– А как же! Ну, говори его имя! – не отставала Паулита.
– Его имя… да зачем тебе это знать?
– Скажи, скажи, а то я начну говорить про Вьюна.
– Нет, не смей! Лучше я скажу тебе.
– Говори, хитрец!
– Его зовут дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Спаси его господь! – воскликнула Паулита, побледнев и вскочив с места. – Дон Энрике, сын графа де Торре-Леаль?
– Он самый. Да что с тобой? Чего ты побледнела? Чего испугалась?
– Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня.
– Да что тебе до него, Паулита? Кто он? Твой возлюбленный?
– Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его, как родного отца. Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его!
И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса.
– Паулита, я никогда тебя такой не видел. Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное.
– Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказала ее тебе, ты полюбил бы дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю.
– Расскажи мне ее, Паулита, расскажи и не огорчайся, – ответил Москит, ласково поглаживая черную головку девушки.
– Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда?
– Ты – моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь и женюсь на тебе.
– Тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели, еще не скоро придут?
– Нет, нет, они вернутся не раньше девяти.
– Тогда слушай.
Москит приготовился слушать, и Паулита, утерев передником слезы, начала свою историю.
– Когда начинать? – спросил один из них, закончив молитву.
– Этой же ночью, так что наутро мы уже будем свободны и богаты, – ответил Москит.
– А сколько дают?
– Мне вручено по двести песо для каждого из вас.
– Отправимся пешком?
– Нет, хозяин дает лошадей. Вам надо только взять с собой оружие.
– Идет. А что за лошади?
– Подходящие, я их уже смотрел, а я, как вам известно, в этом толк знаю. В придачу к двумстам песо получите еще и лошадей.
– Здорово!
– А теперь отправляйтесь за оружием. Я жду вас здесь. Выйдем ровно в девять.
– Пошли.
Все трое покинули таверну и разошлись в разные стороны. Москит снова сел за стол и крикнул:
– Паулита, Паулита!
В таверне было пусто, но после зова Лукаса где-то в глубине открылась дверь и на пороге появилась хорошенькая, смуглая, стройная и бойкая девушка, лет двадцати, в широкой ярко-красной юбке. На ней не было ни лифа, ни корсажа, а только ослепительно белая свободная сорочка; вокруг крепкой и нежной шеи обвилась нитка крупных кораллов, а из-под короткой юбки выглядывали маленькие ножки без чулок, обутые в ладно пригнанные шелковые башмачки.
– Ты звал меня? – наигранно ласково спросила девушка, подойдя к Москиту.
– Поди сюда, моя прелесть. Я один, и мне нужно дождаться здесь приятелей. Садись рядышком, поболтаем пока.
Девушка уселась подле Лукаса и сняла нагар со свечи.
– А что это за дело ты затеваешь на ночь глядя?
– Дело очень важное, но тебе о нем знать незачем, мое сокровище. – И он нежно взял ее за подбородок.
Паулита отвернулась с недовольной гримаской.
– Что это, ты сердишься на меня, красотка?
– Да, – кокетливо ответила Паулита.
– За что же, скажи, моя радость?
– За то, что ты мне не доверяешь.
– Я ведь знаю, ты смелая женщина, тебе можно доверить тайну скорее, чем мужчине.
– И все-таки не хочешь рассказать, что ты будешь делать ночью.
– Я тебе все расскажу потом.
– Потом я и без тебя узнаю. Вот почему я больше люблю Вьюна, он от меня ничего не скрывает.
– Послушай, Паулита, я расскажу тебе все, что хочешь, но не смей говорить при мне об этом выродке.
– Пусть выродок, но он меня любит больше, чем ты, и я тоже люблю его.
– Ладно, ладно, я знаю, что ты все это говоришь, чтобы подразнить меня. Но лучше оставь его в покое.
– А, ты сердишься?
– Очень.
– Ревнуешь?
– Может быть.
– Значит, ты меня очень любишь?
– Больше жизни.
– Обманщик, – весело сказала Паулита и, приподняв рукой лицо Москита, запечатлела на его губах сочный поцелуй, на который он не замедлил ответить.
– Ох и лиса же ты, Паулита. Знаешь, что я ни в чем не могу тебе отказать. Ну, слушай…
Девушка устроилась поудобнее, левой рукой подперев щеку, а правой – играя черными кудрями Лукаса. В этой позе Паулита казалась еще соблазнительнее.
– Какая ты красивая! – воскликнул Москит.
– Ладно, ладно, рассказывай!
– Ну, слушай. Дело нехитрое – сегодня ночью нам нужно выйти на дорогу в Куэранаваку, подстеречь шестерых солдат с пленником, разогнать солдат, отнять у них пленника и тут же его прикончить.
– А потом?
– Больше ничего.
– И сколько вам заплатят?
– Мне, как главарю, пятьсот песо, а остальным по двести.
– Сколько вас?
– Четверо.
– Тогда это не опасно.
– Но их ведь шестеро.
– Да, но они же солдаты. С ними и я справлюсь.
– Пожалуй, верно. Опасность не очень велика.
– Еще бы! А как зовут этого пленника?
– Не знаю.
– Не лги, – сказала Паулита, ласково дергая его за ухо.
– Вот любопытная!
– Знаешь ведь, мне нужно знать все до конца. Как зовут пленника?
– Обязательно хочешь добиться своего?
– А как же! Ну, говори его имя! – не отставала Паулита.
– Его имя… да зачем тебе это знать?
– Скажи, скажи, а то я начну говорить про Вьюна.
– Нет, не смей! Лучше я скажу тебе.
– Говори, хитрец!
– Его зовут дон Энрике Руис де Мендилуэта.
– Спаси его господь! – воскликнула Паулита, побледнев и вскочив с места. – Дон Энрике, сын графа де Торре-Леаль?
– Он самый. Да что с тобой? Чего ты побледнела? Чего испугалась?
– Нет, Лукас, нет! Ты не сделаешь этого, если любишь меня.
– Да что тебе до него, Паулита? Кто он? Твой возлюбленный?
– Лукас, этот человек никогда не был моим возлюбленным, но я люблю и уважаю его, как родного отца. Я не хочу, я не хочу, не смей убивать его!
И девушка, разрыдавшись, уткнулась лицом в грудь Лукаса.
– Паулита, я никогда тебя такой не видел. Что это за тайна? Объясни, а то я уж начинаю подозревать неладное.
– Здесь нет никакой тайны, здесь нет ничего плохого, Лукас. Это история моей жизни. Если бы я рассказала ее тебе, ты полюбил бы дона Энрике, как я люблю его, и стал бы его уважать, как я уважаю. Лукас, я знаю, ты сам будешь плакать, когда услышишь эту историю.
– Расскажи мне ее, Паулита, расскажи и не огорчайся, – ответил Москит, ласково поглаживая черную головку девушки.
– Хорошо, Лукас, я расскажу тебе. Ведь ты меня любишь, правда?
– Ты – моя единственная любовь. Когда у меня будут деньги, я брошу дурную жизнь и женюсь на тебе.
– Тогда я расскажу тебе все, чтобы ты помог дону Энрике, чтобы его жизнь стала для тебя священной. А как твои приятели, еще не скоро придут?
– Нет, нет, они вернутся не раньше девяти.
– Тогда слушай.
Москит приготовился слушать, и Паулита, утерев передником слезы, начала свою историю.

 – Так поспешим к ним на помощь! – воскликнул Антонио.
Матросы, подняв голову, поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил он. – Неужели не хотите выручить этих несчастных?
– Охотно выручили бы, да ведь это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет о скалы.
– Ну хоть попытаемся, – настаивал Антонио.
– Нам-то что! – безразлично бросил один из моряков. – Мы плаваем как рыбы, а дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу.
И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли донья Ана и ее слуги.
Вода прибывала, и шлюпку быстро несло на скалы. Донья Ана смирилась со своей участью, слуги продолжали звать на помощь.
– Нас вынесет с волной, – сказал Антонио гребцам, – будьте наготове. Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться. Эй, люди, принимайте лодку, хватайте ее, да покрепче, не то она разобьется о скалы. Ну, давайте же!
Опасный маневр совершился по команде Антонио: шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги доньи Аны, опершись о камни, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка.
Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негра кинулись ему навстречу, а гребцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла.
И все же толчок получился такой страшной силы, что один из гребцов упал на дно шлюпки. Но отчаянные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла как на приколе.
– Нельзя терять ни минуты! – воскликнул Антонио. – Сеньора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море.
Донья Ана протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио, за ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны, которая поможет им снова выйти на простор океана.
Волна пришла и окатила путников с головы до ног; новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти.
– Мы спасены! – воскликнул Антонио.
Донья Ана подняла голову; при виде юноши глаза ее расширились от изумления, и из уст ее невольно вырвался крик:
– Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта!
– О, небо! – воскликнул Антонио, узнав свою спутницу. – Донья Ана де Кастрехон!
– Так поспешим к ним на помощь! – воскликнул Антонио.
Матросы, подняв голову, поглядели на него так, словно он произнес нечто несуразное. Антонио заметил их взгляд.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил он. – Неужели не хотите выручить этих несчастных?
– Охотно выручили бы, да ведь это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– Мы и опомниться не успеем, как нас разобьет о скалы.
– Ну хоть попытаемся, – настаивал Антонио.
– Нам-то что! – безразлично бросил один из моряков. – Мы плаваем как рыбы, а дно знаем не хуже, чем свою старую шляпу.
И гребцы тут же повернули к берегу, где, прижавшись к скале, стояли донья Ана и ее слуги.
Вода прибывала, и шлюпку быстро несло на скалы. Донья Ана смирилась со своей участью, слуги продолжали звать на помощь.
– Нас вынесет с волной, – сказал Антонио гребцам, – будьте наготове. Те двое подхватят лодку и не дадут ей разбиться. Эй, люди, принимайте лодку, хватайте ее, да покрепче, не то она разобьется о скалы. Ну, давайте же!
Опасный маневр совершился по команде Антонио: шлюпка взлетела на гребне подоспевшей волны. Слуги доньи Аны, опершись о камни, приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка.
Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, как оба негра кинулись ему навстречу, а гребцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла.
И все же толчок получился такой страшной силы, что один из гребцов упал на дно шлюпки. Но отчаянные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла как на приколе.
– Нельзя терять ни минуты! – воскликнул Антонио. – Сеньора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море.
Донья Ана протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио, за ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны, которая поможет им снова выйти на простор океана.
Волна пришла и окатила путников с головы до ног; новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти.
– Мы спасены! – воскликнул Антонио.
Донья Ана подняла голову; при виде юноши глаза ее расширились от изумления, и из уст ее невольно вырвался крик:
– Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта!
– О, небо! – воскликнул Антонио, узнав свою спутницу. – Донья Ана де Кастрехон!
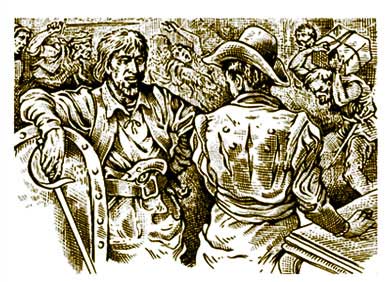 – Дон Энрике, – начал он с непритворным спокойствием, – я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти, вы вправе отомстить мне; для себя я ни о чем не прошу; но, если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир: поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи – доньи Марины и маленькой Леоноры, – прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру; пусть они примут смерть, но не бесчестие.
– Дон Диего, – ответил дон Энрике с каменным лицом, – вы в моей власти, вы, ваша супруга и ваша дочь. По вашей милости и по вине той, что нынче стала вашей супругой, я потерял все, чем дорожил на земле: семью, родину, имя, богатство, честь, будущность, все, все. По вашей вине мне пришлось бежать, как разбойнику в горы, по вашей вине я превратился в пирата, которого ждет впереди позорная смерть на виселице. Дон Диего, вы заслужили страшную кару; ваша смерть ничто по сравнению с моими муками и терзаниями. Жизнь за жизнь, ну, а моя честь, мое доброе имя, родина и будущность? Пролить вашу кровь, отдать вашу жену на потребу моих воинов, воспитать вашу дочь в пороке, толкнуть ее на путь разврата, – все это едва ли достойное возмездие за содеянное вами зло.
– Боже мой, боже мой! – простонал дон Диего. – Как это ужасно!
– Дон Диего де Альварес! – продолжал дон Энрике. – Я вправе отнять у вас жизнь, вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена – полюбовно или силой. Только не вздумайте благодарить меня за это: я ненавижу вас всей душой. Ступайте и помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного: ровно через полгода, а именно шестого августа в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление.
Дон Диего попытался что-то сказать. Но дон Энрике уже обратился к рыбаку:
– Хосе, ты слышал. Ступай вместе с этим кабальеро, добейся, чтобы ему вернули жену и дочь и без помехи выпустили из города. Пускай уйдут под охраной, куда пожелают, прочь от опасности.
Круто повернувшись, дон Энрике ушел.
– О! – воскликнул Индиано. – Мы еще посмотрим, кто из нас великодушнее. Мое мщение будет подобно его возмездию.
Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, дон Диего поспешил на поиски доньи Марины.
– Дон Энрике, – начал он с непритворным спокойствием, – я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти, вы вправе отомстить мне; для себя я ни о чем не прошу; но, если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир: поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи – доньи Марины и маленькой Леоноры, – прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру; пусть они примут смерть, но не бесчестие.
– Дон Диего, – ответил дон Энрике с каменным лицом, – вы в моей власти, вы, ваша супруга и ваша дочь. По вашей милости и по вине той, что нынче стала вашей супругой, я потерял все, чем дорожил на земле: семью, родину, имя, богатство, честь, будущность, все, все. По вашей вине мне пришлось бежать, как разбойнику в горы, по вашей вине я превратился в пирата, которого ждет впереди позорная смерть на виселице. Дон Диего, вы заслужили страшную кару; ваша смерть ничто по сравнению с моими муками и терзаниями. Жизнь за жизнь, ну, а моя честь, мое доброе имя, родина и будущность? Пролить вашу кровь, отдать вашу жену на потребу моих воинов, воспитать вашу дочь в пороке, толкнуть ее на путь разврата, – все это едва ли достойное возмездие за содеянное вами зло.
– Боже мой, боже мой! – простонал дон Диего. – Как это ужасно!
– Дон Диего де Альварес! – продолжал дон Энрике. – Я вправе отнять у вас жизнь, вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена – полюбовно или силой. Только не вздумайте благодарить меня за это: я ненавижу вас всей душой. Ступайте и помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного: ровно через полгода, а именно шестого августа в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление.
Дон Диего попытался что-то сказать. Но дон Энрике уже обратился к рыбаку:
– Хосе, ты слышал. Ступай вместе с этим кабальеро, добейся, чтобы ему вернули жену и дочь и без помехи выпустили из города. Пускай уйдут под охраной, куда пожелают, прочь от опасности.
Круто повернувшись, дон Энрике ушел.
– О! – воскликнул Индиано. – Мы еще посмотрим, кто из нас великодушнее. Мое мщение будет подобно его возмездию.
Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, дон Диего поспешил на поиски доньи Марины.
 Пират зарычал и, не в силах долее владеть собой, кинулся прочь из трюма; вдогонку ему раздался громкий смех Марины.
В мрачном молчании пират вышел на палубу; пережитая сцена произвела на него тягостное впечатление.
В тот же день в трюме появились два матроса; без единого слова они вывели донью Марину наверх и заперли в каюте.
Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме прежде, чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу или погибнет на дне океана – не все ли ему равно, лишь бы одержать победу над строптивицей.
Между тем после приступа ярости и отчаяния в сердце Марины проснулось страстное желание бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение. Только крайность заставит ее пойти на самоубийство.
Смерть – последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да, бороться и сохранить жизнь ради дочери, – ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.
Пират зарычал и, не в силах долее владеть собой, кинулся прочь из трюма; вдогонку ему раздался громкий смех Марины.
В мрачном молчании пират вышел на палубу; пережитая сцена произвела на него тягостное впечатление.
В тот же день в трюме появились два матроса; без единого слова они вывели донью Марину наверх и заперли в каюте.
Морган испугался, что его жертва погибнет в трюме прежде, чем он удовлетворит свою прихоть. Нет, он не желал ее смерти, он жаждал, утолив свой каприз, прогнать ее прочь со своих глаз. Вернется ли она потом к мужу или погибнет на дне океана – не все ли ему равно, лишь бы одержать победу над строптивицей.
Между тем после приступа ярости и отчаяния в сердце Марины проснулось страстное желание бороться против судьбы и сохранить жизнь. Она вдруг поверила в свое спасение. Только крайность заставит ее пойти на самоубийство.
Смерть – последнее и верное прибежище. Если она потеряет надежду спасти свою честь, она доведет пирата до бешенства и умрет от его руки или бросится в море. А пока надо бороться, да, бороться и сохранить жизнь ради дочери, – ведь она чувствовала в себе достаточно мужества и сил для борьбы.

 – Посвети-ка, Паулита, – сказал он, – сеньора потеряла сознание.
Действительно, Хулия была в обмороке. Паулита отворила дверь, и Москит, войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате.
– Хочешь, я останусь с тобой? – спросил Москит Паулиту.
– Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся.
Москит вышел, Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула.
– Вам уже лучше? – спросила Паулита, подойдя к кровати.
– О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна!..
– И девушка снова залилась слезами.
– Успокойтесь, сеньора, успокойтесь! – повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. – Вы нашли здесь мирный приют, забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны, я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение.
– Боже мой, сеньора, вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас.
– Выгнать вас? За что? Да сохранит меня бог от такого зла. Нет, сеньора, я у себя хозяйка и не считаюсь здесь ни с кем, кроме моего мужа – это он взял вас на руки и внес в дом. Знайте, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно, здесь никто даже имени вашего не спросит.
– У вас золотое сердце, я доверю вам все мои горести. Слушайте…
– Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать.
– Да, я вижу, вы не любопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверена, мне не найти более достойного сердца, чем ваше; только вам я могу открыться, поведать мою тайну.
– Тогда говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе.
Хулия приподнялась на кровати, Паулита села рядом с ней. Две женские головки, такие непохожие, хотя обе прелестные, прижались друг к другу, спаянные нерасторжимыми узами страдания и жалости.
Хулия не сразу справилась с волнением; наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Паулита с участием слушала ее исповедь.
Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами, она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана.
– О, вы невиновны, и вы так несчастны, сеньора! – сказала она, выслушав исповедь до конца. – Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага.
Прижав к себе головку Хулии, она поцеловала ее в лоб.
– Вы мой ангел-хранитель, – ответила Хулия. – Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы – мое провидение. Я буду вечно благодарить вас.
– Не говорите больше, вы утомлены. Хотите чего-нибудь поесть?
– Нет, но мне уже лучше.
В эту минуту раздался стук в дверь. Паулита почувствовала, как Хулия вздрогнула.
– Не пугайтесь, это Москит, мой муж. – И, тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери.
В комнату вошел Москит, но он был не один, его сопровождал закутанный в плащ незнакомец в низко надвинутой широкополой шляпе.
Ни слова не сказав Паулите, Москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала Хулия, и спросил, указывая на нее:
– Вот. Это она?
– Она! – воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу.
– Дон Хусто! – удивилась девушка, узнав его.
– Да, это я, – ответил дон Хусто, – я, невольная причина всех бед, происшедших сегодня в вашем доме. Москиту я всецело доверяю; прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива: едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и, не колеблясь, пришел сюда убедиться. Бог помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час.
Паулита, стоявшая позади дона Хусто, не удержалась от насмешливого движения, а Москит в ответ слегка нахмурил брови.
– Благодарю вас, сеньор, – ответила Хулия, – благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты, поверьте, я сама ни о чем не догадывалась. Однако я пока не знаю, на что решиться. Я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и, если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два.
– Конечно, конечно, – с жаром откликнулась Паулита, подходя к Хулии и словно желая защитить ее. – И не два дня, а два года. Я буду так счастлива, и поверьте, мы ни в чем не будем нуждаться, я заставлю Москита работать. Не правда ли, Москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре?
– Верно, сеньора, – ответил Москит, – здесь вам будет спокойно, и вы ни в чем не будете терпеть недостатка.
– В таком случае, – сказал дон Хусто, – больше говорить не о чем. Тем не менее послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия, до послезавтра. Если же вам что-либо понадобиться раньше, передайте через Москита.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю, – повторила Хулия, протянув ему руку.
– Прощайте.
– Да, я хотела просить вас об одном одолжении, – сказала Хулия.
– Пожалуйста, всегда готов служить вам.
– Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни дону Педро Хуану.
– Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете.
– Ах, сеньор, вы так добры! – Дон Хусто удалился, Москит проводил его до дверей. Паулита и Хулия остались вдвоем.
– Замечательный человек! – воскликнула Хулия.
– Напрасно вы так думаете, – возразила Паулита.
– Как?
– Не советую доверять ему.
– Но…
– Тише, Москит идет, он ему очень предан.
Закрыв за гостем дверь, Москит вернулся в спальню.
– И зачем ты только притащил с собой этого жука? – сказала Паулита.
– Что это с тобой? – спросил Москит.
– Ты знаешь, я недолюбливаю его.
– Он принял горячее участие в судьбе сеньоры, я хотел ее порадовать. У вас бывали с ним раньше размолвки?
– Нет, – ответила Хулия.
– Так в чем же дело?
– Просто предчувствие, – сказала Паулита.
– Если он себе хоть что-либо позволит, ему не поздоровиться, – пообещал Москит. – А теперь давайте спать.
Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостье свою спальню.
– Посвети-ка, Паулита, – сказал он, – сеньора потеряла сознание.
Действительно, Хулия была в обмороке. Паулита отворила дверь, и Москит, войдя в дом, опустил свою ношу на кровать во второй комнате.
– Хочешь, я останусь с тобой? – спросил Москит Паулиту.
– Не надо. Ступай по своим делам и долго не задерживайся.
Москит вышел, Паулита заперла за ним дверь. Хулия пришла в себя и глубоко вздохнула.
– Вам уже лучше? – спросила Паулита, подойдя к кровати.
– О да! Как я вам благодарна! Ведь я так несчастна, так несчастна!..
– И девушка снова залилась слезами.
– Успокойтесь, сеньора, успокойтесь! – повторяла Паулита, ласково гладя по руке свою гостью. – Вы нашли здесь мирный приют, забудьте же ваши невзгоды и успокойтесь. Я не прошу вас доверить мне свои тайны, я вашего доверия не стою, но я постараюсь принести вам утешение.
– Боже мой, сеньора, вы, конечно, имеете право знать, кого вы у себя приютили. Вы имеете право обо всем расспросить меня и даже выгнать из дому, если мой рассказ приведет вас в ужас.
– Выгнать вас? За что? Да сохранит меня бог от такого зла. Нет, сеньора, я у себя хозяйка и не считаюсь здесь ни с кем, кроме моего мужа – это он взял вас на руки и внес в дом. Знайте, мой муж одобряет все мои поступки. Нет, здесь вам будет покойно, здесь никто даже имени вашего не спросит.
– У вас золотое сердце, я доверю вам все мои горести. Слушайте…
– Помните, сеньора, я ни о чем вас не расспрашиваю, ничего не хочу знать.
– Да, я вижу, вы не любопытны, и все же я хочу довериться вам, облегчить свое сердце. Наконец-то в мире сыскался человек, которому я могу поведать мои невзгоды. Я уверена, мне не найти более достойного сердца, чем ваше; только вам я могу открыться, поведать мою тайну.
– Тогда говорите, сеньора, я сохраню вашу тайну и постараюсь утешить вас в горе.
Хулия приподнялась на кровати, Паулита села рядом с ней. Две женские головки, такие непохожие, хотя обе прелестные, прижались друг к другу, спаянные нерасторжимыми узами страдания и жалости.
Хулия не сразу справилась с волнением; наконец, решительно вытерев слезы и сделав над собой усилие, она стала рассказывать. Паулита с участием слушала ее исповедь.
Хулия поведала ей все свои беды, не умолчав ни о своей любви к Антонио, ни о домогательствах отчима, ни о проклятии матери. В свой рассказ, прерываемый слезами и тяжкими вздохами, она вложила столько искреннего чувства, что Паулита была растрогана.
– О, вы невиновны, и вы так несчастны, сеньора! – сказала она, выслушав исповедь до конца. – Я счастлива, что приютила вас у нашего бедного очага.
Прижав к себе головку Хулии, она поцеловала ее в лоб.
– Вы мой ангел-хранитель, – ответила Хулия. – Что было бы со мной, беззащитной и бесприютной, потерявшей всякую надежду на помощь? Вы – мое провидение. Я буду вечно благодарить вас.
– Не говорите больше, вы утомлены. Хотите чего-нибудь поесть?
– Нет, но мне уже лучше.
В эту минуту раздался стук в дверь. Паулита почувствовала, как Хулия вздрогнула.
– Не пугайтесь, это Москит, мой муж. – И, тихонько отстранив от себя девушку, Паулита поспешила к двери.
В комнату вошел Москит, но он был не один, его сопровождал закутанный в плащ незнакомец в низко надвинутой широкополой шляпе.
Ни слова не сказав Паулите, Москит подошел вместе с незнакомцем к порогу спальни, где лежала Хулия, и спросил, указывая на нее:
– Вот. Это она?
– Она! – воскликнул незнакомец, откидывая плащ и снимая шляпу.
– Дон Хусто! – удивилась девушка, узнав его.
– Да, это я, – ответил дон Хусто, – я, невольная причина всех бед, происшедших сегодня в вашем доме. Москиту я всецело доверяю; прослышав о вашем исчезновении, я послал за ним, чтобы разыскать вас. Судьба была ко мне милостива: едва я обратился к нему с просьбой найти вас, как узнал, что он приютил у себя незнакомую молодую девушку. Я сразу подумал, что это вы, и, не колеблясь, пришел сюда убедиться. Бог помог мне найти вас и предложить вам мои услуги в столь тягостный час.
Паулита, стоявшая позади дона Хусто, не удержалась от насмешливого движения, а Москит в ответ слегка нахмурил брови.
– Благодарю вас, сеньор, – ответила Хулия, – благодарю вас. Вы ни в чем не виноваты, поверьте, я сама ни о чем не догадывалась. Однако я пока не знаю, на что решиться. Я не в силах двинуться с места, мысли у меня в голове путаются, и, если хозяева мне разрешат, я останусь у них еще хотя бы дня на два.
– Конечно, конечно, – с жаром откликнулась Паулита, подходя к Хулии и словно желая защитить ее. – И не два дня, а два года. Я буду так счастлива, и поверьте, мы ни в чем не будем нуждаться, я заставлю Москита работать. Не правда ли, Москит, ты с радостью позаботишься о сеньоре?
– Верно, сеньора, – ответил Москит, – здесь вам будет спокойно, и вы ни в чем не будете терпеть недостатка.
– В таком случае, – сказал дон Хусто, – больше говорить не о чем. Тем не менее послезавтра я снова навещу вас, чтобы узнать, не надо ли вам чего-нибудь. До свидания, Хулия, до послезавтра. Если же вам что-либо понадобиться раньше, передайте через Москита.
– Благодарю вас, сеньор, благодарю, – повторила Хулия, протянув ему руку.
– Прощайте.
– Да, я хотела просить вас об одном одолжении, – сказала Хулия.
– Пожалуйста, всегда готов служить вам.
– Обещайте никому не говорить, что вы разыскали меня. Ни моей матери, ни дону Педро Хуану.
– Обещаю. Об этом будем знать только мы четверо на целом свете.
– Ах, сеньор, вы так добры! – Дон Хусто удалился, Москит проводил его до дверей. Паулита и Хулия остались вдвоем.
– Замечательный человек! – воскликнула Хулия.
– Напрасно вы так думаете, – возразила Паулита.
– Как?
– Не советую доверять ему.
– Но…
– Тише, Москит идет, он ему очень предан.
Закрыв за гостем дверь, Москит вернулся в спальню.
– И зачем ты только притащил с собой этого жука? – сказала Паулита.
– Что это с тобой? – спросил Москит.
– Ты знаешь, я недолюбливаю его.
– Он принял горячее участие в судьбе сеньоры, я хотел ее порадовать. У вас бывали с ним раньше размолвки?
– Нет, – ответила Хулия.
– Так в чем же дело?
– Просто предчувствие, – сказала Паулита.
– Если он себе хоть что-либо позволит, ему не поздоровиться, – пообещал Москит. – А теперь давайте спать.
Радушные хозяева ушли на ночь в соседнюю комнату, уступив гостье свою спальню.
 В первую минуту онабыла настолько ошеломлена, что растерялась, потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, Индиано встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньи Аны. Донья Ана оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда.
Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье, в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями.
Индиано – это был он – так поспешно прошел мимо доньи Аны, что не заметил ее. Донья Ана решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко.
– Дон Энрике, – начал он, – окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую.
– С большим удовольствием, – ответил дон Энрике.
– Вот письменный прибор.
– Диктуйте, я готов, – сказал дон Энрике после минутного молчания.
И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья, Ана не пропустила ни единого слова:
В первую минуту онабыла настолько ошеломлена, что растерялась, потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, Индиано встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньи Аны. Донья Ана оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда.
Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье, в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями.
Индиано – это был он – так поспешно прошел мимо доньи Аны, что не заметил ее. Донья Ана решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко.
– Дон Энрике, – начал он, – окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую.
– С большим удовольствием, – ответил дон Энрике.
– Вот письменный прибор.
– Диктуйте, я готов, – сказал дон Энрике после минутного молчания.
И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья, Ана не пропустила ни единого слова:
 – Мальчик! – закричал он. – Сеньорито! Это вы!.. Ах, какая радость, какая радость! Мальчик мой, какая радость!
– Полно, старина, – успокаивал его растроганный дон Энрике, – полно, умерь свою радость, еще кто-нибудь из прохожих увидит нас. Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой.
– Я просто глазам своим не верю, сеньорито, – повторял старик.
– Ну, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени.
– Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам.
– Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов.
– Это легче легкого, сеньорито: я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?
– Да. А кто там теперь спит?
– Никто, сеньорито, никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину; а я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платье, оружие, словно вы там по-прежнему живете.
– Спасибо, дружище!
– Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я. А все-таки никто их из конюшни не выводит.
– Так идем же, – сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
– Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил.
– Отлично… А в котором часу назначено венчание?
– Капеллана ждут в девять.
– Ну, так ступай, открой нам дверь.
Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покои дона Энрике.
Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные.
Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил; на всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье – все содержалось в образцовом порядке.
Сердце дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение.
– Ну, вот мы и дома, – сказал он дону Диего. – А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?
– Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю. С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле…
– Боюсь, что он откажет.
– Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше девяти утра, я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
– С условием, что вы вернетесь не позже девяти.
– Разумеется.
– Тогда согласен.
– Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
– Зачем?
– У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня.
– Хорошо.
– Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
– Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
– Я никогда, никогда вас не покину, – с восторгом подтвердил старик.
Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться.
Его старший друг направился во дворец; он был уверен, что маркиз де Мансера, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожей сидела Паулита.
– Что ты здесь делаешь, Паулита? – удивился дон Диего.
– Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа.
– Ты еще не говорила с ним?
– Нет.
– Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я испрошу помилование для твоего мужа.
– Дай-то бог! – вздохнула молодая женщина.
Дон Диего вошел в покои вице-короля.
– Как дела? – весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
– Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела…
– Касающегося дона Энрике?
– Да, сеньор.
– Что слышно нового?
– Сеньор, мы успешно действуем; противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайно.
– Это просто замечательно! – рассмеялся вице-король. – Но не позже чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание.
– Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться… Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено.
– Это было бы превосходно.
– Мы хотели просить вашу светлость быть посаженым отцом на свадьбе дона Энрике.
– Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет.
– Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покои молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным, и спектакль удастся на славу…
Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает.
Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии. В правой руке он держал черную шляпу, а в левой – длинный темный плащ.
– Я готов, крестник! – воскликнул он весело. – Помогите мне накинуть плащ.
Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев.
– Я думаю, – сказал вице-король, – что у нас получится великолепное представление; подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше.
Они вышли в прихожую, где сидела Паулита.
– Сеньора, – сказал ей вице-король, – если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом.
Паулита почтительно поклонилась, а дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине:
– Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, ия тебе ручаюсь за успех.
– Благодарствуйте, – ответила Паулита.
– О чем вы говорили с этой женщиной? – спросил вице-король.
– Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас.
– А в чем дело?
– Об этом ваша светлость узнает самое позднее через два часа, когда ваша светлость уже дарует эту милость.
– Вы слишком уверены…
– В доброте вашей светлости, она мне и в самом деле хорошо известна.
Вице-король и дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям дона Энрике; услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь.
Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал дон Энрике.
Юноша уже успел облачиться в придворный костюм; при виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку. Но вице-король раскрыл объятья и дружелюбно произнес:
– Дон Энрике, я буду вашим посаженым отцом и хочу обнять вас, как сына.
С этими словами он ласково обнял юношу.
– Час близится, – продолжал вице-король, – я хочу дать указания, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова.
– Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем.
Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя дона Диего и дона Энрике, сообщил им свои распоряжения.
Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда.
Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием.
Дон Хусто сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна.
Начался обряд, священник обратился к невесте со словами:
– Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора дона Хусто Салинаса де Саламанка-и-Баус?
Невеста в нерешительности молчала.
– Нет, – раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед.
– Я супруг этой сеньоры, я, дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение.
В этот момент из ризницы появилась женщина.
– Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират, я сама видела тебя среди пиратов.
То была донья Ана. Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников.
Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с доном Энрике, произнес властным голосом:
– Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов.
Все замерли от удивления.
– Граф, – продолжал вице-король, – подайте руку вашей супруге; я буду вашим посаженым отцом, а сеньора графиня посаженой матерью.
– Весьма охотно, – ответила донья Гуадалупе.
– Что же касается вас, дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
– А мой муж, – воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. – Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи?
– Помилован, – ответил вице-король. – Можно продолжать бракосочетание.
На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.
– Мальчик! – закричал он. – Сеньорито! Это вы!.. Ах, какая радость, какая радость! Мальчик мой, какая радость!
– Полно, старина, – успокаивал его растроганный дон Энрике, – полно, умерь свою радость, еще кто-нибудь из прохожих увидит нас. Послушай-ка лучше, мне надо о многом поговорить с тобой.
– Я просто глазам своим не верю, сеньорито, – повторял старик.
– Ну, успокойся и послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени.
– Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам.
– Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов.
– Это легче легкого, сеньорито: я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?
– Да. А кто там теперь спит?
– Никто, сеньорито, никто. Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину; а я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платье, оружие, словно вы там по-прежнему живете.
– Спасибо, дружище!
– Так что, ежели желаете, можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке. Только ваши лошади состарились, как и я. А все-таки никто их из конюшни не выводит.
– Так идем же, – сказал дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
– Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил.
– Отлично… А в котором часу назначено венчание?
– Капеллана ждут в девять.
– Ну, так ступай, открой нам дверь.
Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покои дона Энрике.
Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные.
Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил; на всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье – все содержалось в образцовом порядке.
Сердце дона Энрике сжалось, он с трудом преодолел волнение.
– Ну, вот мы и дома, – сказал он дону Диего. – А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?
– Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю. С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле…
– Боюсь, что он откажет.
– Как знать? Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше девяти утра, я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
– С условием, что вы вернетесь не позже девяти.
– Разумеется.
– Тогда согласен.
– Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
– Зачем?
– У меня созрел один план. Прошу вас, сделайте это ради меня.
– Хорошо.
– Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
– Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
– Я никогда, никогда вас не покину, – с восторгом подтвердил старик.
Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться.
Его старший друг направился во дворец; он был уверен, что маркиз де Мансера, верный своей привычке, уже поднялся. В прихожей сидела Паулита.
– Что ты здесь делаешь, Паулита? – удивился дон Диего.
– Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа.
– Ты еще не говорила с ним?
– Нет.
– Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я испрошу помилование для твоего мужа.
– Дай-то бог! – вздохнула молодая женщина.
Дон Диего вошел в покои вице-короля.
– Как дела? – весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
– Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела…
– Касающегося дона Энрике?
– Да, сеньор.
– Что слышно нового?
– Сеньор, мы успешно действуем; противник осажден, наши силы, а под ними я подразумеваю дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайно.
– Это просто замечательно! – рассмеялся вице-король. – Но не позже чем через два часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание.
– Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться… Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено.
– Это было бы превосходно.
– Мы хотели просить вашу светлость быть посаженым отцом на свадьбе дона Энрике.
– Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет.
– Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покои молодого графа де Торре-Леаль никем не замеченным, и спектакль удастся на славу…
Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает.
Немного времени спустя маркиз де Мансера вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии. В правой руке он держал черную шляпу, а в левой – длинный темный плащ.
– Я готов, крестник! – воскликнул он весело. – Помогите мне накинуть плащ.
Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев.
– Я думаю, – сказал вице-король, – что у нас получится великолепное представление; подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше.
Они вышли в прихожую, где сидела Паулита.
– Сеньора, – сказал ей вице-король, – если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом.
Паулита почтительно поклонилась, а дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине:
– Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, ия тебе ручаюсь за успех.
– Благодарствуйте, – ответила Паулита.
– О чем вы говорили с этой женщиной? – спросил вице-король.
– Я взял на себя смелость пообещать, что через два часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас.
– А в чем дело?
– Об этом ваша светлость узнает самое позднее через два часа, когда ваша светлость уже дарует эту милость.
– Вы слишком уверены…
– В доброте вашей светлости, она мне и в самом деле хорошо известна.
Вице-король и дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли, никем не замеченные, к покоям дона Энрике; услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь.
Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал дон Энрике.
Юноша уже успел облачиться в придворный костюм; при виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку. Но вице-король раскрыл объятья и дружелюбно произнес:
– Дон Энрике, я буду вашим посаженым отцом и хочу обнять вас, как сына.
С этими словами он ласково обнял юношу.
– Час близится, – продолжал вице-король, – я хочу дать указания, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно, не пропустите ни единого слова.
– Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем.
Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя дона Диего и дона Энрике, сообщил им свои распоряжения.
Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда.
Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение три фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием.
Дон Хусто сиял счастьем, Хулия была бледна и печальна.
Начался обряд, священник обратился к невесте со словами:
– Хулия де Лафонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора дона Хусто Салинаса де Саламанка-и-Баус?
Невеста в нерешительности молчала.
– Нет, – раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из трех незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед.
– Я супруг этой сеньоры, я, дон Энрике Руис де Мендилуэта, граф де Торре-Леаль.
Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение.
В этот момент из ризницы появилась женщина.
– Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират, я сама видела тебя среди пиратов.
То была донья Ана. Дон Энрике побледнел и, словно в поисках поддержки, устремил взгляд на своих спутников.
Тогда второй из трех незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с доном Энрике, произнес властным голосом:
– Я, дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов.
Все замерли от удивления.
– Граф, – продолжал вице-король, – подайте руку вашей супруге; я буду вашим посаженым отцом, а сеньора графиня посаженой матерью.
– Весьма охотно, – ответила донья Гуадалупе.
– Что же касается вас, дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
– А мой муж, – воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. – Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи?
– Помилован, – ответил вице-король. – Можно продолжать бракосочетание.
На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.
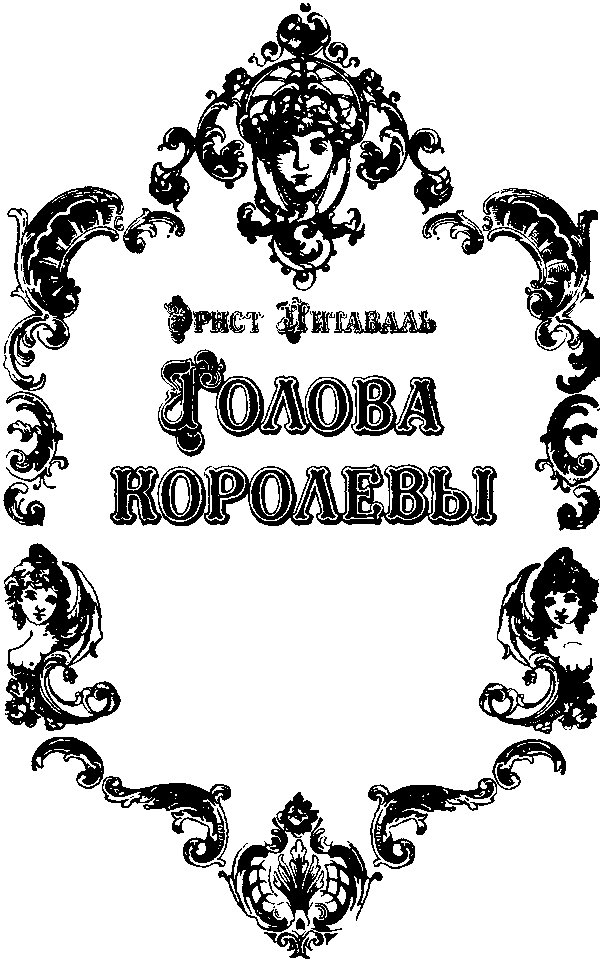


 Всемогущий министр и любимец короля Генриха VIII, архиепископ Кранмер, давал бал-маскарад в своем дворце в Гэмптоне. Обширный парадный зал был задрапирован пурпурным сукном, галерея для герольдов и музыкантов была увешана богатыми коврами, бесчисленные свечи белого прозрачного воска заменяли дневной свет. Буфетные столы были уставлены бутылками, золотыми бокалами и блюдцами со всевозможными редкими и дорогими кушаньями. Пестрая толпа гостей двигалась и негромко шумела; тут стояли группы разговаривающих, там кавалеры пили вино; в уютных уголках беседовали парочки; в смежной комнате, рядом с банкетным залом, был устроен театр, а галерея вела в сад, где под навесом ветвей и среди благоухающих цветов были накрыты столики с дорогими фруктами и лакомствами.
У входа в эту галерею, в углублении за выдававшейся колонной, стоял высокий, статный мужчина; он скрестил руки на груди и мрачно смотрел на водоворот веселых гостей; но вдруг его глаза оживились, яркая краска ударила в лицо, рукой он схватился за пурпурный занавес, прикрывающий колонну, и поспешил спрятаться за ним.
К галерее приближалась дама. Она пробиралась в толпе с такой беспокойной поспешностью и шла такой воздушной поступью, что две другие маски едва успевали следовать за ней. Одеждой она задела мимоходом занавес, скрывающий мрачного мужчину, но даже и при этом не прямом прикосновении он вздрогнул. Дама скрылась со своими провожатыми в галерее, незнакомец же вышел из ниши, последовал за ней и дикая страсть загорелась в его взоре. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке.
— Здравствуйте, лорд Варвик, — прошептал изящно одетый молодой человек, — на одно слово… Видели вы сейчас молодую особу в белом атласном платье и синей бархатной маске?
— Зачем она понадобилась вам? — мрачно спросил Варвик, дружески пожимая руку молодого человека.
— Забавный вопрос, милорд! Ведь мы на балу, где молодежь охотится за красотой.
— Сэр Генри, эта добыча не для вас.
— Неужели вы, лорд Варвик, являетесь моим соперником в ухаживании за этой красавицей? Она в галерее. Вы, кажется, последовали за ней?..
При этом говоривший — граф Сэррей — сделал вид, что направляется в галерею.
Однако лорд Варвик схватил его руку с железной силой и с такой порывистой резкостью, что Сэррей поднял свой взор, точно желая потребовать у лорда объяснений его странного поступка.
— Сэррей, — дрожащим голосом прошептал Варвик, — я люблю вас, как родного сына. Не следуйте за ней, говорю вам, тот, кто последует за этой дамой, может поплатиться головой за свою опрометчивость. Влюбитесь в иной прекрасный образ и поспешите забыть тень, за которой я гоняюсь.
— Милорд, если вам угрожает опасность, то я не отстану от вас. Сын Чарльза Говарда держит сторону Варвиков. Разве я — ребенок, что вы гоните меня, как будто я рискую обжечь здесь пальцы?
Между тем Варвик становился все нетерпеливее.
— Делайте что угодно, — с досадой прошептал он, — оставайтесь только при мне и молчите, если вам сколько- нибудь дорога жизнь.
С этими словами лорд Варвик вступил в галерею, поспешно прошел по ней и остановился на миг у выхода, точно размышляя, куда направить свои шаги. Его темные глаза как будто имели свойство пронизывать мрак неосвещенных частей сада, потому что он внезапно взял свою шпагу под мышку, чтобы та не стучала по земле, поспешно направился к длинной аллее высоких вязов и стал украдкой пробираться там от дерева к дереву, избегая выступать из тени на свет.
Граф Сэррей следовал за ним. Сэр Генри Говард, граф Сэррей, английский Петрарка, был готов везде подозревать романтическое приключение, а тут, конечно, творилось нечто необычайное, полное захватывающего интереса, если гордый, мрачный лорд Варвик крался по саду как вор и предостерег его: в этом деле человек рискует собственной головой.
Между тем Варвик повернул к чаще кустарника и осторожно забрался в нее; заметив, что Сэррей последовал за ним, он стиснул его руку и подал знак молчания.
Сэррей видел, что рука лорда дрожала, и, глянув в сторону, куда смотрел Варвик, различил белое платье, видневшееся сквозь сети ветвей.
Место, где они притаились, было крайне уединенно, и Сэррей не мог сомневаться, что лорд подслушивает тайны людей, пришедших на условленное свидание. Но его удивляло, почему этот гордый, пылкий и смелый человек ограничивался подслушиванием вместо того, чтобы тут же вызвать соперника на поединок.
Так прошло около четверти часа, после чего стали приближаться шаги с той стороны, где Сэррей заметил белое платье.
Шаги приблизились. Сэррей услыхал тихий шепот, а затем в кустарнике произошло движение. Влюбленная парочка подошла настолько близко к притаившимся мужчинам, что Сэррей мог теперь разобрать слова и узнать голос.
— Милая Джэн, — произнес мужской голос, — ты говоришь, что Анна разлюбила меня? Как раз так нашептывала мне Анна для того, чтобы я оттолкнул от себя Екатерину.
Сэррей вздрогнул: голос, произнесший эти слова, принадлежал королю Генриху Восьмому.
— Сэр, — послышался ответный шепот, — Анна любит другого, я знаю это.
— Это — ложь! — раздалось из ближнего кустарника. Парочка в испуге разъединилась, и в тот момент, пылая волнением, бешенством и негодованием, Анна Болейн, королева Англии, предстала перед своим супругом и опять воскликнула: — Это — ложь, Генрих!… О, Боже мой, чем заслужила я это от тебя!
— Миледи, — возразил король, — вы подслушиваете маскарадную шутку, это недостойно вас.
— Генрих, это — больше, чем маскарадная шутка, это — измена… Мой супруг бесчестит себя с одной из моих служанок! Я требую, чтобы Джэн Сеймур немедленно оставила двор…
— Довольно, миледи! — резким, угрожающим тоном перебил супругу король. — Так смела говорить Екатерина Арагонская, а не вы. А так как вы вздумали разоблачить короля, — тут Генрих VIII откинул плащ пилигрима и снял с головы шляпу, широкие поля которой скрывали его лицо, — то вы найдете и судью, который расследует обвинение против вас, заявленное леди Сеймур.
С этими словами он подал руку своей любовнице, и тихий ликующий смех Джэн Сеймур, возвестил оскорбленной королеве торжество победы.
Анна Болейн чувствовала, что колени ее подгибаются, и уставила неподвижный взор на удаляющуюся пару.
— Месть Екатерины начинается! — пробормотала она, содрогаясь и трепеща словно от какого-то ужасного предчувствия.
Тут Варвик вышел из кустов.
Королева встрепенулась, заслышав шаги.
— Я погибла, Норфолк, — тихо промолвила она, — я погибла, как некогда Екатерина Арагонская.
— Удостойте взглянуть на меня, миледи! — сказал лорд, — Норфолк и Гарри убежали, пред вами граф Варвик.
— Варвик? — страдальческим тоном презрительно вскрикнула несчастная королева и отшатнулась, точно при виде призрака. — Это — Божие мщение…
— Скажите лучше: Божья кара, леди Болейн! — возразил мрачный человек, после чего низко поклонился и поспешил обратно в кусты, так как от дворца бежали слуги с факелами. — Уйдем отсюда, — шепнул Варвик графу Сэррею, — сад будут обыскивать.
— Королева близка к обмороку… смотрите, она шатается, мы должны помочь ей! — воскликнул граф.
— Вы, видно, захотели угодить в Тауэр? Желаете, должно быть, чтобы вас обвинили в любовной связи с королевой? Королю только этого и нужно.
Говоря таким образом, Варвик тащил Сэррея к выходу из парка.
Едва успели они выйти за решетчатые ворота и скрыться на соседней улице, как затрубили в рог.
— Это — сигнал запирать ворота парка! — с мрачной улыбкой произнес Варвик. — Теперь Анне несдобровать!
— Правда ли, что она обманывала короля? — спросил Сэррей. — Милорд, кажется, вы питаете к королеве личную ненависть. Но если она провинилась, то ей можно простить…
— Судьба карает ее по заслугам! — возразил Варвик. — Разве во Франции, при веселом дворе Франциска Первого, вам не рассказывали, из-за чего Генрих Восьмой оттолкнул от себя Екатерину Арагонскую и вступил в пререкания с церковью?
— Нет, милорд, там полагают, что несговорчивость папы, когда Генрих потребовал себе развода, подстрекнула короля поставить на своем, между тем как при иных условиях он, пожалуй, примирился бы со своей супругой. Вдобавок его мучили угрызения совести. Екатерина была вдовой его родного брата, и церковь называла этот брак кровосмешением.
Лорд Варвик горько рассмеялся и воскликнул:
— Генрих Восьмой — и угрызения совести! Эти слова не сопоставимы. Грубая чувственность и кровожадность — вот преобладающие страсти этого глупого современного Калигулы, которые требуют удовлетворения и смеются над всеми препятствиями, наглейшим образом издеваясь над чувством справедливости, когда им оказывают сопротивление. Вы жили во Франции, Сэррей, сочиняли там стихи и учились изящным танцам, но слышали, конечно, между прочим про то, что Генрих Восьмой, король Англии, вел ученый спор с церковью. По вашим словам, честолюбие и гордость побудили короля не уступать и пренебречь папским проклятием. Ну да, весь свет морочили этими выдумками!… Ведь король Генрих также соблюдает отчасти приличия, придерживается известной формальности… И я бьюсь об заклад, что в настоящее время Анна Болейн услышит весьма ученые доводы, по которым для блага Англии необходимо, чтобы Генрих Восьмой возвел ее бывшую горничную в сан английской королевы.
— Вы бредите, милорд! В сан королевы? Ваша ненависть ослепляет вас. Генрих может изменить своей супруге. Ведь он — король, и никто не вправе помешать ему в том, или вступиться за обиженную. Но едва ли он рискнет надругаться таким образом над всякой нравственностью, над всяким правом и общественным мнением.
— Генрих рискнет чем угодно; ведь Джэн Сеймур дала клятву, что он не получит от нее ничего, пока не возведет ее на английский трон.
— Это невозможно, милорд! Вспомните, ведь Анна Болейн — законная жена короля. Он пошел наперекор церкви и расторг свой брак с Екатериной, чтобы вступить в супружество с Анной Болейн, и вдруг он осмелится вторично насмеяться над священным таинством!…
— Сэррей, я намерен рассказать вам одну историю. Сегодня вы бежали вдогонку за красавицей Анной. Вы не подозревали того, что она — королева Англии и замужняя женщина. Сцена в саду, свидетелем которой вы сделались, возмутила вас, и вы, как дворянин, были готовы пролить собственную кровь, защищая право Анны Болейн?
— Вы отгадали мои помыслы, милорд. Я не побоялся бы публично заявить и подтвердить виденное мной сегодня, если бы Анне Болейн пришлось невинно пострадать.
— Хорошо, вот из-за этого именно и намерен я рассказать вам одну историю. Некогда я увидал прекрасную бледную женщину, и мое сердце пленилось ею, как сегодня — ваше. У этой женщины была фрейлина, которую она одаряла благодеяниями и застала однажды на коленях у своего супруга, осыпавшего ее поцелуями. Екатерина Арагонская — так звали ту бледную болезненную женщину — ограничилась при этом лишь горькими слезами и просьбами. Она так же потребовала удаления от двора Анны Болейн, как сегодня Анна Болейн потребовала отставки Джэн Сеймур, но, как сегодня презрительно расхохоталась Джэн Сеймур, так хохотала в то время Анна Болейн, потому что у короля хватило бесстыдства унизить жену пред ее служанкой. Екатерина вынесла незаслуженный позор, но ее слезы вопияли к Небу о мщении, и сегодня пробил час возмездия. Скажите мне теперь, Генри Говард, заслуживает ли Анна Болейн, чтобы дворянин обнажил за нее свой меч?
— Если это — правда, милорд, то пусть судит Бог прелюбодейку, а я умолкаю. Но куда же ведете вы меня?.. Мы, кажется, заблудились?
Лорд Варвик шел по дороге, которая вела к морскому берегу, и Сэррей следовал за ним и не обратил внимания на то, что они отклонялись все дальше от той части города, где находились его собственный дворец и дворец Варвика.
— Мы нисколько не заблудились, Сэррей. Но, пожалуй, вам недосуг?
— Совсем нет, милорд! Однако не могу ли я спросить, куда наш путь?
— Вот к тому домику, где светится угловое окно.
— А кто там живет?
— Увидите сами! — ответил Варвик. — Но прежде дайте мне окончить мой рассказ… Екатерина Арагонская была, как вам известно, вдовой покойного брата нашего короля, Генриху понадобилось испросить особое разрешение папы, чтобы жениться на ней. Екатерина была на шесть лет старше его, ее красота увядала, и вот после восемнадцати лет замужества вдруг оказалось, что короля мучат угрызения совести за женитьбу на близкой родственнице. Анна Болейн непременно требовала себе короны! Генрих стал просить папу о расторжении брачного союза, и когда из Рима пришел отказ в этой просьбе, то он велел одному молодому священнику тайно обвенчать себя с Анной Болейн. Этот молодой священник — тот самый всемогущий теперь вельможа-архиепископ, который угощал нас сегодня в своем дворце, а именно архиепископ Томас Кранмер. В то время в Лондоне жил знаменитый законовед, по имени Томас Морус. Его-то и избрал король для ведения бракоразводного процесса с церковью. Он сделал Моруса своим канцлером, но добросовестный и неподкупный ученый отозвался о браке короля с Анной Болейн как о двоеженстве. Генрих отстранил его от должности, а на его место назначил Кранмера; он объявил, в силу собственной верховной власти, свой брак с Екатериной расторгнутым, когда же церковь ответила на это проклятием и отлучением, то король отложился от нее сам, после чего издал закон, на основании которого назначил себя верховным главой англиканской церкви. Парламент открыто принял сторону короля, и Генрих потребовал также и от Томаса Моруса присяги, признававшей его верховным главой новой церкви. Анна Болейн поклялась, что этому ученому не быть живым, а услужливые власти сумели поставить заранее обреченному человеку такие вопросы, на которые совесть не позволила ему ответить, как того требовал король. Только этого и было надобно Генриху, только этого и добивалась Анна Болейн. Смертный приговор был произнесен над благородным ученым, как над государственным преступником, и после долгого заточения несчастного присудили к жестокой казни. Было приказано протащить его на веревке по городу к эшафоту, а там подвесить на столбе и оставить в висячем положении на долгие муки, после чего снять еще живым и изувечить, распороть ему живот, выжечь кишки, а тело четвертовать, каждую из этих четырех частей было приказано вывесить на городских воротах Лондона, а голову казненного воткнуть на позорный столб посреди Лондонского моста. Я видел своими глазами, как последнего защитника Екатерины влекли в Тауэр, видел потрясающую сцену прощания с ним его единственной дочери, видел, как народ безмолвно и торжественно обнажал головы, проходя мимо.
— Клянусь честью, милорд, — воскликнул Сэррей, — теперь я понимаю, за что вы ненавидите Анну Болейн.
Варвик промолчал, погрузившись в угрюмую задумчивость.
Всемогущий министр и любимец короля Генриха VIII, архиепископ Кранмер, давал бал-маскарад в своем дворце в Гэмптоне. Обширный парадный зал был задрапирован пурпурным сукном, галерея для герольдов и музыкантов была увешана богатыми коврами, бесчисленные свечи белого прозрачного воска заменяли дневной свет. Буфетные столы были уставлены бутылками, золотыми бокалами и блюдцами со всевозможными редкими и дорогими кушаньями. Пестрая толпа гостей двигалась и негромко шумела; тут стояли группы разговаривающих, там кавалеры пили вино; в уютных уголках беседовали парочки; в смежной комнате, рядом с банкетным залом, был устроен театр, а галерея вела в сад, где под навесом ветвей и среди благоухающих цветов были накрыты столики с дорогими фруктами и лакомствами.
У входа в эту галерею, в углублении за выдававшейся колонной, стоял высокий, статный мужчина; он скрестил руки на груди и мрачно смотрел на водоворот веселых гостей; но вдруг его глаза оживились, яркая краска ударила в лицо, рукой он схватился за пурпурный занавес, прикрывающий колонну, и поспешил спрятаться за ним.
К галерее приближалась дама. Она пробиралась в толпе с такой беспокойной поспешностью и шла такой воздушной поступью, что две другие маски едва успевали следовать за ней. Одеждой она задела мимоходом занавес, скрывающий мрачного мужчину, но даже и при этом не прямом прикосновении он вздрогнул. Дама скрылась со своими провожатыми в галерее, незнакомец же вышел из ниши, последовал за ней и дикая страсть загорелась в его взоре. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке.
— Здравствуйте, лорд Варвик, — прошептал изящно одетый молодой человек, — на одно слово… Видели вы сейчас молодую особу в белом атласном платье и синей бархатной маске?
— Зачем она понадобилась вам? — мрачно спросил Варвик, дружески пожимая руку молодого человека.
— Забавный вопрос, милорд! Ведь мы на балу, где молодежь охотится за красотой.
— Сэр Генри, эта добыча не для вас.
— Неужели вы, лорд Варвик, являетесь моим соперником в ухаживании за этой красавицей? Она в галерее. Вы, кажется, последовали за ней?..
При этом говоривший — граф Сэррей — сделал вид, что направляется в галерею.
Однако лорд Варвик схватил его руку с железной силой и с такой порывистой резкостью, что Сэррей поднял свой взор, точно желая потребовать у лорда объяснений его странного поступка.
— Сэррей, — дрожащим голосом прошептал Варвик, — я люблю вас, как родного сына. Не следуйте за ней, говорю вам, тот, кто последует за этой дамой, может поплатиться головой за свою опрометчивость. Влюбитесь в иной прекрасный образ и поспешите забыть тень, за которой я гоняюсь.
— Милорд, если вам угрожает опасность, то я не отстану от вас. Сын Чарльза Говарда держит сторону Варвиков. Разве я — ребенок, что вы гоните меня, как будто я рискую обжечь здесь пальцы?
Между тем Варвик становился все нетерпеливее.
— Делайте что угодно, — с досадой прошептал он, — оставайтесь только при мне и молчите, если вам сколько- нибудь дорога жизнь.
С этими словами лорд Варвик вступил в галерею, поспешно прошел по ней и остановился на миг у выхода, точно размышляя, куда направить свои шаги. Его темные глаза как будто имели свойство пронизывать мрак неосвещенных частей сада, потому что он внезапно взял свою шпагу под мышку, чтобы та не стучала по земле, поспешно направился к длинной аллее высоких вязов и стал украдкой пробираться там от дерева к дереву, избегая выступать из тени на свет.
Граф Сэррей следовал за ним. Сэр Генри Говард, граф Сэррей, английский Петрарка, был готов везде подозревать романтическое приключение, а тут, конечно, творилось нечто необычайное, полное захватывающего интереса, если гордый, мрачный лорд Варвик крался по саду как вор и предостерег его: в этом деле человек рискует собственной головой.
Между тем Варвик повернул к чаще кустарника и осторожно забрался в нее; заметив, что Сэррей последовал за ним, он стиснул его руку и подал знак молчания.
Сэррей видел, что рука лорда дрожала, и, глянув в сторону, куда смотрел Варвик, различил белое платье, видневшееся сквозь сети ветвей.
Место, где они притаились, было крайне уединенно, и Сэррей не мог сомневаться, что лорд подслушивает тайны людей, пришедших на условленное свидание. Но его удивляло, почему этот гордый, пылкий и смелый человек ограничивался подслушиванием вместо того, чтобы тут же вызвать соперника на поединок.
Так прошло около четверти часа, после чего стали приближаться шаги с той стороны, где Сэррей заметил белое платье.
Шаги приблизились. Сэррей услыхал тихий шепот, а затем в кустарнике произошло движение. Влюбленная парочка подошла настолько близко к притаившимся мужчинам, что Сэррей мог теперь разобрать слова и узнать голос.
— Милая Джэн, — произнес мужской голос, — ты говоришь, что Анна разлюбила меня? Как раз так нашептывала мне Анна для того, чтобы я оттолкнул от себя Екатерину.
Сэррей вздрогнул: голос, произнесший эти слова, принадлежал королю Генриху Восьмому.
— Сэр, — послышался ответный шепот, — Анна любит другого, я знаю это.
— Это — ложь! — раздалось из ближнего кустарника. Парочка в испуге разъединилась, и в тот момент, пылая волнением, бешенством и негодованием, Анна Болейн, королева Англии, предстала перед своим супругом и опять воскликнула: — Это — ложь, Генрих!… О, Боже мой, чем заслужила я это от тебя!
— Миледи, — возразил король, — вы подслушиваете маскарадную шутку, это недостойно вас.
— Генрих, это — больше, чем маскарадная шутка, это — измена… Мой супруг бесчестит себя с одной из моих служанок! Я требую, чтобы Джэн Сеймур немедленно оставила двор…
— Довольно, миледи! — резким, угрожающим тоном перебил супругу король. — Так смела говорить Екатерина Арагонская, а не вы. А так как вы вздумали разоблачить короля, — тут Генрих VIII откинул плащ пилигрима и снял с головы шляпу, широкие поля которой скрывали его лицо, — то вы найдете и судью, который расследует обвинение против вас, заявленное леди Сеймур.
С этими словами он подал руку своей любовнице, и тихий ликующий смех Джэн Сеймур, возвестил оскорбленной королеве торжество победы.
Анна Болейн чувствовала, что колени ее подгибаются, и уставила неподвижный взор на удаляющуюся пару.
— Месть Екатерины начинается! — пробормотала она, содрогаясь и трепеща словно от какого-то ужасного предчувствия.
Тут Варвик вышел из кустов.
Королева встрепенулась, заслышав шаги.
— Я погибла, Норфолк, — тихо промолвила она, — я погибла, как некогда Екатерина Арагонская.
— Удостойте взглянуть на меня, миледи! — сказал лорд, — Норфолк и Гарри убежали, пред вами граф Варвик.
— Варвик? — страдальческим тоном презрительно вскрикнула несчастная королева и отшатнулась, точно при виде призрака. — Это — Божие мщение…
— Скажите лучше: Божья кара, леди Болейн! — возразил мрачный человек, после чего низко поклонился и поспешил обратно в кусты, так как от дворца бежали слуги с факелами. — Уйдем отсюда, — шепнул Варвик графу Сэррею, — сад будут обыскивать.
— Королева близка к обмороку… смотрите, она шатается, мы должны помочь ей! — воскликнул граф.
— Вы, видно, захотели угодить в Тауэр? Желаете, должно быть, чтобы вас обвинили в любовной связи с королевой? Королю только этого и нужно.
Говоря таким образом, Варвик тащил Сэррея к выходу из парка.
Едва успели они выйти за решетчатые ворота и скрыться на соседней улице, как затрубили в рог.
— Это — сигнал запирать ворота парка! — с мрачной улыбкой произнес Варвик. — Теперь Анне несдобровать!
— Правда ли, что она обманывала короля? — спросил Сэррей. — Милорд, кажется, вы питаете к королеве личную ненависть. Но если она провинилась, то ей можно простить…
— Судьба карает ее по заслугам! — возразил Варвик. — Разве во Франции, при веселом дворе Франциска Первого, вам не рассказывали, из-за чего Генрих Восьмой оттолкнул от себя Екатерину Арагонскую и вступил в пререкания с церковью?
— Нет, милорд, там полагают, что несговорчивость папы, когда Генрих потребовал себе развода, подстрекнула короля поставить на своем, между тем как при иных условиях он, пожалуй, примирился бы со своей супругой. Вдобавок его мучили угрызения совести. Екатерина была вдовой его родного брата, и церковь называла этот брак кровосмешением.
Лорд Варвик горько рассмеялся и воскликнул:
— Генрих Восьмой — и угрызения совести! Эти слова не сопоставимы. Грубая чувственность и кровожадность — вот преобладающие страсти этого глупого современного Калигулы, которые требуют удовлетворения и смеются над всеми препятствиями, наглейшим образом издеваясь над чувством справедливости, когда им оказывают сопротивление. Вы жили во Франции, Сэррей, сочиняли там стихи и учились изящным танцам, но слышали, конечно, между прочим про то, что Генрих Восьмой, король Англии, вел ученый спор с церковью. По вашим словам, честолюбие и гордость побудили короля не уступать и пренебречь папским проклятием. Ну да, весь свет морочили этими выдумками!… Ведь король Генрих также соблюдает отчасти приличия, придерживается известной формальности… И я бьюсь об заклад, что в настоящее время Анна Болейн услышит весьма ученые доводы, по которым для блага Англии необходимо, чтобы Генрих Восьмой возвел ее бывшую горничную в сан английской королевы.
— Вы бредите, милорд! В сан королевы? Ваша ненависть ослепляет вас. Генрих может изменить своей супруге. Ведь он — король, и никто не вправе помешать ему в том, или вступиться за обиженную. Но едва ли он рискнет надругаться таким образом над всякой нравственностью, над всяким правом и общественным мнением.
— Генрих рискнет чем угодно; ведь Джэн Сеймур дала клятву, что он не получит от нее ничего, пока не возведет ее на английский трон.
— Это невозможно, милорд! Вспомните, ведь Анна Болейн — законная жена короля. Он пошел наперекор церкви и расторг свой брак с Екатериной, чтобы вступить в супружество с Анной Болейн, и вдруг он осмелится вторично насмеяться над священным таинством!…
— Сэррей, я намерен рассказать вам одну историю. Сегодня вы бежали вдогонку за красавицей Анной. Вы не подозревали того, что она — королева Англии и замужняя женщина. Сцена в саду, свидетелем которой вы сделались, возмутила вас, и вы, как дворянин, были готовы пролить собственную кровь, защищая право Анны Болейн?
— Вы отгадали мои помыслы, милорд. Я не побоялся бы публично заявить и подтвердить виденное мной сегодня, если бы Анне Болейн пришлось невинно пострадать.
— Хорошо, вот из-за этого именно и намерен я рассказать вам одну историю. Некогда я увидал прекрасную бледную женщину, и мое сердце пленилось ею, как сегодня — ваше. У этой женщины была фрейлина, которую она одаряла благодеяниями и застала однажды на коленях у своего супруга, осыпавшего ее поцелуями. Екатерина Арагонская — так звали ту бледную болезненную женщину — ограничилась при этом лишь горькими слезами и просьбами. Она так же потребовала удаления от двора Анны Болейн, как сегодня Анна Болейн потребовала отставки Джэн Сеймур, но, как сегодня презрительно расхохоталась Джэн Сеймур, так хохотала в то время Анна Болейн, потому что у короля хватило бесстыдства унизить жену пред ее служанкой. Екатерина вынесла незаслуженный позор, но ее слезы вопияли к Небу о мщении, и сегодня пробил час возмездия. Скажите мне теперь, Генри Говард, заслуживает ли Анна Болейн, чтобы дворянин обнажил за нее свой меч?
— Если это — правда, милорд, то пусть судит Бог прелюбодейку, а я умолкаю. Но куда же ведете вы меня?.. Мы, кажется, заблудились?
Лорд Варвик шел по дороге, которая вела к морскому берегу, и Сэррей следовал за ним и не обратил внимания на то, что они отклонялись все дальше от той части города, где находились его собственный дворец и дворец Варвика.
— Мы нисколько не заблудились, Сэррей. Но, пожалуй, вам недосуг?
— Совсем нет, милорд! Однако не могу ли я спросить, куда наш путь?
— Вот к тому домику, где светится угловое окно.
— А кто там живет?
— Увидите сами! — ответил Варвик. — Но прежде дайте мне окончить мой рассказ… Екатерина Арагонская была, как вам известно, вдовой покойного брата нашего короля, Генриху понадобилось испросить особое разрешение папы, чтобы жениться на ней. Екатерина была на шесть лет старше его, ее красота увядала, и вот после восемнадцати лет замужества вдруг оказалось, что короля мучат угрызения совести за женитьбу на близкой родственнице. Анна Болейн непременно требовала себе короны! Генрих стал просить папу о расторжении брачного союза, и когда из Рима пришел отказ в этой просьбе, то он велел одному молодому священнику тайно обвенчать себя с Анной Болейн. Этот молодой священник — тот самый всемогущий теперь вельможа-архиепископ, который угощал нас сегодня в своем дворце, а именно архиепископ Томас Кранмер. В то время в Лондоне жил знаменитый законовед, по имени Томас Морус. Его-то и избрал король для ведения бракоразводного процесса с церковью. Он сделал Моруса своим канцлером, но добросовестный и неподкупный ученый отозвался о браке короля с Анной Болейн как о двоеженстве. Генрих отстранил его от должности, а на его место назначил Кранмера; он объявил, в силу собственной верховной власти, свой брак с Екатериной расторгнутым, когда же церковь ответила на это проклятием и отлучением, то король отложился от нее сам, после чего издал закон, на основании которого назначил себя верховным главой англиканской церкви. Парламент открыто принял сторону короля, и Генрих потребовал также и от Томаса Моруса присяги, признававшей его верховным главой новой церкви. Анна Болейн поклялась, что этому ученому не быть живым, а услужливые власти сумели поставить заранее обреченному человеку такие вопросы, на которые совесть не позволила ему ответить, как того требовал король. Только этого и было надобно Генриху, только этого и добивалась Анна Болейн. Смертный приговор был произнесен над благородным ученым, как над государственным преступником, и после долгого заточения несчастного присудили к жестокой казни. Было приказано протащить его на веревке по городу к эшафоту, а там подвесить на столбе и оставить в висячем положении на долгие муки, после чего снять еще живым и изувечить, распороть ему живот, выжечь кишки, а тело четвертовать, каждую из этих четырех частей было приказано вывесить на городских воротах Лондона, а голову казненного воткнуть на позорный столб посреди Лондонского моста. Я видел своими глазами, как последнего защитника Екатерины влекли в Тауэр, видел потрясающую сцену прощания с ним его единственной дочери, видел, как народ безмолвно и торжественно обнажал головы, проходя мимо.
— Клянусь честью, милорд, — воскликнул Сэррей, — теперь я понимаю, за что вы ненавидите Анну Болейн.
Варвик промолчал, погрузившись в угрюмую задумчивость.


 Прошло несколько лет с того дня, когда Генри Говард с лордом Варвиком стояли пред Маргаритой Морус, и многое изменилось с тех пор. Джэн Сеймур после недолгого замужества умерла при родах, и король Генрих отправил своего приближенного, сэра Томаса Кромвеля, в Клеве, просить руки принцессы Анны. Когда невеста, обвенчанная по обычаю того времени с королевским посланником вместо короля, была привезена к нему, то король нашел ее безобразной и разразился бранью, говоря, что ему вместо жены привели толстую фландрскую кобылу. Он устроил вторичный развод с Анной Клевской, а посредника этого брака приказал обезглавить.
Томас Кромвель, по словам палача в Тауэре, не позволил завязать себе глаза пред казнью:
— Скажите королю Генриху, — это были его последние слова, — что он поступил нехорошо, в насмешку упрекнув меня, будто я, сын кузнеца, плохо подковал его, обманув насчет огромной, толстой брабантской лошади, которая умеет ржать только на нижнегерманском наречии. Да будет ему известно, что, сто лет спустя, внук этого кузнеца выкует железо, которым будет казнен король Англии.
Окончив эту речь, Кромвель положил голову на плаху, а, когда она была отрублена, мертвые, остановившиеся глаза казненного так и остались широко раскрытыми и выпученными, точно его взор прозревал будущее. Сколько их ни закрывали, они снова открывались, и голова Кромвеля осталась лежать в гробу как бы зрячая.
— Это означает, — пояснил палач, — что лишь после того, как новый Кромвель отомстит за своего предка, умертвив короля Англии, обезглавленный сомкнет наконец свои вежды.
Однажды на пиру у архиепископа винчестерского Генрих увидел грациозную, пленительную Екатерину Говард, племянницу герцогов Норфолк и двоюродную сестру графа Сэррея. Напрасно граф Сэррей предостерегал свою родственницу против кровавого наследия Анны Болейн, Екатерина не послушала его предостережений; она отдала руку королю и сделала его настолько счастливым, что он заказывал всем церквям благодарственные молебны за свое супружеское счастье.
Однако непостоянство сладострастника опять довело его до пресыщения, а предлог предать суду надоевшую жену был скоро найден. Раньше своего брака с королем Екатерина состояла в нежных отношениях с неким Дургэмом, а предназначалась в супруги другому дворянину. Оба эти человека — бывший любовник и жених были немедленно приговорены к смертной казни, а несчастную королеву таскали с допроса на допрос, хотя она не могла дать иных показаний, кроме того что горько раскаивается в своем прежнем легкомыслии, но не признает себя виновной ни в какой неверности своему супругу.
Однако Екатерину обвинили в государственном преступлении, так как она скрыла, что была уже не девушка, когда отдавала Генриху свою руку.
Снова зазвонил погребальный колокол, и черный флаг на зубцах Тауэра возвестил, что голова королевы упала под секирой палача, а герольды провозглашали на улицах Лондона, что, «по праву справедливости», герб и имя казненной королевы должны исчезнуть со всех общественных зданий, а все ее портреты подлежат конфискации.
Это последнее бесчестье было придумано графом Линкольном, министром Генриха VIII и заклятым врагом Екатерины Говард.
Во дворце могущественного графа Килдара, из углового окна в среднем этаже, виднелась высокая, стройная фигура девушки, наблюдавшей сквозь слезы за тем, как кепстэбли снимали с таверны вывеску с гербом королевы Екатерины. Пульс девушки лихорадочно бился, красивые руки дрожали от ужаса, а сердце сжималось невыразимой тоской.
— Бедный Генри! — вздохнув, промолвила она. — Как, должно быть, тяжело ему в настоящую минуту!… Его сестра казнена, родовой герб его имени подвергается поношению, а самому ему, его брату и всем близким грозит опасность тяжкой немилости короля! Ведь они — ближайшие родственники несчастной Екатерины, а Генрих — этот ужасный тиран, не щадящий никого, кто так или иначе навлек на себя его гнев, — не остановится, пред тем, чтобы распространить свою ненависть на всех, кто был близок с виновной… Господи, научи меня, что мне сделать, как помочь Сэрреям? Ведь они — друзья нашего дома, и я сроднилась с ними всей душой!… Если их постигнет какое-либо несчастье, оно так же тяжко, как и их, поразит и меня!… Пойти к отцу, просить у него заступничества? Но согласится ли он на это? Ведь он так дорожит своим положением при дворе!…
В этот момент открылась дверь, и в комнату вступил тот, кем только что были полны мысли молодой дочери графа Килдара. Девушка быстро повернулась, и с тревогой на лице пошла навстречу Генри Сэррею.
Не дожидаясь его приветствия, она протянула к нему руки и воскликнула:
— Дорогой друг! Вы страдаете? Чем, чем могу я помочь вам? Я слаба и бессильна, но знайте, что мое сердце всецело разделяет ваше горе!…
— Благодарю вас, миледи Бэтси! Иного отношения я не ожидал от вас… вы всегда были добры ко мне и брату!…
— И это мое расположение к вам окрепло еще более теперь, в минуты вашего горя и той опасности, которая грозит вам со стороны короля… Бегите отсюда, сэр Генри! Спасите себя от гнева тирана!… О, Боже, как я ненавижу его!… Мне страшно, противно видеть его, улыбающегося в то время, как на эшафоте льется кровь жертв его кровожадности… О, что бы я дала, чтобы избегнуть возможности бывать в его дворце, проникнутом насквозь ужасом и страшными замыслами!… И я сделаю это!… Пусть мой отец говорит, что хочет, но я не последую ни одному приглашению короля!…
— Но, миледи, ведь вы этим навлечете на себя гнев короля… начнут расспрашивать о причинах и, весьма вероятно, зная о вашем расположении ко всей нашей семье, заподозрят, что вы уклоняетесь бывать при дворе из-за того, что там тяжко оскорбили нас.
— Мне все равно! — воскликнула леди Бэтси. — Зато моя душа будет спокойна!… Но довольно говорить обо мне!… Спешите вы сами избежать опасности!…
— Нет, я не боюсь никакой опасности! — гордо воскликнул Генри Говард, граф Сэррей. — Я всегда сумею защитить себя, и для этого у меня есть два оружия: моя шпага и мои стихи… О, последнее часто колет еще сильнее, чем первое!… Поэзия дает своим избранникам мощь, более сильную, чем сталь… И этот кровожадный Генрих почувствует силу моего слова!… Он думает, что он безгранично велик и могуч и может вершить все, что ему угодно… Но он ошибается!… Сила свободного слова разит каждого: и слабого и мощного; и слово поэта, в особенности то, которое подмечает грехи и слабости ненавистного тирана, легче и скорее, нежели самый строгий закон, повиновение которому достигается под угрозой смерти, — запоминается народом!… Час моей мести Генриху близок! Вчера я написал поэму, в которой, бичуя все мерзости, совершенные Генрихом, облек в поэтическую форму зловещее предсказание роду Тюдоров, вырвавшееся из уст несчастного Кромвеля пред его мученической казнью… Пройдет несколько дней — и вся Англия будет с наслаждением упиваться моими строфами. И если на Генриха не действуют вопли его жертв, если на его сердце не оказывают впечатления стоны и муки несчастных, то больно кольнут его стрелы моей сатиры и ужас содержания моей поэмы!
— Безумец! Что вы хотите сделать! — с ужасом воскликнула леди Килдар. — Умоляю вас, уничтожьте эту поэму!… Ведь она несомненно приведет вас к гибели!… Если уж теперь над вами навис грозящий ежесекундно обрушиться меч, если теперь грозит возможность смерти только за то, что вы — двоюродный брат несчастной казненной королевы Екатерины, то что же будет, когда вы стрелами своей безумно смелой речи затронете лично короля?
— Э, будь что будет! — махнув рукой, воскликнул Генри Сэррей. — Днем раньше, днем позже — не все ли равно? Разве можно еще питать хоть какую-либо жажду жизни, когда она здесь не ценится ни во что!…
— Одумайтесь, сэр Генри!… Ведь вы еще молоды!… А разве не прекрасна жизнь в молодости?.. Тяжело сейчас, но не всегда же так будет!… Не глядите на жизнь столь мрачно! Она и вам еще откроет свои радостные объятия! — убеждала его леди Килдар. — Умоляю вас, откажитесь от своего плана!… Вспомните об отце, сестре, о своем брате!…
В этот момент послышался звон шпор и звук тяжелых шагов и топот детских ног. В комнате появились лорд Варвик в военных доспехах и рядом с ним мальчик, брат Генри Сэррея, Роберт.
— А, лорд Варвик! — радостно промолвила леди Килдар. — Вы как нельзя кстати… И Роберт с вами? Это еще лучше!… Быть может, вид брата, пред которым еще вся жизнь впереди, заставит одуматься этого безумца, — сказала девушка, указывая на Генри Сэррея, и затем передала лорду Варвику весь разговор с пылким поэтом.
Холодный, спокойно-рассудительный Варвик слушал с насупленными бровями, а затем обратился к Генри Сэррею:
— Граф Сэррей! Я всем сердцем понимаю, что вы до глубины души оскорблены последними событиями… я понимаю ваш порыв, но должен остановить его. Вы знаете, что я не менее вас ненавижу этого тирана на троне, ввергнувшего в горе и несчастье свою жену — ту женщину, которую я когда-то любил… Помните наш разговор после бала у Кранмера, когда мы шли с вами к несчастной Маргарите Морус! Но не пришло еще время, когда мы будем в силах отплатить Генриху за его тиранию… Однако мы добьемся своего… Вспомните, что говорила Маргарита о нем и его женах!… Все это исполнилось, так отчего же не исполниться и тому, что она сказала о вас? Она сказала: «Ваши песни становятся все грустнее и горше, и последнюю из них поет ваша окровавленная голова». Конечно, вы вольны делать с собой, что хотите…
— Я не боюсь ничего! — прервал Варвика Генри Сэррей.
— Я знаю вас, — не слушая его, продолжал лорд, — но вы не вправе распоряжаться жизнью своего брата! Откажитесь от своего умысла или вручите мне Роберта! Я намеревался проститься с вами, так как собираюсь уехать в свой Варвик-Кастл; но теперь я уеду не один… Я увезу с собой Роберта, и думаю, что имею на это право в силу своей долголетней дружбы с вами… Поверьте, я сделаю из него человека, ценящего блага жизни больше, чем вы, и разбужу в нем такую же ненависть к Генриху Восьмому, какую питаю сам и какой проникнуты вы… И тиран не уйдет от мести, если не нашей, то по крайней мере нашего младшего поколения… Оно отплатит если не самому Генриху, то его потомству.
Генри Сэррей слушал лорда с заметным волнением; он, очевидно, колебался и не раз взглядывал на леди Килдар, как бы ища у нее решения своих сомнений. А она, нежно привлекши к себе Роберта, с затуманенными от слез глазами, в которых виднелось выражение мольбы, глядела на своего друга, побуждая его принять совет лорда Варвика.
Наконец Генри Сэррей произнес:
— Хорошо! Я подчиняюсь вам, я скрою до поры до времени заготовленное мной орудие против Генриха… Буду надеяться, что придет время, когда мне судьба дозволит прибегнуть к нему!… — Затем он обернулся к брату и, подозвав его к себе, сказал: — Роберт, ты пойдешь в Варвик-Кастл!… Стань настоящим мужчиной!… Помни, что на тебя падает долг отомстить за позор Англии!
Он обнял брата и, повернувшись, вышел из комнаты. Леди Килдар проводила его взглядом, но не сказала ни слова. За Сэрреем тотчас же, простившись с молодой девушкой, вышел лорд Варвик со своим новым воспитанником Робертом Говардом, графом Сэрреем.
Прошло несколько лет с того дня, когда Генри Говард с лордом Варвиком стояли пред Маргаритой Морус, и многое изменилось с тех пор. Джэн Сеймур после недолгого замужества умерла при родах, и король Генрих отправил своего приближенного, сэра Томаса Кромвеля, в Клеве, просить руки принцессы Анны. Когда невеста, обвенчанная по обычаю того времени с королевским посланником вместо короля, была привезена к нему, то король нашел ее безобразной и разразился бранью, говоря, что ему вместо жены привели толстую фландрскую кобылу. Он устроил вторичный развод с Анной Клевской, а посредника этого брака приказал обезглавить.
Томас Кромвель, по словам палача в Тауэре, не позволил завязать себе глаза пред казнью:
— Скажите королю Генриху, — это были его последние слова, — что он поступил нехорошо, в насмешку упрекнув меня, будто я, сын кузнеца, плохо подковал его, обманув насчет огромной, толстой брабантской лошади, которая умеет ржать только на нижнегерманском наречии. Да будет ему известно, что, сто лет спустя, внук этого кузнеца выкует железо, которым будет казнен король Англии.
Окончив эту речь, Кромвель положил голову на плаху, а, когда она была отрублена, мертвые, остановившиеся глаза казненного так и остались широко раскрытыми и выпученными, точно его взор прозревал будущее. Сколько их ни закрывали, они снова открывались, и голова Кромвеля осталась лежать в гробу как бы зрячая.
— Это означает, — пояснил палач, — что лишь после того, как новый Кромвель отомстит за своего предка, умертвив короля Англии, обезглавленный сомкнет наконец свои вежды.
Однажды на пиру у архиепископа винчестерского Генрих увидел грациозную, пленительную Екатерину Говард, племянницу герцогов Норфолк и двоюродную сестру графа Сэррея. Напрасно граф Сэррей предостерегал свою родственницу против кровавого наследия Анны Болейн, Екатерина не послушала его предостережений; она отдала руку королю и сделала его настолько счастливым, что он заказывал всем церквям благодарственные молебны за свое супружеское счастье.
Однако непостоянство сладострастника опять довело его до пресыщения, а предлог предать суду надоевшую жену был скоро найден. Раньше своего брака с королем Екатерина состояла в нежных отношениях с неким Дургэмом, а предназначалась в супруги другому дворянину. Оба эти человека — бывший любовник и жених были немедленно приговорены к смертной казни, а несчастную королеву таскали с допроса на допрос, хотя она не могла дать иных показаний, кроме того что горько раскаивается в своем прежнем легкомыслии, но не признает себя виновной ни в какой неверности своему супругу.
Однако Екатерину обвинили в государственном преступлении, так как она скрыла, что была уже не девушка, когда отдавала Генриху свою руку.
Снова зазвонил погребальный колокол, и черный флаг на зубцах Тауэра возвестил, что голова королевы упала под секирой палача, а герольды провозглашали на улицах Лондона, что, «по праву справедливости», герб и имя казненной королевы должны исчезнуть со всех общественных зданий, а все ее портреты подлежат конфискации.
Это последнее бесчестье было придумано графом Линкольном, министром Генриха VIII и заклятым врагом Екатерины Говард.
Во дворце могущественного графа Килдара, из углового окна в среднем этаже, виднелась высокая, стройная фигура девушки, наблюдавшей сквозь слезы за тем, как кепстэбли снимали с таверны вывеску с гербом королевы Екатерины. Пульс девушки лихорадочно бился, красивые руки дрожали от ужаса, а сердце сжималось невыразимой тоской.
— Бедный Генри! — вздохнув, промолвила она. — Как, должно быть, тяжело ему в настоящую минуту!… Его сестра казнена, родовой герб его имени подвергается поношению, а самому ему, его брату и всем близким грозит опасность тяжкой немилости короля! Ведь они — ближайшие родственники несчастной Екатерины, а Генрих — этот ужасный тиран, не щадящий никого, кто так или иначе навлек на себя его гнев, — не остановится, пред тем, чтобы распространить свою ненависть на всех, кто был близок с виновной… Господи, научи меня, что мне сделать, как помочь Сэрреям? Ведь они — друзья нашего дома, и я сроднилась с ними всей душой!… Если их постигнет какое-либо несчастье, оно так же тяжко, как и их, поразит и меня!… Пойти к отцу, просить у него заступничества? Но согласится ли он на это? Ведь он так дорожит своим положением при дворе!…
В этот момент открылась дверь, и в комнату вступил тот, кем только что были полны мысли молодой дочери графа Килдара. Девушка быстро повернулась, и с тревогой на лице пошла навстречу Генри Сэррею.
Не дожидаясь его приветствия, она протянула к нему руки и воскликнула:
— Дорогой друг! Вы страдаете? Чем, чем могу я помочь вам? Я слаба и бессильна, но знайте, что мое сердце всецело разделяет ваше горе!…
— Благодарю вас, миледи Бэтси! Иного отношения я не ожидал от вас… вы всегда были добры ко мне и брату!…
— И это мое расположение к вам окрепло еще более теперь, в минуты вашего горя и той опасности, которая грозит вам со стороны короля… Бегите отсюда, сэр Генри! Спасите себя от гнева тирана!… О, Боже, как я ненавижу его!… Мне страшно, противно видеть его, улыбающегося в то время, как на эшафоте льется кровь жертв его кровожадности… О, что бы я дала, чтобы избегнуть возможности бывать в его дворце, проникнутом насквозь ужасом и страшными замыслами!… И я сделаю это!… Пусть мой отец говорит, что хочет, но я не последую ни одному приглашению короля!…
— Но, миледи, ведь вы этим навлечете на себя гнев короля… начнут расспрашивать о причинах и, весьма вероятно, зная о вашем расположении ко всей нашей семье, заподозрят, что вы уклоняетесь бывать при дворе из-за того, что там тяжко оскорбили нас.
— Мне все равно! — воскликнула леди Бэтси. — Зато моя душа будет спокойна!… Но довольно говорить обо мне!… Спешите вы сами избежать опасности!…
— Нет, я не боюсь никакой опасности! — гордо воскликнул Генри Говард, граф Сэррей. — Я всегда сумею защитить себя, и для этого у меня есть два оружия: моя шпага и мои стихи… О, последнее часто колет еще сильнее, чем первое!… Поэзия дает своим избранникам мощь, более сильную, чем сталь… И этот кровожадный Генрих почувствует силу моего слова!… Он думает, что он безгранично велик и могуч и может вершить все, что ему угодно… Но он ошибается!… Сила свободного слова разит каждого: и слабого и мощного; и слово поэта, в особенности то, которое подмечает грехи и слабости ненавистного тирана, легче и скорее, нежели самый строгий закон, повиновение которому достигается под угрозой смерти, — запоминается народом!… Час моей мести Генриху близок! Вчера я написал поэму, в которой, бичуя все мерзости, совершенные Генрихом, облек в поэтическую форму зловещее предсказание роду Тюдоров, вырвавшееся из уст несчастного Кромвеля пред его мученической казнью… Пройдет несколько дней — и вся Англия будет с наслаждением упиваться моими строфами. И если на Генриха не действуют вопли его жертв, если на его сердце не оказывают впечатления стоны и муки несчастных, то больно кольнут его стрелы моей сатиры и ужас содержания моей поэмы!
— Безумец! Что вы хотите сделать! — с ужасом воскликнула леди Килдар. — Умоляю вас, уничтожьте эту поэму!… Ведь она несомненно приведет вас к гибели!… Если уж теперь над вами навис грозящий ежесекундно обрушиться меч, если теперь грозит возможность смерти только за то, что вы — двоюродный брат несчастной казненной королевы Екатерины, то что же будет, когда вы стрелами своей безумно смелой речи затронете лично короля?
— Э, будь что будет! — махнув рукой, воскликнул Генри Сэррей. — Днем раньше, днем позже — не все ли равно? Разве можно еще питать хоть какую-либо жажду жизни, когда она здесь не ценится ни во что!…
— Одумайтесь, сэр Генри!… Ведь вы еще молоды!… А разве не прекрасна жизнь в молодости?.. Тяжело сейчас, но не всегда же так будет!… Не глядите на жизнь столь мрачно! Она и вам еще откроет свои радостные объятия! — убеждала его леди Килдар. — Умоляю вас, откажитесь от своего плана!… Вспомните об отце, сестре, о своем брате!…
В этот момент послышался звон шпор и звук тяжелых шагов и топот детских ног. В комнате появились лорд Варвик в военных доспехах и рядом с ним мальчик, брат Генри Сэррея, Роберт.
— А, лорд Варвик! — радостно промолвила леди Килдар. — Вы как нельзя кстати… И Роберт с вами? Это еще лучше!… Быть может, вид брата, пред которым еще вся жизнь впереди, заставит одуматься этого безумца, — сказала девушка, указывая на Генри Сэррея, и затем передала лорду Варвику весь разговор с пылким поэтом.
Холодный, спокойно-рассудительный Варвик слушал с насупленными бровями, а затем обратился к Генри Сэррею:
— Граф Сэррей! Я всем сердцем понимаю, что вы до глубины души оскорблены последними событиями… я понимаю ваш порыв, но должен остановить его. Вы знаете, что я не менее вас ненавижу этого тирана на троне, ввергнувшего в горе и несчастье свою жену — ту женщину, которую я когда-то любил… Помните наш разговор после бала у Кранмера, когда мы шли с вами к несчастной Маргарите Морус! Но не пришло еще время, когда мы будем в силах отплатить Генриху за его тиранию… Однако мы добьемся своего… Вспомните, что говорила Маргарита о нем и его женах!… Все это исполнилось, так отчего же не исполниться и тому, что она сказала о вас? Она сказала: «Ваши песни становятся все грустнее и горше, и последнюю из них поет ваша окровавленная голова». Конечно, вы вольны делать с собой, что хотите…
— Я не боюсь ничего! — прервал Варвика Генри Сэррей.
— Я знаю вас, — не слушая его, продолжал лорд, — но вы не вправе распоряжаться жизнью своего брата! Откажитесь от своего умысла или вручите мне Роберта! Я намеревался проститься с вами, так как собираюсь уехать в свой Варвик-Кастл; но теперь я уеду не один… Я увезу с собой Роберта, и думаю, что имею на это право в силу своей долголетней дружбы с вами… Поверьте, я сделаю из него человека, ценящего блага жизни больше, чем вы, и разбужу в нем такую же ненависть к Генриху Восьмому, какую питаю сам и какой проникнуты вы… И тиран не уйдет от мести, если не нашей, то по крайней мере нашего младшего поколения… Оно отплатит если не самому Генриху, то его потомству.
Генри Сэррей слушал лорда с заметным волнением; он, очевидно, колебался и не раз взглядывал на леди Килдар, как бы ища у нее решения своих сомнений. А она, нежно привлекши к себе Роберта, с затуманенными от слез глазами, в которых виднелось выражение мольбы, глядела на своего друга, побуждая его принять совет лорда Варвика.
Наконец Генри Сэррей произнес:
— Хорошо! Я подчиняюсь вам, я скрою до поры до времени заготовленное мной орудие против Генриха… Буду надеяться, что придет время, когда мне судьба дозволит прибегнуть к нему!… — Затем он обернулся к брату и, подозвав его к себе, сказал: — Роберт, ты пойдешь в Варвик-Кастл!… Стань настоящим мужчиной!… Помни, что на тебя падает долг отомстить за позор Англии!
Он обнял брата и, повернувшись, вышел из комнаты. Леди Килдар проводила его взглядом, но не сказала ни слова. За Сэрреем тотчас же, простившись с молодой девушкой, вышел лорд Варвик со своим новым воспитанником Робертом Говардом, графом Сэрреем.


 Старый граф Варвик поручил Роберта Сэррея заботам своеговерного слуги еще ранее того, как вернулся в Лондон из Варвик-Кастла, и едва только было отправлено письмо Сэррея королю Генриху, оба они поскакали по направлению к шотландской границе.
— Послушайте-ка, — начал старый Томас Мортон, так звали провожатого Роберта, — мне не очень-то нравится, что вы собираетесь сражаться вместе с этими голоногими парнями против своих соотечественников, а когда я подумаю, что мне, может, придется скрестить с вами в бою шпаги, то боюсь, как бы в пылу сражения я не увлекся и не познакомил вас слишком хорошо с моим искусством в ратном деле!
Этот разговор происходил утром того же дня, когда они уже скакали по шотландской земле.
— Не беспокойтесь, старик, — ответил Роберт, — уж я как-нибудь вывернулся бы и не остался бы в долгу. Но Варвик не отправится в поход под знаменем короля Генриха.
— Вот как? Вы уверены?
— Да разве в этом случае граф дал бы мне письмо к графу Аррану?
— Да хранит Господь ваше наивное сердце! Вы плохо знаете нашего лорда, если думаете, что ради вас он заключит дружбу с шотландцами. Он ненавидит их, как истинный англичанин, и стоит ему переехать через Твид, как он немедленно обнажит меч против шотландцев.
— Ошибаетесь, Мортон, этого не может быть. Лорд Варвик обошелся со мной как родной отец и не потребует, чтобы я покинул тех, кому однажды принес присягу верности. А это обязательно случиться, раз я увижу против себя знамена Варвика!
— Вот об этом-то я и говорю с вами! — воскликнул Мортон. — Не очень-то отдавайтесь душой вашим шотландским господам. Вы ищете убежища, и больше ничего. Поэтому немедленно повернитесь к ним спиной, как только в Англии воздух несколько прочистится!
— Это значило бы отплатить неблагодарностью за гостеприимство!
— Ну-ну, не горячитесь так! Варвик никогда не потребует от вас того, что принесло бы с собой бесчестье. Какое вам дело до шотландцев, раз вы поступите просто пажом к принцессе Марии? Ведь она — невеста принца Уэльского!
Роберт покачал головой. Его прямота не мирилась с тем, что он должен будет смотреть, как на врагов, на тех самых людей, которые окажут ему гостеприимство.
Навстречу показался блестящий кортеж рыцарей, быстрым карьером спускавшихся с холма.
— Вот и граф Арран! — воскликнул Мортон. — Соберитесь с духом, чтобы вы могли прямо и бесстрашно смотреть ему в глаза. Я узнаю его цвета по зеленым камзолам и черным перьям.
Роберт Сэррей с любопытством и напряженным ожиданием смотрел на могущественного рыцаря, который, сидя на черном, словно уголь, коне и будучи одет в черные доспехи, остановился в нескольких шагах от него и спросил Мортона, что могло заставить слугу Варвика переехать через границу.
Старик обнажил голову и достаточно обстоятельно передал поручение господина.
— Ладно, ладно! — перебил его граф Арран. — Благородный лорд посылает ко мне этого красивого мальчика для, забавы принцессы? Передайте ему мой привет и скажите, что я оставлю мальчика и пошлю его в Инч-Магом. Надеюсь, там он будет в безопасности от этого мясника Генриха!
С этими словами граф отпустил Мортона и, дав Сэррею знак подъехать ближе, спросил его: — Вы еще в состоянии проехаться верхом или очень устали? В таком случае вам придется обождать здесь на дороге, пока я вернусь.
— Милорд, — ответил Роберт, — я привык гонять лошадей до тех пор, пока они, а не я, будут в изнеможении.
— Тогда следуйте за мной, да смотрите же — не хныкать, если вы просто прихвастнули!
Вся кровь бросилась Роберту в лицо, и он быстро очутился рядом с графом, когда тот дал шпоры своей лошади.
— Граф! — сказал он. — Если в Шотландии существует обычай, чтобы юные дворяне хныкали от усталости во время верховой езды, то я покажу вам, как ездят верхом английские мальчики.
Граф сморщил лоб от такой смелой речи, но ответ все- таки понравился ему.
— Я не говорил ни о шотландцах, ни об английских мальчиках! — произнес он. — При Сольвэй-Мос им пришлось достаточно познакомиться друг с другом. Но я говорил о хорошеньких молодчиках, которые не прочь откармливаться в женских покоях и декламировать стишки. А вы, очевидно, жаждете этого, так как чего бы вам искать иначе в Инч-Магоме?
— Милорд, чем я заслужил ваши издевательства?
— А что можно подумать о человеке, спасающемся бегством и собирающимся спрятаться за женские юбки?
— Милорд, я бежал потому, что этого требовал от меня рыцарь, не менее храбрый, чем вы сами! — произнес Роберт. — Но мне никто не говорил, чтобы я искал здесь места, в котором я мог бы спрятаться из трусости! Я поклялся отомстить за моего несчастного брата, но лучше бы мне сидеть в Тауэре, чем слушать подобные упреки.
Граф испытующе посмотрел на Роберта и по его глазам увидал, что тот говорит совершенно искренне. Поэтому лицо графа стало проясняться, все более и более принимая благосклонное выражение — А золото-то кажется настоящим, хотя оно и английской чеканки! — пробормотал он. — Ну, не сердитесь! — громче продолжал он. — Не сердитесь, если я попробовал вас на зуб. Имя Варвика много значит, но часто бывает, что за границу переправляют гнилой товар под хорошим торговым клеймом. Ведь мы воюем с Англией, так что должны быть осторожны. Но теперь я готов верить вам: у вас слишком открытое лицо для шпиона.
— Милорд, если бы кто-либо другой, а не вы, позволил себе сказать это, то я только пожалел бы, что он настолько не доверяет себе, раз боится шпионов. Вас же, могущественного лорда, я только спрошу, нужно ли графу Варвику посылать шпионов во вражеский лагерь, и если да, то не нашел ли бы он кого-нибудь более полезного?
— Хороший ответ! Я вижу, мы еще с вами будем добрыми друзьями, — улыбнулся граф. — Вы смелы, но умеете сдерживать сердце в надлежащих границах. Ну что же, я откровенно говорю с вами. Я так же мало доверяю Варвику, как и королю Генриху, хотя ничуть не думаю задевать этим его честь. Варвик — англичанин и в силу этого желает как раз обратное тому, чего желаем мы, шотландцы. Он просит меня дать вам убежище и принять в придворный штат принцессы. Это возможно. Но, спрашивается, какую роль будете вы играть там? Правда, Мария Стюарт — невеста принца Уэльского, но пока мы еще намерены придержать ее у себя и очень благодарны королю Генриху за любезное предложение управлять Шотландией от ее имени. Поэтому вы можете сами видеть, что английский паж легко способен стать шпионом своего короля, не делая этим чего-либо заведомо нечестного, так как в лице Марии Стюарт он видит невесту наследника английского престола. Я же должен заботиться о том, чтобы Мария не имела ровно никаких сношений с английским двором, чтобы в Инч-Магом не смея проникнуть никто, способный содействовать похищению принцессы. Понимаете ли вы меня теперь? Имею я основания быть недоверчивым или нет?
— Милорд, у вас есть основания быть подозрительным, — ответил Роберт, — но мне кажется, что я могу легко поколебать сомнения. Король Генрих злодейски умертвил моего брата, равно как и двух своих жен, и если бы это была последняя нищенка на свете, я и то был бы готов защищать ее до последней капли крови, только чтобы она не попала в лапы к этому злодею!
— Я верю вам, иначе я молчал бы, — сказал старый граф, ласково кивнув Сэррею головой. — Но еще один вопрос: вы — протестант?
— Нет, мы с братом остались верными святой религии.
— Тем лучше, потому что в этом случае вас с особенным удовольствием примут в Инч-Магоме. Там вам будет очень хорошо и в смысле безопасности, и в других отношениях. Против ваших соотечественников вы не захотите сражаться, да и к английским беглецам в народе относятся очень подозрительно. Но сделать то, что вы только что сказали, то есть защитить женщину от лап короля Генриха, вы отлично сможете, если только постоянно будете настороже. Хитрость крадется рядом с силой. Следите, чтобы к замку не приблизился какой-нибудь предатель, способный увезти принцессу. Я хотел сначала взять вас с собой в лагерь, чтобы лично отвезти в Инч-Магом, но я верю вам и потому отправлю вас туда прямым путем. Будьте верны нам, и я, Джеймс Гамильтон граф Арран, буду вашим другом и покровителем, но вам не избежать моей мести, если ваше лицо обманывает!
С этими словами граф кликнул одного из своих стрелков, шепнул ему несколько слов и громко приказал проводить Сэррея по Эдинбургской дороге.
Стрелок напевал какую-то песенку, долгое время они скакали рядом, но никто из них не начинал разговора. Только тогда, когда в тумане вырисовались колокольни и башни Эдинбурга, Роберт спросил, далеко ли от города находится Инч-Магом.
— На расстоянии полудня пути. Мы останемся ночевать в Эдинбурге.
— В таком случае выберите харчевню получше, стрелок, чтобы мы могли опорожнить с вами по бокалу вина за здоровье графа Аррана, — сказал Сэррей.
— Да сохранит его Бог и да поразит врагов его! Значит вы вовсе не высокомерный английский дворянчик, который брезгует выпить с шотландцем?
— Клянусь честью, — ответил Сэррей, — я с большим удовольствием разделил бы с вами охапку сена в лагере, чем воспользовался бы постелью в Инч-Магоме!
— Неужто правда? — воскликнул шотландец с просиявшим лицом. Тогда заедем в харчевню «Красный Дуглас». Правда, там вы не встретите дворянчиков в шелковых штанах, зато найдете крепкий эль и кусок поджаренного мяса!
— Я с удовольствием отправлюсь с вами куда угодно.
— Решено! Только графу не словечка об этом! Говоря между нами, цвета Гамильтонов не могут рассчитывать в «Красном Дугласе» на любезный прием. Но для меня там делается исключение. Кэт, крестница хозяина, — моя душенька!
— Так выпьем вторую кружку за здоровье вашей Кэт, а если я встречу там пару прекрасных глаз для меня, так опорожним и третью! — воскликнул Роберт.
— Э, да вы — славный парень, хоть и англичанин. Вы не сердитесь, это только так, к слову… Видите вот тот дом под большой липой? Это и есть «Красный Дуглас».
Стрелок пришпорил лошадь, и скоро они подъехали к харчевне.
Путешественники соскочили с коней и собрались было отвести их в конюшню, когда на пороге появился хозяин харчевни, который бросился к стрелку, как только узнал его.
— Это вы, Вальтер Брай? Уезжайте скорей, во имя Господа! Здесь Дугласы в количестве двадцати всадников, они хотят подстеречь вас и поджечь мой дом, если я впущу вас!
— Вы с ума сошли? — воскликнул шотландец. — Однако что с вами? Ваш камзол разорван. Вы подрались с кем- нибудь?
— Спасайтесь, говорю вам! — сказал хозяин, робко оглядываясь по сторонам. — Дело касается вашей жизни, а вы один!
— Вдвоем! — воскликнул Сэррей и вышел вперед.
— Я желаю знать, что произошло! — сказал стрелок, не обращая внимания на Сэррея. — Где Кэт, ваша крестница?
— Не спрашивайте, уезжайте с Богом, Вальтер Брай!
— Клянусь святым Дунстаном, я сначала должен видеть Кэт, и если какой-нибудь негодяй…
— Она не достойна, чтобы вы спрашивали о ней!
— Не достойна? — спросил стрелок и схватил хозяина за шиворот. — Сейчас же говори, или я ножом вырву из тебя правду!
Хозяин оттолкнул его руки и произнес:
— Сегодня приехали дугласовские всадники. Вы ведь знаете, сэр Штротмур ухаживает за Кэт. Ее не было дома. Я клялся, что она отцеживает эль к обеду. Тогда они принялись искать и нашли… Кэт на сеновале с лордом Бэклеем!
— Это — неправда! — простонал Брай, задрожав всем телом.
— Лорд удрал. Дугласовцы вытащили Кэт на улицу, срамили ее, говоря, что вы обольстили ее…
— Дальше! Дальше!
— Она на папистском столбе, они погружали ее в воду; я не мог ее защитить! — простонал хозяин, вытирая слезы на глазах.
Из харчевни послышались громкие голоса: посетители звали хозяина.
— Уезжайте! Скорей уезжайте! — крикнул он. — Они убьют вас и этого молодого барина.
Напоминание о Роберте привело Вальтера Брая в себя. Словно пьяный, он неподвижно всматривался в пустое пространство пред собой, и его рука судорожно стискивала рукоятку меча. Наконец он встряхнулся, покачиваясь, вскочил на лошадь и кивнул Роберту, чтобы тот последовал его примеру.
— Лорд Бэклей! — тихо сказал он. — Ну, так клянусь Богом, он мне поплатится за это!
Дверь внезапно открылась, и на двор высыпала орава парней разбойничьего вида, которые громко требовали хозяина. Брай дал шпоры коню и успел вовремя выехать за ворота, так как дугласовцы узнали его и кинулись закрывать ворота, зарычав:
— Это — он! Рубите его!
— Мы еще увидимся! — с ироническим смехом ответил стрелок, и в несколько секунд всадники скрылись далеко от преследователей.
Доехав с Робертом до рыночной площади, стрелок натянул поводья, пустил лошадь более тихим ходом и сказал Сэррею:
— Вот здесь находится харчевня, которую граф Арран назначил нам для ночевки. Будьте добры, обождите меня там. Если до утра я не вернусь, то постарайтесь сами найти дорогу в Инч-Магом и дайте графу знать, что Дугласы убили меня.
— Что вы обо мне думаете! Неужели вы предполагаете, что я способен оставить в минуту опасности своего товарища по путешествию одного?
Стрелок, нетерпеливо покачав головой, дал лошади шпоры и поехал прочь. Но Сэррей поскакал за ним следом. Такое приключение было ему по сердцу: ведь дело касалось того, чтобы освободить женщину и наказать дерзких оскорбителей, и, по его понятиям, было бы бесчестно не принять в этом участия.
Старый граф Варвик поручил Роберта Сэррея заботам своеговерного слуги еще ранее того, как вернулся в Лондон из Варвик-Кастла, и едва только было отправлено письмо Сэррея королю Генриху, оба они поскакали по направлению к шотландской границе.
— Послушайте-ка, — начал старый Томас Мортон, так звали провожатого Роберта, — мне не очень-то нравится, что вы собираетесь сражаться вместе с этими голоногими парнями против своих соотечественников, а когда я подумаю, что мне, может, придется скрестить с вами в бою шпаги, то боюсь, как бы в пылу сражения я не увлекся и не познакомил вас слишком хорошо с моим искусством в ратном деле!
Этот разговор происходил утром того же дня, когда они уже скакали по шотландской земле.
— Не беспокойтесь, старик, — ответил Роберт, — уж я как-нибудь вывернулся бы и не остался бы в долгу. Но Варвик не отправится в поход под знаменем короля Генриха.
— Вот как? Вы уверены?
— Да разве в этом случае граф дал бы мне письмо к графу Аррану?
— Да хранит Господь ваше наивное сердце! Вы плохо знаете нашего лорда, если думаете, что ради вас он заключит дружбу с шотландцами. Он ненавидит их, как истинный англичанин, и стоит ему переехать через Твид, как он немедленно обнажит меч против шотландцев.
— Ошибаетесь, Мортон, этого не может быть. Лорд Варвик обошелся со мной как родной отец и не потребует, чтобы я покинул тех, кому однажды принес присягу верности. А это обязательно случиться, раз я увижу против себя знамена Варвика!
— Вот об этом-то я и говорю с вами! — воскликнул Мортон. — Не очень-то отдавайтесь душой вашим шотландским господам. Вы ищете убежища, и больше ничего. Поэтому немедленно повернитесь к ним спиной, как только в Англии воздух несколько прочистится!
— Это значило бы отплатить неблагодарностью за гостеприимство!
— Ну-ну, не горячитесь так! Варвик никогда не потребует от вас того, что принесло бы с собой бесчестье. Какое вам дело до шотландцев, раз вы поступите просто пажом к принцессе Марии? Ведь она — невеста принца Уэльского!
Роберт покачал головой. Его прямота не мирилась с тем, что он должен будет смотреть, как на врагов, на тех самых людей, которые окажут ему гостеприимство.
Навстречу показался блестящий кортеж рыцарей, быстрым карьером спускавшихся с холма.
— Вот и граф Арран! — воскликнул Мортон. — Соберитесь с духом, чтобы вы могли прямо и бесстрашно смотреть ему в глаза. Я узнаю его цвета по зеленым камзолам и черным перьям.
Роберт Сэррей с любопытством и напряженным ожиданием смотрел на могущественного рыцаря, который, сидя на черном, словно уголь, коне и будучи одет в черные доспехи, остановился в нескольких шагах от него и спросил Мортона, что могло заставить слугу Варвика переехать через границу.
Старик обнажил голову и достаточно обстоятельно передал поручение господина.
— Ладно, ладно! — перебил его граф Арран. — Благородный лорд посылает ко мне этого красивого мальчика для, забавы принцессы? Передайте ему мой привет и скажите, что я оставлю мальчика и пошлю его в Инч-Магом. Надеюсь, там он будет в безопасности от этого мясника Генриха!
С этими словами граф отпустил Мортона и, дав Сэррею знак подъехать ближе, спросил его: — Вы еще в состоянии проехаться верхом или очень устали? В таком случае вам придется обождать здесь на дороге, пока я вернусь.
— Милорд, — ответил Роберт, — я привык гонять лошадей до тех пор, пока они, а не я, будут в изнеможении.
— Тогда следуйте за мной, да смотрите же — не хныкать, если вы просто прихвастнули!
Вся кровь бросилась Роберту в лицо, и он быстро очутился рядом с графом, когда тот дал шпоры своей лошади.
— Граф! — сказал он. — Если в Шотландии существует обычай, чтобы юные дворяне хныкали от усталости во время верховой езды, то я покажу вам, как ездят верхом английские мальчики.
Граф сморщил лоб от такой смелой речи, но ответ все- таки понравился ему.
— Я не говорил ни о шотландцах, ни об английских мальчиках! — произнес он. — При Сольвэй-Мос им пришлось достаточно познакомиться друг с другом. Но я говорил о хорошеньких молодчиках, которые не прочь откармливаться в женских покоях и декламировать стишки. А вы, очевидно, жаждете этого, так как чего бы вам искать иначе в Инч-Магоме?
— Милорд, чем я заслужил ваши издевательства?
— А что можно подумать о человеке, спасающемся бегством и собирающимся спрятаться за женские юбки?
— Милорд, я бежал потому, что этого требовал от меня рыцарь, не менее храбрый, чем вы сами! — произнес Роберт. — Но мне никто не говорил, чтобы я искал здесь места, в котором я мог бы спрятаться из трусости! Я поклялся отомстить за моего несчастного брата, но лучше бы мне сидеть в Тауэре, чем слушать подобные упреки.
Граф испытующе посмотрел на Роберта и по его глазам увидал, что тот говорит совершенно искренне. Поэтому лицо графа стало проясняться, все более и более принимая благосклонное выражение — А золото-то кажется настоящим, хотя оно и английской чеканки! — пробормотал он. — Ну, не сердитесь! — громче продолжал он. — Не сердитесь, если я попробовал вас на зуб. Имя Варвика много значит, но часто бывает, что за границу переправляют гнилой товар под хорошим торговым клеймом. Ведь мы воюем с Англией, так что должны быть осторожны. Но теперь я готов верить вам: у вас слишком открытое лицо для шпиона.
— Милорд, если бы кто-либо другой, а не вы, позволил себе сказать это, то я только пожалел бы, что он настолько не доверяет себе, раз боится шпионов. Вас же, могущественного лорда, я только спрошу, нужно ли графу Варвику посылать шпионов во вражеский лагерь, и если да, то не нашел ли бы он кого-нибудь более полезного?
— Хороший ответ! Я вижу, мы еще с вами будем добрыми друзьями, — улыбнулся граф. — Вы смелы, но умеете сдерживать сердце в надлежащих границах. Ну что же, я откровенно говорю с вами. Я так же мало доверяю Варвику, как и королю Генриху, хотя ничуть не думаю задевать этим его честь. Варвик — англичанин и в силу этого желает как раз обратное тому, чего желаем мы, шотландцы. Он просит меня дать вам убежище и принять в придворный штат принцессы. Это возможно. Но, спрашивается, какую роль будете вы играть там? Правда, Мария Стюарт — невеста принца Уэльского, но пока мы еще намерены придержать ее у себя и очень благодарны королю Генриху за любезное предложение управлять Шотландией от ее имени. Поэтому вы можете сами видеть, что английский паж легко способен стать шпионом своего короля, не делая этим чего-либо заведомо нечестного, так как в лице Марии Стюарт он видит невесту наследника английского престола. Я же должен заботиться о том, чтобы Мария не имела ровно никаких сношений с английским двором, чтобы в Инч-Магом не смея проникнуть никто, способный содействовать похищению принцессы. Понимаете ли вы меня теперь? Имею я основания быть недоверчивым или нет?
— Милорд, у вас есть основания быть подозрительным, — ответил Роберт, — но мне кажется, что я могу легко поколебать сомнения. Король Генрих злодейски умертвил моего брата, равно как и двух своих жен, и если бы это была последняя нищенка на свете, я и то был бы готов защищать ее до последней капли крови, только чтобы она не попала в лапы к этому злодею!
— Я верю вам, иначе я молчал бы, — сказал старый граф, ласково кивнув Сэррею головой. — Но еще один вопрос: вы — протестант?
— Нет, мы с братом остались верными святой религии.
— Тем лучше, потому что в этом случае вас с особенным удовольствием примут в Инч-Магоме. Там вам будет очень хорошо и в смысле безопасности, и в других отношениях. Против ваших соотечественников вы не захотите сражаться, да и к английским беглецам в народе относятся очень подозрительно. Но сделать то, что вы только что сказали, то есть защитить женщину от лап короля Генриха, вы отлично сможете, если только постоянно будете настороже. Хитрость крадется рядом с силой. Следите, чтобы к замку не приблизился какой-нибудь предатель, способный увезти принцессу. Я хотел сначала взять вас с собой в лагерь, чтобы лично отвезти в Инч-Магом, но я верю вам и потому отправлю вас туда прямым путем. Будьте верны нам, и я, Джеймс Гамильтон граф Арран, буду вашим другом и покровителем, но вам не избежать моей мести, если ваше лицо обманывает!
С этими словами граф кликнул одного из своих стрелков, шепнул ему несколько слов и громко приказал проводить Сэррея по Эдинбургской дороге.
Стрелок напевал какую-то песенку, долгое время они скакали рядом, но никто из них не начинал разговора. Только тогда, когда в тумане вырисовались колокольни и башни Эдинбурга, Роберт спросил, далеко ли от города находится Инч-Магом.
— На расстоянии полудня пути. Мы останемся ночевать в Эдинбурге.
— В таком случае выберите харчевню получше, стрелок, чтобы мы могли опорожнить с вами по бокалу вина за здоровье графа Аррана, — сказал Сэррей.
— Да сохранит его Бог и да поразит врагов его! Значит вы вовсе не высокомерный английский дворянчик, который брезгует выпить с шотландцем?
— Клянусь честью, — ответил Сэррей, — я с большим удовольствием разделил бы с вами охапку сена в лагере, чем воспользовался бы постелью в Инч-Магоме!
— Неужто правда? — воскликнул шотландец с просиявшим лицом. Тогда заедем в харчевню «Красный Дуглас». Правда, там вы не встретите дворянчиков в шелковых штанах, зато найдете крепкий эль и кусок поджаренного мяса!
— Я с удовольствием отправлюсь с вами куда угодно.
— Решено! Только графу не словечка об этом! Говоря между нами, цвета Гамильтонов не могут рассчитывать в «Красном Дугласе» на любезный прием. Но для меня там делается исключение. Кэт, крестница хозяина, — моя душенька!
— Так выпьем вторую кружку за здоровье вашей Кэт, а если я встречу там пару прекрасных глаз для меня, так опорожним и третью! — воскликнул Роберт.
— Э, да вы — славный парень, хоть и англичанин. Вы не сердитесь, это только так, к слову… Видите вот тот дом под большой липой? Это и есть «Красный Дуглас».
Стрелок пришпорил лошадь, и скоро они подъехали к харчевне.
Путешественники соскочили с коней и собрались было отвести их в конюшню, когда на пороге появился хозяин харчевни, который бросился к стрелку, как только узнал его.
— Это вы, Вальтер Брай? Уезжайте скорей, во имя Господа! Здесь Дугласы в количестве двадцати всадников, они хотят подстеречь вас и поджечь мой дом, если я впущу вас!
— Вы с ума сошли? — воскликнул шотландец. — Однако что с вами? Ваш камзол разорван. Вы подрались с кем- нибудь?
— Спасайтесь, говорю вам! — сказал хозяин, робко оглядываясь по сторонам. — Дело касается вашей жизни, а вы один!
— Вдвоем! — воскликнул Сэррей и вышел вперед.
— Я желаю знать, что произошло! — сказал стрелок, не обращая внимания на Сэррея. — Где Кэт, ваша крестница?
— Не спрашивайте, уезжайте с Богом, Вальтер Брай!
— Клянусь святым Дунстаном, я сначала должен видеть Кэт, и если какой-нибудь негодяй…
— Она не достойна, чтобы вы спрашивали о ней!
— Не достойна? — спросил стрелок и схватил хозяина за шиворот. — Сейчас же говори, или я ножом вырву из тебя правду!
Хозяин оттолкнул его руки и произнес:
— Сегодня приехали дугласовские всадники. Вы ведь знаете, сэр Штротмур ухаживает за Кэт. Ее не было дома. Я клялся, что она отцеживает эль к обеду. Тогда они принялись искать и нашли… Кэт на сеновале с лордом Бэклеем!
— Это — неправда! — простонал Брай, задрожав всем телом.
— Лорд удрал. Дугласовцы вытащили Кэт на улицу, срамили ее, говоря, что вы обольстили ее…
— Дальше! Дальше!
— Она на папистском столбе, они погружали ее в воду; я не мог ее защитить! — простонал хозяин, вытирая слезы на глазах.
Из харчевни послышались громкие голоса: посетители звали хозяина.
— Уезжайте! Скорей уезжайте! — крикнул он. — Они убьют вас и этого молодого барина.
Напоминание о Роберте привело Вальтера Брая в себя. Словно пьяный, он неподвижно всматривался в пустое пространство пред собой, и его рука судорожно стискивала рукоятку меча. Наконец он встряхнулся, покачиваясь, вскочил на лошадь и кивнул Роберту, чтобы тот последовал его примеру.
— Лорд Бэклей! — тихо сказал он. — Ну, так клянусь Богом, он мне поплатится за это!
Дверь внезапно открылась, и на двор высыпала орава парней разбойничьего вида, которые громко требовали хозяина. Брай дал шпоры коню и успел вовремя выехать за ворота, так как дугласовцы узнали его и кинулись закрывать ворота, зарычав:
— Это — он! Рубите его!
— Мы еще увидимся! — с ироническим смехом ответил стрелок, и в несколько секунд всадники скрылись далеко от преследователей.
Доехав с Робертом до рыночной площади, стрелок натянул поводья, пустил лошадь более тихим ходом и сказал Сэррею:
— Вот здесь находится харчевня, которую граф Арран назначил нам для ночевки. Будьте добры, обождите меня там. Если до утра я не вернусь, то постарайтесь сами найти дорогу в Инч-Магом и дайте графу знать, что Дугласы убили меня.
— Что вы обо мне думаете! Неужели вы предполагаете, что я способен оставить в минуту опасности своего товарища по путешествию одного?
Стрелок, нетерпеливо покачав головой, дал лошади шпоры и поехал прочь. Но Сэррей поскакал за ним следом. Такое приключение было ему по сердцу: ведь дело касалось того, чтобы освободить женщину и наказать дерзких оскорбителей, и, по его понятиям, было бы бесчестно не принять в этом участия.


 Позволим себе опередить всадников и провести, до их прибытия, читателя в замок Инч-Магом.
Старое, похожее на крепость строение находилось, как мы уже упоминали, на маленьком острове посредине озера. Зубчатые стены, украшенные гербами шотландских королей, мрачно отражались в ясных водах; эта крепость казалась скорее тюрьмой, чем убежищем, и у каждого, смотревшего на тяжелые железные ворота, за которыми шотландцы прятали свою королеву, невольно тоскливо сжималось сердце.
Марию Стюарт называли пока еще принцессой, хотя корона досталась ей уже в колыбели, и для будущности несчастного ребенка едва ли могло бы быть более зловещее предзнаменование, чем печальная необходимость, заставлявшая ее опекунов перевозить ее из одного замка в другой, из Линлитау, где она родилась, в Стерлинг, а оттуда снова в Инч-Магом.
Королева-мать, Мария Лотарингская, называвшаяся также Мария Гиз, дала своей дочери в воспитатели лордов Эрскина и Ливингстона. Что же касается придворного штата, то таковой состоял из девиц знатнейших семейств страны: Флеминг, Сэйтон, Ливингстон, Бэйтон, — которых называли «четыре Марии», так как все они носили имя Мария.
Несколько дней тому назад в замок прибыл посетитель, которого впустили ночной порой и отвели в отдельную комнату, что возбудило любопытство не только всех четырех Марий, но и всей прислуги. Бойкая Сэйтон пустилась подсматривать да подслушивать и рассказала подругам, что незнакомец очень хорошо одет и сам очень красив собой, что он без всякого сомнения — иностранец, так как говорит только по-французски и не понял старого Драйбира, кастеляна замка, когда тот посетил его, чтобы спросить, достаточно ли удобно устроился гость. Самой же интересной новостью было сообщение, что во время их разговора неоднократно произносилось имя Марии и что, наконец, сегодня был отправлен с курьером толстый пакет на имя графа Аррана.
Все четыре девушки ломали себе голову, что нового может внести в их жизнь это посещение, не удастся ли наконец уехать из этого скучного замка и снова перебраться в Стерлинг или даже в Эдинбург, причем строились самые пышные воздушные замки. Вдруг послышались звуки большого рога, возвещавшие о прибытии постороннего лица, и все четыре Марии бросились к окну, в полной уверенности, что это уже прибыл курьер с ответом, хотя он и отправился всего каких-нибудь два часа тому назад.
По озеру скользил маленький челнок и вскоре вернулся с двумя гостями, из которых один был одет в цвета графа Аррана, а другой, судя по одежде, был молодым дворянином.
Королева-мать вполголоса рассмеялась и насмешливо сказала:
— Графу, кажется, угодно шутить над нами, или он хочет напомнить нам о том времени, когда мы были окружены королевской свитой? Пусть наш духовник примет его послание, я не пущу его к себе на глаза.
— И мы тоже! — воскликнула одна из Марий, обращаясь к остальным, и Марии Сэйтон было поручено передать прибывшим распоряжение королевы.
Мария Сэйтон сияла прелестью шестнадцатой весны, и из ее прекрасных карих глаз сверкала веселая насмешливость. Она была самой старшей из подруг маленькой королевы, но там, ще дело шло о веселой шутке, не она проповедовала рассудительность и осмотрительность. К тому же ее преданность королеве не имела границ. Она очень серьезно смотрела на свои обязанности защищать интересы Марии Стюарт против всякого нарушения кем бы то ни было. Поэтому она не принадлежала ни к какой партии и не служила в сущности никому, кроме самой королевы, — ни королеве-матери, то есть французской партии, ни английской, которую представляли собой некоторые лорды, ни дворянской, к которой принадлежали родственники самой Марии Сайгон и граф Арран. Все эти партии хотели по-своему решить участь маленькой королевы и склонить к себе сердце ребенка, преследуя личные интересы.
Мы не можем утверждать, что Мария Сайгон проводила в жизнь определенный план, она просто инстинктивно чувствовала, что Мария Стюарт нуждается в защите, и готова была пожертвовать своей жизнью, лишь бы охранить ее. Никто даже не подозревал, как сильна была эта преданность в легкомысленной на вид и веселой девушке, и Мария де Гиз тем более доверяла ей и покровительствовала ее близости к дочери, что не подозревала о стремлениях Марии Сэйтон влиять на юную королеву.
Читатель легко угадает, что прибывшие незнакомцы были Сэрреем и Браем.
Роберт был ослеплен веселым и светлым видом Марии Сэйтон и почти не заметил, с какой насмешливой надменностью ответила она на его глубокий, почтительный поклон.
— Прекрасный господин! — заговорила она задорным, вызывающим тоном. — Ее величество королева-мать прислала меня сказать вашей милости, что она не может принять ваше посланничество и что с вас будет совершенно достаточно, если вы передадите духовнику о цели вашего приезда. Должна прибавить к тому же, что мне и всем остальным обитательницам замка очень больно, что мы не находим возможным встретить вас словами: «Добро пожаловать!»
В ее тоне была такая смесь самой злой иронии и грациозной ласковости, что Роберт не нашелся, что ответить. Зато Брай немедленно вывел его из затруднительного положения.
— Прекрасная девица, — сказал стрелок резким, повелительным тоном, — это я являюсь посланцем могущественного и благородного графа Аррана к королеве. Будьте любезны передать ее величеству, что я послан не к ее духовнику и поэтому, в случае, если не буду иметь честь быть принятым королевой, окажусь вынужденным вернуться обратно и доложить моему господину о таком приеме.
— А! — воскликнула Мария Сэйтон, — так посланец — вы, а этот молодой господин — только свита? Простите, господин стрелок, я немедленно передам слова вашего господина моей госпоже и прошу немного обождать здесь.
— Что за наглое создание! — пробормотал Брай, когда Мария скрылась в дверях, тоща как Роберт словно очарованный смотрел ей вслед. — Если она заставит нас прождать здесь слишком долго, то я думаю, нам лучше всего будет вернуться обратно, чтобы она могла узнать, кто тот человек, который один во всей Шотландии имеет право приказывать!
Должно быть, королева догадалась о настроении посланца, потому что Мария Сэйтон вернулась очень быстро, чтобы позвать стрелка.
Но она не упустила при этом случая кинуть задорное замечание:
— Простите, стрелок, что я узнала в вас телохранителя регента сначала по тону, а уже потом по камзолу. Но это произошло потому, что мы сидим здесь, словно арестанты, хотя несмотря на всех телохранителей и стрелков, королева не может безопасно переехать через озеро!
Брай не счел нужным отвечать ей, зато Роберт теперь обрел дар слова.
— Прекрасная девица! — сказал он. — Я рад узнать по вашему тону, как весело живут в этой тюрьме, а так как мне предстоит честь остаться здесь, то я вижу в этом немалое утешение.
— Вы собираетесь остаться здесь? — живо спросила Мария. — В качестве кого же? В качестве кастеляна замка или даже великого сенешаля? Пресвятая Дева! А мы даже не в полном парадном туалете, чтобы встретить вас!
Роберт не мог удержаться от смеха, хотя и чувствовал насмешку в ее словах, и это вызвало у Марии милостивый взгляд по его адресу.
— Ну! — улыбнулась она. — Я вижу, что мы с вами еще позабавимся. Вы, по крайней мере, не имеете такого мрачного вида, как этот почтенный гвардеец!
В тот же момент дверь открылась и на пороге появилась Мария Лотарингская.
Королева уже не была в расцвете молодости, Ведь до того, как Иаков V прибыл во Францию, чтобы просить ее руки, она стала вдовой герцога Лонгвильского. Теперь на ней был двойной вдовий траур, но благородство черт ее лица, носившего, несмотря на мягкость, отпечаток жестокости, заменяло увядшую свежесть.
Стрелок поклонился королеве ровно настолько глубоко, насколько того требовали приличия, и непринужденно подошел вплотную к ней, тогда как Роберт почтительно, остановился у дверей.
— Какое известие понадобилось графу Аррану передать мне, — спросила королева-мать, — раз он выбирает в свои посланцы даже не представителя знати?
— У графа нет ни свободного времени, ни охоты думать о таких мелочах, поэтому-то он и выбрал меня, — спокойно ответил Брай.
— Самого наглого, какого только мог найти. Передай мне то, что поручено тебе!…
— С удовольствием, я и сам собирался сделать это! — раздраженно произнес Брай. — Его светлость, граф, милостиво рекомендует вам пажа, которого он избрал для нашей обожаемой королевы, а вас настоятельным образом просит смотреть на Роберта Говарда, графа Сэррея, как на друга и любимца регента.
— И это — все? — горько рассмеялась Мария Лотарингская. — Скажи регенту, что я исполню его просьбу, несмотря на все нахальство его посланца. Скажи кастеляну, чтобы он дал тебе выпить чего-нибудь и червонец за твои труды. В самом деле, ты не мог бы ревностнее исполнить возложенное на тебя поручение, если бы дело шло о судьбе Шотландии!
Сказав это, она знаком руки отпустила Брая.
Но стрелок не повиновался этому приказанию.
— Ваше величество, — заявил он, — я прошу вас оказать мне честь видеть мою королеву, чтобы передать ей почтительнейшую просьбу моего господина.
— Это совершенно ни к чему, я сама передам ей просьбу графа.
— Извините, ваше величество, граф поручил мне лично передать его слова королеве!
Мария Лотарингская до крови закусила губы. Это спокойное бесстыдство доводило ее до бешенства, так как она чувствовала свое бессилие. Господином положения был именно граф Арран, и его слуги давали ей понять, что королева — не она, а ее дочь. С того момента, как после смерти своего супруга Мария Лотарингская напрасно домогалась регентства, она потеряла всякое влияние, так как победителем остался граф Арран, и парламент передал ему опеку и регентство. Таким образом, каждый мальчишка в его армии знал, что королева завидовала его могуществу.
Королева-мать дала знак, и Мария Сэйтон, поняв язык ее глаз, вышла, чтобы позвать Марию Стюарт.
— Стрелок, так как ты требуешь этого по поручению регента, то я попрошу сюда свою дочь, чтобы она своевременно узнала, что регент требует от нее послушания.
Мария Сэйтон вернулась обратно и доложила:
— Ваше величество! Королева просит передать, что она не желает видеть этого посланца. Если графу Аррану нужно что-либо сказать ей, пусть он явится лично.
Мария Лотарингская с торжеством улыбнулась, но стрелок не позволил так просто отделаться от него.
— Ваше величество! — сказал он. — Можете ли вы поручиться, что эта дама говорит правду и в точности передает слова королевы?
Кровь кинулась в голову гордой Сэйтон при этом оскорблении, которое показалось ей тем тяжелее, что она сознавала свою вину.
Королева на мгновение поколебалась в нерешительности, не зная, поручиться ли ей или еще раз унизиться. И тут на сцену выступил Роберт Сэррей, бывший до того момента немым свидетелемпроисходившего, и воскликнул:
— Вальтер Брай! Если вам нужно поручительство, то примите мою поруку! Я заявляю и готов подтвердить это мечом, что дама сказала правду!
Брай улыбнулся, казалось, что он давно уже ожидал вмешательства Роберта.
— Если дама примет ваше поручительство, — сказал он, то я очень сожалею о необходимости передать регенту, что окружающие королеву лица враждебно настроены против него, потому что иначе ему не дали бы такого оскорбительного ответа.
Сказав это, он сухо поклонился и сделал вид, будто собирается удалиться.
И королева, и Мария Сэйтон почувствовали, сколько угрозы заключалось в сказанных стрелком словах, и смущенно переглянулись. Но тут Роберт, заметивший их взгляд, быстро пришел к ним на помощь.
— Подождите-ка один момент, Брай! — крикнул он, а затем, подойдя к королеве-матери и преклонив колено, сказал: — Ваше величество! Быть может, вам удастся уговорить королеву все-таки принять этого воина, которому нужно только передать ее величеству уверения регента в преданности и представить ей меня!
Мария Лотарингская улыбнулась с удовлетворением, и теплый взгляд ее глаз был наградой Роберту за то, что он вывел ее из неприятного положения.
— Вежливую просьбу я всегда исполняю с удовольствием, — ответила она, — в особенности потому, что она служит мне порукой, что к моей дочери приблизятся подобающим образом. Мария Сэйтон, передайте королеве, что я прошу ее принять посланника регента.
С этими словами она вышла из комнаты.
— Скажите мне, Брай, — шепнул Роберт, как только они остались наедине, — вы с ума, что ли, сошли? Вы говорите с вдовствующей королевой таким тоном, словно состоите придворным наставником!
— Тсс! — шепотом ответил ему Брай. — Здесь и у стен имеются уши! Можете быть уверены, что я в точности исполняю данные мне инструкции, но меня очень порадовало, что вы в конце концов потеряли терпение, так как это могло дать вам единственную возможность снискать здесь благоволение.
Роберт не успел ответить ему что-либо, так как их позвали к королеве.
Мария Стюарт, которой было в то время только шесть лет, была окружена своими фрейлинами и с большим достоинством сидела на кресле, спинка которого была украшена короной.
Брай опустился на колени перед ней и передал свое поручение в таких утонченных выражениях, которые доказывали, что по отношению к вдовствующей королеве он умышленно выказал солдатскую резкость.
Во время его речи Мария Стюарт с любопытством посматривала своими хорошенькими детскими глазками на красивого пажа, когда же Брай кончил, она кивнула, словно почти не слушала сказанных им слов:
— Передайте регенту мой привет и скажите ему, чтобы он сам заехал и навестил меня!
Затем она встала, ласковым кивком головы поздоровалась с Робертом Сэрреем и сделала рукой знак, означавший конец аудиенции, с такой важностью, словно она давала уже сотни таких аудиенций.
— Славно отделались! — улыбнулся Брай, когда они с Робертом прошли в приемную. — Ну, что же, у вас будет отличная дружба со всем этим бабьем!
— Ладно, смейтесь теперь, когда вы мне испортили прием!
Брай повел плечами и шепнул Роберту:
— Говоря между нами, мне кажется, что регент хочет вызвать разрыв, потому что он приказал мне быть таким грубым и резким, словно я попал в логово бунтовщиков. Но здесь не все ладно. Заметили ли вы, как вдовствующей королеве было тяжело подчиниться требованию регента и с каким трудом она подавляла гнев? Здесь что-то происходит, и если вы хотите сохранить голову на плечах, то смотрите в оба!
Роберт удивленно посмотрел на стрелка и, улыбнувшись, произнес:
— Неужели вам кажется непонятным, что королева может требовать больше вежливости и почтительности, чем проявили по отношению к ней вы?
— Она сама вызвала меня на это, а ведь она знала, что я явился от имени графа Аррана. Прежде, в Стерлинге, она приказывала страже делать на караул, когда являлся гонец от графа, и приглашала его к столу. Я остаюсь при своем мнении, что бабье затеяло здесь интригу. Но пусть они все поберегутся! Регент не станет шутить с теми, кто замышляет измену!
Среди такого разговора они дошли до прихожей. Духовник уже поджидал их там и пригласил Брая освежиться чем-нибудь прохладительным. Но стрелок отказался, заявив, что должен немедленно отправиться обратно.
Сэррей проводил его до лодки. На прощание стрелок так сердечно поблагодарил Роберта за оказанную ему в пути помощь, что Сэррей простился с ним как с братом.
— Можете рассчитывать на меня, если вам когда-нибудь понадобится верный друг в нужде или опасности, — сказал стрелок. — Прощайте, сэр, и еще раз повторяю вам: смотрите, чтобы женская хитрость не обманула вашего честного сердца. Граф полагается на вас!
Они еще раз пожали друг другу руки, и челнок отчалил.
Позволим себе опередить всадников и провести, до их прибытия, читателя в замок Инч-Магом.
Старое, похожее на крепость строение находилось, как мы уже упоминали, на маленьком острове посредине озера. Зубчатые стены, украшенные гербами шотландских королей, мрачно отражались в ясных водах; эта крепость казалась скорее тюрьмой, чем убежищем, и у каждого, смотревшего на тяжелые железные ворота, за которыми шотландцы прятали свою королеву, невольно тоскливо сжималось сердце.
Марию Стюарт называли пока еще принцессой, хотя корона досталась ей уже в колыбели, и для будущности несчастного ребенка едва ли могло бы быть более зловещее предзнаменование, чем печальная необходимость, заставлявшая ее опекунов перевозить ее из одного замка в другой, из Линлитау, где она родилась, в Стерлинг, а оттуда снова в Инч-Магом.
Королева-мать, Мария Лотарингская, называвшаяся также Мария Гиз, дала своей дочери в воспитатели лордов Эрскина и Ливингстона. Что же касается придворного штата, то таковой состоял из девиц знатнейших семейств страны: Флеминг, Сэйтон, Ливингстон, Бэйтон, — которых называли «четыре Марии», так как все они носили имя Мария.
Несколько дней тому назад в замок прибыл посетитель, которого впустили ночной порой и отвели в отдельную комнату, что возбудило любопытство не только всех четырех Марий, но и всей прислуги. Бойкая Сэйтон пустилась подсматривать да подслушивать и рассказала подругам, что незнакомец очень хорошо одет и сам очень красив собой, что он без всякого сомнения — иностранец, так как говорит только по-французски и не понял старого Драйбира, кастеляна замка, когда тот посетил его, чтобы спросить, достаточно ли удобно устроился гость. Самой же интересной новостью было сообщение, что во время их разговора неоднократно произносилось имя Марии и что, наконец, сегодня был отправлен с курьером толстый пакет на имя графа Аррана.
Все четыре девушки ломали себе голову, что нового может внести в их жизнь это посещение, не удастся ли наконец уехать из этого скучного замка и снова перебраться в Стерлинг или даже в Эдинбург, причем строились самые пышные воздушные замки. Вдруг послышались звуки большого рога, возвещавшие о прибытии постороннего лица, и все четыре Марии бросились к окну, в полной уверенности, что это уже прибыл курьер с ответом, хотя он и отправился всего каких-нибудь два часа тому назад.
По озеру скользил маленький челнок и вскоре вернулся с двумя гостями, из которых один был одет в цвета графа Аррана, а другой, судя по одежде, был молодым дворянином.
Королева-мать вполголоса рассмеялась и насмешливо сказала:
— Графу, кажется, угодно шутить над нами, или он хочет напомнить нам о том времени, когда мы были окружены королевской свитой? Пусть наш духовник примет его послание, я не пущу его к себе на глаза.
— И мы тоже! — воскликнула одна из Марий, обращаясь к остальным, и Марии Сэйтон было поручено передать прибывшим распоряжение королевы.
Мария Сэйтон сияла прелестью шестнадцатой весны, и из ее прекрасных карих глаз сверкала веселая насмешливость. Она была самой старшей из подруг маленькой королевы, но там, ще дело шло о веселой шутке, не она проповедовала рассудительность и осмотрительность. К тому же ее преданность королеве не имела границ. Она очень серьезно смотрела на свои обязанности защищать интересы Марии Стюарт против всякого нарушения кем бы то ни было. Поэтому она не принадлежала ни к какой партии и не служила в сущности никому, кроме самой королевы, — ни королеве-матери, то есть французской партии, ни английской, которую представляли собой некоторые лорды, ни дворянской, к которой принадлежали родственники самой Марии Сайгон и граф Арран. Все эти партии хотели по-своему решить участь маленькой королевы и склонить к себе сердце ребенка, преследуя личные интересы.
Мы не можем утверждать, что Мария Сайгон проводила в жизнь определенный план, она просто инстинктивно чувствовала, что Мария Стюарт нуждается в защите, и готова была пожертвовать своей жизнью, лишь бы охранить ее. Никто даже не подозревал, как сильна была эта преданность в легкомысленной на вид и веселой девушке, и Мария де Гиз тем более доверяла ей и покровительствовала ее близости к дочери, что не подозревала о стремлениях Марии Сэйтон влиять на юную королеву.
Читатель легко угадает, что прибывшие незнакомцы были Сэрреем и Браем.
Роберт был ослеплен веселым и светлым видом Марии Сэйтон и почти не заметил, с какой насмешливой надменностью ответила она на его глубокий, почтительный поклон.
— Прекрасный господин! — заговорила она задорным, вызывающим тоном. — Ее величество королева-мать прислала меня сказать вашей милости, что она не может принять ваше посланничество и что с вас будет совершенно достаточно, если вы передадите духовнику о цели вашего приезда. Должна прибавить к тому же, что мне и всем остальным обитательницам замка очень больно, что мы не находим возможным встретить вас словами: «Добро пожаловать!»
В ее тоне была такая смесь самой злой иронии и грациозной ласковости, что Роберт не нашелся, что ответить. Зато Брай немедленно вывел его из затруднительного положения.
— Прекрасная девица, — сказал стрелок резким, повелительным тоном, — это я являюсь посланцем могущественного и благородного графа Аррана к королеве. Будьте любезны передать ее величеству, что я послан не к ее духовнику и поэтому, в случае, если не буду иметь честь быть принятым королевой, окажусь вынужденным вернуться обратно и доложить моему господину о таком приеме.
— А! — воскликнула Мария Сэйтон, — так посланец — вы, а этот молодой господин — только свита? Простите, господин стрелок, я немедленно передам слова вашего господина моей госпоже и прошу немного обождать здесь.
— Что за наглое создание! — пробормотал Брай, когда Мария скрылась в дверях, тоща как Роберт словно очарованный смотрел ей вслед. — Если она заставит нас прождать здесь слишком долго, то я думаю, нам лучше всего будет вернуться обратно, чтобы она могла узнать, кто тот человек, который один во всей Шотландии имеет право приказывать!
Должно быть, королева догадалась о настроении посланца, потому что Мария Сэйтон вернулась очень быстро, чтобы позвать стрелка.
Но она не упустила при этом случая кинуть задорное замечание:
— Простите, стрелок, что я узнала в вас телохранителя регента сначала по тону, а уже потом по камзолу. Но это произошло потому, что мы сидим здесь, словно арестанты, хотя несмотря на всех телохранителей и стрелков, королева не может безопасно переехать через озеро!
Брай не счел нужным отвечать ей, зато Роберт теперь обрел дар слова.
— Прекрасная девица! — сказал он. — Я рад узнать по вашему тону, как весело живут в этой тюрьме, а так как мне предстоит честь остаться здесь, то я вижу в этом немалое утешение.
— Вы собираетесь остаться здесь? — живо спросила Мария. — В качестве кого же? В качестве кастеляна замка или даже великого сенешаля? Пресвятая Дева! А мы даже не в полном парадном туалете, чтобы встретить вас!
Роберт не мог удержаться от смеха, хотя и чувствовал насмешку в ее словах, и это вызвало у Марии милостивый взгляд по его адресу.
— Ну! — улыбнулась она. — Я вижу, что мы с вами еще позабавимся. Вы, по крайней мере, не имеете такого мрачного вида, как этот почтенный гвардеец!
В тот же момент дверь открылась и на пороге появилась Мария Лотарингская.
Королева уже не была в расцвете молодости, Ведь до того, как Иаков V прибыл во Францию, чтобы просить ее руки, она стала вдовой герцога Лонгвильского. Теперь на ней был двойной вдовий траур, но благородство черт ее лица, носившего, несмотря на мягкость, отпечаток жестокости, заменяло увядшую свежесть.
Стрелок поклонился королеве ровно настолько глубоко, насколько того требовали приличия, и непринужденно подошел вплотную к ней, тогда как Роберт почтительно, остановился у дверей.
— Какое известие понадобилось графу Аррану передать мне, — спросила королева-мать, — раз он выбирает в свои посланцы даже не представителя знати?
— У графа нет ни свободного времени, ни охоты думать о таких мелочах, поэтому-то он и выбрал меня, — спокойно ответил Брай.
— Самого наглого, какого только мог найти. Передай мне то, что поручено тебе!…
— С удовольствием, я и сам собирался сделать это! — раздраженно произнес Брай. — Его светлость, граф, милостиво рекомендует вам пажа, которого он избрал для нашей обожаемой королевы, а вас настоятельным образом просит смотреть на Роберта Говарда, графа Сэррея, как на друга и любимца регента.
— И это — все? — горько рассмеялась Мария Лотарингская. — Скажи регенту, что я исполню его просьбу, несмотря на все нахальство его посланца. Скажи кастеляну, чтобы он дал тебе выпить чего-нибудь и червонец за твои труды. В самом деле, ты не мог бы ревностнее исполнить возложенное на тебя поручение, если бы дело шло о судьбе Шотландии!
Сказав это, она знаком руки отпустила Брая.
Но стрелок не повиновался этому приказанию.
— Ваше величество, — заявил он, — я прошу вас оказать мне честь видеть мою королеву, чтобы передать ей почтительнейшую просьбу моего господина.
— Это совершенно ни к чему, я сама передам ей просьбу графа.
— Извините, ваше величество, граф поручил мне лично передать его слова королеве!
Мария Лотарингская до крови закусила губы. Это спокойное бесстыдство доводило ее до бешенства, так как она чувствовала свое бессилие. Господином положения был именно граф Арран, и его слуги давали ей понять, что королева — не она, а ее дочь. С того момента, как после смерти своего супруга Мария Лотарингская напрасно домогалась регентства, она потеряла всякое влияние, так как победителем остался граф Арран, и парламент передал ему опеку и регентство. Таким образом, каждый мальчишка в его армии знал, что королева завидовала его могуществу.
Королева-мать дала знак, и Мария Сэйтон, поняв язык ее глаз, вышла, чтобы позвать Марию Стюарт.
— Стрелок, так как ты требуешь этого по поручению регента, то я попрошу сюда свою дочь, чтобы она своевременно узнала, что регент требует от нее послушания.
Мария Сэйтон вернулась обратно и доложила:
— Ваше величество! Королева просит передать, что она не желает видеть этого посланца. Если графу Аррану нужно что-либо сказать ей, пусть он явится лично.
Мария Лотарингская с торжеством улыбнулась, но стрелок не позволил так просто отделаться от него.
— Ваше величество! — сказал он. — Можете ли вы поручиться, что эта дама говорит правду и в точности передает слова королевы?
Кровь кинулась в голову гордой Сэйтон при этом оскорблении, которое показалось ей тем тяжелее, что она сознавала свою вину.
Королева на мгновение поколебалась в нерешительности, не зная, поручиться ли ей или еще раз унизиться. И тут на сцену выступил Роберт Сэррей, бывший до того момента немым свидетелемпроисходившего, и воскликнул:
— Вальтер Брай! Если вам нужно поручительство, то примите мою поруку! Я заявляю и готов подтвердить это мечом, что дама сказала правду!
Брай улыбнулся, казалось, что он давно уже ожидал вмешательства Роберта.
— Если дама примет ваше поручительство, — сказал он, то я очень сожалею о необходимости передать регенту, что окружающие королеву лица враждебно настроены против него, потому что иначе ему не дали бы такого оскорбительного ответа.
Сказав это, он сухо поклонился и сделал вид, будто собирается удалиться.
И королева, и Мария Сэйтон почувствовали, сколько угрозы заключалось в сказанных стрелком словах, и смущенно переглянулись. Но тут Роберт, заметивший их взгляд, быстро пришел к ним на помощь.
— Подождите-ка один момент, Брай! — крикнул он, а затем, подойдя к королеве-матери и преклонив колено, сказал: — Ваше величество! Быть может, вам удастся уговорить королеву все-таки принять этого воина, которому нужно только передать ее величеству уверения регента в преданности и представить ей меня!
Мария Лотарингская улыбнулась с удовлетворением, и теплый взгляд ее глаз был наградой Роберту за то, что он вывел ее из неприятного положения.
— Вежливую просьбу я всегда исполняю с удовольствием, — ответила она, — в особенности потому, что она служит мне порукой, что к моей дочери приблизятся подобающим образом. Мария Сэйтон, передайте королеве, что я прошу ее принять посланника регента.
С этими словами она вышла из комнаты.
— Скажите мне, Брай, — шепнул Роберт, как только они остались наедине, — вы с ума, что ли, сошли? Вы говорите с вдовствующей королевой таким тоном, словно состоите придворным наставником!
— Тсс! — шепотом ответил ему Брай. — Здесь и у стен имеются уши! Можете быть уверены, что я в точности исполняю данные мне инструкции, но меня очень порадовало, что вы в конце концов потеряли терпение, так как это могло дать вам единственную возможность снискать здесь благоволение.
Роберт не успел ответить ему что-либо, так как их позвали к королеве.
Мария Стюарт, которой было в то время только шесть лет, была окружена своими фрейлинами и с большим достоинством сидела на кресле, спинка которого была украшена короной.
Брай опустился на колени перед ней и передал свое поручение в таких утонченных выражениях, которые доказывали, что по отношению к вдовствующей королеве он умышленно выказал солдатскую резкость.
Во время его речи Мария Стюарт с любопытством посматривала своими хорошенькими детскими глазками на красивого пажа, когда же Брай кончил, она кивнула, словно почти не слушала сказанных им слов:
— Передайте регенту мой привет и скажите ему, чтобы он сам заехал и навестил меня!
Затем она встала, ласковым кивком головы поздоровалась с Робертом Сэрреем и сделала рукой знак, означавший конец аудиенции, с такой важностью, словно она давала уже сотни таких аудиенций.
— Славно отделались! — улыбнулся Брай, когда они с Робертом прошли в приемную. — Ну, что же, у вас будет отличная дружба со всем этим бабьем!
— Ладно, смейтесь теперь, когда вы мне испортили прием!
Брай повел плечами и шепнул Роберту:
— Говоря между нами, мне кажется, что регент хочет вызвать разрыв, потому что он приказал мне быть таким грубым и резким, словно я попал в логово бунтовщиков. Но здесь не все ладно. Заметили ли вы, как вдовствующей королеве было тяжело подчиниться требованию регента и с каким трудом она подавляла гнев? Здесь что-то происходит, и если вы хотите сохранить голову на плечах, то смотрите в оба!
Роберт удивленно посмотрел на стрелка и, улыбнувшись, произнес:
— Неужели вам кажется непонятным, что королева может требовать больше вежливости и почтительности, чем проявили по отношению к ней вы?
— Она сама вызвала меня на это, а ведь она знала, что я явился от имени графа Аррана. Прежде, в Стерлинге, она приказывала страже делать на караул, когда являлся гонец от графа, и приглашала его к столу. Я остаюсь при своем мнении, что бабье затеяло здесь интригу. Но пусть они все поберегутся! Регент не станет шутить с теми, кто замышляет измену!
Среди такого разговора они дошли до прихожей. Духовник уже поджидал их там и пригласил Брая освежиться чем-нибудь прохладительным. Но стрелок отказался, заявив, что должен немедленно отправиться обратно.
Сэррей проводил его до лодки. На прощание стрелок так сердечно поблагодарил Роберта за оказанную ему в пути помощь, что Сэррей простился с ним как с братом.
— Можете рассчитывать на меня, если вам когда-нибудь понадобится верный друг в нужде или опасности, — сказал стрелок. — Прощайте, сэр, и еще раз повторяю вам: смотрите, чтобы женская хитрость не обманула вашего честного сердца. Граф полагается на вас!
Они еще раз пожали друг другу руки, и челнок отчалил.


 Кастелян отвел пажу комнаты, находившиеся в том самом флигеле, где, как он уверял, водились привидения. Окна комнат находились в десяти футах от земли и были, как и большинство окон в замке, защищены железными решетками. Когда Роберт, вскоре после того, как расстался с Марией Сэйтон, явился в свою комнату, то слуга кастеляна принес ему кружку сваренного на кореньях вина, так называемого ночного напитка, а затем, поставив на дубовый стол тяжелые серебряные подсвечники со свечами, спросил, не будет ли еще каких-либо приказаний. Сэррей отпустил слугу, заметив при этом, что он сильно устал. Затем задернул занавеси на окнах, словно собираясь ложиться спать, погасил через несколько минут свечи, после чего, сменив тяжелые ботфорты на шелковые ночные туфли, подошел к окну и раздвинул гардины настолько, чтобы иметь возможность заглянуть сквозь них. Какое-то предчувствие говорило ему, что, быть может, уже сегодня произойдет что-либо и что именно в эту ночь, когда все будут думать, что он захочет отдохнуть с дороги, ему представится возможность разузнать, что представляет собой это привидение во флигеле замка.
Его окна выходили во внутренний дворик и через них он мог видеть окна королевской комнаты, где был сегодня. Наступил вечер, но все-таки комнаты не были освещены. Ворота были заперты, и казалось, что замок словно вымер.
Такая тишина в столь ранний час казалась зловещей и странной.
Сэррей взял свою шпагу, засунул за пояс кинжал и тихо отворил дверь в прихожую, собираясь сделать обход, чтобы выяснить, что замышлялось под покровом этой тишины. Он прислушался и выглянул в дверь коридора. Однако и здесь царила такая же тишина… Тогда Роберт тихо открыл дверь, бесшумно выскользнул на цыпочках, тихонько спустился по лестнице и вышел на двор.
Там он сделал несколько шагов, прячась в тени от стены, и потом осмотрелся по сторонам.
Комнаты флигеля, находившиеся над его комнатами, были ярко освещены, и луч света проникал сквозь спущенные тяжелые гардины окон.
Это удивило Сэррея; ведь кастелян уверял, что в этом флигеле никто не живет!…
Вдруг Роберт увидел, что мимо него проскользнули две фигуры, и он был убежден, что то были духовник и какой- то другой мужчина. Значит, там происходило что-то, что хотели скрыть от него!
С сильно бьющимся сердцем Сэррей проскользнул обратно в дом, бесшумно взобрался по лестнице, попал в коридор и на мгновение остановился здесь прислушиваясь.
Наверху открылась дверь.
Роберт спрятался в нишу под лестницей.
Какой-то мужчина осторожно спустился по лестнице, подошел на цыпочках к двери комнаты, где он помещался, и запер ее, а затем вернулся и тихо поднялся опять по лестнице.
Роберт последовал за мужчиной и, когда последний добрался до верхней ступеньки, услыхал тихий смех, по которому сейчас же узнал Марию Сэйтон.
Роберт приложил ухо к двери комнаты, откуда доносился смех.
— Нет, это великолепно! — промолвила Мария Сэйтон. — Я боюсь только одного, что он совсем не проснется, и мы напрасно оденемся в эти саваны. Но какая отличная комедия получится, когда храбрый молодчик будет рваться к решеткам и не сможет выбраться из комнаты, чтобы совершить геройские деяния! Но обещайте мне, кастелян, что тогда, когда челнок счастливо переберется через озеро, вы позволите нам шуметь, словно настал час Страшного Суда. А когда он выбьется из сил в желании взломать дверь и начнет кричать и ругаться в окно, тогда вы тихо отопрете дверь и дадите ему возможность приступить к погоне за привидениями. Ведь он не знает ни ходов, ни ковровых дверей. Мы уж помучаем его досыта! Если он примется догонять меня, тогда Флеминг начнет высмеивать его, а если он станет преследовать Марию Бейтон, то замогильный голос Ливингстон примется вышучивать его.
— А в конце концов мы устроим так, чтобы он свалился в погреб, пусть постынет там до завтрашнего утра! — засмеялась Флеминг.
— Мы же примемся танцевать наверху танец привидений! — фыркнула Сэйтон.
— Глупые девочки! — сказала Мария Лотарингская. — Я не хочу вам портить шутку над этим высокомерным мальчишкой, но смотрите, не браните меня потом, если она вызовет серьезные последствия. Если этот кичливый паж заподозрит что-либо, то не останется больше ничего иного, как заставить его онеметь навсегда, так как Арран скоро разгадает нашу игру!
— Ваше величество! — возразила ей Мария Сэйтон. — Право же, он совсем не так плох. Если бы он не был связан своим словом быть верным графу, он был бы для нас самым потешным и добродушным оруженосцем на свете!
— Мария Сэйтон с такой теплотой говорит о паже, — строго промолвила вдовствующая королева, — что я начинаю подозревать, не дорожит ли она гораздо больше его жизнью, чем благом моей дочери.
— Ваше величество! Как истинная Сэйтон, клянусь вам! Я отношусь к нему сочувственно только потому, что верю, что это вполне заслужено им. Но я не остановился бы перед тем, чтобы воткнуть ему кинжал в самое сердце своей рукой, если бы он служил помехой к спасению королевы. Но в то же время я искренне признаюсь, что мне причинило бы большое горе, если бы ему напрасно сделали бесполезное зло!
Услышав эти слова, Сэррей почувствовал лихорадочное сердцебиение. Эта милая девушка могла бы любить его, а ему придется только восстановить ее против себя, если он будет исполнять то, что предписывает ему долг.
— Пора! — раздался из комнаты решительный голос королевы. — Дрейбир, проводите графа и откройте ему ворота! На всякий случай велите завесить окна снаружи, чтобы тот ничего не увидел, в случае, если он все-таки будет подглядывать или проснется от шума. Ты же, Мария…
Дальнейшие слова Сэррей не мог расслышать, так как голос королевы понизился до глухого шепота.
Роберт услышал только тихое побрякивание оружия — значит, готовились пустить в ход насилие. Вероятно, гарнизон замка подкуплен королевой-матерью, так как иначе им не могло бы удастся проведение намеченного плана, И Роберт решил удостовериться в этом.
Он торопливо поднялся по лестнице еще выше, прошел во второй этаж, и нашел лестницу, ведшую на зубцы замка. Там он увидел часового-стрелка, лежавшего на сигнальной пушке, которой можно было поднять тревогу.
Часовой спал. Сэррей потряс его за плечо, но он не проснулся. Значит, часового усыпили каким-нибудь снадобьем!…
Роберт осмотрел пушку и убедился, что она заряжена. Значит, было вполне в его власти в крайнем случае поднять тревогу в замке и в окрестностях.
Он посмотрел на внутренний двор и увидел кастеляна, который выпускал из ворот какого-то мужчину. Королевы с ними не было. Перед дверью выстроилась толпа каких-то фигур, закутанных в белые покрывала.
Сэррей выскользнул за дверь. Когда в темноте он спустился по лестнице, которая вела во двор, то по ней поднималась как раз одна из этих белых фигур.
— Все удалось, — зашептал милый голосок Марии Сэйтон, — паж спит как сурок. Но теперь мы разбудим его.
— Ни звука, Мария Сэйтон! — шепнул ей Роберт, хватая ее за руку, а другой зажимая ей рот. — Следуйте за мной, если вам дорога жизнь, или произойдет большое несчастье!
— Говард! — узнала его фрейлина, и он почувствовал, как все тело девушки задрожало от испуга.
— Лучше добровольно следуйте за мной, — шепнул он, — клянусь Богом, это лучшее, что вы можете сделать.
Они добрались до зубцов. Сэррей запер дверь и задвинул железный засов.
— Теперь, — сказал он, — победитель — я! Я не только не попал в погреб, но стою около заряженной сигнальной пушки. Кроме того, здесь у меня арбалет часового, а стреляю я метко… Говорите же, кто это бежит отсюда!?
Мария поняла, что он подслушал их разговор.
— Делайте что хотите, — сказала она, кидая на него взгляд, полный холодного презрения. — Вы — пронырливыйчеловек, и я ненавижу вас, как злейшего врага!
Сэррей подошел к брустверу и посмотрел вниз. Челнок отвязали от причала, но туда никто не сел, кроме какого-то мужчины и лодочника.
Роберт вернулся к Марии и сказал:
— Леди! Если я разряжу эту пушку, то часовой там, снаружи, созовет весь гарнизон и поднимет тревогу в деревне. Беглеца поймают, будет произведено расследование, и я вынужден буду стать обвинителем тех, кого вы любите. Даже против вас самих мне придется свидетельствовать. Поклянитесь мне, что отныне вы будете предупреждать всякую интригу и откроете мне каждую тайну, касающуюся королевы. Тогда я готов ничего не видеть сегодня и вверить вам одной свою честь.
— Я не могу, я не хочу этого! — упрямилась фрейлина.
— Ну, что же, стреляйте из пушки, и все благородные шотландские сердца проклянут вас!
— За что? — спросил Сэррей. — Вы же знаете, что я своей честью поручился быть настороже королевы. А вы хотели обмануть меня, посмеяться над спящим, поиздеваться надо мной. Вот теперь взвешивайте, честный ли я враг? Я вступлю в переговоры, не выжидая победы. Согласны вы или нет?
— Нет, нет и нет!
Сэррей подошел к пушке и схватил запальник.
Мария торопливо подбежала к нему и крикнула:
— Роберт Сэррей! Вы хотите отомстить мне! Ну, что же! Убивайте меня, потому что, клянусь Богом, вместе с сигнальным выстрелом пушки я брошусь отсюда в озеро. Я не смогу жить, когда всем будет известно, что глупость Марии Сэйтон погубила королеву!
Сказав это, девушка подошла к брустверу.
Выражение ее лица дышало такой решимостью, что Роберт задрожал и, отбросив запальник, шепнул:
— Мария! Можете торжествовать: Роберт Сэррей жертвует вам своей честью!
Он обнажил шпагу и наступил на нее ногой, чтобы сломать ее.
Но фрейлина схватила его за руку.
— Роберт Говард, вы правы! Я плохо поступила против вас, но я имела в виду просто забавную шутку. Клянусь вам всем, что мне свято: королева должна узнать, каким благородством полны ваши мысли. И клянусь вам, что до тех пор, пока я нахожусь в этом замке, я никогда не буду замышлять измену.
— Мария, этого довольно, но я чувствую, что требую от вас поступиться вашей честью ради моей. Но можно еще как-нибудь выйти из положения. — Он поцеловал ее руку. — Я выстрелю из пушки, когда будет уже слишком поздно, чтобы догнать беглеца!
— Но этим вы вызовите расследование, которое даст регенту основание разлучить королеву с матерью! Нет, Сэррей! Доверьтесь мне, доверьтесь благородству вдовствующей королевы, которая будет обязана вам бесконечной благодарностью, если вы пощадите ее на этот раз!
— Хорошо, я последую вашему совету, — сказал он после короткой паузы. — Я рискую многим, доверяясь таким образом, но надеждой мне будет служить то, что заслужу этим сладкую награду!
Этот тон привел Марию в себя и напомнил ей, что она с ним наедине. Ее могли уже хватиться.
— Пустите меня! — взмолилась она. — Пустите меня!
— Я не пущу вас, пока не услышу, что вы простили меня, Мария! О, вы обязаны еще отплатить мне за ту ужасную шутку, которую хотели сыграть со мной!
— Роберт Говард, ввиду намеченной вами цели я прощаю то насилие, к которому вы прибегли, но теперь требую, чтобы вы исполнили мое желание!
Он отодвинул задвижку и, открыв дверь, тихо сказал:
— Вы свободны! Могу ли я надеяться на приветливое слово от вас?
Мария быстро исчезла, не дав ему никакого ответа.
— А что, если она все-таки лицемерит? — пробормотал про себя Сэррей. — Ведь это она хотела посмеяться надо мной, обманутым всеми ими!
Он спустился по лестнице, и уже издали до него донесся шум, которым веселые дамы думали разбудить мнимоспящего.
Достигнув двери, у которой он недавно подслушивал, Роберт на мгновение призадумался, предоставить ли Марии Сэйтон сообщить обо всем случившемся вдовствующей королеве, или сделать это самому. В конце концов он решился на последнее и открыл дверь.
Королева-мать сидела за столом с духовником, и оба они казались очень веселыми, но едва они увидели Сэррея, как священник побледнел, а Мария Лотарингская, пораженная, вскочила со стула, словно перед ней появилось привидение.
— Ваше величество, прошу простить меня, если я помешал, — произнес Роберт, — но здесь разыгрывается маскарад, а я присвоил себе другую роль, чем та, которая предназначалась мне.
— Вы не в своей комнате? Где вы были? — проговорила королева дрожащим голосом, с гневно сверкающими глазами.
— На башне дворца, ваше величество. Я видел спящего сторожа и плывущую по озеру лодку.
— Это невозможно, вы бредите!
— Ваше величество, виденное мной так мало походило на бред, что я хотел даже произвести выстрел из пушки, чтобы поднять тревогу. Но затем я подумал, что, быть может, вы сами, ваше величество, отправили куда-либо своего посланца, и пришел спросить, не ошибся ли я?
— Я? Нет!… Быть может, это сделал кастелян?
— Ваше величество, в таком случае он поступил самовольно, и я прошу о строгом расследовании.
— Граф Сэррей! Да разве регент поручил вам служить мне советником?
— Нет, ваше величество, но мне дано поручение наблюдать за безопасностью королевы и уведомить регента, если бы у меня явилось подозрение, что кто-либо из живущих в этом замке не заслуживает доверия, оказанного ему графом.
Пока он говорил, в комнату вошла Мария Сэйтон и шепнула королеве несколько слов, заставивших ту побледнеть.
— Граф Сэррей, — сказала она с самой ядовитой иронией, — весьма возможно, что регент пожелал позабавиться насчет вашего честолюбия, но все, что вы наблюдали здесь, произошло по моему приказанию! Желаю вам спокойной ночи!
Кровь бросилась в голову Сэррея, он увидел, как, пожимая плечами, засмеялся духовник, как по губам Марии Сэйтон скользнула легкая улыбка.
— Ваше величество, — сказал Сэррей, склоняясь перед вдовствующей королевой, — в таком случае прошу отдать приказ, чтобы в мое распоряжение была предоставлена лодка.
В это время на пороге появился уже вернувшийся кастелян.
Мария Лотарингская глазами дала ему знак, на который тот ответил злорадной усмешкой.
— Следуйте за кастеляном! — ответила она Сэррею.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты.
Кастелян отвел пажу комнаты, находившиеся в том самом флигеле, где, как он уверял, водились привидения. Окна комнат находились в десяти футах от земли и были, как и большинство окон в замке, защищены железными решетками. Когда Роберт, вскоре после того, как расстался с Марией Сэйтон, явился в свою комнату, то слуга кастеляна принес ему кружку сваренного на кореньях вина, так называемого ночного напитка, а затем, поставив на дубовый стол тяжелые серебряные подсвечники со свечами, спросил, не будет ли еще каких-либо приказаний. Сэррей отпустил слугу, заметив при этом, что он сильно устал. Затем задернул занавеси на окнах, словно собираясь ложиться спать, погасил через несколько минут свечи, после чего, сменив тяжелые ботфорты на шелковые ночные туфли, подошел к окну и раздвинул гардины настолько, чтобы иметь возможность заглянуть сквозь них. Какое-то предчувствие говорило ему, что, быть может, уже сегодня произойдет что-либо и что именно в эту ночь, когда все будут думать, что он захочет отдохнуть с дороги, ему представится возможность разузнать, что представляет собой это привидение во флигеле замка.
Его окна выходили во внутренний дворик и через них он мог видеть окна королевской комнаты, где был сегодня. Наступил вечер, но все-таки комнаты не были освещены. Ворота были заперты, и казалось, что замок словно вымер.
Такая тишина в столь ранний час казалась зловещей и странной.
Сэррей взял свою шпагу, засунул за пояс кинжал и тихо отворил дверь в прихожую, собираясь сделать обход, чтобы выяснить, что замышлялось под покровом этой тишины. Он прислушался и выглянул в дверь коридора. Однако и здесь царила такая же тишина… Тогда Роберт тихо открыл дверь, бесшумно выскользнул на цыпочках, тихонько спустился по лестнице и вышел на двор.
Там он сделал несколько шагов, прячась в тени от стены, и потом осмотрелся по сторонам.
Комнаты флигеля, находившиеся над его комнатами, были ярко освещены, и луч света проникал сквозь спущенные тяжелые гардины окон.
Это удивило Сэррея; ведь кастелян уверял, что в этом флигеле никто не живет!…
Вдруг Роберт увидел, что мимо него проскользнули две фигуры, и он был убежден, что то были духовник и какой- то другой мужчина. Значит, там происходило что-то, что хотели скрыть от него!
С сильно бьющимся сердцем Сэррей проскользнул обратно в дом, бесшумно взобрался по лестнице, попал в коридор и на мгновение остановился здесь прислушиваясь.
Наверху открылась дверь.
Роберт спрятался в нишу под лестницей.
Какой-то мужчина осторожно спустился по лестнице, подошел на цыпочках к двери комнаты, где он помещался, и запер ее, а затем вернулся и тихо поднялся опять по лестнице.
Роберт последовал за мужчиной и, когда последний добрался до верхней ступеньки, услыхал тихий смех, по которому сейчас же узнал Марию Сэйтон.
Роберт приложил ухо к двери комнаты, откуда доносился смех.
— Нет, это великолепно! — промолвила Мария Сэйтон. — Я боюсь только одного, что он совсем не проснется, и мы напрасно оденемся в эти саваны. Но какая отличная комедия получится, когда храбрый молодчик будет рваться к решеткам и не сможет выбраться из комнаты, чтобы совершить геройские деяния! Но обещайте мне, кастелян, что тогда, когда челнок счастливо переберется через озеро, вы позволите нам шуметь, словно настал час Страшного Суда. А когда он выбьется из сил в желании взломать дверь и начнет кричать и ругаться в окно, тогда вы тихо отопрете дверь и дадите ему возможность приступить к погоне за привидениями. Ведь он не знает ни ходов, ни ковровых дверей. Мы уж помучаем его досыта! Если он примется догонять меня, тогда Флеминг начнет высмеивать его, а если он станет преследовать Марию Бейтон, то замогильный голос Ливингстон примется вышучивать его.
— А в конце концов мы устроим так, чтобы он свалился в погреб, пусть постынет там до завтрашнего утра! — засмеялась Флеминг.
— Мы же примемся танцевать наверху танец привидений! — фыркнула Сэйтон.
— Глупые девочки! — сказала Мария Лотарингская. — Я не хочу вам портить шутку над этим высокомерным мальчишкой, но смотрите, не браните меня потом, если она вызовет серьезные последствия. Если этот кичливый паж заподозрит что-либо, то не останется больше ничего иного, как заставить его онеметь навсегда, так как Арран скоро разгадает нашу игру!
— Ваше величество! — возразила ей Мария Сэйтон. — Право же, он совсем не так плох. Если бы он не был связан своим словом быть верным графу, он был бы для нас самым потешным и добродушным оруженосцем на свете!
— Мария Сэйтон с такой теплотой говорит о паже, — строго промолвила вдовствующая королева, — что я начинаю подозревать, не дорожит ли она гораздо больше его жизнью, чем благом моей дочери.
— Ваше величество! Как истинная Сэйтон, клянусь вам! Я отношусь к нему сочувственно только потому, что верю, что это вполне заслужено им. Но я не остановился бы перед тем, чтобы воткнуть ему кинжал в самое сердце своей рукой, если бы он служил помехой к спасению королевы. Но в то же время я искренне признаюсь, что мне причинило бы большое горе, если бы ему напрасно сделали бесполезное зло!
Услышав эти слова, Сэррей почувствовал лихорадочное сердцебиение. Эта милая девушка могла бы любить его, а ему придется только восстановить ее против себя, если он будет исполнять то, что предписывает ему долг.
— Пора! — раздался из комнаты решительный голос королевы. — Дрейбир, проводите графа и откройте ему ворота! На всякий случай велите завесить окна снаружи, чтобы тот ничего не увидел, в случае, если он все-таки будет подглядывать или проснется от шума. Ты же, Мария…
Дальнейшие слова Сэррей не мог расслышать, так как голос королевы понизился до глухого шепота.
Роберт услышал только тихое побрякивание оружия — значит, готовились пустить в ход насилие. Вероятно, гарнизон замка подкуплен королевой-матерью, так как иначе им не могло бы удастся проведение намеченного плана, И Роберт решил удостовериться в этом.
Он торопливо поднялся по лестнице еще выше, прошел во второй этаж, и нашел лестницу, ведшую на зубцы замка. Там он увидел часового-стрелка, лежавшего на сигнальной пушке, которой можно было поднять тревогу.
Часовой спал. Сэррей потряс его за плечо, но он не проснулся. Значит, часового усыпили каким-нибудь снадобьем!…
Роберт осмотрел пушку и убедился, что она заряжена. Значит, было вполне в его власти в крайнем случае поднять тревогу в замке и в окрестностях.
Он посмотрел на внутренний двор и увидел кастеляна, который выпускал из ворот какого-то мужчину. Королевы с ними не было. Перед дверью выстроилась толпа каких-то фигур, закутанных в белые покрывала.
Сэррей выскользнул за дверь. Когда в темноте он спустился по лестнице, которая вела во двор, то по ней поднималась как раз одна из этих белых фигур.
— Все удалось, — зашептал милый голосок Марии Сэйтон, — паж спит как сурок. Но теперь мы разбудим его.
— Ни звука, Мария Сэйтон! — шепнул ей Роберт, хватая ее за руку, а другой зажимая ей рот. — Следуйте за мной, если вам дорога жизнь, или произойдет большое несчастье!
— Говард! — узнала его фрейлина, и он почувствовал, как все тело девушки задрожало от испуга.
— Лучше добровольно следуйте за мной, — шепнул он, — клянусь Богом, это лучшее, что вы можете сделать.
Они добрались до зубцов. Сэррей запер дверь и задвинул железный засов.
— Теперь, — сказал он, — победитель — я! Я не только не попал в погреб, но стою около заряженной сигнальной пушки. Кроме того, здесь у меня арбалет часового, а стреляю я метко… Говорите же, кто это бежит отсюда!?
Мария поняла, что он подслушал их разговор.
— Делайте что хотите, — сказала она, кидая на него взгляд, полный холодного презрения. — Вы — пронырливыйчеловек, и я ненавижу вас, как злейшего врага!
Сэррей подошел к брустверу и посмотрел вниз. Челнок отвязали от причала, но туда никто не сел, кроме какого-то мужчины и лодочника.
Роберт вернулся к Марии и сказал:
— Леди! Если я разряжу эту пушку, то часовой там, снаружи, созовет весь гарнизон и поднимет тревогу в деревне. Беглеца поймают, будет произведено расследование, и я вынужден буду стать обвинителем тех, кого вы любите. Даже против вас самих мне придется свидетельствовать. Поклянитесь мне, что отныне вы будете предупреждать всякую интригу и откроете мне каждую тайну, касающуюся королевы. Тогда я готов ничего не видеть сегодня и вверить вам одной свою честь.
— Я не могу, я не хочу этого! — упрямилась фрейлина.
— Ну, что же, стреляйте из пушки, и все благородные шотландские сердца проклянут вас!
— За что? — спросил Сэррей. — Вы же знаете, что я своей честью поручился быть настороже королевы. А вы хотели обмануть меня, посмеяться над спящим, поиздеваться надо мной. Вот теперь взвешивайте, честный ли я враг? Я вступлю в переговоры, не выжидая победы. Согласны вы или нет?
— Нет, нет и нет!
Сэррей подошел к пушке и схватил запальник.
Мария торопливо подбежала к нему и крикнула:
— Роберт Сэррей! Вы хотите отомстить мне! Ну, что же! Убивайте меня, потому что, клянусь Богом, вместе с сигнальным выстрелом пушки я брошусь отсюда в озеро. Я не смогу жить, когда всем будет известно, что глупость Марии Сэйтон погубила королеву!
Сказав это, девушка подошла к брустверу.
Выражение ее лица дышало такой решимостью, что Роберт задрожал и, отбросив запальник, шепнул:
— Мария! Можете торжествовать: Роберт Сэррей жертвует вам своей честью!
Он обнажил шпагу и наступил на нее ногой, чтобы сломать ее.
Но фрейлина схватила его за руку.
— Роберт Говард, вы правы! Я плохо поступила против вас, но я имела в виду просто забавную шутку. Клянусь вам всем, что мне свято: королева должна узнать, каким благородством полны ваши мысли. И клянусь вам, что до тех пор, пока я нахожусь в этом замке, я никогда не буду замышлять измену.
— Мария, этого довольно, но я чувствую, что требую от вас поступиться вашей честью ради моей. Но можно еще как-нибудь выйти из положения. — Он поцеловал ее руку. — Я выстрелю из пушки, когда будет уже слишком поздно, чтобы догнать беглеца!
— Но этим вы вызовите расследование, которое даст регенту основание разлучить королеву с матерью! Нет, Сэррей! Доверьтесь мне, доверьтесь благородству вдовствующей королевы, которая будет обязана вам бесконечной благодарностью, если вы пощадите ее на этот раз!
— Хорошо, я последую вашему совету, — сказал он после короткой паузы. — Я рискую многим, доверяясь таким образом, но надеждой мне будет служить то, что заслужу этим сладкую награду!
Этот тон привел Марию в себя и напомнил ей, что она с ним наедине. Ее могли уже хватиться.
— Пустите меня! — взмолилась она. — Пустите меня!
— Я не пущу вас, пока не услышу, что вы простили меня, Мария! О, вы обязаны еще отплатить мне за ту ужасную шутку, которую хотели сыграть со мной!
— Роберт Говард, ввиду намеченной вами цели я прощаю то насилие, к которому вы прибегли, но теперь требую, чтобы вы исполнили мое желание!
Он отодвинул задвижку и, открыв дверь, тихо сказал:
— Вы свободны! Могу ли я надеяться на приветливое слово от вас?
Мария быстро исчезла, не дав ему никакого ответа.
— А что, если она все-таки лицемерит? — пробормотал про себя Сэррей. — Ведь это она хотела посмеяться надо мной, обманутым всеми ими!
Он спустился по лестнице, и уже издали до него донесся шум, которым веселые дамы думали разбудить мнимоспящего.
Достигнув двери, у которой он недавно подслушивал, Роберт на мгновение призадумался, предоставить ли Марии Сэйтон сообщить обо всем случившемся вдовствующей королеве, или сделать это самому. В конце концов он решился на последнее и открыл дверь.
Королева-мать сидела за столом с духовником, и оба они казались очень веселыми, но едва они увидели Сэррея, как священник побледнел, а Мария Лотарингская, пораженная, вскочила со стула, словно перед ней появилось привидение.
— Ваше величество, прошу простить меня, если я помешал, — произнес Роберт, — но здесь разыгрывается маскарад, а я присвоил себе другую роль, чем та, которая предназначалась мне.
— Вы не в своей комнате? Где вы были? — проговорила королева дрожащим голосом, с гневно сверкающими глазами.
— На башне дворца, ваше величество. Я видел спящего сторожа и плывущую по озеру лодку.
— Это невозможно, вы бредите!
— Ваше величество, виденное мной так мало походило на бред, что я хотел даже произвести выстрел из пушки, чтобы поднять тревогу. Но затем я подумал, что, быть может, вы сами, ваше величество, отправили куда-либо своего посланца, и пришел спросить, не ошибся ли я?
— Я? Нет!… Быть может, это сделал кастелян?
— Ваше величество, в таком случае он поступил самовольно, и я прошу о строгом расследовании.
— Граф Сэррей! Да разве регент поручил вам служить мне советником?
— Нет, ваше величество, но мне дано поручение наблюдать за безопасностью королевы и уведомить регента, если бы у меня явилось подозрение, что кто-либо из живущих в этом замке не заслуживает доверия, оказанного ему графом.
Пока он говорил, в комнату вошла Мария Сэйтон и шепнула королеве несколько слов, заставивших ту побледнеть.
— Граф Сэррей, — сказала она с самой ядовитой иронией, — весьма возможно, что регент пожелал позабавиться насчет вашего честолюбия, но все, что вы наблюдали здесь, произошло по моему приказанию! Желаю вам спокойной ночи!
Кровь бросилась в голову Сэррея, он увидел, как, пожимая плечами, засмеялся духовник, как по губам Марии Сэйтон скользнула легкая улыбка.
— Ваше величество, — сказал Сэррей, склоняясь перед вдовствующей королевой, — в таком случае прошу отдать приказ, чтобы в мое распоряжение была предоставлена лодка.
В это время на пороге появился уже вернувшийся кастелян.
Мария Лотарингская глазами дала ему знак, на который тот ответил злорадной усмешкой.
— Следуйте за кастеляном! — ответила она Сэррею.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты.


 Роберт не видел ни одной из обитательниц замка в течение двух дней, последовавших за нападением на него, но ему, по молчаливому соглашению, были оставлены ключи, которыми заведовал кастелян.
Он сидел на берегу озера и удил рыбу, когда сторож на башне протрубил в рог, извещая о приближении гостя к замку. Роберт вскочил с места, будь то хорошие или плохие вести, для него это все же было развлечением, быть может, даже случаем увидеть Марию Сэйтон, если бы пришлось вести гостя к королеве.
Через озеро плыла лодка, и уже издали Роберт узнал своего друга-стрелка; Брая узнали также из окон замка, так как к Роберту вышла камеристка и объявила, что обе королевы нездоровы, не могут никого принять и просят сказать об этом посланцу.
Роберт обещал исполнить просьбу и сделал это с тем большей охотой, что мог без помехи вдоволь болтать с Браем.
Вальтер выпрыгнул на берег из лодки и сердечно поздоровался с Сэрреем. Узнав о нездоровье королев, он засмеялся и сказал, что предвидел это, добавив, что на этот раз ему нет надобности просить их об аудиенции, так как он только привез письмо регента и довольно долгое время будет находиться поблизости, чтобы иметь случай видеть высоких особ, когда они снова поправятся.
— Что? — воскликнул Сэррей. — Вы останетесь поблизости? Разве регент подозревает измену или предвидит какую-нибудь опасность?
— Быть может, и то и другое, — ответил стрелок, которого Роберт повел в свою комнату, куда приказал подать закуску и вино. — Многое произошло с тех пор, как мы расстались, да, многое, и притом не особенно неприятное для вас. Но прежде всего доставьте мое письмо по адресу, оно заключает в себе пилюлю, которая, быть может, лучше, чем доктор, вылечит вдовствующую королеву.
— Но все же в нем нет ничего неприятного? — спросил Сэррей, уже начинавший бояться, что граф Монгомери попался в руки регента…
— Снесите прежде письмо, а потом я расскажу вам, что знаю и что думаю! — предложил Брай.
Роберт взял запечатанное воском послание и направился через двор к главному зданию, желая вручить письмо дежурной придворной даме. Но на лестнице его уже встретила Мария Сэйтон, и ему показалось, что она, наверно, быстро бежала, так как едва дышала, когда он заговорил с ней.
— Прекрасная леди, — сказал он, — дерзаю нарушить запрет, державший меня несколько дней вдали от вас, так как имею поручение к ее величеству вдовствующей королеве.
— Отдайте мне письмо, — живо перебила Мария молодого человека, а когда тот с удивлением посмотрел на нее, так как письмо было спрятано у него в кармане, то она добавила: — Конечно, если у вас есть письмо. Ведь королева ожидает ответа регента на свой запрос.
— Вот оно, — сказал он, вручая ей пергамент, — а если в нем заключается что-либо неприятное, не ставьте мне это в вину!
— Вы хотите сказать, что королева не должна ставить вам этого в вину, так как письмо адресовано ей?
— Я хочу сказать, — ответил Сэррей, стараясь уловить взор красавицы-фрейлины, — что для меня здесь есть только одно существо, гнева которого я страшусь. Королева справедлива, но Мария Сэйтон…
— Ну? Почему вы остановились?
— Мария Сэйтон сурова, так как знает, что она любима, и…
— Прекрасный паж, ваши слова очень лестны, но вы наговорили мне столько любезностей, что с моей стороны было бы легкомысленно верить им.
— Мария, жертва моей честью не была ничтожной мелочью…
— Тсс!… Это должно быть позабыто! Или, быть может, напоминанием об этой ночи вы хотите сказать, что мы все теперь находимся в вашей власти и что одно ваше слово может навлечь на нас неприятности?
— Леди Мария, я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я не способен на низкую месть, — воскликнул Сэррей.
— Посмотрим, — засмеялась она. — Вы смелы, храбры и находчивы. Сегодня я увижу, умеете ли вы хранить секреты.
— А если сумею, Мария? — спросил Роберт.
— Тогда я буду считать вас за образец добродетели! — воскликнула девушка, смеясь и поспешно убегая, но при этом ее почти ласковый, нежный взгляд сказал Роберту более, чем могли бы сделать слова.
Сэррей вернулся в свою комнату, причем, когда он проходил по двору, ему снова показалось, что в окнах галереи, над его помещением, проскользнула какая-то тень.
Волнение Марии Сэйтон бросилось в глаза, а то обстоятельство, что она требовала письмо, которого она не видела, внушало подозрение. До Роберта доходили слухи о потаенных дверях и коридорах во дворце, следовательно, представлялось весьма возможным, что его разговор с приятелем был подслушан, и он решил наказать подслушивателей.
Прежде всего он дал знак стрелку говорить тихо о вещах, которые не должны быть разглашены, а затем начал громким голосом:
— Знаете, я веселюсь здесь более, чем ожидал; у королевы очень любезные придворные дамы.
— И вы, конечно уже влюбились? — спросил Брай.
— Да, я на пути к тому.
— В таком случае чокнемся. За ваше здоровье и счастье! Которая же это из дам?
— Самая прекрасная, самая веселая и, быть может, самая коварная.
— Тогда берегитесь, граф!…
— Я так и делаю, поэтому прошу вас говорить совсем тихо, — произнес Сэррей. — Вы не можете себе представить, какие у дам тонкие уши. Они слышат все, что желают скрыть от них, и не слышат того, что должны слышать.
Легкий шорох за стеной выдал, что подозрения Сэррея были верны.
— Они подслушивают! — шепнул Брай, а затем громко добавил: — Будь наша красавица любопытна, она не простила бы вам, что вы лишили ее удовольствия подслушивать.
— Я того же мнения, — засмеялся Сэррей. — Ну, теперь рассказывайте! Вы говорили, что у вас произошло многое?
— Да, и даже очень серьезное, — ответил стрелок, понизив голос. — До регента дошли слухи, что англичане и французы замышляют насильственное похищение королевы. Вследствие этого он, лично оберегая южную границу, двинул отряд к Дэмбертону, а мне с пятьюдесятью конными стрелками поручил защищать берега Ментейтского озера.
Для Роберта ничего не могло быть приятнее полученного известия: отныне уже не в его власти было разрешать кому-либо въезд или выезд из Инч-Магома, а Мария Сэйтон не могла требовать от него неисполнения данных ему инструкций. Блокада противоположного берега озера тоже была ему на руку, давая возможность не смотреть боле на замок как на тюрьму, из которой не было выхода.
Вальтер Брай продолжал рассказывать дальше, приковывая все внимание своего собеседника. Лорд Бэклей, нравственный убийца Екатерины Блоуэр, перешел в английский лагерь и даже под знамена Варвика, который, в свою очередь, отправился на службу в Лондон. Сэррей сначала не хотел верить, что лорд, защитивший его от Генриха VIII, мог искать службы у этого короля, но Брай уверил его, что регент получил на этот счет самые достоверные известия.
— Бьюсь с вами об заклад на бочку вина против одного пенни, что мы вскоре поработаем здесь! — сказал Брай. — Бэклей должен составить себе хорошую славу в глазах Варвика, и он попытается обрести ее ценой захвата Марии Стюарт. Надеюсь, что регент будет свергнут, а Дуглас со своими приверженцами снова введет прежнее правление, причем вдовствующую королеву изберут регентшей. Но, — заключил Брай свой рассказ, — регент поставил здесь хорошего сторожа: как охотничья собака, я выслежу Бэклея, прежде чем он подойдет к этому замку на три мили, и повешу его на самом высоком дереве, которое я только найду. Обратите внимание, не принимает ли вдовствующая королева каких-нибудь тайных послов, я был бы очень удивлен, если бы она не участвовала в заговоре.
Роберт призадумался. Если неизвестный, которого тайно выпустили из дворца, был лорд Бэклей, то было бы открытой изменой не признаться Вальтеру, что его подозрения были основательны. А можно ли было сомневаться в этом? Разве было бы неправдоподобно, что Мария Лотарингская готова была броситься в объятия англичан, лишь бы отнять власть у ненавистного регента? Разве она дрожала бы так перед раскрытием своих интриг, если бы дело шло не о государственном преступлении?
Роберт не видел ни одной из обитательниц замка в течение двух дней, последовавших за нападением на него, но ему, по молчаливому соглашению, были оставлены ключи, которыми заведовал кастелян.
Он сидел на берегу озера и удил рыбу, когда сторож на башне протрубил в рог, извещая о приближении гостя к замку. Роберт вскочил с места, будь то хорошие или плохие вести, для него это все же было развлечением, быть может, даже случаем увидеть Марию Сэйтон, если бы пришлось вести гостя к королеве.
Через озеро плыла лодка, и уже издали Роберт узнал своего друга-стрелка; Брая узнали также из окон замка, так как к Роберту вышла камеристка и объявила, что обе королевы нездоровы, не могут никого принять и просят сказать об этом посланцу.
Роберт обещал исполнить просьбу и сделал это с тем большей охотой, что мог без помехи вдоволь болтать с Браем.
Вальтер выпрыгнул на берег из лодки и сердечно поздоровался с Сэрреем. Узнав о нездоровье королев, он засмеялся и сказал, что предвидел это, добавив, что на этот раз ему нет надобности просить их об аудиенции, так как он только привез письмо регента и довольно долгое время будет находиться поблизости, чтобы иметь случай видеть высоких особ, когда они снова поправятся.
— Что? — воскликнул Сэррей. — Вы останетесь поблизости? Разве регент подозревает измену или предвидит какую-нибудь опасность?
— Быть может, и то и другое, — ответил стрелок, которого Роберт повел в свою комнату, куда приказал подать закуску и вино. — Многое произошло с тех пор, как мы расстались, да, многое, и притом не особенно неприятное для вас. Но прежде всего доставьте мое письмо по адресу, оно заключает в себе пилюлю, которая, быть может, лучше, чем доктор, вылечит вдовствующую королеву.
— Но все же в нем нет ничего неприятного? — спросил Сэррей, уже начинавший бояться, что граф Монгомери попался в руки регента…
— Снесите прежде письмо, а потом я расскажу вам, что знаю и что думаю! — предложил Брай.
Роберт взял запечатанное воском послание и направился через двор к главному зданию, желая вручить письмо дежурной придворной даме. Но на лестнице его уже встретила Мария Сэйтон, и ему показалось, что она, наверно, быстро бежала, так как едва дышала, когда он заговорил с ней.
— Прекрасная леди, — сказал он, — дерзаю нарушить запрет, державший меня несколько дней вдали от вас, так как имею поручение к ее величеству вдовствующей королеве.
— Отдайте мне письмо, — живо перебила Мария молодого человека, а когда тот с удивлением посмотрел на нее, так как письмо было спрятано у него в кармане, то она добавила: — Конечно, если у вас есть письмо. Ведь королева ожидает ответа регента на свой запрос.
— Вот оно, — сказал он, вручая ей пергамент, — а если в нем заключается что-либо неприятное, не ставьте мне это в вину!
— Вы хотите сказать, что королева не должна ставить вам этого в вину, так как письмо адресовано ей?
— Я хочу сказать, — ответил Сэррей, стараясь уловить взор красавицы-фрейлины, — что для меня здесь есть только одно существо, гнева которого я страшусь. Королева справедлива, но Мария Сэйтон…
— Ну? Почему вы остановились?
— Мария Сэйтон сурова, так как знает, что она любима, и…
— Прекрасный паж, ваши слова очень лестны, но вы наговорили мне столько любезностей, что с моей стороны было бы легкомысленно верить им.
— Мария, жертва моей честью не была ничтожной мелочью…
— Тсс!… Это должно быть позабыто! Или, быть может, напоминанием об этой ночи вы хотите сказать, что мы все теперь находимся в вашей власти и что одно ваше слово может навлечь на нас неприятности?
— Леди Мария, я надеюсь, вы не сомневаетесь, что я не способен на низкую месть, — воскликнул Сэррей.
— Посмотрим, — засмеялась она. — Вы смелы, храбры и находчивы. Сегодня я увижу, умеете ли вы хранить секреты.
— А если сумею, Мария? — спросил Роберт.
— Тогда я буду считать вас за образец добродетели! — воскликнула девушка, смеясь и поспешно убегая, но при этом ее почти ласковый, нежный взгляд сказал Роберту более, чем могли бы сделать слова.
Сэррей вернулся в свою комнату, причем, когда он проходил по двору, ему снова показалось, что в окнах галереи, над его помещением, проскользнула какая-то тень.
Волнение Марии Сэйтон бросилось в глаза, а то обстоятельство, что она требовала письмо, которого она не видела, внушало подозрение. До Роберта доходили слухи о потаенных дверях и коридорах во дворце, следовательно, представлялось весьма возможным, что его разговор с приятелем был подслушан, и он решил наказать подслушивателей.
Прежде всего он дал знак стрелку говорить тихо о вещах, которые не должны быть разглашены, а затем начал громким голосом:
— Знаете, я веселюсь здесь более, чем ожидал; у королевы очень любезные придворные дамы.
— И вы, конечно уже влюбились? — спросил Брай.
— Да, я на пути к тому.
— В таком случае чокнемся. За ваше здоровье и счастье! Которая же это из дам?
— Самая прекрасная, самая веселая и, быть может, самая коварная.
— Тогда берегитесь, граф!…
— Я так и делаю, поэтому прошу вас говорить совсем тихо, — произнес Сэррей. — Вы не можете себе представить, какие у дам тонкие уши. Они слышат все, что желают скрыть от них, и не слышат того, что должны слышать.
Легкий шорох за стеной выдал, что подозрения Сэррея были верны.
— Они подслушивают! — шепнул Брай, а затем громко добавил: — Будь наша красавица любопытна, она не простила бы вам, что вы лишили ее удовольствия подслушивать.
— Я того же мнения, — засмеялся Сэррей. — Ну, теперь рассказывайте! Вы говорили, что у вас произошло многое?
— Да, и даже очень серьезное, — ответил стрелок, понизив голос. — До регента дошли слухи, что англичане и французы замышляют насильственное похищение королевы. Вследствие этого он, лично оберегая южную границу, двинул отряд к Дэмбертону, а мне с пятьюдесятью конными стрелками поручил защищать берега Ментейтского озера.
Для Роберта ничего не могло быть приятнее полученного известия: отныне уже не в его власти было разрешать кому-либо въезд или выезд из Инч-Магома, а Мария Сэйтон не могла требовать от него неисполнения данных ему инструкций. Блокада противоположного берега озера тоже была ему на руку, давая возможность не смотреть боле на замок как на тюрьму, из которой не было выхода.
Вальтер Брай продолжал рассказывать дальше, приковывая все внимание своего собеседника. Лорд Бэклей, нравственный убийца Екатерины Блоуэр, перешел в английский лагерь и даже под знамена Варвика, который, в свою очередь, отправился на службу в Лондон. Сэррей сначала не хотел верить, что лорд, защитивший его от Генриха VIII, мог искать службы у этого короля, но Брай уверил его, что регент получил на этот счет самые достоверные известия.
— Бьюсь с вами об заклад на бочку вина против одного пенни, что мы вскоре поработаем здесь! — сказал Брай. — Бэклей должен составить себе хорошую славу в глазах Варвика, и он попытается обрести ее ценой захвата Марии Стюарт. Надеюсь, что регент будет свергнут, а Дуглас со своими приверженцами снова введет прежнее правление, причем вдовствующую королеву изберут регентшей. Но, — заключил Брай свой рассказ, — регент поставил здесь хорошего сторожа: как охотничья собака, я выслежу Бэклея, прежде чем он подойдет к этому замку на три мили, и повешу его на самом высоком дереве, которое я только найду. Обратите внимание, не принимает ли вдовствующая королева каких-нибудь тайных послов, я был бы очень удивлен, если бы она не участвовала в заговоре.
Роберт призадумался. Если неизвестный, которого тайно выпустили из дворца, был лорд Бэклей, то было бы открытой изменой не признаться Вальтеру, что его подозрения были основательны. А можно ли было сомневаться в этом? Разве было бы неправдоподобно, что Мария Лотарингская готова была броситься в объятия англичан, лишь бы отнять власть у ненавистного регента? Разве она дрожала бы так перед раскрытием своих интриг, если бы дело шло не о государственном преступлении?


 Вдовствующая королева отпустила своих приближенных дам. Она была все в том же легком туалете, в котором принимала Роберта Говарда. Все свечи были погашены, за исключением одной, стоявшей на ночном столике. Наконец королева приподнялась, как только умолк последний звук в соседней комнате, и три раза ударила по ковру, висевшему над постелью. Вслед за этим дверь тихо открылась, и в комнату вошел духовник.
— Готово письмо? — спросила королева, дружески приветствуя его.
— Письмо здесь, но кто его доставит в Дэмбертон? — ответил священник. — Весь берег охраняется стражей регента, а его паж усердно следит за тем, что происходит вокруг в нашем замке.
— Этот паж сам и доставит письмо! — спокойно заметила вдовствующая королева. — Он перешел на мою сторону.
— Перешел на вашу сторону? — изумленно воскликнул священник. — Да сохранит вас Бог от подобной мысли. Роберт Говард — самый хитрый юноша из всех, кого я знаю.
— Но вместе с тем и человек, очень чувствительный к женской красоте. Надеюсь, что вы простите мне, если я несколько пококетничала с этим молодым человеком, хотя нисколько не горжусь той победой, которую одержала над ним. Он уже успел разболтать мне то, что ему сообщил посланец регента. Теперь должен доставить письмо в Дэмбертон, позвать Монгомери и переправить мою дочь во Францию! — закончила королева.
— А что будет дальше, ваше величество? — спросил священник.
— Затем, я надеюсь, глоток подслащенного вина избавит меня от присутствия этого милого юноши; это и будет ему наградой, о которой он мечтает. А может быть, регент, узнав о его измене, повесит его своевременно и тем избавит меня от лишних хлопот! — спокойно ответила вдовствующая королева.
— А вы уверены, что он исполнит ваше указание? — сомневающимся тоном заметил священник. — Будьте осторожны, ваше величество! У Марии Сэйтон сегодня заплаканы глаза, и я заметил, что она недоверчиво посматривает на вас и меня.
— Тем лучше, — возразила королева, — это доказывает, что яд уже начал действовать и Мария Сэйтон не станет предостерегать этого мальчишку. Однако пора ввести его. Он ждет вас у маленькой лестницы. Пойдите за ним и приведите сюда!
Духовник вышел и через несколько минут вернулся с Робертом.
— Вы аккуратны, — проговорила королева, с улыбкой отвечая на глубокий поклон графа Сэррея. — Просьба, с которой я обращусь к вам, доказывает величайшее доверие с моей стороны. Вы, кажется, говорили, что имеете право оставить наш замок на некоторое время?
— Совершенно верно, ваше величество, мне дано это право, так как та сторона берега тщательно охраняется! — ответил Роберт.
— А вы знаете, как расположена стража? — спросила королева.
— Я не расспрашивал об этом, ваше величество, из боязни возбудить подозрение! — заметил Сэррей. — Но могу узнать, в каких пунктах стоят часовые.
— Прекрасно! Узнайте, а затем поедете в Дэмбертон и передадите эго письмо барону д’Эссе! — приказала вдовствующая королева. — От него вы подучите дальнейшие инструкции.
— Ваше величество, я должен сообщить вам кое-что раньше, чем исполню ваше приказание.
— Говорите!
— Простите, ваше величество, но то, что я хочу сказать, не должен слышать никто из свидетелей! — заметил Роберт.
Королева нетерпеливым движением руки приказала духовнику удалиться.
— Будьте поблизости! — прибавила она.
— Ваше величество, и стены имеют уши. Я должен быть убежден, что его преподобие не может слышать нас! — настаивал Сэррей.
— Хорошо, хотя вы слишком требовательны!
Сэррей проводил духовника до лестницы и запер за ним входную дверь.
Когда он вернулся, королева нетерпеливо шагала взад и вперед по комнате.
— Что означает этот поступок? — холодно и властно спросила она. — Не понимаю, почему мой духовник не мог слышать то, что ты хочешь сказать! Ну говори!…
— Я люблю тебя, Мария, сгораю от страсти и требую награды, которую ты мне обещала! — воскликнул Роберт, обняв королеву.
— Вы с ума сошли! — воскликнула Мария, негодующе отталкивая Сэррея.
— Нет, Мария! У меня тоже должно быть доказательство, что я не обманут. То поручение, которое вы мне даете, может стоить для меня жизни, а поэтому я имею право просить обещанной награды! — спокойно возразил Роберт.
Королева побледнела, и ее глаза мрачно засверкали.
— А если я откажу вам в ней? — гневно спросила она. — Если я не исполню ваших дерзких требований? Что тогда?
— Тогда я спрячу ваше письмо у себя, как защиту от вашего гнева, и буду считать, что наш договор расторгнут! — ответил Роберт.
— Отдай письмо, — прошипела королева, вся дрожа от гнева, — сейчас же отдай письмо, мальчишка, иначе никакие силы на земле не спасут тебя от моей мести.
— От вашей мести? — повторил Роберт. — За что же вы собираетесь мстить мне? За то, что я потребовал обещанной награды, вы грозите местью?.. Я не так низок, чтобы предать женщину, если она даже обманула меня, но не хочу быть игрушкой ее настроения. Вы не согласны исполнить мою просьбу, следовательно, и сами не имеете права ничего требовать от меня. Что касается этого письма, ваше величество, то будьте уверены, что я не злоупотреблю им, как, надеюсь, и вы не злоупотребите той тайной, которую я доверил вам.
Вдовствующая королева закусила губы, чтобы ни одним звуком не выдать того, что происходило в ее гордом сердце. Паж снова перехитрил ее, и на этот раз она сама вложила ему в руки оружие, чтобы он погубил ее. В руках Роберта было письмо, из которого регент мог узнать не только ее планы, но и всех сообщников. Вдовствующая королева не могла позвать никого на помощь, так как все узнали бы, что она, по собственному желанию, впустила ночью к себе в спальню графа Сэррея. Поэтому ей приходилось выбирать: либо уступить наглому требованию пажа, либо жить в постоянной тревоге, что он умышленно или по неосторожности выдаст ее тайну регенту.
Гордость не позволяла вдовствующей королеве остановиться ни на одном из двух выходов. Мария Лотарингская считала за оскорбление, что ничтожный паж осмеливается претендовать на обладание ею. В эту критическую минуту у нее не хватало силы снова начать игру и выбрать для этого подходящую роль. Правда, на миг ей пришла в голову мысль постараться обмануть Роберта, и в то время, как он будет в ее объятиях, убить его; но она была слишком рассержена и никак не могла притвориться кроткой, любящей женщиной.
— Ну и держите у себя письмо! — наконец проговорила она, пронзив Роберта взглядом ненависти. — Что же делать!… Я слишком быстро поверила вам. Ступайте теперь к графу Аррану и похвастайте, что обманули женщину, которая отдала в ваши руки свою тайну. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой мести со стороны своего смертельного врага, чем протяну кончики пальцев наглецу, осмеливающемуся посягать на женщину, малейшее внимание которой — такая милость, что за нее можно заплатить жизнью.
С последними словами королева гордо указала графу Сэррею на дверь и повернулась к нему спиной.
— Ваше величество, за эту милость, о которой вы говорите, я заплатил тем, что гораздо дороже жизни — своей честью, — возразил Роберт. — Ведь не я первый осмелился поднять на вас взор, вы сами заговорили о любви, вы сами подали мне надежду. Если я оказался слишком смелым в своих мечтаниях, то ведь вы сами хотели этого. Вы можете смеяться над моей доверчивостью, моим легкомыслием, но сердиться на меня у вас нет никаких оснований. Наоборот, вы могли бы иметь что-нибудь против меня, если бы ваши чары оказались малодейственными, и я остался бы равнодушен к вашей красоте. Вы мало знаете меня, ваше величество. Очнувшись от опьянения, в котором я находился, когда вы говорили мне о вашей любви, я нашел, что не способен на измену. То, что я сделал, выдав вам тайну Брая, сделано мной в невменяемом состоянии… Теперь я прошу вас вернуть мне мое слово, которое я дал в забвении страсти. А вам нужна была только моя измена. Вы добились своего, и у вас не осталось даже ласковой улыбки, даже участливого слова для человека, пожертвовавшего ради вас своей честью. Вы не дали себе труда, ваше величество, поддержать во мне возбужденную вами иллюзию. Заподозрив это, я решил потребовать исполнения нашего условия, хотел убедиться, что данное слово и для вас обязательно. Я решил убедить вас, что не так глуп, как вы, по-видимому, думаете. Можете быть спокойны! Я не принадлежу к числу тех низких людей, которые пользуются чьим-нибудь доверием для предательства. Вот ваше письмо; возвращаю вам его обратно.
Роберт бросил письмо на пол, к ногам королевы, и вышел из комнаты через потайной ход.
У лестницы его нетерпеливо поджидал священник.
— Вам придется поискать другого посыльного для королевы, — быстро и отрывисто обратился к нему Сэррей, — но только предупредите ее, что я вместе со стрелками регента зорко буду охранять берег и следить за тем, что происходит в замке. Я никому никогда не донесу о том, что знаю, но зато с удвоенным рвением постараюсь быть бдительнее. Я был слишком снисходителен, считая строгость регента к вдовствующей королеве несправедливостью, теперь же, конечно, я так не думаю.
— Я ничего лучшего и не ожидал, — ответил священник, — благодарю Бога, что королева оказала такое доверие вам, а не кому-нибудь другому. Идите с миром, да благословит вас Господь, если вы действительно никогда не заикнетесь о том, что произошло!
Священник направился в комнату королевы, а Роберт поспешил уйти к себе.
Вдовствующая королева отпустила своих приближенных дам. Она была все в том же легком туалете, в котором принимала Роберта Говарда. Все свечи были погашены, за исключением одной, стоявшей на ночном столике. Наконец королева приподнялась, как только умолк последний звук в соседней комнате, и три раза ударила по ковру, висевшему над постелью. Вслед за этим дверь тихо открылась, и в комнату вошел духовник.
— Готово письмо? — спросила королева, дружески приветствуя его.
— Письмо здесь, но кто его доставит в Дэмбертон? — ответил священник. — Весь берег охраняется стражей регента, а его паж усердно следит за тем, что происходит вокруг в нашем замке.
— Этот паж сам и доставит письмо! — спокойно заметила вдовствующая королева. — Он перешел на мою сторону.
— Перешел на вашу сторону? — изумленно воскликнул священник. — Да сохранит вас Бог от подобной мысли. Роберт Говард — самый хитрый юноша из всех, кого я знаю.
— Но вместе с тем и человек, очень чувствительный к женской красоте. Надеюсь, что вы простите мне, если я несколько пококетничала с этим молодым человеком, хотя нисколько не горжусь той победой, которую одержала над ним. Он уже успел разболтать мне то, что ему сообщил посланец регента. Теперь должен доставить письмо в Дэмбертон, позвать Монгомери и переправить мою дочь во Францию! — закончила королева.
— А что будет дальше, ваше величество? — спросил священник.
— Затем, я надеюсь, глоток подслащенного вина избавит меня от присутствия этого милого юноши; это и будет ему наградой, о которой он мечтает. А может быть, регент, узнав о его измене, повесит его своевременно и тем избавит меня от лишних хлопот! — спокойно ответила вдовствующая королева.
— А вы уверены, что он исполнит ваше указание? — сомневающимся тоном заметил священник. — Будьте осторожны, ваше величество! У Марии Сэйтон сегодня заплаканы глаза, и я заметил, что она недоверчиво посматривает на вас и меня.
— Тем лучше, — возразила королева, — это доказывает, что яд уже начал действовать и Мария Сэйтон не станет предостерегать этого мальчишку. Однако пора ввести его. Он ждет вас у маленькой лестницы. Пойдите за ним и приведите сюда!
Духовник вышел и через несколько минут вернулся с Робертом.
— Вы аккуратны, — проговорила королева, с улыбкой отвечая на глубокий поклон графа Сэррея. — Просьба, с которой я обращусь к вам, доказывает величайшее доверие с моей стороны. Вы, кажется, говорили, что имеете право оставить наш замок на некоторое время?
— Совершенно верно, ваше величество, мне дано это право, так как та сторона берега тщательно охраняется! — ответил Роберт.
— А вы знаете, как расположена стража? — спросила королева.
— Я не расспрашивал об этом, ваше величество, из боязни возбудить подозрение! — заметил Сэррей. — Но могу узнать, в каких пунктах стоят часовые.
— Прекрасно! Узнайте, а затем поедете в Дэмбертон и передадите эго письмо барону д’Эссе! — приказала вдовствующая королева. — От него вы подучите дальнейшие инструкции.
— Ваше величество, я должен сообщить вам кое-что раньше, чем исполню ваше приказание.
— Говорите!
— Простите, ваше величество, но то, что я хочу сказать, не должен слышать никто из свидетелей! — заметил Роберт.
Королева нетерпеливым движением руки приказала духовнику удалиться.
— Будьте поблизости! — прибавила она.
— Ваше величество, и стены имеют уши. Я должен быть убежден, что его преподобие не может слышать нас! — настаивал Сэррей.
— Хорошо, хотя вы слишком требовательны!
Сэррей проводил духовника до лестницы и запер за ним входную дверь.
Когда он вернулся, королева нетерпеливо шагала взад и вперед по комнате.
— Что означает этот поступок? — холодно и властно спросила она. — Не понимаю, почему мой духовник не мог слышать то, что ты хочешь сказать! Ну говори!…
— Я люблю тебя, Мария, сгораю от страсти и требую награды, которую ты мне обещала! — воскликнул Роберт, обняв королеву.
— Вы с ума сошли! — воскликнула Мария, негодующе отталкивая Сэррея.
— Нет, Мария! У меня тоже должно быть доказательство, что я не обманут. То поручение, которое вы мне даете, может стоить для меня жизни, а поэтому я имею право просить обещанной награды! — спокойно возразил Роберт.
Королева побледнела, и ее глаза мрачно засверкали.
— А если я откажу вам в ней? — гневно спросила она. — Если я не исполню ваших дерзких требований? Что тогда?
— Тогда я спрячу ваше письмо у себя, как защиту от вашего гнева, и буду считать, что наш договор расторгнут! — ответил Роберт.
— Отдай письмо, — прошипела королева, вся дрожа от гнева, — сейчас же отдай письмо, мальчишка, иначе никакие силы на земле не спасут тебя от моей мести.
— От вашей мести? — повторил Роберт. — За что же вы собираетесь мстить мне? За то, что я потребовал обещанной награды, вы грозите местью?.. Я не так низок, чтобы предать женщину, если она даже обманула меня, но не хочу быть игрушкой ее настроения. Вы не согласны исполнить мою просьбу, следовательно, и сами не имеете права ничего требовать от меня. Что касается этого письма, ваше величество, то будьте уверены, что я не злоупотреблю им, как, надеюсь, и вы не злоупотребите той тайной, которую я доверил вам.
Вдовствующая королева закусила губы, чтобы ни одним звуком не выдать того, что происходило в ее гордом сердце. Паж снова перехитрил ее, и на этот раз она сама вложила ему в руки оружие, чтобы он погубил ее. В руках Роберта было письмо, из которого регент мог узнать не только ее планы, но и всех сообщников. Вдовствующая королева не могла позвать никого на помощь, так как все узнали бы, что она, по собственному желанию, впустила ночью к себе в спальню графа Сэррея. Поэтому ей приходилось выбирать: либо уступить наглому требованию пажа, либо жить в постоянной тревоге, что он умышленно или по неосторожности выдаст ее тайну регенту.
Гордость не позволяла вдовствующей королеве остановиться ни на одном из двух выходов. Мария Лотарингская считала за оскорбление, что ничтожный паж осмеливается претендовать на обладание ею. В эту критическую минуту у нее не хватало силы снова начать игру и выбрать для этого подходящую роль. Правда, на миг ей пришла в голову мысль постараться обмануть Роберта, и в то время, как он будет в ее объятиях, убить его; но она была слишком рассержена и никак не могла притвориться кроткой, любящей женщиной.
— Ну и держите у себя письмо! — наконец проговорила она, пронзив Роберта взглядом ненависти. — Что же делать!… Я слишком быстро поверила вам. Ступайте теперь к графу Аррану и похвастайте, что обманули женщину, которая отдала в ваши руки свою тайну. Я предпочитаю подвергнуться самой строгой мести со стороны своего смертельного врага, чем протяну кончики пальцев наглецу, осмеливающемуся посягать на женщину, малейшее внимание которой — такая милость, что за нее можно заплатить жизнью.
С последними словами королева гордо указала графу Сэррею на дверь и повернулась к нему спиной.
— Ваше величество, за эту милость, о которой вы говорите, я заплатил тем, что гораздо дороже жизни — своей честью, — возразил Роберт. — Ведь не я первый осмелился поднять на вас взор, вы сами заговорили о любви, вы сами подали мне надежду. Если я оказался слишком смелым в своих мечтаниях, то ведь вы сами хотели этого. Вы можете смеяться над моей доверчивостью, моим легкомыслием, но сердиться на меня у вас нет никаких оснований. Наоборот, вы могли бы иметь что-нибудь против меня, если бы ваши чары оказались малодейственными, и я остался бы равнодушен к вашей красоте. Вы мало знаете меня, ваше величество. Очнувшись от опьянения, в котором я находился, когда вы говорили мне о вашей любви, я нашел, что не способен на измену. То, что я сделал, выдав вам тайну Брая, сделано мной в невменяемом состоянии… Теперь я прошу вас вернуть мне мое слово, которое я дал в забвении страсти. А вам нужна была только моя измена. Вы добились своего, и у вас не осталось даже ласковой улыбки, даже участливого слова для человека, пожертвовавшего ради вас своей честью. Вы не дали себе труда, ваше величество, поддержать во мне возбужденную вами иллюзию. Заподозрив это, я решил потребовать исполнения нашего условия, хотел убедиться, что данное слово и для вас обязательно. Я решил убедить вас, что не так глуп, как вы, по-видимому, думаете. Можете быть спокойны! Я не принадлежу к числу тех низких людей, которые пользуются чьим-нибудь доверием для предательства. Вот ваше письмо; возвращаю вам его обратно.
Роберт бросил письмо на пол, к ногам королевы, и вышел из комнаты через потайной ход.
У лестницы его нетерпеливо поджидал священник.
— Вам придется поискать другого посыльного для королевы, — быстро и отрывисто обратился к нему Сэррей, — но только предупредите ее, что я вместе со стрелками регента зорко буду охранять берег и следить за тем, что происходит в замке. Я никому никогда не донесу о том, что знаю, но зато с удвоенным рвением постараюсь быть бдительнее. Я был слишком снисходителен, считая строгость регента к вдовствующей королеве несправедливостью, теперь же, конечно, я так не думаю.
— Я ничего лучшего и не ожидал, — ответил священник, — благодарю Бога, что королева оказала такое доверие вам, а не кому-нибудь другому. Идите с миром, да благословит вас Господь, если вы действительно никогда не заикнетесь о том, что произошло!
Священник направился в комнату королевы, а Роберт поспешил уйти к себе.


 В 1548 году умер Генрих VIII и королем стал его малолетний сын от несчастной Джэн Сеймур, Эдуард VI, а регентом королевства, ввиду малолетства Эдуарда, был назначен герцог Соммерсет. Война Англии с Шотландией вспыхнула с удвоенной силой. Армия Аррана была наголову разбита в сражении при Пинкенклей, а флот во главе с адмиралом Клинтоном был направлен в шотландские воды со специальной миссией перехватить королеву в случае, если она попытается бежать на французском корабле.
Роберт Сэррей не появлялся в замке Инч-Магом с того дня, как после нападения англичан на Ментейт поселился там. Со стороны обитателей Инч-Магома не предпринималось никаких шагов, которые дали бы ему основание искать общения с ними или питать подозрения против них. Королевы и их свита жили исключительно замкнутой жизнью и, казалось, навсегда отказались от надежды когда-либо расстаться с Инч-Магомом. Так что у Сэррея не было других развлечений, кроме охоты, рыбной ловли или рыцарских упражнений. Вальтер Брай был его верным товарищем и наставником, и отношения переросли в самую сердечную и тесную дружбу.
Когда в Ментейт пришла весть о кончине Генриха VIII, Сэррей немедленно послал гонца к графу Варвику, обращаясь к нему с просьбой о разрешении ему поступить на английскую службу, что позволило бы ему вернуться в Англию. В то же время он написал регенту просьбу освободить его от занимаемой должности, причем Вальтер Брай тоже просил об отставке. Он не хотел расставаться со своим другом, а так как граф Сэррей обещал ему, в случае если ему вернут отобранные в казну родовые имения, сделать его управляющим, то Брай с легким сердцем решил расстаться с отечеством, где у него оставались одни только печальные воспоминания.
Лорд Бэклей бесследно скрылся, и надежда отомстить ему казалась осуществимой, если он поищет предателя в Англии.
Не знал Брай и куда делась Кэт. Однажды, отправившись и Эдинбург, он заехал в развалившееся аббатство, чтобы спросить старуху Гиль, где она похоронила девушку. Но старая колдунья наотрез отказалась давать какие-либо сведения. Брай, перед отъездом из Шотландии, намеревался снова заехать в аббатство и повторить попытку разузнать, что стало с Кэт, чтобы по крайней мере оставить несчастной свои сбережения, но проходили недели и месяцы, а ни от Варвика, ни от регента не приходило ответа.
Тогда Роберт решил лично заявить регенту о своем решении оставить Ментейт, он как раз обсуждал со своим другом детали поездки, когда звук конских копыт заставил их обоих подойти к окошку.
— Цвета Варвика! — с удивлением воскликнул Сэррей.
— Клянусь святым Андреем, да ведь это — сам Роберт Дэдлей.
Прибытие кавалера в цветах Варвика могло удивить кого угодно, так как Англия все еще воевала с Шотландией и враг уже показался в окрестностях Лейта.
Сэррей поспешил выйти на улицу, всадник соскочил с лошади и, бросившись в его объятия, воскликнул:
— Клянусь Богом, это — вы! Узнаете ли вы своего пленника, Роберта Дэдлея? Простите, что ответ деда заставил вас так долго ждать, но виноват в этом только я, так как мне непременно хотелось лично привезти его вам в знак оказанной мне вами услуги. Но, — продолжал он, входя с Робертом в дом, и заметив там Вальтера Брая, смущенно добавил: — Вести, которые я привез, в высшей степени конфиденциальны и спешны.
— Вальтер Брай — мой друг! — ответил Сэррей.
— Это — другое дело. Тем лучше, если мы все трое сплотимся для общего дела. Королева Мария Стюарт должна убежать сегодня вечером. Выслушайте меня!
— Стойте! — перебил Сэррей молодого Варвика и кинул Вальтеру многозначительный взгляд. — Сохраните вашу тайну при себе. Вспомните, что я обязался регенту своим словом…
— Я помню Сэррей и, несмотря на это, вы должны выслушать меня. Неужели же вы думаете, что Дэдлей Варвик может рекомендовать своему другу предательство? Однако к делу! Прежде всего учтите, что мой дед пользуется полным доверием юного короля Эдуарда Шестого, или — вернее сказать — стоит во главе английской знати, которая решила строго следить за тем, чтобы в Англии никогда не могли повториться дни злодейской тирании. Эдуард Шестой во всем слушается моего деда, и то, что поручил передать вам мой дед, имеет то же значение, как если бы к вам обратился сам король. Дед имеет другие планы относительно престолонаследия, чем те, которые упомянуты в завещании Генриха Восьмого. В интересах блага страны он хочет устранить всякие спорные притязания на английский престол. Каждый из незаконнорожденных детей Генриха Восьмого предъявляет свои права, и даже шотландская королева Мария Стюарт могла бы оказаться претенденткой. Поэтому дед мой хочет, чтобы Марии Стюарт удалось скрыться во Францию, пока наша армия еще не завоевала Шотландии. Регент разбит, его армия почти разбежалась, он не может более удерживать нас и поэтому-то не нашел другого выхода, как склониться на предложения деда, разумеется, в секрете. Он обещал не мешать более бегству королевы, за что, со своей стороны, мой дед обещал ему отозвать английскую армию, как только объект спора окажется вне границ Шотландии.
— Ах, опять политика! — иронически пробормотал Вальтер Брай и, бросив многозначительный взгляд на Сэррея прибавил: — В том и невыгодна политика для нас, грешных, что как ни поступи, а никого не порадуешь! Мы вооружили против себя вдовствующую королеву, потому что служили регенту; сегодня регент требует от нас того, чему еще вчера препятствовал; а завтра вопрос может стать опять иначе, и тогда нам скажут: «К чему вы так торопились слушаться?»
— Необходимо действительно торопиться, — возразил Дэдлей, — потому что адмирал Виллеганьон явится сегодня с четырьмя французскими галиотами в Дэмбертон, чтобы взять на борт королеву, и ему придется сделать все это как можно скорее, чтобы не попасться в руки английской эскадре.
— Роберт Дэдлей! — вступил в разговор Сэррей. — Позвольте мне открыто высказать вам свое мнение. Если герцог Нортумберленд, ваш дед, и регент Шотландии вступят между собой в тайное соглашение, и если предметом этого соглашения является такой поступок, который им придется официально именовать государственной изменой, то пусть они и подыскивают себе людей, готовых пойти на это, а не поручают честному дворянину во имя секретных приказов нарушать долг чести. Я был здесь в качестве слуги регента, всем известно, что я охраняю замок Инч-Магом, и если завтра королева будет похищена, то ответственным буду я. Что же скажут? Скажут, что либо я обманул, либо дал себя обмануть. И то, и другое навлечет на меня одинаковый позор, и поэтому я не пойду на это. Пусть регент отзовет меня или пришлет мне официальный приказ, без этого Мария Стюарт выйдет из замка только через мой труп.
Дэдлей улыбнулся, хотя и не без удивления взглянул на Сэррея и произнес:
— Это было предусмотрено, и я могу только удивляться прозорливости моего деда, который так верно понял вас. Он поручил мне напомнить регенту о вас, и регент пошел навстречу нашему желанию. Вот приказ о вашем отзыве с распоряжением передать ваш пост мне.
— Ну, а я и мои стрелки? — воскликнул Брай. — Сэр Дэдлей, уж не думаете ли вы, что я пущу вас через озеро?
— Нет, сэр Брай, — улыбнулся Дэдлей. — Вот приказ регента о передаче мне власти над Инч-Магомом и Ментейтом. Регент нуждается в войсках. Поэтому велите своим стрелкам готовиться в поход и отправляйтесь с Богом. Если же вы предпочитаете следовать за графом Сэрреем, то пусть отряд поведет ваш капрал. Могу дать вам увольнительное свидетельство, так как я захватил для этого чистые бланки.
Сэррей прочел свое увольнительное свидетельство, которое гласило следующее:
В 1548 году умер Генрих VIII и королем стал его малолетний сын от несчастной Джэн Сеймур, Эдуард VI, а регентом королевства, ввиду малолетства Эдуарда, был назначен герцог Соммерсет. Война Англии с Шотландией вспыхнула с удвоенной силой. Армия Аррана была наголову разбита в сражении при Пинкенклей, а флот во главе с адмиралом Клинтоном был направлен в шотландские воды со специальной миссией перехватить королеву в случае, если она попытается бежать на французском корабле.
Роберт Сэррей не появлялся в замке Инч-Магом с того дня, как после нападения англичан на Ментейт поселился там. Со стороны обитателей Инч-Магома не предпринималось никаких шагов, которые дали бы ему основание искать общения с ними или питать подозрения против них. Королевы и их свита жили исключительно замкнутой жизнью и, казалось, навсегда отказались от надежды когда-либо расстаться с Инч-Магомом. Так что у Сэррея не было других развлечений, кроме охоты, рыбной ловли или рыцарских упражнений. Вальтер Брай был его верным товарищем и наставником, и отношения переросли в самую сердечную и тесную дружбу.
Когда в Ментейт пришла весть о кончине Генриха VIII, Сэррей немедленно послал гонца к графу Варвику, обращаясь к нему с просьбой о разрешении ему поступить на английскую службу, что позволило бы ему вернуться в Англию. В то же время он написал регенту просьбу освободить его от занимаемой должности, причем Вальтер Брай тоже просил об отставке. Он не хотел расставаться со своим другом, а так как граф Сэррей обещал ему, в случае если ему вернут отобранные в казну родовые имения, сделать его управляющим, то Брай с легким сердцем решил расстаться с отечеством, где у него оставались одни только печальные воспоминания.
Лорд Бэклей бесследно скрылся, и надежда отомстить ему казалась осуществимой, если он поищет предателя в Англии.
Не знал Брай и куда делась Кэт. Однажды, отправившись и Эдинбург, он заехал в развалившееся аббатство, чтобы спросить старуху Гиль, где она похоронила девушку. Но старая колдунья наотрез отказалась давать какие-либо сведения. Брай, перед отъездом из Шотландии, намеревался снова заехать в аббатство и повторить попытку разузнать, что стало с Кэт, чтобы по крайней мере оставить несчастной свои сбережения, но проходили недели и месяцы, а ни от Варвика, ни от регента не приходило ответа.
Тогда Роберт решил лично заявить регенту о своем решении оставить Ментейт, он как раз обсуждал со своим другом детали поездки, когда звук конских копыт заставил их обоих подойти к окошку.
— Цвета Варвика! — с удивлением воскликнул Сэррей.
— Клянусь святым Андреем, да ведь это — сам Роберт Дэдлей.
Прибытие кавалера в цветах Варвика могло удивить кого угодно, так как Англия все еще воевала с Шотландией и враг уже показался в окрестностях Лейта.
Сэррей поспешил выйти на улицу, всадник соскочил с лошади и, бросившись в его объятия, воскликнул:
— Клянусь Богом, это — вы! Узнаете ли вы своего пленника, Роберта Дэдлея? Простите, что ответ деда заставил вас так долго ждать, но виноват в этом только я, так как мне непременно хотелось лично привезти его вам в знак оказанной мне вами услуги. Но, — продолжал он, входя с Робертом в дом, и заметив там Вальтера Брая, смущенно добавил: — Вести, которые я привез, в высшей степени конфиденциальны и спешны.
— Вальтер Брай — мой друг! — ответил Сэррей.
— Это — другое дело. Тем лучше, если мы все трое сплотимся для общего дела. Королева Мария Стюарт должна убежать сегодня вечером. Выслушайте меня!
— Стойте! — перебил Сэррей молодого Варвика и кинул Вальтеру многозначительный взгляд. — Сохраните вашу тайну при себе. Вспомните, что я обязался регенту своим словом…
— Я помню Сэррей и, несмотря на это, вы должны выслушать меня. Неужели же вы думаете, что Дэдлей Варвик может рекомендовать своему другу предательство? Однако к делу! Прежде всего учтите, что мой дед пользуется полным доверием юного короля Эдуарда Шестого, или — вернее сказать — стоит во главе английской знати, которая решила строго следить за тем, чтобы в Англии никогда не могли повториться дни злодейской тирании. Эдуард Шестой во всем слушается моего деда, и то, что поручил передать вам мой дед, имеет то же значение, как если бы к вам обратился сам король. Дед имеет другие планы относительно престолонаследия, чем те, которые упомянуты в завещании Генриха Восьмого. В интересах блага страны он хочет устранить всякие спорные притязания на английский престол. Каждый из незаконнорожденных детей Генриха Восьмого предъявляет свои права, и даже шотландская королева Мария Стюарт могла бы оказаться претенденткой. Поэтому дед мой хочет, чтобы Марии Стюарт удалось скрыться во Францию, пока наша армия еще не завоевала Шотландии. Регент разбит, его армия почти разбежалась, он не может более удерживать нас и поэтому-то не нашел другого выхода, как склониться на предложения деда, разумеется, в секрете. Он обещал не мешать более бегству королевы, за что, со своей стороны, мой дед обещал ему отозвать английскую армию, как только объект спора окажется вне границ Шотландии.
— Ах, опять политика! — иронически пробормотал Вальтер Брай и, бросив многозначительный взгляд на Сэррея прибавил: — В том и невыгодна политика для нас, грешных, что как ни поступи, а никого не порадуешь! Мы вооружили против себя вдовствующую королеву, потому что служили регенту; сегодня регент требует от нас того, чему еще вчера препятствовал; а завтра вопрос может стать опять иначе, и тогда нам скажут: «К чему вы так торопились слушаться?»
— Необходимо действительно торопиться, — возразил Дэдлей, — потому что адмирал Виллеганьон явится сегодня с четырьмя французскими галиотами в Дэмбертон, чтобы взять на борт королеву, и ему придется сделать все это как можно скорее, чтобы не попасться в руки английской эскадре.
— Роберт Дэдлей! — вступил в разговор Сэррей. — Позвольте мне открыто высказать вам свое мнение. Если герцог Нортумберленд, ваш дед, и регент Шотландии вступят между собой в тайное соглашение, и если предметом этого соглашения является такой поступок, который им придется официально именовать государственной изменой, то пусть они и подыскивают себе людей, готовых пойти на это, а не поручают честному дворянину во имя секретных приказов нарушать долг чести. Я был здесь в качестве слуги регента, всем известно, что я охраняю замок Инч-Магом, и если завтра королева будет похищена, то ответственным буду я. Что же скажут? Скажут, что либо я обманул, либо дал себя обмануть. И то, и другое навлечет на меня одинаковый позор, и поэтому я не пойду на это. Пусть регент отзовет меня или пришлет мне официальный приказ, без этого Мария Стюарт выйдет из замка только через мой труп.
Дэдлей улыбнулся, хотя и не без удивления взглянул на Сэррея и произнес:
— Это было предусмотрено, и я могу только удивляться прозорливости моего деда, который так верно понял вас. Он поручил мне напомнить регенту о вас, и регент пошел навстречу нашему желанию. Вот приказ о вашем отзыве с распоряжением передать ваш пост мне.
— Ну, а я и мои стрелки? — воскликнул Брай. — Сэр Дэдлей, уж не думаете ли вы, что я пущу вас через озеро?
— Нет, сэр Брай, — улыбнулся Дэдлей. — Вот приказ регента о передаче мне власти над Инч-Магомом и Ментейтом. Регент нуждается в войсках. Поэтому велите своим стрелкам готовиться в поход и отправляйтесь с Богом. Если же вы предпочитаете следовать за графом Сэрреем, то пусть отряд поведет ваш капрал. Могу дать вам увольнительное свидетельство, так как я захватил для этого чистые бланки.
Сэррей прочел свое увольнительное свидетельство, которое гласило следующее:


 Сэррей, Дэдлей и Брай оставались на высоком холме, пока на главной мачте галиота не взвился рядом с боевой орифламой Франции королевский штандарт Шотландии, и это возвестило им, что Мария Стюарт вступила на французскую землю. Они словно сговорились дождаться этого важного момента и, когда ветер надул паруса и корабль понесся по волнам в открытое море, с молчаливым, скорбным сочувствием посмотрели друг на друга как друзья, которые простились с любимым родственником.
— Бедная Шотландия! — буркнул Вальтер Брай, — Кажется, что от тебя улетает твой ангел-покровитель! Горе стране, из которой этот ангел должен бежать в силу того, что она не способна укрыть его!
— Скажите лучше: позор нам, что мы позволили ей бежать! — откликнулся Дэдлей. — Сэр Говард, у меня такое чувство, словно я совершил государственную измену. Если бы я видел королеву раньше и не дал Монгомери слова, то, клянусь Богом, я не отдал бы этой добычи французам.
— Она не виновата в той крови, которая пролилась из-за нее, — возразил Сэррей. — Но, как истинные англичане, мы можем только радоваться, что яблоко раздора между Англией и Шотландией плывет теперь по морю.
— Вы так думаете? — улыбнулся Брай, пожимая плечами. — Неужели вы предполагаете, что король Генрих Восьмой начал эту войну из-за ребенка? Полноте, ему просто нужно было приданое нашей королевы, а сама она как невеста шла только в придачу. Сэр Дэдлей, я помог вам увезти королеву, потому что мое сердце было тронуто тем, что этот милый ребенок должен так жалко влачить свою юность в мрачном замке. Но не думайте, что я поверил вашему деду, он англичанин и только несколько иначе подходит к вопросу, чем Генрих Восьмой. Лисица изобрела другие средства. Шотландская королева стала теперь французской принцессой, а Франция — враг Англии. Лорд Варвик скажет, что с того момента, как королева Мария Стюарт вступила на французскую почву, она потеряла права на корону, и таким образом Шотландия, как страна без властителя, попадет в руки Англии. Но я не хочу оскорблять вас, я говорю просто то, что думаю. Лучше, чтобы англичане властвовали в Шотландии, чем нам подчиняться Дугласам.
— Черт возьми! — воскликнул Дэдлей. — Так значит, мы с вами — друзья, и, может быть, я когда-нибудь еще раздобуду из Франции эту прекрасную добычу. Сэррей, я завидую дару, полученному вами от королевы, и еще более тому, что она рассказывала мне про вас. Не смотрите так мрачно! Английский штандарт развевается в Кале и, быть может, вскоре взовьется и над Парижем. Тогда мы утащим у дофина его прекрасную добычу, а вы возьмете себе Марию Сэйтон…
— Дэдлей, — перебил его Говард, — если вы любите меня, то не называйте в моем присутствии этого имени.
— Я очень люблю вас, Говард, как друга, поэтому так сочувствую вам. Знаете, что рассказала мне королева? По ее мнению, вам следовало бы схватить ту, которую я не смею называть по имени, взвалить ее на лошадь и умчаться с ней!
— Довольно, сэр Дэдлей, я уже не прошу, а требую от вас, чтобы вы перестали говорить об этом!…
— Да упаси Бог сердить вас! Замолкаю. Но куда же мы едем? Ведь эта дорога не ведет к границе! Вы с ума сошли, Брай!… Ведь это — дорога в Эдинбург!
Дэдлей и Сэррей следовали за Браем, не обращая внимания на дорогу, по которой он поехал. Только теперь они заметили, что он избрал путь, который вел к шотландской столице.
— Мы сделаем очень небольшой крюк, — ответил Брай, — и если вы действительно мои друзья, то дадите мне возможность перед тем, как покинуть Шотландию, исполнить священную обязанность.
— Конечно, сэр Брай, — кивнул Дэдлей. — Но что это за таинственное приключение?
— Ничего особенного, сэр Дэдлей.
— Хо-хо, сэр Брай! Мне очень хочется стать вам таким же добрым другом, как и Роберт Говард. А тот, кому я протянул свою руку, может быть уверен во мне до конца своих дней.
— Я верю, верю вам, и хоть вы и нарядный дворянчик, но ваш кулак и в шелковой перчатке доказывает, что кости у вас железные. Пусть сэр Говард расскажет вам, в чем тут дело, а я не могу, — сказал Брай, снова выехав вперед.
А когда Сэррей рассказал Дэдлею, как они спасли Кэт от папистского столба, как дугласовские всадники свалились в пропасть, то лицо Дэдлея просияло.
— Клянусь святым Георгом, — уверил он, — я отдал бы год своей жизни, чтобы быть с вами тогда! Но где же эта несчастная?
— Вальтер оставил ее полумертвой, отдав старой колдунье приказание похоронить Кэт. Но когда он пришел к колдунье, она не могла показать ему могилу. Может быть, она рассчитывала обрадовать его этим, но он только мрачно посмотрел на нее и сказал: «Женщина, которую я любил, не может желать жить после того, как ее обесчестили, а если дело обстоит иначе, то пусть она остерегается повстречаться со мной. Значит, она была виновата, и я был дураком, что спас ее от позорного столба». И я готов побиться об заклад, — заключил Сэррей, — что сегодня он собирается навестить старуху только для того, чтобы убедиться, не живет ли с ней Кэт.
— И чтобы убить ее?
Сэррей повел плечами:
— Это известно лишь Богу!
— И вы не помешаете убийству?
— Это — вопрос его чести, и тут никто не вправе ни давать советы, ни мешать, ни способствовать.
— Прокляни меня Бог! Вы оба так мрачны в своей любви! — воскликнул Дэдлей.
Сэррей, Дэдлей и Брай оставались на высоком холме, пока на главной мачте галиота не взвился рядом с боевой орифламой Франции королевский штандарт Шотландии, и это возвестило им, что Мария Стюарт вступила на французскую землю. Они словно сговорились дождаться этого важного момента и, когда ветер надул паруса и корабль понесся по волнам в открытое море, с молчаливым, скорбным сочувствием посмотрели друг на друга как друзья, которые простились с любимым родственником.
— Бедная Шотландия! — буркнул Вальтер Брай, — Кажется, что от тебя улетает твой ангел-покровитель! Горе стране, из которой этот ангел должен бежать в силу того, что она не способна укрыть его!
— Скажите лучше: позор нам, что мы позволили ей бежать! — откликнулся Дэдлей. — Сэр Говард, у меня такое чувство, словно я совершил государственную измену. Если бы я видел королеву раньше и не дал Монгомери слова, то, клянусь Богом, я не отдал бы этой добычи французам.
— Она не виновата в той крови, которая пролилась из-за нее, — возразил Сэррей. — Но, как истинные англичане, мы можем только радоваться, что яблоко раздора между Англией и Шотландией плывет теперь по морю.
— Вы так думаете? — улыбнулся Брай, пожимая плечами. — Неужели вы предполагаете, что король Генрих Восьмой начал эту войну из-за ребенка? Полноте, ему просто нужно было приданое нашей королевы, а сама она как невеста шла только в придачу. Сэр Дэдлей, я помог вам увезти королеву, потому что мое сердце было тронуто тем, что этот милый ребенок должен так жалко влачить свою юность в мрачном замке. Но не думайте, что я поверил вашему деду, он англичанин и только несколько иначе подходит к вопросу, чем Генрих Восьмой. Лисица изобрела другие средства. Шотландская королева стала теперь французской принцессой, а Франция — враг Англии. Лорд Варвик скажет, что с того момента, как королева Мария Стюарт вступила на французскую почву, она потеряла права на корону, и таким образом Шотландия, как страна без властителя, попадет в руки Англии. Но я не хочу оскорблять вас, я говорю просто то, что думаю. Лучше, чтобы англичане властвовали в Шотландии, чем нам подчиняться Дугласам.
— Черт возьми! — воскликнул Дэдлей. — Так значит, мы с вами — друзья, и, может быть, я когда-нибудь еще раздобуду из Франции эту прекрасную добычу. Сэррей, я завидую дару, полученному вами от королевы, и еще более тому, что она рассказывала мне про вас. Не смотрите так мрачно! Английский штандарт развевается в Кале и, быть может, вскоре взовьется и над Парижем. Тогда мы утащим у дофина его прекрасную добычу, а вы возьмете себе Марию Сэйтон…
— Дэдлей, — перебил его Говард, — если вы любите меня, то не называйте в моем присутствии этого имени.
— Я очень люблю вас, Говард, как друга, поэтому так сочувствую вам. Знаете, что рассказала мне королева? По ее мнению, вам следовало бы схватить ту, которую я не смею называть по имени, взвалить ее на лошадь и умчаться с ней!
— Довольно, сэр Дэдлей, я уже не прошу, а требую от вас, чтобы вы перестали говорить об этом!…
— Да упаси Бог сердить вас! Замолкаю. Но куда же мы едем? Ведь эта дорога не ведет к границе! Вы с ума сошли, Брай!… Ведь это — дорога в Эдинбург!
Дэдлей и Сэррей следовали за Браем, не обращая внимания на дорогу, по которой он поехал. Только теперь они заметили, что он избрал путь, который вел к шотландской столице.
— Мы сделаем очень небольшой крюк, — ответил Брай, — и если вы действительно мои друзья, то дадите мне возможность перед тем, как покинуть Шотландию, исполнить священную обязанность.
— Конечно, сэр Брай, — кивнул Дэдлей. — Но что это за таинственное приключение?
— Ничего особенного, сэр Дэдлей.
— Хо-хо, сэр Брай! Мне очень хочется стать вам таким же добрым другом, как и Роберт Говард. А тот, кому я протянул свою руку, может быть уверен во мне до конца своих дней.
— Я верю, верю вам, и хоть вы и нарядный дворянчик, но ваш кулак и в шелковой перчатке доказывает, что кости у вас железные. Пусть сэр Говард расскажет вам, в чем тут дело, а я не могу, — сказал Брай, снова выехав вперед.
А когда Сэррей рассказал Дэдлею, как они спасли Кэт от папистского столба, как дугласовские всадники свалились в пропасть, то лицо Дэдлея просияло.
— Клянусь святым Георгом, — уверил он, — я отдал бы год своей жизни, чтобы быть с вами тогда! Но где же эта несчастная?
— Вальтер оставил ее полумертвой, отдав старой колдунье приказание похоронить Кэт. Но когда он пришел к колдунье, она не могла показать ему могилу. Может быть, она рассчитывала обрадовать его этим, но он только мрачно посмотрел на нее и сказал: «Женщина, которую я любил, не может желать жить после того, как ее обесчестили, а если дело обстоит иначе, то пусть она остерегается повстречаться со мной. Значит, она была виновата, и я был дураком, что спас ее от позорного столба». И я готов побиться об заклад, — заключил Сэррей, — что сегодня он собирается навестить старуху только для того, чтобы убедиться, не живет ли с ней Кэт.
— И чтобы убить ее?
Сэррей повел плечами:
— Это известно лишь Богу!
— И вы не помешаете убийству?
— Это — вопрос его чести, и тут никто не вправе ни давать советы, ни мешать, ни способствовать.
— Прокляни меня Бог! Вы оба так мрачны в своей любви! — воскликнул Дэдлей.


 Снова поведем мы читателя в Лондон ко двору. Корону носил мальчик Эдуард VI, а страной правил от его имени старый Варвик, герцог Нортумберленд. Чарльз Килдар правил Ирландией в качестве вице-короля, но его дочь, несчастная невеста убитого Сэррея, осталась статс-дамой принцессы Елизаветы.
Прошло несколько лет с тех пор, как шотландская королева Мария Стюарт бежала во Францию. Прибыв в Лондон, Роберт Сэррей отправился к Варвику, чтобы поблагодарить его, а затем вместе с Вальтером Браем уехать в свой родовой замок. Расставаясь с ними, Роберт Дэдлей еще раз повторил свое обещание относительно Бэклея, хотя тот был ближе от них, чем они могли думать.
С того момента, когда Бэклей отправился в английский лагерь и предложил свои услуги увезти Марию Стюарт из Инч-Магома, он отдался в руки Варвика. Когда же атака не удалась, то он счел более благоразумным остаться на службу у щедрого лорда, чем продолжать с партией Дугласов дразнить регента Шотландии. Гилфорд Варвик рекомендовал Бэклея отцу, могущественный герцог нашел в дерзком, хитром и гибком характере лорда благодарный материал для своих планов. Как шотландский дворянин, лорд Бэклей встретил при дворе, где мечтали о завоевании Шотландии, отличный прием. Генрих VIII дал ему титул графа Гертфорда, так как хитрый лорд живо втерся к нему в доверие, а Варвик, рекомендациям которого он был обязан своим счастьем, использовал его как шпиона при дворе. Таким обрати, Бэклей пользовался благоволением обеих сторон, и его значение и влияние еще возросли, когда после смерти Генриха VIII Варвик стал регентом. Бэклею удалось попасть в милость к той принцессе, которая имела больше всего прав на престолонаследие после Эдуарда VI, и Варвик ценил его тем более, что предполагал, будто Бэклей делал это только ради того, чтобы услужить ему, так как эта принцесса — Мария Тюдор дочь первой супруги Генриха VIII — была его заклятым врагом, и за ней стояла все еще влиятельная католическая партия. Бэклей выдавал Варвику все, что придумывала принцесса или ее приближенные для уменьшения его влияния на Эдуарда VI, и Варвик согласился бы скорее принести любую жертву, чем расстаться с этим человеком.
В этом-то и заключалась причина, почему Дэдлей должен был скрыть от Вальтера, где находится его враг. Он хотел объяснить деду истинный характер его доверенного и предостеречь его, но натолкнулся на такое безусловное, слепое доверие, что менее всего мог думать об исполнении данного Вальтеру Браю слова, особенно когда старый Варвик объявил, что будет смотреть на вражду против графа Гертфорда, как на направленную против него лично. Дэдлей был посвящен в замыслы деда, которые все были направлены ни более, ни менее, как на то, чтобы после смерти Эдуарда VI надеть королевскую корону на голову его отца — Гилфорда Варвика. Старому Варвику удалось получить согласие короля на брак Гилфорда с леди Иоанной Грэй, и теперь дело заключалось только в том, чтобы в решительный момент воспользоваться претензиями леди Грей, племянницы Генриха VIII, на королевский престол. Для этого необходимо было признать принцесс Марию и Елизавету незаконнорожденными, как зачатыми в незаконном браке, а потому не имеющими прав на английский престол.
Король Эдуард VI был нежным, слабым ребенком, по мнению врачей, он был болен чахоткой; враги же Варвика уверяли, будто бы тот отравляет мальчика медленно действующим ядом, от которого король постоянно угасает. Вместе с тем, так же ревностно, как Варвик искал приверженцев для леди Грей, его враги искали таковых для принцесс Марии и Елизаветы.
В маленькой комнате Уайтхолльского дворца стояли аналой и кровать. Хотя католицизм и был запрещен в Англии, но никто не нашел бы ничего необыкновенного в том, что в королевском дворце какой-то благочестивый католик поставил аналой в спальне, чтобы без помехи и надзора проводить здесь свои молитвенные часы. Однако все же удивляло, каким образом аналой попал в спальню или постель — в эту часовню. Комната производила такое впечатление, будто ее хотели в одно и то же время сделать и прихотливым будуаром, и часовней.
Шелковые занавеси скрывали подушки кровати, ковры покрывали пол; элегантный умывальник был заполнен сосудами из червонного золота или китайского фарфора; а маленький столик с венецианским зеркалом был уставлен всевозможными хрустальными флакончиками, фарфоровыми вазочками и маленькими коробочками. Все, что только было известно в те времена из косметических средств, можно было найти на этом столике.
Из всего этого можно было вывести определенное заключение о характере обитательницы этой комнаты, а картины, которыми были украшены стены, еще более подчеркивали это впечатление. На стене у кровати были развешаны портреты почти всех находящихся в живых принцев королевских царствующих домов, а между ними помещались фривольные, если не непристойные жанровые картинки; далее было несколько мифологических картин, где художник вдохновляется мужской красотой. Противоположная стена тоже была заполнена изображениями святых, картинами из жизни Христа, а также изображениями адских мук грешников. В маленьком, висевшем на стене стеклянном шкафу находились всевозможные реликвии: зубы, кости и волосы святых и мучеников за веру; над простым деревянным аналоем висело распятие, а через аналой был перекинут бич для самобичевания. На одной стороне комнаты все, что может вызывать сладострастие, на другой — сладострастие самоистязания.
Эта комната была спальней английской принцессы Марии Тюдор. Она вошла в комнату; высокая, худая, она была одета почти вычурно, а следовательно, безвкусно, но богато. Острый взгляд ее темных глаз с годами приобрел нечто столь отталкивающее, что уже шестой раз переговоры с очередным претендентом на ее руку прервались после того, как жених увидел невесту. До сих пор вся жизнь принцессы протекала очень безрадостно: детство прошло около вечно оскорбляемой и заброшенной матери, юность — при дворе тирана-отца. С самого раннего детства она привыкла слепо повиноваться своему духовнику, примиряться с небом путем покаяния и умерщвления плоти и все надежды своей жизни и честолюбия возлагать на победу церкви. Тщеславное, жаждущее любви сердце ее было затравленным, глубокую горечь пробуждали в ее душе все, прекрасней и счастливей ее. И единственным ее утешением был безраздельный, слепой религиозный фанатизм.
Мария была сильно возбуждена, когда вошла в свою комнату. Ее взор скользнул по всем тем княжеским портретам, которые напоминали ей о разбитых надеждах. Она расстегнула платье и обнажила плечо, затем приподняла юбку, стала голыми коленями на деревянный помост аналоя, взяла в руки бич и принялась так ожесточенно бичевать им себя, что вся кожа покрылась красными полосками. Губы принцессы шептали молитву, а она все безжалостнее неистовствовала над собственным телом, причем ее глаза блестели диким, фанатическим восторгом.
Дверь неслышно открылась, в комнату вошел человек в одежде католического священника и с молчаливым удовлетворением стал смотреть на кающуюся. Когда наконец она в изнеможении выпустила из рук бич, он тихонько подошел к ней и, благословив, промолвил:
— Того, кто унизится, Господь возвысит. Он избрал тебя для великой участи, дочь моя! Ты вооружишься Божьим мечом и уничтожишь врагов Божьих, а твоя нога растопчет твоих врагов.
— Я — несчастная женщина, над которой все смеются и которую все отталкивают! — воскликнула принцесса Мария.
— У меня нет ничего, кроме моей ненависти, и за нее вы заставляете меня каяться!
— Ты ненавидишь из греховного побуждения, а не из религиозного воодушевления, лишь плотская похоть возбуждает в тебе желания, которые далеки от высокой цели. Если ты будешь слушаться Господа, он даст тебе все, о чем тоскует твоя душа, и ты погрузишься в океан блаженства. Поднимись и оденься! Тебя ждет тот, кого Господь просветил положить большой камень в строение, воздвигаемое слабыми руками с верующими сердцами.
Мария снова оделась и поднялась; ее щеки раскраснелись, от нервного возбуждения грудь высоко вздымалась, она дышала быстро и прерывисто.
— Кто это, ваше высокопреосвященство? — спросила она, обращаясь к своему духовнику, архиепископу Гардинеру.
— Шотландский лорд. Приукрась свое лицо и заставь глаза сиять очарованием, ведь красота для того и дана женщинам, чтобы ослеплять глаза глупцов и соблазнять людей.
— Разве не грех давать обещания, которые не собираешься исполнить?
— Разумеется, если ты это делаешь из тщеславия сердца или ради греховного желания нравиться. Но Господь, даровавший тебе красоту, может требовать, чтобы ты пользовалась ею для службы церкви. Ухо любящего охотно слушает, а сердце — с радостью повинуется. Всякое средство хорошо, если оно употребляется ради благочестивой цели; и, с тех пор как ересь подняла голову и дьявол овладел землей, всякое средство хорошо для уничтожения ненавистных жрецов Ваала! Если ты, дочь моя во Христе, стремишься к короне из святой ревности послужить своей властью на помощь церкви и преследовать еретиков, то каждое средство окажется хорошим и благоугодным Господу; ведь Лойола говорит: «Не существует ничего такого, что само по себе может являться истиной, следовательно, нет добродетели, нет греха, нет чести, нет права, нет морали, которые могли бы быть хорошими сами по себе. Человек дает всему и каждому определенное освещение, которое зависит исключительно от цели. Что служит на пользу церкви, то хорошо, что идет против ее, то плохо, что способствует ее процветанию — хорошо, что вредит ей — плохо». Если ты действуешь в интересах церкви, то ни убийство, ни грабеж, ни прелюбодеяние не является преступлением. Но и то, что считается нравственным и добродетельным, может оказаться греховным, если обращено к еретику или не служит на пользу церкви.
В то время как Гардинер говорил все это, принцесса Мария окончила свой туалет. Ее щеки пылали ярким румянцем возбуждения, и глаза горели диким огнем фанатизма. Ведь вся ее юность прошла в слезах и безрадостных днях; с детства она была воспитана в вечных молитвах и покаянии и подвергалась самым тяжелым унижениям, какие только могут достаться на долю принцессы крови и которые оскорбляют тем глубже, что задевают не только женские чувства, но и царственную гордость.
С каким наслаждением принцесса впитывала в себя сладкий яд слов архиепископа. Как стремилась по жилам принцессы Марии блаженная надежда стать королевой и тогда поднимать бич уже не на собственное тело, а на всех могущественных лордов, спокойно смотревших на то, как тиран Генрих VIII отверг ее мать, и смеялся над ее слезами! Дивное наслаждение дает власть почитаемой всеми женщине, но она еще тем слаще — для отвергнутой и презираемой! Ведь прославленная сестра принцессы Марии, гордая Елизавета, стала бы тогда ее рабой. И леди Грэй, жена гордого Варвика, была бы в ее власти. А разве не явилось бы услугой церкви заставить голову еретички скатиться с плеч на окровавленном эшафоте?..
— Думай о том, что я сказал тебе! — шепнул архиепископ принцессе Марии, следуя за ней в гостиную. — Клятва, которую ты даешь, ничем не связывает тебя, если нарушение ее делается во славу Божию. Обман позволителен против тех, кто сам хочет обмануть нас; в Писании сказано: «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби».
— Но ведь вы останетесь со мной, чтобы я могла по вашему взору знать, так ли я все делаю? — спросила принцесса, направившись к боковой галерее.
Архиепископ, покачав головой, ответил:
— Граф Гертфорд не хочет никому доверять свою тайну, кроме тебя, и я должен сторожить у наружной двери, чтобы вам не помешали. Если бы стало известно, что Гертфорд прошел к тебе, то все пропало бы, так как Варвик держит бесчисленное количество шпионов и непоколебимо доверяет Гертфорду. Будь умна, Мария, и пусти в ход все средства, чтобы очаровать его.
Снова поведем мы читателя в Лондон ко двору. Корону носил мальчик Эдуард VI, а страной правил от его имени старый Варвик, герцог Нортумберленд. Чарльз Килдар правил Ирландией в качестве вице-короля, но его дочь, несчастная невеста убитого Сэррея, осталась статс-дамой принцессы Елизаветы.
Прошло несколько лет с тех пор, как шотландская королева Мария Стюарт бежала во Францию. Прибыв в Лондон, Роберт Сэррей отправился к Варвику, чтобы поблагодарить его, а затем вместе с Вальтером Браем уехать в свой родовой замок. Расставаясь с ними, Роберт Дэдлей еще раз повторил свое обещание относительно Бэклея, хотя тот был ближе от них, чем они могли думать.
С того момента, когда Бэклей отправился в английский лагерь и предложил свои услуги увезти Марию Стюарт из Инч-Магома, он отдался в руки Варвика. Когда же атака не удалась, то он счел более благоразумным остаться на службу у щедрого лорда, чем продолжать с партией Дугласов дразнить регента Шотландии. Гилфорд Варвик рекомендовал Бэклея отцу, могущественный герцог нашел в дерзком, хитром и гибком характере лорда благодарный материал для своих планов. Как шотландский дворянин, лорд Бэклей встретил при дворе, где мечтали о завоевании Шотландии, отличный прием. Генрих VIII дал ему титул графа Гертфорда, так как хитрый лорд живо втерся к нему в доверие, а Варвик, рекомендациям которого он был обязан своим счастьем, использовал его как шпиона при дворе. Таким обрати, Бэклей пользовался благоволением обеих сторон, и его значение и влияние еще возросли, когда после смерти Генриха VIII Варвик стал регентом. Бэклею удалось попасть в милость к той принцессе, которая имела больше всего прав на престолонаследие после Эдуарда VI, и Варвик ценил его тем более, что предполагал, будто Бэклей делал это только ради того, чтобы услужить ему, так как эта принцесса — Мария Тюдор дочь первой супруги Генриха VIII — была его заклятым врагом, и за ней стояла все еще влиятельная католическая партия. Бэклей выдавал Варвику все, что придумывала принцесса или ее приближенные для уменьшения его влияния на Эдуарда VI, и Варвик согласился бы скорее принести любую жертву, чем расстаться с этим человеком.
В этом-то и заключалась причина, почему Дэдлей должен был скрыть от Вальтера, где находится его враг. Он хотел объяснить деду истинный характер его доверенного и предостеречь его, но натолкнулся на такое безусловное, слепое доверие, что менее всего мог думать об исполнении данного Вальтеру Браю слова, особенно когда старый Варвик объявил, что будет смотреть на вражду против графа Гертфорда, как на направленную против него лично. Дэдлей был посвящен в замыслы деда, которые все были направлены ни более, ни менее, как на то, чтобы после смерти Эдуарда VI надеть королевскую корону на голову его отца — Гилфорда Варвика. Старому Варвику удалось получить согласие короля на брак Гилфорда с леди Иоанной Грэй, и теперь дело заключалось только в том, чтобы в решительный момент воспользоваться претензиями леди Грей, племянницы Генриха VIII, на королевский престол. Для этого необходимо было признать принцесс Марию и Елизавету незаконнорожденными, как зачатыми в незаконном браке, а потому не имеющими прав на английский престол.
Король Эдуард VI был нежным, слабым ребенком, по мнению врачей, он был болен чахоткой; враги же Варвика уверяли, будто бы тот отравляет мальчика медленно действующим ядом, от которого король постоянно угасает. Вместе с тем, так же ревностно, как Варвик искал приверженцев для леди Грей, его враги искали таковых для принцесс Марии и Елизаветы.
В маленькой комнате Уайтхолльского дворца стояли аналой и кровать. Хотя католицизм и был запрещен в Англии, но никто не нашел бы ничего необыкновенного в том, что в королевском дворце какой-то благочестивый католик поставил аналой в спальне, чтобы без помехи и надзора проводить здесь свои молитвенные часы. Однако все же удивляло, каким образом аналой попал в спальню или постель — в эту часовню. Комната производила такое впечатление, будто ее хотели в одно и то же время сделать и прихотливым будуаром, и часовней.
Шелковые занавеси скрывали подушки кровати, ковры покрывали пол; элегантный умывальник был заполнен сосудами из червонного золота или китайского фарфора; а маленький столик с венецианским зеркалом был уставлен всевозможными хрустальными флакончиками, фарфоровыми вазочками и маленькими коробочками. Все, что только было известно в те времена из косметических средств, можно было найти на этом столике.
Из всего этого можно было вывести определенное заключение о характере обитательницы этой комнаты, а картины, которыми были украшены стены, еще более подчеркивали это впечатление. На стене у кровати были развешаны портреты почти всех находящихся в живых принцев королевских царствующих домов, а между ними помещались фривольные, если не непристойные жанровые картинки; далее было несколько мифологических картин, где художник вдохновляется мужской красотой. Противоположная стена тоже была заполнена изображениями святых, картинами из жизни Христа, а также изображениями адских мук грешников. В маленьком, висевшем на стене стеклянном шкафу находились всевозможные реликвии: зубы, кости и волосы святых и мучеников за веру; над простым деревянным аналоем висело распятие, а через аналой был перекинут бич для самобичевания. На одной стороне комнаты все, что может вызывать сладострастие, на другой — сладострастие самоистязания.
Эта комната была спальней английской принцессы Марии Тюдор. Она вошла в комнату; высокая, худая, она была одета почти вычурно, а следовательно, безвкусно, но богато. Острый взгляд ее темных глаз с годами приобрел нечто столь отталкивающее, что уже шестой раз переговоры с очередным претендентом на ее руку прервались после того, как жених увидел невесту. До сих пор вся жизнь принцессы протекала очень безрадостно: детство прошло около вечно оскорбляемой и заброшенной матери, юность — при дворе тирана-отца. С самого раннего детства она привыкла слепо повиноваться своему духовнику, примиряться с небом путем покаяния и умерщвления плоти и все надежды своей жизни и честолюбия возлагать на победу церкви. Тщеславное, жаждущее любви сердце ее было затравленным, глубокую горечь пробуждали в ее душе все, прекрасней и счастливей ее. И единственным ее утешением был безраздельный, слепой религиозный фанатизм.
Мария была сильно возбуждена, когда вошла в свою комнату. Ее взор скользнул по всем тем княжеским портретам, которые напоминали ей о разбитых надеждах. Она расстегнула платье и обнажила плечо, затем приподняла юбку, стала голыми коленями на деревянный помост аналоя, взяла в руки бич и принялась так ожесточенно бичевать им себя, что вся кожа покрылась красными полосками. Губы принцессы шептали молитву, а она все безжалостнее неистовствовала над собственным телом, причем ее глаза блестели диким, фанатическим восторгом.
Дверь неслышно открылась, в комнату вошел человек в одежде католического священника и с молчаливым удовлетворением стал смотреть на кающуюся. Когда наконец она в изнеможении выпустила из рук бич, он тихонько подошел к ней и, благословив, промолвил:
— Того, кто унизится, Господь возвысит. Он избрал тебя для великой участи, дочь моя! Ты вооружишься Божьим мечом и уничтожишь врагов Божьих, а твоя нога растопчет твоих врагов.
— Я — несчастная женщина, над которой все смеются и которую все отталкивают! — воскликнула принцесса Мария.
— У меня нет ничего, кроме моей ненависти, и за нее вы заставляете меня каяться!
— Ты ненавидишь из греховного побуждения, а не из религиозного воодушевления, лишь плотская похоть возбуждает в тебе желания, которые далеки от высокой цели. Если ты будешь слушаться Господа, он даст тебе все, о чем тоскует твоя душа, и ты погрузишься в океан блаженства. Поднимись и оденься! Тебя ждет тот, кого Господь просветил положить большой камень в строение, воздвигаемое слабыми руками с верующими сердцами.
Мария снова оделась и поднялась; ее щеки раскраснелись, от нервного возбуждения грудь высоко вздымалась, она дышала быстро и прерывисто.
— Кто это, ваше высокопреосвященство? — спросила она, обращаясь к своему духовнику, архиепископу Гардинеру.
— Шотландский лорд. Приукрась свое лицо и заставь глаза сиять очарованием, ведь красота для того и дана женщинам, чтобы ослеплять глаза глупцов и соблазнять людей.
— Разве не грех давать обещания, которые не собираешься исполнить?
— Разумеется, если ты это делаешь из тщеславия сердца или ради греховного желания нравиться. Но Господь, даровавший тебе красоту, может требовать, чтобы ты пользовалась ею для службы церкви. Ухо любящего охотно слушает, а сердце — с радостью повинуется. Всякое средство хорошо, если оно употребляется ради благочестивой цели; и, с тех пор как ересь подняла голову и дьявол овладел землей, всякое средство хорошо для уничтожения ненавистных жрецов Ваала! Если ты, дочь моя во Христе, стремишься к короне из святой ревности послужить своей властью на помощь церкви и преследовать еретиков, то каждое средство окажется хорошим и благоугодным Господу; ведь Лойола говорит: «Не существует ничего такого, что само по себе может являться истиной, следовательно, нет добродетели, нет греха, нет чести, нет права, нет морали, которые могли бы быть хорошими сами по себе. Человек дает всему и каждому определенное освещение, которое зависит исключительно от цели. Что служит на пользу церкви, то хорошо, что идет против ее, то плохо, что способствует ее процветанию — хорошо, что вредит ей — плохо». Если ты действуешь в интересах церкви, то ни убийство, ни грабеж, ни прелюбодеяние не является преступлением. Но и то, что считается нравственным и добродетельным, может оказаться греховным, если обращено к еретику или не служит на пользу церкви.
В то время как Гардинер говорил все это, принцесса Мария окончила свой туалет. Ее щеки пылали ярким румянцем возбуждения, и глаза горели диким огнем фанатизма. Ведь вся ее юность прошла в слезах и безрадостных днях; с детства она была воспитана в вечных молитвах и покаянии и подвергалась самым тяжелым унижениям, какие только могут достаться на долю принцессы крови и которые оскорбляют тем глубже, что задевают не только женские чувства, но и царственную гордость.
С каким наслаждением принцесса впитывала в себя сладкий яд слов архиепископа. Как стремилась по жилам принцессы Марии блаженная надежда стать королевой и тогда поднимать бич уже не на собственное тело, а на всех могущественных лордов, спокойно смотревших на то, как тиран Генрих VIII отверг ее мать, и смеялся над ее слезами! Дивное наслаждение дает власть почитаемой всеми женщине, но она еще тем слаще — для отвергнутой и презираемой! Ведь прославленная сестра принцессы Марии, гордая Елизавета, стала бы тогда ее рабой. И леди Грэй, жена гордого Варвика, была бы в ее власти. А разве не явилось бы услугой церкви заставить голову еретички скатиться с плеч на окровавленном эшафоте?..
— Думай о том, что я сказал тебе! — шепнул архиепископ принцессе Марии, следуя за ней в гостиную. — Клятва, которую ты даешь, ничем не связывает тебя, если нарушение ее делается во славу Божию. Обман позволителен против тех, кто сам хочет обмануть нас; в Писании сказано: «Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби».
— Но ведь вы останетесь со мной, чтобы я могла по вашему взору знать, так ли я все делаю? — спросила принцесса, направившись к боковой галерее.
Архиепископ, покачав головой, ответил:
— Граф Гертфорд не хочет никому доверять свою тайну, кроме тебя, и я должен сторожить у наружной двери, чтобы вам не помешали. Если бы стало известно, что Гертфорд прошел к тебе, то все пропало бы, так как Варвик держит бесчисленное количество шпионов и непоколебимо доверяет Гертфорду. Будь умна, Мария, и пусти в ход все средства, чтобы очаровать его.


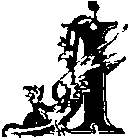 Леди Бэтси Фитцджеральд, графиня Килдар, не последовала за принцессой Елизаветой в ее дворец в Эшридж, но жила в доме своего отца в Лондоне. Многие знатные дворяне искали руки прекрасной графини, однако все их притязания были безуспешны. План Варвика — провозгласить королевой леди Грей, встретил в ней горячую сторонницу, потому что он был направлен против детей Генриха VIII. Леди Килдар видела в нем мщение кровавому тирану.
Маргарита Морус полюбила Бэтси как дочь, а та видела в ней сторонницу, которая отбросила все слабости тщеславия, чтобы жить одной идеей — отомстить за умерщвление отца потомству тирана. Мрачность и суровая замкнутость характера Маргариты не остались без влияния на Бэтси Килдар, и эта некогда веселая девушка превратилась теперь в существо с серьезными, холодными, строгими чертами, придававшими ее благородной наружности прямо царственную красоту.
Лорд Бэклей также принадлежал к числу тех, которые напрасно сватались за Бэтси. Бэклей был натурой честолюбивой, энергичной и настойчивой, он не обладал мужеством для смелых подвигов, но питал страсть к безумно-смелым планам, он был отважным в интригах, но трусил перед опасностями.
Хотя он и любил Кэт, но отдал ее в жертву всадникам Дугласа, потому что не смел оказать отпор грубой силе. Когда же узнал, что она спасена, то загорелся желанием иметь ее в своей власти, чтобы помешать ей выдать его позор, и надеясь, что молодая девушка прельстится любовной связью с дворянином. Таким образом, страх и вместе с тем похоть побуждали его разыскивать Кэт в развалинах. Так что Гардинер ошибался, предполагая, что Бэклей до сих пор питает к ней глубокое чувство. Иного рода была его склонность к леди Килдар. Она превратилась в жгучее влечение, и чем равнодушнее принимала Бэтси его уверения в преданности, тем сильнее пожирало Бэклея желание назвать своею гордую красавицу. Напрасно упрашивал он Варвика замолвить за него слово перед леди Килдар, лорд. Варвик с самого начала считал безуспешной всякую попытку подобного рода, которая могла повлечь за собой немилость.
Молодой Дэдлей явно избегал Бэклея, а когда и Гилфорд Варвик охладел к нему, то подозрительный Бэклей почуял, что сюда из Эдинбурга дошла дурная слава о нем и что если его не отталкивают окончательно, то лишь потому, что еще нуждаются в нем. Когда же Варвикам удастся достичь своей цели, для него будет слишком поздно приобрести себе другого покровителя.
Вот почему Бэклей со смелой решимостью ухватился за рискованный план продаться партии принцессы Марии. Если лорд Варвик погибнет, а принцесса Мария сделается королевой и будет обязана ему, Бэклею, короной, тогда он станет всемогущим. Тогда и графиня Килдар лишится всякой защиты, и он предложит ей выбор: быть обвиненной в государственном преступлении или отдать ему свою руку.
Гардинер принял Бэклея с распростертыми объятиями, и измена, по-видимому, должна была увенчаться успехом. Лондонские горожане отнюдь не желали власти высокомерных лордов, однако потребовали бы, чтобы принцесса Мария приняла религию страны. У Бэклея лежало в кармане клятвенное обещание принцессы на этот счет, но, прежде чем отправиться с ним на тайное заседание членов магистрата, он поспешил к графине Килдар, чтобы узнать, не принято ли Варвиками какого-либо неожиданного решения.
Дворец уже был полон знатными дворянами, созванными Варвиком, чтобы в решительную минуту обнажить за него меч. В большом зале сидели кавалеры и угощались вином; Бэклей шел по галерее мимо зала, когда, бросив взгляд вниз, увидал возле Дэдлея графа Сэррея и… Вальтера Брая. Щеки лорда побледнели. Как попал подчиненный в компанию знатных господ? Дэдлей знал Брая. Следовательно, не было сомнения, что Варвики только терпели Бэклея, потому что боялись измены с его стороны. Значит, он вовремя переменил цвет, чтобы спастись.
Графиня Килдар сидела с Маргаритой Морус у себя в гостиной, когда вошел Бэклей. При виде его раскрасневшегося, взволнованного лица она подумала, что он принес недобрую весть, однако она спокойно пошла ему навстречу и спросила:
— Вы от герцога, сэр?
— Нет, леди, я рассчитывал увидеть его тут.
— Он в Уайтхолле при больном короле.
— А милорд Гилфорд?
— Уехал с леди Грэй в Варвикшир.
— Слава богу! Вероятно, кавалеры герцога получили приказ последовать туда?
— Нет, надо выждать, что решит городское сословие, а в неблагоприятном случае принудить город последовать примеру графств.
— Город взволнован. Еще вчера настроение горожан благоприятствовало лорду Варвику; сегодня же город хочет, чтобы ему доверяли, и его оскорбляет, что друзья Варвиков явились в Лондон со своими воинами, точно дело идет о каком-нибудь завоевании. Все погибнет, если дворяне не распустят своих латников.
— Чтобы дожидаться решения горожан безоружными.
— Всегда успеется пригрозить городу вооруженной силой, если он не захочет взять сторону леди Грэй.
В это время двери распахнулись, и в гостиную внезапно пошла принцесса Елизавета.
Неожиданный выстрел не вызвал бы пожалуй большего испуга и замешательства, как это внезапное появление дочери Генриха VIII в доме, где притаился очаг заговора против престолонаследования принцесс Марии и Елизаветы. Неужели среди заговорщиков нашелся предатель? Что привело сюда Елизавету из ее поместья, как не подозрение, что тут затевается измена?
С первого взгляда на принцессу можно было догадаться, что ей известно, с какой целью собралось знатное дворянство в зале. Ее щеки пылали от волнения, глаза горели, и гордая, торжествующая усмешка мелькнула на лице, когда она заметила внезапную бледность графини и явный испуг Бэклея.
— Скажите, милая леди Бэтси, что происходит в вашем доме? Право, это смахивает на мятеж, но ведь вы — приятельница Варвиков, а Варвик владычествует.
— Ваше высочество, — запинаясь, промолвила Бэтси Килдар, — это — родственники моего дома.
— Молчите! — надменно перебила ее принцесса. — Ваше замешательство выдает вас. Разве смерть Эдуарда уже так близка, что наследникам надо собраться? Говорите правду! Ведь вы дрожите, точно я — король Генрих, а за мной стоит шериф. Неужели вы думаете, что я соглашусь сделаться служанкой моей сводной сестры? Передайте леди Грэй, когда увидите ее, что я, Елизавета Тюдор, первая стану молить Бога, чтобы бремя королевского венца было для нее легким. Пусть только Варвик остерегается. Сегодня я слышала такие речи от дочери Екатерины Арагонской, которые заставили меня догадаться, что леди Грэй будет трудно утвердиться на престоле.
Замешательство присутствующих сменилось удивлением.
— Слышите? — подхватил Бэклей. — А ведь принцесса Мария опирается не на что иное, как на брожение в городе. Скажите рыцарям, чтобы они удалили своих латников, лондонские горожане не могут вынести подобную угрозу. Я посоветовал бы собравшимся здесь дворянам остаться только в качестве свиты лорда Варвика, но непременно отослать своих воинов в Варвикшир, чтобы сосредоточить там военную силу, которая, в случае надобности, возьмет приступом Лондон, если город не захочет подчиниться.
— Этот план кажется мне разумным! — сказала принцесса Елизавета. — Если в зале сидит кто-нибудь из Варвиков, то позовите его сюда.
Бэклей поклонился и вышел, однако передал поручение слуге в прихожей, а сам поспешил оставить дворец, чтобы явиться на заседание горожан.
Принцесса Елизавета, конечно, не предвидела, когда велела позвать Варвика, что перед ней предстанет молодой человек, который в качестве пажа некогда был ее рыцарем. Она тотчас узнала его, хотя со дня знаменательного турнира протекло уже несколько лет и отроческая красота лица Роберта Дэдлея уступила выражению мужественной силы. Принцесса покраснела и на минуту потупилась: до того красив и благороден был этот мужской облик, часто являвшийся ей в девичьих сновидениях.
— Роберт Дэдлей! Я полагала, что вы в Шотландии или даже во Франции, так как мне рассказывали, что королева Стюарт обязана вам своим освобождением, — сказала Елизавета.
Дэдлей тоже менее всего ожидал встретить здесь принцессу, но незаметно поданный графиней Килдар знак успокоил его. И все же он не мог подозревать, что сестра принцессы Марии примкнула к партии его отца. Поэтому, преклонив колено и поцеловав протянутую ею руку, Дэдлей ответил, что считает за счастье увидеть еще раз перед своим отъездом из Англии принцессу, которая, как он надеется, позволит ему рискнуть своей жизнью против ее врагов, когда королевский венец украсит ее голову.
— Браво! — крикнула принцесса Елизавета. — Однако вы очень развились: вы лжете и лицемерите, точно провели целые годы подряд при французском дворе. Но я ищу помощи и не могу сердиться на вас. Пожелаете ли вы быть сегодня моим рыцарем, как тогда, на турнире, если я вам скажу, что уступаю моей кузине корону?
— Ваше высочество… вы хотите отказаться!…
— У меня нет друзей, поэтому я выбираю среди врагов тех, от которых жду пощады.
— Ваше высочество, скажите, где находите вы сердца, которые за одну вашу улыбку готовы пролить свою кровь?
Принцесса Елизавета нетерпеливо пожала плечами, она чувствовала, что такая изысканная лесть в данный момент похожа скорее на насмешку, чем почтение, и, обернувшись, спросила:
— Где же лорд, которого я здесь застала?
— Граф Гертфорд не возвращался назад! — ответила Бэтси.
— Граф Гертфорд? — насторожился Дэдлей. — Что ему тут надо?
— Он предостерегал против брожения в городе. По его словам, многочисленные свиты лордов тревожат горожан, — ответила графиня Килдар.
— Верно, хотя вы и слышали это от Бэклея.
— Вы не доверяете ему? — заволновалась графиня.
— Он — мошенник, которому не следует больше носить цвета Варвиков.
— Однако не предатель? — осведомилась принцесса Елизавета.
— Что может он выдать? — воскликнул Дэдлей.
— Тогда сообщите лордам приказ отпустить своих латников, — сказала принцесса Елизавета, — а я вернусь к себе в имение, успокоенная тем, что Варвики защищают меня.
Дэдлей проводил принцессу до экипажа, после чего вернулся в зал и объявил собравшимся, что принцесса Елизавета с ними. Клики торжества потрясли своды, и бокалы зазвенели за здоровье леди Джэн Грэй и храброго Варвика.
Вдруг в зал вбежал гонец и передал пергамент Дэдлею. Тот, прочтя письмо, воскликнул:
— Вот мне и не надо никуда ехать! Мой дед шлет нам приказ отослать наших латников в Варвикшир, так как их пребывание в Лондоне волнует горожан и может настроить их против нас… Однако странно: на пергаменте нет печати!
— Герцог, должно быть, писал второпях, — возразил гонец. — У него были представители Сити, лорд-мэр и шериф.
Объяснение показалось настолько правдоподобным, а приказ так согласовался с тем, что Дэдлей признавал правильным, что приказ был выполнен.
Леди Бэтси Фитцджеральд, графиня Килдар, не последовала за принцессой Елизаветой в ее дворец в Эшридж, но жила в доме своего отца в Лондоне. Многие знатные дворяне искали руки прекрасной графини, однако все их притязания были безуспешны. План Варвика — провозгласить королевой леди Грей, встретил в ней горячую сторонницу, потому что он был направлен против детей Генриха VIII. Леди Килдар видела в нем мщение кровавому тирану.
Маргарита Морус полюбила Бэтси как дочь, а та видела в ней сторонницу, которая отбросила все слабости тщеславия, чтобы жить одной идеей — отомстить за умерщвление отца потомству тирана. Мрачность и суровая замкнутость характера Маргариты не остались без влияния на Бэтси Килдар, и эта некогда веселая девушка превратилась теперь в существо с серьезными, холодными, строгими чертами, придававшими ее благородной наружности прямо царственную красоту.
Лорд Бэклей также принадлежал к числу тех, которые напрасно сватались за Бэтси. Бэклей был натурой честолюбивой, энергичной и настойчивой, он не обладал мужеством для смелых подвигов, но питал страсть к безумно-смелым планам, он был отважным в интригах, но трусил перед опасностями.
Хотя он и любил Кэт, но отдал ее в жертву всадникам Дугласа, потому что не смел оказать отпор грубой силе. Когда же узнал, что она спасена, то загорелся желанием иметь ее в своей власти, чтобы помешать ей выдать его позор, и надеясь, что молодая девушка прельстится любовной связью с дворянином. Таким образом, страх и вместе с тем похоть побуждали его разыскивать Кэт в развалинах. Так что Гардинер ошибался, предполагая, что Бэклей до сих пор питает к ней глубокое чувство. Иного рода была его склонность к леди Килдар. Она превратилась в жгучее влечение, и чем равнодушнее принимала Бэтси его уверения в преданности, тем сильнее пожирало Бэклея желание назвать своею гордую красавицу. Напрасно упрашивал он Варвика замолвить за него слово перед леди Килдар, лорд. Варвик с самого начала считал безуспешной всякую попытку подобного рода, которая могла повлечь за собой немилость.
Молодой Дэдлей явно избегал Бэклея, а когда и Гилфорд Варвик охладел к нему, то подозрительный Бэклей почуял, что сюда из Эдинбурга дошла дурная слава о нем и что если его не отталкивают окончательно, то лишь потому, что еще нуждаются в нем. Когда же Варвикам удастся достичь своей цели, для него будет слишком поздно приобрести себе другого покровителя.
Вот почему Бэклей со смелой решимостью ухватился за рискованный план продаться партии принцессы Марии. Если лорд Варвик погибнет, а принцесса Мария сделается королевой и будет обязана ему, Бэклею, короной, тогда он станет всемогущим. Тогда и графиня Килдар лишится всякой защиты, и он предложит ей выбор: быть обвиненной в государственном преступлении или отдать ему свою руку.
Гардинер принял Бэклея с распростертыми объятиями, и измена, по-видимому, должна была увенчаться успехом. Лондонские горожане отнюдь не желали власти высокомерных лордов, однако потребовали бы, чтобы принцесса Мария приняла религию страны. У Бэклея лежало в кармане клятвенное обещание принцессы на этот счет, но, прежде чем отправиться с ним на тайное заседание членов магистрата, он поспешил к графине Килдар, чтобы узнать, не принято ли Варвиками какого-либо неожиданного решения.
Дворец уже был полон знатными дворянами, созванными Варвиком, чтобы в решительную минуту обнажить за него меч. В большом зале сидели кавалеры и угощались вином; Бэклей шел по галерее мимо зала, когда, бросив взгляд вниз, увидал возле Дэдлея графа Сэррея и… Вальтера Брая. Щеки лорда побледнели. Как попал подчиненный в компанию знатных господ? Дэдлей знал Брая. Следовательно, не было сомнения, что Варвики только терпели Бэклея, потому что боялись измены с его стороны. Значит, он вовремя переменил цвет, чтобы спастись.
Графиня Килдар сидела с Маргаритой Морус у себя в гостиной, когда вошел Бэклей. При виде его раскрасневшегося, взволнованного лица она подумала, что он принес недобрую весть, однако она спокойно пошла ему навстречу и спросила:
— Вы от герцога, сэр?
— Нет, леди, я рассчитывал увидеть его тут.
— Он в Уайтхолле при больном короле.
— А милорд Гилфорд?
— Уехал с леди Грэй в Варвикшир.
— Слава богу! Вероятно, кавалеры герцога получили приказ последовать туда?
— Нет, надо выждать, что решит городское сословие, а в неблагоприятном случае принудить город последовать примеру графств.
— Город взволнован. Еще вчера настроение горожан благоприятствовало лорду Варвику; сегодня же город хочет, чтобы ему доверяли, и его оскорбляет, что друзья Варвиков явились в Лондон со своими воинами, точно дело идет о каком-нибудь завоевании. Все погибнет, если дворяне не распустят своих латников.
— Чтобы дожидаться решения горожан безоружными.
— Всегда успеется пригрозить городу вооруженной силой, если он не захочет взять сторону леди Грэй.
В это время двери распахнулись, и в гостиную внезапно пошла принцесса Елизавета.
Неожиданный выстрел не вызвал бы пожалуй большего испуга и замешательства, как это внезапное появление дочери Генриха VIII в доме, где притаился очаг заговора против престолонаследования принцесс Марии и Елизаветы. Неужели среди заговорщиков нашелся предатель? Что привело сюда Елизавету из ее поместья, как не подозрение, что тут затевается измена?
С первого взгляда на принцессу можно было догадаться, что ей известно, с какой целью собралось знатное дворянство в зале. Ее щеки пылали от волнения, глаза горели, и гордая, торжествующая усмешка мелькнула на лице, когда она заметила внезапную бледность графини и явный испуг Бэклея.
— Скажите, милая леди Бэтси, что происходит в вашем доме? Право, это смахивает на мятеж, но ведь вы — приятельница Варвиков, а Варвик владычествует.
— Ваше высочество, — запинаясь, промолвила Бэтси Килдар, — это — родственники моего дома.
— Молчите! — надменно перебила ее принцесса. — Ваше замешательство выдает вас. Разве смерть Эдуарда уже так близка, что наследникам надо собраться? Говорите правду! Ведь вы дрожите, точно я — король Генрих, а за мной стоит шериф. Неужели вы думаете, что я соглашусь сделаться служанкой моей сводной сестры? Передайте леди Грэй, когда увидите ее, что я, Елизавета Тюдор, первая стану молить Бога, чтобы бремя королевского венца было для нее легким. Пусть только Варвик остерегается. Сегодня я слышала такие речи от дочери Екатерины Арагонской, которые заставили меня догадаться, что леди Грэй будет трудно утвердиться на престоле.
Замешательство присутствующих сменилось удивлением.
— Слышите? — подхватил Бэклей. — А ведь принцесса Мария опирается не на что иное, как на брожение в городе. Скажите рыцарям, чтобы они удалили своих латников, лондонские горожане не могут вынести подобную угрозу. Я посоветовал бы собравшимся здесь дворянам остаться только в качестве свиты лорда Варвика, но непременно отослать своих воинов в Варвикшир, чтобы сосредоточить там военную силу, которая, в случае надобности, возьмет приступом Лондон, если город не захочет подчиниться.
— Этот план кажется мне разумным! — сказала принцесса Елизавета. — Если в зале сидит кто-нибудь из Варвиков, то позовите его сюда.
Бэклей поклонился и вышел, однако передал поручение слуге в прихожей, а сам поспешил оставить дворец, чтобы явиться на заседание горожан.
Принцесса Елизавета, конечно, не предвидела, когда велела позвать Варвика, что перед ней предстанет молодой человек, который в качестве пажа некогда был ее рыцарем. Она тотчас узнала его, хотя со дня знаменательного турнира протекло уже несколько лет и отроческая красота лица Роберта Дэдлея уступила выражению мужественной силы. Принцесса покраснела и на минуту потупилась: до того красив и благороден был этот мужской облик, часто являвшийся ей в девичьих сновидениях.
— Роберт Дэдлей! Я полагала, что вы в Шотландии или даже во Франции, так как мне рассказывали, что королева Стюарт обязана вам своим освобождением, — сказала Елизавета.
Дэдлей тоже менее всего ожидал встретить здесь принцессу, но незаметно поданный графиней Килдар знак успокоил его. И все же он не мог подозревать, что сестра принцессы Марии примкнула к партии его отца. Поэтому, преклонив колено и поцеловав протянутую ею руку, Дэдлей ответил, что считает за счастье увидеть еще раз перед своим отъездом из Англии принцессу, которая, как он надеется, позволит ему рискнуть своей жизнью против ее врагов, когда королевский венец украсит ее голову.
— Браво! — крикнула принцесса Елизавета. — Однако вы очень развились: вы лжете и лицемерите, точно провели целые годы подряд при французском дворе. Но я ищу помощи и не могу сердиться на вас. Пожелаете ли вы быть сегодня моим рыцарем, как тогда, на турнире, если я вам скажу, что уступаю моей кузине корону?
— Ваше высочество… вы хотите отказаться!…
— У меня нет друзей, поэтому я выбираю среди врагов тех, от которых жду пощады.
— Ваше высочество, скажите, где находите вы сердца, которые за одну вашу улыбку готовы пролить свою кровь?
Принцесса Елизавета нетерпеливо пожала плечами, она чувствовала, что такая изысканная лесть в данный момент похожа скорее на насмешку, чем почтение, и, обернувшись, спросила:
— Где же лорд, которого я здесь застала?
— Граф Гертфорд не возвращался назад! — ответила Бэтси.
— Граф Гертфорд? — насторожился Дэдлей. — Что ему тут надо?
— Он предостерегал против брожения в городе. По его словам, многочисленные свиты лордов тревожат горожан, — ответила графиня Килдар.
— Верно, хотя вы и слышали это от Бэклея.
— Вы не доверяете ему? — заволновалась графиня.
— Он — мошенник, которому не следует больше носить цвета Варвиков.
— Однако не предатель? — осведомилась принцесса Елизавета.
— Что может он выдать? — воскликнул Дэдлей.
— Тогда сообщите лордам приказ отпустить своих латников, — сказала принцесса Елизавета, — а я вернусь к себе в имение, успокоенная тем, что Варвики защищают меня.
Дэдлей проводил принцессу до экипажа, после чего вернулся в зал и объявил собравшимся, что принцесса Елизавета с ними. Клики торжества потрясли своды, и бокалы зазвенели за здоровье леди Джэн Грэй и храброго Варвика.
Вдруг в зал вбежал гонец и передал пергамент Дэдлею. Тот, прочтя письмо, воскликнул:
— Вот мне и не надо никуда ехать! Мой дед шлет нам приказ отослать наших латников в Варвикшир, так как их пребывание в Лондоне волнует горожан и может настроить их против нас… Однако странно: на пергаменте нет печати!
— Герцог, должно быть, писал второпях, — возразил гонец. — У него были представители Сити, лорд-мэр и шериф.
Объяснение показалось настолько правдоподобным, а приказ так согласовался с тем, что Дэдлей признавал правильным, что приказ был выполнен.


 Дни, последовавшие за восшествием на престол Марии, были шумными. Королева заставила принцессу Елизавету ехать верхом в своей свите при торжественном объезде лондонского Сити, а на коронации носить за ней корону. То было первое унижение, нанесенное гордому сердцу соперницы, и если Мария надеялась побудить этим принцессу Елизавету к необдуманным поступкам, то ее план был задуман удачно. Королева остерегалась в первые дни своего царствования обнаруживать жажду мести, которой кипела ее душа. Пленники томились в Тауэре, а Елизавета получила разрешение возвратиться в Эшридж.
Граф Гертфорд, которого комендант задержал в Тауэре, написал Гардинеру; сначала он думал, что его заключили в Тауэре по ошибке, но когда архиепископ оставил его письмо без ответа, а просьбы, заклинания и даже угрозы оказались тщетными, то он обратился к самой королеве и напомнил ее обещание.
На его просьбу об аудиенции она приказала сообщить ему, что будет лично заседать в суде при разбирательстве его дела и что он может надеяться на благоприятный исход.
Бэклей терялся в догадках, что могло побудить Марию дать приказ о его аресте, и это мучительное сомнение и беспокойство о своей участи были ужаснее самых горьких опасений. С ним обращались изысканно-вежливо, у него в заточении не было недостатка ни в каких удобствах, только свободу, по-видимому, не хотели давать ему.
Наконец королеве представился повод для мести. Варвики восстали, и, как того ожидала Мария, у заговорщиков завязались сношения с принцессой Елизаветой, причем шпионами были перехвачены письма, на основании которых можно было обвинить в государственной измене и Варвиков и принцессу.
Конная стража привезла Елизавету из Эшриджа и доставила в Тауэр. Придя в комнату, которая предназначалась послужить ей тюрьмой, принцесса написала королеве краткое письмо, в нем она клятвенно подтверждала свою невиновность и заявляла, что никогда не думала завидовать короне старшей сестры. Далее она требовала строгого и справедливого разбора возводимого на нее обвинения.
Не успела принцесса дописать эти строки, как затрубили трубы, затрещали мортиры, и Мария въехала в главные ворота Тауэра в сопровождении придворных дам и государственных сановников. Со стороны Темзы были расположены комнаты, иногда служившие жилищем английских королей. Мария опустилась на кресло в виде трона и знаком подозвала к себе коменданта Тауэра.
— Елизавета Тюдор помещена у вас под крепким караулом?
Комендант поклонился с утвердительным ответом.
— Ее высочество, — сказал он, — прибыла час тому назад и попросила письменных принадлежностей, чтобы обратиться к милосердию вашего величества с просьбой о помиловании.
— Я рассмотрю просьбу принцессы в государственном совете. Скажите принцессе, что сестра советует ей молиться и каяться. Ступайте, сэр, и пришлите сюда пленников: Вальтера Брая и кузнеца Брауна.
Комендант покинул зал.
— Мы желаем разобрать, — сказала королева придворным, — одно ли пылкое усердие служить нам заставило графа Гертфорда прибегнуть к гнусному обману, или же он интриган по натуре — осмеливался преступно шутить над нашей священной особой.
По ее знаку поднялся с места Гардинер и произнес:
— Лондонский лорд-мэр предъявил мне бумагу за подписью королевы Марии. В ней ее величество изъявляет с вою высочайшую волю принять реформатское учение. Этот документ не может быть не чем иным, как грубым подлогом, которым воспользовался мошенник, чтобы обмануть лондонских граждан, а так как упомянутая бумага была вручена лорд-мэру графом Гертфордом, то надо думать, что граф знает плута, совершившего подлог.
Трудно передать растерянность и замешательство придворных, вызванные этим объяснением. Все смотрели на королеву, словно ожидая, что она опровергнет слова Гардинера; казалось невозможным, чтобы тут все дело сводилось к обыкновенному обману, и каждый невольно посматривал на Марию, не покраснеет ли она.
— Мы слышали, — заговорила государыня, — что граф Гертфорд подделал почерк герцога Нортумберленда, чтобы удалить из Лондона латников варвикского рода, и потому можно не сомневаться, что он подделал и нашу руку, чтобы ввести в обман лондонских граждан. Никогда не отречемся мы от веры, которой надеемся спасти свою душу. И хотя допускаем, что обманщик действовал в наших интересах, но все-таки взыщем с него без всякого снисхождения, так как цель его действий совершенно ясна: своим преступлением он хотел лукаво войти в милость королевы.
Лорды переглянулись между собой с явным недоверием к словам королевы.
Но вот в зал ввели Брая с кузнецом. Когда шотландец рассказал, как низко поступил Бэклей с бедной девушкой Кэт, загубленной им, а кузнец заявил, что Бэклей сначала соблазнял пленника разными посулами, а потом хотел украдкой убить его, то негодование против обвиняемого сделалось всеобщим.
— Введите графа Гертфорда! — приказала королева.
Бэклей вошел и, не заметив Вальтера с кузнецом Брауном, отступивших в сторону, увидел пред собой королеву с ее дамами и лордами. Граф поклонился государыне и смело и вопросительно посмотрел ей в лицо, точно его взор хотел напомнить королеве обещание, данное ею в то время, когда она была принцессой.
— Милорд, — начала Мария с улыбкой, способной поддержать его тщетные надежды, — ввиду услуг, оказанных вами нам, мы явились сюда лично, чтобы убедиться в вашей вине или невиновности, прежде чем предоставить судьям произнести над вами свой приговор.
— Какое преступление возводят на меня, ваше величество? Все, что я сделал, произошло на вашей службе.
— Милорд, вы вручили лорд-мэру документ за подписью принцессы Марии. Почерк — наш, но мы не выдавали этой грамоты. Неужели вы зашли так далеко в своем усердии, что вздумали оказать нам услугу с помощью подлога? Сознайтесь чистосердечно!
Бэклей понял, к чему клонится дело: его приносили в жертву. Судьи не могли произнести ему иной приговор, кроме смертного. Но Мария была королевой, она имела власть помиловать его, и если он добровольно примет на себя вину, то окажет ей услугу. Но что если Мария примет жертву, а его не помилует?
— Ваше величество, — ответил Бэклей, — я сознаюсь в своей вине. Граждане Лондона требовали подобного обещания, время не терпело…
Он запнулся, увидев, как Мария обернулась с торжествующей улыбкой к духовнику.
— И тогда вы совершили подлог, обманули нас и лондонских граждан! — досказала королева, но с таким взглядом, который опять успокоил Бэклея.
— Ваше величество, — подхватил он, — если я виновен, то покарайте преступника, вот вам моя голова!
— Милорд, вы хорошо знаете, что нам было бы тяжело приказать казнить кого-нибудь, кто совершил преступление ради нас. Но правосудие должно идти своим чередом, и лишь после того, как вы сознаетесь во всем, я буду в состоянии судить, может ли королева даровать помилование там, где простила принцесса. На подложном документе наш герб из воска, объясните мне, как приложили вы нашу печать к письму?
— Ваше величество, я проник в ваши покои, чтобы умолять вас подписать этот документ, но нашел вас спящей…
Бэклей снова запнулся. Мария с таким яростным гневом взглянула на него, что он невольно попятился. Она подошла к нему, ударила его веером по лицу и, точно стыдясь своей запальчивости, отвернулась.
— Вы слышали, милорды, — сказала она, — этот человек осмелился проникнуть тайком в наши покои! Уже за одну подобную гнусность заслуживает он смертной казни. Пусть палач чинит ему дальнейший допрос, эта бесстыдная дерзость истощает наше терпение.
Бэклей побледнел как смерть. То не было притворство, то была беспощадная ненависть. Но возможно ли это?
— Ваше величество, если вы станете отрицать, что ваша благосклонность ко мне дала мне смелость надеяться, что мои услуги придутся кстати, тогда, конечно, я был тщеславным дураком, — произнес Бэклей.
— Милорды, — возмутилась королева, — граф Гертфорд оказывает мне честь, намекая, что я ему нравилась. Может быть, он даже надеялся почтить меня своими ухаживаниями, которые отвергла шотландская девица из шинка… Вон отсюда!
Бэклей не мог более сомневаться, что он погиб.
— Ах! — воскликнул он. — Я вижу, что был глупцом, так как поверил словам лживой женщины! Вы сами написали тот документ и обещали мне свою любовь, если наш замысел удастся.
Но сыщики Тауэра уже схватили его и стали вязать ему руки.
— Заткните ему рот! — грозно приказала королева, и злоба исказила ее черты. — Так как он берет назад свое признание, то должен показать правду при пытке. Однако еще раньше, чем разобьют его герб, я приказываю, чтобы он дал удовлетворение моей камеристке, Екатерине Блоуэр, за то бедствие, которое навлек на нее. Пусть их сочетают браком, который я тут же удостоверю, равно как и то, что к графине Гертфорд, перейдет по наследству все состояние ее мужа. Кузнеца я повелеваю отпустить на свободу. Слугу графа Сэррея также, но предварительно отсчитать ему пятьдесят ударов розгами, чтобы он остерегался впредь служить мятежникам.
— Ваше величество! — воскликнул бедный Вальтер. — Мне розги?.. Нет, лучше смерть! Ведь я — шотландский дворянин.
— Тогда число ударов должно быть удвоено, — злорадно улыбнулась Мария.
Стражники едва успели схватить Вальтера, который в слепой ярости хотел броситься на королеву. Его повалили на землю, однако, несмотря на увещевания кузнеца, он с зубовным скрежетом грозил местью и сжимал кулаки.
— Доложите мне о нем после экзекуции! — приказала королева. — Во всяком случае заковать его в кандалы, потому что он, кажется, закоренелый бунтовщик.
С этими словами она хотела удалиться из зала. Но одна из ее дам, стоявшая последней в свите, бросилась к ее ногам и стала молить:
— Помилуйте Вальтера Брая, помилуйте!
— Глупая женщина! — возразила королева. — Она умоляет за человека, который отдал ее в жертву бедствию, после того как спас от позорного столба. — И прошла мимо стоявшей на коленях Кэт, направляясь по длинному ряду комнат к угловой башне, из окон которой был виден малый двор Тауэра.
Дни, последовавшие за восшествием на престол Марии, были шумными. Королева заставила принцессу Елизавету ехать верхом в своей свите при торжественном объезде лондонского Сити, а на коронации носить за ней корону. То было первое унижение, нанесенное гордому сердцу соперницы, и если Мария надеялась побудить этим принцессу Елизавету к необдуманным поступкам, то ее план был задуман удачно. Королева остерегалась в первые дни своего царствования обнаруживать жажду мести, которой кипела ее душа. Пленники томились в Тауэре, а Елизавета получила разрешение возвратиться в Эшридж.
Граф Гертфорд, которого комендант задержал в Тауэре, написал Гардинеру; сначала он думал, что его заключили в Тауэре по ошибке, но когда архиепископ оставил его письмо без ответа, а просьбы, заклинания и даже угрозы оказались тщетными, то он обратился к самой королеве и напомнил ее обещание.
На его просьбу об аудиенции она приказала сообщить ему, что будет лично заседать в суде при разбирательстве его дела и что он может надеяться на благоприятный исход.
Бэклей терялся в догадках, что могло побудить Марию дать приказ о его аресте, и это мучительное сомнение и беспокойство о своей участи были ужаснее самых горьких опасений. С ним обращались изысканно-вежливо, у него в заточении не было недостатка ни в каких удобствах, только свободу, по-видимому, не хотели давать ему.
Наконец королеве представился повод для мести. Варвики восстали, и, как того ожидала Мария, у заговорщиков завязались сношения с принцессой Елизаветой, причем шпионами были перехвачены письма, на основании которых можно было обвинить в государственной измене и Варвиков и принцессу.
Конная стража привезла Елизавету из Эшриджа и доставила в Тауэр. Придя в комнату, которая предназначалась послужить ей тюрьмой, принцесса написала королеве краткое письмо, в нем она клятвенно подтверждала свою невиновность и заявляла, что никогда не думала завидовать короне старшей сестры. Далее она требовала строгого и справедливого разбора возводимого на нее обвинения.
Не успела принцесса дописать эти строки, как затрубили трубы, затрещали мортиры, и Мария въехала в главные ворота Тауэра в сопровождении придворных дам и государственных сановников. Со стороны Темзы были расположены комнаты, иногда служившие жилищем английских королей. Мария опустилась на кресло в виде трона и знаком подозвала к себе коменданта Тауэра.
— Елизавета Тюдор помещена у вас под крепким караулом?
Комендант поклонился с утвердительным ответом.
— Ее высочество, — сказал он, — прибыла час тому назад и попросила письменных принадлежностей, чтобы обратиться к милосердию вашего величества с просьбой о помиловании.
— Я рассмотрю просьбу принцессы в государственном совете. Скажите принцессе, что сестра советует ей молиться и каяться. Ступайте, сэр, и пришлите сюда пленников: Вальтера Брая и кузнеца Брауна.
Комендант покинул зал.
— Мы желаем разобрать, — сказала королева придворным, — одно ли пылкое усердие служить нам заставило графа Гертфорда прибегнуть к гнусному обману, или же он интриган по натуре — осмеливался преступно шутить над нашей священной особой.
По ее знаку поднялся с места Гардинер и произнес:
— Лондонский лорд-мэр предъявил мне бумагу за подписью королевы Марии. В ней ее величество изъявляет с вою высочайшую волю принять реформатское учение. Этот документ не может быть не чем иным, как грубым подлогом, которым воспользовался мошенник, чтобы обмануть лондонских граждан, а так как упомянутая бумага была вручена лорд-мэру графом Гертфордом, то надо думать, что граф знает плута, совершившего подлог.
Трудно передать растерянность и замешательство придворных, вызванные этим объяснением. Все смотрели на королеву, словно ожидая, что она опровергнет слова Гардинера; казалось невозможным, чтобы тут все дело сводилось к обыкновенному обману, и каждый невольно посматривал на Марию, не покраснеет ли она.
— Мы слышали, — заговорила государыня, — что граф Гертфорд подделал почерк герцога Нортумберленда, чтобы удалить из Лондона латников варвикского рода, и потому можно не сомневаться, что он подделал и нашу руку, чтобы ввести в обман лондонских граждан. Никогда не отречемся мы от веры, которой надеемся спасти свою душу. И хотя допускаем, что обманщик действовал в наших интересах, но все-таки взыщем с него без всякого снисхождения, так как цель его действий совершенно ясна: своим преступлением он хотел лукаво войти в милость королевы.
Лорды переглянулись между собой с явным недоверием к словам королевы.
Но вот в зал ввели Брая с кузнецом. Когда шотландец рассказал, как низко поступил Бэклей с бедной девушкой Кэт, загубленной им, а кузнец заявил, что Бэклей сначала соблазнял пленника разными посулами, а потом хотел украдкой убить его, то негодование против обвиняемого сделалось всеобщим.
— Введите графа Гертфорда! — приказала королева.
Бэклей вошел и, не заметив Вальтера с кузнецом Брауном, отступивших в сторону, увидел пред собой королеву с ее дамами и лордами. Граф поклонился государыне и смело и вопросительно посмотрел ей в лицо, точно его взор хотел напомнить королеве обещание, данное ею в то время, когда она была принцессой.
— Милорд, — начала Мария с улыбкой, способной поддержать его тщетные надежды, — ввиду услуг, оказанных вами нам, мы явились сюда лично, чтобы убедиться в вашей вине или невиновности, прежде чем предоставить судьям произнести над вами свой приговор.
— Какое преступление возводят на меня, ваше величество? Все, что я сделал, произошло на вашей службе.
— Милорд, вы вручили лорд-мэру документ за подписью принцессы Марии. Почерк — наш, но мы не выдавали этой грамоты. Неужели вы зашли так далеко в своем усердии, что вздумали оказать нам услугу с помощью подлога? Сознайтесь чистосердечно!
Бэклей понял, к чему клонится дело: его приносили в жертву. Судьи не могли произнести ему иной приговор, кроме смертного. Но Мария была королевой, она имела власть помиловать его, и если он добровольно примет на себя вину, то окажет ей услугу. Но что если Мария примет жертву, а его не помилует?
— Ваше величество, — ответил Бэклей, — я сознаюсь в своей вине. Граждане Лондона требовали подобного обещания, время не терпело…
Он запнулся, увидев, как Мария обернулась с торжествующей улыбкой к духовнику.
— И тогда вы совершили подлог, обманули нас и лондонских граждан! — досказала королева, но с таким взглядом, который опять успокоил Бэклея.
— Ваше величество, — подхватил он, — если я виновен, то покарайте преступника, вот вам моя голова!
— Милорд, вы хорошо знаете, что нам было бы тяжело приказать казнить кого-нибудь, кто совершил преступление ради нас. Но правосудие должно идти своим чередом, и лишь после того, как вы сознаетесь во всем, я буду в состоянии судить, может ли королева даровать помилование там, где простила принцесса. На подложном документе наш герб из воска, объясните мне, как приложили вы нашу печать к письму?
— Ваше величество, я проник в ваши покои, чтобы умолять вас подписать этот документ, но нашел вас спящей…
Бэклей снова запнулся. Мария с таким яростным гневом взглянула на него, что он невольно попятился. Она подошла к нему, ударила его веером по лицу и, точно стыдясь своей запальчивости, отвернулась.
— Вы слышали, милорды, — сказала она, — этот человек осмелился проникнуть тайком в наши покои! Уже за одну подобную гнусность заслуживает он смертной казни. Пусть палач чинит ему дальнейший допрос, эта бесстыдная дерзость истощает наше терпение.
Бэклей побледнел как смерть. То не было притворство, то была беспощадная ненависть. Но возможно ли это?
— Ваше величество, если вы станете отрицать, что ваша благосклонность ко мне дала мне смелость надеяться, что мои услуги придутся кстати, тогда, конечно, я был тщеславным дураком, — произнес Бэклей.
— Милорды, — возмутилась королева, — граф Гертфорд оказывает мне честь, намекая, что я ему нравилась. Может быть, он даже надеялся почтить меня своими ухаживаниями, которые отвергла шотландская девица из шинка… Вон отсюда!
Бэклей не мог более сомневаться, что он погиб.
— Ах! — воскликнул он. — Я вижу, что был глупцом, так как поверил словам лживой женщины! Вы сами написали тот документ и обещали мне свою любовь, если наш замысел удастся.
Но сыщики Тауэра уже схватили его и стали вязать ему руки.
— Заткните ему рот! — грозно приказала королева, и злоба исказила ее черты. — Так как он берет назад свое признание, то должен показать правду при пытке. Однако еще раньше, чем разобьют его герб, я приказываю, чтобы он дал удовлетворение моей камеристке, Екатерине Блоуэр, за то бедствие, которое навлек на нее. Пусть их сочетают браком, который я тут же удостоверю, равно как и то, что к графине Гертфорд, перейдет по наследству все состояние ее мужа. Кузнеца я повелеваю отпустить на свободу. Слугу графа Сэррея также, но предварительно отсчитать ему пятьдесят ударов розгами, чтобы он остерегался впредь служить мятежникам.
— Ваше величество! — воскликнул бедный Вальтер. — Мне розги?.. Нет, лучше смерть! Ведь я — шотландский дворянин.
— Тогда число ударов должно быть удвоено, — злорадно улыбнулась Мария.
Стражники едва успели схватить Вальтера, который в слепой ярости хотел броситься на королеву. Его повалили на землю, однако, несмотря на увещевания кузнеца, он с зубовным скрежетом грозил местью и сжимал кулаки.
— Доложите мне о нем после экзекуции! — приказала королева. — Во всяком случае заковать его в кандалы, потому что он, кажется, закоренелый бунтовщик.
С этими словами она хотела удалиться из зала. Но одна из ее дам, стоявшая последней в свите, бросилась к ее ногам и стала молить:
— Помилуйте Вальтера Брая, помилуйте!
— Глупая женщина! — возразила королева. — Она умоляет за человека, который отдал ее в жертву бедствию, после того как спас от позорного столба. — И прошла мимо стоявшей на коленях Кэт, направляясь по длинному ряду комнат к угловой башне, из окон которой был виден малый двор Тауэра.


 Несмотря на то, что Екатерина получила разрешение удалиться в Уайтхолл, она направила своего коня к Тауэру со стороны, окруженной водой. Это уединенное место было предназначено для тех, кто лишался христианского обряда погребения. Старуха-колдунья сказала ей, что на этом месте она получит известие о Брае.
Кэт, как уже известно, была передана Гардинеру старухой Гиль, он привез ее в Лондон и взял к себе в дом в качестве экономки. Благочестивый архиепископ имел полное основание проявить такое человеколюбие: во-первых, Кэт могла служить орудием против фаворита Варвика; а во-вторых, — не требовалось большой жертвы пользоваться заботливым уходом особы, рабски преданной ему из благодарности, которую вдобавок он мог уничтожить единым словом в случае, если бы она оказалась неблагодарной. Для Екатерины настала новая жизнь. Гардинер вырвал ее из горькой нужды и в то время, когда она потеряла уже всякую надежду на счастье, устроил ей существование, много более завидное, чем то, какое было у нее в корчме «Красный Дуглас». Ее красота расцвела снова, ее щеки, еще так недавно изборожденные слезами, покрылись ярким румянцем. Ее сердце преисполнилось любовью и преданностью к человеку, который спас ее из ужасной ямы и дал ей счастье.
Но в душе Кэт сохранились два воспоминания, более властные, чем это чувство благодарности. Первым воспоминанием было заклинание старухи: «Ты принадлежишь мне и, где бы ты ни была, берегись ослушаться меня, когда услышишь мой зов!» Вторым — любовь Брая, который лучше желал бы видеть ее теперь мертвой, чем простил бы ее позор, в котором повинны другие, а не она.
Было ли это воспоминание о Вальтере Брае любовью, сердечной тоской, не умолкающей, даже когда она отвергнута и осмеяна, той любовью, которая все прощает во имя любви, или же то было желание отомстить человеку за то, что он в своей любви не нашел мужества побороть все предрассудки света и открыто заявить: «К чистому грязь не пристанет!» — трудно сказать.
Екатерина была женщиной в полном смысле слова, существо, сотканное из слабостей, красоты, недостатков и достоинств; она была мягкий воск и в искусных руках могла бы превратиться в преданную, добродетельную супругу. Но тот злополучный день выбил ее из колеи. У столба папистов она молилась, плакала и проклинала судьбу. Вальтер усомнился в ней, несмотря на то что она клялась в своей невинности. Она задавала себе вопрос, что было бы, если бы она не отвергла Бэклея, и приходила к выводу, что он одарил бы ее богатством и защитил, может быть, лучше, чем Вальтер. За то, что осталась верна Браю, она подверглась преследованию, а он оттолкнул ее, как развратницу. В ней пробудилось чувство, похожее на ненависть к Вальтеру. «Если бы я сделалась падшей женщиной, — думала она, было бы лучше, а теперь я обречена нести проклятие порока, не испытав сладости греха.»
Кэт продолжала жить в землянке у старухи Гиль. Однажды она попала в замок графа Дугласа, принеся туда, по поручению старухи, целебные травы для больного. Молодой граф удержал ее в своих покоях. Когда через час Кэт покинула замок, ее глаза были красны и вся она была в лихорадочном волнении; она мечтала в объятиях дворянина, и ее мечты снова разлетелись. Год спустя старуха Гиль передала ее Гардинеру.
Когда мысли Кэт переносились в пещеру под развалинами аббатства, в ее душе звучали плач ребенка и проклятия старой Гуг:
«Этим ублюдком я удержу тебя, когда ты будешь богата, знатна и отвернешься от тех, кто тебя кормил и холил».
И в этом проклятии повинен был Вальтер. Зачем он спас ее у столба папистов, если хотел оттолкнуть от себя?
Когда принцесса Мария потребовала себе Кэт, та рассказала ей свою судьбу и тронула ее сердце, которое также испытало презрение и терзалось завистью.
— В твоем лице я отомщу за себя! — прошептала принцесса Мария.
Ей доставляло наслаждение видеть среди своих придворных дам женщину, которая была выставлена к позорному столбу, и возвести ее в звание графини Гертфорд. Она рассердилась, что Екатерина просит за Вальтера, а не ликует, узнав, что и он будет обесчещен рукой палача.
В ту ночь, когда Лондон восстал против Варвиков, старуха Гуг явилась в комнату Кэт и разбудила ее.
— Проснись, Кэт!… Вальтер Брай пойман, ты должна спасти его!…
— А он разве спас меня? Разве я не умерла для него? — рассердилась Кэт.
Старуха испытующе взглянула на нее.
— Будь по-другому, — пробормотала она, — ты была бы тогда счастлива, а счастливые забывают о мести. Ты сделаешься бичом для преследователей и богачей. Твое сердце отравлено и будет отравлять других своим притворством. Ты прекрасна и будешь гореть ненасытным желанием и утопать в роскоши. Твоя улыбка будет отравой, твоя любовь — смертью. Так будь же приманкой дьявола! Накрась лицо, губы и отравляй, смейся над своими жертвами и над глупцами, пока не задохнешься в собственной ненависти!… Но только одного ты не должна губить! Я хочу сдержать слово и спасти Вальтера Брая; когда ты исполнишь это, можешь идти обычным путем, каким идет красота. Я пришлю тебе кольцо, которое даст тебе свободу и расторгнет нашу связь, отнеси кольцо тому, кого укажет тебе мой посланец; ты будешь иметь могущественных покровителей и тебе укажут путь, на котором ты можешь губить так же, как погубили твое счастье. Но скажи мне, разве ты не тоскуешь по своему ребенку?
Екатерина слушала старуху с содроганием. Картина, которую рисовала ей колдунья, была ужасна. Она догадывалась, что своей красотой она должна была отомстить всему роду тех, кто разбил ее сердце. Она должна была возбуждать любовь, не любя сама; она должна была разбивать сердца и глумиться, как глумились над ней. Да, это была месть, ненасытная месть за счастье, загубленное навеки. Но ее дитя… Неужели ей придется отречься от ребенка! Утопать в роскоши, когда он прозябает?
— Мой сын! — зарыдала Кэт. — Отдай мне его — и я забуду про месть, забуду о том, что сделало меня несчастной. Я хочу жить для своего ребенка, пусть терпеть нужду, но любить его!
— Ты будешь любить его, такого безобразного и уродливого? Будешь любить его, когда его вид напоминает тебе о проклятии его рождения, а люди говорят, «Это — леший из заколдованной рощи, это — привидение ада?»
— О Боже, — содрогнулась Кэт. — Мое дитя — леший? Ты лжешь!
— А ты полагала, что в пещерах у колдуний родятся эльфы? Разве не болото было его родиной, буря — его колыбелью и тростник — его постелью?
— Прочь! Я хочу забыть об этом. Это — дурной сон, пусть он исчезнет!
Старуха и не желала ничего другого. Она уже давно скрылась, а Кэт все еще лежала в постели и ей мерещились развалины монастыря и демоны на болоте. Холодный пот крупными каплями выступил на ее лбу, она стонала, дрожа как в лихорадке.
— Прочь воспоминания, прочь сны и тоску! — решила наконец Кэт. — Пусть лучше мертвое дитя, чем быть матерью-колдуньей, которую бичуют и проклинают. Ведь старуха обещала свободу, обещала снять это ужасное заклятие!
И вот теперь Вальтер освобожден при ее содействии, он должен бежать и с его исчезновением еще одно воспоминание отойдет в прошлое. Еще несколько часов — и она будет совершенно свободна; после ужасного прошлого наставало радостное будущее, как после туманной сырой ночи настает ясный, но холодный зимний день. Еще одно последнее известие от колдуньи — и она будет графиней Гертфорд, богатой вдовой казненного плута; настала месть, сладостное чувство свершившегося возмездия!
Несмотря на то, что Екатерина получила разрешение удалиться в Уайтхолл, она направила своего коня к Тауэру со стороны, окруженной водой. Это уединенное место было предназначено для тех, кто лишался христианского обряда погребения. Старуха-колдунья сказала ей, что на этом месте она получит известие о Брае.
Кэт, как уже известно, была передана Гардинеру старухой Гиль, он привез ее в Лондон и взял к себе в дом в качестве экономки. Благочестивый архиепископ имел полное основание проявить такое человеколюбие: во-первых, Кэт могла служить орудием против фаворита Варвика; а во-вторых, — не требовалось большой жертвы пользоваться заботливым уходом особы, рабски преданной ему из благодарности, которую вдобавок он мог уничтожить единым словом в случае, если бы она оказалась неблагодарной. Для Екатерины настала новая жизнь. Гардинер вырвал ее из горькой нужды и в то время, когда она потеряла уже всякую надежду на счастье, устроил ей существование, много более завидное, чем то, какое было у нее в корчме «Красный Дуглас». Ее красота расцвела снова, ее щеки, еще так недавно изборожденные слезами, покрылись ярким румянцем. Ее сердце преисполнилось любовью и преданностью к человеку, который спас ее из ужасной ямы и дал ей счастье.
Но в душе Кэт сохранились два воспоминания, более властные, чем это чувство благодарности. Первым воспоминанием было заклинание старухи: «Ты принадлежишь мне и, где бы ты ни была, берегись ослушаться меня, когда услышишь мой зов!» Вторым — любовь Брая, который лучше желал бы видеть ее теперь мертвой, чем простил бы ее позор, в котором повинны другие, а не она.
Было ли это воспоминание о Вальтере Брае любовью, сердечной тоской, не умолкающей, даже когда она отвергнута и осмеяна, той любовью, которая все прощает во имя любви, или же то было желание отомстить человеку за то, что он в своей любви не нашел мужества побороть все предрассудки света и открыто заявить: «К чистому грязь не пристанет!» — трудно сказать.
Екатерина была женщиной в полном смысле слова, существо, сотканное из слабостей, красоты, недостатков и достоинств; она была мягкий воск и в искусных руках могла бы превратиться в преданную, добродетельную супругу. Но тот злополучный день выбил ее из колеи. У столба папистов она молилась, плакала и проклинала судьбу. Вальтер усомнился в ней, несмотря на то что она клялась в своей невинности. Она задавала себе вопрос, что было бы, если бы она не отвергла Бэклея, и приходила к выводу, что он одарил бы ее богатством и защитил, может быть, лучше, чем Вальтер. За то, что осталась верна Браю, она подверглась преследованию, а он оттолкнул ее, как развратницу. В ней пробудилось чувство, похожее на ненависть к Вальтеру. «Если бы я сделалась падшей женщиной, — думала она, было бы лучше, а теперь я обречена нести проклятие порока, не испытав сладости греха.»
Кэт продолжала жить в землянке у старухи Гиль. Однажды она попала в замок графа Дугласа, принеся туда, по поручению старухи, целебные травы для больного. Молодой граф удержал ее в своих покоях. Когда через час Кэт покинула замок, ее глаза были красны и вся она была в лихорадочном волнении; она мечтала в объятиях дворянина, и ее мечты снова разлетелись. Год спустя старуха Гиль передала ее Гардинеру.
Когда мысли Кэт переносились в пещеру под развалинами аббатства, в ее душе звучали плач ребенка и проклятия старой Гуг:
«Этим ублюдком я удержу тебя, когда ты будешь богата, знатна и отвернешься от тех, кто тебя кормил и холил».
И в этом проклятии повинен был Вальтер. Зачем он спас ее у столба папистов, если хотел оттолкнуть от себя?
Когда принцесса Мария потребовала себе Кэт, та рассказала ей свою судьбу и тронула ее сердце, которое также испытало презрение и терзалось завистью.
— В твоем лице я отомщу за себя! — прошептала принцесса Мария.
Ей доставляло наслаждение видеть среди своих придворных дам женщину, которая была выставлена к позорному столбу, и возвести ее в звание графини Гертфорд. Она рассердилась, что Екатерина просит за Вальтера, а не ликует, узнав, что и он будет обесчещен рукой палача.
В ту ночь, когда Лондон восстал против Варвиков, старуха Гуг явилась в комнату Кэт и разбудила ее.
— Проснись, Кэт!… Вальтер Брай пойман, ты должна спасти его!…
— А он разве спас меня? Разве я не умерла для него? — рассердилась Кэт.
Старуха испытующе взглянула на нее.
— Будь по-другому, — пробормотала она, — ты была бы тогда счастлива, а счастливые забывают о мести. Ты сделаешься бичом для преследователей и богачей. Твое сердце отравлено и будет отравлять других своим притворством. Ты прекрасна и будешь гореть ненасытным желанием и утопать в роскоши. Твоя улыбка будет отравой, твоя любовь — смертью. Так будь же приманкой дьявола! Накрась лицо, губы и отравляй, смейся над своими жертвами и над глупцами, пока не задохнешься в собственной ненависти!… Но только одного ты не должна губить! Я хочу сдержать слово и спасти Вальтера Брая; когда ты исполнишь это, можешь идти обычным путем, каким идет красота. Я пришлю тебе кольцо, которое даст тебе свободу и расторгнет нашу связь, отнеси кольцо тому, кого укажет тебе мой посланец; ты будешь иметь могущественных покровителей и тебе укажут путь, на котором ты можешь губить так же, как погубили твое счастье. Но скажи мне, разве ты не тоскуешь по своему ребенку?
Екатерина слушала старуху с содроганием. Картина, которую рисовала ей колдунья, была ужасна. Она догадывалась, что своей красотой она должна была отомстить всему роду тех, кто разбил ее сердце. Она должна была возбуждать любовь, не любя сама; она должна была разбивать сердца и глумиться, как глумились над ней. Да, это была месть, ненасытная месть за счастье, загубленное навеки. Но ее дитя… Неужели ей придется отречься от ребенка! Утопать в роскоши, когда он прозябает?
— Мой сын! — зарыдала Кэт. — Отдай мне его — и я забуду про месть, забуду о том, что сделало меня несчастной. Я хочу жить для своего ребенка, пусть терпеть нужду, но любить его!
— Ты будешь любить его, такого безобразного и уродливого? Будешь любить его, когда его вид напоминает тебе о проклятии его рождения, а люди говорят, «Это — леший из заколдованной рощи, это — привидение ада?»
— О Боже, — содрогнулась Кэт. — Мое дитя — леший? Ты лжешь!
— А ты полагала, что в пещерах у колдуний родятся эльфы? Разве не болото было его родиной, буря — его колыбелью и тростник — его постелью?
— Прочь! Я хочу забыть об этом. Это — дурной сон, пусть он исчезнет!
Старуха и не желала ничего другого. Она уже давно скрылась, а Кэт все еще лежала в постели и ей мерещились развалины монастыря и демоны на болоте. Холодный пот крупными каплями выступил на ее лбу, она стонала, дрожа как в лихорадке.
— Прочь воспоминания, прочь сны и тоску! — решила наконец Кэт. — Пусть лучше мертвое дитя, чем быть матерью-колдуньей, которую бичуют и проклинают. Ведь старуха обещала свободу, обещала снять это ужасное заклятие!
И вот теперь Вальтер освобожден при ее содействии, он должен бежать и с его исчезновением еще одно воспоминание отойдет в прошлое. Еще несколько часов — и она будет совершенно свободна; после ужасного прошлого наставало радостное будущее, как после туманной сырой ночи настает ясный, но холодный зимний день. Еще одно последнее известие от колдуньи — и она будет графиней Гертфорд, богатой вдовой казненного плута; настала месть, сладостное чувство свершившегося возмездия!


 В школе утонченности и разврата, откуда вышли остроумные безнравственные короли и изящные, легкомысленные принцессы, воспитывалась и Мария Стюарт.
На долю наследника французского престола выпало счастье сорвать роскошную шотландскую розу, переселенную на французскую почву. Мария Стюарт пышно расцвела: она была высокого роста, красива собой, в глазах светились ум и невинность, голос был нежный, мягкий, а руки чрезвычайно изящны. Но более всего привлекательной и неотразимой была ее очаровательная улыбка. Когда ей исполнилось семнадцать лет, при участии депутации шотландского парламента был подписан контракт о ее бракосочетании с дофином Франции, на основании которого принц получил титул и герб короля Шотландии.
По этому контракту за Марией Стюарт был утвержден титул «королевы-наследницы», а ее мать, Мария Лотарингская, была назначена регентшей с обязательством поддерживать законы и неприкосновенность Шотландии. Будущий старший сын Марии Стюарт от брака с дофином должен был получить корону Франции, в случае же если бы родились исключительно дочери, то старшая из них должна была сделаться королевой Шотландии.
Мария Стюарт, улыбаясь, подписала все то, что было договорено за нее и занесено на пергамент. Юная мечтательная невеста видела в этом скучную формальность, но отнюдь не клятвенное обязательство. Ее советники хорошо знали это и в дальнейшем использовали как нельзя лучше; не прошло и двух недель, как от Марии потребовали новое обещание, по которому Шотландия была бы присоединена к Франции.
Мария Стюарт подписала бы двадцать договоров, чтобы только ускорить свою свадьбу. Она была счастлива в любви к дофину и была готова исполнить желания всего света, лишь бы видеть вокруг себя веселые, довольные лица. Наконец 19-го апреля 1558 года настал желанный день, когда ее головка украсилась короной, перевитой миртовым венком.
Торжественное шествие было великолепно. Впереди шествовал блестящий отряд королевских стрелков в шлемах, панцирях, в зеленых, вышитых золотом кафтанах и ярко-красных рейтузах; затем следовало духовенство с кадильницами и хоругвями, под золотым балдахином кардинал Лотарингский в сопровождении четырех епископов нес Святые Дары в золотой капсуле, украшенной драгоценными камнями; Мария Стюарт шла под белым балдахином, который несли двенадцать человек: герцоги и графы. Далее следовали молодые девушки в белых затканных золотом платьях и сыпали лилии и розы под ноги красавицы-невесты. Роскошные каштановые кудри рассыпались по ее дивным плечам, белоснежную шею окружало драгоценное кружево, а платье было из белого атласа с жемчужной отделкой. В руках она несла распятие, усеянное бриллиантами, и четки из изумрудных шариков. За ней следовали придворные дамы. Дофин был в королевском одеянии, сопровождаемый вельможами, чувствуя уже себя властелином Шотландии. Огромное количество гвардии и конницы заключало шествие невесты.
За ним следовали под красным балдахином Екатерина Медичи, в сопровождении шести французских принцесс, далее королевская лейб-гвардия в красных и голубых мундирах, и наконец король, под красным бархатным балдахином, украшенным жемчужными лилиями. Шестнадцать князей несли балдахин, за ними шли дворяне и хор музыкантов в роскошных одеждах.
Громкие радостные крики толпы сопровождали Марию Стюарт до самого входа в собор, где ее ожидал кардинал Бурбонский, чтобы благословить.
К паперти, где шотландские дворяне встречали королеву, стали протискиваться трое молодых людей. Конвой хотел отогнать их, но одна из придворных дам, заметив это, обратила внимание Марии Стюарт. Королева узнала молодых людей и отдала приказание, чтобы их пропустили.
— Это — англичане, — пробормотал Георг Сэйтон, — это трусы из Кале!
— Это — друзья! — возразила Мария Стюарт и ласково кивнула трем иностранцам и поручила сенешалю пригласить чужестранцев к празднествам, чтобы представить их королю.
Три иностранца слышали слова Сэйтона. Выждав, когда королева со своей свитой прошла, один из них схватил Сэйтона за руку и шепнул:
— Если вы — не негодяй, то следуйте за мной!
Молодой лорд повернулся к нему и, смерив презрительным взглядом, ответил:
— Если вы — не дурак, то поймете, что я теперь занят другим делом и подождете, пока кончится церемония.
— Пожалуй, — усмехнулся тот, — раз придворная служба для вас важнее собственной чести.
Георг Сэйтон покраснел и, несмотря на указание епископа глазговского, руководителя депутации, следовать к алтарю, вышел из церкви боковым ходом. Трое иностранцев последовали за ним.
— Ах, все трое? — спросил он насмешливо. — Это похоже на разбой. Впрочем, я готов. Знаете ли вы какое-нибудь надежное место, где можно испробовать действие шотландского клинка на английских спинах?
— Сударь, — вмешался старший их трех, — ваши слова пустое хвастовство, но вы нравитесь мне, у вас есть отвага. Если вы согласны, спустимся под мост; нам никто не помешает, все заняты торжеством. Вы оскорбили всех нас троих, поэтому обязаны дать удовлетворение каждому из нас в отдельности, если только первый сразу не убьет вас.
— Предложение говорит в пользу вашего ума, сударь, — ответил Сэйтон, — только одно мне не нравится. Королева, по-видимому, интересуется вами. Если вы убьете меня, то у нас будет два свидетеля нашего честного поединка — если же я убью вас, то у меня не будет свидетелей. — И поспешил к спуску, чтобы там дождаться своего первого противника.
— До свиданья, Сэррей! — шепнул Вальтер и пожал Роберту руку, его примеру последовал и Дэдлей.
Сэйтон ожидал Сэррея под мостом с обнаженной шпагой, стоя на сухом месте, которое было так невелико, что едва могли поместиться два сражавшихся человека. При этом малейший неосторожный шаг при борьбе был уже проигрышем, так как оступившийся мог увязнуть в болоте.
Роберту Сэррею показалось, что он где-то раньше видел этого шотландца, надменного и вместе с тем веселого, шаловливого.
— Ваше имя, милостивый государь? — спросил он.
— А, вам нужны все формальности? Думаю, достаточно моего слова, что вы деретесь с человеком более благородной крови, чем кровь Тюдоров, даже когда на английском престоле еще не было незаконнорожденных.
Сэйтон намекал тем на детей Генриха VIII, надеясь вывести англичанина из себя, но, к своему удивлению, услышал от противника:
— Вы не угадали причины моего вопроса! Я и сам охотнее видел бы на английском престоле прекрасную Марию Стюарт, нежели тех незаконнорожденных. А спросил о вашем имени лишь потому, что ваше лицо показалось мне знакомым и хотел известить вашу семью о преждевременной гибели из-за слишком легкомысленно высказанных суждений.
Сэррей обнажил шпагу и стал против своего противника.
Георг Сэйтон прекрасно фехтовал, он учился в Париже у фехтовальщиков, которые считались лучшими на материке, поэтому надеялся легко справиться с неуклюжим англичанином. Но встретил в своем противнике достойного соперника, который спокойно и ловко парировал, только защищаясь, но сам не нападая.
Спокойствие противника приводило Сэйтона в бешенство; он чувствовал, что будет побежден, если у противника хватит терпения выждать, когда он утомится. Сэйтон метнулся в сторону и так сильно стал напирать на Сэррея, что тот был выбит из позиции и острие шпаги коснулось груди Роберта, но столкнуть противника в трясину ему не удалось. Увидев кровь, Сэйтон возликовал, но Сэррей, несмотря на полученную рану, все же не наступал. Сэйтон хотел повторить свой фокус и перекинул шпагу в левую руку. Это был момент очень опасный как для него самого, так и для противника. Но Сэррей не использовал этого благоприятного момента для нанесения удара и продолжал стоять в той же позиции. Но был настороже и, когда противник хотел сделать новое нападение, поразил его. Обливаясь кровью, Сэйтон упал на землю и, ослабев, закрыл глаза.
Роберт подскочил к нему, заложил рану своим платком и поспешил за друзьями.
Вальтер и Дэдлей уже стали беспокоиться за участь друга и, увидев его, обрадовались.
— Уходим отсюда, — предложил Дэдлей. — Как бы нам не навлечь подозрения. Люди уже смотрят…
— Мы должны спасти его, он еще жив! — сказал Сэррей.
— Вы хотите кончить жизнь на эшафоте? — спросил Дэдлей. — Дуэли запрещены, к тому же вы ранили гостя короля, члена шотландской делегации. Он сбросил бы вас в болото. Уходим!
— Я должен спасти его, будь что будет! — решил Сэррей и направился к конвою, шпалерами окружившему церковь.
— Вы с ума сошли? — воскликнул Вальтер. — Если вы уж так настаиваете, то попытаемся собственными силами унести его незаметно для других.
Он свистнул — и из толпы к ним подскочил паж, следивший за происшествием. Это был Филли. В роскошной одежде он уже не выглядел прежним замарашкой. Многим казалось смешным, что английские кавалеры избрали себе в пажи такого уродливого, безобразного мальчика. Но Вальтер Брай, по-видимому, не замечал этого, а Дэдлей примирился с этим мальчишкой, так как при осаде Кале убедился в его достоинствах. Филли был верный, преданный слуга. Под градом стрел он приносил им на вал пищу, когда усталые после боя они хотели отдохнуть, то всегда находили удобное ложе. Паж был ловок и надежен, скромен и сдержан.
И сейчас Филли нашел выход, как только ему сказали в чем дело.
— Пусть он лежит там, пока не стемнеет, а я сбегаю за травами, которые остановят кровотечение, — сказал он. — Оставаться на свежем воздухе ему не будет вредно — погода мягкая, а для вас могло бы быть опасно переносить его в другое место. Предоставьте дело мне, и клянусь вам, что к ночи он будет уже в постели в нашей гостинице.
Вальтер кивнул Филли, и урод поспешил в аптеку за травами.
— Этот мальчишка — настоящее сокровище, — сказал Дэдлей, когда они все трое снова очутились в толпе у входа в церковь, где к ним подошел богато одетый кавалер и пригласил их на праздник ко двору. Дэдлей и Сэррей согласились охотно, а Вальтер — лишь после некоторого колебания.
В школе утонченности и разврата, откуда вышли остроумные безнравственные короли и изящные, легкомысленные принцессы, воспитывалась и Мария Стюарт.
На долю наследника французского престола выпало счастье сорвать роскошную шотландскую розу, переселенную на французскую почву. Мария Стюарт пышно расцвела: она была высокого роста, красива собой, в глазах светились ум и невинность, голос был нежный, мягкий, а руки чрезвычайно изящны. Но более всего привлекательной и неотразимой была ее очаровательная улыбка. Когда ей исполнилось семнадцать лет, при участии депутации шотландского парламента был подписан контракт о ее бракосочетании с дофином Франции, на основании которого принц получил титул и герб короля Шотландии.
По этому контракту за Марией Стюарт был утвержден титул «королевы-наследницы», а ее мать, Мария Лотарингская, была назначена регентшей с обязательством поддерживать законы и неприкосновенность Шотландии. Будущий старший сын Марии Стюарт от брака с дофином должен был получить корону Франции, в случае же если бы родились исключительно дочери, то старшая из них должна была сделаться королевой Шотландии.
Мария Стюарт, улыбаясь, подписала все то, что было договорено за нее и занесено на пергамент. Юная мечтательная невеста видела в этом скучную формальность, но отнюдь не клятвенное обязательство. Ее советники хорошо знали это и в дальнейшем использовали как нельзя лучше; не прошло и двух недель, как от Марии потребовали новое обещание, по которому Шотландия была бы присоединена к Франции.
Мария Стюарт подписала бы двадцать договоров, чтобы только ускорить свою свадьбу. Она была счастлива в любви к дофину и была готова исполнить желания всего света, лишь бы видеть вокруг себя веселые, довольные лица. Наконец 19-го апреля 1558 года настал желанный день, когда ее головка украсилась короной, перевитой миртовым венком.
Торжественное шествие было великолепно. Впереди шествовал блестящий отряд королевских стрелков в шлемах, панцирях, в зеленых, вышитых золотом кафтанах и ярко-красных рейтузах; затем следовало духовенство с кадильницами и хоругвями, под золотым балдахином кардинал Лотарингский в сопровождении четырех епископов нес Святые Дары в золотой капсуле, украшенной драгоценными камнями; Мария Стюарт шла под белым балдахином, который несли двенадцать человек: герцоги и графы. Далее следовали молодые девушки в белых затканных золотом платьях и сыпали лилии и розы под ноги красавицы-невесты. Роскошные каштановые кудри рассыпались по ее дивным плечам, белоснежную шею окружало драгоценное кружево, а платье было из белого атласа с жемчужной отделкой. В руках она несла распятие, усеянное бриллиантами, и четки из изумрудных шариков. За ней следовали придворные дамы. Дофин был в королевском одеянии, сопровождаемый вельможами, чувствуя уже себя властелином Шотландии. Огромное количество гвардии и конницы заключало шествие невесты.
За ним следовали под красным балдахином Екатерина Медичи, в сопровождении шести французских принцесс, далее королевская лейб-гвардия в красных и голубых мундирах, и наконец король, под красным бархатным балдахином, украшенным жемчужными лилиями. Шестнадцать князей несли балдахин, за ними шли дворяне и хор музыкантов в роскошных одеждах.
Громкие радостные крики толпы сопровождали Марию Стюарт до самого входа в собор, где ее ожидал кардинал Бурбонский, чтобы благословить.
К паперти, где шотландские дворяне встречали королеву, стали протискиваться трое молодых людей. Конвой хотел отогнать их, но одна из придворных дам, заметив это, обратила внимание Марии Стюарт. Королева узнала молодых людей и отдала приказание, чтобы их пропустили.
— Это — англичане, — пробормотал Георг Сэйтон, — это трусы из Кале!
— Это — друзья! — возразила Мария Стюарт и ласково кивнула трем иностранцам и поручила сенешалю пригласить чужестранцев к празднествам, чтобы представить их королю.
Три иностранца слышали слова Сэйтона. Выждав, когда королева со своей свитой прошла, один из них схватил Сэйтона за руку и шепнул:
— Если вы — не негодяй, то следуйте за мной!
Молодой лорд повернулся к нему и, смерив презрительным взглядом, ответил:
— Если вы — не дурак, то поймете, что я теперь занят другим делом и подождете, пока кончится церемония.
— Пожалуй, — усмехнулся тот, — раз придворная служба для вас важнее собственной чести.
Георг Сэйтон покраснел и, несмотря на указание епископа глазговского, руководителя депутации, следовать к алтарю, вышел из церкви боковым ходом. Трое иностранцев последовали за ним.
— Ах, все трое? — спросил он насмешливо. — Это похоже на разбой. Впрочем, я готов. Знаете ли вы какое-нибудь надежное место, где можно испробовать действие шотландского клинка на английских спинах?
— Сударь, — вмешался старший их трех, — ваши слова пустое хвастовство, но вы нравитесь мне, у вас есть отвага. Если вы согласны, спустимся под мост; нам никто не помешает, все заняты торжеством. Вы оскорбили всех нас троих, поэтому обязаны дать удовлетворение каждому из нас в отдельности, если только первый сразу не убьет вас.
— Предложение говорит в пользу вашего ума, сударь, — ответил Сэйтон, — только одно мне не нравится. Королева, по-видимому, интересуется вами. Если вы убьете меня, то у нас будет два свидетеля нашего честного поединка — если же я убью вас, то у меня не будет свидетелей. — И поспешил к спуску, чтобы там дождаться своего первого противника.
— До свиданья, Сэррей! — шепнул Вальтер и пожал Роберту руку, его примеру последовал и Дэдлей.
Сэйтон ожидал Сэррея под мостом с обнаженной шпагой, стоя на сухом месте, которое было так невелико, что едва могли поместиться два сражавшихся человека. При этом малейший неосторожный шаг при борьбе был уже проигрышем, так как оступившийся мог увязнуть в болоте.
Роберту Сэррею показалось, что он где-то раньше видел этого шотландца, надменного и вместе с тем веселого, шаловливого.
— Ваше имя, милостивый государь? — спросил он.
— А, вам нужны все формальности? Думаю, достаточно моего слова, что вы деретесь с человеком более благородной крови, чем кровь Тюдоров, даже когда на английском престоле еще не было незаконнорожденных.
Сэйтон намекал тем на детей Генриха VIII, надеясь вывести англичанина из себя, но, к своему удивлению, услышал от противника:
— Вы не угадали причины моего вопроса! Я и сам охотнее видел бы на английском престоле прекрасную Марию Стюарт, нежели тех незаконнорожденных. А спросил о вашем имени лишь потому, что ваше лицо показалось мне знакомым и хотел известить вашу семью о преждевременной гибели из-за слишком легкомысленно высказанных суждений.
Сэррей обнажил шпагу и стал против своего противника.
Георг Сэйтон прекрасно фехтовал, он учился в Париже у фехтовальщиков, которые считались лучшими на материке, поэтому надеялся легко справиться с неуклюжим англичанином. Но встретил в своем противнике достойного соперника, который спокойно и ловко парировал, только защищаясь, но сам не нападая.
Спокойствие противника приводило Сэйтона в бешенство; он чувствовал, что будет побежден, если у противника хватит терпения выждать, когда он утомится. Сэйтон метнулся в сторону и так сильно стал напирать на Сэррея, что тот был выбит из позиции и острие шпаги коснулось груди Роберта, но столкнуть противника в трясину ему не удалось. Увидев кровь, Сэйтон возликовал, но Сэррей, несмотря на полученную рану, все же не наступал. Сэйтон хотел повторить свой фокус и перекинул шпагу в левую руку. Это был момент очень опасный как для него самого, так и для противника. Но Сэррей не использовал этого благоприятного момента для нанесения удара и продолжал стоять в той же позиции. Но был настороже и, когда противник хотел сделать новое нападение, поразил его. Обливаясь кровью, Сэйтон упал на землю и, ослабев, закрыл глаза.
Роберт подскочил к нему, заложил рану своим платком и поспешил за друзьями.
Вальтер и Дэдлей уже стали беспокоиться за участь друга и, увидев его, обрадовались.
— Уходим отсюда, — предложил Дэдлей. — Как бы нам не навлечь подозрения. Люди уже смотрят…
— Мы должны спасти его, он еще жив! — сказал Сэррей.
— Вы хотите кончить жизнь на эшафоте? — спросил Дэдлей. — Дуэли запрещены, к тому же вы ранили гостя короля, члена шотландской делегации. Он сбросил бы вас в болото. Уходим!
— Я должен спасти его, будь что будет! — решил Сэррей и направился к конвою, шпалерами окружившему церковь.
— Вы с ума сошли? — воскликнул Вальтер. — Если вы уж так настаиваете, то попытаемся собственными силами унести его незаметно для других.
Он свистнул — и из толпы к ним подскочил паж, следивший за происшествием. Это был Филли. В роскошной одежде он уже не выглядел прежним замарашкой. Многим казалось смешным, что английские кавалеры избрали себе в пажи такого уродливого, безобразного мальчика. Но Вальтер Брай, по-видимому, не замечал этого, а Дэдлей примирился с этим мальчишкой, так как при осаде Кале убедился в его достоинствах. Филли был верный, преданный слуга. Под градом стрел он приносил им на вал пищу, когда усталые после боя они хотели отдохнуть, то всегда находили удобное ложе. Паж был ловок и надежен, скромен и сдержан.
И сейчас Филли нашел выход, как только ему сказали в чем дело.
— Пусть он лежит там, пока не стемнеет, а я сбегаю за травами, которые остановят кровотечение, — сказал он. — Оставаться на свежем воздухе ему не будет вредно — погода мягкая, а для вас могло бы быть опасно переносить его в другое место. Предоставьте дело мне, и клянусь вам, что к ночи он будет уже в постели в нашей гостинице.
Вальтер кивнул Филли, и урод поспешил в аптеку за травами.
— Этот мальчишка — настоящее сокровище, — сказал Дэдлей, когда они все трое снова очутились в толпе у входа в церковь, где к ним подошел богато одетый кавалер и пригласил их на праздник ко двору. Дэдлей и Сэррей согласились охотно, а Вальтер — лишь после некоторого колебания.


 Роберт Сэррей не заметил, что граф Монгомери сейчас же покинул зал, как только он подошел к Марии Сэйтон, его не поразило и то обстоятельство, что граф, по-видимому, позабыл, что встречался с ним и его друзьями в Шотландии. Вообще Роберт был так ослеплен обидой, что не слышал и не видел ничего, что происходило вокруг него. Он не мог дождаться того часа, когда высокопоставленные особы удалятся и можно будет уйти к месту свидания, о котором Сэйтон сказала Монгомери. Он не думал об опасности, которой подвергался при выполнении задуманной мести, он мысленно видел лишь окно и в нем Марию Сэйтон в ночном одеянии, ожидающую развратного графа. Роберт представил себе, как задрожит Мария, когда вместо графа к окну подойдет он с кинжалом, обрызганном кровью убитого Монгомери, и скажет ей: «Попробуй, может быть я окажусь не хуже твоего графа».
Друзья подошли к Сэррею и напомнили ему, что следует осведомиться о здоровье раненного на дуэли, которого Филли должен перенести в их гостиницу. Сэррей сказал друзьям, что хочет еще остаться. Через несколько минут свита короля удалилась, и гости начали расходиться. Брай и Дэдлей не могли убедить Роберта вернуться с ними домой.
— Держу пари, что тебе уже назначено свидание, — завистливо воскликнул Дэдлей, — но даю слово, что не оставлю тебя, пока ты не доберешься благополучно до комнаты своей возлюбленной. Мы должны постоять один за другого.
— Оставь меня одного! — ответил Сэррей. — Мне не нужна ничья помощь.
— Как? Ты остаешься здесь, в Лувре? — удивленно просил Дэдлей. — Неужели одна из принцесс ожидает тебя?
— Я боюсь, что здесь дело идет не о любви, а о чем-то другом, — вмешался Вальтер, пристально всматриваясь в лицо Сэррея. — Роберт, позвольте мне остаться с вами.
— Если вы любите меня, друзья, то не расспрашивайте ни о чем и возвращайтесь спокойно домой. Завтра я сам все расскажу вам, — возразил Сэррей.
— Да поможет вам Бог! — прошептал Вальтер и направился к выходу, увлекая за собой Дэдлея.
Роберт остался один.
Как только его друзья скрылись из виду, он прошел через галерею на лестницу, которая вела в сад. Он уже успел раньше сориентироваться в Лувре, заметил, где стояла статуя Юноны, и теперь, несмотря на темноту, ему не трудно было найти верную дорогу. Роберт спрятался в кусты и устремил взор на окно, о котором говорила Мария Сэйтон. Окно было освещено, но шторы были спущены.
— Она уже ждет его! — простонал Сэррей и выхватил свою шпагу, чтобы броситься на графа Монгомери, как только тот покажется у окна, и бороться с ним не на жизнь и на смерть.
Роберт ждал около четверти часа. В комнатах, где только что веселилась толпа гостей, было теперь темно и тихо. Вот захлопнулись ворота Лувра; по саду прошел патруль и скрылся.
Граф Монгомери, вероятно, тоже спрятался где-нибудь невдалеке и ждал, пока все стихнет.
Вот поднялась штора; свет в комнате погас, и у окна показалась фигура, но это была не Мария Сэйтон, а сам граф Монгомери. Он выглянул вниз, как бы измеряя высоту между окном и землей.
«Слишком поздно! — подумал Сэррей. — Мне остается только отомстить за ее позор, а не предупредить его».
В эту минуту его внимание было отвлечено светом, показавшимся в окнах верхнего этажа, как будто кто-то проходил по комнатам с фонарем в руках. Вот осветилась лестница, и Роберт узнал короля, который спускался по внутренней лестнице вниз.
«Генрих II, очевидно, ищет комнату Марии Сэйтон, и теперь встретится с графом Монгомери, если тот не успеет убежать, но скрыться граф может, только выскочив в окно. И ему не миновать моих рук!» — злорадно подумал Роберт, сжимая шпагу в руках.
Но что это? Окно тихонько закрылось, и граф, по-видимому, подошел к двери, навстречу королю. Холодный пот выступил на лбу Сэррея, он не понимал, почему граф не убегает, но чувствовал, что перед его глазами происходит какая-то странная загадочная драма.
«А что если граф серьезно любит Марию и она позвала его за тем, чтобы он защитил ее от насилия короля?» — предположил Роберт.
Свет показался в угловой комнате нижнего этажа, затем осветились третье и четвертое окна… Вдруг раздался крик.
Сэррей выскользнул из кустарника и приблизился к окну. И вдруг оно открылось.
— Видите ту маленькую калитку, позади боскета? — прошептал голос Марии Сэйтон. — Бегите все прямо, вы не можете ее миновать, а я уже открыла засов. Из калитки поверните сначала направо, а затем налево. Не забудьте этого! Да хранит вас Бог!
— Благодарю вас. Теперь скорее прочь отсюда! — шепотом ответил граф Монгомери, и его голос задрожал.
— Вы поклялись мне, что будете избегать убийства, помните о своей клятве! — тихо напомнила Мария.
— Только в том случае, если над ней не было совершено насилие, а она сама пошла на разврат. Но тогда от всей души проклинаю ее, — так же тихо прошептал Монгомери.
Голоса удалились от окна.
Роберт Сэррей не заметил, что граф Монгомери сейчас же покинул зал, как только он подошел к Марии Сэйтон, его не поразило и то обстоятельство, что граф, по-видимому, позабыл, что встречался с ним и его друзьями в Шотландии. Вообще Роберт был так ослеплен обидой, что не слышал и не видел ничего, что происходило вокруг него. Он не мог дождаться того часа, когда высокопоставленные особы удалятся и можно будет уйти к месту свидания, о котором Сэйтон сказала Монгомери. Он не думал об опасности, которой подвергался при выполнении задуманной мести, он мысленно видел лишь окно и в нем Марию Сэйтон в ночном одеянии, ожидающую развратного графа. Роберт представил себе, как задрожит Мария, когда вместо графа к окну подойдет он с кинжалом, обрызганном кровью убитого Монгомери, и скажет ей: «Попробуй, может быть я окажусь не хуже твоего графа».
Друзья подошли к Сэррею и напомнили ему, что следует осведомиться о здоровье раненного на дуэли, которого Филли должен перенести в их гостиницу. Сэррей сказал друзьям, что хочет еще остаться. Через несколько минут свита короля удалилась, и гости начали расходиться. Брай и Дэдлей не могли убедить Роберта вернуться с ними домой.
— Держу пари, что тебе уже назначено свидание, — завистливо воскликнул Дэдлей, — но даю слово, что не оставлю тебя, пока ты не доберешься благополучно до комнаты своей возлюбленной. Мы должны постоять один за другого.
— Оставь меня одного! — ответил Сэррей. — Мне не нужна ничья помощь.
— Как? Ты остаешься здесь, в Лувре? — удивленно просил Дэдлей. — Неужели одна из принцесс ожидает тебя?
— Я боюсь, что здесь дело идет не о любви, а о чем-то другом, — вмешался Вальтер, пристально всматриваясь в лицо Сэррея. — Роберт, позвольте мне остаться с вами.
— Если вы любите меня, друзья, то не расспрашивайте ни о чем и возвращайтесь спокойно домой. Завтра я сам все расскажу вам, — возразил Сэррей.
— Да поможет вам Бог! — прошептал Вальтер и направился к выходу, увлекая за собой Дэдлея.
Роберт остался один.
Как только его друзья скрылись из виду, он прошел через галерею на лестницу, которая вела в сад. Он уже успел раньше сориентироваться в Лувре, заметил, где стояла статуя Юноны, и теперь, несмотря на темноту, ему не трудно было найти верную дорогу. Роберт спрятался в кусты и устремил взор на окно, о котором говорила Мария Сэйтон. Окно было освещено, но шторы были спущены.
— Она уже ждет его! — простонал Сэррей и выхватил свою шпагу, чтобы броситься на графа Монгомери, как только тот покажется у окна, и бороться с ним не на жизнь и на смерть.
Роберт ждал около четверти часа. В комнатах, где только что веселилась толпа гостей, было теперь темно и тихо. Вот захлопнулись ворота Лувра; по саду прошел патруль и скрылся.
Граф Монгомери, вероятно, тоже спрятался где-нибудь невдалеке и ждал, пока все стихнет.
Вот поднялась штора; свет в комнате погас, и у окна показалась фигура, но это была не Мария Сэйтон, а сам граф Монгомери. Он выглянул вниз, как бы измеряя высоту между окном и землей.
«Слишком поздно! — подумал Сэррей. — Мне остается только отомстить за ее позор, а не предупредить его».
В эту минуту его внимание было отвлечено светом, показавшимся в окнах верхнего этажа, как будто кто-то проходил по комнатам с фонарем в руках. Вот осветилась лестница, и Роберт узнал короля, который спускался по внутренней лестнице вниз.
«Генрих II, очевидно, ищет комнату Марии Сэйтон, и теперь встретится с графом Монгомери, если тот не успеет убежать, но скрыться граф может, только выскочив в окно. И ему не миновать моих рук!» — злорадно подумал Роберт, сжимая шпагу в руках.
Но что это? Окно тихонько закрылось, и граф, по-видимому, подошел к двери, навстречу королю. Холодный пот выступил на лбу Сэррея, он не понимал, почему граф не убегает, но чувствовал, что перед его глазами происходит какая-то странная загадочная драма.
«А что если граф серьезно любит Марию и она позвала его за тем, чтобы он защитил ее от насилия короля?» — предположил Роберт.
Свет показался в угловой комнате нижнего этажа, затем осветились третье и четвертое окна… Вдруг раздался крик.
Сэррей выскользнул из кустарника и приблизился к окну. И вдруг оно открылось.
— Видите ту маленькую калитку, позади боскета? — прошептал голос Марии Сэйтон. — Бегите все прямо, вы не можете ее миновать, а я уже открыла засов. Из калитки поверните сначала направо, а затем налево. Не забудьте этого! Да хранит вас Бог!
— Благодарю вас. Теперь скорее прочь отсюда! — шепотом ответил граф Монгомери, и его голос задрожал.
— Вы поклялись мне, что будете избегать убийства, помните о своей клятве! — тихо напомнила Мария.
— Только в том случае, если над ней не было совершено насилие, а она сама пошла на разврат. Но тогда от всей души проклинаю ее, — так же тихо прошептал Монгомери.
Голоса удалились от окна.


 С маркизом Боскозелем Кастеляром Мария Стюарт познакомилась год назад при необычных обстоятельствах.
Однажды вечером трое всадников промчались от Сен-Жерменского дворца к женскому монастырю того же имени. Двор, находившийся в это время в Сен — Жермене, был на охоте, и трое всадников воспользовались этим случаем, чтобы посетить монастырь.
— Ей-Богу же, великолепно проникать в тайны друзей, — смеясь, проговорил самый юный из троих. — Теперь мне следует быть жестоким по отношению к Боскозелю и наказать его за то, что он питает тайную любовь, для этого я оставлю его на страже вне стен монастыря.
— Тогда вы не узнаете, кого я обожаю, — слегка краснея, ответил Боскозель. — Кроме того, и я не имею чести быть поверенным вашей любви.
— Это — нечто другое. Вы уже целый месяц мечтаете о своей возлюбленной и под всевозможными предлогами избегаете нашего общества. Я же, напротив, даже не знаю, какая прелестница очаровала меня своим пением сирены. Может быть, она отвратительна… Впрочем, нет, это невозможно.
Между тем всадники достигли монастырской стены. Они соскочили с коней и самый юный из них постучал кольцом в железную дверь.
Прежде чем привратница успела спросить прибывших, что им нужно, и объявить им, что мужчинам строжайше воспрещен доступ в монастырь, все трое молодых людей, по предварительному уговору, перескочили порог и побежали в сад, где тотчас же исчезли за кустами, скрывшись таким образом из поля зрения старухи-привратницы, которой не оставалось ничего другого, как пойти к игуменье с докладом о случившемся.
Молодые люди между тем спешили по парку.
— Они вон там, у павильона, я слышу голос моей прелестницы среди щебетанья других, — восторженно проговорил самый юный. — Теперь осторожнее, друзья, мы поразим их своим неожиданным появлением.
Толпа девочек, в возрасте от десяти до шестнадцати лет, резвилась на траве под роскошной зеленью деревьев. Эти пансионерки монастыря были дочерьми знатных дворян.
Молодые люди подкрались ближе.
— Это — она, — показал младший из прибывших на белокурую девушку в локонах, украшенных белыми розами.
— Вот та в белом платье? — затаив дыхание, переспросил Боскозель, и его голос задрожал, а лицо зарделось румянцем.
— Ангел белых роз! Разве она не создана из эфира и звуков? Разве она — не очаровательное олицетворение своего русалочьего пения? А где ваша красавица, Боскозель?
Но, прежде чем Боскозель ответил, девочки заметили присутствие посторонних, и — как вспугнутая стая диких козочек, — бросились в чащу; только одна из них осталась и с любопытством смотрела на молодых людей, словно ей было стыдно бежать. То была певица, и младший из прибывших поспешил к ней. Но, когда он приблизился, сразу оробел и смутился как девушка, и яркий румянец залил его лицо.
— Простите, — пролепетал юноша, — не вы ли так хорошо пели вчера… там, у павильона?..
— Да, я, — ответила девушка. — Но кто вы такой? Как попали сюда? Бегите, мать-настоятельница строга, а мне не хочется, чтобы с вами поступили дурно.
— Пока вы не скажите мне свое имя, я не уйду.
— Мария, — с улыбкой ответила она, — а ваше?
— Франциск. Скажите, вы не сердитесь на меня за то, что я проник сюда? О, ради Бога, останьтесь! — стал умолять юноша, когда девушка отвернулась от него, едва преодолевая какой-то необъяснимый страх.
— Господи Боже, — дрожащим голосом произнесла Мария. — Сюда идет мать-игуменья; вас поймают и засадят в темницу. Бегите, прошу вас!…
— Будете ли вы помнить обо мне, Мария? — спросил юноша. — Дайте надежду!
Смущение, страх и стыд боролись в сердце девочки, но в просьбе юноши было столько мольбы, его голос звучал таким нежным восторгом, что она предпочла бы разгневать мать-настоятельницу, чем опечалить юношу. Ее рука потянулась к груди и тихим стыдливым движением, словно сознавая, как много значения в этом даре, как бы чувствуя, что в этот момент и благодаря этому поступку ребенок превращается в зрелую девушку, она взяла букет, благоухавший на ее груди, и протянула его юноше. Ее взгляд между тем был украдкой обращен в ту сторону, откуда показалась мать-настоятельница. Но та вдруг самым странным образом исчезла, и Мария, как бы раскаиваясь в том, что так скоро исполнила просьбу юноши, стыдливо прошептала:
— Нет, нет!
Но юноша уже схватил цветы, упал на колени и не сводил с нее глаз.
— Оставьте мне эти цветы! — стал умолять он. — Пусть они покоятся на моей груди. Пусть люди говорят что им угодно; пусть устрашают вас, но скажите, поверите ли вы моей клятве, что я никогда не полюблю никого кроме вас, и что я готов скорее умереть, чем увидеть слезинку на ваших глазах по моей вине?
— Я верю, что вы не замыслите дурного и не сможете причинить мне страдания, — пролепетала Мария, — верю нам, вы добры и достойны быть счастливым. Но вы не знаете…
Юноша вскочил с колен.
— Без всяких «но», — воскликнул он, привлекая девушку в свои объятия. — Если вы любите меня, то для меня ничто — весь мир!…
В тот самый момент, когда мать-настоятельница готова была предстать перед дерзкими нарушителями монастырского запрета и высказать им все свое неудовольствие по поводу их грубого вторжения, ее остановило неожиданное препятствие. Старший из трех новых всадников, прибывших вслед за первыми в монастырь, тронул за плечо настоятельницу и шепнул ей:
— Не мешайте детям…
Затем он подкрался вдоль опушки к счастливой юной парочке и в ту минуту, когда юноша пылко клялся пренебречь всем миром, окликнул его по имени.
При звуке этого голоса Франциск вздрогнул.
— Король! — побледнев, воскликнула Мария.
— Что же, ты намерен пренебречь и мной? — полусердито, полунасмешливо спросил король, обращаясь к юноше, — Вот почему ты тайком ускакал с охоты! Ты что же? Врываешься в монастырь и кружишь здесь головы красоткам?
— Нет, нет, отец, — запротестовал юноша, — я хотел видеть лишь ту, чей дивный голос заворожил меня, а с той минуты, как увидел ее, я твердо решил, что мое сердце никогда не будет принадлежать другой.
— Гром и молния, мне следовало бы разгневаться, но, слава Богу, все обстоит как нельзя лучше! — улыбаясь, сказал король. — Итак, ты намерен завоевать свое счастье и жениться, не подумав даже о своем долге? Разве ты знаешь, как зовут твою красавицу?
— Мария… и она прекрасна и чиста, как королева небес!
— Потому-то ты и думаешь сделать ее королевой своих небес и вовсе не спрашиваешь о том, чего требуют наши высшие политические соображения? А что ты скажешь на то, что мы уже присмотрели для тебя невесту?..
— Отец, я клянусь…
— Не клянись! — остановил его король. — Сделанного не поправишь. Твоя красавица уже давно помолвлена и только через несколько месяцев впервые увидит своего суженого. Ты женишься на королеве шотландской, и ни на ком более.
Франциск хотел было протестовать, но его ожидало странное зрелище. Король остановил свой взор не на нем, а на Марии. Бледная, трепещущая вначале, она вдруг ярко зарделась и с громким радостным криком бросилась в объятия короля Генриха II.
— Ну что, — улыбнулся король, обращаясь к сыну, — согласен ли ты?
Так счастливой случайности было угодно заставить полюбить другдруга детей, которых без согласия с их стороны уже обручила политика.
А в это же время в нескольких шагах в тени деревьев стоял Боскозель Кастеляр, он нервно сжимал руками свою грудь, словно желая вырвать из нее бушующее сердце. Эту самую девушку с белой розой в локонах волос он высмотрел с монастырской стены и поклялся посвятить ей свою жизнь. Сегодня он последовал за дофином, увлекаемый сладостной надеждой услышать голос прелестной певицы, увидеть ее глаза и иметь возможность шепнуть ей несколько слов любви. Неожиданное открытие, что он и дофин любят одну и ту же, поразило его. Но удар не убил в Боскозеле надежды, напротив, он пробудил в нем мужество. Если та, которую любил дофин, рождена не для трона, то он мог лишь обесчестить ее, и Кастеляр мог оградить ее от бесчестья. Дофину придется отказаться от нее, в противном случае он, Боскозель, увидит в нем не принца, а соперника. Увидев, что дофин коснулся Марии, пылкий Кастеляр схватился за шпагу. Но в этот момент появился король — и все осложнилось.
Неужели Франциск обманул его? Неужели то была его невеста. Бледный Кастеляр потерял надежду. Мария любила дофина!…
«Нет, нет! — запротестовал в нем внутренний голос. — Она лишь думает, что любит Франциска, так как ее уже предназначили для него. Это — не истинная любовь, не сердечное влечение!
Но ведь она — королева! Теперь он, Кастеляр, бедный маркиз, не может предложить ей свою защиту и свою руку. Теперь этикет, подобно аргусу, сторожит ее.
— Как счастлив был бы я с этим ребенком! — мечтал Кастеляр. — Мария слишком добра, слишком беззаботна и весела для трона! Она будет скучать в строгих придворных рамках, этикет убьет в ней ее резвость, похитит невинную улыбку с ее детских уст. Уделом Марии будет носить корону, в то время как ее муж будет пировать со своими метрессами!»
Так размышлял Кастеляр, и ревность создала для его любящего сердца ужасную картину, так как пример, данный королем Генрихом II своему сыну, был возмутителен: Генрих в присутствии своей жены носил на публичном турнире цвета своей фаворитки.
В эту минуту счастливая парочка приблизилась к нему, и дофин с сияющим от радости лицом, воскликнул:
— Боскозель, смотри, вот моя дорогая невеста… Мария, это мой лучший друг, храбрый и верный товарищ… Но где же ваша красавица? Или вас постигла неудача, бедняга? Покажите мне ее! Я буду вашим сватом.
— У меня нет счастья, — ответил Кастеляр. — То был лишь сон, и он миновал.
— Вы играете в молчанку и пренебрегаете моей помощью? Он горд, Мария, он хочет добыть себе невесту сам.
— В таком случае тебе не следует быть любопытным! — заметила Мария и взглянула в серьезное, бледное лицо Кастеляра, желая ободрить его, но встретила пламенный взор и, покраснев, догадалась, кто его возлюбленная.
После того дня Кастеляр редко видел Марию Стюарт, но каждый раз, когда они встречались, их взоры многое говорили друг другу. Мария с участием смотрела на него и в своей сердечной доброте невольно уделяла ему приветливую улыбку; он же, терзаемый сомнениями, мучимый ревностью и пылающий страстью, лелеял ее образ в своем сердце.
На маскараде в Лувре Кастеляр в первый раз осмелился приблизиться к Марии Стюарт и просить ее выслушать его. Он хотел слышать от нее самой, что она счастлива. Только это могло придать ему мужество отречься от нее. Если же она несчастлива, то он хотел слышать это «нет», и тогда… О, что он сделал бы тогда? Одна мысль о том сводила его с ума и заставляла бушевать его кровь.
Однако святая невинность Марии одержала победу над его мрачной страстью. Но это не ускользнуло от зоркой подозрительности Екатерины Медичи, видевшей Кастеляра насквозь. Что же, она желала облагодетельствовать Кастеляра или погубить его? Маркиз достаточно знал придворную жизнь, чтобы ожидать от королевы-матери всего что угодно, только не защиты интересов истинного счастья ее невестки. Никто даже не скрывал, что брак Марии с дофином принесет политические плоды, вовсе не желательные для шотландцев. Кастеляру было известно и то, что Екатерина изо всех сил старалась удержать сына в зависимости от себя и только благодаря тому согласилась на брак с родственницей Гизов, что они были смертельными врагами Монморанси. Монморанси помогали герцогине Валентинуа и пользовались влиянием на короля, но Генрих был почти влюблен в свою красавицу-падчерицу. Это тем более заставило Екатерину стараться поставить Марию Стюарт в зависимость от нее, предоставив ей обожателя и держа ее под угрозой лишения доверия мужа. И потому Кастеляр готов был убить соглядатая его свидания с Марией Стюарт, перед тем как нашел в нем друга-
С маркизом Боскозелем Кастеляром Мария Стюарт познакомилась год назад при необычных обстоятельствах.
Однажды вечером трое всадников промчались от Сен-Жерменского дворца к женскому монастырю того же имени. Двор, находившийся в это время в Сен — Жермене, был на охоте, и трое всадников воспользовались этим случаем, чтобы посетить монастырь.
— Ей-Богу же, великолепно проникать в тайны друзей, — смеясь, проговорил самый юный из троих. — Теперь мне следует быть жестоким по отношению к Боскозелю и наказать его за то, что он питает тайную любовь, для этого я оставлю его на страже вне стен монастыря.
— Тогда вы не узнаете, кого я обожаю, — слегка краснея, ответил Боскозель. — Кроме того, и я не имею чести быть поверенным вашей любви.
— Это — нечто другое. Вы уже целый месяц мечтаете о своей возлюбленной и под всевозможными предлогами избегаете нашего общества. Я же, напротив, даже не знаю, какая прелестница очаровала меня своим пением сирены. Может быть, она отвратительна… Впрочем, нет, это невозможно.
Между тем всадники достигли монастырской стены. Они соскочили с коней и самый юный из них постучал кольцом в железную дверь.
Прежде чем привратница успела спросить прибывших, что им нужно, и объявить им, что мужчинам строжайше воспрещен доступ в монастырь, все трое молодых людей, по предварительному уговору, перескочили порог и побежали в сад, где тотчас же исчезли за кустами, скрывшись таким образом из поля зрения старухи-привратницы, которой не оставалось ничего другого, как пойти к игуменье с докладом о случившемся.
Молодые люди между тем спешили по парку.
— Они вон там, у павильона, я слышу голос моей прелестницы среди щебетанья других, — восторженно проговорил самый юный. — Теперь осторожнее, друзья, мы поразим их своим неожиданным появлением.
Толпа девочек, в возрасте от десяти до шестнадцати лет, резвилась на траве под роскошной зеленью деревьев. Эти пансионерки монастыря были дочерьми знатных дворян.
Молодые люди подкрались ближе.
— Это — она, — показал младший из прибывших на белокурую девушку в локонах, украшенных белыми розами.
— Вот та в белом платье? — затаив дыхание, переспросил Боскозель, и его голос задрожал, а лицо зарделось румянцем.
— Ангел белых роз! Разве она не создана из эфира и звуков? Разве она — не очаровательное олицетворение своего русалочьего пения? А где ваша красавица, Боскозель?
Но, прежде чем Боскозель ответил, девочки заметили присутствие посторонних, и — как вспугнутая стая диких козочек, — бросились в чащу; только одна из них осталась и с любопытством смотрела на молодых людей, словно ей было стыдно бежать. То была певица, и младший из прибывших поспешил к ней. Но, когда он приблизился, сразу оробел и смутился как девушка, и яркий румянец залил его лицо.
— Простите, — пролепетал юноша, — не вы ли так хорошо пели вчера… там, у павильона?..
— Да, я, — ответила девушка. — Но кто вы такой? Как попали сюда? Бегите, мать-настоятельница строга, а мне не хочется, чтобы с вами поступили дурно.
— Пока вы не скажите мне свое имя, я не уйду.
— Мария, — с улыбкой ответила она, — а ваше?
— Франциск. Скажите, вы не сердитесь на меня за то, что я проник сюда? О, ради Бога, останьтесь! — стал умолять юноша, когда девушка отвернулась от него, едва преодолевая какой-то необъяснимый страх.
— Господи Боже, — дрожащим голосом произнесла Мария. — Сюда идет мать-игуменья; вас поймают и засадят в темницу. Бегите, прошу вас!…
— Будете ли вы помнить обо мне, Мария? — спросил юноша. — Дайте надежду!
Смущение, страх и стыд боролись в сердце девочки, но в просьбе юноши было столько мольбы, его голос звучал таким нежным восторгом, что она предпочла бы разгневать мать-настоятельницу, чем опечалить юношу. Ее рука потянулась к груди и тихим стыдливым движением, словно сознавая, как много значения в этом даре, как бы чувствуя, что в этот момент и благодаря этому поступку ребенок превращается в зрелую девушку, она взяла букет, благоухавший на ее груди, и протянула его юноше. Ее взгляд между тем был украдкой обращен в ту сторону, откуда показалась мать-настоятельница. Но та вдруг самым странным образом исчезла, и Мария, как бы раскаиваясь в том, что так скоро исполнила просьбу юноши, стыдливо прошептала:
— Нет, нет!
Но юноша уже схватил цветы, упал на колени и не сводил с нее глаз.
— Оставьте мне эти цветы! — стал умолять он. — Пусть они покоятся на моей груди. Пусть люди говорят что им угодно; пусть устрашают вас, но скажите, поверите ли вы моей клятве, что я никогда не полюблю никого кроме вас, и что я готов скорее умереть, чем увидеть слезинку на ваших глазах по моей вине?
— Я верю, что вы не замыслите дурного и не сможете причинить мне страдания, — пролепетала Мария, — верю нам, вы добры и достойны быть счастливым. Но вы не знаете…
Юноша вскочил с колен.
— Без всяких «но», — воскликнул он, привлекая девушку в свои объятия. — Если вы любите меня, то для меня ничто — весь мир!…
В тот самый момент, когда мать-настоятельница готова была предстать перед дерзкими нарушителями монастырского запрета и высказать им все свое неудовольствие по поводу их грубого вторжения, ее остановило неожиданное препятствие. Старший из трех новых всадников, прибывших вслед за первыми в монастырь, тронул за плечо настоятельницу и шепнул ей:
— Не мешайте детям…
Затем он подкрался вдоль опушки к счастливой юной парочке и в ту минуту, когда юноша пылко клялся пренебречь всем миром, окликнул его по имени.
При звуке этого голоса Франциск вздрогнул.
— Король! — побледнев, воскликнула Мария.
— Что же, ты намерен пренебречь и мной? — полусердито, полунасмешливо спросил король, обращаясь к юноше, — Вот почему ты тайком ускакал с охоты! Ты что же? Врываешься в монастырь и кружишь здесь головы красоткам?
— Нет, нет, отец, — запротестовал юноша, — я хотел видеть лишь ту, чей дивный голос заворожил меня, а с той минуты, как увидел ее, я твердо решил, что мое сердце никогда не будет принадлежать другой.
— Гром и молния, мне следовало бы разгневаться, но, слава Богу, все обстоит как нельзя лучше! — улыбаясь, сказал король. — Итак, ты намерен завоевать свое счастье и жениться, не подумав даже о своем долге? Разве ты знаешь, как зовут твою красавицу?
— Мария… и она прекрасна и чиста, как королева небес!
— Потому-то ты и думаешь сделать ее королевой своих небес и вовсе не спрашиваешь о том, чего требуют наши высшие политические соображения? А что ты скажешь на то, что мы уже присмотрели для тебя невесту?..
— Отец, я клянусь…
— Не клянись! — остановил его король. — Сделанного не поправишь. Твоя красавица уже давно помолвлена и только через несколько месяцев впервые увидит своего суженого. Ты женишься на королеве шотландской, и ни на ком более.
Франциск хотел было протестовать, но его ожидало странное зрелище. Король остановил свой взор не на нем, а на Марии. Бледная, трепещущая вначале, она вдруг ярко зарделась и с громким радостным криком бросилась в объятия короля Генриха II.
— Ну что, — улыбнулся король, обращаясь к сыну, — согласен ли ты?
Так счастливой случайности было угодно заставить полюбить другдруга детей, которых без согласия с их стороны уже обручила политика.
А в это же время в нескольких шагах в тени деревьев стоял Боскозель Кастеляр, он нервно сжимал руками свою грудь, словно желая вырвать из нее бушующее сердце. Эту самую девушку с белой розой в локонах волос он высмотрел с монастырской стены и поклялся посвятить ей свою жизнь. Сегодня он последовал за дофином, увлекаемый сладостной надеждой услышать голос прелестной певицы, увидеть ее глаза и иметь возможность шепнуть ей несколько слов любви. Неожиданное открытие, что он и дофин любят одну и ту же, поразило его. Но удар не убил в Боскозеле надежды, напротив, он пробудил в нем мужество. Если та, которую любил дофин, рождена не для трона, то он мог лишь обесчестить ее, и Кастеляр мог оградить ее от бесчестья. Дофину придется отказаться от нее, в противном случае он, Боскозель, увидит в нем не принца, а соперника. Увидев, что дофин коснулся Марии, пылкий Кастеляр схватился за шпагу. Но в этот момент появился король — и все осложнилось.
Неужели Франциск обманул его? Неужели то была его невеста. Бледный Кастеляр потерял надежду. Мария любила дофина!…
«Нет, нет! — запротестовал в нем внутренний голос. — Она лишь думает, что любит Франциска, так как ее уже предназначили для него. Это — не истинная любовь, не сердечное влечение!
Но ведь она — королева! Теперь он, Кастеляр, бедный маркиз, не может предложить ей свою защиту и свою руку. Теперь этикет, подобно аргусу, сторожит ее.
— Как счастлив был бы я с этим ребенком! — мечтал Кастеляр. — Мария слишком добра, слишком беззаботна и весела для трона! Она будет скучать в строгих придворных рамках, этикет убьет в ней ее резвость, похитит невинную улыбку с ее детских уст. Уделом Марии будет носить корону, в то время как ее муж будет пировать со своими метрессами!»
Так размышлял Кастеляр, и ревность создала для его любящего сердца ужасную картину, так как пример, данный королем Генрихом II своему сыну, был возмутителен: Генрих в присутствии своей жены носил на публичном турнире цвета своей фаворитки.
В эту минуту счастливая парочка приблизилась к нему, и дофин с сияющим от радости лицом, воскликнул:
— Боскозель, смотри, вот моя дорогая невеста… Мария, это мой лучший друг, храбрый и верный товарищ… Но где же ваша красавица? Или вас постигла неудача, бедняга? Покажите мне ее! Я буду вашим сватом.
— У меня нет счастья, — ответил Кастеляр. — То был лишь сон, и он миновал.
— Вы играете в молчанку и пренебрегаете моей помощью? Он горд, Мария, он хочет добыть себе невесту сам.
— В таком случае тебе не следует быть любопытным! — заметила Мария и взглянула в серьезное, бледное лицо Кастеляра, желая ободрить его, но встретила пламенный взор и, покраснев, догадалась, кто его возлюбленная.
После того дня Кастеляр редко видел Марию Стюарт, но каждый раз, когда они встречались, их взоры многое говорили друг другу. Мария с участием смотрела на него и в своей сердечной доброте невольно уделяла ему приветливую улыбку; он же, терзаемый сомнениями, мучимый ревностью и пылающий страстью, лелеял ее образ в своем сердце.
На маскараде в Лувре Кастеляр в первый раз осмелился приблизиться к Марии Стюарт и просить ее выслушать его. Он хотел слышать от нее самой, что она счастлива. Только это могло придать ему мужество отречься от нее. Если же она несчастлива, то он хотел слышать это «нет», и тогда… О, что он сделал бы тогда? Одна мысль о том сводила его с ума и заставляла бушевать его кровь.
Однако святая невинность Марии одержала победу над его мрачной страстью. Но это не ускользнуло от зоркой подозрительности Екатерины Медичи, видевшей Кастеляра насквозь. Что же, она желала облагодетельствовать Кастеляра или погубить его? Маркиз достаточно знал придворную жизнь, чтобы ожидать от королевы-матери всего что угодно, только не защиты интересов истинного счастья ее невестки. Никто даже не скрывал, что брак Марии с дофином принесет политические плоды, вовсе не желательные для шотландцев. Кастеляру было известно и то, что Екатерина изо всех сил старалась удержать сына в зависимости от себя и только благодаря тому согласилась на брак с родственницей Гизов, что они были смертельными врагами Монморанси. Монморанси помогали герцогине Валентинуа и пользовались влиянием на короля, но Генрих был почти влюблен в свою красавицу-падчерицу. Это тем более заставило Екатерину стараться поставить Марию Стюарт в зависимость от нее, предоставив ей обожателя и держа ее под угрозой лишения доверия мужа. И потому Кастеляр готов был убить соглядатая его свидания с Марией Стюарт, перед тем как нашел в нем друга-


 Свадебные торжества не прекратили дипломатических интриг, но только на время прервали их. Миру улыбались солнечные лучи, а между тем уже собирались бури, и те, кто могли прозреть далекое будущее, вместо того чтобы завидовать красавице-супруге дофина, молились за нее.
Генрих II, не довольствуясь тем, что женитьбой своего сына на Марии Стюарт укреплял связь Франции с Шотландией, хотел еще унаследовать престол в этом королевстве в том случае, если Мария умрет бездетной. Таким образом он думал предупредить вступление на престол леди Гамильтон и приковать к Франции страну, которая не хотела сплотиться с Англией. 4 апреля 1558 года за две недели перед тем, как Мария Стюарт приняла условия, поставленные ей депутатами от имени шотландского парламента, она подписала в Фонтенбло два тайных акта, весьма важных и опасных. Первый из них просто-напросто дарил Шотландию Франции; второй же был подписан на случай неисполнения первого и содержал в себе передачу французским королям наследных прав Марии Стюарт на английский и ирландский престолы. Она подписала тайный протест против торжественных обещаний, данных в присутствии шотландских депутатов, и объявила их утратившими силу.
Шотландские депутаты не подозревали о подлоге. Они возвратились в Эдинбург, и парламент дал согласие на получение дофином шотландской короны, приобретаемой им через брак с Марией Стюарт; с того же дня все государственные акты Шотландии должны были подписываться как Марией Стюарт, так равно и дофином. Мать Марии Стюарт, Мария Лотарингская, получила протекторат над Шотландией при условии, что она снова введет там католичество, и это условие Гизов, равно как влияние Франции, заранее настраивало гордое шотландское дворянство против королевы.
В Париже могли добиться всего от Марии Стюарт — для этого достаточно было призвать на помощь религию. Учение католической церкви глубоко запало в нежную душу Марии, бредившей миром чудес и идеалов, внушаемых ей бесчисленными легендами и сказаниями о святых отцах и мучениках. Во Франции постарались снабдить эту девушку всем тем, что могло сделать ее восстановительницей католической церкви в Шотландии.
Мария была разносторонне образована, у нее были такой ребячески наивный образ мыслей, такая кипучая жизнерадостность, такое остроумие, коловшее, но не причинявшее боли, что она быстро освоилась с пестрой придворной жизнью и очаровывала всех и каждого, кто был с ней. Вот эта легкомысленная доброта, с которой Мария рассматривала мир сквозь розовое стекло поэтической мечтательности, и привычка придавать всему романтический вид и были причиной всех несчастий этой красивейшей из женщин, носивших когда-либо корону.
Для того, чтобы царствовать в Шотландии, нужны были холодный и ясный кругозор, знание духа реформации, твердых основ торговли и твердый кулак. Марии же были знакомы лишь монастырь, Платон, оды Ронсара и блестящий рыцарский мир.
Дофин Франциск и Мария находились под постоянным наблюдением Гизов и Екатерины Медичи. Они жили точно в специально созданном для них раю, до которого допускался лишь аромат и блеск придворного мира, но от внешней гнили этого мира они оставались совершенно в стороне. Эта детская идиллия была как раз опаснее всего для их будущего, но в ней заключался строго обдуманный план как Екатерины Медичи, так и Гизов.
Но на этом еще не заканчивались их честолюбивые планы. Смерть короля Карла возвела на испанский престол Филиппа, супруга Марии Английской, и Филипп покинул свою стареющую жену, всю отдавшуюся любовным утехам и пьянству и наконец умершую из-за привязанности к спиртным напиткам. Едва эта весть достигла Франции, как там задумали подстрекнуть Марию Стюарт, согласно своим наследственным правам, провозгласить себя английской королевой и соединить таким образом у себя на голове чертополох Шотландии, английский дрок и французские лилии, опираясь при этом на то, что Елизавета, дочь обезглавленной Анны Болейн, была незаконной дочерью Генриха VIII, а она, Мария Стюарт, как его племянница, являлась законной наследницей английской короны.
Какова же была та монархиня, возбудить неприязнь которой к Марии Стюарт нисколько не задумались при французском дворе? Будучи женщиной с надменным умом, властным характером, чрезвычайной гордостью, огромной энергией, коварством и своенравием, Елизавета долгое время была принуждена отрекаться от своих убеждений из страха перед сестрой, которая изгнала бы ее из Англии, если бы ее не защитил Филипп II Испанский, Находясь под постоянными подозрениями и надзором, Елизавета жила вдали от двора и привыкла к вечной фальши, соединяющейся с надменной и необузданно страстной натурой.
Свадебные торжества не прекратили дипломатических интриг, но только на время прервали их. Миру улыбались солнечные лучи, а между тем уже собирались бури, и те, кто могли прозреть далекое будущее, вместо того чтобы завидовать красавице-супруге дофина, молились за нее.
Генрих II, не довольствуясь тем, что женитьбой своего сына на Марии Стюарт укреплял связь Франции с Шотландией, хотел еще унаследовать престол в этом королевстве в том случае, если Мария умрет бездетной. Таким образом он думал предупредить вступление на престол леди Гамильтон и приковать к Франции страну, которая не хотела сплотиться с Англией. 4 апреля 1558 года за две недели перед тем, как Мария Стюарт приняла условия, поставленные ей депутатами от имени шотландского парламента, она подписала в Фонтенбло два тайных акта, весьма важных и опасных. Первый из них просто-напросто дарил Шотландию Франции; второй же был подписан на случай неисполнения первого и содержал в себе передачу французским королям наследных прав Марии Стюарт на английский и ирландский престолы. Она подписала тайный протест против торжественных обещаний, данных в присутствии шотландских депутатов, и объявила их утратившими силу.
Шотландские депутаты не подозревали о подлоге. Они возвратились в Эдинбург, и парламент дал согласие на получение дофином шотландской короны, приобретаемой им через брак с Марией Стюарт; с того же дня все государственные акты Шотландии должны были подписываться как Марией Стюарт, так равно и дофином. Мать Марии Стюарт, Мария Лотарингская, получила протекторат над Шотландией при условии, что она снова введет там католичество, и это условие Гизов, равно как влияние Франции, заранее настраивало гордое шотландское дворянство против королевы.
В Париже могли добиться всего от Марии Стюарт — для этого достаточно было призвать на помощь религию. Учение католической церкви глубоко запало в нежную душу Марии, бредившей миром чудес и идеалов, внушаемых ей бесчисленными легендами и сказаниями о святых отцах и мучениках. Во Франции постарались снабдить эту девушку всем тем, что могло сделать ее восстановительницей католической церкви в Шотландии.
Мария была разносторонне образована, у нее были такой ребячески наивный образ мыслей, такая кипучая жизнерадостность, такое остроумие, коловшее, но не причинявшее боли, что она быстро освоилась с пестрой придворной жизнью и очаровывала всех и каждого, кто был с ней. Вот эта легкомысленная доброта, с которой Мария рассматривала мир сквозь розовое стекло поэтической мечтательности, и привычка придавать всему романтический вид и были причиной всех несчастий этой красивейшей из женщин, носивших когда-либо корону.
Для того, чтобы царствовать в Шотландии, нужны были холодный и ясный кругозор, знание духа реформации, твердых основ торговли и твердый кулак. Марии же были знакомы лишь монастырь, Платон, оды Ронсара и блестящий рыцарский мир.
Дофин Франциск и Мария находились под постоянным наблюдением Гизов и Екатерины Медичи. Они жили точно в специально созданном для них раю, до которого допускался лишь аромат и блеск придворного мира, но от внешней гнили этого мира они оставались совершенно в стороне. Эта детская идиллия была как раз опаснее всего для их будущего, но в ней заключался строго обдуманный план как Екатерины Медичи, так и Гизов.
Но на этом еще не заканчивались их честолюбивые планы. Смерть короля Карла возвела на испанский престол Филиппа, супруга Марии Английской, и Филипп покинул свою стареющую жену, всю отдавшуюся любовным утехам и пьянству и наконец умершую из-за привязанности к спиртным напиткам. Едва эта весть достигла Франции, как там задумали подстрекнуть Марию Стюарт, согласно своим наследственным правам, провозгласить себя английской королевой и соединить таким образом у себя на голове чертополох Шотландии, английский дрок и французские лилии, опираясь при этом на то, что Елизавета, дочь обезглавленной Анны Болейн, была незаконной дочерью Генриха VIII, а она, Мария Стюарт, как его племянница, являлась законной наследницей английской короны.
Какова же была та монархиня, возбудить неприязнь которой к Марии Стюарт нисколько не задумались при французском дворе? Будучи женщиной с надменным умом, властным характером, чрезвычайной гордостью, огромной энергией, коварством и своенравием, Елизавета долгое время была принуждена отрекаться от своих убеждений из страха перед сестрой, которая изгнала бы ее из Англии, если бы ее не защитил Филипп II Испанский, Находясь под постоянными подозрениями и надзором, Елизавета жила вдали от двора и привыкла к вечной фальши, соединяющейся с надменной и необузданно страстной натурой.


 К многочисленным средствам, которыми пользовалась Екатерина, чтобы приобрести влияние, принадлежал также ее цветник дам, научившихся у нее всем тайнам кокетства и представляющих собой истинный союз, целью которого было увлекать пылких придворных кавалеров и взамен дарованных им чувственных наслаждений получать от них содействие интересам королевы-матери или по крайней мере выманивать вверяемые им тайны. Утонченные оргии этого круга дам действительно привлекали в их союз множество властолюбцев-мужчин.
У Дэдлея еще до его ареста начались нежные отношения с одной из дам этого цветника, но он, конечно, и не подозревал, что красавица герцогиня Фаншон Анжели (так звали ее) обладает такой корыстью в радостях любви. Красивые глаза герцогини совершенно очаровали Дэдлея, но она отлично умела сдерживать в рамках дерзкую смелость своего страстного обожателя, так что сладостная цель ему казалась то совсем близкой, то снова далекой, в зависимости от того, каким хотелось ей видеть его: печальным или веселым. Дэдлей думал, что Фаншон борется с стыдливой добродетелью, а она в это время покоилась в объятиях какого-нибудь из многочисленных своих поклонников и смеялась над красавцем англичанином, занимающимся платоническим обожанием. Чем пламеннее становилась страсть Дэдлея, тем больше прелести находила герцогиня в том, чтобы заставлять его томиться.
Вот Екатерина и потребовала от Фаншон, чтобы Дэдлей разъяснил события той ночи, когда была убита Клара, но прелестной герцогине все никак не удавалось приподнять покров над этой тайной, так как Дэдлей, несмотря на ее просьбы и уловки, тотчас же обрывал разговор, как только он касался этой темы.
Арест Дэдлея также не помог Екатерине. Его еще не успели допросить, как был получен приказ об освобождении. Таким образом, оставалось лишь снова предоставить Фаншон добиться желаемых результатов.
Дэдлей, оставив Бастилию и едва успев пожать руки своим друзьям, немедленно отправился в особняк герцогини. Его не приняли, но он тут же получил записку, в которой герцогиня приглашала его в тот же вечер к десяти часам в один маленький домик Сен-Жерменского предместья, где обещала встретить его. В той же записке были точно описаны и приметы домика. Дэдлей подумал, что, может быть, его заключение и страх за его жизнь тронули сердце Фаншон, и, упиваясь надеждой, уже видел себя в роскошном будуаре наедине с герцогиней.
Сэррей и Брай видели, что он счастлив, но, так как он сам ничего не говорил, то они не утруждали его расспросами. Только Филли, казалось, сильно беспокоилась, и это так бросалось в глаза, что Сэррей заподозрил опасность, которая была известна Филли, но о которой умалчивал его друг Дэдлей.
С того дня, как Сэррей угадал пол Филли, он избегал оставаться наедине с ней, и это было тем легче для него, что Филли стремилась к тому же. Поэтому Сэррей был крайне поражен, когда дверь его комнаты вдруг отворилась и на пороге показалась Филли, робкая и смущенная. Застенчивость придавала особую очаровательность Филли. Сэррей не видел фигуры, не видел цвета лица, он видел лишь глаза, и его охватывали неописуемое страстное чувство и жажда обнять это существо.
— Что тебе, Филли? — спросил Сэррей. — Ты сегодня весь день неспокойна и словно чего-то боишься. Разве нам грозит опасность?
— Да, грозит, но не нам всем, а только сэру Дэдлею, милорд! — ответил паж. — Ради Бога, не давайте ему сегодня выходить одному. Ему назначили свиданье.
— Что же, ты в союзе с дьяволом или шпионишь за нами? — недовольно спросил Сэррей. — Разве ты не знаешь, что Дэдлей никогда не простит тебе, если увидит, что ты стараешься проникнуть в его тайны?
— Пусть он возненавидит меня, милорд, пусть побьет, если ему будет угодно. Я охотно вытерплю, лишь бы предостеречь его. Ведь дама, которую он любит, обманывает его.
— Откуда ты знаешь, что она обманывает его? Да и что опасного в этом?
— Милорд, сэр будет больно уязвлен, когда узнает, что дама, которую он любит, насмехается над ним в объятиях других. Неужели ваш друг так мало значит для вас, что вы не хотите помешать ему выставить себя на посмешище?
— Филли, — возразил Сэррей, — если бы мой слуга рассуждал таким образом, я приказал бы ему молчать. Чего ты боишься? Забота о том, что Дэдлея обманут, не может заставить тебя так трепетать за него. Тебе известно нечто большее?
— Милорд, — прошептала Филли, — эта дама — наперсница королевы Екатерины.
— Что же, разве это портит ее красоту?
— Она замужем. Ее муж может убить сэра Дэдлея…
— Филли, — перебил пажа Сэррей, — и у Дэдлея есть шпага. Будь ты юношей, ты поняла бы, что слишком неловко под предлогом дружбы быть опекуном мужчины.
— Тогда я последую за ним! — сказала Филли.
— Если ревность заставляет тебя делать это, значит у тебя недостало силы воли скрыть в себе ревность…
— Довольно! — вскрикнула Филли и закрыла лицо руками. — О, не говорите о том, о чем я не смею и думать.
— Милая Филли, — улыбнулся Сэррей, — если бы он знал тебя, как знаю я… Сказать ему?..
— Ради Бога… милорд… я лучше брошусь в воду… И вы насмехаетесь над моей жалкой участью…
— Я вовсе не смеюсь, — перебил ее Сэррей и как бы случайно положил руку на шею девушки-пажа.
Он впервые дотронулся таким образом до нее, но Филли не обратила внимания на это. Боль и стыд одолели ее, она не заметила и того, что его рука тихо соскользнула с шеи и слегка надавила нагорб. И Сэррей с радостью почувствовал, что горб фальшивый. Он отдернул руку, словно прикоснулся к раскаленному железу, и едва смог побороть в себе жгучее желание. С трогательной любовью и участием он смотрел на Филли.
Она любила! Как должна была страдать она, когда Дэдлей говорил о красивых женщинах и в то же время не удостаивал ее и взглядом!… А может быть, она была прекраснее, чем те, и во всяком случае достойнее его любви. Теперь была вполне понятна ее самоотверженность: ревность снабдила ее глазами аргуса, когда Екатерина заманивала его, любовь спасла его и их всех, так как без вмешательства Филли они попали бы к Екатерине в подвалы Лувра.
Сэррей не долго колебался. Он решил избавить ее от любви к Дэдлею, даже если бы это разбило ее сердце.
— Филли, — сказал он, — ты любишь Дэдлея. Не отрекайся от этого и не смотри так на меня! Я очень далек от того, чтобы смеяться над тобой и предпочел бы утешить тебя. Но ты не знаешь Дэдлея, его обманчивая внешность ослепила тебя. Я вовсе не хочу унижать его в твоих глазах, но хочу показать его таким, каков он есть. Держу пари, что женщина, перед которой он сегодня преклонялся, завтра, после того, как его тщеславие восторжествует, будет для него уже безразлична. Дэдлей верен в дружбе, но ветренен в любви. Вырви его из сердца. Я сам попрошу Дэдлея взять тебя сегодня с собой.
Филли схватила руку Сэррея и, прежде чем он успел помешать ей, поцеловала ее.
— Я знаю, что вы не желаете мне зла и, откровенно говоря, была бы счастлива последовать вашему совету, — со слезами проговорила она, — но как можно приказать сердцу иначе мыслить и чувствовать, чем оно мыслит и чувствует? Не думайте, что то, что мучает меня — ревность… Чем я могу быть для него?.. Я не могу быть ни железным панцирем, оберегающим его грудь, ни верным псом защищающим его! Но мне приятно видеть его, бодрствовать над ним, доставлять ему радость и создавать уют в жизни… Я… да я сама отвела бы его в будуар герцогини, хотя бы он затем, улыбаясь, сказал мне: «Филли, тебе я благодарен за этот счастливый час». Но сегодня у меня дурное предчувствие, оно не обманывает меня. Предостерегите его, помешайте ему! Заклинаю вас, помогите и, если он рассердится на вас, взвалите вину на меня!…
Сэррей был растроган ее признанием.
— Хорошо, — решил он, — мы тайно последуем за Дэдлеем. Но пусть любовное безумие не заставит тебя сделать более того, что заслуживает Роберт. Ты знаешь адрес?
— Я знаю его, но дама назначила ему свидание не в том доме, где она живет.
— Филли, — послышался со двора голос Дэдлея, — Филли! Куда запропастился этот окаянный мальчишка? Опять каска не блестит.
Филли вздрогнула при этом крике и поспешно выбежала. И Сэррею стало ее искренне жаль.
Как похожа эта девушка на ту, которую он когда-то любил! В последнее время она избегала его, а он — ее. По настоянию Марии, Георга Сэйтона унесли на носилках из гостиницы еще в тот день, когда окончились свадебные торжества дофина, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Быть может, Мария скрыла от него имя его противника или гордый шотландец стыдился поблагодарить англичанина, которого обещал убить.
Насколько благодарнее, великодушнее была бедная Филли! Но кто она? Почему старуха Гуг поручила ребенка именно Вальтеру? А что если Вальтер догадается о ее поле? Или, быть может, Вальтер — отец Филли?
Над этим Сэррей раньше не задумывался, ему было все равно, благородного ли происхождения Филли или простое дитя природы. Сэррею хотелось, чтобы отец Филли был знатного происхождения и она нашла бы надежного покровителя в тот день, когда Вальтер узнает правду и оттолкнет ее. Он, Сэррей, не мог бы усыновить ее. А Дэдлей не замедлил бы сделать ее своей любовницей. Вальтер был единственный человек, который мог бы быть покровителем Филли.
К многочисленным средствам, которыми пользовалась Екатерина, чтобы приобрести влияние, принадлежал также ее цветник дам, научившихся у нее всем тайнам кокетства и представляющих собой истинный союз, целью которого было увлекать пылких придворных кавалеров и взамен дарованных им чувственных наслаждений получать от них содействие интересам королевы-матери или по крайней мере выманивать вверяемые им тайны. Утонченные оргии этого круга дам действительно привлекали в их союз множество властолюбцев-мужчин.
У Дэдлея еще до его ареста начались нежные отношения с одной из дам этого цветника, но он, конечно, и не подозревал, что красавица герцогиня Фаншон Анжели (так звали ее) обладает такой корыстью в радостях любви. Красивые глаза герцогини совершенно очаровали Дэдлея, но она отлично умела сдерживать в рамках дерзкую смелость своего страстного обожателя, так что сладостная цель ему казалась то совсем близкой, то снова далекой, в зависимости от того, каким хотелось ей видеть его: печальным или веселым. Дэдлей думал, что Фаншон борется с стыдливой добродетелью, а она в это время покоилась в объятиях какого-нибудь из многочисленных своих поклонников и смеялась над красавцем англичанином, занимающимся платоническим обожанием. Чем пламеннее становилась страсть Дэдлея, тем больше прелести находила герцогиня в том, чтобы заставлять его томиться.
Вот Екатерина и потребовала от Фаншон, чтобы Дэдлей разъяснил события той ночи, когда была убита Клара, но прелестной герцогине все никак не удавалось приподнять покров над этой тайной, так как Дэдлей, несмотря на ее просьбы и уловки, тотчас же обрывал разговор, как только он касался этой темы.
Арест Дэдлея также не помог Екатерине. Его еще не успели допросить, как был получен приказ об освобождении. Таким образом, оставалось лишь снова предоставить Фаншон добиться желаемых результатов.
Дэдлей, оставив Бастилию и едва успев пожать руки своим друзьям, немедленно отправился в особняк герцогини. Его не приняли, но он тут же получил записку, в которой герцогиня приглашала его в тот же вечер к десяти часам в один маленький домик Сен-Жерменского предместья, где обещала встретить его. В той же записке были точно описаны и приметы домика. Дэдлей подумал, что, может быть, его заключение и страх за его жизнь тронули сердце Фаншон, и, упиваясь надеждой, уже видел себя в роскошном будуаре наедине с герцогиней.
Сэррей и Брай видели, что он счастлив, но, так как он сам ничего не говорил, то они не утруждали его расспросами. Только Филли, казалось, сильно беспокоилась, и это так бросалось в глаза, что Сэррей заподозрил опасность, которая была известна Филли, но о которой умалчивал его друг Дэдлей.
С того дня, как Сэррей угадал пол Филли, он избегал оставаться наедине с ней, и это было тем легче для него, что Филли стремилась к тому же. Поэтому Сэррей был крайне поражен, когда дверь его комнаты вдруг отворилась и на пороге показалась Филли, робкая и смущенная. Застенчивость придавала особую очаровательность Филли. Сэррей не видел фигуры, не видел цвета лица, он видел лишь глаза, и его охватывали неописуемое страстное чувство и жажда обнять это существо.
— Что тебе, Филли? — спросил Сэррей. — Ты сегодня весь день неспокойна и словно чего-то боишься. Разве нам грозит опасность?
— Да, грозит, но не нам всем, а только сэру Дэдлею, милорд! — ответил паж. — Ради Бога, не давайте ему сегодня выходить одному. Ему назначили свиданье.
— Что же, ты в союзе с дьяволом или шпионишь за нами? — недовольно спросил Сэррей. — Разве ты не знаешь, что Дэдлей никогда не простит тебе, если увидит, что ты стараешься проникнуть в его тайны?
— Пусть он возненавидит меня, милорд, пусть побьет, если ему будет угодно. Я охотно вытерплю, лишь бы предостеречь его. Ведь дама, которую он любит, обманывает его.
— Откуда ты знаешь, что она обманывает его? Да и что опасного в этом?
— Милорд, сэр будет больно уязвлен, когда узнает, что дама, которую он любит, насмехается над ним в объятиях других. Неужели ваш друг так мало значит для вас, что вы не хотите помешать ему выставить себя на посмешище?
— Филли, — возразил Сэррей, — если бы мой слуга рассуждал таким образом, я приказал бы ему молчать. Чего ты боишься? Забота о том, что Дэдлея обманут, не может заставить тебя так трепетать за него. Тебе известно нечто большее?
— Милорд, — прошептала Филли, — эта дама — наперсница королевы Екатерины.
— Что же, разве это портит ее красоту?
— Она замужем. Ее муж может убить сэра Дэдлея…
— Филли, — перебил пажа Сэррей, — и у Дэдлея есть шпага. Будь ты юношей, ты поняла бы, что слишком неловко под предлогом дружбы быть опекуном мужчины.
— Тогда я последую за ним! — сказала Филли.
— Если ревность заставляет тебя делать это, значит у тебя недостало силы воли скрыть в себе ревность…
— Довольно! — вскрикнула Филли и закрыла лицо руками. — О, не говорите о том, о чем я не смею и думать.
— Милая Филли, — улыбнулся Сэррей, — если бы он знал тебя, как знаю я… Сказать ему?..
— Ради Бога… милорд… я лучше брошусь в воду… И вы насмехаетесь над моей жалкой участью…
— Я вовсе не смеюсь, — перебил ее Сэррей и как бы случайно положил руку на шею девушки-пажа.
Он впервые дотронулся таким образом до нее, но Филли не обратила внимания на это. Боль и стыд одолели ее, она не заметила и того, что его рука тихо соскользнула с шеи и слегка надавила нагорб. И Сэррей с радостью почувствовал, что горб фальшивый. Он отдернул руку, словно прикоснулся к раскаленному железу, и едва смог побороть в себе жгучее желание. С трогательной любовью и участием он смотрел на Филли.
Она любила! Как должна была страдать она, когда Дэдлей говорил о красивых женщинах и в то же время не удостаивал ее и взглядом!… А может быть, она была прекраснее, чем те, и во всяком случае достойнее его любви. Теперь была вполне понятна ее самоотверженность: ревность снабдила ее глазами аргуса, когда Екатерина заманивала его, любовь спасла его и их всех, так как без вмешательства Филли они попали бы к Екатерине в подвалы Лувра.
Сэррей не долго колебался. Он решил избавить ее от любви к Дэдлею, даже если бы это разбило ее сердце.
— Филли, — сказал он, — ты любишь Дэдлея. Не отрекайся от этого и не смотри так на меня! Я очень далек от того, чтобы смеяться над тобой и предпочел бы утешить тебя. Но ты не знаешь Дэдлея, его обманчивая внешность ослепила тебя. Я вовсе не хочу унижать его в твоих глазах, но хочу показать его таким, каков он есть. Держу пари, что женщина, перед которой он сегодня преклонялся, завтра, после того, как его тщеславие восторжествует, будет для него уже безразлична. Дэдлей верен в дружбе, но ветренен в любви. Вырви его из сердца. Я сам попрошу Дэдлея взять тебя сегодня с собой.
Филли схватила руку Сэррея и, прежде чем он успел помешать ей, поцеловала ее.
— Я знаю, что вы не желаете мне зла и, откровенно говоря, была бы счастлива последовать вашему совету, — со слезами проговорила она, — но как можно приказать сердцу иначе мыслить и чувствовать, чем оно мыслит и чувствует? Не думайте, что то, что мучает меня — ревность… Чем я могу быть для него?.. Я не могу быть ни железным панцирем, оберегающим его грудь, ни верным псом защищающим его! Но мне приятно видеть его, бодрствовать над ним, доставлять ему радость и создавать уют в жизни… Я… да я сама отвела бы его в будуар герцогини, хотя бы он затем, улыбаясь, сказал мне: «Филли, тебе я благодарен за этот счастливый час». Но сегодня у меня дурное предчувствие, оно не обманывает меня. Предостерегите его, помешайте ему! Заклинаю вас, помогите и, если он рассердится на вас, взвалите вину на меня!…
Сэррей был растроган ее признанием.
— Хорошо, — решил он, — мы тайно последуем за Дэдлеем. Но пусть любовное безумие не заставит тебя сделать более того, что заслуживает Роберт. Ты знаешь адрес?
— Я знаю его, но дама назначила ему свидание не в том доме, где она живет.
— Филли, — послышался со двора голос Дэдлея, — Филли! Куда запропастился этот окаянный мальчишка? Опять каска не блестит.
Филли вздрогнула при этом крике и поспешно выбежала. И Сэррею стало ее искренне жаль.
Как похожа эта девушка на ту, которую он когда-то любил! В последнее время она избегала его, а он — ее. По настоянию Марии, Георга Сэйтона унесли на носилках из гостиницы еще в тот день, когда окончились свадебные торжества дофина, и с тех пор о нем ничего не было слышно. Быть может, Мария скрыла от него имя его противника или гордый шотландец стыдился поблагодарить англичанина, которого обещал убить.
Насколько благодарнее, великодушнее была бедная Филли! Но кто она? Почему старуха Гуг поручила ребенка именно Вальтеру? А что если Вальтер догадается о ее поле? Или, быть может, Вальтер — отец Филли?
Над этим Сэррей раньше не задумывался, ему было все равно, благородного ли происхождения Филли или простое дитя природы. Сэррею хотелось, чтобы отец Филли был знатного происхождения и она нашла бы надежного покровителя в тот день, когда Вальтер узнает правду и оттолкнет ее. Он, Сэррей, не мог бы усыновить ее. А Дэдлей не замедлил бы сделать ее своей любовницей. Вальтер был единственный человек, который мог бы быть покровителем Филли.


 Как только Дэдлей вышел из своей квартиры и отправился на свидание с Фаншон, Сэррей последовал за ним, но Вальтер схватил его за руку и спросил:
— С каких пор я утратил ваше доверие, милорд?
— Уверяю вас, — ответил Сэррей — у меня нет никаких тайн.
— А что за тайна есть у вас с нашим пажом? Поведение мальчика очень странно. Он дичится и избегает меня. Вы с ним шушукаетесь. Если я стал лишним, то…
— Вальтер, что за подозрения? Просто Дэдлею назначено свидание, а у Филли — дурные предчувствия, своими опасениями он заразил и меня, вот я и решил последовать за Дэдлеем.
— Вы полагаете, что я настолько слеп, что не догадываюсь, что именно вы скрываете от меня? Хотите, чтобы я назвал вам истинную причину вашего беспокойства?
Сэррей покраснел и смутился.
— Какая же причина? — пробормотал он.
— Это — ревность. Филли любит Дэдлея.
— Вы знаете? — воскликнул Сэррей, пораженный. — Вы знаете, что Филли…
— Неужели вы полагаете, что мое зрение иначе устроено, чем ваше или что я равнодушен к судьбе вверенного мне ребенка?
— Во всяком случае вы ошибаетесь, думая, что я мучаюсь ревностью, — заметил Сэррей.
Вальтер, покачав головой, сказал:
— Сэррей, я думаю, что вы сами ошибаетесь. Любовь, которой не замечают, не считают возможной, обыкновенно пускает наиболее глубокие корни, и мне страшно за эту бедную девушку, если она узнает, что такой человек, как вы, можете любить ее, а Дэдлей, который не стоит вашей подметки, презирает ее. Однако надо спешить за ними. Я забочусь о Филли, а не об этом тщеславном фате. Возьмите меня с собой!
Пока Сэррей и Брай пререкались, Филли побежала вперед и достигла домика раньше Дэдлея. Она уже с утра осмотрела место и решила, что должно было существовать два входа — на параллельные улицы.
Филли помчалась через ближайший переулок и нашла то, что искала. Ворота были заперты, но можно было легко перебраться через стену, потому что место здесь было пустынное. Филли перемахнула через стену и очутилась у изгороди садика. Она пробралась в дом, а затем вверх по лестнице. В коридоре было слишком светло и негде было укрыться, но Филли еще раньше заметила, что над первым этажом был выступ в стене, по которому шли всевозможные орнаменты. Она открыла коридорное окно, вылезла из него и стала пробираться по чрезвычайно узкому выступу от окна к окну, пока наконец не услышала голоса. Спорили достаточно громко.
— Какая польза нам в том, если с помощью гугенотов мы совершим нападение на королевский дворец и свергнем Гиза? — послышался мужской голос. — Ведь вместо Гиза власть захватят Кондэ и старик-король Наваррский. Откуда возьмем мы силы, чтобы избавиться от этих союзников? Король прибегнет тогда к защите гугенотов и наше дело будет проиграно.
— Нужно сделать так, чтобы Кондэ не успел использовать свою победу, — возразила Екатерина Медичи.
— Ваше величество, тогда король окажется в их руках и станет их орудием.
— Но король будет нашим пленником.
— Все же он — король, и ему не трудно будет разгадать, кто истинный виновник замысла.
Пусть догадывается, только бы он был лишен возможности продолжать свои безумства. У меня есть еще сыновья, которые могут заменить его.
— Вы хотите принудить короля к отречению?
— Для меня он — не более как неудачный сын, который тяжело оскорбил меня и своими глупостями привел страну гибели. Он не захотел мстить за смерть своего отца, он игрушка в руках Гиза, пусть же теперь посмотрит, кто спасет его: убийцы его отца или Гиз.
— Говорят, что Монгомери находится в лагере Кондэ?
— Я говорила, что он — бунтовщик, но Франциск освободил его.
Было бы выгоднее, пожалуй, пока пощадить англичанина. Монгомери догадается, откуда идет опасность, и предостережет Кондэ. Я не доверяю этим союзникам. Кто знает, не перехитрят ли они нас.
— Слишком большая осторожность подобна трусости, — нетерпеливым тоном возразила Екатерина, — такая предусмотрительность не приведет ни к какому решению, а нам нужно действовать. Эти три англичанина для нас опаснее, чем целая армия, если нам не удастся выведать тайну, каким образом попали их шпионы в Лувр. Они сопровождают двор, Стюарт покровительствует, как будто они — ее любовники. И кто знает, какие у них тайные связи? Мы не защищены от измены, пока жив человек, которому удалось морочить Генриха Второго, меня и весь двор, человек, который сумел открыть тюрьму Лувра и инсценировать привидение. Я собственными глазами видела, как это привидение выпрыгнуло в Лувре из окна с высоты около сорока футов, исчезло над Сеной, а затем снова появилось в подвальном помещении. Однако Фаншон уже более часа наедине с этим Варвиком и не подала еще никакого знака.
— Ваше величество, вы решили обезвредить его лишь в том случае, если он выдаст тайну. По-видимому, вы изменили свой план?
— Если страсть не заставит его открыть тайну, если Фаншон не выйдет победительницей, то остается одно — пытка. Я не могу быть спокойна, я лишилась сна, я дрожу перед мыслью, что меня подслушивает шпион. Но будем надеяться на успех. Фаншон красива, умеет завлекать, она любит Дэдлея и знает, что он должен умереть, если ее постигнет неудача.
Филли с невероятной ловкостью стала спускаться почти по гладкой стене, руками держась за украшения, а ногами отыскивая нижнюю оконную раму. Спрыгнув на землю, она добежала до садовой калитки, надеясь, что Сэррей последовал за ней. Она осторожно отодвинула задвижку, открыла дверцу и выглянула на улицу.
На противоположной стороне улицы стояли Сэррей и Вальтер. Филли подбежала к ним и зашептала:
— Измена! Наверху — Екатерина, а с ней — десять или пятнадцать человек, которые поджидают Дэдлея, когда он выйдет от своей дамы. Эта дама — шпионка Екатерины. Своим кокетством она должна вырвать у Дэдлея признание того, каким образом он отыскал Клару Монгомери. После того они хотят его убить. Войдите в сад и спрячьтесь, пока я не позову вас.
— Не лучше было бы поднять тревогу и предостеречь Дэдлея? — возразил Сэррей.
— Чтобы его убили раньше, чем подоспеет помощь? — мрачно спросила Филли. — Нет, у меня есть кинжал, и я проложу дорогу к нему. Эта дама должна спасти его, она одна может это сделать.
Филли исчезла, не дожидаясь ответа.
Предположив, что Дэдлей заперся в комнате с Фаншон, она взобралась на дерево, возвышавшееся над изгородью садика, и оттуда подслушивала разговор влюбленных.
В решительный момент она предостерегла Дэдлея. Но от ее внимательного взгляда не ускользнуло и то, что наверху отворилось окно.
Если Екатерина узнала голос, который глумился над ней в сводах Лувра, то все погибло. Момент был критический. Но Филли не потеряла присутствия духа. Она помчалась через сад и купальную комнату, но следующая дверь была заперта.
— Дэдлей, — позвала она, — тебя предают!
Но тщетно стучала она и дергала засов. Роберт не открывал.
Зато наверху послышались торопливые шаги. Это спускались по лестнице телохранители Екатерины. Если они проникнут в будуар — Дэдлей погибнет.
В отчаянии Филли схватила занавеску, подожгла ее свечой, раздвинула жалюзи и закричала:
— Пожар! Пожар!
Пламя вырвалось в окно и стало распространяться с быстротой ветра. Филли выпрыгнула в окно и стала звать на помощь, она слышала, как кавалеры суетились в коридоре.
— Спасите его! — крикнула она Вальтеру и Сэррею, подоспевшим с обнаженными шпагами. — Разбейте окно! Он там, он там!
Вальтер и Сэррей избрали кратчайший путь. Они ворвались в коридор, ще кавалеры старались выломать дверь будуара.
— Это — два его товарища, убейте их! — послышало голос Екатерины с лестницы.
Шпаги зазвенели, и посыпались искры. В первый момент Вальтер и Сэррей уложили двух противников и, воспользовавшись смятением, оттеснили остальных до самой лестницы. Но их стали одолевать, Сэррей был уже весь в крови, а дверь будуара все еще не открывалась.
— Отступаем! — предложил Вальтер. — Дэдлей, наверное, уже мертв; в противном случае он был бы уже здесь.
— Убейте этих подлых трусов! Ведь их всего двое, — шипела Екатерина.
В это время пламя прорвалось сквозь переборку будуара, коридор наполнился удушливым дымом. Из сада слышались крики: «Пожар!», и в дом ворвалась охрана.
— Сложите оружие, приказываю именем короля! — прогремел зычный голос муниципального чиновника.
Все опустили оружие.
— Арестуйте поджигателей! — повелительно крикнула Екатерина, торопясь покинуть дом.
В садике стоял Дэдлей, держа на руках Фаншон, находившуюся в глубоком обмороке. Он спас ее, выскочив из окна будуара. Филли исчезла.
Муниципальный чиновник узнал королеву-мать и низко поклонился ей.
— Эти люди ворвались в мой дом, — сказала Екатерина. — Этот, — указала она на Дэдлея, — пробрался в комнату моей статс-дамы, и, когда я намеревалась арестовать обоих, подоспели его друзья, чтобы спасти его. Они ранили многих из моих придворных и подожгли дом. Остальное выяснят допрос и суд. Заковать их в цепи.
— И эту даму? — спросил чиновник, указывая на неподвижную Фаншон.
— Она принадлежит к нашему придворному штату, и мы будем судить ее собственной властью! — ответила королева, знаком приказав своим кавалерам отнести Фаншон в карету.
— Я понимаю! — горько усмехнулся Дэдлей в лицо Екатерины. — Если я раньше сомневался, то теперь убежден, что эта женщина являлась орудием вашей мести. Эй, вы, — обратился он к чиновнику муниципалитета, — вы ответите за то, что единственного свидетеля отдали во власть ложного обвинителя.
— Молчи, негодяй! — крикнула Екатерина. — Вы, кажется, забыли, что говорите с матерью короля Франции?
— А вы, государыня, позволяете себе оскорблять английского лорда, — парировал Дэдлей.
— Презренного бунтовщика! — крикнула Екатерина.
Она заметила, что чиновник муниципалитета замешкался, так как мир с Англией был заключен и было рискованно обходиться с лордом как с преступником.
— Я подчиняюсь насилию, — презрительно усмехнулся Дэдлей, — но английский посол граф Геншингтон потребует удовлетворения за всякую несправедливость, причиненную мне или моим друзьям.
— Арестуйте их! — требовала Екатерина. — На мою ответственность. У нас еще есть достаточно власти, чтобы усмирить преступников, пусть они даже английские лорды.
Муниципальный чиновник повиновался, но произвел арест по всем правилам вежливости и регламента, показав тем, что делает только то, что ему велит суровый долг.
Пожар потушили.
— Вот видите, к чему ведет правление безвольного короля, — сказала Екатерина своим кавалерам после того, как увели арестованных. — Поспешите, господа, передать Кондэ пароль и скажите ему, что я жду его с конницей в Лувре.
Королева села в карету. Часть кавалеров осталась сопровождать ее, а остальные оседлали своих коней и помчались кратчайшим путем, через поля, по направлению к Лувру.
Как только Дэдлей вышел из своей квартиры и отправился на свидание с Фаншон, Сэррей последовал за ним, но Вальтер схватил его за руку и спросил:
— С каких пор я утратил ваше доверие, милорд?
— Уверяю вас, — ответил Сэррей — у меня нет никаких тайн.
— А что за тайна есть у вас с нашим пажом? Поведение мальчика очень странно. Он дичится и избегает меня. Вы с ним шушукаетесь. Если я стал лишним, то…
— Вальтер, что за подозрения? Просто Дэдлею назначено свидание, а у Филли — дурные предчувствия, своими опасениями он заразил и меня, вот я и решил последовать за Дэдлеем.
— Вы полагаете, что я настолько слеп, что не догадываюсь, что именно вы скрываете от меня? Хотите, чтобы я назвал вам истинную причину вашего беспокойства?
Сэррей покраснел и смутился.
— Какая же причина? — пробормотал он.
— Это — ревность. Филли любит Дэдлея.
— Вы знаете? — воскликнул Сэррей, пораженный. — Вы знаете, что Филли…
— Неужели вы полагаете, что мое зрение иначе устроено, чем ваше или что я равнодушен к судьбе вверенного мне ребенка?
— Во всяком случае вы ошибаетесь, думая, что я мучаюсь ревностью, — заметил Сэррей.
Вальтер, покачав головой, сказал:
— Сэррей, я думаю, что вы сами ошибаетесь. Любовь, которой не замечают, не считают возможной, обыкновенно пускает наиболее глубокие корни, и мне страшно за эту бедную девушку, если она узнает, что такой человек, как вы, можете любить ее, а Дэдлей, который не стоит вашей подметки, презирает ее. Однако надо спешить за ними. Я забочусь о Филли, а не об этом тщеславном фате. Возьмите меня с собой!
Пока Сэррей и Брай пререкались, Филли побежала вперед и достигла домика раньше Дэдлея. Она уже с утра осмотрела место и решила, что должно было существовать два входа — на параллельные улицы.
Филли помчалась через ближайший переулок и нашла то, что искала. Ворота были заперты, но можно было легко перебраться через стену, потому что место здесь было пустынное. Филли перемахнула через стену и очутилась у изгороди садика. Она пробралась в дом, а затем вверх по лестнице. В коридоре было слишком светло и негде было укрыться, но Филли еще раньше заметила, что над первым этажом был выступ в стене, по которому шли всевозможные орнаменты. Она открыла коридорное окно, вылезла из него и стала пробираться по чрезвычайно узкому выступу от окна к окну, пока наконец не услышала голоса. Спорили достаточно громко.
— Какая польза нам в том, если с помощью гугенотов мы совершим нападение на королевский дворец и свергнем Гиза? — послышался мужской голос. — Ведь вместо Гиза власть захватят Кондэ и старик-король Наваррский. Откуда возьмем мы силы, чтобы избавиться от этих союзников? Король прибегнет тогда к защите гугенотов и наше дело будет проиграно.
— Нужно сделать так, чтобы Кондэ не успел использовать свою победу, — возразила Екатерина Медичи.
— Ваше величество, тогда король окажется в их руках и станет их орудием.
— Но король будет нашим пленником.
— Все же он — король, и ему не трудно будет разгадать, кто истинный виновник замысла.
Пусть догадывается, только бы он был лишен возможности продолжать свои безумства. У меня есть еще сыновья, которые могут заменить его.
— Вы хотите принудить короля к отречению?
— Для меня он — не более как неудачный сын, который тяжело оскорбил меня и своими глупостями привел страну гибели. Он не захотел мстить за смерть своего отца, он игрушка в руках Гиза, пусть же теперь посмотрит, кто спасет его: убийцы его отца или Гиз.
— Говорят, что Монгомери находится в лагере Кондэ?
— Я говорила, что он — бунтовщик, но Франциск освободил его.
Было бы выгоднее, пожалуй, пока пощадить англичанина. Монгомери догадается, откуда идет опасность, и предостережет Кондэ. Я не доверяю этим союзникам. Кто знает, не перехитрят ли они нас.
— Слишком большая осторожность подобна трусости, — нетерпеливым тоном возразила Екатерина, — такая предусмотрительность не приведет ни к какому решению, а нам нужно действовать. Эти три англичанина для нас опаснее, чем целая армия, если нам не удастся выведать тайну, каким образом попали их шпионы в Лувр. Они сопровождают двор, Стюарт покровительствует, как будто они — ее любовники. И кто знает, какие у них тайные связи? Мы не защищены от измены, пока жив человек, которому удалось морочить Генриха Второго, меня и весь двор, человек, который сумел открыть тюрьму Лувра и инсценировать привидение. Я собственными глазами видела, как это привидение выпрыгнуло в Лувре из окна с высоты около сорока футов, исчезло над Сеной, а затем снова появилось в подвальном помещении. Однако Фаншон уже более часа наедине с этим Варвиком и не подала еще никакого знака.
— Ваше величество, вы решили обезвредить его лишь в том случае, если он выдаст тайну. По-видимому, вы изменили свой план?
— Если страсть не заставит его открыть тайну, если Фаншон не выйдет победительницей, то остается одно — пытка. Я не могу быть спокойна, я лишилась сна, я дрожу перед мыслью, что меня подслушивает шпион. Но будем надеяться на успех. Фаншон красива, умеет завлекать, она любит Дэдлея и знает, что он должен умереть, если ее постигнет неудача.
Филли с невероятной ловкостью стала спускаться почти по гладкой стене, руками держась за украшения, а ногами отыскивая нижнюю оконную раму. Спрыгнув на землю, она добежала до садовой калитки, надеясь, что Сэррей последовал за ней. Она осторожно отодвинула задвижку, открыла дверцу и выглянула на улицу.
На противоположной стороне улицы стояли Сэррей и Вальтер. Филли подбежала к ним и зашептала:
— Измена! Наверху — Екатерина, а с ней — десять или пятнадцать человек, которые поджидают Дэдлея, когда он выйдет от своей дамы. Эта дама — шпионка Екатерины. Своим кокетством она должна вырвать у Дэдлея признание того, каким образом он отыскал Клару Монгомери. После того они хотят его убить. Войдите в сад и спрячьтесь, пока я не позову вас.
— Не лучше было бы поднять тревогу и предостеречь Дэдлея? — возразил Сэррей.
— Чтобы его убили раньше, чем подоспеет помощь? — мрачно спросила Филли. — Нет, у меня есть кинжал, и я проложу дорогу к нему. Эта дама должна спасти его, она одна может это сделать.
Филли исчезла, не дожидаясь ответа.
Предположив, что Дэдлей заперся в комнате с Фаншон, она взобралась на дерево, возвышавшееся над изгородью садика, и оттуда подслушивала разговор влюбленных.
В решительный момент она предостерегла Дэдлея. Но от ее внимательного взгляда не ускользнуло и то, что наверху отворилось окно.
Если Екатерина узнала голос, который глумился над ней в сводах Лувра, то все погибло. Момент был критический. Но Филли не потеряла присутствия духа. Она помчалась через сад и купальную комнату, но следующая дверь была заперта.
— Дэдлей, — позвала она, — тебя предают!
Но тщетно стучала она и дергала засов. Роберт не открывал.
Зато наверху послышались торопливые шаги. Это спускались по лестнице телохранители Екатерины. Если они проникнут в будуар — Дэдлей погибнет.
В отчаянии Филли схватила занавеску, подожгла ее свечой, раздвинула жалюзи и закричала:
— Пожар! Пожар!
Пламя вырвалось в окно и стало распространяться с быстротой ветра. Филли выпрыгнула в окно и стала звать на помощь, она слышала, как кавалеры суетились в коридоре.
— Спасите его! — крикнула она Вальтеру и Сэррею, подоспевшим с обнаженными шпагами. — Разбейте окно! Он там, он там!
Вальтер и Сэррей избрали кратчайший путь. Они ворвались в коридор, ще кавалеры старались выломать дверь будуара.
— Это — два его товарища, убейте их! — послышало голос Екатерины с лестницы.
Шпаги зазвенели, и посыпались искры. В первый момент Вальтер и Сэррей уложили двух противников и, воспользовавшись смятением, оттеснили остальных до самой лестницы. Но их стали одолевать, Сэррей был уже весь в крови, а дверь будуара все еще не открывалась.
— Отступаем! — предложил Вальтер. — Дэдлей, наверное, уже мертв; в противном случае он был бы уже здесь.
— Убейте этих подлых трусов! Ведь их всего двое, — шипела Екатерина.
В это время пламя прорвалось сквозь переборку будуара, коридор наполнился удушливым дымом. Из сада слышались крики: «Пожар!», и в дом ворвалась охрана.
— Сложите оружие, приказываю именем короля! — прогремел зычный голос муниципального чиновника.
Все опустили оружие.
— Арестуйте поджигателей! — повелительно крикнула Екатерина, торопясь покинуть дом.
В садике стоял Дэдлей, держа на руках Фаншон, находившуюся в глубоком обмороке. Он спас ее, выскочив из окна будуара. Филли исчезла.
Муниципальный чиновник узнал королеву-мать и низко поклонился ей.
— Эти люди ворвались в мой дом, — сказала Екатерина. — Этот, — указала она на Дэдлея, — пробрался в комнату моей статс-дамы, и, когда я намеревалась арестовать обоих, подоспели его друзья, чтобы спасти его. Они ранили многих из моих придворных и подожгли дом. Остальное выяснят допрос и суд. Заковать их в цепи.
— И эту даму? — спросил чиновник, указывая на неподвижную Фаншон.
— Она принадлежит к нашему придворному штату, и мы будем судить ее собственной властью! — ответила королева, знаком приказав своим кавалерам отнести Фаншон в карету.
— Я понимаю! — горько усмехнулся Дэдлей в лицо Екатерины. — Если я раньше сомневался, то теперь убежден, что эта женщина являлась орудием вашей мести. Эй, вы, — обратился он к чиновнику муниципалитета, — вы ответите за то, что единственного свидетеля отдали во власть ложного обвинителя.
— Молчи, негодяй! — крикнула Екатерина. — Вы, кажется, забыли, что говорите с матерью короля Франции?
— А вы, государыня, позволяете себе оскорблять английского лорда, — парировал Дэдлей.
— Презренного бунтовщика! — крикнула Екатерина.
Она заметила, что чиновник муниципалитета замешкался, так как мир с Англией был заключен и было рискованно обходиться с лордом как с преступником.
— Я подчиняюсь насилию, — презрительно усмехнулся Дэдлей, — но английский посол граф Геншингтон потребует удовлетворения за всякую несправедливость, причиненную мне или моим друзьям.
— Арестуйте их! — требовала Екатерина. — На мою ответственность. У нас еще есть достаточно власти, чтобы усмирить преступников, пусть они даже английские лорды.
Муниципальный чиновник повиновался, но произвел арест по всем правилам вежливости и регламента, показав тем, что делает только то, что ему велит суровый долг.
Пожар потушили.
— Вот видите, к чему ведет правление безвольного короля, — сказала Екатерина своим кавалерам после того, как увели арестованных. — Поспешите, господа, передать Кондэ пароль и скажите ему, что я жду его с конницей в Лувре.
Королева села в карету. Часть кавалеров осталась сопровождать ее, а остальные оседлали своих коней и помчались кратчайшим путем, через поля, по направлению к Лувру.


 Бедная Филли не подозревала, какая участь ждет ее. Она была свидетельницей того, как Гиз отдал приказ об освобождении Сэррея, Дэдлея и Брая. Ее душа ликовала. Ничего не подозревая, она взяла записку, которую герцог поручил ей передать королеве-матери. И хотя ей было мучительно исполнить поручение, но противоречить она не посмела.
Екатерина сидела на диване и, когда Филли вошла, посмотрела на нее так ехидно, как, вероятно, смотрит боа на жертву, которую готовится проглотить.
Филли почувствовала невыразимый страх. Ее сердце билось и колени дрожали, когда она подошла ближе, чтобы передать письмо.
Екатерина нетерпеливо вскрыла его, и при первых же строках ее лоб нахмурился. Гиз извещал, что Монгомери скрылся, но последние строки умиротворили ее.
«Взамен возьмите пажа, — написал он, — мальчишка — колдун, вы найдете при нем некоторые яды.»
— Скажи мне, мальчик, — начала Екатерина, пытливо глядя на Филли, — ты веришь в колдовство?
— Ваше величество, говорят, что опасно отрицать то, что установлено святой церковью.
— А, ты осторожен! Я тоже не верю в колдовство и убеждена, что хорошей железной цепью можно приковать самого дьявола, а тем более маленького дьявола, который в женском платье выпрыгнул из окна второго этажа в Лувре.
Филли побледнела и вздрогнула, когда Екатерина позвонила.
Дверь отворилась, и на пороге появились два здоровенных парня, телохранители Екатерины. По данному знаку они связали Филли раньше, чем она успела опомниться от страха.
— Отведите его в застенок Лувра и привяжите к брускам, — крикнула королева. — Я приду после первой степени пытки.
Стражники потащили несчастную вниз по винтовой лестнице.
В застенке с нее сорвали одежду.
— Это — девушка! — поразились они, между тем как Филли от страха и стада проливала горькие слезы, — Горб у нее поддельный!… Об этом нужно доложить королеве.
Парни колебались чинить над девушкой расправу и уставились на нее похотливым взором.
— Это что такое? — возмутилась их промедлением Екатерина, войдя со своим духовником. — Женщина! — удивилась она, и ее лицо приняло демоническое выражение.
— Бичуйте же ее! Если она умела скрывать свой пол, пусть поплатится за это.
Слуги привязали несчастную. В несколько минут все прекрасное тело Филли было исполосовано до крови.
Девушка не издала ни единого звука, и, когда ее перестали истязать, чтобы провести дознание, ее зубы были судорожно сжаты.
— Ты признаешься теперь, кто ввел тебя в Лувр в день смерти Клары Монгомери? — спросила Екатерина с нескрываемым торжеством и злорадством.
— Я сама вошла! — крикнула Филли с ненавистью в лицо королеве. — Вы хотите умертвить меня на пытке, потому что я подслушала, как вы призывали дьявола к себе на помощь! Вы хотите убить меня за то, что я не хотела помочь вам изготовить яд для короля, вашего сына!
— Привинтите ее к тискам! — зашипела Екатерина, бледная от бешенства, так как заметила, что слуги насторожились.
— Подчиняйтесь ей! — крикнула Филли. — А завтра она будет вас пытать за то, что вы слышали мои слова.
— Вырвите ей язык! — бесновалась Екатерина и в пылу ярости схватила щипцы.
Но духовник остановил ее.
— Оставьте, — шепнул он, — ваше негодование может показаться слугам признанием вашей вины, и хотя вы каждому можете дать отпор, но все же лучше уберечься от злой клеветы. Эта девушка упорна и не поддается пытке. Не попробовать ли соблазнить ее обещаниями? Она должна отречься от своих слов, а там вы можете…
Не успел он договорить, как постучали в дверь и посланец передал Екатерине пергамент.
Это было письмо от герцога Гиза.
«Пощадите пажа! — писал он. — Король хочет видеть его не далее как сегодня!»
Королева подала знак палачам, привинтившим тиски, отойти в сторону и показала несчастной Филли послание Гиза.
— Вот кого должна ты ненавидеть, — прошептала Екатерина, — он предал тебя. Откажись от своих слов, и я буду милостивее, чем герцог, которому ты служила с такой преданностью!
Филли прочла письмо, и трепет ужаса пробежал по ее телу. Человек, который был обязан ей победой и даже жизнью, презренно предал ее мстительной Екатерине.
— Первую степень! — велела Екатерина палачам и, когда они протянули тиски, которые должны были смять кости рук несчастной девушки, повторила свой вопрос, с которым раньше обратилась к Филли.
— Меня провел в Лувр герцог Гиз, — простонала Филли. — Он предал меня вам.
По данному знаку тиски нажали, кости хрустнули.
Бедная Филли не подозревала, какая участь ждет ее. Она была свидетельницей того, как Гиз отдал приказ об освобождении Сэррея, Дэдлея и Брая. Ее душа ликовала. Ничего не подозревая, она взяла записку, которую герцог поручил ей передать королеве-матери. И хотя ей было мучительно исполнить поручение, но противоречить она не посмела.
Екатерина сидела на диване и, когда Филли вошла, посмотрела на нее так ехидно, как, вероятно, смотрит боа на жертву, которую готовится проглотить.
Филли почувствовала невыразимый страх. Ее сердце билось и колени дрожали, когда она подошла ближе, чтобы передать письмо.
Екатерина нетерпеливо вскрыла его, и при первых же строках ее лоб нахмурился. Гиз извещал, что Монгомери скрылся, но последние строки умиротворили ее.
«Взамен возьмите пажа, — написал он, — мальчишка — колдун, вы найдете при нем некоторые яды.»
— Скажи мне, мальчик, — начала Екатерина, пытливо глядя на Филли, — ты веришь в колдовство?
— Ваше величество, говорят, что опасно отрицать то, что установлено святой церковью.
— А, ты осторожен! Я тоже не верю в колдовство и убеждена, что хорошей железной цепью можно приковать самого дьявола, а тем более маленького дьявола, который в женском платье выпрыгнул из окна второго этажа в Лувре.
Филли побледнела и вздрогнула, когда Екатерина позвонила.
Дверь отворилась, и на пороге появились два здоровенных парня, телохранители Екатерины. По данному знаку они связали Филли раньше, чем она успела опомниться от страха.
— Отведите его в застенок Лувра и привяжите к брускам, — крикнула королева. — Я приду после первой степени пытки.
Стражники потащили несчастную вниз по винтовой лестнице.
В застенке с нее сорвали одежду.
— Это — девушка! — поразились они, между тем как Филли от страха и стада проливала горькие слезы, — Горб у нее поддельный!… Об этом нужно доложить королеве.
Парни колебались чинить над девушкой расправу и уставились на нее похотливым взором.
— Это что такое? — возмутилась их промедлением Екатерина, войдя со своим духовником. — Женщина! — удивилась она, и ее лицо приняло демоническое выражение.
— Бичуйте же ее! Если она умела скрывать свой пол, пусть поплатится за это.
Слуги привязали несчастную. В несколько минут все прекрасное тело Филли было исполосовано до крови.
Девушка не издала ни единого звука, и, когда ее перестали истязать, чтобы провести дознание, ее зубы были судорожно сжаты.
— Ты признаешься теперь, кто ввел тебя в Лувр в день смерти Клары Монгомери? — спросила Екатерина с нескрываемым торжеством и злорадством.
— Я сама вошла! — крикнула Филли с ненавистью в лицо королеве. — Вы хотите умертвить меня на пытке, потому что я подслушала, как вы призывали дьявола к себе на помощь! Вы хотите убить меня за то, что я не хотела помочь вам изготовить яд для короля, вашего сына!
— Привинтите ее к тискам! — зашипела Екатерина, бледная от бешенства, так как заметила, что слуги насторожились.
— Подчиняйтесь ей! — крикнула Филли. — А завтра она будет вас пытать за то, что вы слышали мои слова.
— Вырвите ей язык! — бесновалась Екатерина и в пылу ярости схватила щипцы.
Но духовник остановил ее.
— Оставьте, — шепнул он, — ваше негодование может показаться слугам признанием вашей вины, и хотя вы каждому можете дать отпор, но все же лучше уберечься от злой клеветы. Эта девушка упорна и не поддается пытке. Не попробовать ли соблазнить ее обещаниями? Она должна отречься от своих слов, а там вы можете…
Не успел он договорить, как постучали в дверь и посланец передал Екатерине пергамент.
Это было письмо от герцога Гиза.
«Пощадите пажа! — писал он. — Король хочет видеть его не далее как сегодня!»
Королева подала знак палачам, привинтившим тиски, отойти в сторону и показала несчастной Филли послание Гиза.
— Вот кого должна ты ненавидеть, — прошептала Екатерина, — он предал тебя. Откажись от своих слов, и я буду милостивее, чем герцог, которому ты служила с такой преданностью!
Филли прочла письмо, и трепет ужаса пробежал по ее телу. Человек, который был обязан ей победой и даже жизнью, презренно предал ее мстительной Екатерине.
— Первую степень! — велела Екатерина палачам и, когда они протянули тиски, которые должны были смять кости рук несчастной девушки, повторила свой вопрос, с которым раньше обратилась к Филли.
— Меня провел в Лувр герцог Гиз, — простонала Филли. — Он предал меня вам.
По данному знаку тиски нажали, кости хрустнули.


 Протестантство быстро распространилось в Шотландии при регентстве графа Аррана. Георг Вишарт и Нокс были фанатичными проповедниками нового учения и успели приобрести значительное число последователей, когда граф Арран начал искать примирения с католической церковью и предоставил кардиналу Битону полную свободу преследовать еретиков. Вишарта пытались убить из-за угла, после чего протестантские священники стали появляться на улице не иначе, как под охраной вооруженных людей. Тем не менее графу Патнику и Босвелю удалось напасть на Вишарта и выдать его кардиналу Битону. Кардинал немедленно распорядился сжечь живым своего врага. В отместку за то шестнадцать решительных протестантов напали на Битона, умертвили его и повесили на зубце его замка.
С этого началась в Шотландии кровопролитная борьба между враждебными вероисповеданиями, и Мария Лотарингская воспользовалась протестантской партией, чтобы лишить власти графа Аррана. Она освободила Нокса, который долгие годы томился в цепях на галерах, и этот смелый, необыкновенный человек готовился со священным рвением сделаться духовным устроителем и нравственным властелином Шотландии.
Лорд Джэмс Стюарт, побочный брат королевы, граф Эджиль, лорд Эрскин и другие представители знатнейших родов примкнули к реформатству. Десять дней проповедовал Нокс в Эдинбурге (причем никто не осмеливался оспаривать его тезисы), народ разгонял религиозные процессии, сбросил статую святого Эгидия, покровителя города, в море и потребовал наконец признания нового учения.
Мария Лотарингская, которая воспользовалась протестантами лишь для того, чтобы ниспровергнуть партию регента, не могла дольше медлить. Получив регентство, она как ярая католичка поспешила воздвигнуть преграду революции. По ее приказу Нокс опять подвергся преследованию, бежал, и регентша, велев сжечь его изображение в Эдинбурге, пригласила всех проповедников новой веры в этот город для доказательства истинности их учения. Они явились, но в сопровождении такой многочисленной свиты баронов, что Мария Лотарингская не рискнула напасть на них. Она остерегалась прибегать к силе, пока ее дочь не вышла замуж за дофина Франции, а тесная связь между Испанией и Англией не порвалась со смертью Марии Католической и с восшествием на престол протестантки Елизаветы. Лишь после этого Мария Лотарингская стала считать себя достаточно могущественной для того, чтобы уничтожить всех еретиков и с помощью церкви и дворов Франции и Испании прибрать к рукам и английский трон.
Новое учение подверглось опале. Но тут вернулся Нокс. Его воодушевленные речи возбуждали народ разорять монастыри и опустошать памятники католической веры. Регентша грозила разрушить город Перт, но, пока снаряжала свои войска, собрались лорды конгрегации — и объявили ей войну. Эдинбург был завоеван протестантами, и здесь также ниспровергались алтари. Регентша обратилась за помощью к французскому королю, а протестанты — к Елизавете. Франциск II послал в Шотландию вспомогательный корпус под предводительством маркиза д’Эльбефа. Елизавета, со своей стороны, снаряжала войска. Однако она не решалась еще приступать к военным действиям, вероятно потому, что Нокс оскорбил ее лично в одном сочинении, направленном против женского правления Тюдоров. Только после принятия Франциском II и Марией Стюарт английского герба решилась Елизавета начать войну.
Шотландские дворяне-протестанты совершили тогда первый насильственный шаг, направленный против Марии Стюарт: они объявили низложение регентши. Заговор в Амбуазе помешал Гизу отправить вспомогательные войска своей сестре, Марии Лотарингской. Напрасно Франциск II посылал в Эдинбург епископа де Монлюка с целью примирить регентшу с мятежниками. Мария Лотарингская заболела и умерла, сломленная горем, униженная в своей гордости, потерпевшая поражение от мятежников. В своем настойчивом честолюбии она хотела проложить дорогу своей дочери к обладанию тремя коронами и тем нажила ей врагов, которые подняли голову именно теперь, когда Мария Стюарт стала вдовой, нуждающейся в утешении и помощи. Она восстановила протестантских лордов против юной королевы и довела их до того, что феодальная аристократия в Шотландии привлекла к себе всю силу страны. Королевская же власть была представлена в новом парламенте только немыми и бессильными изображениями короны, скипетра и меча над незанятым троном. Горячая петиция, поданная протестантами, требовала даже, чтобы католическая церковь была объявлена вне закона, чтобы была введена строгая церковная дисциплина и страшные наказания тем, кто вздумал бы служить обедню по католическому обряду.
Мария Стюарт, шотландская королева, была католичкой! Когда от нее потребовали подписать акт, предоставлявший народу религиозную свободу, она велела передать от нее лордам следующее:
— Мои подданные в Шотландии совсем не исполняют своего долга. Я — их королева. Они дают мне этот титул, но сами ведут себя не как подданные. Я покажу им, в чем состоит их долг.
Однако положение дел во Франции не позволяло послать войско в Шотландию. Король Франциск II умер, и Мария Стюарт осталась одинокой, ненавидимая всеми своими подданными за ее покровительство французскому влиянию, ненавидимая Екатериной Медичи за противодействие ей, ненавидимая Елизаветой за присвоение английского герба. Вдова Франциска II теперь была снова просто шотландской королевой и не чем более и нашла свое дворянство привыкшим к мятежу и располагающим верховной властью, свое королевство в союзе против нее с враждебным до сих пор соседним государством — Англией, а свой народ исповедовавшим не ту религию, которой держалась она сама.
Вдова в восемнадцатилетнем возрасте и француженка с одиннадцати лет, Мария Стюарт почувствовала всю тяжесть утраты, причиненной ей смертью мужа, впала в глубокое отчаяние, заперлась на несколько дней у себя в комнатах и не принимала никого, кроме своих ближайших родственников. Разумеется, Мария охотно осталась бы во Франции и жила бы там в качестве вдовствующей королевы, но, с одной стороны, ей угрожала ненависть Екатерины, а с другой — молодой король Карл IX, брат ее покойного мужа. Он надоедал ей своей назойливой любовью, проводил целые часы перед ее портретом и повторял, что он согласился бы лечь в могилу, как его брат, если бы ему, как покойному королю, удалось обладать перед смертью целый год прекрасной Марией Стюарт.
Протестантство быстро распространилось в Шотландии при регентстве графа Аррана. Георг Вишарт и Нокс были фанатичными проповедниками нового учения и успели приобрести значительное число последователей, когда граф Арран начал искать примирения с католической церковью и предоставил кардиналу Битону полную свободу преследовать еретиков. Вишарта пытались убить из-за угла, после чего протестантские священники стали появляться на улице не иначе, как под охраной вооруженных людей. Тем не менее графу Патнику и Босвелю удалось напасть на Вишарта и выдать его кардиналу Битону. Кардинал немедленно распорядился сжечь живым своего врага. В отместку за то шестнадцать решительных протестантов напали на Битона, умертвили его и повесили на зубце его замка.
С этого началась в Шотландии кровопролитная борьба между враждебными вероисповеданиями, и Мария Лотарингская воспользовалась протестантской партией, чтобы лишить власти графа Аррана. Она освободила Нокса, который долгие годы томился в цепях на галерах, и этот смелый, необыкновенный человек готовился со священным рвением сделаться духовным устроителем и нравственным властелином Шотландии.
Лорд Джэмс Стюарт, побочный брат королевы, граф Эджиль, лорд Эрскин и другие представители знатнейших родов примкнули к реформатству. Десять дней проповедовал Нокс в Эдинбурге (причем никто не осмеливался оспаривать его тезисы), народ разгонял религиозные процессии, сбросил статую святого Эгидия, покровителя города, в море и потребовал наконец признания нового учения.
Мария Лотарингская, которая воспользовалась протестантами лишь для того, чтобы ниспровергнуть партию регента, не могла дольше медлить. Получив регентство, она как ярая католичка поспешила воздвигнуть преграду революции. По ее приказу Нокс опять подвергся преследованию, бежал, и регентша, велев сжечь его изображение в Эдинбурге, пригласила всех проповедников новой веры в этот город для доказательства истинности их учения. Они явились, но в сопровождении такой многочисленной свиты баронов, что Мария Лотарингская не рискнула напасть на них. Она остерегалась прибегать к силе, пока ее дочь не вышла замуж за дофина Франции, а тесная связь между Испанией и Англией не порвалась со смертью Марии Католической и с восшествием на престол протестантки Елизаветы. Лишь после этого Мария Лотарингская стала считать себя достаточно могущественной для того, чтобы уничтожить всех еретиков и с помощью церкви и дворов Франции и Испании прибрать к рукам и английский трон.
Новое учение подверглось опале. Но тут вернулся Нокс. Его воодушевленные речи возбуждали народ разорять монастыри и опустошать памятники католической веры. Регентша грозила разрушить город Перт, но, пока снаряжала свои войска, собрались лорды конгрегации — и объявили ей войну. Эдинбург был завоеван протестантами, и здесь также ниспровергались алтари. Регентша обратилась за помощью к французскому королю, а протестанты — к Елизавете. Франциск II послал в Шотландию вспомогательный корпус под предводительством маркиза д’Эльбефа. Елизавета, со своей стороны, снаряжала войска. Однако она не решалась еще приступать к военным действиям, вероятно потому, что Нокс оскорбил ее лично в одном сочинении, направленном против женского правления Тюдоров. Только после принятия Франциском II и Марией Стюарт английского герба решилась Елизавета начать войну.
Шотландские дворяне-протестанты совершили тогда первый насильственный шаг, направленный против Марии Стюарт: они объявили низложение регентши. Заговор в Амбуазе помешал Гизу отправить вспомогательные войска своей сестре, Марии Лотарингской. Напрасно Франциск II посылал в Эдинбург епископа де Монлюка с целью примирить регентшу с мятежниками. Мария Лотарингская заболела и умерла, сломленная горем, униженная в своей гордости, потерпевшая поражение от мятежников. В своем настойчивом честолюбии она хотела проложить дорогу своей дочери к обладанию тремя коронами и тем нажила ей врагов, которые подняли голову именно теперь, когда Мария Стюарт стала вдовой, нуждающейся в утешении и помощи. Она восстановила протестантских лордов против юной королевы и довела их до того, что феодальная аристократия в Шотландии привлекла к себе всю силу страны. Королевская же власть была представлена в новом парламенте только немыми и бессильными изображениями короны, скипетра и меча над незанятым троном. Горячая петиция, поданная протестантами, требовала даже, чтобы католическая церковь была объявлена вне закона, чтобы была введена строгая церковная дисциплина и страшные наказания тем, кто вздумал бы служить обедню по католическому обряду.
Мария Стюарт, шотландская королева, была католичкой! Когда от нее потребовали подписать акт, предоставлявший народу религиозную свободу, она велела передать от нее лордам следующее:
— Мои подданные в Шотландии совсем не исполняют своего долга. Я — их королева. Они дают мне этот титул, но сами ведут себя не как подданные. Я покажу им, в чем состоит их долг.
Однако положение дел во Франции не позволяло послать войско в Шотландию. Король Франциск II умер, и Мария Стюарт осталась одинокой, ненавидимая всеми своими подданными за ее покровительство французскому влиянию, ненавидимая Екатериной Медичи за противодействие ей, ненавидимая Елизаветой за присвоение английского герба. Вдова Франциска II теперь была снова просто шотландской королевой и не чем более и нашла свое дворянство привыкшим к мятежу и располагающим верховной властью, свое королевство в союзе против нее с враждебным до сих пор соседним государством — Англией, а свой народ исповедовавшим не ту религию, которой держалась она сама.
Вдова в восемнадцатилетнем возрасте и француженка с одиннадцати лет, Мария Стюарт почувствовала всю тяжесть утраты, причиненной ей смертью мужа, впала в глубокое отчаяние, заперлась на несколько дней у себя в комнатах и не принимала никого, кроме своих ближайших родственников. Разумеется, Мария охотно осталась бы во Франции и жила бы там в качестве вдовствующей королевы, но, с одной стороны, ей угрожала ненависть Екатерины, а с другой — молодой король Карл IX, брат ее покойного мужа. Он надоедал ей своей назойливой любовью, проводил целые часы перед ее портретом и повторял, что он согласился бы лечь в могилу, как его брат, если бы ему, как покойному королю, удалось обладать перед смертью целый год прекрасной Марией Стюарт.



 Самой блестящей эпохой Англии по справедливости считают правление Елизаветы, когда влияния реформации и языческого ренессанса вызвали к жизни новые могучие, неведомые дотоле силы, когда Англия одержала победу над предрассудками католической религии и уничтожила великую армаду Филиппа II, когда страна, вступив на новый путь, подарила миру такого поэта, как Шекспир, и такого философа, как Бэкон.
Дочь трагически погибшей Анны Болейн вписала свое имя в страницы истории кровавыми и золотыми буквами. Елизавете было двадцать пять лет, когда корона украсила ее золотисто-белокурые волосы; ее высокая фигура отличалась грацией и величественностью; на красивом, хотя и не отличавшемся правильными чертами, лице несколько южного типа сверкали большие темно-синие глаза, в которых светились ласковость и проницательная острота ума — когда она с гордостью смотрела с высоты трона, и пламенела дикая страсть — когда задевали ее женское тщеславие. Это тщеславие было большой слабостью Елизаветы, она не прощала ни малейшей обиды, нанесенной ей как женщине, а каждая лесть, касавшаяся ее внешнего вида, встречала благосклонный прием.
Елизавета была целомудренна до кончиков ногтей. Ее высшей гордостью было слыть и быть девственной королевой. Она отказывала всем женихам, но никогда не оставалась без поклонников, с которыми ее чувственность вела кокетливую игру, возбуждающую в них всяческие вожделения и никогда не удовлетворяющую их. Было ли это следствием физического недостатка или болезни — неизвестно, но Елизавета в часы интимных бесед со своими фаворитами или льстецами выглядела самой разнузданной и чувственной женщиной, хотя ее нельзя было обвинить в фактическом падении.
Наряду с чувственностью она унаследовала от отца также высокомерие и вспыльчивость. Но именно эти черты характера, вместе с ее образованностью и возвышенностью ума, послужили для создания фундамента мирового могущества Англии. Елизавета выбрала министрами самых умных и проницательных людей того времени — Уильяма Сесиля и Николаса Бэкона, прекратила судебные преследования еретиков, освободила всех заключенных, посаженных в тюрьмы за религиозные убеждения, и снова восстановила англиканскую церковь, не возобновив преследований католиков. Во всех мероприятиях она руководствовалась желанием сделать Англию великой и счастливой, и только одна всеобъемлющая ненависть переполняла ее душу — это ревнивая ненависть к женщине, более красивой, чем она сама, ее законной наследнице, бывшей и королевой, и ее соперницей на том же острове, — к Марии Стюарт.
Самой блестящей эпохой Англии по справедливости считают правление Елизаветы, когда влияния реформации и языческого ренессанса вызвали к жизни новые могучие, неведомые дотоле силы, когда Англия одержала победу над предрассудками католической религии и уничтожила великую армаду Филиппа II, когда страна, вступив на новый путь, подарила миру такого поэта, как Шекспир, и такого философа, как Бэкон.
Дочь трагически погибшей Анны Болейн вписала свое имя в страницы истории кровавыми и золотыми буквами. Елизавете было двадцать пять лет, когда корона украсила ее золотисто-белокурые волосы; ее высокая фигура отличалась грацией и величественностью; на красивом, хотя и не отличавшемся правильными чертами, лице несколько южного типа сверкали большие темно-синие глаза, в которых светились ласковость и проницательная острота ума — когда она с гордостью смотрела с высоты трона, и пламенела дикая страсть — когда задевали ее женское тщеславие. Это тщеславие было большой слабостью Елизаветы, она не прощала ни малейшей обиды, нанесенной ей как женщине, а каждая лесть, касавшаяся ее внешнего вида, встречала благосклонный прием.
Елизавета была целомудренна до кончиков ногтей. Ее высшей гордостью было слыть и быть девственной королевой. Она отказывала всем женихам, но никогда не оставалась без поклонников, с которыми ее чувственность вела кокетливую игру, возбуждающую в них всяческие вожделения и никогда не удовлетворяющую их. Было ли это следствием физического недостатка или болезни — неизвестно, но Елизавета в часы интимных бесед со своими фаворитами или льстецами выглядела самой разнузданной и чувственной женщиной, хотя ее нельзя было обвинить в фактическом падении.
Наряду с чувственностью она унаследовала от отца также высокомерие и вспыльчивость. Но именно эти черты характера, вместе с ее образованностью и возвышенностью ума, послужили для создания фундамента мирового могущества Англии. Елизавета выбрала министрами самых умных и проницательных людей того времени — Уильяма Сесиля и Николаса Бэкона, прекратила судебные преследования еретиков, освободила всех заключенных, посаженных в тюрьмы за религиозные убеждения, и снова восстановила англиканскую церковь, не возобновив преследований католиков. Во всех мероприятиях она руководствовалась желанием сделать Англию великой и счастливой, и только одна всеобъемлющая ненависть переполняла ее душу — это ревнивая ненависть к женщине, более красивой, чем она сама, ее законной наследнице, бывшей и королевой, и ее соперницей на том же острове, — к Марии Стюарт.


 В элегантном доме, находящемся на западной окраине Лондона, на белых подушках кушетки откинулась пышная женщина, словно погрузилась в сладкие грезы. Внизу расхаживали лакеи, ливреи которых были разукрашены богатыми галунами; лестницы дома были уложены смирнскими коврами, великолепные комнаты тонули в роскоши. Будуар был уютный: разукрашенная богатой резьбой мебель обита бархатом, тяжелые махровые занавеси закрывали окна, драгоценные ковры застилали пол, стены будуара увешаны дорогими гобеленами. Всевозможные безделушки и предметы роскоши придавали бы будуару вид кабинета редкостей, если бы вся остальная обстановка не была до крайности уютна и удобна. В камине пылало яркое пламя, красноватый отблеск которого играл на щеках мечтающей красавицы. Ни малейший звук не проникал с улицы в этот будуар, и уютной тишины не нарушало ничто, кроме трещания дров в камине и бурчания кипящей воды в серебряном чайнике. Чай был известен в Англии уже лет сто, но еще принадлежал к числу предметов роскоши.
Легкое, душистое платье окутывало пышные формы женщины, но на лице ее были видны исключительно искусственные краски, китайские румяна и французская пудра изгладили следы, наложенные временем, а может быть, заботами и пороком.
На столе стояла маленькая коробочка с целой грудой записок. Лорд М. прислал великолепное колье с пожеланиями счастья, капитан Р. — фрукты из Африки, адмирал Р. — редкости из Индии. Далее находились льстивые восхваления бедного поэта, благодарящего за щедрую поддержку, а еще далее — раздушенная записочка старого полковника.
Графиня Гертфорд мечтала. Все мрачные воспоминания своей юности она прогнала последующей наполненной роскошью жизнью и теперь наслаждалась богатством, доставшимся ей по капризу кровавой Марии.
Да, бывшая Кэт Блоуэр утопала в роскоши… Но кто мог сказать, что она была действительно счастлива? Женщина, когда-то стоявшая у папистского столба и потом коротавшая дни в пещере у ведьмы, сейчас вытягивала свое тело на мягких подушках, вдыхала индийские благовония и украшала себя шелком и драгоценностями…
Правда, Екатерину пугала бледная тень Тауэра. Призрак Бэклея долго отнимал у нее ночной покой; долгое время она боялась, что человек, которого прямо от алтаря потащили в застенок, когда-нибудь разорвет свои цепи, появится около ее изголовья и закричит: «Отдай назад украденное, ты, эдинбургская ведьма!» Из страха перед этим призраком она продавала свою любовь в обмен на защиту могущественных лордов. Поэтому, когда Мария Тюдор умерла и открыли двери темниц, то Бэклея не выпустили на свободу, а переправили через шотландскую границу с указом, что возвращение на английскую землю будет для него смертным приговором.
А Вальтер Брай?
Правда если в тихие часы одиночества Екатерина иногда думала о возлюбленном своей молодости, то ужас сковывал ее при воспоминании о мрачных страницах пережитого несчастья, и сердце сжималось холодным ужасом, когда она думала о человеке, кричавшем ей: «Опозоренная женщина должна умереть».
Она трепетала перед этой суровой добродетелью, перед этой словно из бронзы высеченной фигурой, которая требовала для нее смерти из-за какого-то негодяя, который покрыл ее позором; она чувствовала, что недостойна любви Брая и что именно эта любовь послужила причиной всех ее несчастий, так как только из любви к Вальтеру она отвергла Бэклея. А что мог предложить ей Брай? Скучное существование среди мирных хозяйственных забот: никогда не пришлось бы ей испытать восторги сладострастия, праздновать триумфы кокетства, вызывать зависть толпы.
А ее ребенок?
Этот уродливый чертенок, призрак болот, временами танцевал перед ее глазами и смеялся ироническим хохотом, и дрожь охватывала Екатерину. Но вспомнив его неожиданно мягкий голосок с мольбой о сострадании, Екатерина с болью думала о нем.
Неужели это ее дитя? Не насмешка ли сатаны? Но у того существа, которое молило ее о хлебе, волосы были мягки, тело нежно.
— Слишком поздно! — пробормотала Екатерина, вспомнив его опять, и, как тогда, вновь почувствовала, ка пол уплывает из-под ее ног, что вся окружавшая ее роскошь должна вот-вот рассеяться, как сонная греза, и ей снова придется ступать дрожащими ногами по болотам и взывать из всех сил:
— Бабушка Гуг, где мой ребенок?
Ее ребенок!… Материнская любовь никогда не пропадает совсем и в любой момент может вспыхнуть и разгореться ярким пожаром. Чего бы только не дала теперь Екатерина Гертфорд, чтобы иметь возможность посмотреть и обнять своего ребенка! Ей казалось, что она словно совершила преступление против самой себя в тот день, когда отказалась от него — преступление против собственной плоти.
Где же мальчик? Быть может, он умер от голода, пока она утопала в роскоши, или, может быть, замерз, пока она нежилась на мягком шелку; быть может, его пытали и сожгли, как ведьмино отродье, в то время как она отдавалась тому самому лорду, который дал это кровавое приказание?
Через преданных ей лиц Кэт навела справки, населено ли еще развалившееся аббатство близ Эдинбурга, не слышно ли чего-нибудь о колдунье и ее ребенке. Ей рассказали о том, как многих ведьм выставляли к папистскому столбу, а потом воздвигли большой костер, на котором и сожгли их всех во славу божию. Среди многих незнакомых ей имен упоминалась и Гуг, которая была в особенности одержима и мучима дьяволом. Ее пришлось три раза сечь розгами, пока она призналась.
Кэт стало страшно, ей казалось, что она слышит вопли несчастных, видит, как пылает пламя костров, смыкаясь над обугленными телами, слышит иронические насмешки и восторги толпы, прерываемые жалобными стонами детей казненных ведьм.
В элегантном доме, находящемся на западной окраине Лондона, на белых подушках кушетки откинулась пышная женщина, словно погрузилась в сладкие грезы. Внизу расхаживали лакеи, ливреи которых были разукрашены богатыми галунами; лестницы дома были уложены смирнскими коврами, великолепные комнаты тонули в роскоши. Будуар был уютный: разукрашенная богатой резьбой мебель обита бархатом, тяжелые махровые занавеси закрывали окна, драгоценные ковры застилали пол, стены будуара увешаны дорогими гобеленами. Всевозможные безделушки и предметы роскоши придавали бы будуару вид кабинета редкостей, если бы вся остальная обстановка не была до крайности уютна и удобна. В камине пылало яркое пламя, красноватый отблеск которого играл на щеках мечтающей красавицы. Ни малейший звук не проникал с улицы в этот будуар, и уютной тишины не нарушало ничто, кроме трещания дров в камине и бурчания кипящей воды в серебряном чайнике. Чай был известен в Англии уже лет сто, но еще принадлежал к числу предметов роскоши.
Легкое, душистое платье окутывало пышные формы женщины, но на лице ее были видны исключительно искусственные краски, китайские румяна и французская пудра изгладили следы, наложенные временем, а может быть, заботами и пороком.
На столе стояла маленькая коробочка с целой грудой записок. Лорд М. прислал великолепное колье с пожеланиями счастья, капитан Р. — фрукты из Африки, адмирал Р. — редкости из Индии. Далее находились льстивые восхваления бедного поэта, благодарящего за щедрую поддержку, а еще далее — раздушенная записочка старого полковника.
Графиня Гертфорд мечтала. Все мрачные воспоминания своей юности она прогнала последующей наполненной роскошью жизнью и теперь наслаждалась богатством, доставшимся ей по капризу кровавой Марии.
Да, бывшая Кэт Блоуэр утопала в роскоши… Но кто мог сказать, что она была действительно счастлива? Женщина, когда-то стоявшая у папистского столба и потом коротавшая дни в пещере у ведьмы, сейчас вытягивала свое тело на мягких подушках, вдыхала индийские благовония и украшала себя шелком и драгоценностями…
Правда, Екатерину пугала бледная тень Тауэра. Призрак Бэклея долго отнимал у нее ночной покой; долгое время она боялась, что человек, которого прямо от алтаря потащили в застенок, когда-нибудь разорвет свои цепи, появится около ее изголовья и закричит: «Отдай назад украденное, ты, эдинбургская ведьма!» Из страха перед этим призраком она продавала свою любовь в обмен на защиту могущественных лордов. Поэтому, когда Мария Тюдор умерла и открыли двери темниц, то Бэклея не выпустили на свободу, а переправили через шотландскую границу с указом, что возвращение на английскую землю будет для него смертным приговором.
А Вальтер Брай?
Правда если в тихие часы одиночества Екатерина иногда думала о возлюбленном своей молодости, то ужас сковывал ее при воспоминании о мрачных страницах пережитого несчастья, и сердце сжималось холодным ужасом, когда она думала о человеке, кричавшем ей: «Опозоренная женщина должна умереть».
Она трепетала перед этой суровой добродетелью, перед этой словно из бронзы высеченной фигурой, которая требовала для нее смерти из-за какого-то негодяя, который покрыл ее позором; она чувствовала, что недостойна любви Брая и что именно эта любовь послужила причиной всех ее несчастий, так как только из любви к Вальтеру она отвергла Бэклея. А что мог предложить ей Брай? Скучное существование среди мирных хозяйственных забот: никогда не пришлось бы ей испытать восторги сладострастия, праздновать триумфы кокетства, вызывать зависть толпы.
А ее ребенок?
Этот уродливый чертенок, призрак болот, временами танцевал перед ее глазами и смеялся ироническим хохотом, и дрожь охватывала Екатерину. Но вспомнив его неожиданно мягкий голосок с мольбой о сострадании, Екатерина с болью думала о нем.
Неужели это ее дитя? Не насмешка ли сатаны? Но у того существа, которое молило ее о хлебе, волосы были мягки, тело нежно.
— Слишком поздно! — пробормотала Екатерина, вспомнив его опять, и, как тогда, вновь почувствовала, ка пол уплывает из-под ее ног, что вся окружавшая ее роскошь должна вот-вот рассеяться, как сонная греза, и ей снова придется ступать дрожащими ногами по болотам и взывать из всех сил:
— Бабушка Гуг, где мой ребенок?
Ее ребенок!… Материнская любовь никогда не пропадает совсем и в любой момент может вспыхнуть и разгореться ярким пожаром. Чего бы только не дала теперь Екатерина Гертфорд, чтобы иметь возможность посмотреть и обнять своего ребенка! Ей казалось, что она словно совершила преступление против самой себя в тот день, когда отказалась от него — преступление против собственной плоти.
Где же мальчик? Быть может, он умер от голода, пока она утопала в роскоши, или, может быть, замерз, пока она нежилась на мягком шелку; быть может, его пытали и сожгли, как ведьмино отродье, в то время как она отдавалась тому самому лорду, который дал это кровавое приказание?
Через преданных ей лиц Кэт навела справки, населено ли еще развалившееся аббатство близ Эдинбурга, не слышно ли чего-нибудь о колдунье и ее ребенке. Ей рассказали о том, как многих ведьм выставляли к папистскому столбу, а потом воздвигли большой костер, на котором и сожгли их всех во славу божию. Среди многих незнакомых ей имен упоминалась и Гуг, которая была в особенности одержима и мучима дьяволом. Ее пришлось три раза сечь розгами, пока она призналась.
Кэт стало страшно, ей казалось, что она слышит вопли несчастных, видит, как пылает пламя костров, смыкаясь над обугленными телами, слышит иронические насмешки и восторги толпы, прерываемые жалобными стонами детей казненных ведьм.


 Королева Елизавета сидела, задумчиво глядя в окно. Там, у ворот своего дворца, она увидала Дэдлея в первый раз с тех пор, как он вернулся из Франции, и сердце, которое не забыло рыцарского пажа винчестерского турнира, горячо забилось навстречу мужчине, снова взглянувшему на нее смелыми глазами пажа, так же отважно, так же гордо, так же маняще.
«Если бы я была простой леди, то не было бы счастья выше того, как броситься в его объятья! — думала она. — Но я — английская королева!.. Любовь ожесточила моего отца и заставляла его переносить свое дикое неистовство с одного объекта на другой. Да и мое сердце уже вспыхнуло гневом при одной мысли, что он мог нарушить свою в прошлом верность мне; и я могла бы убить любимого человека, если бы он осмелился обмануть английскую королеву, словно самую обыкновенную женщину… Ха! Разве не сказала леди Бэтси Килдар, что когда-нибудь любовь скует цепями и мое сердце? Значит, женщина является рабыней, когда любит… Неужели же я когда-нибудь превращусь в жалкую рабыню своего возлюбленного, которую бросают, когда увядают ее прелести? Нет, мне надо быть твердой. Я должна подавить в себе единственную слабость, которой наделила меня природа, дать возлюбленному в супруги мою соперницу; мое сердце не смеет приобрести надо мной ту власть, которая обезличивает государей, делает сильного — рабом, гордого — ревнивым и доводит до порока, за который моя мать поплатилась жизнью! Что если Бэрлей уже догадался об истинной причине вызова Брая — ревности, охотно прислушивающейся к каждой сплетне? Ведь тогда мои советники используют мою слабость, чтобы направлять мою волю по своему желанию. Нет, он обманется в своих ожиданиях, если собирался поймать меня на обычной женской слабости. Пусть он увидит, что я навожу справки только в интересах английской короны и хочу лишь узнать, подходящий ли Дэдлей человек, чтобы сделать Шотландию вассалом Англии. О, как слепа страсть, как велика опасность подпасть под ее влияние!»
Доложили о приходе лорда Бэрлея.
— Как, вы один? — с удивлением спросила Елизавета. — Разве очень трудно найти этого Брая?
— Ваше величество, граф Лейстер ждет ваших приказаний, но сэр Вальтер Брай…
— Милорд, наши приказания были даны с достаточной ясностью и определенностью!
— Ваше величество, соблаговолите выслушать меня. Данный случай кажется мне достаточно важным, чтобы обратить на него ваше внимание, здесь затронуты интересы правосудия. Разрешите мне обратить ваше внимание на некоторые подробности.
— Говорите, милорд!
— Быть может, вы, ваше величество, припомните статс- даму королевы Марии Тюдор, которая довольно необыкновенным образом составила свое счастье в ту самую ночь, когда Гилфорд Варвик поплатился жизнью.
— Милорд, я знаю все это.
— Ваше величество, королева Мария заставила графа Гертфорда жениться на этой статс-даме и перевести на ее имя все свое состояние, после чего его заперли в Тауэре, где подвергли пыткам и заковали в цепи, пока милостью вашего величества он не был выпущен на свободу под условием никогда больше не появляться в Англии.
— Подлый негодяй не стоил веревки, чтобы его повесили. Но, милорд, я не знала тогда, что здесь оставалась его супруга. Разве она играет какую-нибудь роль по отношению к сэру Браю?
— Главную роль, ваше величество! Вчера сэр Вальтер Брай силой проник в дом графини Гертфорд, и она приказала арестовать его, после того как добрых полчаса проговорила с ним с глазу на глаз и потом подмешала ему в вино сонное питье. Человек, казавшийся по внешнему виду совершенно здоровым и только бывший сильно возбужденным и взволнованным при появлении в доме графини Гертфорд, теперь лежит в горячечном бреду. Графиня уверяет, что он всегда был сумасшедшим, помешанным на том, что она будто бы является его невестой, когда-то изменившей ему. Лорд Т. приказал заключить сэра Брая в тюрьму, о чем и узнали мои люди. Среди его бумаг нашли письмо леди Бэтси Килдар и многие другие письма, доказывающие, что он уже давно следит за лордом Бэрлеем и за графиней Гертфорд. Показанию графини Гертфорд, будто Брай давно был сумасшедшим, противоречит то, что он был в дружбе с графом Лейстером. Мне кажется, что он стал сумасшедшим только со вчерашнего дня, так как графиня Гертфорд могла дать ему с сонным питьем также и яд.
— Господи Боже! Милорд, вы правы, но я надеюсь, что сэр Дэдлей не замешан в эту историю? Пусть граф немедленно появится здесь!
Бэрлей вышел за дверь, и через несколько секунд перед королевой появился граф Лейстер.
Королева Елизавета сидела, задумчиво глядя в окно. Там, у ворот своего дворца, она увидала Дэдлея в первый раз с тех пор, как он вернулся из Франции, и сердце, которое не забыло рыцарского пажа винчестерского турнира, горячо забилось навстречу мужчине, снова взглянувшему на нее смелыми глазами пажа, так же отважно, так же гордо, так же маняще.
«Если бы я была простой леди, то не было бы счастья выше того, как броситься в его объятья! — думала она. — Но я — английская королева!.. Любовь ожесточила моего отца и заставляла его переносить свое дикое неистовство с одного объекта на другой. Да и мое сердце уже вспыхнуло гневом при одной мысли, что он мог нарушить свою в прошлом верность мне; и я могла бы убить любимого человека, если бы он осмелился обмануть английскую королеву, словно самую обыкновенную женщину… Ха! Разве не сказала леди Бэтси Килдар, что когда-нибудь любовь скует цепями и мое сердце? Значит, женщина является рабыней, когда любит… Неужели же я когда-нибудь превращусь в жалкую рабыню своего возлюбленного, которую бросают, когда увядают ее прелести? Нет, мне надо быть твердой. Я должна подавить в себе единственную слабость, которой наделила меня природа, дать возлюбленному в супруги мою соперницу; мое сердце не смеет приобрести надо мной ту власть, которая обезличивает государей, делает сильного — рабом, гордого — ревнивым и доводит до порока, за который моя мать поплатилась жизнью! Что если Бэрлей уже догадался об истинной причине вызова Брая — ревности, охотно прислушивающейся к каждой сплетне? Ведь тогда мои советники используют мою слабость, чтобы направлять мою волю по своему желанию. Нет, он обманется в своих ожиданиях, если собирался поймать меня на обычной женской слабости. Пусть он увидит, что я навожу справки только в интересах английской короны и хочу лишь узнать, подходящий ли Дэдлей человек, чтобы сделать Шотландию вассалом Англии. О, как слепа страсть, как велика опасность подпасть под ее влияние!»
Доложили о приходе лорда Бэрлея.
— Как, вы один? — с удивлением спросила Елизавета. — Разве очень трудно найти этого Брая?
— Ваше величество, граф Лейстер ждет ваших приказаний, но сэр Вальтер Брай…
— Милорд, наши приказания были даны с достаточной ясностью и определенностью!
— Ваше величество, соблаговолите выслушать меня. Данный случай кажется мне достаточно важным, чтобы обратить на него ваше внимание, здесь затронуты интересы правосудия. Разрешите мне обратить ваше внимание на некоторые подробности.
— Говорите, милорд!
— Быть может, вы, ваше величество, припомните статс- даму королевы Марии Тюдор, которая довольно необыкновенным образом составила свое счастье в ту самую ночь, когда Гилфорд Варвик поплатился жизнью.
— Милорд, я знаю все это.
— Ваше величество, королева Мария заставила графа Гертфорда жениться на этой статс-даме и перевести на ее имя все свое состояние, после чего его заперли в Тауэре, где подвергли пыткам и заковали в цепи, пока милостью вашего величества он не был выпущен на свободу под условием никогда больше не появляться в Англии.
— Подлый негодяй не стоил веревки, чтобы его повесили. Но, милорд, я не знала тогда, что здесь оставалась его супруга. Разве она играет какую-нибудь роль по отношению к сэру Браю?
— Главную роль, ваше величество! Вчера сэр Вальтер Брай силой проник в дом графини Гертфорд, и она приказала арестовать его, после того как добрых полчаса проговорила с ним с глазу на глаз и потом подмешала ему в вино сонное питье. Человек, казавшийся по внешнему виду совершенно здоровым и только бывший сильно возбужденным и взволнованным при появлении в доме графини Гертфорд, теперь лежит в горячечном бреду. Графиня уверяет, что он всегда был сумасшедшим, помешанным на том, что она будто бы является его невестой, когда-то изменившей ему. Лорд Т. приказал заключить сэра Брая в тюрьму, о чем и узнали мои люди. Среди его бумаг нашли письмо леди Бэтси Килдар и многие другие письма, доказывающие, что он уже давно следит за лордом Бэрлеем и за графиней Гертфорд. Показанию графини Гертфорд, будто Брай давно был сумасшедшим, противоречит то, что он был в дружбе с графом Лейстером. Мне кажется, что он стал сумасшедшим только со вчерашнего дня, так как графиня Гертфорд могла дать ему с сонным питьем также и яд.
— Господи Боже! Милорд, вы правы, но я надеюсь, что сэр Дэдлей не замешан в эту историю? Пусть граф немедленно появится здесь!
Бэрлей вышел за дверь, и через несколько секунд перед королевой появился граф Лейстер.


 Первый взрыв недовольства по поводу возобновления католического богослужения в Голируде был сдержан энергичным вмешательством лорда Джэмса Стюарта, но слова реформатора Нокса: «Я скорее соглашусь видеть в Шотландии десять тысяч врагов, чем служение одной-единственной мессы» — звучали по-прежнему угрозой для государыни, которая была чужда своему народу, находила поддержку только в честолюбивых баронах и должна была опасаться того, чтобы их честолюбие не сделало из нее игрушку партийных раздоров.
Она не обладала ни одним из качеств, которые хотели видеть в ней ее подданные. Даже все ее очарование ставилось ей же в вину. Красота Марии вызывала слух, будто она приобрела во Франции привычку к легкомысленным любовным приключениям, а это претило суровым, добродетельным шотландцам. Эта любительница поиграть на лютне и продекламировать французские стихи, носившая корону в чудных локонах с большим кокетством, но без всякого королевского величия, любившая ухаживания поклонников, должна была править раздираемой партийными счетами страной, внушить уважение к закону мятежным лордам. Да еще она привезла с собой католических патеров, весь этот столь ненавистный Шотландии религиозный аппарат, дружбу Гизов, коварство иезуитов.
«Прибытие королевы нарушило мирное течение нашей жизни, — писал Кальвину Нокс. — Не успело пройти трех дней, как уже появились идолы в церкви. Некоторые влиятельные и почтенные люди пытались протестовать. Их совесть восстает против того, что земля, очищенная словом Божьим от чужеземного идолопоклонства, снова оскверняется. Но так как большинство приверженцев нашей веры были к этому снисходительны, то беззаконие восторжествовало и принимает все большее распространение. Уступившие оправдываются тем, что мы не имеем права препятствовать королеве держаться своего вероисповедания, говоря при этом, что и ты такого же мнения. Хотя я и оспариваю этот слух, но он настолько проник в сердца, что я не имею возможности настаивать, пока не получу от тебя известия, был ли этот вопрос предложен на рассмотрение вашей церкви».
Неудовольствие Нокса проявилось с полной нетерпимостью при торжественном въезде королевы в Эдинбург. В назначенный день Мария Стюарт направилась в город в торжественном шествии, под балдахином из фиолетового бархата, в сопровождении дворянства и наиболее знатных граждан. Шестилетнее дитя как бы из облаков спустилось перед ней на землю и, приветствовав ее стихами, передало ключи города, библию и псалтырь. Чтобы напомнить ей о тех ужасных карах, которые Бог посылал на идолопоклонников, на ее пути были выставлены изображения того, как земля поглощала нечестивых в то время, когда они приносили свои жертвы. Лишь с трудом партии умеренных удалось воспрепятствовать кощунственному изображению алтаря и священника, загоревшегося во время поднятия Святых Тайн.
После радостного приема народа, приветствовавшего ее как королеву, и проявления религиозного фанатизма, угрожавшего ей как католичке, Мария возвратилась в Голируд, где ей поднесли от имени города большой серебряный вызолоченный ларец. Она приняла подарок со слезами на глазах, и по ее волнению можно было судить, как глубоко она страдала.
— Мое сердце разрывается, — рыдая, обратилась она к Марии Сэйтон, — они издеваются над моей верой и играют с куклой, носящей их корону.
— Мужайтесь! — прошептала фрейлина. — Не унывайте! Час возмездия настанет, когда возле вас будет супруг, который твердой рукой смирит мятежников. Вы терпите во имя церкви, поэтому ищите утешения в молитве!
— Бедная Мария! — сказала королева, горько улыбнувшись, — разве ты нашла утешение?
Мария Сэйтон вспыхнула, но твердым голосом возразила:
— Я имею то утешение, которое мне необходимо. А если моя душа и страдает, то лишь потому, что я вижу, как вы несчастны.
— Чудная, родная Франция! — вздохнула Мария Стюарт. Но вдруг она встрепенулась, и ее глаза метнули искры.
— Я сделаю, как они хотят, но это будет им же во вред. Они не увидят больше моего грустного лица. Я забуду то, что предано забвению. Но муж, которого я себе изберу, должен сокрушить мятежников. Моей церкви объявляют войну, глумятся под моей верой; пусть так, но эта церковь поможет мне одержать победу. Нас хотят видеть веселыми. Так будем же веселы, будем смеяться, вообразим себе, что мы на карнавале, в маскараде, раз надо потешить этих неуклюжих мужиков и строптивых лордов! Разве во Франции мы не научились покорять сердца: неужели наши глаза не прожгут эти ржавые панцири? Заставим же улыбаться эти мрачные лица! Начну с Джона Нокса, этого сурового, непреклонного реформатора. Неужели улыбка королевы не приручит такого медведя? Я буду льстить, буду ласкова! Ко мне, графы и рыцари! Спешите на турнир, и в награду вам — рука королевы! Пусть гремит музыка, пусть все закружатся в веселом танце.
Первый взрыв недовольства по поводу возобновления католического богослужения в Голируде был сдержан энергичным вмешательством лорда Джэмса Стюарта, но слова реформатора Нокса: «Я скорее соглашусь видеть в Шотландии десять тысяч врагов, чем служение одной-единственной мессы» — звучали по-прежнему угрозой для государыни, которая была чужда своему народу, находила поддержку только в честолюбивых баронах и должна была опасаться того, чтобы их честолюбие не сделало из нее игрушку партийных раздоров.
Она не обладала ни одним из качеств, которые хотели видеть в ней ее подданные. Даже все ее очарование ставилось ей же в вину. Красота Марии вызывала слух, будто она приобрела во Франции привычку к легкомысленным любовным приключениям, а это претило суровым, добродетельным шотландцам. Эта любительница поиграть на лютне и продекламировать французские стихи, носившая корону в чудных локонах с большим кокетством, но без всякого королевского величия, любившая ухаживания поклонников, должна была править раздираемой партийными счетами страной, внушить уважение к закону мятежным лордам. Да еще она привезла с собой католических патеров, весь этот столь ненавистный Шотландии религиозный аппарат, дружбу Гизов, коварство иезуитов.
«Прибытие королевы нарушило мирное течение нашей жизни, — писал Кальвину Нокс. — Не успело пройти трех дней, как уже появились идолы в церкви. Некоторые влиятельные и почтенные люди пытались протестовать. Их совесть восстает против того, что земля, очищенная словом Божьим от чужеземного идолопоклонства, снова оскверняется. Но так как большинство приверженцев нашей веры были к этому снисходительны, то беззаконие восторжествовало и принимает все большее распространение. Уступившие оправдываются тем, что мы не имеем права препятствовать королеве держаться своего вероисповедания, говоря при этом, что и ты такого же мнения. Хотя я и оспариваю этот слух, но он настолько проник в сердца, что я не имею возможности настаивать, пока не получу от тебя известия, был ли этот вопрос предложен на рассмотрение вашей церкви».
Неудовольствие Нокса проявилось с полной нетерпимостью при торжественном въезде королевы в Эдинбург. В назначенный день Мария Стюарт направилась в город в торжественном шествии, под балдахином из фиолетового бархата, в сопровождении дворянства и наиболее знатных граждан. Шестилетнее дитя как бы из облаков спустилось перед ней на землю и, приветствовав ее стихами, передало ключи города, библию и псалтырь. Чтобы напомнить ей о тех ужасных карах, которые Бог посылал на идолопоклонников, на ее пути были выставлены изображения того, как земля поглощала нечестивых в то время, когда они приносили свои жертвы. Лишь с трудом партии умеренных удалось воспрепятствовать кощунственному изображению алтаря и священника, загоревшегося во время поднятия Святых Тайн.
После радостного приема народа, приветствовавшего ее как королеву, и проявления религиозного фанатизма, угрожавшего ей как католичке, Мария возвратилась в Голируд, где ей поднесли от имени города большой серебряный вызолоченный ларец. Она приняла подарок со слезами на глазах, и по ее волнению можно было судить, как глубоко она страдала.
— Мое сердце разрывается, — рыдая, обратилась она к Марии Сэйтон, — они издеваются над моей верой и играют с куклой, носящей их корону.
— Мужайтесь! — прошептала фрейлина. — Не унывайте! Час возмездия настанет, когда возле вас будет супруг, который твердой рукой смирит мятежников. Вы терпите во имя церкви, поэтому ищите утешения в молитве!
— Бедная Мария! — сказала королева, горько улыбнувшись, — разве ты нашла утешение?
Мария Сэйтон вспыхнула, но твердым голосом возразила:
— Я имею то утешение, которое мне необходимо. А если моя душа и страдает, то лишь потому, что я вижу, как вы несчастны.
— Чудная, родная Франция! — вздохнула Мария Стюарт. Но вдруг она встрепенулась, и ее глаза метнули искры.
— Я сделаю, как они хотят, но это будет им же во вред. Они не увидят больше моего грустного лица. Я забуду то, что предано забвению. Но муж, которого я себе изберу, должен сокрушить мятежников. Моей церкви объявляют войну, глумятся под моей верой; пусть так, но эта церковь поможет мне одержать победу. Нас хотят видеть веселыми. Так будем же веселы, будем смеяться, вообразим себе, что мы на карнавале, в маскараде, раз надо потешить этих неуклюжих мужиков и строптивых лордов! Разве во Франции мы не научились покорять сердца: неужели наши глаза не прожгут эти ржавые панцири? Заставим же улыбаться эти мрачные лица! Начну с Джона Нокса, этого сурового, непреклонного реформатора. Неужели улыбка королевы не приручит такого медведя? Я буду льстить, буду ласкова! Ко мне, графы и рыцари! Спешите на турнир, и в награду вам — рука королевы! Пусть гремит музыка, пусть все закружатся в веселом танце.


 Вскоре заговорщики вскоре получили известие, что королева намеревается посетить все графские владения в сопровождении графа Mappa, лорда Джэмса Стюарта. Босвел и граф Арран сговорились поднять своих вассалов, взять королеву в плен и препроводить ее в замок Дэмбертон. Молодой граф, узнав, что дело идет об открытой войне против королевы, поскакал в Эдинбург, чтобы предупредить Марию. В пылу своего увлечения он мечтал, что она оценит его любовь, ради которой он, не задумываясь, готов был обвинить в государственной измене родного отца.
Он предстал перед королевой в тот момент, когда она готовилась стать во главе войска, и, увидав ее, сразу бросился перед ней на колени и, как безумный, стал признаваться ей в своей любви. Мария гордо отвернулась от него, считая его слова бредом сумасшедшего или пьяного, но он ухватился за край ее платья, прижал его к своим губам и умолял:
— Мария, услышь меня, и я возведу на эшафот родного отца и своих родственников. Ты одна будешь господствовать, царица сердец, и пусть погибнут все, кто не желает покориться твоей власти!
— Граф, удалитесь и проспитесь! — сказала Мария и, вырвав из его рук край своего платья, обратилась к Боскозелю: — Маркиз, успокойте этого безумца!
Граф прочел в ее лице глубокое презрение — и это ранило его, как отравленная стрела, он вскочил на ноги и воскликнул:
— А, вы презираете меня, потому что любите Боскозеля! Мария Стюарт не подаст руки шотландскому лорду, потому что желает изображать вторую Мессалину, потому что Кастеляр — ее любовник!
Мария остолбенела, бледная и дрожащая, но, увидев, что Боскозель обнажил меч и хочет броситься на графа, приказала ему отступить. Джэмс Стюарт, скрестив руки на груди, молча присутствовал при этой сцене.
— Милорд, — заговорила королева дрожащим голосом, — ваш отец — изменник, и если я до сих пор щажу его, то только потому, что в его жилах течет кровь Стюартов. Вы же идете далее него: вы посягаете на мою честь и, как трусливый негодяй, позорите женщину! Молчите! Ваш голос противен мне, вы недостойны даже наказания, вы просто вызываете жалость, как человек, лишенный здравого ума.
— Ваше величество, — ответил граф, — разве позорно, что я люблю вас и что эта любовь довела меня до безумия и я готов служить вам против собственного отца? Скажите, что я достоин сожаления за то, что люблю любовницу француза.
Боскозель больше не мог сдерживаться, он бросился на графа Аррана и готов был задушить его собственными руками. Но в этот момент тот выхватил кинжал и ударил его. Королева громко вскрикнула и лишилась чувств.
Безумца связали и увели. Когда же королева очнулась от своего обморока и увидала окровавленного Боскозеля, она невольно воскликнула:
— Боскозель, вы ранены?
— Рана незначительна, — ответил француз, сияя от торжества.
— Уйдем отсюда! Мария, подумайте о своей чести! — строго произнес лорд Джэмс.
Королева вздрогнула, по выражению лиц присутствующих и ликующему взгляду Боскозеля она поняла, до какой степени забылась. Краснея и бледнея, Мария растерянно протянула руку Джэмсу Стюарту и дрожащим голосом сказала:
— Пойдемте отсюда! Лорд Джэмс, спасите меня от самой себя!
На другой день королева покинула Голируд во главе отряда, но молва о сумасшествии Аррана и о словах королевы: «Боскозель, вы ранены?» — распространилась с быстротою молнии. Шотландцы пожимали плечами и говорили, что она оставила его, чтобы люди поверили в лживость слов графа Аррана, а это лишь укрепило уверенность шотландцев, что француз наверное любовник их королевы.
Вскоре заговорщики вскоре получили известие, что королева намеревается посетить все графские владения в сопровождении графа Mappa, лорда Джэмса Стюарта. Босвел и граф Арран сговорились поднять своих вассалов, взять королеву в плен и препроводить ее в замок Дэмбертон. Молодой граф, узнав, что дело идет об открытой войне против королевы, поскакал в Эдинбург, чтобы предупредить Марию. В пылу своего увлечения он мечтал, что она оценит его любовь, ради которой он, не задумываясь, готов был обвинить в государственной измене родного отца.
Он предстал перед королевой в тот момент, когда она готовилась стать во главе войска, и, увидав ее, сразу бросился перед ней на колени и, как безумный, стал признаваться ей в своей любви. Мария гордо отвернулась от него, считая его слова бредом сумасшедшего или пьяного, но он ухватился за край ее платья, прижал его к своим губам и умолял:
— Мария, услышь меня, и я возведу на эшафот родного отца и своих родственников. Ты одна будешь господствовать, царица сердец, и пусть погибнут все, кто не желает покориться твоей власти!
— Граф, удалитесь и проспитесь! — сказала Мария и, вырвав из его рук край своего платья, обратилась к Боскозелю: — Маркиз, успокойте этого безумца!
Граф прочел в ее лице глубокое презрение — и это ранило его, как отравленная стрела, он вскочил на ноги и воскликнул:
— А, вы презираете меня, потому что любите Боскозеля! Мария Стюарт не подаст руки шотландскому лорду, потому что желает изображать вторую Мессалину, потому что Кастеляр — ее любовник!
Мария остолбенела, бледная и дрожащая, но, увидев, что Боскозель обнажил меч и хочет броситься на графа, приказала ему отступить. Джэмс Стюарт, скрестив руки на груди, молча присутствовал при этой сцене.
— Милорд, — заговорила королева дрожащим голосом, — ваш отец — изменник, и если я до сих пор щажу его, то только потому, что в его жилах течет кровь Стюартов. Вы же идете далее него: вы посягаете на мою честь и, как трусливый негодяй, позорите женщину! Молчите! Ваш голос противен мне, вы недостойны даже наказания, вы просто вызываете жалость, как человек, лишенный здравого ума.
— Ваше величество, — ответил граф, — разве позорно, что я люблю вас и что эта любовь довела меня до безумия и я готов служить вам против собственного отца? Скажите, что я достоин сожаления за то, что люблю любовницу француза.
Боскозель больше не мог сдерживаться, он бросился на графа Аррана и готов был задушить его собственными руками. Но в этот момент тот выхватил кинжал и ударил его. Королева громко вскрикнула и лишилась чувств.
Безумца связали и увели. Когда же королева очнулась от своего обморока и увидала окровавленного Боскозеля, она невольно воскликнула:
— Боскозель, вы ранены?
— Рана незначительна, — ответил француз, сияя от торжества.
— Уйдем отсюда! Мария, подумайте о своей чести! — строго произнес лорд Джэмс.
Королева вздрогнула, по выражению лиц присутствующих и ликующему взгляду Боскозеля она поняла, до какой степени забылась. Краснея и бледнея, Мария растерянно протянула руку Джэмсу Стюарту и дрожащим голосом сказала:
— Пойдемте отсюда! Лорд Джэмс, спасите меня от самой себя!
На другой день королева покинула Голируд во главе отряда, но молва о сумасшествии Аррана и о словах королевы: «Боскозель, вы ранены?» — распространилась с быстротою молнии. Шотландцы пожимали плечами и говорили, что она оставила его, чтобы люди поверили в лживость слов графа Аррана, а это лишь укрепило уверенность шотландцев, что француз наверное любовник их королевы.


 Роберт Сэррей, вернувшись в Англию, расстался с Дэдлеем и отправился в свои родовые поместья, возвращенные ему милостью Елизаветы после отмены закона об изгнанниках. Перед отъездом в Лондон он не преминул сделать визит леди Бэтси Килдар, и хотя ему тяжело было вызывать печальные воспоминания, однако вид этой почтенной особы, все еще сокрушавшейся о казни его брата Генри, укрепил его в намерении держаться подальше от двора дочери Генриха VIII. Но уже в первые недели пребывания на лоне природы он почувствовал, что одиночество делается ему невыносимым. Полная приключений жизнь в юности и пестрая смена картин, хотя иногда и весьма печальных, все-таки имели свою прелесть. Соседям по имению Сэррей стал чужд, а спокойная жизнь богатого землевладельца имела мало привлекательного для человека, жившего при парижском дворе. Но еще более, чем к блеску и разнообразию, Роберт стремился к встрече со своими друзьями, Дэдлеем и Вальтером Браем. Конечно, бывали минуты, когда он думал о Марии Сэйтон, но эта первая и единственная любовь его юности была так часто омрачена, что воспоминания о ней были скорей тягостными, чем приятными. Характер Марии Сэйтон никогда не был ясен Роберту, а подозрения слишком часто бросали тень на прекрасный образ, чтобы в его сердце могла сохраниться святость чувств. Однако мысль о Марии все еще, помимо его воли, наполняла его душу страстным томлением, печалью и скорбью. Первая любовь никогда не умирает окончательно в сердце человека.
Однажды, когда Сэррей собирался ехать на охоту, сторож на башне протрубил в рог, возвещая о посетителе. Роберт подошел к окну и увидел блестящий поезд из пажей и оруженосцев, скакавших в гору, по направлению к замку. Впереди всех ехал Дэдлей Варвик. Сэррей стремительно бросился к лестнице, чтобы встретить друга.
— Вели седлать лошадь, — сказал Лейстер, поздоровавшись с Робертом, — ты должен ехать со мной и быть свидетелем замечательно интересной истории!
— Расскажи!
— Прежде всего позволь представиться в новом звании: я — граф Лейстер.
— Поздравляю. Ты, значит, нашел свое счастье при дворе.
— Счастье ли то, что я нашел, это еще вопрос; я пошел по льду, и мне интересно знать, далеко ли я доберусь. Я принес в дар Елизавете свои верноподданнические чувства, но сам дьявол не разберет этой женщины.
— Что же она подарила тебе? Графство Лейстер?
— Это сделала она как королева, а как прекрасная женщина предложила нечто большее, а может быть, и меньшее — это зависит от того, как ты объяснишь это. Я дал понять Елизавете, что люблю ее.
Роберт засмеялся.
— Ты, видно, особенно интересуешься королевами и не так прост, как кажешься!
— Не шути! Елизавета достаточно прекрасна, чтобы увлечь мужчину, и не заслуживает быть взятой в замужество только ради политики.
— О, да, да! Конечно, титул графини Лейстер более подошел бы ей, если бы случайно она уже не была королевой! — пошутил Сэррей.
— Ты смеешься, потому что совсем не знаешь ее и не понимаешь, какую прелесть честолюбие придает любви. Легко победить обыкновенную женщину, но высший триумф — заставить королеву покраснеть и стыдливо потупить глаза.
— И это тебе удалось сделать с Елизаветой?
— Она не рассердилась, а это, при ее гордости, равносильно победе. Теперь, прошу тебя, обсудим мое положение. Королева Елизавета, в доказательство моей привязанности к ней, потребовала принести ей жертву, предложив мою руку другой. Как ты думаешь? Хочет она только испытать меня или, боясь все-таки оказаться слабой, находит нужным поставить преграду своему чувству?
— Быть может, верны оба предположения. Пощади и не заставляй меня разгадывать загадки женского сердца, а лучше расскажи о себе, меня это более всего интересует. Если ты действительно любишь Елизавету, было бы предательством с твоей стороны не сказать об этом той, которая будет носить твое имя. Впрочем, заставить влюбленного в себя жениться на другой — весьма оригинальный прием.
— Менее, чем ты думаешь. Если Елизавета действительно верит в мой успех, то она рассчитывает с моей помощью победить соперницу. Но ты прав, я сам должен уяснить себе, люблю ли я Елизавету или нет, а на это можешь ответить мне именно ты.
— Я? Да ты с ума сошел?
— Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты знаешь, что прекрасные глаза способны зажечь во мне пламя, но знаешь также, что я честолюбив. Как ты думаешь? Может честолюбие заменить мне счастье любви? Сильнее ли оно, чем страсть, которая довольствуется мелкими победами?
— Милый Дэдлей, уже этот вопрос доказывает мне, что в Елизавете ты любишь лишь королеву, а то, что я слышал о ней, не позволяет питать надежду, чтобы когда-либо какой-нибудь мужчина победил в ней женщину и стал для нее более, чем мимолетной прихотью.
— Кто знает! — пробормотал Дэдлей. — Она еще не любила. Я стою на перепутье, которое должно решить участь всей моей жизни. Я — потомок Варвиков, мои предки добыли корону английским королям, служили опорой их престола. Если бы я подозревал, что Елизавета хочет испытать меня и дала мне это поручение в надежде на неудачу, тогда я мог бы требовать удовлетворения у ее сердца.
— Ты еще не назвал мне имени твоей будущей невесты.
— Я должен просить руки Марии Стюарт.
Сэррей уставился на него с удивлением, но вдруг язвительно засмеялся и воскликнул:
— Ах, я понимаю! Елизавета хочет сделать последний шахматный ход, завершить интригу Генриха Восьмого. Супруг несчастной королевы Марии должен обратиться в вассала Англии, в человека, которым Елизавета могла бы всецело управлять.
— Роберт, эта мысль и мне приходила в голову.
— И ты хотел пойти на это дело, обмануть несчастную шотландскую королеву, быть тайным агентом Елизаветы, помогая ей захватить наследство Стюартов?
— Роберт Сэррей, этого подозрения я не заслуживаю. Я сказал тебе, что я стою на распутье. Я не кукла, с которой можно играть. Если я стану супругом Марии Стюарт, я перестану быть вассалом Елизаветы, и она сильно ошибется, думая найти во мне покорного слугу. Но мне кажется, я сам должен посмеяться над этим проектом. Неужели Елизавета могла серьезно думать, что ее давнишний враг — шотландская королева возьмет себе в мужья английского лорда, ее фаворита, и что Шотландия потерпит это? Я думаю, скорей меня посылают, чтобы я был отвергнут, и Елизавета получит повод рассердиться, что не приняли ее совета. Но я не хочу повредить себе в глазах Елизаветы и не хочу выставить себя в смешном виде. Поэтому прошу тебя, поедем со мной! Ты легко разузнаешь, что будут скрывать от меня; ты можешь дать понять Марии Стюарт, что я не способен предать ее, если она на мне остановит свой выбор; ты также вовремя можешь подать мне знак прекратить переговоры, если не будет никакой надежды на успех.
— Я поеду с тобой, — ответил Сэррей после короткой паузы, — уже потому, что должен оказать эту услугу Марии Стюарт. Ради тебя, — продолжал он со смехом, — я не сделал бы этого, так как опасно быть советчиком человека, еще колеблющегося, которую из королев он может осчастливить своей рукой и сердцем… Но где же Вальтер Брай? Неужели он знал о твоей поездке и все-таки не поехал с тобой? Неужели Филли все еще не разыскана?
Лейстер рассказал о случившемся несчастье с Вальтером, что он еще лежит больной, но обещал приехать в Эдинбург, чтобы там навести справки о Филли, если в Лондоне ничего нельзя будет узнать.
Роберт Сэррей, вернувшись в Англию, расстался с Дэдлеем и отправился в свои родовые поместья, возвращенные ему милостью Елизаветы после отмены закона об изгнанниках. Перед отъездом в Лондон он не преминул сделать визит леди Бэтси Килдар, и хотя ему тяжело было вызывать печальные воспоминания, однако вид этой почтенной особы, все еще сокрушавшейся о казни его брата Генри, укрепил его в намерении держаться подальше от двора дочери Генриха VIII. Но уже в первые недели пребывания на лоне природы он почувствовал, что одиночество делается ему невыносимым. Полная приключений жизнь в юности и пестрая смена картин, хотя иногда и весьма печальных, все-таки имели свою прелесть. Соседям по имению Сэррей стал чужд, а спокойная жизнь богатого землевладельца имела мало привлекательного для человека, жившего при парижском дворе. Но еще более, чем к блеску и разнообразию, Роберт стремился к встрече со своими друзьями, Дэдлеем и Вальтером Браем. Конечно, бывали минуты, когда он думал о Марии Сэйтон, но эта первая и единственная любовь его юности была так часто омрачена, что воспоминания о ней были скорей тягостными, чем приятными. Характер Марии Сэйтон никогда не был ясен Роберту, а подозрения слишком часто бросали тень на прекрасный образ, чтобы в его сердце могла сохраниться святость чувств. Однако мысль о Марии все еще, помимо его воли, наполняла его душу страстным томлением, печалью и скорбью. Первая любовь никогда не умирает окончательно в сердце человека.
Однажды, когда Сэррей собирался ехать на охоту, сторож на башне протрубил в рог, возвещая о посетителе. Роберт подошел к окну и увидел блестящий поезд из пажей и оруженосцев, скакавших в гору, по направлению к замку. Впереди всех ехал Дэдлей Варвик. Сэррей стремительно бросился к лестнице, чтобы встретить друга.
— Вели седлать лошадь, — сказал Лейстер, поздоровавшись с Робертом, — ты должен ехать со мной и быть свидетелем замечательно интересной истории!
— Расскажи!
— Прежде всего позволь представиться в новом звании: я — граф Лейстер.
— Поздравляю. Ты, значит, нашел свое счастье при дворе.
— Счастье ли то, что я нашел, это еще вопрос; я пошел по льду, и мне интересно знать, далеко ли я доберусь. Я принес в дар Елизавете свои верноподданнические чувства, но сам дьявол не разберет этой женщины.
— Что же она подарила тебе? Графство Лейстер?
— Это сделала она как королева, а как прекрасная женщина предложила нечто большее, а может быть, и меньшее — это зависит от того, как ты объяснишь это. Я дал понять Елизавете, что люблю ее.
Роберт засмеялся.
— Ты, видно, особенно интересуешься королевами и не так прост, как кажешься!
— Не шути! Елизавета достаточно прекрасна, чтобы увлечь мужчину, и не заслуживает быть взятой в замужество только ради политики.
— О, да, да! Конечно, титул графини Лейстер более подошел бы ей, если бы случайно она уже не была королевой! — пошутил Сэррей.
— Ты смеешься, потому что совсем не знаешь ее и не понимаешь, какую прелесть честолюбие придает любви. Легко победить обыкновенную женщину, но высший триумф — заставить королеву покраснеть и стыдливо потупить глаза.
— И это тебе удалось сделать с Елизаветой?
— Она не рассердилась, а это, при ее гордости, равносильно победе. Теперь, прошу тебя, обсудим мое положение. Королева Елизавета, в доказательство моей привязанности к ней, потребовала принести ей жертву, предложив мою руку другой. Как ты думаешь? Хочет она только испытать меня или, боясь все-таки оказаться слабой, находит нужным поставить преграду своему чувству?
— Быть может, верны оба предположения. Пощади и не заставляй меня разгадывать загадки женского сердца, а лучше расскажи о себе, меня это более всего интересует. Если ты действительно любишь Елизавету, было бы предательством с твоей стороны не сказать об этом той, которая будет носить твое имя. Впрочем, заставить влюбленного в себя жениться на другой — весьма оригинальный прием.
— Менее, чем ты думаешь. Если Елизавета действительно верит в мой успех, то она рассчитывает с моей помощью победить соперницу. Но ты прав, я сам должен уяснить себе, люблю ли я Елизавету или нет, а на это можешь ответить мне именно ты.
— Я? Да ты с ума сошел?
— Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты знаешь, что прекрасные глаза способны зажечь во мне пламя, но знаешь также, что я честолюбив. Как ты думаешь? Может честолюбие заменить мне счастье любви? Сильнее ли оно, чем страсть, которая довольствуется мелкими победами?
— Милый Дэдлей, уже этот вопрос доказывает мне, что в Елизавете ты любишь лишь королеву, а то, что я слышал о ней, не позволяет питать надежду, чтобы когда-либо какой-нибудь мужчина победил в ней женщину и стал для нее более, чем мимолетной прихотью.
— Кто знает! — пробормотал Дэдлей. — Она еще не любила. Я стою на перепутье, которое должно решить участь всей моей жизни. Я — потомок Варвиков, мои предки добыли корону английским королям, служили опорой их престола. Если бы я подозревал, что Елизавета хочет испытать меня и дала мне это поручение в надежде на неудачу, тогда я мог бы требовать удовлетворения у ее сердца.
— Ты еще не назвал мне имени твоей будущей невесты.
— Я должен просить руки Марии Стюарт.
Сэррей уставился на него с удивлением, но вдруг язвительно засмеялся и воскликнул:
— Ах, я понимаю! Елизавета хочет сделать последний шахматный ход, завершить интригу Генриха Восьмого. Супруг несчастной королевы Марии должен обратиться в вассала Англии, в человека, которым Елизавета могла бы всецело управлять.
— Роберт, эта мысль и мне приходила в голову.
— И ты хотел пойти на это дело, обмануть несчастную шотландскую королеву, быть тайным агентом Елизаветы, помогая ей захватить наследство Стюартов?
— Роберт Сэррей, этого подозрения я не заслуживаю. Я сказал тебе, что я стою на распутье. Я не кукла, с которой можно играть. Если я стану супругом Марии Стюарт, я перестану быть вассалом Елизаветы, и она сильно ошибется, думая найти во мне покорного слугу. Но мне кажется, я сам должен посмеяться над этим проектом. Неужели Елизавета могла серьезно думать, что ее давнишний враг — шотландская королева возьмет себе в мужья английского лорда, ее фаворита, и что Шотландия потерпит это? Я думаю, скорей меня посылают, чтобы я был отвергнут, и Елизавета получит повод рассердиться, что не приняли ее совета. Но я не хочу повредить себе в глазах Елизаветы и не хочу выставить себя в смешном виде. Поэтому прошу тебя, поедем со мной! Ты легко разузнаешь, что будут скрывать от меня; ты можешь дать понять Марии Стюарт, что я не способен предать ее, если она на мне остановит свой выбор; ты также вовремя можешь подать мне знак прекратить переговоры, если не будет никакой надежды на успех.
— Я поеду с тобой, — ответил Сэррей после короткой паузы, — уже потому, что должен оказать эту услугу Марии Стюарт. Ради тебя, — продолжал он со смехом, — я не сделал бы этого, так как опасно быть советчиком человека, еще колеблющегося, которую из королев он может осчастливить своей рукой и сердцем… Но где же Вальтер Брай? Неужели он знал о твоей поездке и все-таки не поехал с тобой? Неужели Филли все еще не разыскана?
Лейстер рассказал о случившемся несчастье с Вальтером, что он еще лежит больной, но обещал приехать в Эдинбург, чтобы там навести справки о Филли, если в Лондоне ничего нельзя будет узнать.


 Во время разговора между Сэрреем и королевой у Марии Сэйтон было достаточно времени для того, чтобы оправиться от растерянности, вызванной неожиданным появлением Роберта.
Какие чувства пылали в ее груди, когда она увидела в полном расцвете красоты того человека, которого она так горячо любила, когда он был еще юношей!
По-видимому, Роберт Сэррей не был счастлив. Мария Сэйтон видела это по его серьезному лицу и грустным глазам. Она догадывалась, что именно заставило Роберта покинуть Эдинбург и в одиночестве скакать по полям и лесам.
«Неужели в его сердце еще сохранился мой образ? Неужели память о прошлом заставила его вернуться в эти места?» — думала Мария Сэйтон, и сладкая надежда зашевелилась в ее сердце.
Она видела, что королева о чем-то шепталась с Сэрреем, заметила его смущение. Мария Стюарт знала тайну сердца своей фрейлины, не говорила ли она теперь о ней? Неужели увядшему цветку ее любви суждено раскрыться вновь? Если бы в часы одиночества она сама задалась вопросом, продолжает ли она любить Сэррея, то с полной искренностью ответила бы «нет». Но довольно было увидеть его, услышать его голос — и давнее чувство воскресло вновь.
Сердце Марии Сэйтон сильно билось, глаза сияли, а лицо горело ярким румянцем, когда Роберт медленно подъезжал к ней. Его взгляд скользил по всей кавалькаде. Он мельком глянул на Марию Сэйтон и обратил внимание на графа Мюррея, который, не отрываясь, смотрел на человека, удостоившегося длинной беседы с королевой. Лорд Мюррей старался по выражению лица Роберта угадать результат разговора.
— Добро пожаловать, милорд Сэррей! — обратился лорд Джэмс к Роберту, когда тот подъехал к нему поближе. — Поздравляю вас с прекрасной мыслью захватить королеву врасплох и не дать ей таким образом возможности отвергнуть вашу просьбу. Надеюсь, что вы довольны результатом своего разговора и пошлете графу Лейстеру приятную весть, что его ожидают в Сент-Эндрю?
Сэррей почувствовал насмешку в словах Мюррея.
— Я по многим причинам не могу принять ваше поздравление, милорд, — ответил он. — Во-первых, я не искал встречи с королевой, во-вторых, никогда не вмешиваюсь в политические дела, и, в-третьих, граф Лейстер слишком горд для того, чтобы прибегать к помощи третьего лица, тем более, что его надежды связаны с желанием английской королевы.
— Вы говорите, что не вмешиваетесь в политику, — иронически заметил лорд Мюррей, — а между тем сопровождаете английских послов?
— Милорд, вы, кажется, сомневаетесь в том, что сказано совершенно ясно! — резко ответил Роберт.
— Прошу извинения! — проговорил Мюррей, точно снисходя к капризу своенравного мальчика.
— Я принимаю ваше извинение, — гордо сказал Сэррей, — и очень рад, что мне не приходится сомневаться в вежливости первого лорда Шотландии.
Затем Роберт обернулся к Марии Сэйтон.
Он словно не заметил, что Мюррей в порыве злости пробормотал какое-то проклятие в его адрес.
— Леди Сэйтон, — обратился Сэррей к вспыхнувшей девушке, — королева разрешила мне выразить вам свое почтение. Она знает, что старые воспоминания, связывающие меня с королевой Шотландии, так дороги для меня, что я имею право приблизиться к ее двору без всякого политического предлога. Может быть, с моей стороны не будет слишком большой смелостью надеяться, что и вы признаете во мне преданного слугу королевы.
— Я очень рада, милорд, что вы даете мне возможность в первую же минуту нашей встречи загладить свою ошибку, — в глубоком смущении ответила Мария Сэйтон. — Во всех случаях, когда я выражала сомнение в вашей привязанности к королеве, мне приходилось краснеть за это. Вы своей преданностью неоднократно доказали, как я была неправа по отношению к вам. Я недавно лишь узнала, что мой брат своим поведением довел вас до дуэли, и прошу извинения, что осмеливалась упрекать вас с его же слов. Поэтому мне доставило особенное удовольствие, что вы согласились воспользоваться его гостеприимством.
В прежнее время несколько приветливых слов Марии Сэйтон наполнили бы душу Роберта блаженством, теперь же извинение гордой девушки и в особенности напоминание о гостеприимстве произвели на него неприятное впечатление.
— Вы ошибаетесь, леди Сэйтон, — холодно возразил Сэррей, — это не я, а граф Лейстер, случайно встретившись с лордом Сэйтоном, принял его приглашение для себя лично и своих спутников. Я никогда не ожидал и не рассчитывал быть дружески принятым кем-нибудь из членов вашей семьи, тем более, когда я узнал, до какой степени мне не доверяют в ней. Ваш брат, приняв нас, исполнил долг вежливости, и это делает ему честь, но он поставил очень определенные границы своему гостеприимству, настолько определенные, что ваша сестра совершенно игнорировала его гостей.
— Ах, теперь я понимаю, в чем дело! — сказала Мария, слегка краснея, — так вот почему у вас был такой холодно-сдержанный вид, делавший вас вовсе не похожим на прежнего пажа из Инч-Магома! Вас обидело, что Георг так встретил вас. Но вы не правы, если обвиняете в этом меня. Георг совершенно не знает иностранцев и особенно не любит англичан, вот и вся разгадка его поведения. Ну, а теперь постараемся понять друг друга, милорд, ведь мы не желаем серьезно ссориться и уже довольно много времени потратили на взаимные обвинения. Я первая протягиваю вам руку примирения. Королева нуждается в преданных друзьях более, чем когда бы то ни было, а я охотнее всего доверяю тем, кто уже успел доказать Марии Стюарт свою преданность. Вместо постоянных пикировок сделаемся честными союзниками для защиты королевы от козней недругов, будь они в лице лорда Мюррея или королевы английской.
Мария Сэйтон проговорила последние слова шепотом, но так горячо, что напомнила Роберту те дни, когда она была его идеалом.
— Чем же я могу теперь быть полезным королеве? Раньше ей грозила серьезная опасность, и тогда я мог каким-нибудь смелым поступком доказать ей свою преданность. Теперь единственная неприятность, ожидающая королеву, — это заключение брака без любви. Такого рода жертвы неизбежны для высочайших особ, и против этого мы бессильны.
— Шотландская королева не принесет в жертву политическим целям личную свободу. Она никогда не заключит брак лишь в интересах политики. Она колеблется в выборе только для того, чтобы выиграть время. Мария Стюарт также отвергнет претендента английской королевы, как это сделала с другими. Само собой разумеется, что королева Елизавета никогда не простит ей этого. Лорд Мюррей тоже станет заклятым врагом Марии Стюарт, если она выйдет замуж за какого-нибудь шотландского лорда.
— Этого не может быть! Ведь лорд Мюррей — брат Марии Стюарт! — заметил Роберт.
— Это не помешает ему сделаться еще более опасным врагом для шотландской королевы, чем граф Арран был для Марии Лотарингской, — возразила Мария Сэйтон.
— Народ сумеет защитить свою королеву от мятежников!
— Народ? — переспросила Мария Сэйтон с горькой улыбкой. — Народ ненавидит королеву за то, что она не разделяет его веры и не подчиняется обычаям страны. Поверьте мне, бедная королева беззаботно танцует на вулкане, забывая, что он каждую минуту может проснуться. Если у нее имеются друзья, то только те, которых она приобрела раньше.
— Или которых покорила теперь своей красотой, — смеясь, прибавил Роберт, глядя на оживленное лицо Дарнлея, говорившего с королевой.
Кавалькада подъехала к воротам замка Сент-Эндрю, и разговор графа Сэррея с леди Сэйтон прервался.
Во время разговора между Сэрреем и королевой у Марии Сэйтон было достаточно времени для того, чтобы оправиться от растерянности, вызванной неожиданным появлением Роберта.
Какие чувства пылали в ее груди, когда она увидела в полном расцвете красоты того человека, которого она так горячо любила, когда он был еще юношей!
По-видимому, Роберт Сэррей не был счастлив. Мария Сэйтон видела это по его серьезному лицу и грустным глазам. Она догадывалась, что именно заставило Роберта покинуть Эдинбург и в одиночестве скакать по полям и лесам.
«Неужели в его сердце еще сохранился мой образ? Неужели память о прошлом заставила его вернуться в эти места?» — думала Мария Сэйтон, и сладкая надежда зашевелилась в ее сердце.
Она видела, что королева о чем-то шепталась с Сэрреем, заметила его смущение. Мария Стюарт знала тайну сердца своей фрейлины, не говорила ли она теперь о ней? Неужели увядшему цветку ее любви суждено раскрыться вновь? Если бы в часы одиночества она сама задалась вопросом, продолжает ли она любить Сэррея, то с полной искренностью ответила бы «нет». Но довольно было увидеть его, услышать его голос — и давнее чувство воскресло вновь.
Сердце Марии Сэйтон сильно билось, глаза сияли, а лицо горело ярким румянцем, когда Роберт медленно подъезжал к ней. Его взгляд скользил по всей кавалькаде. Он мельком глянул на Марию Сэйтон и обратил внимание на графа Мюррея, который, не отрываясь, смотрел на человека, удостоившегося длинной беседы с королевой. Лорд Мюррей старался по выражению лица Роберта угадать результат разговора.
— Добро пожаловать, милорд Сэррей! — обратился лорд Джэмс к Роберту, когда тот подъехал к нему поближе. — Поздравляю вас с прекрасной мыслью захватить королеву врасплох и не дать ей таким образом возможности отвергнуть вашу просьбу. Надеюсь, что вы довольны результатом своего разговора и пошлете графу Лейстеру приятную весть, что его ожидают в Сент-Эндрю?
Сэррей почувствовал насмешку в словах Мюррея.
— Я по многим причинам не могу принять ваше поздравление, милорд, — ответил он. — Во-первых, я не искал встречи с королевой, во-вторых, никогда не вмешиваюсь в политические дела, и, в-третьих, граф Лейстер слишком горд для того, чтобы прибегать к помощи третьего лица, тем более, что его надежды связаны с желанием английской королевы.
— Вы говорите, что не вмешиваетесь в политику, — иронически заметил лорд Мюррей, — а между тем сопровождаете английских послов?
— Милорд, вы, кажется, сомневаетесь в том, что сказано совершенно ясно! — резко ответил Роберт.
— Прошу извинения! — проговорил Мюррей, точно снисходя к капризу своенравного мальчика.
— Я принимаю ваше извинение, — гордо сказал Сэррей, — и очень рад, что мне не приходится сомневаться в вежливости первого лорда Шотландии.
Затем Роберт обернулся к Марии Сэйтон.
Он словно не заметил, что Мюррей в порыве злости пробормотал какое-то проклятие в его адрес.
— Леди Сэйтон, — обратился Сэррей к вспыхнувшей девушке, — королева разрешила мне выразить вам свое почтение. Она знает, что старые воспоминания, связывающие меня с королевой Шотландии, так дороги для меня, что я имею право приблизиться к ее двору без всякого политического предлога. Может быть, с моей стороны не будет слишком большой смелостью надеяться, что и вы признаете во мне преданного слугу королевы.
— Я очень рада, милорд, что вы даете мне возможность в первую же минуту нашей встречи загладить свою ошибку, — в глубоком смущении ответила Мария Сэйтон. — Во всех случаях, когда я выражала сомнение в вашей привязанности к королеве, мне приходилось краснеть за это. Вы своей преданностью неоднократно доказали, как я была неправа по отношению к вам. Я недавно лишь узнала, что мой брат своим поведением довел вас до дуэли, и прошу извинения, что осмеливалась упрекать вас с его же слов. Поэтому мне доставило особенное удовольствие, что вы согласились воспользоваться его гостеприимством.
В прежнее время несколько приветливых слов Марии Сэйтон наполнили бы душу Роберта блаженством, теперь же извинение гордой девушки и в особенности напоминание о гостеприимстве произвели на него неприятное впечатление.
— Вы ошибаетесь, леди Сэйтон, — холодно возразил Сэррей, — это не я, а граф Лейстер, случайно встретившись с лордом Сэйтоном, принял его приглашение для себя лично и своих спутников. Я никогда не ожидал и не рассчитывал быть дружески принятым кем-нибудь из членов вашей семьи, тем более, когда я узнал, до какой степени мне не доверяют в ней. Ваш брат, приняв нас, исполнил долг вежливости, и это делает ему честь, но он поставил очень определенные границы своему гостеприимству, настолько определенные, что ваша сестра совершенно игнорировала его гостей.
— Ах, теперь я понимаю, в чем дело! — сказала Мария, слегка краснея, — так вот почему у вас был такой холодно-сдержанный вид, делавший вас вовсе не похожим на прежнего пажа из Инч-Магома! Вас обидело, что Георг так встретил вас. Но вы не правы, если обвиняете в этом меня. Георг совершенно не знает иностранцев и особенно не любит англичан, вот и вся разгадка его поведения. Ну, а теперь постараемся понять друг друга, милорд, ведь мы не желаем серьезно ссориться и уже довольно много времени потратили на взаимные обвинения. Я первая протягиваю вам руку примирения. Королева нуждается в преданных друзьях более, чем когда бы то ни было, а я охотнее всего доверяю тем, кто уже успел доказать Марии Стюарт свою преданность. Вместо постоянных пикировок сделаемся честными союзниками для защиты королевы от козней недругов, будь они в лице лорда Мюррея или королевы английской.
Мария Сэйтон проговорила последние слова шепотом, но так горячо, что напомнила Роберту те дни, когда она была его идеалом.
— Чем же я могу теперь быть полезным королеве? Раньше ей грозила серьезная опасность, и тогда я мог каким-нибудь смелым поступком доказать ей свою преданность. Теперь единственная неприятность, ожидающая королеву, — это заключение брака без любви. Такого рода жертвы неизбежны для высочайших особ, и против этого мы бессильны.
— Шотландская королева не принесет в жертву политическим целям личную свободу. Она никогда не заключит брак лишь в интересах политики. Она колеблется в выборе только для того, чтобы выиграть время. Мария Стюарт также отвергнет претендента английской королевы, как это сделала с другими. Само собой разумеется, что королева Елизавета никогда не простит ей этого. Лорд Мюррей тоже станет заклятым врагом Марии Стюарт, если она выйдет замуж за какого-нибудь шотландского лорда.
— Этого не может быть! Ведь лорд Мюррей — брат Марии Стюарт! — заметил Роберт.
— Это не помешает ему сделаться еще более опасным врагом для шотландской королевы, чем граф Арран был для Марии Лотарингской, — возразила Мария Сэйтон.
— Народ сумеет защитить свою королеву от мятежников!
— Народ? — переспросила Мария Сэйтон с горькой улыбкой. — Народ ненавидит королеву за то, что она не разделяет его веры и не подчиняется обычаям страны. Поверьте мне, бедная королева беззаботно танцует на вулкане, забывая, что он каждую минуту может проснуться. Если у нее имеются друзья, то только те, которых она приобрела раньше.
— Или которых покорила теперь своей красотой, — смеясь, прибавил Роберт, глядя на оживленное лицо Дарнлея, говорившего с королевой.
Кавалькада подъехала к воротам замка Сент-Эндрю, и разговор графа Сэррея с леди Сэйтон прервался.


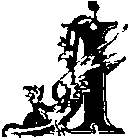 Дэдлей Лейстер был немало поражен, когда узнал от гонца королевы, что его друг Сэррей приглашен в Сент-Эндрю, тогда как его посланника, королевы Елизаветы и претендента на руку Марии Стюарт, оставили в Эдинбурге, словно он являлся лишним, имеющим второстепенное значение человеком. Оскорбленное самолюбие невольно переносило дурные чувства на того, кому было оказано предпочтение, и в душе поднималось подозрение, уж не стремится ли Сэррей сам к той цели, которую Елизавета наметила ему, Дэдлею?
Ему припомнилось предсказание, сделанное когда-то старухой Гут в подземелье, и, под влиянием вдруг родившегося подозрения, первой мыслью Дэдлея было то, что Сэррей только потому и отговаривал его, что являлся его соперником, а значит, подло изменил обязанностям дружбы. И так поступал человек, которого он всегда считал образцом рыцарства, благородству мыслей которого он постоянно дивился! Тайком, предательски крадучись, он старался за спиной друга украсть его добычу, а теперь, быть может, сидел в Сент-Эндрю и рассказывал Марии, как граф Лейстер похвалялся милостями Елизаветы!…
Первым, кому Дэдлей излил свое недовольство, оказался Сэйтон. Он сообщил ему, что его гость вытребован в Сент-Эндрю к королеве, причем даже не счел нужным известить об этом их, на которых он, вероятно, уже смотрит, как на своих подданных.
— Посмотрим, — горько рассмеялся Сэйтон, — придется ли шотландская корона на английский череп, но до тех пор, пока на свете существуют Сэйтоны, голове, рискнувшей на подобную примерку, недолго удастся покрасоваться на плечах.
— У вас,конечно, имеется двойная причина ненавидеть Сэррея, — с горькой усмешкой сказал Лейстер. — Он хвастался расположением вашей сестры, а теперь собирается прыгнуть выше герба Сэйтонов.
При этих словах лицо Георга исказилось бешенством.
— Клянусь святым Андреевским крестом, — мрачно пробормотал он, — если вы лжете, я вырву у вас язык и прибью его к воротам, хотя мы и пили с вами из одного кубка. Если же вы говорите правду, то пусть я издохну, как собака, если не запорю Сэррея плеткой до смерти.
Лейстер закусил губу, он понял, что зашел слишком далеко, и, пристыженный, но вместе с тем и рассерженный этими словами, схватился за шпагу.
— Милорд Сэйтон, — сказал он, — если бы я не видел, что ваши слова вызваны просто слепой яростью, то доказал бы вам, что англичанин отвечает оружием на угрозы. Но вы совершенно неправильно поняли меня. Роберт Сэррей никогда не произнес чего-либо оскорбительного для чести вашей сестры, ведь расположением благородной дамы всегда позволительно хвастаться, особенно когда являешься не кем-либо, а Сэрреем. И оскорбление имело бы место только с того момента, когда Сэррей изменил бы предмету своего обожания.
Сэйтон был вдвойне недоволен этим ответом.
— Милорд, — сказал он, — не годится играть с порохом, у меня в жилах течет слишком горячая кровь, чтобы я мог вступить в переговоры о том, задевает или не задевает что-либо чести Сэйтонов. Будьте добры уважать мое гостеприимство и не говорить о таких вещах, рассуждать о которых я могу, только имея в руке меч или секиру. Для моей сестры, может быть, совершенно безразлично, состоит или нет в числе ее поклонников какой-нибудь лорд Сэррей, но я считаю оскорблением, если мне говорят, будто кто- нибудь из англичан может похвастаться, что леди Сэйтон забыла видеть в нем врага своей родины.
С этими словами Сэйтон поклонился и вышел. Дэдлей с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед, но сквозь это презрение явно проглядывали стыд и ненависть бессильной злобы. Он готов был побить себя самого за то, что вызвал эту сцену и окончил ее, не вызвав Сэйтона на поединок, но чувствовал, что для этого у него не хватило бы мужества.
В таком настроении, которое с каждым днем становилось все невыносимее, его застал Сэррей. Неожиданно увидев друга, Дэдлей еще более смутился и забеспокоился, он смущенно пошел к нему навстречу.
— А! — улыбался Сэррей. — Ты уже чувствуешь, что я пришел с добрыми вестями! Ты, конечно, рассчитывал на то, что я как твой друг подготовлю почву для исполнения твоих честолюбивых замыслов!
Дэдлей все более и более приходил в замешательство. Он даже и не догадывался, что испытующий взгляд друга с беспокойством старался прочитать на его лице, заденет ли тот маленький обман, который он приготовил для него, только его честолюбие, или также и сердце?
— Помнишь, Дэдлей, — продолжал Сэррей, — как еще в моем доме я спрашивал тебя, одобряет ли твое сердце те планы, которые замыслило твое честолюбие? Настал час решения. Загляни еще раз в свое сердце. Женщина, подобная Марии Стюарт, хочет быть завоеванной, а ее любовь должна быть заслуженной. Если в твоей душе горят одни только честолюбивые замыслы, то ты спокойнее можешь отнестись к решению, но если в дело замешано твое сердце, то когда-нибудь потом ты, может быть, станешь с большей горечью оплакивать победу, чем теперь — отказ!
— К чему такое торжественное предисловие? — спросил Лейстер. — Ты знаешь, что у меня любовь и честолюбие горят общим пламенем. Может быть, ты собираешься сделать мне какое-нибудь особенное признание? Быть может, прекрасные очи Марии растопили ледяную кору вокруг твоего сердца и ты собираешься принести великую жертву дружбе, отказавшись от своей страсти, если я признаюсь тебе в своей любви к ней?
— Что ты говоришь! Ты воображаешь, что я стал твоим соперником? Нет, будь уверен, что если бы даже Мария Шотландская была той женщиной, которую я мог бы любить, то корона на ее голове заставила бы для меня потускнеть блеск ее очей. Я спрашиваю тебя совсем по другим причинам. Мария относится к тебе подозрительно потому, что тебя рекомендует Елизавета. От того, кого Мария выберет себе в супруги, она требует прежде всего любви, о тебе же ей известно, что ты — фаворит Елизаветы, что в Париже ты одерживал немало побед; она знает даже то, что я до сих пор скрывал от тебя, хотя теперь мне и придется открыть тебе это… Помнишь нашего пажа?
— Конечно! Разве ты опять нашел Филли?
— Да, я нашел ее. Филли — девушка.
— Девушка?!
— Да. Она сейчас находится на службе у королевы. Филли из-за тебя стала несчастной: она навлекла на себя ненависть Екатерины и подверглась пытке. Это она спасла тебя, когда ты лежал в объятиях Фаншон.
— Это я знаю, и если я могу сделать что-нибудь, чтобы отплатить ей за услугу, то сделаю это с радостью.
— Дэдлей! Эта бедная девушка уже тогда любила тебя! Быть может, ты презрительно улыбаешься про себя, как это уродливое ведьмино отродье осмелилось поднять на тебя влюбленные глаза. Но это ведьмино отродье рисковало жизнью. Филли чиста и добродетельна, это — благородная, верная душа. Но вот чего ты не знаешь: ее внешность была искусственно искажена, и теперь на ее нежное чело ниспадают шелковистые белокурые волосы, а глаз чарует волшебная стройность ее стана, и она по-прежнему любит тебя. Говорю это тебе в предупреждение. Прибавлю еще, что все в замке думают, что из нас троих для Филли всего милее был я, так как ее преданные уста ни разу не обмолвились ни единым словечком о тебе. Так смотри же, признаваясь королеве в любви, берегись показать ей, что понимаешь истинное значение взглядов Филли! У женщин острое зрение, и если Мария поймет, что среди ее служанок у нее есть соперница, то тебе придется с большим позором покинуть Сент-Эндрю.
— Значит, королева приглашает меня туда?
— Я принес тебе письмо от нее. Но сначала скажу тебе, что Филли священна для меня как дочь лучшего друга.
— Ты просто невыносим со своими опасениями, ты словно завидуешь мне, что я завоевал симпатии этого маленького чертенка.
— Я опасаюсь лишь того, что ты не послушаешься моих предупреждений и повредишь этим только самому себе. Не пытайся опять, как и прежде, пользоваться услугами Филли и с ее помощью узнавать намерения Марии.
— Ах, Боже, как ты надоел мне с этой Филли! — нетерпеливо пробормотал Лейстер. — Где письмо королевы?
Сэррей передал приятелю письмо, и тот с нетерпением вскрыл его; но едва успел пробежать глазами послание, как его лицо осветилось торжеством.
— Она хочет видеть меня, хочет лично переговорить со мной, а потом уже решить. Теперь жребий брошен, и моя участь решена! — возликовал Дэдлей. — Да стоит мне протянуть женщине хотя бы кончики своих пальцев, и она погибнет. Но я не хочу обмануть доверие Марии; она будет королевой моего сердца, а во главе ее войск я укажу Англии шотландскую границу. Сэррей, я буду королем и назову своим лучший цветок всего мира.
— Не торжествуй так преждевременно! — остановил его Сэррей с печальной улыбкой, потому что знал, как горько придется Лейстеру разочароваться в своих надеждах. — Одновременно с тобой руки Марии добивается также лорд Дарнлей. Она только сообщила, что хочет повидаться с тобой.
— Приз, который получаешь после трудной борьбы, особенно ценен! Роберт, неужели ты не веришь, что мне удастся взять верх над каким-то шотландским пьяницей? Клянусь Богом, я был бы способен приписать все это твоей зависти, если бы не видел примеров твоей непоколебимой добродетели. Нечто подобное уже приходило мне в голову, когда ты так неожиданно исчез и я узнал, что ты отправился в Сент-Эндрю. Я говорил относительно этого с Сэйтоном. Прости! Это было неосторожно, но лучше, если ты узнаешь об этом от меня, а не от него! Мне стало не по себе, когда ты ускакал, не простившись, но теперь я уже раскаиваюсь в своей неосторожности. Лорд ответил мне, словно мужик, и мы чуть не обнажили мечи друг против друга…
— Из-за того, что он не хочет, чтобы рука Марии Стюарт досталась англичанину?
— Ну да! Кроме того, он знает, что ты был поклонником его сестры.
Взор Сэррея так и впился в Дэдлея.
— Неужели Сэйтон сказал тебе, что я любил его сестру? Неужели он решился хоть чем-нибудь опорочить имя Роберта Сэррея, и ты в ответ на это промолчал?
— Роберт, — в полном замешательстве ответил Лейстер, — лишь я один виноват, если он взбеленился. Мне очень захотелось намекнуть этому неотесанному парню, что тебе есть что порассказать о его сестре, а он вел себя так, как будто Сэйтон слишком высока для Сэррея.
— Дэдлей! Всю жизнь я считал самой большой подлостью, если мужчина хвастается победами, которые должны быть для него священными. Ты знал, как я боролся со своим чувством, как наконец я справился с ним… И ты открыл мою тайну для издевательства этому высокомерному болвану! Я порываю с тобой! Отныне наши дороги лежат врозь, потому что я уже никогда более не буду доверять тебе, ведь тебе не дорога моя честь.
— Роберт…
— Не будем напрасно оскорблять друг друга. Тайна, которой я тебе не доверял, которую ты мог только отгадать, оказалась для тебя удобным поводом вызвать на ссору человека, надменность которого тебе отлично известна. И ты предал этим не только друга, но и Марию Сэйтон, да и меня самого выставил перед ней в некрасивом виде. Я не упрекаю тебя, так как могу обвинять лишь себя, ведь я уже давно должен был заметить, что натуры, настолько различные, как мы, должны сторониться интимного сближения друг с другом. Скажу тебе откровенно, это мне пришло в голову еще тогда, когда ты легкомысленно говорил о том, кому бы — Елизавете или Марии — подарить свое сердце.
— Это не очень-то приятно! — засмеялся Лейстер, раздраженный тем, что Сэррей не оценил его откровенного признания, и оскорбленный тем, что тот порывал с ним дружбу.
— Милорд Лейстер, — холодно сказал Сэррей, — тот, кто так легко может расставаться с другом, подобно тому, как он легко меняет любовниц, никогда не возвысится до понимания истинной дружбы… Ну, да что говорить!… Шотландская или английская корона скоро заставит милорда Лейстера забыть о тех страницах прошлого, которые связывали его с Робертом Сэрреем.
С этими словами он вышел из комнаты.
Лейстер чувствовал себя так, словно от него отлетал его добрый гений, но оскорбленное самолюбие не позволяло броситься вслед за другом и просить его о прощении.
— Ступай! — пробормотал он. — Ты презираешь меня только потому, что еще не веришь в меня. Но когда мою голову украсит шотландская корона, когда смеющийся взор Марии скажет тебе, что она счастлива, когда в злобном бессилии разразится гнев Елизаветы, тогда я протяну тебе руку и крикну, что не забыл того времени, когда мы с тобой были друзьями. Тогда я покажу своим вассалам человека, которого уважаю больше всех на свете!
Дэдлей Лейстер был немало поражен, когда узнал от гонца королевы, что его друг Сэррей приглашен в Сент-Эндрю, тогда как его посланника, королевы Елизаветы и претендента на руку Марии Стюарт, оставили в Эдинбурге, словно он являлся лишним, имеющим второстепенное значение человеком. Оскорбленное самолюбие невольно переносило дурные чувства на того, кому было оказано предпочтение, и в душе поднималось подозрение, уж не стремится ли Сэррей сам к той цели, которую Елизавета наметила ему, Дэдлею?
Ему припомнилось предсказание, сделанное когда-то старухой Гут в подземелье, и, под влиянием вдруг родившегося подозрения, первой мыслью Дэдлея было то, что Сэррей только потому и отговаривал его, что являлся его соперником, а значит, подло изменил обязанностям дружбы. И так поступал человек, которого он всегда считал образцом рыцарства, благородству мыслей которого он постоянно дивился! Тайком, предательски крадучись, он старался за спиной друга украсть его добычу, а теперь, быть может, сидел в Сент-Эндрю и рассказывал Марии, как граф Лейстер похвалялся милостями Елизаветы!…
Первым, кому Дэдлей излил свое недовольство, оказался Сэйтон. Он сообщил ему, что его гость вытребован в Сент-Эндрю к королеве, причем даже не счел нужным известить об этом их, на которых он, вероятно, уже смотрит, как на своих подданных.
— Посмотрим, — горько рассмеялся Сэйтон, — придется ли шотландская корона на английский череп, но до тех пор, пока на свете существуют Сэйтоны, голове, рискнувшей на подобную примерку, недолго удастся покрасоваться на плечах.
— У вас,конечно, имеется двойная причина ненавидеть Сэррея, — с горькой усмешкой сказал Лейстер. — Он хвастался расположением вашей сестры, а теперь собирается прыгнуть выше герба Сэйтонов.
При этих словах лицо Георга исказилось бешенством.
— Клянусь святым Андреевским крестом, — мрачно пробормотал он, — если вы лжете, я вырву у вас язык и прибью его к воротам, хотя мы и пили с вами из одного кубка. Если же вы говорите правду, то пусть я издохну, как собака, если не запорю Сэррея плеткой до смерти.
Лейстер закусил губу, он понял, что зашел слишком далеко, и, пристыженный, но вместе с тем и рассерженный этими словами, схватился за шпагу.
— Милорд Сэйтон, — сказал он, — если бы я не видел, что ваши слова вызваны просто слепой яростью, то доказал бы вам, что англичанин отвечает оружием на угрозы. Но вы совершенно неправильно поняли меня. Роберт Сэррей никогда не произнес чего-либо оскорбительного для чести вашей сестры, ведь расположением благородной дамы всегда позволительно хвастаться, особенно когда являешься не кем-либо, а Сэрреем. И оскорбление имело бы место только с того момента, когда Сэррей изменил бы предмету своего обожания.
Сэйтон был вдвойне недоволен этим ответом.
— Милорд, — сказал он, — не годится играть с порохом, у меня в жилах течет слишком горячая кровь, чтобы я мог вступить в переговоры о том, задевает или не задевает что-либо чести Сэйтонов. Будьте добры уважать мое гостеприимство и не говорить о таких вещах, рассуждать о которых я могу, только имея в руке меч или секиру. Для моей сестры, может быть, совершенно безразлично, состоит или нет в числе ее поклонников какой-нибудь лорд Сэррей, но я считаю оскорблением, если мне говорят, будто кто- нибудь из англичан может похвастаться, что леди Сэйтон забыла видеть в нем врага своей родины.
С этими словами Сэйтон поклонился и вышел. Дэдлей с насмешливой улыбкой посмотрел ему вслед, но сквозь это презрение явно проглядывали стыд и ненависть бессильной злобы. Он готов был побить себя самого за то, что вызвал эту сцену и окончил ее, не вызвав Сэйтона на поединок, но чувствовал, что для этого у него не хватило бы мужества.
В таком настроении, которое с каждым днем становилось все невыносимее, его застал Сэррей. Неожиданно увидев друга, Дэдлей еще более смутился и забеспокоился, он смущенно пошел к нему навстречу.
— А! — улыбался Сэррей. — Ты уже чувствуешь, что я пришел с добрыми вестями! Ты, конечно, рассчитывал на то, что я как твой друг подготовлю почву для исполнения твоих честолюбивых замыслов!
Дэдлей все более и более приходил в замешательство. Он даже и не догадывался, что испытующий взгляд друга с беспокойством старался прочитать на его лице, заденет ли тот маленький обман, который он приготовил для него, только его честолюбие, или также и сердце?
— Помнишь, Дэдлей, — продолжал Сэррей, — как еще в моем доме я спрашивал тебя, одобряет ли твое сердце те планы, которые замыслило твое честолюбие? Настал час решения. Загляни еще раз в свое сердце. Женщина, подобная Марии Стюарт, хочет быть завоеванной, а ее любовь должна быть заслуженной. Если в твоей душе горят одни только честолюбивые замыслы, то ты спокойнее можешь отнестись к решению, но если в дело замешано твое сердце, то когда-нибудь потом ты, может быть, станешь с большей горечью оплакивать победу, чем теперь — отказ!
— К чему такое торжественное предисловие? — спросил Лейстер. — Ты знаешь, что у меня любовь и честолюбие горят общим пламенем. Может быть, ты собираешься сделать мне какое-нибудь особенное признание? Быть может, прекрасные очи Марии растопили ледяную кору вокруг твоего сердца и ты собираешься принести великую жертву дружбе, отказавшись от своей страсти, если я признаюсь тебе в своей любви к ней?
— Что ты говоришь! Ты воображаешь, что я стал твоим соперником? Нет, будь уверен, что если бы даже Мария Шотландская была той женщиной, которую я мог бы любить, то корона на ее голове заставила бы для меня потускнеть блеск ее очей. Я спрашиваю тебя совсем по другим причинам. Мария относится к тебе подозрительно потому, что тебя рекомендует Елизавета. От того, кого Мария выберет себе в супруги, она требует прежде всего любви, о тебе же ей известно, что ты — фаворит Елизаветы, что в Париже ты одерживал немало побед; она знает даже то, что я до сих пор скрывал от тебя, хотя теперь мне и придется открыть тебе это… Помнишь нашего пажа?
— Конечно! Разве ты опять нашел Филли?
— Да, я нашел ее. Филли — девушка.
— Девушка?!
— Да. Она сейчас находится на службе у королевы. Филли из-за тебя стала несчастной: она навлекла на себя ненависть Екатерины и подверглась пытке. Это она спасла тебя, когда ты лежал в объятиях Фаншон.
— Это я знаю, и если я могу сделать что-нибудь, чтобы отплатить ей за услугу, то сделаю это с радостью.
— Дэдлей! Эта бедная девушка уже тогда любила тебя! Быть может, ты презрительно улыбаешься про себя, как это уродливое ведьмино отродье осмелилось поднять на тебя влюбленные глаза. Но это ведьмино отродье рисковало жизнью. Филли чиста и добродетельна, это — благородная, верная душа. Но вот чего ты не знаешь: ее внешность была искусственно искажена, и теперь на ее нежное чело ниспадают шелковистые белокурые волосы, а глаз чарует волшебная стройность ее стана, и она по-прежнему любит тебя. Говорю это тебе в предупреждение. Прибавлю еще, что все в замке думают, что из нас троих для Филли всего милее был я, так как ее преданные уста ни разу не обмолвились ни единым словечком о тебе. Так смотри же, признаваясь королеве в любви, берегись показать ей, что понимаешь истинное значение взглядов Филли! У женщин острое зрение, и если Мария поймет, что среди ее служанок у нее есть соперница, то тебе придется с большим позором покинуть Сент-Эндрю.
— Значит, королева приглашает меня туда?
— Я принес тебе письмо от нее. Но сначала скажу тебе, что Филли священна для меня как дочь лучшего друга.
— Ты просто невыносим со своими опасениями, ты словно завидуешь мне, что я завоевал симпатии этого маленького чертенка.
— Я опасаюсь лишь того, что ты не послушаешься моих предупреждений и повредишь этим только самому себе. Не пытайся опять, как и прежде, пользоваться услугами Филли и с ее помощью узнавать намерения Марии.
— Ах, Боже, как ты надоел мне с этой Филли! — нетерпеливо пробормотал Лейстер. — Где письмо королевы?
Сэррей передал приятелю письмо, и тот с нетерпением вскрыл его; но едва успел пробежать глазами послание, как его лицо осветилось торжеством.
— Она хочет видеть меня, хочет лично переговорить со мной, а потом уже решить. Теперь жребий брошен, и моя участь решена! — возликовал Дэдлей. — Да стоит мне протянуть женщине хотя бы кончики своих пальцев, и она погибнет. Но я не хочу обмануть доверие Марии; она будет королевой моего сердца, а во главе ее войск я укажу Англии шотландскую границу. Сэррей, я буду королем и назову своим лучший цветок всего мира.
— Не торжествуй так преждевременно! — остановил его Сэррей с печальной улыбкой, потому что знал, как горько придется Лейстеру разочароваться в своих надеждах. — Одновременно с тобой руки Марии добивается также лорд Дарнлей. Она только сообщила, что хочет повидаться с тобой.
— Приз, который получаешь после трудной борьбы, особенно ценен! Роберт, неужели ты не веришь, что мне удастся взять верх над каким-то шотландским пьяницей? Клянусь Богом, я был бы способен приписать все это твоей зависти, если бы не видел примеров твоей непоколебимой добродетели. Нечто подобное уже приходило мне в голову, когда ты так неожиданно исчез и я узнал, что ты отправился в Сент-Эндрю. Я говорил относительно этого с Сэйтоном. Прости! Это было неосторожно, но лучше, если ты узнаешь об этом от меня, а не от него! Мне стало не по себе, когда ты ускакал, не простившись, но теперь я уже раскаиваюсь в своей неосторожности. Лорд ответил мне, словно мужик, и мы чуть не обнажили мечи друг против друга…
— Из-за того, что он не хочет, чтобы рука Марии Стюарт досталась англичанину?
— Ну да! Кроме того, он знает, что ты был поклонником его сестры.
Взор Сэррея так и впился в Дэдлея.
— Неужели Сэйтон сказал тебе, что я любил его сестру? Неужели он решился хоть чем-нибудь опорочить имя Роберта Сэррея, и ты в ответ на это промолчал?
— Роберт, — в полном замешательстве ответил Лейстер, — лишь я один виноват, если он взбеленился. Мне очень захотелось намекнуть этому неотесанному парню, что тебе есть что порассказать о его сестре, а он вел себя так, как будто Сэйтон слишком высока для Сэррея.
— Дэдлей! Всю жизнь я считал самой большой подлостью, если мужчина хвастается победами, которые должны быть для него священными. Ты знал, как я боролся со своим чувством, как наконец я справился с ним… И ты открыл мою тайну для издевательства этому высокомерному болвану! Я порываю с тобой! Отныне наши дороги лежат врозь, потому что я уже никогда более не буду доверять тебе, ведь тебе не дорога моя честь.
— Роберт…
— Не будем напрасно оскорблять друг друга. Тайна, которой я тебе не доверял, которую ты мог только отгадать, оказалась для тебя удобным поводом вызвать на ссору человека, надменность которого тебе отлично известна. И ты предал этим не только друга, но и Марию Сэйтон, да и меня самого выставил перед ней в некрасивом виде. Я не упрекаю тебя, так как могу обвинять лишь себя, ведь я уже давно должен был заметить, что натуры, настолько различные, как мы, должны сторониться интимного сближения друг с другом. Скажу тебе откровенно, это мне пришло в голову еще тогда, когда ты легкомысленно говорил о том, кому бы — Елизавете или Марии — подарить свое сердце.
— Это не очень-то приятно! — засмеялся Лейстер, раздраженный тем, что Сэррей не оценил его откровенного признания, и оскорбленный тем, что тот порывал с ним дружбу.
— Милорд Лейстер, — холодно сказал Сэррей, — тот, кто так легко может расставаться с другом, подобно тому, как он легко меняет любовниц, никогда не возвысится до понимания истинной дружбы… Ну, да что говорить!… Шотландская или английская корона скоро заставит милорда Лейстера забыть о тех страницах прошлого, которые связывали его с Робертом Сэрреем.
С этими словами он вышел из комнаты.
Лейстер чувствовал себя так, словно от него отлетал его добрый гений, но оскорбленное самолюбие не позволяло броситься вслед за другом и просить его о прощении.
— Ступай! — пробормотал он. — Ты презираешь меня только потому, что еще не веришь в меня. Но когда мою голову украсит шотландская корона, когда смеющийся взор Марии скажет тебе, что она счастлива, когда в злобном бессилии разразится гнев Елизаветы, тогда я протяну тебе руку и крикну, что не забыл того времени, когда мы с тобой были друзьями. Тогда я покажу своим вассалам человека, которого уважаю больше всех на свете!


 Граф Лейстер стал готовиться к отъезду, как только Сэррей оставил его. Он упивался блаженством при мысли о том, что теперь зависит только от него одного добиться цели своих честолюбивых надежд, и с того момента, когда увидел, что Мария Стюарт может отдать ему руку, не призывая в советники никого другого, кроме своего сердца, он уже чувствовал себя победителем. Ему казалось теперь, что его сердце всегда стремилось к ней, что она — та женщина, на которую намекало пророчество предсказательницы.
Когда он спустился по лестнице, то случайно заглянул в окошко. Зал был полон гостей, в галерее напротив Сэррея стоял Сэйтон, а Джэн с краской стыда на лице поспешно убежала.
«Ага! — улыбнулся Дэдлей. — Так вот какова добродетель нашего героя! Младшая вытеснила у него из сердца старшую, а я еще думал, что это просто гордость борется в нем со старой любовью! И ведь он все-таки сумел добраться до нее, несмотря на все запоры, которыми думал оградить ее Сэйтон! Великолепно! Вот и истинная причина его гнева, когда он узнал, что я восстановил против него лорда».
Для Лейстера было большим торжеством иметь возможность обвинить Сэррея; теперь ему уже нечего было стыдиться своего предательства. Так, по крайней мере, он думал, и когда, полчаса спустя, вскоре после отъезда Сэррея из замка, он вошел в зал, чтобы проститься с Сэйтоном, то, смеясь, сказал ему:
— Милорд, я ошибся: граф Сэррей совсем ее домогается чести надеть на себя шотландскую корону.
— Знаю! — с ледяной холодностью возразил ему Сэйтон.
— Он не был так глуп. Кроме того, он вообще предупредил меня, что его друзья болтают больше, чем могут отвечать за это. Я вижу, что вы приготовились уезжать, желаю вам счастливого пути.
Иронический тон его слов и тихие смешки присутствующих доказывали Лейстеру, что малейшее его слово в ответ будет принято за вызов. Но он далек был от мысли ставить на карту свою жизнь в тот момент, когда ему улыбалось будущее. Если он добьется руки Марии, то успеет заставить Сэйтона поплатиться за надменность. Поэтому он сделал вид, будто не заметил насмешки в тоне Сэйтона, и простился с ним в самой любезной форме.
В тот же вечер он добрался со своими слугами до Сент — Эндрю.
Его принял граф Мюррей и повел в отведенные для него покои.
— Милорд, — сказал он, — я счастлив, что королева решила повидаться с вами. Теперь от вас будет зависеть добыть себе корону и красивую женщину. Надеюсь, ваше сватовство увенчается успехом, и это будет порукой мира с Англией и ее великой монархиней.
— Милорд, — ответил Лейстер, уже видевший в Мюррее человека, которого ему необходимо будет столкнуть первым после вступления с его помощью на трон, — я прибыл сюда как жених и никаких желаний, кроме желания стать счастливейшим из смертных, у меня нет. Я — не государственный деятель и никогда не занимался политикой. Поэтому, если бы предстояло стать не только супругом, но и первым советником королевы, то я отклонил бы от себя такую ответственную обязанность. Но королева Елизавета сказала мне, что в вас я найду покровителя, друга и советника, словом, — человека, который один только способен избавить эту несчастную страну от смут и раздоров.
— Я — первый слуга королевы, — ответил Мюррей, — и охотно окажу вам помощь, если, — он подчеркнул последующие слова, — вы дадите мне гарантии, что и далее будете пользоваться моими услугами.
— Я готов, не читая, подписаться под вашим предложением! — засмеялся Дэдлей. — Влюбленный ненавидит дела.
Мюррей с удовлетворением улыбнулся, теперь ему казалось бесспорным, что он будет вертеть, как угодно, этим человеком.
Граф Лейстер стал готовиться к отъезду, как только Сэррей оставил его. Он упивался блаженством при мысли о том, что теперь зависит только от него одного добиться цели своих честолюбивых надежд, и с того момента, когда увидел, что Мария Стюарт может отдать ему руку, не призывая в советники никого другого, кроме своего сердца, он уже чувствовал себя победителем. Ему казалось теперь, что его сердце всегда стремилось к ней, что она — та женщина, на которую намекало пророчество предсказательницы.
Когда он спустился по лестнице, то случайно заглянул в окошко. Зал был полон гостей, в галерее напротив Сэррея стоял Сэйтон, а Джэн с краской стыда на лице поспешно убежала.
«Ага! — улыбнулся Дэдлей. — Так вот какова добродетель нашего героя! Младшая вытеснила у него из сердца старшую, а я еще думал, что это просто гордость борется в нем со старой любовью! И ведь он все-таки сумел добраться до нее, несмотря на все запоры, которыми думал оградить ее Сэйтон! Великолепно! Вот и истинная причина его гнева, когда он узнал, что я восстановил против него лорда».
Для Лейстера было большим торжеством иметь возможность обвинить Сэррея; теперь ему уже нечего было стыдиться своего предательства. Так, по крайней мере, он думал, и когда, полчаса спустя, вскоре после отъезда Сэррея из замка, он вошел в зал, чтобы проститься с Сэйтоном, то, смеясь, сказал ему:
— Милорд, я ошибся: граф Сэррей совсем ее домогается чести надеть на себя шотландскую корону.
— Знаю! — с ледяной холодностью возразил ему Сэйтон.
— Он не был так глуп. Кроме того, он вообще предупредил меня, что его друзья болтают больше, чем могут отвечать за это. Я вижу, что вы приготовились уезжать, желаю вам счастливого пути.
Иронический тон его слов и тихие смешки присутствующих доказывали Лейстеру, что малейшее его слово в ответ будет принято за вызов. Но он далек был от мысли ставить на карту свою жизнь в тот момент, когда ему улыбалось будущее. Если он добьется руки Марии, то успеет заставить Сэйтона поплатиться за надменность. Поэтому он сделал вид, будто не заметил насмешки в тоне Сэйтона, и простился с ним в самой любезной форме.
В тот же вечер он добрался со своими слугами до Сент — Эндрю.
Его принял граф Мюррей и повел в отведенные для него покои.
— Милорд, — сказал он, — я счастлив, что королева решила повидаться с вами. Теперь от вас будет зависеть добыть себе корону и красивую женщину. Надеюсь, ваше сватовство увенчается успехом, и это будет порукой мира с Англией и ее великой монархиней.
— Милорд, — ответил Лейстер, уже видевший в Мюррее человека, которого ему необходимо будет столкнуть первым после вступления с его помощью на трон, — я прибыл сюда как жених и никаких желаний, кроме желания стать счастливейшим из смертных, у меня нет. Я — не государственный деятель и никогда не занимался политикой. Поэтому, если бы предстояло стать не только супругом, но и первым советником королевы, то я отклонил бы от себя такую ответственную обязанность. Но королева Елизавета сказала мне, что в вас я найду покровителя, друга и советника, словом, — человека, который один только способен избавить эту несчастную страну от смут и раздоров.
— Я — первый слуга королевы, — ответил Мюррей, — и охотно окажу вам помощь, если, — он подчеркнул последующие слова, — вы дадите мне гарантии, что и далее будете пользоваться моими услугами.
— Я готов, не читая, подписаться под вашим предложением! — засмеялся Дэдлей. — Влюбленный ненавидит дела.
Мюррей с удовлетворением улыбнулся, теперь ему казалось бесспорным, что он будет вертеть, как угодно, этим человеком.


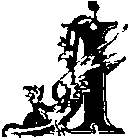 Дэдлей вышел из апартаментов королевы и прошел через длинный коридор в отведенные для него комнаты; он не заметил, что одна из боковых дверей, примыкавших к коридору, тихонько открылась и чья-то фигура, робко озираясь вокруг, последовала за ним, чуть слышно ступая на кончиках пальцев. Придя в свои покои, Дэдлей отпустил ожидавшего его лакея и, сев в кресло, начал вспоминать события прожитого дня.
Покорить сердце Марии Стюарт оказалось не так легко, как он прежде предполагал, но тем заманчивее была для него эта победа. Ужасная шутка, которую позволила себе Мария Стюарт, произвела на него очень неприятное впечатление, но за ужином это впечатление рассеялось под влиянием любезности и остроумия королевы. Лейстер был принужден сознаться, что никогда не встречал более обворожительной женщины, чем шотландская королева. Но, несмотря на все ее чары, образ Филли не покидал Дэдлея, ему все время казалось, что прекрасная маска спрашивает: «Разве я не лучше королевы? Разве мои объятия недостаточно горячи? Ведь мне от тебя ничего не нужно, кроме любви!» «Да, она любит меня, — подумал Лейстер, — болезненная ревность заставила ее согласиться на ужасную шутку! Но насмешка надо мной Марии Стюарт так подействовала на бедного ребенка, что она лишилась чувств».
— Филли! — со вздохом произнес он, и в его глазах загорелась страсть.
Вдруг дверь тихонько отворилась, стройная девушка проскользнула в комнату и упала к ногам Дэдлея.
Не видя еще ее лица, граф Лейстер догадался, что перед ним Филли. Он быстро поднял ее и заметил, что слезы блестели на ее прекрасных глазах, а гибкое, стройное тело трепетало от волнения.
— Филли, это ты? — воскликнул Дэдлей. — Зачем же ты обманула меня? Но как ты прекрасна! Отчего ты дрожишь? Ты плачешь, Филли? Я не сержусь на тебя! Я знаю, что тебя принудили к этой грубой шутке. Скажи хоть одно ласковое слово, Филли!… Скажи, что ты сожалеешь о своем обмане, и я стану перед тобой на колени, как во время танцев в зале. Поверь, что я не по ошибке преклонился перед тобой, принимая тебя за королеву, я поклонялся твоей красоте!
Филли заплакала еще сильнее прежнего. Ее горячие слезы падали на руки Дэдлея, а волнение ее молодой груди и пламенный румянец без слов говорили о ее чувстве к Лейстеру.
У него кружилась голова от счастья и восторга, и он шепотом спросил девушку:
— Отчего ты ничего не говоришь, Филли? Клянусь тебе, что нисколько не сержусь на тебя!… Если бы ты даже вонзила кинжал в мое сердце, я не мог бы сердиться на тебя, а поцеловал бы твою руку. Скажи мне одно слово, Филли, одно-единственное слово! Скажи мне, что ты не ненавидишь меня, и я буду торжествовать над ошибкой королевы, которая, желая осмеять меня, доставила мне величайшее счастье.
Филли указала пальцем на свой рот, и Лейстер вдруг вспомнил о тех страданиях, которые претерпела несчастная девушка по его милости.
— О, Боже, — воскликнул он, содрогаясь от ужаса. — Как я мог позабыть об этом? Но тем дороже ты для меня, — прибавил он, привлекая к себе молодую девушку. — Твои глаза говорят, твоя улыбка обворожительна. Филли, хочешь быть моей? Я предпочту твое сердце всем королевам в мире. Что может быть выше любви прекрасной, чистой женщины? До сих пор я не знал настоящей любви, так как принимал холодный отблеск за настоящее солнце. Ты для меня будешь храмом, я буду молиться на тебя, ты вернешь мне веру в добродетель! Когда мою душу будет соблазнять тщеславие, ты спасешь меня от соблазна, как уже спасла раз мою жизнь. Как добрый гений, ты появилась сегодня передо мной и не допустила, чтобы я принес в жертву ненасытному честолюбию собственное сердце. Несмотря на весь свой блеск, Мария Стюарт — ничто в сравнении с тобой! Своим обманом — заменив себя тобой — она отдала тебе целиком мою любовь, и никогда я не выпущу тебя из своих рук.
Филли отрицательно покачала головой, горькая улыбка скользнула по ее губам, и по этой улыбке и грустному выражению глаз можно было судить, как глубоко страдает молодая девушка от того, что не может ничего ответить Лейстеру.
— Ты не хочешь любить меня? — продолжал он. — Ты, может быть, боишься, что я изменю тебе, изменю той, которая по моей милости даже лишена возможности упрекнуть меня в чем-нибудь? Или ты думаешь, что моими устами говорят благодарность, участие, сострадание, но не любовь? Филли, я сам перестал бы верить в себя, если бы мог назвать то чувство, которое питаю к тебе, каким-нибудь другим именем, а не настоящей глубокой любовью! Я знаю, ты могла бы возразить мне, что я пылал страстью к Фаншон, что мое сердце усиленно билось в присутствии Елизаветы, что я опускался перед тобой на колени с нежной мольбой, думая, что танцую с Марией Стюарт. Все это, может быть, и правда, но уверяю тебя, что ни к кому из них я не ощущал такого блаженного благоговейного чувства, какое испытываю, обнимая тебя, мою бедную Филли. Все эти герцогини и королевы возбуждали желание нравиться, — на первом плане у меня всегда было честолюбие. Но теперь этого нет и в помине. Для меня не будет большего счастья, как сознание, что я любим тобой! Как я буду гордиться твоей любовью! Никогда еще я не видел так ясно, что гнался за каким-то призраком, не находя настоящего пути к счастью; теперь же я нашел его. Я в своем тщеславии тешил себя несбыточными мечтами, строил воздушные замки и пропускал настоящую жизнь. Теперь мое неспокойное сердце найдет наконец приют, и его даст мне любовь женщины, не желающей ничего, кроме моего счастья, рисковавшей своей жизнью для моего спасения. Перед целым светом я признаю тебя королевой своей души и никогда не расстанусь с тобой.
Филли освободилась из объятий Дэдлея и со страхом смотрела на него.
— Ты, может быть, боишься, что на меня обрушится гнев Елизаветы, когда она узнает, что я увез тебя вместо того, чтобы домогаться руки Марии Стюарт? — спросил он. — Или, может быть, ты думаешь, что королева шотландская обидится, что ею пренебрегли? Что касается Елизаветы, то я очень радуюсь, представляя себе, как она огорчится, когда Мария Стюарт пошлет ей ироническое послание с уведомлением, что мой выбор пал на тебя. Это будет для нее достойной наградой за ее интригу. С королевой шотландской мне очень легко разойтись, нисколько не обидев ее, я даже могу уехать отсюда под тем предлогом, что оскорблен видимым предпочтением, которое Мария Стюарт оказывает лорду Дарнлею, не стесняясь моим присутствием.
Филли утвердительно кивнула головой.
— Ты тоже заметила, что королева отдает предпочтение Дарнлею? — спросил Лейстер. — Ты думаешь, что это — не кокетство красивой женщины, а заранее обдуманный план?
Филли снова утвердительно кивнула головой. По ее лицу было видно, что она могла бы сказать еще очень многое и с нетерпением ждет дальнейших вопросов.
— Королева любит Дарнлея?
Филли кивнула головой и сделала Дэдлею знак говорить тише.
— А меня пригласили для того, чтобы посмеяться и позабавиться на мой счет?
На этот раз Филли сделала отрицательный жест головой.
Лейстер сначала удивленно взглянул на нее, а затем вдруг сообразил, в чем дело.
— Ах, понимаю, — воскликнул он, — ты хочешь сказать, что королева обратилась ко мне для того, чтобы обмануть кого-то. Не лорда ли Мюррея?
Филли, улыбаясь, утвердительно кивнула головою.
— Теперь для меня все ясно! — продолжал Дэдлей. — Королева очень хитра и желает обратить посланника Елизаветы в марионетку. Благодарю тебя, Филли, за то, что ты избавила меня от глупейшей роли.
Филли приложила руку к губам и умоляюще смотрела на Лейстера. Он сейчас же угадал ее мысли и спросил:
— Ты хочешь, чтобы я молчал и продолжал делать вид, что ничего не замечаю, чтобы таким образом не выдать Мюррею тайного замысла его сестры?
Филли ласково обняла его, как бы желая вознаградить за ту жертву, которую у него просила.
— Разве я могу отказать тебе в чем-нибудь? — нежно прошептал Дэдлей. — Я все сделаю так, как ты прикажешь, я согласен даже показаться смешным, если ты обещаешь мне уехать отсюда вместе со мной. Если ты согласишься быть моей, то мне не страшны ничьи насмешки.
Филли снова задрожала и попыталась освободиться из объятий Дэдлея.
— Ты отказываешь мне, Филли, ты боишься меня? — с упреком проговорил он. — Неужели я — такой скверный человек, что ты, пожертвовавшая для меня всем, не можешь верить моей чести и искренней любви к тебе?
Филли со слезами взглянула на Дэдлея и, схватив его за руку, крепко прижала к своим губам.
— Ты веришь мне? — радостно воскликнул он. — Чего же ты боишься? Тебя пугает королева? Если она не пустит тебя по доброй воле, то я все равно увезу тебя. Кто же страшит тебя еще? Вальтер Брай или Роберт Сэррей? Но какое они имеют право распоряжаться твоим сердцем? Или, может быть, тебя смущают толки и пересуд, которые подымутся в обществе, когда узнают, что я отдал тебе предпочтение перед королевой? Можно избежать этих толков, я не желаю оскорблять королеву и буду в этом отношении очень осторожен. Мой преданный слуга проводит тебя в Англию. Я найду в пределах моего графства почтенную семью, которой поручу хранить тебя, мое сокровище, до тех пор, пока я освобожусь от придворной службы. Там, на свободе, мы будем наслаждаться тихой семейной жизнью среди прекрасной природы. Еще до моего возвращения в Лондон мы повенчаемся, и никто не осмелится косо взглянуть на графиню Лейстер. Ты согласна на это, Филли? Хочешь сделать меня счастливым? Если ты прогонишь меня от себя, я опять пущусь в тщеславный свет, буду пить чтобы заглушить сердечную тоску, и с нетерпением ждать того момента, когда удар шпаги более удачно попадет в меня, чем тогда, когда ты спасла меня от преследований Медичи.
Филли начала колебаться, а последнее напоминание отняло у нее силу сопротивления. Она позволила Дэдлею обнять ее и осушить ее слезы поцелуями.
Было уже около полуночи, когда Филли ушла от любимого человека и осторожно пробралась по коридору в свою комнату. Она вышла от него такой же чистой и непорочной, какой вошла к нему, но пламя страсти зажглось в ее крови и сердце забилось сладкой надеждой.
Лейстер тоже чувствовал себя счастливым, но как будто сам еще не верил тому, что произошло. Мысль, что Мария Стюарт хотела посмеяться над ним, глубоко оскорбила его. Елизавета послала его в Эдинбург, а шотландская королева предпочла ему лорда Дарнлея и заставила играть глупейшую роль. Теперь ему предстояло вернуться к Елизавете, сообщить ей о своем поражении и тешить себя вновь несбыточными честолюбивыми мечтами.
Лейстер получил почти отвращение к своему прежнему плану достичь высокого положения, пользуясь расположением женщин. Ему заманчиво рисовалась теперь простая, скромная жизнь в своем графстве вместе с очаровательной Филли.
Дэдлей вышел из апартаментов королевы и прошел через длинный коридор в отведенные для него комнаты; он не заметил, что одна из боковых дверей, примыкавших к коридору, тихонько открылась и чья-то фигура, робко озираясь вокруг, последовала за ним, чуть слышно ступая на кончиках пальцев. Придя в свои покои, Дэдлей отпустил ожидавшего его лакея и, сев в кресло, начал вспоминать события прожитого дня.
Покорить сердце Марии Стюарт оказалось не так легко, как он прежде предполагал, но тем заманчивее была для него эта победа. Ужасная шутка, которую позволила себе Мария Стюарт, произвела на него очень неприятное впечатление, но за ужином это впечатление рассеялось под влиянием любезности и остроумия королевы. Лейстер был принужден сознаться, что никогда не встречал более обворожительной женщины, чем шотландская королева. Но, несмотря на все ее чары, образ Филли не покидал Дэдлея, ему все время казалось, что прекрасная маска спрашивает: «Разве я не лучше королевы? Разве мои объятия недостаточно горячи? Ведь мне от тебя ничего не нужно, кроме любви!» «Да, она любит меня, — подумал Лейстер, — болезненная ревность заставила ее согласиться на ужасную шутку! Но насмешка надо мной Марии Стюарт так подействовала на бедного ребенка, что она лишилась чувств».
— Филли! — со вздохом произнес он, и в его глазах загорелась страсть.
Вдруг дверь тихонько отворилась, стройная девушка проскользнула в комнату и упала к ногам Дэдлея.
Не видя еще ее лица, граф Лейстер догадался, что перед ним Филли. Он быстро поднял ее и заметил, что слезы блестели на ее прекрасных глазах, а гибкое, стройное тело трепетало от волнения.
— Филли, это ты? — воскликнул Дэдлей. — Зачем же ты обманула меня? Но как ты прекрасна! Отчего ты дрожишь? Ты плачешь, Филли? Я не сержусь на тебя! Я знаю, что тебя принудили к этой грубой шутке. Скажи хоть одно ласковое слово, Филли!… Скажи, что ты сожалеешь о своем обмане, и я стану перед тобой на колени, как во время танцев в зале. Поверь, что я не по ошибке преклонился перед тобой, принимая тебя за королеву, я поклонялся твоей красоте!
Филли заплакала еще сильнее прежнего. Ее горячие слезы падали на руки Дэдлея, а волнение ее молодой груди и пламенный румянец без слов говорили о ее чувстве к Лейстеру.
У него кружилась голова от счастья и восторга, и он шепотом спросил девушку:
— Отчего ты ничего не говоришь, Филли? Клянусь тебе, что нисколько не сержусь на тебя!… Если бы ты даже вонзила кинжал в мое сердце, я не мог бы сердиться на тебя, а поцеловал бы твою руку. Скажи мне одно слово, Филли, одно-единственное слово! Скажи мне, что ты не ненавидишь меня, и я буду торжествовать над ошибкой королевы, которая, желая осмеять меня, доставила мне величайшее счастье.
Филли указала пальцем на свой рот, и Лейстер вдруг вспомнил о тех страданиях, которые претерпела несчастная девушка по его милости.
— О, Боже, — воскликнул он, содрогаясь от ужаса. — Как я мог позабыть об этом? Но тем дороже ты для меня, — прибавил он, привлекая к себе молодую девушку. — Твои глаза говорят, твоя улыбка обворожительна. Филли, хочешь быть моей? Я предпочту твое сердце всем королевам в мире. Что может быть выше любви прекрасной, чистой женщины? До сих пор я не знал настоящей любви, так как принимал холодный отблеск за настоящее солнце. Ты для меня будешь храмом, я буду молиться на тебя, ты вернешь мне веру в добродетель! Когда мою душу будет соблазнять тщеславие, ты спасешь меня от соблазна, как уже спасла раз мою жизнь. Как добрый гений, ты появилась сегодня передо мной и не допустила, чтобы я принес в жертву ненасытному честолюбию собственное сердце. Несмотря на весь свой блеск, Мария Стюарт — ничто в сравнении с тобой! Своим обманом — заменив себя тобой — она отдала тебе целиком мою любовь, и никогда я не выпущу тебя из своих рук.
Филли отрицательно покачала головой, горькая улыбка скользнула по ее губам, и по этой улыбке и грустному выражению глаз можно было судить, как глубоко страдает молодая девушка от того, что не может ничего ответить Лейстеру.
— Ты не хочешь любить меня? — продолжал он. — Ты, может быть, боишься, что я изменю тебе, изменю той, которая по моей милости даже лишена возможности упрекнуть меня в чем-нибудь? Или ты думаешь, что моими устами говорят благодарность, участие, сострадание, но не любовь? Филли, я сам перестал бы верить в себя, если бы мог назвать то чувство, которое питаю к тебе, каким-нибудь другим именем, а не настоящей глубокой любовью! Я знаю, ты могла бы возразить мне, что я пылал страстью к Фаншон, что мое сердце усиленно билось в присутствии Елизаветы, что я опускался перед тобой на колени с нежной мольбой, думая, что танцую с Марией Стюарт. Все это, может быть, и правда, но уверяю тебя, что ни к кому из них я не ощущал такого блаженного благоговейного чувства, какое испытываю, обнимая тебя, мою бедную Филли. Все эти герцогини и королевы возбуждали желание нравиться, — на первом плане у меня всегда было честолюбие. Но теперь этого нет и в помине. Для меня не будет большего счастья, как сознание, что я любим тобой! Как я буду гордиться твоей любовью! Никогда еще я не видел так ясно, что гнался за каким-то призраком, не находя настоящего пути к счастью; теперь же я нашел его. Я в своем тщеславии тешил себя несбыточными мечтами, строил воздушные замки и пропускал настоящую жизнь. Теперь мое неспокойное сердце найдет наконец приют, и его даст мне любовь женщины, не желающей ничего, кроме моего счастья, рисковавшей своей жизнью для моего спасения. Перед целым светом я признаю тебя королевой своей души и никогда не расстанусь с тобой.
Филли освободилась из объятий Дэдлея и со страхом смотрела на него.
— Ты, может быть, боишься, что на меня обрушится гнев Елизаветы, когда она узнает, что я увез тебя вместо того, чтобы домогаться руки Марии Стюарт? — спросил он. — Или, может быть, ты думаешь, что королева шотландская обидится, что ею пренебрегли? Что касается Елизаветы, то я очень радуюсь, представляя себе, как она огорчится, когда Мария Стюарт пошлет ей ироническое послание с уведомлением, что мой выбор пал на тебя. Это будет для нее достойной наградой за ее интригу. С королевой шотландской мне очень легко разойтись, нисколько не обидев ее, я даже могу уехать отсюда под тем предлогом, что оскорблен видимым предпочтением, которое Мария Стюарт оказывает лорду Дарнлею, не стесняясь моим присутствием.
Филли утвердительно кивнула головой.
— Ты тоже заметила, что королева отдает предпочтение Дарнлею? — спросил Лейстер. — Ты думаешь, что это — не кокетство красивой женщины, а заранее обдуманный план?
Филли снова утвердительно кивнула головой. По ее лицу было видно, что она могла бы сказать еще очень многое и с нетерпением ждет дальнейших вопросов.
— Королева любит Дарнлея?
Филли кивнула головой и сделала Дэдлею знак говорить тише.
— А меня пригласили для того, чтобы посмеяться и позабавиться на мой счет?
На этот раз Филли сделала отрицательный жест головой.
Лейстер сначала удивленно взглянул на нее, а затем вдруг сообразил, в чем дело.
— Ах, понимаю, — воскликнул он, — ты хочешь сказать, что королева обратилась ко мне для того, чтобы обмануть кого-то. Не лорда ли Мюррея?
Филли, улыбаясь, утвердительно кивнула головою.
— Теперь для меня все ясно! — продолжал Дэдлей. — Королева очень хитра и желает обратить посланника Елизаветы в марионетку. Благодарю тебя, Филли, за то, что ты избавила меня от глупейшей роли.
Филли приложила руку к губам и умоляюще смотрела на Лейстера. Он сейчас же угадал ее мысли и спросил:
— Ты хочешь, чтобы я молчал и продолжал делать вид, что ничего не замечаю, чтобы таким образом не выдать Мюррею тайного замысла его сестры?
Филли ласково обняла его, как бы желая вознаградить за ту жертву, которую у него просила.
— Разве я могу отказать тебе в чем-нибудь? — нежно прошептал Дэдлей. — Я все сделаю так, как ты прикажешь, я согласен даже показаться смешным, если ты обещаешь мне уехать отсюда вместе со мной. Если ты согласишься быть моей, то мне не страшны ничьи насмешки.
Филли снова задрожала и попыталась освободиться из объятий Дэдлея.
— Ты отказываешь мне, Филли, ты боишься меня? — с упреком проговорил он. — Неужели я — такой скверный человек, что ты, пожертвовавшая для меня всем, не можешь верить моей чести и искренней любви к тебе?
Филли со слезами взглянула на Дэдлея и, схватив его за руку, крепко прижала к своим губам.
— Ты веришь мне? — радостно воскликнул он. — Чего же ты боишься? Тебя пугает королева? Если она не пустит тебя по доброй воле, то я все равно увезу тебя. Кто же страшит тебя еще? Вальтер Брай или Роберт Сэррей? Но какое они имеют право распоряжаться твоим сердцем? Или, может быть, тебя смущают толки и пересуд, которые подымутся в обществе, когда узнают, что я отдал тебе предпочтение перед королевой? Можно избежать этих толков, я не желаю оскорблять королеву и буду в этом отношении очень осторожен. Мой преданный слуга проводит тебя в Англию. Я найду в пределах моего графства почтенную семью, которой поручу хранить тебя, мое сокровище, до тех пор, пока я освобожусь от придворной службы. Там, на свободе, мы будем наслаждаться тихой семейной жизнью среди прекрасной природы. Еще до моего возвращения в Лондон мы повенчаемся, и никто не осмелится косо взглянуть на графиню Лейстер. Ты согласна на это, Филли? Хочешь сделать меня счастливым? Если ты прогонишь меня от себя, я опять пущусь в тщеславный свет, буду пить чтобы заглушить сердечную тоску, и с нетерпением ждать того момента, когда удар шпаги более удачно попадет в меня, чем тогда, когда ты спасла меня от преследований Медичи.
Филли начала колебаться, а последнее напоминание отняло у нее силу сопротивления. Она позволила Дэдлею обнять ее и осушить ее слезы поцелуями.
Было уже около полуночи, когда Филли ушла от любимого человека и осторожно пробралась по коридору в свою комнату. Она вышла от него такой же чистой и непорочной, какой вошла к нему, но пламя страсти зажглось в ее крови и сердце забилось сладкой надеждой.
Лейстер тоже чувствовал себя счастливым, но как будто сам еще не верил тому, что произошло. Мысль, что Мария Стюарт хотела посмеяться над ним, глубоко оскорбила его. Елизавета послала его в Эдинбург, а шотландская королева предпочла ему лорда Дарнлея и заставила играть глупейшую роль. Теперь ему предстояло вернуться к Елизавете, сообщить ей о своем поражении и тешить себя вновь несбыточными честолюбивыми мечтами.
Лейстер получил почти отвращение к своему прежнему плану достичь высокого положения, пользуясь расположением женщин. Ему заманчиво рисовалась теперь простая, скромная жизнь в своем графстве вместе с очаровательной Филли.


 Бегство Филли было скоро обнаружено в замке Сент-Эндрю, но вызвало гораздо меньше разговоров и привлекло меньше внимания, чем этого опасался Дэдлей. Никто не заподозрил его в таком поступке, который был бы слишком большим оскорблением для королевы, и мысль, что Филли увезена Сэрреем с ее согласия, показалась особенно вероятной, когда узнали, что Роберт внезапно выехал из Эдинбурга. Вскоре общее внимание было отвлечено другими, более важными делами. Дарнлей заболел страшной горячкой, и Мария Стюарт не отходила от больного, ухаживая за ним. Этот экстравагантный шаг, наносивший неизгладимый удар всем пуританским взглядам шотландцев, не оставлял сомнения, что Мария изберет в супруги именно Дарнлея, отказав послу Елизаветы. Лейстер был уже приготовлен к этому, как вдруг его пригласили пожаловать к королеве.
Он застал ее в будуаре и был прият так сердечно, что в тайниках души даже пожалел, почему до сих пор не предпринимал никаких мер, чтобы завоевать ее сердце, пока оно не было отдано другому.
— Граф Лейстер, — сказала Мария Стюарт, — я глубоко раскаиваюсь, что оскорбила вас. Я видела в вас посла Елизаветы, которая обольщается надеждой, что ей достаточно послать ко мне блестящего кавалера, чтобы мое сердце было покорено. И мысль, что вы разделяете ее точку зрения, заставила меня сыграть веселую шутку над вашим честолюбием. Простите мне эту шутку. А для того, чтобы доказать вам, насколько я не хочу долее обманывать вас, я признаюсь вам в том, что до сих пор должна была скрывать от всех и каждого и что уж никак не должно было дойти до ушей посла Елизаветы: я решила избрать себе в супруги лорда Дарнлея. Теперь вы знаете мою тайну, выдав ее моим врагам, вы можете погубить и меня, и Дарнлея, так как у меня еще нет власти защитить его против Мюррея. Тем не менее я предпочитаю лучше действовать неразумно, чем обманывать того, кто недавно признался мне в своей любви. Я не желаю мужа, которого мне навязывает Елизавета, и именно потому, что я верю вам и очень уважаю вас, милорд, я и говорю вам это прямо.
Никогда еще Мария Стюарт не была так прекрасна, как в этот момент, никогда еще очарование ее прелести не было так увлекательно, как теперь, когда она говорила от чистого сердца, в глубоком волнении задевая самые чистые чувства Лейстера.
Он бросился перед ней на колени, схватил ее руку и, покрыв ее бесчисленными поцелуями, сказал:
— Ваше величество, вы наносите смертельную рану моему сердцу, но в то же время проливаете на него целительный бальзам. Вы дарите меня своим доверием, и я всецело отдаюсь вам. Пусть поднимают на смех посла Елизаветы, достаточно и того, если вы поймете меня. Несмотря на то, что мои самые радужные надежды потерпели крушение, я буду думать только о вашем счастье; я постараюсь обмануть Мюррея и примирить всех в Лондоне с мыслью о том, что шотландский трон достанется Генриху Дарнлею. Никогда еще в жизни я не любил ни одной женщины так, как вас, и чувствую это я особенно остро именно теперь, так как готов отказаться от вас ради вашего благополучия. Если же вы будете счастливы, то вспомните меня и скажите: «Дэдлею я обязана тем, что он проложил дорогу к моему счастью!»
— Так и будет, лорд Лейстер, — взволнованно сказала Мария Стюарт, — я буду знать, что около Елизаветы находится один из моих вернейших друзей.
Рука королевы ласково скользнула по волосам коленопреклоненного Дэдлея, а затем она вдруг схватила коробочку, вынула оттуда маленький портрет-миниатюру и, подав ее Дэдлею, с очаровательной улыбкой шепнула ему:
— Вот мой портрет, его постоянно носил мой муж Франциск. Возьмите его с собой вместо меня!
Лейстер прижал портрет к губам, простился с королевой взглядом отвергнутого поклонника и поспешил уйти из комнаты.
«Филли утешит меня, — думал он, — теперь это решено. Так, очевидно, пожелало Провидение. Что такое любовь женщины и честолюбие! Никогда, никогда Елизавета не могла бы предложить мне то, что сказала Мария и что сделала Филли. В ее объятиях я буду счастлив, счастливее тебя, Мария Стюарт, так как меня не придавливает своею тяжестью никакая корона, никто не будет оспаривать у меня красавицу Филли!»
Но судьба захотела немедленно ответить Дэдлею на эти слова.
Перед воротами замка послышались звуки фанфар, и перед резиденцией королевы показался Черный Дуглас в сопровождении Брая, Сэррея и вооруженных солдат.
Лейстер сразу догадался, что привело их сюда, и непреодолимый ужас пронизал его от головы до пят: эти люди могли узнать о бегстве Филли только в том случае, если беглецы пойманы; но ведь тогда он будет заклеймен позором, подвергнется презрению Марии Стюарт и гневу Елизаветы как изменник!
Только наглая ложь и могла спасти его. Что значили в сущности показания слуги (если Кингтон предал его) против слов его, лорда? Филли нема. Если она любит его, то кто мог бы заставить ее знаком указать, что виновник ее бегства он; если же она любит его далеко не так горячо, чтобы потерпеть из-за него стыд, — ну, тогда ему совершенно не стоит страдать из-за нее, тогда она погибнет ради его спасения.
Бегство Филли было скоро обнаружено в замке Сент-Эндрю, но вызвало гораздо меньше разговоров и привлекло меньше внимания, чем этого опасался Дэдлей. Никто не заподозрил его в таком поступке, который был бы слишком большим оскорблением для королевы, и мысль, что Филли увезена Сэрреем с ее согласия, показалась особенно вероятной, когда узнали, что Роберт внезапно выехал из Эдинбурга. Вскоре общее внимание было отвлечено другими, более важными делами. Дарнлей заболел страшной горячкой, и Мария Стюарт не отходила от больного, ухаживая за ним. Этот экстравагантный шаг, наносивший неизгладимый удар всем пуританским взглядам шотландцев, не оставлял сомнения, что Мария изберет в супруги именно Дарнлея, отказав послу Елизаветы. Лейстер был уже приготовлен к этому, как вдруг его пригласили пожаловать к королеве.
Он застал ее в будуаре и был прият так сердечно, что в тайниках души даже пожалел, почему до сих пор не предпринимал никаких мер, чтобы завоевать ее сердце, пока оно не было отдано другому.
— Граф Лейстер, — сказала Мария Стюарт, — я глубоко раскаиваюсь, что оскорбила вас. Я видела в вас посла Елизаветы, которая обольщается надеждой, что ей достаточно послать ко мне блестящего кавалера, чтобы мое сердце было покорено. И мысль, что вы разделяете ее точку зрения, заставила меня сыграть веселую шутку над вашим честолюбием. Простите мне эту шутку. А для того, чтобы доказать вам, насколько я не хочу долее обманывать вас, я признаюсь вам в том, что до сих пор должна была скрывать от всех и каждого и что уж никак не должно было дойти до ушей посла Елизаветы: я решила избрать себе в супруги лорда Дарнлея. Теперь вы знаете мою тайну, выдав ее моим врагам, вы можете погубить и меня, и Дарнлея, так как у меня еще нет власти защитить его против Мюррея. Тем не менее я предпочитаю лучше действовать неразумно, чем обманывать того, кто недавно признался мне в своей любви. Я не желаю мужа, которого мне навязывает Елизавета, и именно потому, что я верю вам и очень уважаю вас, милорд, я и говорю вам это прямо.
Никогда еще Мария Стюарт не была так прекрасна, как в этот момент, никогда еще очарование ее прелести не было так увлекательно, как теперь, когда она говорила от чистого сердца, в глубоком волнении задевая самые чистые чувства Лейстера.
Он бросился перед ней на колени, схватил ее руку и, покрыв ее бесчисленными поцелуями, сказал:
— Ваше величество, вы наносите смертельную рану моему сердцу, но в то же время проливаете на него целительный бальзам. Вы дарите меня своим доверием, и я всецело отдаюсь вам. Пусть поднимают на смех посла Елизаветы, достаточно и того, если вы поймете меня. Несмотря на то, что мои самые радужные надежды потерпели крушение, я буду думать только о вашем счастье; я постараюсь обмануть Мюррея и примирить всех в Лондоне с мыслью о том, что шотландский трон достанется Генриху Дарнлею. Никогда еще в жизни я не любил ни одной женщины так, как вас, и чувствую это я особенно остро именно теперь, так как готов отказаться от вас ради вашего благополучия. Если же вы будете счастливы, то вспомните меня и скажите: «Дэдлею я обязана тем, что он проложил дорогу к моему счастью!»
— Так и будет, лорд Лейстер, — взволнованно сказала Мария Стюарт, — я буду знать, что около Елизаветы находится один из моих вернейших друзей.
Рука королевы ласково скользнула по волосам коленопреклоненного Дэдлея, а затем она вдруг схватила коробочку, вынула оттуда маленький портрет-миниатюру и, подав ее Дэдлею, с очаровательной улыбкой шепнула ему:
— Вот мой портрет, его постоянно носил мой муж Франциск. Возьмите его с собой вместо меня!
Лейстер прижал портрет к губам, простился с королевой взглядом отвергнутого поклонника и поспешил уйти из комнаты.
«Филли утешит меня, — думал он, — теперь это решено. Так, очевидно, пожелало Провидение. Что такое любовь женщины и честолюбие! Никогда, никогда Елизавета не могла бы предложить мне то, что сказала Мария и что сделала Филли. В ее объятиях я буду счастлив, счастливее тебя, Мария Стюарт, так как меня не придавливает своею тяжестью никакая корона, никто не будет оспаривать у меня красавицу Филли!»
Но судьба захотела немедленно ответить Дэдлею на эти слова.
Перед воротами замка послышались звуки фанфар, и перед резиденцией королевы показался Черный Дуглас в сопровождении Брая, Сэррея и вооруженных солдат.
Лейстер сразу догадался, что привело их сюда, и непреодолимый ужас пронизал его от головы до пят: эти люди могли узнать о бегстве Филли только в том случае, если беглецы пойманы; но ведь тогда он будет заклеймен позором, подвергнется презрению Марии Стюарт и гневу Елизаветы как изменник!
Только наглая ложь и могла спасти его. Что значили в сущности показания слуги (если Кингтон предал его) против слов его, лорда? Филли нема. Если она любит его, то кто мог бы заставить ее знаком указать, что виновник ее бегства он; если же она любит его далеко не так горячо, чтобы потерпеть из-за него стыд, — ну, тогда ему совершенно не стоит страдать из-за нее, тогда она погибнет ради его спасения.


 В графстве Лейстер расположено местечко Кэнмор, где в старину любили останавливаться графы Лейстер, но уже около пятидесяти лет не посещавшееся хозяевами. Старинный замок, некогда укрепленный, стоял среди парка исполинских дубов, но так как этот парк долгое время был лишен всякого ухода, то он заглох. Аллеи, пролегавшие в нем, частью заросли, густой подлесок делал парк непроходимым, а высокая каменная ограда защищала его от любопытных прохожих. От ворот тянулась единственная дорога, которая вела сквозь чащу к замку, ее обрамляла высокая живая изгородь из остролистника. Однако и эта длинная аллея заросла травой, и, кто вступал на нее, тому невольно казалось, что он приближается к заколдованному замку, который в своем мрачном уединении служил обиталищем призраков, так как ничто не выдавало здесь присутствия живого человека. Между тем большой фруктовый сад и огород, к которым вела дорога и где на тщательно обработанной земле возделывались плоды и овощи, равно как и приветливый дымок, поднимавшийся порою над заброшенным замком, указывали на то, что там жили люди.
Графский замок производил мрачное, зловещее впечатление. Его стены были источены временем, дубовые ставни заперты, ржавые железные засовы заложены на дверях, а колючие сорные травы густо разрослись перед крыльцом. Посреди фруктового сада, за замком, стоял массивный дом, где жил управляющий именьем, и довольно было одного взгляда на запущенный сад, на обветшалый замок, чтобы предположить, что в лице этого управляющего посетитель встретит нелюдимого, угрюмого старика, который, одряхлев вместе с развалинами, готов разрушиться с ними заодно.
Однако подобное предположение оказалось бы ошибочным. Человек, охране которого доверили замок Кэнмор, был мужчина в расцвете сил, за сорок лет, высокий, коренастый, он имел красавицу-дочь, нежно любимую им, и мог бы устроить для себя более веселый приют, так как от него зависело превратить кэнморский парк в настоящий рай. Однако мрачная тень лежала на широком лбу этого человека, и его лицо прояснялось лишь при виде любимой дочери, а в остальное время его взор горел мрачным огнем, устремясь в пространство с сосредоточенной и горькой печалью.
Управляющий вел таинственный образ жизни, загадочный для всех обитателей Кэнмора. Его никогда не видели за пределами парка, он никогда не общался с соседями, не посещал шинков, не видали его также и за работой. Этот нелюдим никого не пускал в замок, а если какой-нибудь любопытный отваживался постучаться в ворота парка, то его спроваживали резкими словами. О красоте его дочери рассказывали чудеса, эта девушка, казалось, была обречена отцом на вечное заточение, а так как окрестные жители отыскивали причину его нелюдимости и не находили ее, то в околотке носились всевозможные слухи. Одни говорили, будто бы на Тони Ламберт наведена «порча» с детских лет, и от этого она тупоумна; другие утверждали, что отец боится показывать ее, так как у нее лошадиная нога. По мнению третьих, сам Ламберт совершил убийство и дочь принуждена стеречь его, потому что, когда на него находит злой час, лишь она одна в состоянии отогнать беса-искусителя от этого безумца. Одним словом, стоустая молва изощрялась в придумывании всяких ужасов.
Был вечер, Тони сидела за прялкой и тихо пела песню; Ламберт, стоя у окна, задумчиво смотрел в ночную темноту, так мрачно, точно завидовал буре, яростно налетавшей на обветшалые стены; ему как будто хотелось, чтобы старинный замок внезапно рухнул в потемках под завывание ветра. Вдруг раздался громкий, нетерпеливый звонок у ворот парка.
Джон Ламберт вздрогнул, словно очнувшись от угрюмого забытья.
— Не отворите ли вы, отец? — спросила Тони. — Должно быть, это проезжие; они, наверно, заблудились дорогой и, промокнув под дождем, ищут приюта. Укажите им по крайней мере дорогу к гостинице, если не хотите принять их.
— Принять? — горько рассмеялся Ламберт и подозрительным взором пытливо уставился на дочь. — Тебе, видно, хочется этого, ведь для тебя сущее мученье вечно сидеть одной с твоим отцом!
— Я хотела бы, чтобы вы поменьше предавались печальным думам, которые точат вам сердце! — ответила Тони, вздыхая. — Попробуйте-ка развлечься немного и сойтись опять с людьми, своими ближними.
— Чтобы они обобрали меня и обманули, похитив у меня последнее достояние? — с горечью возразил Ламберт. — Чтобы они отняли тебя, как ту, другую, и чтобы я сгнил тут один, как заброшенное дерево в болоте? Ступай к воротам сама, отвори, заведи шутки да прибаутки с пришлыми людьми; пусть они полюбуются тобою и соблазнят тебя! Посмейся над моими сединами, как сделала та, другая.
— Отец, — воскликнула Тони, — замолчи! Ты ужасен! Никогда не покину я тебя, никогда не причиню тебе горя… Прости, что я необдуманно разбудила страшное воспоминание! Нет, я не хочу видеть людей, потому что они сделали тебе зло и разбили твое сердце.
Колокольчик дернули вновь так сильно, что Ламберт с проклятием вырвался из объятий дочери и крикнул:
— Постой, я натравлю на них собак, если это опять какие-нибудь любопытные, которые стараются проникнуть сюда под предлогом ненастья. Нечистая сила помогает им найти ворота, хотя я обсадил их живою изгородью. Но я покажу им!…
Ламберт сорвал ружье со стены и вышел вон из дома.
— Эй, Ламберт, старый волк! — раздалось за воротами. — Отворишь ли ты наконец, или нам выломать ворота, чтобы поискать тебя в твоей берлоге?
— Имейте терпение! — отозвался управляющий, когда услыхал, что его кличут по имени, и убедился, что кто- нибудь из деревенских жителей привел к нему гостей. — Дайте мне только отодвинуть засов, чтобы раскроить вам череп.
Ворота заскрипели на ржавых петлях. Ламберт лишь приотворил их и уже готовился снять с плеча ружье, чтобы преградить им вход незнакомцам, как вдруг различил перевязь с цветами Лейстеров.
— Кто вы? — спросил он человека, стоявшего у ворот.
Отворяйте! В замок пожаловали гости. Разве вы не узнаете Томаса Кингтона?
— Я достаточно знаю его, чтобы спросить, почему он еще не вздернут на виселицу. Что вам тут понадобилось? Замок Кэнмор — не убежище для людей вашего пошиба.
— Молчите и посторонитесь. Неужели мне придется проложить себе дорогу мечом, когда я приехал с поручением от вашего господина? Должно быть, вам надоело быть управляющим Кэнмора? Поторопитесь! Приготовьте постели для ночлега, лучшую комнату в замке для приезжей леди, а для нас — в вашем доме.
— Лучшую комнату? — горько рассмеялся Джон. — Поищите-ка ее сами, авось найдете такую, где не свили гнезд летучие мыши. Скажите мне, однако, — прошептал он, видя, как Пельдрам вводил в парк лошадь Филли и свою собственную, — не рехнулся ли лорд? Почему ему вздумалось послать в Кэнмор леди? Разве он не знает, что вот уже двадцать лет, как в замок не заглядывала ни единая человеческая душа?
— Вот именно потому-то он и посылает сюда леди. Она должна скрыться от всех, а тут самое подходящее место для этого. Это я порекомендовал вас.
— Черт бы побрал вас за это! — проворчал Ламберт, снова запирая ворота парка и посматривая недоверчиво на леди, которая дрожала от холода, закутанная в плащ для верховой езды.
Тони была немало удивлена, когда ее отец вернулся с незнакомыми ей людьми, и поспешила предложить свои услуги полузамерзшей Филли, тогда как ее отец повел непрошеных гостей в соседнюю комнату и с ворчаньем принялся угощать их пивом.
— Вы сами видите, — произнес Кингтон, предварительно посвятив Ламберта в суть дела, — что невозможно найти лучшее убежище для похищенной девушки. Вы будете еще благодарны мне за свое счастье, потому что лорд до безумия влюблен в немую леди и в награду за вашу услугу охотно исполнит самое ваше сумасбродное желание.
— Покойный лорд дал мне торжественную клятву никогда больше не переступать порога Кэнмор-Кастла, — мрачно возразил Ламберт.
— Но ведь его нет больше на свете, а с ним вымер и весь графский род; наследство Лейстеров перешло во владение к лорду Дэдлею Варвику. Уж не потребуете ли вы от него, чтобы он исполнял нелепое обещание, данное прежним владельцем какому-то человеку, которого сэр Дэдлей и в глаза не видел? Неужели вам недостаточно того, что он не спрашивал целые годы, куда девались доходы с именья, что он предоставил в ваше пользование замок, точно вы здесь — хозяин?
— Кинггон, — возразил на это Ламберт, когда Пельдрам вышел из комнаты, чтобы расседлать и поставить на конюшню лошадей, — вы отлично знаете, что обещание, данное мне покойным лордом, вовсе не было нелепостью, что этим граф Лейстер уплатил мне священный долг. Вам известно, что здесь произошло; вы были единственным свидетелем того, что я не стал удерживать Бэтси, когда она вздумала похоронить в здешнем пруду себя и свой позор. И только Бог знает, помогали ли вы негодяю, соблазнившему ее, или нет.
— Вы — дурак, Ламберт, в то время я был еще мальчишкой и не пользовался доверием молодого лорда. Это я удержал вас, когда вы хотели вонзить ему в сердце кинжал, так как мне было известно, что младший брат лорда отомстил бы вам. Забудьте старое! У вас есть дочь, и, как я успел заметить, она — ангел красоты. С богатством, накопленным вами, она достойна какого-нибудь лорда.
— Да будет проклят тот час, когда вы увидали ее! Кингтон, вы знаете меня. Берегитесь приближаться к Тони, я не хочу, чтобы и она была похищена у меня!…
— Стерегите ее, как вам угодно! Я еще не собираюсь жениться, но даже и от такой невесты оттолкнул бы меня мрачный тестюшка. Никто не должен найти здесь привезенную мною леди, вот все, чего я требую. Слышите? Никто.
— Понимаю! Леди похищена у ее близких, и я, которому знакомо горе отца, потерявшего родное детище, должен спрятать беглянку?
— Вы сумеете скрыть ее, потому что, если эту леди разыщут, то лорд выгонит вас вон из Кэнмор-Кастла, и вы лишитесь возможности держать свою дочь взаперти. Тогда он потребует у вас отчета в доходах с Кэнмора, а пока вы будете сидеть в тюрьме за их утайку, вашей дочери придется просить милостыню у чужих людей.
— Вашу леди не найдет никто, можете положиться на меня! — угрюмо произнес Ламберт. — Пускай другие страдают, как страдал я, мне-то что за дело! Это касается лорда, а не меня.
Разговор был прерван возвращением Пельдрама. Однако Кингтон мог быть спокоен теперь насчет того, что Ламберт постарается укрыть Филли, так как заметил, какое страшное действие произвели на управляющего его угрозы. Но Кингтон упустил из виду, что у нелюдимов, порвавших с внешним миром и предавшихся тупому раздумью, всякая угроза вызывает непримиримую ненависть к тем, которые покажут им, что они держат в своих руках их судьбу, и что эта ненависть сосредоточивает все свое пожирающее пламя в одном стремлении уничтожить того, кто им угрожает.
В графстве Лейстер расположено местечко Кэнмор, где в старину любили останавливаться графы Лейстер, но уже около пятидесяти лет не посещавшееся хозяевами. Старинный замок, некогда укрепленный, стоял среди парка исполинских дубов, но так как этот парк долгое время был лишен всякого ухода, то он заглох. Аллеи, пролегавшие в нем, частью заросли, густой подлесок делал парк непроходимым, а высокая каменная ограда защищала его от любопытных прохожих. От ворот тянулась единственная дорога, которая вела сквозь чащу к замку, ее обрамляла высокая живая изгородь из остролистника. Однако и эта длинная аллея заросла травой, и, кто вступал на нее, тому невольно казалось, что он приближается к заколдованному замку, который в своем мрачном уединении служил обиталищем призраков, так как ничто не выдавало здесь присутствия живого человека. Между тем большой фруктовый сад и огород, к которым вела дорога и где на тщательно обработанной земле возделывались плоды и овощи, равно как и приветливый дымок, поднимавшийся порою над заброшенным замком, указывали на то, что там жили люди.
Графский замок производил мрачное, зловещее впечатление. Его стены были источены временем, дубовые ставни заперты, ржавые железные засовы заложены на дверях, а колючие сорные травы густо разрослись перед крыльцом. Посреди фруктового сада, за замком, стоял массивный дом, где жил управляющий именьем, и довольно было одного взгляда на запущенный сад, на обветшалый замок, чтобы предположить, что в лице этого управляющего посетитель встретит нелюдимого, угрюмого старика, который, одряхлев вместе с развалинами, готов разрушиться с ними заодно.
Однако подобное предположение оказалось бы ошибочным. Человек, охране которого доверили замок Кэнмор, был мужчина в расцвете сил, за сорок лет, высокий, коренастый, он имел красавицу-дочь, нежно любимую им, и мог бы устроить для себя более веселый приют, так как от него зависело превратить кэнморский парк в настоящий рай. Однако мрачная тень лежала на широком лбу этого человека, и его лицо прояснялось лишь при виде любимой дочери, а в остальное время его взор горел мрачным огнем, устремясь в пространство с сосредоточенной и горькой печалью.
Управляющий вел таинственный образ жизни, загадочный для всех обитателей Кэнмора. Его никогда не видели за пределами парка, он никогда не общался с соседями, не посещал шинков, не видали его также и за работой. Этот нелюдим никого не пускал в замок, а если какой-нибудь любопытный отваживался постучаться в ворота парка, то его спроваживали резкими словами. О красоте его дочери рассказывали чудеса, эта девушка, казалось, была обречена отцом на вечное заточение, а так как окрестные жители отыскивали причину его нелюдимости и не находили ее, то в околотке носились всевозможные слухи. Одни говорили, будто бы на Тони Ламберт наведена «порча» с детских лет, и от этого она тупоумна; другие утверждали, что отец боится показывать ее, так как у нее лошадиная нога. По мнению третьих, сам Ламберт совершил убийство и дочь принуждена стеречь его, потому что, когда на него находит злой час, лишь она одна в состоянии отогнать беса-искусителя от этого безумца. Одним словом, стоустая молва изощрялась в придумывании всяких ужасов.
Был вечер, Тони сидела за прялкой и тихо пела песню; Ламберт, стоя у окна, задумчиво смотрел в ночную темноту, так мрачно, точно завидовал буре, яростно налетавшей на обветшалые стены; ему как будто хотелось, чтобы старинный замок внезапно рухнул в потемках под завывание ветра. Вдруг раздался громкий, нетерпеливый звонок у ворот парка.
Джон Ламберт вздрогнул, словно очнувшись от угрюмого забытья.
— Не отворите ли вы, отец? — спросила Тони. — Должно быть, это проезжие; они, наверно, заблудились дорогой и, промокнув под дождем, ищут приюта. Укажите им по крайней мере дорогу к гостинице, если не хотите принять их.
— Принять? — горько рассмеялся Ламберт и подозрительным взором пытливо уставился на дочь. — Тебе, видно, хочется этого, ведь для тебя сущее мученье вечно сидеть одной с твоим отцом!
— Я хотела бы, чтобы вы поменьше предавались печальным думам, которые точат вам сердце! — ответила Тони, вздыхая. — Попробуйте-ка развлечься немного и сойтись опять с людьми, своими ближними.
— Чтобы они обобрали меня и обманули, похитив у меня последнее достояние? — с горечью возразил Ламберт. — Чтобы они отняли тебя, как ту, другую, и чтобы я сгнил тут один, как заброшенное дерево в болоте? Ступай к воротам сама, отвори, заведи шутки да прибаутки с пришлыми людьми; пусть они полюбуются тобою и соблазнят тебя! Посмейся над моими сединами, как сделала та, другая.
— Отец, — воскликнула Тони, — замолчи! Ты ужасен! Никогда не покину я тебя, никогда не причиню тебе горя… Прости, что я необдуманно разбудила страшное воспоминание! Нет, я не хочу видеть людей, потому что они сделали тебе зло и разбили твое сердце.
Колокольчик дернули вновь так сильно, что Ламберт с проклятием вырвался из объятий дочери и крикнул:
— Постой, я натравлю на них собак, если это опять какие-нибудь любопытные, которые стараются проникнуть сюда под предлогом ненастья. Нечистая сила помогает им найти ворота, хотя я обсадил их живою изгородью. Но я покажу им!…
Ламберт сорвал ружье со стены и вышел вон из дома.
— Эй, Ламберт, старый волк! — раздалось за воротами. — Отворишь ли ты наконец, или нам выломать ворота, чтобы поискать тебя в твоей берлоге?
— Имейте терпение! — отозвался управляющий, когда услыхал, что его кличут по имени, и убедился, что кто- нибудь из деревенских жителей привел к нему гостей. — Дайте мне только отодвинуть засов, чтобы раскроить вам череп.
Ворота заскрипели на ржавых петлях. Ламберт лишь приотворил их и уже готовился снять с плеча ружье, чтобы преградить им вход незнакомцам, как вдруг различил перевязь с цветами Лейстеров.
— Кто вы? — спросил он человека, стоявшего у ворот.
Отворяйте! В замок пожаловали гости. Разве вы не узнаете Томаса Кингтона?
— Я достаточно знаю его, чтобы спросить, почему он еще не вздернут на виселицу. Что вам тут понадобилось? Замок Кэнмор — не убежище для людей вашего пошиба.
— Молчите и посторонитесь. Неужели мне придется проложить себе дорогу мечом, когда я приехал с поручением от вашего господина? Должно быть, вам надоело быть управляющим Кэнмора? Поторопитесь! Приготовьте постели для ночлега, лучшую комнату в замке для приезжей леди, а для нас — в вашем доме.
— Лучшую комнату? — горько рассмеялся Джон. — Поищите-ка ее сами, авось найдете такую, где не свили гнезд летучие мыши. Скажите мне, однако, — прошептал он, видя, как Пельдрам вводил в парк лошадь Филли и свою собственную, — не рехнулся ли лорд? Почему ему вздумалось послать в Кэнмор леди? Разве он не знает, что вот уже двадцать лет, как в замок не заглядывала ни единая человеческая душа?
— Вот именно потому-то он и посылает сюда леди. Она должна скрыться от всех, а тут самое подходящее место для этого. Это я порекомендовал вас.
— Черт бы побрал вас за это! — проворчал Ламберт, снова запирая ворота парка и посматривая недоверчиво на леди, которая дрожала от холода, закутанная в плащ для верховой езды.
Тони была немало удивлена, когда ее отец вернулся с незнакомыми ей людьми, и поспешила предложить свои услуги полузамерзшей Филли, тогда как ее отец повел непрошеных гостей в соседнюю комнату и с ворчаньем принялся угощать их пивом.
— Вы сами видите, — произнес Кингтон, предварительно посвятив Ламберта в суть дела, — что невозможно найти лучшее убежище для похищенной девушки. Вы будете еще благодарны мне за свое счастье, потому что лорд до безумия влюблен в немую леди и в награду за вашу услугу охотно исполнит самое ваше сумасбродное желание.
— Покойный лорд дал мне торжественную клятву никогда больше не переступать порога Кэнмор-Кастла, — мрачно возразил Ламберт.
— Но ведь его нет больше на свете, а с ним вымер и весь графский род; наследство Лейстеров перешло во владение к лорду Дэдлею Варвику. Уж не потребуете ли вы от него, чтобы он исполнял нелепое обещание, данное прежним владельцем какому-то человеку, которого сэр Дэдлей и в глаза не видел? Неужели вам недостаточно того, что он не спрашивал целые годы, куда девались доходы с именья, что он предоставил в ваше пользование замок, точно вы здесь — хозяин?
— Кинггон, — возразил на это Ламберт, когда Пельдрам вышел из комнаты, чтобы расседлать и поставить на конюшню лошадей, — вы отлично знаете, что обещание, данное мне покойным лордом, вовсе не было нелепостью, что этим граф Лейстер уплатил мне священный долг. Вам известно, что здесь произошло; вы были единственным свидетелем того, что я не стал удерживать Бэтси, когда она вздумала похоронить в здешнем пруду себя и свой позор. И только Бог знает, помогали ли вы негодяю, соблазнившему ее, или нет.
— Вы — дурак, Ламберт, в то время я был еще мальчишкой и не пользовался доверием молодого лорда. Это я удержал вас, когда вы хотели вонзить ему в сердце кинжал, так как мне было известно, что младший брат лорда отомстил бы вам. Забудьте старое! У вас есть дочь, и, как я успел заметить, она — ангел красоты. С богатством, накопленным вами, она достойна какого-нибудь лорда.
— Да будет проклят тот час, когда вы увидали ее! Кингтон, вы знаете меня. Берегитесь приближаться к Тони, я не хочу, чтобы и она была похищена у меня!…
— Стерегите ее, как вам угодно! Я еще не собираюсь жениться, но даже и от такой невесты оттолкнул бы меня мрачный тестюшка. Никто не должен найти здесь привезенную мною леди, вот все, чего я требую. Слышите? Никто.
— Понимаю! Леди похищена у ее близких, и я, которому знакомо горе отца, потерявшего родное детище, должен спрятать беглянку?
— Вы сумеете скрыть ее, потому что, если эту леди разыщут, то лорд выгонит вас вон из Кэнмор-Кастла, и вы лишитесь возможности держать свою дочь взаперти. Тогда он потребует у вас отчета в доходах с Кэнмора, а пока вы будете сидеть в тюрьме за их утайку, вашей дочери придется просить милостыню у чужих людей.
— Вашу леди не найдет никто, можете положиться на меня! — угрюмо произнес Ламберт. — Пускай другие страдают, как страдал я, мне-то что за дело! Это касается лорда, а не меня.
Разговор был прерван возвращением Пельдрама. Однако Кингтон мог быть спокоен теперь насчет того, что Ламберт постарается укрыть Филли, так как заметил, какое страшное действие произвели на управляющего его угрозы. Но Кингтон упустил из виду, что у нелюдимов, порвавших с внешним миром и предавшихся тупому раздумью, всякая угроза вызывает непримиримую ненависть к тем, которые покажут им, что они держат в своих руках их судьбу, и что эта ненависть сосредоточивает все свое пожирающее пламя в одном стремлении уничтожить того, кто им угрожает.




 Несколько месяцев спустя Мария Стюарт отдала свою руку лорду Дарнлею. Накануне свадебного торжества перед эдинбургским замком трое коронных герольдов провозгласили лорда Дарнлея принцем-супругом; брачную церемонию совершил епископ Дэмбленский. Королева оделась для нее в черное бархатное платье и белую траурную вуаль, которую возложила на себя при смерти Франциска II. В капелле Голируда новобрачные обменялись кольцами, после чего Мария сняла свои вдовьи одежды и появилась в роскошном туалете на свадебном пиру, где первые лорды королевства подавали царственной чете золотые блюда и пенящиеся кубки. В народ бросали деньги, и вскоре веселая бальная музыка огласила залы Голируда.
Мария приказала начать следствие для раскрытия преступного заговора, затеянного лордами Мюрреем и Эрджилом с целью умертвить Дарнлея. Однако вместо того, чтобы предстать на суд, Мюррей снарядил войско и, возбуждая против королевы страну, обратился к народу с манифестом. В нем население призывалось к восстанию из-за того, что королева якобы нарушает законы государства, попирает свободу Шотландии, навязав ей короля без совета и созыва государственных чинов. Далее Мюррей обратился с воззванием к гражданам о помощи для защиты последователей евангелистского вероисповедания, против которых «сатана ополчил все силы мира сего».
По поручению королевы Елизаветы лорд Рандольф интриговал в Шотландии в пользу восставших. Королева Англии натравливала войско мятежных лордов и фанатизм ревнителей веры на Марию Стюарт в отместку за то, что она отвергла жениха, выбранного ею.
Печальнее всего для Марии было то, что она не только не находила опоры в Дарнлее, но даже научилась презирать его за то, что, достигнув своей цели, он сбросил с себя маску и предавался всевозможным удовольствиям и пьянству более, чем это нравилось его супруге. Между ним и королевой возникла ссора на пиру у одного купца в Эдинбурге. Королева увещевала мужа, чтобы он не пил больше сам и не подзадоривал к тому других. Однако Дарнлей не только продолжал поступать наперекор ей, но даже позволил себе оскорбить ее такими словами, что она в слезах покинула пир. Впрочем, это случалось теперь с нею нередко. Несогласия между супругами возникали и по иным поводам, главным из которых был тот, что Дарнлей как супруг королевы требовал и себе корону, на что Мария Стюарт не соглашалась. Вообще Дарнлей стал в тягость королеве, которой он надоел, и ее отвращение к нему все возрастало.
Мятежники овладели Эдинбургом; они думали, что этот город, бывший средоточием протестантства, тотчас восстанет, чтобы оказать им поддержку, однако горожане их приняли холодно. Ни один не примкнул к мятежникам, а из Голируда непрошеных гостей «приветствовали» выстрелами из осадных орудий. Изумленные общественным неприятием и оробевшие ввиду собственной слабости, мятежные лорды обратились за неотложной помощью к Англии, они ходатайствовали о присылке трехтысячного корпуса и нескольких военных судов, которые должны были появиться в Фортском заливе. Однако Мария, энергичной деятельности которой благоприятствовала вдобавок обычная медлительность Елизаветы, не дала им дождаться подкрепления. Во главе армии из своих вассалов, представлявшей грозную силу в десять тысяч человек, Мария решительно выступила против Мюррея и его сообщников, предварительно объявив их мятежниками. Враги бежали. Мария очистила от них графство Файф, наказала лорда Грэнджа и баронов, которые отнеслись благосклонно к мятежникам, взяла контрибуцию с городов Дэнди и Сент-Эндрю и овладела замком Кэмпбелл. Все эти походы она предпринимала верхом на коне, с пистолетами в седельных кобурах. Разбитый Мюррей снова, собрав остатки своего разбежавшегося войска, пошел в наступление от английской границы. Но разгоряченная королева говорила, что скорее рискнет своей короной, чем откажется от мщения.
Лорд Дуглас находился неотлучно при ней, равно как и Сэррей, приехавший с этой целью из Англии, как только Мюррей кликнул клич, призывая граждан к оружию. Сэйтоны и католические лорды с охотой примкнули к ополчению королевы, и, когда она издала манифест, в котором объявляла народу, что знатное дворянство воспользовалось религией только под предлогом свергнуть ее с престола, победа этой смелой женщины казалась несомненной.
Мятежники еще раз обратились к королеве Елизавете, однако эта осторожная государыня опасалась выступить в качестве явной противницы Марии Стюарт именно теперь, когда шотландская королева могла назвать себя победительницей. Победа придала мужества воинственной королеве, и, в пылком нетерпении уничтожить своих противников и отомстить Мюррею, она назначила заклятого его врага, графа Босвела, генерал-адмиралом Шотландии, католического графа Этола поставила во главе Тайного совета и поручила Риччио начать переговоры с папой и с Испанией, чтобы снова обратить Шотландию в католичество. Соглашение о перемирии, предложенное ей Мюрреем, Мария Стюарт отвергла с гордостью.
В третий раз выступила королева в поход, рассеяла отряды Мюррея и прогнала его за английскую границу.
Эта жизнь, полная подвижности, предприимчивости и борьбы, опьяняла ее. Победа для Марии Стюарт была началом мщения. Она только и думала о том, чтобы раздавить мятежных лордов, и с этой целью приказала судить их, как изменников, отняла у них имущество и государственные должности; ее планы в то время были гораздо обширнее и смелее. Все королевство преклонялось перед ней. В состав шотландского дворянства входили двадцать один граф и двадцать восемь лордов; из этого числа только пять графов и три лорда шли ей наперекор, да и те находились в бегах. Мария Стюарт надеялась довести Елизавету до раскаяния в том, что та не признала ее наследницей. Когда Марии Стюарт доказывали, что она утомляется через меру своей походной жизнью, сопровождая армию даже в суровое зимнее время, она отвечала, что готова переносить всякие тяготы, пока не приведет своих верных воинов в Лондон.
Королева Елизавета скрежетала зубами от ярости, когда до нее доносились угрозы противницы, но ей приходилось очень туго, потому что Франция и Испания приняли сторону Марии, а в самой Англии грозною силою являлась для Елизаветы католическая партия. Поэтому она была принуждена лицемерить, и у нее хватило наглости попрекнуть бежавшего Мюррея за мятеж, уговаривать его подчиниться Марии и просить у нее пощады.
Мария Стюарт никогда еще не занимала столь важного положения, как в то время. Внутри королевства ей повиновались, а вне его пределов ее уважали. От ее ловкости зависело утвердить могущество, завоеванное ее мужеством. Если бы она выказала себя милостивой правительницей и простила Мюррея и прочих изгнанников, то заслужила бы тем их признательность и верность. После унижений, только что вынесенных ими в Англии, они сочли бы за счастье возможность вернуться назад в Шотландию, и так как им нечего было рассчитывать более на лукавую Елизавету, то эти люди снова примкнули бы к великодушной Марии. Таким способом королева расстроила бы английскую партию у себя в государстве, укрепив заодно шотландскую — в Англии. Но Мария Стюарт не сделала этого.
Несколько месяцев спустя Мария Стюарт отдала свою руку лорду Дарнлею. Накануне свадебного торжества перед эдинбургским замком трое коронных герольдов провозгласили лорда Дарнлея принцем-супругом; брачную церемонию совершил епископ Дэмбленский. Королева оделась для нее в черное бархатное платье и белую траурную вуаль, которую возложила на себя при смерти Франциска II. В капелле Голируда новобрачные обменялись кольцами, после чего Мария сняла свои вдовьи одежды и появилась в роскошном туалете на свадебном пиру, где первые лорды королевства подавали царственной чете золотые блюда и пенящиеся кубки. В народ бросали деньги, и вскоре веселая бальная музыка огласила залы Голируда.
Мария приказала начать следствие для раскрытия преступного заговора, затеянного лордами Мюрреем и Эрджилом с целью умертвить Дарнлея. Однако вместо того, чтобы предстать на суд, Мюррей снарядил войско и, возбуждая против королевы страну, обратился к народу с манифестом. В нем население призывалось к восстанию из-за того, что королева якобы нарушает законы государства, попирает свободу Шотландии, навязав ей короля без совета и созыва государственных чинов. Далее Мюррей обратился с воззванием к гражданам о помощи для защиты последователей евангелистского вероисповедания, против которых «сатана ополчил все силы мира сего».
По поручению королевы Елизаветы лорд Рандольф интриговал в Шотландии в пользу восставших. Королева Англии натравливала войско мятежных лордов и фанатизм ревнителей веры на Марию Стюарт в отместку за то, что она отвергла жениха, выбранного ею.
Печальнее всего для Марии было то, что она не только не находила опоры в Дарнлее, но даже научилась презирать его за то, что, достигнув своей цели, он сбросил с себя маску и предавался всевозможным удовольствиям и пьянству более, чем это нравилось его супруге. Между ним и королевой возникла ссора на пиру у одного купца в Эдинбурге. Королева увещевала мужа, чтобы он не пил больше сам и не подзадоривал к тому других. Однако Дарнлей не только продолжал поступать наперекор ей, но даже позволил себе оскорбить ее такими словами, что она в слезах покинула пир. Впрочем, это случалось теперь с нею нередко. Несогласия между супругами возникали и по иным поводам, главным из которых был тот, что Дарнлей как супруг королевы требовал и себе корону, на что Мария Стюарт не соглашалась. Вообще Дарнлей стал в тягость королеве, которой он надоел, и ее отвращение к нему все возрастало.
Мятежники овладели Эдинбургом; они думали, что этот город, бывший средоточием протестантства, тотчас восстанет, чтобы оказать им поддержку, однако горожане их приняли холодно. Ни один не примкнул к мятежникам, а из Голируда непрошеных гостей «приветствовали» выстрелами из осадных орудий. Изумленные общественным неприятием и оробевшие ввиду собственной слабости, мятежные лорды обратились за неотложной помощью к Англии, они ходатайствовали о присылке трехтысячного корпуса и нескольких военных судов, которые должны были появиться в Фортском заливе. Однако Мария, энергичной деятельности которой благоприятствовала вдобавок обычная медлительность Елизаветы, не дала им дождаться подкрепления. Во главе армии из своих вассалов, представлявшей грозную силу в десять тысяч человек, Мария решительно выступила против Мюррея и его сообщников, предварительно объявив их мятежниками. Враги бежали. Мария очистила от них графство Файф, наказала лорда Грэнджа и баронов, которые отнеслись благосклонно к мятежникам, взяла контрибуцию с городов Дэнди и Сент-Эндрю и овладела замком Кэмпбелл. Все эти походы она предпринимала верхом на коне, с пистолетами в седельных кобурах. Разбитый Мюррей снова, собрав остатки своего разбежавшегося войска, пошел в наступление от английской границы. Но разгоряченная королева говорила, что скорее рискнет своей короной, чем откажется от мщения.
Лорд Дуглас находился неотлучно при ней, равно как и Сэррей, приехавший с этой целью из Англии, как только Мюррей кликнул клич, призывая граждан к оружию. Сэйтоны и католические лорды с охотой примкнули к ополчению королевы, и, когда она издала манифест, в котором объявляла народу, что знатное дворянство воспользовалось религией только под предлогом свергнуть ее с престола, победа этой смелой женщины казалась несомненной.
Мятежники еще раз обратились к королеве Елизавете, однако эта осторожная государыня опасалась выступить в качестве явной противницы Марии Стюарт именно теперь, когда шотландская королева могла назвать себя победительницей. Победа придала мужества воинственной королеве, и, в пылком нетерпении уничтожить своих противников и отомстить Мюррею, она назначила заклятого его врага, графа Босвела, генерал-адмиралом Шотландии, католического графа Этола поставила во главе Тайного совета и поручила Риччио начать переговоры с папой и с Испанией, чтобы снова обратить Шотландию в католичество. Соглашение о перемирии, предложенное ей Мюрреем, Мария Стюарт отвергла с гордостью.
В третий раз выступила королева в поход, рассеяла отряды Мюррея и прогнала его за английскую границу.
Эта жизнь, полная подвижности, предприимчивости и борьбы, опьяняла ее. Победа для Марии Стюарт была началом мщения. Она только и думала о том, чтобы раздавить мятежных лордов, и с этой целью приказала судить их, как изменников, отняла у них имущество и государственные должности; ее планы в то время были гораздо обширнее и смелее. Все королевство преклонялось перед ней. В состав шотландского дворянства входили двадцать один граф и двадцать восемь лордов; из этого числа только пять графов и три лорда шли ей наперекор, да и те находились в бегах. Мария Стюарт надеялась довести Елизавету до раскаяния в том, что та не признала ее наследницей. Когда Марии Стюарт доказывали, что она утомляется через меру своей походной жизнью, сопровождая армию даже в суровое зимнее время, она отвечала, что готова переносить всякие тяготы, пока не приведет своих верных воинов в Лондон.
Королева Елизавета скрежетала зубами от ярости, когда до нее доносились угрозы противницы, но ей приходилось очень туго, потому что Франция и Испания приняли сторону Марии, а в самой Англии грозною силою являлась для Елизаветы католическая партия. Поэтому она была принуждена лицемерить, и у нее хватило наглости попрекнуть бежавшего Мюррея за мятеж, уговаривать его подчиниться Марии и просить у нее пощады.
Мария Стюарт никогда еще не занимала столь важного положения, как в то время. Внутри королевства ей повиновались, а вне его пределов ее уважали. От ее ловкости зависело утвердить могущество, завоеванное ее мужеством. Если бы она выказала себя милостивой правительницей и простила Мюррея и прочих изгнанников, то заслужила бы тем их признательность и верность. После унижений, только что вынесенных ими в Англии, они сочли бы за счастье возможность вернуться назад в Шотландию, и так как им нечего было рассчитывать более на лукавую Елизавету, то эти люди снова примкнули бы к великодушной Марии. Таким способом королева расстроила бы английскую партию у себя в государстве, укрепив заодно шотландскую — в Англии. Но Мария Стюарт не сделала этого.


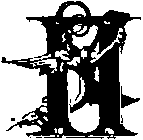 Парламент был открыт. Десятого марта 1566 года в него должны были поступить представления королевы, однако заговорщики решили опередить ее.
Накануне королева собрала в своей столовой круг приближенных. Она любила интимные вечеринки, щеи не вспоминали о королевском блеске и о стеснительном этикете. На них присутствовал обыкновенно только женщины, но в последнее время допускался и Риччио, размещавший приглашенных дам своими разнообразными талантами.
В покоях королевы раздавалось мелодичное пение Джэн Сэйтон под звуки лютни, когда Генрих Дарнлей под прикрытием темноты прокрался по усыпанному гравием двору к наружным воротам, приказал караульным отворить ворота, и отряд в полтораста человек солдат, приведенный Мюрреем и спрятанный им поблизости замка, проник в Голируд. Дарнлей сам провел этих людей в темный двор, куда выходили окна королевских покоев, и спрятал их в обширном сарае, после чего вернулся обратно в свои комнаты, где тем временем собрались заговорщики.
Для них не было тайной, что королева принимала Риччио в своем интимном кружке, что он был единственным мужчиной в обществе женщин, безусловно преданным ей, и теперь даже Дуглас не сомневался в том, что итальянец в своей роли был счастливее Кастеляра. Лорд Мортон потребовал, чтобы Риччио был арестован на глазах королевы и вздернут на виселицу после суда над ним. Но прочие единогласно решили умертвить его в присутствии государыни, хотя она готовилась в скором времени сделаться матерью.
В восемь часов вечера Дарнлей повел вооруженных с головы до ног заговорщиков по винтовой лестнице в спальню королевы, откуда было слышно каждое слово, сказанное в столовой. Дарнлей условился со своими друзьями, что сначала он один войдет в столовую, и лишь на его зов: «Ко мне, Дуглас!» — они должны прийти к нему на помощь.
В комнате королевы царило веселье. Глаза Риччио сияли, счастьем, он был безоружен, потому что ношение оружия составляло привилегию лишь дворянства. Но мог ли он стремиться к внешним почестям, когда все его сердце было переполнено блаженством от сознания, что он любим взаимно? Кажется, никогда еще между сердцами монархини и ее подданного не существовало такое чистое, но вместе с тем такое искреннее и близкое общение, как здесь.
Джэн Сэйтон пела песню о любви, ее сестра мечтательно уставилась взглядом в пространство. Мария Стюарт посмотрела в глаза Риччио и прошептала:
— Тоска о любимом существе приятнее самого упоительного счастья. Она не проходит, а остается вечно юной и таит в самой своей скорби величайшее наслаждение.
Вдруг двери королевской спальни отворились, и Дарнлей, вооруженный мечом, приблизился к креслу супруги.
Пораженная, Мария Стюарт вскочила с места и вдруг услыхала в спальне тяжелые шаги, приближавшиеся к портьере, она медленно отошла от нее — и на пороге показался лорд Рутвен, в латах и полном вооружении, бледный как призрак, с обнаженным мечом в руке.
— Что вам угодно, милорд? — дрожащим голосом воскликнула королева, трепеща от страха и тревоги. — Не с ума ли вы сошли, что осмеливаетесь входить ко мне в покои без доклада и в боевых доспехах?
— Вот кто мне нужен! — глухо ответил Рутвен и, подняв закованную в железо руку, протянул ее в сторону итальянца. — Я ищу этого Давида Риччио, который засиделся слишком долго в личных покоях шотландской королевы, соизвольте его удалить.
— А какое преступление совершил он? — бледнея, воскликнула Мария.
— Величайший и самый отвратительный грех против вашего величества, против принца, вашего супруга, против дворянства и всего народа.
— Ко мне, Дуглас! — сказал Дарнлей.
Риччио спрятался за королеву, которая выпрямилась, как разъяренная львица.
— Если Риччио совершил преступление, — гневно продолжала она, — то пусть его судит парламент, а вас, лорд Дарнлей, я спрашиваю, не вы ли устроили это дерзкое нападение?
— Нет, — мрачно ответил Дарнлей.
— Тогда убирайтесь вон под страхом смертной казни за государственную измену! — грозно крикнула Мария на лорда Рутвена.
Однако остальные заговорщики уже успели проникнуть в комнату, они опрокинули стол и схватили Риччио, который с отчаянными воплями: «Правосудия! Правосудия!» — старался увернуться от направленных на него обнаженных шпаг, Он судорожно вцепился в складки платья королевы, но Дарнлей оттащил его от Марии. На ее приближенных дам были направлены пистолеты, чтобы никто из них не посмел вступиться за несчастного. Андрей Кэрью приставил кинжал даже к груди королевы.
— Сжальтесь над ним! — умоляла она.
Но Дуглас выхватил у короля кинжал из ножен и всадил его в грудь Риччио. Тот издал хриплый вопль и рухнул на пол. Убийцы оттащили его за ноги от королевы, и заговорщики бесчеловечно доконали раненого, нанеся ему пятьдесят шесть ударов кинжалами и шпагами.
Бледная и дрожащая стояла Мария во время этой жестокой расправы. Железная рука Дарнлея крепко держала ее. Появился лорд Рутвен, обессиленный опустился на стул и, показав окровавленный кинжал, пробормотал Дарнлею упавшим голосом:
— Он лежит, весь разбитый, на мостовой двора, мы выкинули из окошка труп негодяя, чтобы псы лизали его кровь.
— Перед королевой не сидят! — воскликнула Мария, до того возмущенная дерзостью убийцы, что пылкое негодование заглушило в ней на один миг ужас, вызванный кровавым злодейством. — Вон отсюда!
— Ваше величество, я сижу только потому, что изнемог от болезни. Ради вашей чести и чести вашего супруга я встал с постели и притащился сюда, чтобы уничтожить негодяя.
С этими словами лорд Рутвен налил себе вина и осушил его.
— Так это вы нанесли мне такое бесчестье? — дрожа от гнева, обратилась Мария к своему супругу. — Вы, которого я возвысила из опальных до королевского трона? Ах вы, изменник! — воскликнула она с лихорадочной дрожью. — Возможно, что мне никогда не удастся отомстить вам, потому что я — лишь женщина, но тот ребенок, которого я ношу под сердцем, не должен называться моим сыном, если он не сумеет отплатить за мать!
— Вы не принимали меня, вашего супруга, когда при вас находился Риччио. Вы не хотели знать меня по целым месяцам, тогда как он был вашим поверенным. Ваша и моя честь требовали того, чтобы я допустил убийство этого мерзавца.
— Ваше величество, — вмешался Рутвен, — принц отомстил за свою поруганную честь, мы же освободили страну от предателя, на вашу пагубу вкравшегося в ваше доверие. Он склонял вас к тому, чтобы тиранить дворянство, обречь на изгнание бежавших лордов, угрожать господствующей религии и затеять позорную измену посредством союза с католическими государями. Он внушил вам избрать опальных графов Босвела и Гэнтли в свой Тайный совет, Давид Риччио был изменником по отношению к вам, ваше величество, и к Шотландии.
Мария поняла, что попала во власть своих врагов из-за своей легкомысленной беззаботности и этим промахом зачеркнула все одержанные победы.
— Эта кровь должна быть отмщена, клянусь моей жизнью! — промолвила она, плача от горя и ярости. — Я скорее соглашусь умереть, чем перенести такое поругание!
— Сохрани вас Бог от этого, ваше величество! — возразил Рутвен. — Чем более выкажете вы себя оскорбленной, тем строже осудит народ вашу вину.
Парламент был открыт. Десятого марта 1566 года в него должны были поступить представления королевы, однако заговорщики решили опередить ее.
Накануне королева собрала в своей столовой круг приближенных. Она любила интимные вечеринки, щеи не вспоминали о королевском блеске и о стеснительном этикете. На них присутствовал обыкновенно только женщины, но в последнее время допускался и Риччио, размещавший приглашенных дам своими разнообразными талантами.
В покоях королевы раздавалось мелодичное пение Джэн Сэйтон под звуки лютни, когда Генрих Дарнлей под прикрытием темноты прокрался по усыпанному гравием двору к наружным воротам, приказал караульным отворить ворота, и отряд в полтораста человек солдат, приведенный Мюрреем и спрятанный им поблизости замка, проник в Голируд. Дарнлей сам провел этих людей в темный двор, куда выходили окна королевских покоев, и спрятал их в обширном сарае, после чего вернулся обратно в свои комнаты, где тем временем собрались заговорщики.
Для них не было тайной, что королева принимала Риччио в своем интимном кружке, что он был единственным мужчиной в обществе женщин, безусловно преданным ей, и теперь даже Дуглас не сомневался в том, что итальянец в своей роли был счастливее Кастеляра. Лорд Мортон потребовал, чтобы Риччио был арестован на глазах королевы и вздернут на виселицу после суда над ним. Но прочие единогласно решили умертвить его в присутствии государыни, хотя она готовилась в скором времени сделаться матерью.
В восемь часов вечера Дарнлей повел вооруженных с головы до ног заговорщиков по винтовой лестнице в спальню королевы, откуда было слышно каждое слово, сказанное в столовой. Дарнлей условился со своими друзьями, что сначала он один войдет в столовую, и лишь на его зов: «Ко мне, Дуглас!» — они должны прийти к нему на помощь.
В комнате королевы царило веселье. Глаза Риччио сияли, счастьем, он был безоружен, потому что ношение оружия составляло привилегию лишь дворянства. Но мог ли он стремиться к внешним почестям, когда все его сердце было переполнено блаженством от сознания, что он любим взаимно? Кажется, никогда еще между сердцами монархини и ее подданного не существовало такое чистое, но вместе с тем такое искреннее и близкое общение, как здесь.
Джэн Сэйтон пела песню о любви, ее сестра мечтательно уставилась взглядом в пространство. Мария Стюарт посмотрела в глаза Риччио и прошептала:
— Тоска о любимом существе приятнее самого упоительного счастья. Она не проходит, а остается вечно юной и таит в самой своей скорби величайшее наслаждение.
Вдруг двери королевской спальни отворились, и Дарнлей, вооруженный мечом, приблизился к креслу супруги.
Пораженная, Мария Стюарт вскочила с места и вдруг услыхала в спальне тяжелые шаги, приближавшиеся к портьере, она медленно отошла от нее — и на пороге показался лорд Рутвен, в латах и полном вооружении, бледный как призрак, с обнаженным мечом в руке.
— Что вам угодно, милорд? — дрожащим голосом воскликнула королева, трепеща от страха и тревоги. — Не с ума ли вы сошли, что осмеливаетесь входить ко мне в покои без доклада и в боевых доспехах?
— Вот кто мне нужен! — глухо ответил Рутвен и, подняв закованную в железо руку, протянул ее в сторону итальянца. — Я ищу этого Давида Риччио, который засиделся слишком долго в личных покоях шотландской королевы, соизвольте его удалить.
— А какое преступление совершил он? — бледнея, воскликнула Мария.
— Величайший и самый отвратительный грех против вашего величества, против принца, вашего супруга, против дворянства и всего народа.
— Ко мне, Дуглас! — сказал Дарнлей.
Риччио спрятался за королеву, которая выпрямилась, как разъяренная львица.
— Если Риччио совершил преступление, — гневно продолжала она, — то пусть его судит парламент, а вас, лорд Дарнлей, я спрашиваю, не вы ли устроили это дерзкое нападение?
— Нет, — мрачно ответил Дарнлей.
— Тогда убирайтесь вон под страхом смертной казни за государственную измену! — грозно крикнула Мария на лорда Рутвена.
Однако остальные заговорщики уже успели проникнуть в комнату, они опрокинули стол и схватили Риччио, который с отчаянными воплями: «Правосудия! Правосудия!» — старался увернуться от направленных на него обнаженных шпаг, Он судорожно вцепился в складки платья королевы, но Дарнлей оттащил его от Марии. На ее приближенных дам были направлены пистолеты, чтобы никто из них не посмел вступиться за несчастного. Андрей Кэрью приставил кинжал даже к груди королевы.
— Сжальтесь над ним! — умоляла она.
Но Дуглас выхватил у короля кинжал из ножен и всадил его в грудь Риччио. Тот издал хриплый вопль и рухнул на пол. Убийцы оттащили его за ноги от королевы, и заговорщики бесчеловечно доконали раненого, нанеся ему пятьдесят шесть ударов кинжалами и шпагами.
Бледная и дрожащая стояла Мария во время этой жестокой расправы. Железная рука Дарнлея крепко держала ее. Появился лорд Рутвен, обессиленный опустился на стул и, показав окровавленный кинжал, пробормотал Дарнлею упавшим голосом:
— Он лежит, весь разбитый, на мостовой двора, мы выкинули из окошка труп негодяя, чтобы псы лизали его кровь.
— Перед королевой не сидят! — воскликнула Мария, до того возмущенная дерзостью убийцы, что пылкое негодование заглушило в ней на один миг ужас, вызванный кровавым злодейством. — Вон отсюда!
— Ваше величество, я сижу только потому, что изнемог от болезни. Ради вашей чести и чести вашего супруга я встал с постели и притащился сюда, чтобы уничтожить негодяя.
С этими словами лорд Рутвен налил себе вина и осушил его.
— Так это вы нанесли мне такое бесчестье? — дрожа от гнева, обратилась Мария к своему супругу. — Вы, которого я возвысила из опальных до королевского трона? Ах вы, изменник! — воскликнула она с лихорадочной дрожью. — Возможно, что мне никогда не удастся отомстить вам, потому что я — лишь женщина, но тот ребенок, которого я ношу под сердцем, не должен называться моим сыном, если он не сумеет отплатить за мать!
— Вы не принимали меня, вашего супруга, когда при вас находился Риччио. Вы не хотели знать меня по целым месяцам, тогда как он был вашим поверенным. Ваша и моя честь требовали того, чтобы я допустил убийство этого мерзавца.
— Ваше величество, — вмешался Рутвен, — принц отомстил за свою поруганную честь, мы же освободили страну от предателя, на вашу пагубу вкравшегося в ваше доверие. Он склонял вас к тому, чтобы тиранить дворянство, обречь на изгнание бежавших лордов, угрожать господствующей религии и затеять позорную измену посредством союза с католическими государями. Он внушил вам избрать опальных графов Босвела и Гэнтли в свой Тайный совет, Давид Риччио был изменником по отношению к вам, ваше величество, и к Шотландии.
Мария поняла, что попала во власть своих врагов из-за своей легкомысленной беззаботности и этим промахом зачеркнула все одержанные победы.
— Эта кровь должна быть отмщена, клянусь моей жизнью! — промолвила она, плача от горя и ярости. — Я скорее соглашусь умереть, чем перенести такое поругание!
— Сохрани вас Бог от этого, ваше величество! — возразил Рутвен. — Чем более выкажете вы себя оскорбленной, тем строже осудит народ вашу вину.


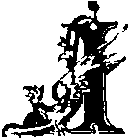 Лорд Лейстер покинул замок Кэнмор, чтобы отправиться в Лондон и представить королеве отчет о своем неудачном сватовстве в Шотландии. Он так наслаждался в объятиях Филли, что горел нетерпением опять вернуться домой. Дэдлей сдержал слово. Без всякой пышности, в глуши уединения, состоялась его свадьба. Кэнморский священник в присутствии Ламберта и его дочери вложил руку Филли в руку лорда, и счастье назвать нераздельно своим прелестное существо, которое, казалось, жило и дышало только им, опьянило его.
Филли не возражала, когда муж предложил ей держать пока в тайне их брак. Горячие поцелуи были ее единственным ответом: ведь Дэдлей был ее миром, ее гордостью; все сосредоточивалось для нее в нем одном.
Лейстер был бы самым бесчувственным негодяем, если бы у него явилась хотя бы отдаленная мысль обмануть Филли, чувство стояло у него на первом плане, оно вспыхивало в нем, как солома, и он не сомневался, что огонь страсти в нем вечен.
По дороге в Лондон он болтал с Кингтоном о своем счастье и рисовал яркими красками свои идиллические мечты, не замечая улыбки хитрого слуги, который совершенно не догадывался о том, что его господин успел уже дать свое имя похищенной им девушке.
Пельдрама послали вперед заказать помещение. Лейстер объявил, что намерен провести в Лондоне никак не больше трех дней, но Кингтон шепнул конюшему:
— Пусть кастелян Лейстер-Хауза приготовится, мы проведем в Лондоне всю зиму.
Чем ближе подъезжал Дэдлей к резиденции Елизаветы, тем сильнее ныло у него сердце. Он боялся, как бы королева не задержала его при своем дворе на более продолжительный срок.
Елизавета, узнав о прибытии Лейстера, назначила час приема. Для этого она выбрала не большой аудиенц-зал, а менее обширную, хотя не менее роскошную комнату.
Елизавете было тридцать лет. Не будучи безусловно красивой, она имела в себе что-то ослепительное и умела усилить это свойство своими туалетами. Однако, умная, страстная и полная величия, королева была подвержена слабости тщеславия и слишком уверена в своей обольстительности. Поэтому она часто соединяла самые непринужденные проявления своей прихоти с внушительным величием, гордое достоинство с бесцеремонностью, неприступность в своем высоком звании с женским кокетством.
В день приема Лейстера на Елизавете была великолепная, вышитая золотом бархатная юбка, а опушенный мехом корсаж облегал грациозный бюст; в золотисто-белокурые волосы были вплетены шнуры, унизанные блестящими драгоценными камнями, под высоким стоячим воротником сверкали бриллианты.
Для своего первого появления перед Елизаветой Лейстер выбрал дорогой, но неприхотливый костюм. Он явился не победителем, его отвергли, и, когда он с потупленным видом преклонил колено перед королевой, которой прежде так смело смотрел в лицо, Елизавета почувствовала, что должна дать ему удовлетворение как государыня и как женщина.
— Встаньте, милорд Лейстер! — сказала она, благосклонно глядя на него. — Мы уведомлены лордом Рандольфом о результате вашего посольства и не ставим вам в вину того, что наши надежды не осуществились. Мы не вправе порицать шотландскую королеву за то что она отвергла искательства иностранных государей, так как и нам самим политика и наша личная склонность предписывали отклонить сватовство тех же самых коронованных особ. Но мы надеялись, что наша сестра, нуждавшаяся как женщина и королева в опоре, придаст некоторую цену нашей рекомендации. Мы ошиблись в своих предположениях и должны, к сожалению, признать, что именно наши доброжелательные советы были единственной причиной того, что вас приняли подозрительно. Тем горячее благодарим мы вас за ваше усердие и готовность исполнять наши желания и в знак нашего королевского благоволения назначаем вас старшим шталмейстером нашего двора.
Дэдлей был так озадачен этим милостивым приемом, решительно не согласовывавшимся со всеми его ожиданиями, что позабыл поблагодарить королеву за дарованное ему отличие и не сразу нашелся, что ответить.
— Милорд, — спросила пораженная государыня, — наша милость пришлась вам не по душе?
Дэдлей, вторично преклонив колено, ответил:
— Ваше величество, я был готов к немилостивому приему, потому что заслужил его, а вы осыпаете меня своими щедротами. Я показал себя недостойным оказанного мне доверия и сделал уже необходимые распоряжения, чтобы в тихом уединении своих поместий сожалеть о том, что мне не посчастливилось исполнить ваши желания. Первая услуга, которой потребовала от меня благосклонность вашего величества, окончилась неудачей, а незаслуженная новая милость может только пристыдить меня вместо того, чтобы придать мне бодрости. Поэтому прошу вас, ваше величество, уволить меня, недостойного слугу, от занимаемых мною должностей.
Для Елизаветы существовало только два объяснения такой странной подавленности Лейстера: или отказ Марии разбил у него заветные надежды, и тогда, следовательно, он забыл ее ради шотландской королевы; или же этот самолюбивый человек рассердился на нее за то, что она навязывала ему супругу, и в таком случае гордость не дозволяла ему оставаться у нее на службе.
— Милорд, — возразила она, — вы смелы! Вы позволяете себе опровергать мое решение, вы называете себя недостойным, когда я намерена вас наградить. Не совершили ли вы какого-нибудь безрассудства, которое скрыл от меня лорд Рандольф? Или вы полагаете, что тот, кто домогался руки Марии Стюарт, не может быть слугою английской королевы? Говорю серьезно, обдумайте свой ответ. Нам интересно послушать, воздух Шотландии или вид нашей венценосной сестры произвел в вас такую перемену, что вы пренебрегаете тем, что в былое время сочли бы для себя за высокую честь.
— Ваше величество, — ответил. Дэдлей, — ни воздух Шотландии, ни вид королевы Марии Стюарт не изменили меня, а еще того менее осмеливаюсь я опровергать ваше решение. Я только прошу позволения не принимать вашей милости, потому что чувствую себя недостойным ее и полагаю, что не заслуживаю нового доверия. С той минуты, как я покинул Лондон, я смотрел на себя, как на изгнанника, на которого возложили известную задачу. Если бы она удалась, мною остались бы довольны, но не вернули бы меня из печального изгнания, а в случае неудачи милость королевы могла бы даровать мне прощение.
Елизавета угадала упрек, скрытый в этих словах, и он дал ей понять, что Лейстер отвергает благоволение королевы только из-за того, что ему пришлось отказаться от благосклонности, которую она дарила ему как женщина. Она самодовольно улыбнулась, ее тщеславие одержало победу и было польщено тем, что Дэдлей не забыл ее в Голируде. И все чувства, охватившие ее при первой встрече с этим красавцем, опять ожили в ней.
— Милорд, — заключила она, — я не увольняю вас от ваших должностей: мне нужно прежде убедиться, насколько основательна была ваша скромность. Но прежде всего я ожидаю от вас отчета в вашей миссии. Государственные дела в Шотландии мне непонятны; надеюсь, что вы достаточно наблюдательны, чтобы вывести верные заключения хотя бы о странном выборе, сделанном моей сестрой. Двор я отпускаю. Милорд Лейстер, следуйте за мной в мой кабинет.
Лорд Лейстер покинул замок Кэнмор, чтобы отправиться в Лондон и представить королеве отчет о своем неудачном сватовстве в Шотландии. Он так наслаждался в объятиях Филли, что горел нетерпением опять вернуться домой. Дэдлей сдержал слово. Без всякой пышности, в глуши уединения, состоялась его свадьба. Кэнморский священник в присутствии Ламберта и его дочери вложил руку Филли в руку лорда, и счастье назвать нераздельно своим прелестное существо, которое, казалось, жило и дышало только им, опьянило его.
Филли не возражала, когда муж предложил ей держать пока в тайне их брак. Горячие поцелуи были ее единственным ответом: ведь Дэдлей был ее миром, ее гордостью; все сосредоточивалось для нее в нем одном.
Лейстер был бы самым бесчувственным негодяем, если бы у него явилась хотя бы отдаленная мысль обмануть Филли, чувство стояло у него на первом плане, оно вспыхивало в нем, как солома, и он не сомневался, что огонь страсти в нем вечен.
По дороге в Лондон он болтал с Кингтоном о своем счастье и рисовал яркими красками свои идиллические мечты, не замечая улыбки хитрого слуги, который совершенно не догадывался о том, что его господин успел уже дать свое имя похищенной им девушке.
Пельдрама послали вперед заказать помещение. Лейстер объявил, что намерен провести в Лондоне никак не больше трех дней, но Кингтон шепнул конюшему:
— Пусть кастелян Лейстер-Хауза приготовится, мы проведем в Лондоне всю зиму.
Чем ближе подъезжал Дэдлей к резиденции Елизаветы, тем сильнее ныло у него сердце. Он боялся, как бы королева не задержала его при своем дворе на более продолжительный срок.
Елизавета, узнав о прибытии Лейстера, назначила час приема. Для этого она выбрала не большой аудиенц-зал, а менее обширную, хотя не менее роскошную комнату.
Елизавете было тридцать лет. Не будучи безусловно красивой, она имела в себе что-то ослепительное и умела усилить это свойство своими туалетами. Однако, умная, страстная и полная величия, королева была подвержена слабости тщеславия и слишком уверена в своей обольстительности. Поэтому она часто соединяла самые непринужденные проявления своей прихоти с внушительным величием, гордое достоинство с бесцеремонностью, неприступность в своем высоком звании с женским кокетством.
В день приема Лейстера на Елизавете была великолепная, вышитая золотом бархатная юбка, а опушенный мехом корсаж облегал грациозный бюст; в золотисто-белокурые волосы были вплетены шнуры, унизанные блестящими драгоценными камнями, под высоким стоячим воротником сверкали бриллианты.
Для своего первого появления перед Елизаветой Лейстер выбрал дорогой, но неприхотливый костюм. Он явился не победителем, его отвергли, и, когда он с потупленным видом преклонил колено перед королевой, которой прежде так смело смотрел в лицо, Елизавета почувствовала, что должна дать ему удовлетворение как государыня и как женщина.
— Встаньте, милорд Лейстер! — сказала она, благосклонно глядя на него. — Мы уведомлены лордом Рандольфом о результате вашего посольства и не ставим вам в вину того, что наши надежды не осуществились. Мы не вправе порицать шотландскую королеву за то что она отвергла искательства иностранных государей, так как и нам самим политика и наша личная склонность предписывали отклонить сватовство тех же самых коронованных особ. Но мы надеялись, что наша сестра, нуждавшаяся как женщина и королева в опоре, придаст некоторую цену нашей рекомендации. Мы ошиблись в своих предположениях и должны, к сожалению, признать, что именно наши доброжелательные советы были единственной причиной того, что вас приняли подозрительно. Тем горячее благодарим мы вас за ваше усердие и готовность исполнять наши желания и в знак нашего королевского благоволения назначаем вас старшим шталмейстером нашего двора.
Дэдлей был так озадачен этим милостивым приемом, решительно не согласовывавшимся со всеми его ожиданиями, что позабыл поблагодарить королеву за дарованное ему отличие и не сразу нашелся, что ответить.
— Милорд, — спросила пораженная государыня, — наша милость пришлась вам не по душе?
Дэдлей, вторично преклонив колено, ответил:
— Ваше величество, я был готов к немилостивому приему, потому что заслужил его, а вы осыпаете меня своими щедротами. Я показал себя недостойным оказанного мне доверия и сделал уже необходимые распоряжения, чтобы в тихом уединении своих поместий сожалеть о том, что мне не посчастливилось исполнить ваши желания. Первая услуга, которой потребовала от меня благосклонность вашего величества, окончилась неудачей, а незаслуженная новая милость может только пристыдить меня вместо того, чтобы придать мне бодрости. Поэтому прошу вас, ваше величество, уволить меня, недостойного слугу, от занимаемых мною должностей.
Для Елизаветы существовало только два объяснения такой странной подавленности Лейстера: или отказ Марии разбил у него заветные надежды, и тогда, следовательно, он забыл ее ради шотландской королевы; или же этот самолюбивый человек рассердился на нее за то, что она навязывала ему супругу, и в таком случае гордость не дозволяла ему оставаться у нее на службе.
— Милорд, — возразила она, — вы смелы! Вы позволяете себе опровергать мое решение, вы называете себя недостойным, когда я намерена вас наградить. Не совершили ли вы какого-нибудь безрассудства, которое скрыл от меня лорд Рандольф? Или вы полагаете, что тот, кто домогался руки Марии Стюарт, не может быть слугою английской королевы? Говорю серьезно, обдумайте свой ответ. Нам интересно послушать, воздух Шотландии или вид нашей венценосной сестры произвел в вас такую перемену, что вы пренебрегаете тем, что в былое время сочли бы для себя за высокую честь.
— Ваше величество, — ответил. Дэдлей, — ни воздух Шотландии, ни вид королевы Марии Стюарт не изменили меня, а еще того менее осмеливаюсь я опровергать ваше решение. Я только прошу позволения не принимать вашей милости, потому что чувствую себя недостойным ее и полагаю, что не заслуживаю нового доверия. С той минуты, как я покинул Лондон, я смотрел на себя, как на изгнанника, на которого возложили известную задачу. Если бы она удалась, мною остались бы довольны, но не вернули бы меня из печального изгнания, а в случае неудачи милость королевы могла бы даровать мне прощение.
Елизавета угадала упрек, скрытый в этих словах, и он дал ей понять, что Лейстер отвергает благоволение королевы только из-за того, что ему пришлось отказаться от благосклонности, которую она дарила ему как женщина. Она самодовольно улыбнулась, ее тщеславие одержало победу и было польщено тем, что Дэдлей не забыл ее в Голируде. И все чувства, охватившие ее при первой встрече с этим красавцем, опять ожили в ней.
— Милорд, — заключила она, — я не увольняю вас от ваших должностей: мне нужно прежде убедиться, насколько основательна была ваша скромность. Но прежде всего я ожидаю от вас отчета в вашей миссии. Государственные дела в Шотландии мне непонятны; надеюсь, что вы достаточно наблюдательны, чтобы вывести верные заключения хотя бы о странном выборе, сделанном моей сестрой. Двор я отпускаю. Милорд Лейстер, следуйте за мной в мой кабинет.


 Вскоре при дворе все стали считать графа Лейстера действительным фаворитом Елизаветы, и для его честолюбия не могло быть лестнее роли того человека, ради которого королева отвергла одного за другим царственных претендентов на ее руку.
Екатерина Медичи счастливо покончила с первой гражданской войной и теперь искала союза с Елизаветой, чтобы лишить гугенотов их покровительницы. Французскому послу де Фуа было поручено передать королеве послание, в котором Екатерина просила руки Елизаветы для своего сына, французского короля Карла IX. Елизавета несколько раз менялась в лице во время чтения этого письма. Видно было, что она и польщена, и смущена, наконец она ответила, что предложение такой чести переполняет ее любовью и уважением к вдовствующей французской королеве, но, очевидно, последняя плохо осведомлена относительно ее, Елизаветы, возраста. Она слишком стара для такого юного короля, как Карл IX, и он может пренебречь ею, как король испанский пренебрег ее покойной сестрой Марией.
Де Фуа пытался переубедить королеву и склонял ее советников в пользу этого брака, но против этого выступил испанский посланник де Сильва.
— Ваше величество, — спросил он однажды, — говорят, будто вы собираетесь выйти замуж за французского короля?
Елизавета рассмеялась и, опустив голову, ответила:
— Теперь как раз пост, поэтому я готова исповедаться вам. Относительно моего брака ведутся переговоры с королями Франции, Швеции и Дании. Из числа неженатых государей остается один только испанский инфант, который еще не удостоил меня чести просить моей руки.
— Ваше величество, мой повелитель уверен, что вы не желаете выходить замуж вообще, раз вы отклонили предложение его, величайшего государя христианского мира, хотя, как вы сами изволили уверять, вы и были лично расположены к нему.
— О, это не совсем так, — уклончиво возразила Елизавета. — В то время я менее думала о замужестве, чем теперь. Мне надоедают с этим, и я по временам почтя готова решиться на подобный шаг, чтобы избавиться от тех сплетен, которым подвергается женщина, не желающая выходить замуж. Уверяют, будто мое намерение не выходить замуж является следствием физического недостатка, а некоторые идут еще далее и приписывают мне очень плохие побуждения. Так, например, уверяют, будто я потому не хочу выходить замуж, что люблю графа Лейстера, а за него не хочу выйти потому, что он — мой подданный. Другие же считают, что я просто не уверена в крепости своего чувства. Всех языков не свяжешь,но истина когда-нибудь выплывет на свет, и вы, равно как и другие, узнаете, что именно руководит мной.
И с тех пор стало известно всем, что она хоть и шутя, но все-таки открыто призналась в своем расположении к графу Лейстеру. А французский посол, получив отрицательный ответ, стал поддерживать Лейстера, чтобы не допустить сближения Елизаветы с Испанией.
Прошли месяцы с тех пор, как Елизавета побудила Лейстера начать борьбу за ее руку и сердце, но ни разу еще она не давала ему случая быть с нею наедине. А между тем он был признанным фаворитом и занимал высшие придворные должности. Никто и не подозревал, что в часы кратких отлучек, когда Лейстер покидал Лондон под предлогом охоты или частных дел он наслаждался в объятиях любимой жены. Все ожидали, что рано или поздно королева объявит о том, что ее выбор пал на Лейстера, поэтому высшие чины и знатнейшие дворяне королевства окружали его лестью и почетом, хотя втайне и завидовали росту его влияния. А Дэдлей действительно становился тем более влиятельным, чем более старался делать вид, будто политические вопросы совершенно не интересуют его. Он понял, что несмотря на всю остроту и величие своего ума, Елизавета подозрительно относилась к тому, кто не умел давать ей советы так, чтобы ей казалось, будто бы она сама додумалась до этого, и, конечно, отлично использовал это для укрепления своей власти.
С каждым днем Лейстер чувствовал себя все тверже и тверже. Казалось, что его тайна соблюдается великолепно. Сэррей боролся в Шотландии против партии Мюррея, поддерживаемой Елизаветой, так что считался чуть ли не врагом Англии. Вальтер Брай отправился во Францию, и о нем не было ни слуху, ни духу. Священник, венчавший Лейстера, был отправлен в дальнюю провинцию и посажен на отличный приход, за что поклялся хранить молчание. На Ламберта же можно было смело положиться. Словом, Лейстеру пока нечего было бояться.
Королева Елизавета дала ему однажды какое-то маловажное поручение, он явился, чтобы доложить ей о результатах, и был уверен встретить у нее лорда Бэрлея. Даже и тогда, когда маршал сообщил ему, что королева одна, он был далек от мысли, что приближается решительный момент, — ведь в последнее время Елизавета с большой ясностью и определенностью указала ему на границы его поклонения.
В своем голубом будуаре королева сидела на диване и казалась настолько погруженной в чтение, что даже не заметила появления Дэдлея, хотя ей только что было доложено о нем. На ней было легкое платье, плотно облегавшее ее тело и прекрасно обрисовывавшее ее благородные, роскошные формы. Лицо ее чуть-чуть порозовело, прелестная шея изящно белела в облаках легкого газа, под бархатом одежды вздымалась девственная грудь, а нежная белая ручка шаловливо играла золотистыми локонами, тогда как локоть слегка опирался на поверхность стола. Маленькие ноги покоились на мягкой скамеечке, и из-под юбки, словно любопытствуя, выглядывали кончики атласных туфель. Прошло несколько минут, пока она подняла голову и взглянула на почтительно ждавшего у дверей графа. Однако Лейстер либо действительно замечтался в созерцании ее образа, либо был достаточно искусным царедворцем, чтобы притворно изобразить это, во всяком случае он не заметил взгляда королевы, как будто бы весь ушел в созерцание.
— Это — вы, лорд Дэдлей? — улыбаясь, спросила она. — Я заставила вас ждать!…
Он вздрогнул, словно просыпаясь от сладких грез, и ответил:
— Ваше величество, на момент я был далеко от земли…
— Что же вознесло вас на небо?
— Я представил себе, будто я — душа скамейки, на которую опирается ваша ножка, она поддерживает вас, хотя вы даже и не замечаете ее, а все-таки ее бархат осмеливается прикасаться к вам. Она служит вам, и, если бы вдруг ее не оказалось здесь, вы почувствовали бы ее отсутствие, ваша ножка невольно стала бы искать ее, притянула бы к себе и прижала бы, чтобы удержать.
— Вы умеете льстить! Вы, кажется, завидуете этой ничтожной вещи за то, что она оказывает мне услугу.
— Ваше величество, именно из-за этого она и достойна зависти! Возможность оказать вам услугу, будь она хоть самой малой, но непременно такой, какую не мог бы оказать вам никто другой, — была бы величайшим счастьем для меня. Поддерживать вас, сметь смотреть на вас, на вызывая в вас протеста, быть около вас не замеченным вами, тайно принадлежать вам, быть вашим — разве это не было бы слаще и отраднее, чем теперь утопать в благоволении и дрожать от страха потерять вас на следующий день, вечно витать между небом и адом, быть игрушкой прихоти?..
— Нет, не прихоти, Дэдлей, — с упреком возразила Елизавета. — Я надеюсь, что в ваших глазах я не являюсь пустой кокеткой, а моя милость — мимолетной улыбкой. Я никогда не обманывала вас! Я откровенно и честно открыла вам свою душу и призналась вам, что вы — единственный мужчина, который мог бы заставить меня уступить желаниям сердца и женской слабости, если бы обязанности, наложенные на меня короной, позволили мне это!
— Но ведь эти королевские обязанности требуют, чтобы вы избрали себе супруга. Ваши подданные умоляют вас об этом, ваши советники желают этого, и единственное, что сопротивляется этому во всей стране, что еще отказывает всем — это ваше сердце!
— Нет, Дэдлей, сердце уже сказало свое слово. Но, несмотря на настояния подданных и представления членов совета, я чувствую, что не смею уступить желаниям сердца. Только я одна могу заглянуть в свою душу и нарисовать картину будущего. Вам я открою свои мысли, чтобы вы не сомневались в моем сердце. Подойдите поближе, загляните в мои глаза, присядьте ко мне! Я, как женщина, считаю себя обязанной смягчить для вас мое жестокое «нет» королевы!
— В таком случае позвольте мне выслушать вас на коленях! — промолвил Лейстер, опускаясь на ковер. — Ведь это — мой приговор, когда же осужденному читают приговор, то он должен преклонить колена. А мне приходится выслушать решение более жестокое, чем смертный приговор: вы приговариваете меня жить с убитым сердцем!
— Нет, вовсе нет, Дэдлей! — шепнула ему королева, и ее лицо покраснело, да и у него при этих словах кровь быстрее хлынула по жилам. — Разве вы так низко цените сознание того, что вы любимы?
— Да, я любим, но все же и отвергнут! Видеть вас и быть для вас меньше, чем эта скамейка, это кресло, птица, которую вы кормите, — о, что может быть ужаснее этого! Ведь вы, как королева, недоступны, прикоснуться к вам — преступление!
— Разве вы не касались моей руки губами?
— Как и сотни других, которые далеки, чужды, безразличны, а иногда и лично противны вам. О, вы не можете понять, что любовь горячее всего сказывается именно в прикосновении. Но вы неприступны. Вы — не женщина, вы только королева…
— Нет, я — женщина, Дэдлей, даже слишком женщина! — шепнула Елизавета, покраснев от смущения и дрожа от страсти, так как он высказал то, что, как она подозревала, ставилось ей в вину. — Прикоснитесь ко мне, посмотрите, как я пламенею, и вы увидите, что и у меня в жилах течет тоже горячая кровь, что и я — женщина… Но вы должны как следует понять меня, вы не должны думать, что мне легко отказываться от счастья.
Лейстер схватил ее руку и почувствовал, как она горит, он видел, что Елизавета дрожит, объятая пламенем страсти, и хотел прижать к губам ее руку, но она сейчас же выдернула ее из его рук, словно боясь, что этот поцелуй заставит ее сдаться.
— Выслушайте меня, — зашептала она и улыбнулась, когда Дэдлей сел к ее ногам, а его рука обласкала ее ногу, опиравшуюся на скамейку. — Мы должны понять друг друга в этот момент. Я хочу облегчить себе борьбу, которая грозит превысить мои силы, потому что мне слишком больно, что ваш взгляд укоряет меня в жестокости, когда я жестока только по отношению к самой себе. И у меня бывают часы, когда я мечтаю о сладком счастье и завидую самой бедной женщине, имеющей возможность найти утешение от всех забот и печалей на груди возлюбленного и право всецело отдаться во власть своих сладких грез. Видите, Дэдлей, я серьезно испытала себя и взвесила все, что соблазняет и что удерживает меня ответить на запросы сердца. Мой отец был великим государем, и только одно пятно позорит его имя, одна слабость привела его к тому, что его достославное царствование превратилось в жестокую тиранию: он не мог сдержать свои вожделения. Чувственная любовь, страсть испить чашу блаженства с той, которая нравилась ему в данный момент, вынуждала его совершать кровавые деяния и жестоко преследовать тех, кто противился ему. Все его слабости всецело овладели им, и величие утонуло в пороке. В моих жилах его кровь, и хотя я — женщина, я все же надеюсь совершить великие дела. Неужели я должна допустить, чтобы мои слабые стороны взяли верх надо мной? Неужели мое правление должно стать для моей страны проклятием вместо благословения? Я буду истинной королевой, если преодолею женскую слабость, но стану только чувственной, колеблющейся женщиной, если последую велениям сердца. Если бы я отдала свою руку иностранному государю, то все дело было бы только в том, чтобы противодействовать чужеземному влиянию. Если же я последую выбору сердца, то потеряю все: я буду не что иное, как только женщина, которую ласками успокаивают в минуты раздражения и поцелуями заставляют молчать. Я уподоблюсь тогда шотландской королеве, забывающей все свои обязанности ради любовных забав. Да и то сказать: я пошла бы в этом дальше ее, и страсть сожгла бы меня уничтожающим пожаром. Этого я не могу допустить. Я хочу управлять Англией, а для этого должна уметь управлять собой. Нога, которой я придавливаю темя бунтовщиков, должна раздавить и того, кто осмелится заставить меня изменить самой себе. Так думаю я, Дэдлей, и если у вас достаточно великая душа, чтобы уважать во мне больше королеву, чем женщину, способную раздразнить мужскую чувственность, тогда вы должны признать, что я не могу протянуть вам руку, не отказавшись от всего, что возвышает меня над остальными женщинами моего двора. Именно потому, что люблю вас, я и опасаюсь за себя, и борюсь с этой любовью. Никто не должен овладеть моей волей, никто не должен отнимать у меня мою свободу!
— Так раздавите навсегда последнюю тень надежды и навсегда оттолкните меня от себя! О, зачем вы — королева, а не нищая? О, зачем наделило вас небо непреодолимейшими чарами женщины, раз вы растаптываете в себе все женские чувства? Я не смею противоречить, я могу только бежать. Что же мне сказать, если женщина, к которой я приближаюсь с обожанием, улыбаясь, кричит мне: «Назад, смертный! Здесь божество!»?
— Нет, вы не смеете бежать от меня, Дэдлей, вы должны облегчить мне борьбу, а не отягощать ее. Быть может, настанет время, когда я почувствую себя достаточно сильной, чтобы быть женщиной, не переставая быть королевой. Останьтесь, потому что иначе меня замучает тоска. Когда вы передо мной, то сознание вашей близости облегчает мне борьбу. Если же вы покинете меня, то во мне проснется ревность, и возможно, что я не найду в себе силы справиться с этой страстью. Останьтесь, Дэдлей! О, какое блаженство видеть возлюбленного и знать, что он твой, что достаточно одного слова — и он будет принадлежать тебе! А разве вам самому мало гордой радости постоянно видеть свою королеву, обращающуюся ко всем с приказаниями, и только к вам одному с просьбой не принадлежать никому, кроме нее? Разве для вас мало утешения по временам иметь право приближаться ко мне, или в тихие часы отдыха, когда я утомлена государственной работой, иметь возможность освежать мое сердце? Неужели вы, мужчины, не можете быть счастливыми без обладания и властвования? Неужели тайный триумф над женским сердцем значит для вас так мало? Неужели вы не способны к той благороднейшей любви, которая становится тем более гордой, чем более покоряет чувства?
— Нет, я способен, ваше величество! Но раз вы способны опьянять чувства, то должны поплатиться за это! — пламенно вымолвил Лейстер. — Пусть это стоит мне головы, но что такое смерть, если, умирая, дерзаешь сорвать цветок любви? Вы любите меня, вы моя, и я ваш! Королева отвергает вассала, но женщина прижимает к своей груди возлюбленного. Убей меня, Елизавета, но сначала я поцелую тебя!
Он обнял королеву и несмотря на ее сопротивление прижался горящими устами к ее губам. Словно опьянев от блаженства, он лежал на груди Елизаветы, и его страсть пронизывала ее кровь. Вдруг, словно проснувшись ото сна, королева вырвалась, гордо выпрямилась, и ее глаза метнули на него поток уничтожающих молний.
Дэдлею стоило жизни, если бы он сказал хоть слово, которое напомнило бы Елизавете о ее унижении. Но он сознавал, что оскорбил монархиню, а потому он упал ниц и прошептал:
— Теперь раздавите меня! Пусть вассал поплатится своей головой.
— Милорд, — пробормотала она, все еще дрожа от возмущения, хотя и смягченная его покорностью, — вы достойны смерти, или в Англии окажется человек, имеющий право называть меня, Елизавету Тюдор, потаскушкой!
— Да, я достоин смерти, если вы как королева не можете помиловать того, кого любите как женщина. Вы говорили, чтобы я стал вашей собственностью и утешал вас в том, что королевский сан не позволяет вам быть такой же женщиной, как другие. Я сорвал с ваших уст брачный поцелуй, так прикажите же как королева судить меня, если не хотите оставить себе игрушку!… Ведь больше, чем игрушкой, я не могу быть для вас!
— Так будьте же моей игрушкой! — покраснев, улыбнулась королева. — Однако не забывайте, что игрушку ищут только тогда, когда чувствуют расположение играть, и что хотя и ласкают и целуют куклу, но она не смеет оживать. Берегитесь, Дэдлей! Я дочь Генриха Восьмого и не всегда расположена прощать дерзость, даже если эта дерзость вызвана мною же самой! Берегитесь львицы, которая ласкает вас!
— Я буду целовать ее, пока она не разорвет меня.
Елизавета сделала ему знак рукой, и Дэдлей вышел из будуара с таким смирением, словно не приближался к королеве иначе, как с почтением, и никогда не чувствовал близко от себя дыхания ее уст.
Елизавета задумчиво посмотрела ему вслед, недовольство исчезло с ее чела, лицо засияло улыбкой нежного блаженства, и с улыбкой торжествующего удовлетворения она взглянула в зеркало.
Вскоре при дворе все стали считать графа Лейстера действительным фаворитом Елизаветы, и для его честолюбия не могло быть лестнее роли того человека, ради которого королева отвергла одного за другим царственных претендентов на ее руку.
Екатерина Медичи счастливо покончила с первой гражданской войной и теперь искала союза с Елизаветой, чтобы лишить гугенотов их покровительницы. Французскому послу де Фуа было поручено передать королеве послание, в котором Екатерина просила руки Елизаветы для своего сына, французского короля Карла IX. Елизавета несколько раз менялась в лице во время чтения этого письма. Видно было, что она и польщена, и смущена, наконец она ответила, что предложение такой чести переполняет ее любовью и уважением к вдовствующей французской королеве, но, очевидно, последняя плохо осведомлена относительно ее, Елизаветы, возраста. Она слишком стара для такого юного короля, как Карл IX, и он может пренебречь ею, как король испанский пренебрег ее покойной сестрой Марией.
Де Фуа пытался переубедить королеву и склонял ее советников в пользу этого брака, но против этого выступил испанский посланник де Сильва.
— Ваше величество, — спросил он однажды, — говорят, будто вы собираетесь выйти замуж за французского короля?
Елизавета рассмеялась и, опустив голову, ответила:
— Теперь как раз пост, поэтому я готова исповедаться вам. Относительно моего брака ведутся переговоры с королями Франции, Швеции и Дании. Из числа неженатых государей остается один только испанский инфант, который еще не удостоил меня чести просить моей руки.
— Ваше величество, мой повелитель уверен, что вы не желаете выходить замуж вообще, раз вы отклонили предложение его, величайшего государя христианского мира, хотя, как вы сами изволили уверять, вы и были лично расположены к нему.
— О, это не совсем так, — уклончиво возразила Елизавета. — В то время я менее думала о замужестве, чем теперь. Мне надоедают с этим, и я по временам почтя готова решиться на подобный шаг, чтобы избавиться от тех сплетен, которым подвергается женщина, не желающая выходить замуж. Уверяют, будто мое намерение не выходить замуж является следствием физического недостатка, а некоторые идут еще далее и приписывают мне очень плохие побуждения. Так, например, уверяют, будто я потому не хочу выходить замуж, что люблю графа Лейстера, а за него не хочу выйти потому, что он — мой подданный. Другие же считают, что я просто не уверена в крепости своего чувства. Всех языков не свяжешь,но истина когда-нибудь выплывет на свет, и вы, равно как и другие, узнаете, что именно руководит мной.
И с тех пор стало известно всем, что она хоть и шутя, но все-таки открыто призналась в своем расположении к графу Лейстеру. А французский посол, получив отрицательный ответ, стал поддерживать Лейстера, чтобы не допустить сближения Елизаветы с Испанией.
Прошли месяцы с тех пор, как Елизавета побудила Лейстера начать борьбу за ее руку и сердце, но ни разу еще она не давала ему случая быть с нею наедине. А между тем он был признанным фаворитом и занимал высшие придворные должности. Никто и не подозревал, что в часы кратких отлучек, когда Лейстер покидал Лондон под предлогом охоты или частных дел он наслаждался в объятиях любимой жены. Все ожидали, что рано или поздно королева объявит о том, что ее выбор пал на Лейстера, поэтому высшие чины и знатнейшие дворяне королевства окружали его лестью и почетом, хотя втайне и завидовали росту его влияния. А Дэдлей действительно становился тем более влиятельным, чем более старался делать вид, будто политические вопросы совершенно не интересуют его. Он понял, что несмотря на всю остроту и величие своего ума, Елизавета подозрительно относилась к тому, кто не умел давать ей советы так, чтобы ей казалось, будто бы она сама додумалась до этого, и, конечно, отлично использовал это для укрепления своей власти.
С каждым днем Лейстер чувствовал себя все тверже и тверже. Казалось, что его тайна соблюдается великолепно. Сэррей боролся в Шотландии против партии Мюррея, поддерживаемой Елизаветой, так что считался чуть ли не врагом Англии. Вальтер Брай отправился во Францию, и о нем не было ни слуху, ни духу. Священник, венчавший Лейстера, был отправлен в дальнюю провинцию и посажен на отличный приход, за что поклялся хранить молчание. На Ламберта же можно было смело положиться. Словом, Лейстеру пока нечего было бояться.
Королева Елизавета дала ему однажды какое-то маловажное поручение, он явился, чтобы доложить ей о результатах, и был уверен встретить у нее лорда Бэрлея. Даже и тогда, когда маршал сообщил ему, что королева одна, он был далек от мысли, что приближается решительный момент, — ведь в последнее время Елизавета с большой ясностью и определенностью указала ему на границы его поклонения.
В своем голубом будуаре королева сидела на диване и казалась настолько погруженной в чтение, что даже не заметила появления Дэдлея, хотя ей только что было доложено о нем. На ней было легкое платье, плотно облегавшее ее тело и прекрасно обрисовывавшее ее благородные, роскошные формы. Лицо ее чуть-чуть порозовело, прелестная шея изящно белела в облаках легкого газа, под бархатом одежды вздымалась девственная грудь, а нежная белая ручка шаловливо играла золотистыми локонами, тогда как локоть слегка опирался на поверхность стола. Маленькие ноги покоились на мягкой скамеечке, и из-под юбки, словно любопытствуя, выглядывали кончики атласных туфель. Прошло несколько минут, пока она подняла голову и взглянула на почтительно ждавшего у дверей графа. Однако Лейстер либо действительно замечтался в созерцании ее образа, либо был достаточно искусным царедворцем, чтобы притворно изобразить это, во всяком случае он не заметил взгляда королевы, как будто бы весь ушел в созерцание.
— Это — вы, лорд Дэдлей? — улыбаясь, спросила она. — Я заставила вас ждать!…
Он вздрогнул, словно просыпаясь от сладких грез, и ответил:
— Ваше величество, на момент я был далеко от земли…
— Что же вознесло вас на небо?
— Я представил себе, будто я — душа скамейки, на которую опирается ваша ножка, она поддерживает вас, хотя вы даже и не замечаете ее, а все-таки ее бархат осмеливается прикасаться к вам. Она служит вам, и, если бы вдруг ее не оказалось здесь, вы почувствовали бы ее отсутствие, ваша ножка невольно стала бы искать ее, притянула бы к себе и прижала бы, чтобы удержать.
— Вы умеете льстить! Вы, кажется, завидуете этой ничтожной вещи за то, что она оказывает мне услугу.
— Ваше величество, именно из-за этого она и достойна зависти! Возможность оказать вам услугу, будь она хоть самой малой, но непременно такой, какую не мог бы оказать вам никто другой, — была бы величайшим счастьем для меня. Поддерживать вас, сметь смотреть на вас, на вызывая в вас протеста, быть около вас не замеченным вами, тайно принадлежать вам, быть вашим — разве это не было бы слаще и отраднее, чем теперь утопать в благоволении и дрожать от страха потерять вас на следующий день, вечно витать между небом и адом, быть игрушкой прихоти?..
— Нет, не прихоти, Дэдлей, — с упреком возразила Елизавета. — Я надеюсь, что в ваших глазах я не являюсь пустой кокеткой, а моя милость — мимолетной улыбкой. Я никогда не обманывала вас! Я откровенно и честно открыла вам свою душу и призналась вам, что вы — единственный мужчина, который мог бы заставить меня уступить желаниям сердца и женской слабости, если бы обязанности, наложенные на меня короной, позволили мне это!
— Но ведь эти королевские обязанности требуют, чтобы вы избрали себе супруга. Ваши подданные умоляют вас об этом, ваши советники желают этого, и единственное, что сопротивляется этому во всей стране, что еще отказывает всем — это ваше сердце!
— Нет, Дэдлей, сердце уже сказало свое слово. Но, несмотря на настояния подданных и представления членов совета, я чувствую, что не смею уступить желаниям сердца. Только я одна могу заглянуть в свою душу и нарисовать картину будущего. Вам я открою свои мысли, чтобы вы не сомневались в моем сердце. Подойдите поближе, загляните в мои глаза, присядьте ко мне! Я, как женщина, считаю себя обязанной смягчить для вас мое жестокое «нет» королевы!
— В таком случае позвольте мне выслушать вас на коленях! — промолвил Лейстер, опускаясь на ковер. — Ведь это — мой приговор, когда же осужденному читают приговор, то он должен преклонить колена. А мне приходится выслушать решение более жестокое, чем смертный приговор: вы приговариваете меня жить с убитым сердцем!
— Нет, вовсе нет, Дэдлей! — шепнула ему королева, и ее лицо покраснело, да и у него при этих словах кровь быстрее хлынула по жилам. — Разве вы так низко цените сознание того, что вы любимы?
— Да, я любим, но все же и отвергнут! Видеть вас и быть для вас меньше, чем эта скамейка, это кресло, птица, которую вы кормите, — о, что может быть ужаснее этого! Ведь вы, как королева, недоступны, прикоснуться к вам — преступление!
— Разве вы не касались моей руки губами?
— Как и сотни других, которые далеки, чужды, безразличны, а иногда и лично противны вам. О, вы не можете понять, что любовь горячее всего сказывается именно в прикосновении. Но вы неприступны. Вы — не женщина, вы только королева…
— Нет, я — женщина, Дэдлей, даже слишком женщина! — шепнула Елизавета, покраснев от смущения и дрожа от страсти, так как он высказал то, что, как она подозревала, ставилось ей в вину. — Прикоснитесь ко мне, посмотрите, как я пламенею, и вы увидите, что и у меня в жилах течет тоже горячая кровь, что и я — женщина… Но вы должны как следует понять меня, вы не должны думать, что мне легко отказываться от счастья.
Лейстер схватил ее руку и почувствовал, как она горит, он видел, что Елизавета дрожит, объятая пламенем страсти, и хотел прижать к губам ее руку, но она сейчас же выдернула ее из его рук, словно боясь, что этот поцелуй заставит ее сдаться.
— Выслушайте меня, — зашептала она и улыбнулась, когда Дэдлей сел к ее ногам, а его рука обласкала ее ногу, опиравшуюся на скамейку. — Мы должны понять друг друга в этот момент. Я хочу облегчить себе борьбу, которая грозит превысить мои силы, потому что мне слишком больно, что ваш взгляд укоряет меня в жестокости, когда я жестока только по отношению к самой себе. И у меня бывают часы, когда я мечтаю о сладком счастье и завидую самой бедной женщине, имеющей возможность найти утешение от всех забот и печалей на груди возлюбленного и право всецело отдаться во власть своих сладких грез. Видите, Дэдлей, я серьезно испытала себя и взвесила все, что соблазняет и что удерживает меня ответить на запросы сердца. Мой отец был великим государем, и только одно пятно позорит его имя, одна слабость привела его к тому, что его достославное царствование превратилось в жестокую тиранию: он не мог сдержать свои вожделения. Чувственная любовь, страсть испить чашу блаженства с той, которая нравилась ему в данный момент, вынуждала его совершать кровавые деяния и жестоко преследовать тех, кто противился ему. Все его слабости всецело овладели им, и величие утонуло в пороке. В моих жилах его кровь, и хотя я — женщина, я все же надеюсь совершить великие дела. Неужели я должна допустить, чтобы мои слабые стороны взяли верх надо мной? Неужели мое правление должно стать для моей страны проклятием вместо благословения? Я буду истинной королевой, если преодолею женскую слабость, но стану только чувственной, колеблющейся женщиной, если последую велениям сердца. Если бы я отдала свою руку иностранному государю, то все дело было бы только в том, чтобы противодействовать чужеземному влиянию. Если же я последую выбору сердца, то потеряю все: я буду не что иное, как только женщина, которую ласками успокаивают в минуты раздражения и поцелуями заставляют молчать. Я уподоблюсь тогда шотландской королеве, забывающей все свои обязанности ради любовных забав. Да и то сказать: я пошла бы в этом дальше ее, и страсть сожгла бы меня уничтожающим пожаром. Этого я не могу допустить. Я хочу управлять Англией, а для этого должна уметь управлять собой. Нога, которой я придавливаю темя бунтовщиков, должна раздавить и того, кто осмелится заставить меня изменить самой себе. Так думаю я, Дэдлей, и если у вас достаточно великая душа, чтобы уважать во мне больше королеву, чем женщину, способную раздразнить мужскую чувственность, тогда вы должны признать, что я не могу протянуть вам руку, не отказавшись от всего, что возвышает меня над остальными женщинами моего двора. Именно потому, что люблю вас, я и опасаюсь за себя, и борюсь с этой любовью. Никто не должен овладеть моей волей, никто не должен отнимать у меня мою свободу!
— Так раздавите навсегда последнюю тень надежды и навсегда оттолкните меня от себя! О, зачем вы — королева, а не нищая? О, зачем наделило вас небо непреодолимейшими чарами женщины, раз вы растаптываете в себе все женские чувства? Я не смею противоречить, я могу только бежать. Что же мне сказать, если женщина, к которой я приближаюсь с обожанием, улыбаясь, кричит мне: «Назад, смертный! Здесь божество!»?
— Нет, вы не смеете бежать от меня, Дэдлей, вы должны облегчить мне борьбу, а не отягощать ее. Быть может, настанет время, когда я почувствую себя достаточно сильной, чтобы быть женщиной, не переставая быть королевой. Останьтесь, потому что иначе меня замучает тоска. Когда вы передо мной, то сознание вашей близости облегчает мне борьбу. Если же вы покинете меня, то во мне проснется ревность, и возможно, что я не найду в себе силы справиться с этой страстью. Останьтесь, Дэдлей! О, какое блаженство видеть возлюбленного и знать, что он твой, что достаточно одного слова — и он будет принадлежать тебе! А разве вам самому мало гордой радости постоянно видеть свою королеву, обращающуюся ко всем с приказаниями, и только к вам одному с просьбой не принадлежать никому, кроме нее? Разве для вас мало утешения по временам иметь право приближаться ко мне, или в тихие часы отдыха, когда я утомлена государственной работой, иметь возможность освежать мое сердце? Неужели вы, мужчины, не можете быть счастливыми без обладания и властвования? Неужели тайный триумф над женским сердцем значит для вас так мало? Неужели вы не способны к той благороднейшей любви, которая становится тем более гордой, чем более покоряет чувства?
— Нет, я способен, ваше величество! Но раз вы способны опьянять чувства, то должны поплатиться за это! — пламенно вымолвил Лейстер. — Пусть это стоит мне головы, но что такое смерть, если, умирая, дерзаешь сорвать цветок любви? Вы любите меня, вы моя, и я ваш! Королева отвергает вассала, но женщина прижимает к своей груди возлюбленного. Убей меня, Елизавета, но сначала я поцелую тебя!
Он обнял королеву и несмотря на ее сопротивление прижался горящими устами к ее губам. Словно опьянев от блаженства, он лежал на груди Елизаветы, и его страсть пронизывала ее кровь. Вдруг, словно проснувшись ото сна, королева вырвалась, гордо выпрямилась, и ее глаза метнули на него поток уничтожающих молний.
Дэдлею стоило жизни, если бы он сказал хоть слово, которое напомнило бы Елизавете о ее унижении. Но он сознавал, что оскорбил монархиню, а потому он упал ниц и прошептал:
— Теперь раздавите меня! Пусть вассал поплатится своей головой.
— Милорд, — пробормотала она, все еще дрожа от возмущения, хотя и смягченная его покорностью, — вы достойны смерти, или в Англии окажется человек, имеющий право называть меня, Елизавету Тюдор, потаскушкой!
— Да, я достоин смерти, если вы как королева не можете помиловать того, кого любите как женщина. Вы говорили, чтобы я стал вашей собственностью и утешал вас в том, что королевский сан не позволяет вам быть такой же женщиной, как другие. Я сорвал с ваших уст брачный поцелуй, так прикажите же как королева судить меня, если не хотите оставить себе игрушку!… Ведь больше, чем игрушкой, я не могу быть для вас!
— Так будьте же моей игрушкой! — покраснев, улыбнулась королева. — Однако не забывайте, что игрушку ищут только тогда, когда чувствуют расположение играть, и что хотя и ласкают и целуют куклу, но она не смеет оживать. Берегитесь, Дэдлей! Я дочь Генриха Восьмого и не всегда расположена прощать дерзость, даже если эта дерзость вызвана мною же самой! Берегитесь львицы, которая ласкает вас!
— Я буду целовать ее, пока она не разорвет меня.
Елизавета сделала ему знак рукой, и Дэдлей вышел из будуара с таким смирением, словно не приближался к королеве иначе, как с почтением, и никогда не чувствовал близко от себя дыхания ее уст.
Елизавета задумчиво посмотрела ему вслед, недовольство исчезло с ее чела, лицо засияло улыбкой нежного блаженства, и с улыбкой торжествующего удовлетворения она взглянула в зеркало.


 В Англии, где в народной памяти было еще свежо правление кровавой Марии, в то время достаточно было одного слова «папист», чтобы заклейменного им человека сделать предметом презрения и негодования толпы.
На таком положении вещей Кингтон построил свой план. Он пустил в графстве слух, что помог одной юной девушке бежать от ее шотландских родственников-католиков и укрыл ее в одном из замков. Поэтому приказал следить за всеми новоприбывающими людьми в графстве, так как под предлогом поисков увезенной девушки они могли заниматься вербовкой приверженцев папистской партии в Шотландии. Ему донесли, что в окрестностях Кэнмор-Кастла появился какой-то подозрительный субъект, вступивший в переговоры с Ламбертом и уже пославший двух гонцов в Шотландию, и Кингтону удалось явиться вовремя и захватить Брая, пока тот еще не успел найти Филли. В то время войска Бэрлея стояли на шотландской границе, помогая войскам Мюррея и протестантских лордов. А многие английские католики тайно переправлялись через границу, чтобы примкнуть к войскам Марии Стюарт. Таким образом у Кингтона всегда имелся достаточно приличный повод арестовать любого, кто навлекал на себя подозрения в общении с шотландскими католиками, как называли партию Марии Стюарт.
Лейстерширская тюрьма представляла собой старую прочную башню. Железные полосы ограждали окна; цепи, укрепленные в стенах камер, делали невозможным бегство того, кто однажды попал сюда и был прикован к ним. И Брай понял, что ненависть к нему Лейстера и нечистая совесть заставят его подольше продержать его здесь. Когда он лежал на сырой соломе, закованный в цепи, на него нашло тупое отчаяние, заставившее его роптать на Бога, проклинать судьбу и призывать смерть как единственную избавительницу.
Однажды дверь тюрьмы открылась, и на пороге камеры показался какой-то незнакомец. Брай был готов увидеть Дэдлея, ожидал, что тот предложит ему выбор: или отказаться от всякой мести, или умереть, и уже ликовал, что перед смертью хоть плюнет лорду в лицо. Но теперь увидел, что тот выдал его слугам, не сделав попытки к примирению.
— Вы пришли убить меня? — спросил Брай с горькой усмешкой. — Так торопитесь! Ваш господин хорошо заплатит вам за это, потому что негодяи обыкновенно трусливы, и лорду придется дрожать за свою шкуру все время, пока я буду жив.
Кинггон сделал вид, что удивился.
— Не понимаю, о каком лорде вы говорите, — сказал он.
— Я приказал арестовать вас, потому что вы — шпион католиков. Или вы будете отрицать, что три дня тому назад послали гонца в лагерь шотландской королевы и шныряете здесь по окрестностям, чтобы вербовать приверженцев Стюартам?
— Я ничего не буду отрицать, так как это не стоило бы труда. Я вижу, что лорд Лейстер позаботился подыскать хорошенький предлог, на основании которого меня можно было бы засудить!
— Да милорд даже и не знает ничего о вашем аресте! Конечно, он будет очень рад узнать об этом, так как вы шныряли вблизи замка, в который он запрещает доступ решительно всем.
— Потому что скрывает там жертву своего сластолюбия?
Своего сластолюбия? — удивился опять Кингтон. — Сэр, вы сумасшедший! Или вы знаете какие-нибудь особые подробности, касающиеся супруги милорда?
— Супруги? Вы первый, кто называет так несчастную. Разве свою супругу скрывают от всего света? Разве ее запирают, словно узницу, если имеют честные намерения? И, наконец, разве не преступление выбиваться лорду изо всех сил, чтобы заслужить милость королевы Елизаветы, а обманутую женщину подло держать взаперти, чтобы она могла незаметно исчезнуть, когда станет неудобной?
— Как? — притворялся Кингтон. — Вы сомневаетесь, что леди — законная супруга графа? Говорите, что вы знаете об этом!… Вам ничего не будет грозить, если я увижу, что вы явились совсем с другими целями, чем мутить народ! Вы знаете леди? Вы — родственник этой дамы?
Кингтон так мастерски играл свою роль, что Брай был введен в заблуждение и уже почувствовал доверие к нему.
— Сэр, — воскликнул он, — я — второй отец леди и любил ее, как родную дочь. Лорд увез ее и обещал дать ей свое имя. Я искал только доказательств, сдержал ли он свое слово или обманул меня. Борьба партий в Шотландии нисколько не касается меня. Я не собираюсь вербовать здесь кого бы то ни было, а хочу только убедиться, счастлива ли моя девочка, обманута ли Филли или нет. А так как я имею основания предполагать самое худшее, так как лорд достаточно могуществен, чтобы погубить меня, то я пытался тайком добыть требуемые мне доказательства.
— И вы узнали, что лорд обманул всех, что он не венчан? Но говорят, что брачная церемония все-таки была произведена, хотя и тайно.
— Был совершен обман, и больше ничего! Священника удалили, а в церковной книге исчезла брачная метрика.
— Вы сами видели церковную книгу?
— Нет, но ее видел человек, которому я могу верить, потому что, как и вы, верил в порядочность лорда.
— Это — Томас Ламберт?
Брай утвердительно кивнул, и Кингтон знал теперь все, что хотел, а именно, что Ламберт предал графа.
— Странно! — пробормотал он вполголоса. — А я считал этого человека негодяем, который душой и телом предался графу. Но как же он выдал вам графскую тайну?
— Именно потому, что он — не негодяй, потому, что он сам — отец и знает, что значит видеть, как ребенок погибает в нищете, отчаянии и позоре. Если у вас есть сердце, если вы — порядочный человек, то вы должны помочь мне спасти несчастную жертву.
— Сэр, но что же дает вам уверенность предполагать, что леди, которую вы называете Филли, хочет быть спасенной и последует за вами? Да, наконец, и спасение явится несколько запоздалым. Если леди — не супруга графа, тогда она уже потеряла свою честь, и ей не на что рассчитывать больше, как на то, что лорд обеспечит ее изрядной суммой, способной соблазнить кого-либо на то, чтобы дать ей свое имя.
— Вы были бы правы, если бы Филли была бесчестной, но она скорее согласится умереть, чем быть отвергнутой, и лорд знает это. Потому-то я и боюсь самых страшных последствий. Я боюсь, что он не отступит даже перед убийством, если будет вынужден отделаться от нее, когда ему понадобится быть свободным, чтобы стать мужем королевы.
— То, что вы говорите, — сочувственно размышлял Кингтон, — приводит меня в трепет. Разумеется, лорду придется как-нибудь отделаться от леди, если королева согласится стать его женой: королева вспыльчива и ревнива, она прикажет обезглавить лорда, если узнает, что он изменил ей. Таким образом, тот, кто помог бы скрыть где-нибудь леди, оказал бы графу большую услугу. Но где можно было бы скрыть ее?
— Это уж моя забота! Всем, что свято вам, заклинаю вас, снимите с меня оковы и дайте мне возможность исполнить задуманное. Ведь Филли — мой ребенок!
Кинггон сделал вид, будто задумался в нерешительности.
— Если бы ее увезти в Шотландию, — пробормотал он тихо, — если бы ее можно было спрятать там, пока лорд женится, и сказать ему, что она умерла; если бы тогда такой человек, как я, протянул ей руку, то лорду пришлось бы пойти на все, лишь бы купить наше молчание…
Пытливый взгляд Кингтона прочел по выражению лица Брая, что он усилием воли подавляет в себе желание разразиться проклятиями. Хитрый лицемер понял, что Брая нельзя было склонить в пользу подобного плана, и потому он изменил тон.
— Или, — продолжал он, словно ему пришла в голову другая мысль, — если бы доказать лорду неверность супруги, чтобы он оттолкнул ее раньше, чем будет вынужден пойти на преступление? Это, собственно говоря, можно было бы подстроить…
Брай задрожал от ярости и негодования, он понял, что человек, которому он доверился, думает только о спасении лорда, что ему безразлична несчастная жертва.
Кингтон заметил его возбуждение и принял решение: так как Брай не будет действовать в интересах Кингтона, то незачем входить с ним в соглашение.
— Мы спорим из-за выеденного яйца, — сказал он. — Кто может вообще поручиться, что слухи справедливы, что леди увез сам лорд, а не кто-нибудь из его друзей? Очевидно, лорд не может быть женатым, раз в Лондоне является претендентом на руку королевы, и, следовательно, совершенно невиновен. Знаете что? Если я выпущу вас на свободу, то вам лучше всего скрыться за границу и позабыть о ребенке, который порвал всякие узы с вами и не хочет и слышать о вас!
— Никогда! Лучше я умру в этих цепях! — захрипел Брай, уже не сомневавшийся, что Кингтон выведал от него все, что хотел. — Вы думали обхитрить меня, предполагая, что я не остановлюсь в выборе между тюрьмой и позорным бесчестием, очень возможно, что вы даже хотели с моей помощью обмануть своего господина! Отлично придумано, помощник подлеца! Но он еще пожертвует тобой, чтобы сэкономить благодарность и отделаться от соучастника преступления. Ступай и продавай твоему господину свою совесть, но не торжествуй слишком рано. Более могущественные, чем ты, будут искать меня, и когда найдут, живым или мертвым, то твой господин выдаст им тебя. И когда ты, палач клятвопреступника, будешь проклинать его, то моя тень посмеется над тобой.
— Продолжайте, продолжайте и не щадите глотки, — насмешливо ответил Кингтон. — Через недельку я наведаюсь сюда и посмотрю, может быть, после строгого воздержания вы заговорите иначе!
С этими словами он вышел из камеры и с такой силой щелкнул замком, запирая его, что все зазвенело вокруг.
В Англии, где в народной памяти было еще свежо правление кровавой Марии, в то время достаточно было одного слова «папист», чтобы заклейменного им человека сделать предметом презрения и негодования толпы.
На таком положении вещей Кингтон построил свой план. Он пустил в графстве слух, что помог одной юной девушке бежать от ее шотландских родственников-католиков и укрыл ее в одном из замков. Поэтому приказал следить за всеми новоприбывающими людьми в графстве, так как под предлогом поисков увезенной девушки они могли заниматься вербовкой приверженцев папистской партии в Шотландии. Ему донесли, что в окрестностях Кэнмор-Кастла появился какой-то подозрительный субъект, вступивший в переговоры с Ламбертом и уже пославший двух гонцов в Шотландию, и Кингтону удалось явиться вовремя и захватить Брая, пока тот еще не успел найти Филли. В то время войска Бэрлея стояли на шотландской границе, помогая войскам Мюррея и протестантских лордов. А многие английские католики тайно переправлялись через границу, чтобы примкнуть к войскам Марии Стюарт. Таким образом у Кингтона всегда имелся достаточно приличный повод арестовать любого, кто навлекал на себя подозрения в общении с шотландскими католиками, как называли партию Марии Стюарт.
Лейстерширская тюрьма представляла собой старую прочную башню. Железные полосы ограждали окна; цепи, укрепленные в стенах камер, делали невозможным бегство того, кто однажды попал сюда и был прикован к ним. И Брай понял, что ненависть к нему Лейстера и нечистая совесть заставят его подольше продержать его здесь. Когда он лежал на сырой соломе, закованный в цепи, на него нашло тупое отчаяние, заставившее его роптать на Бога, проклинать судьбу и призывать смерть как единственную избавительницу.
Однажды дверь тюрьмы открылась, и на пороге камеры показался какой-то незнакомец. Брай был готов увидеть Дэдлея, ожидал, что тот предложит ему выбор: или отказаться от всякой мести, или умереть, и уже ликовал, что перед смертью хоть плюнет лорду в лицо. Но теперь увидел, что тот выдал его слугам, не сделав попытки к примирению.
— Вы пришли убить меня? — спросил Брай с горькой усмешкой. — Так торопитесь! Ваш господин хорошо заплатит вам за это, потому что негодяи обыкновенно трусливы, и лорду придется дрожать за свою шкуру все время, пока я буду жив.
Кинггон сделал вид, что удивился.
— Не понимаю, о каком лорде вы говорите, — сказал он.
— Я приказал арестовать вас, потому что вы — шпион католиков. Или вы будете отрицать, что три дня тому назад послали гонца в лагерь шотландской королевы и шныряете здесь по окрестностям, чтобы вербовать приверженцев Стюартам?
— Я ничего не буду отрицать, так как это не стоило бы труда. Я вижу, что лорд Лейстер позаботился подыскать хорошенький предлог, на основании которого меня можно было бы засудить!
— Да милорд даже и не знает ничего о вашем аресте! Конечно, он будет очень рад узнать об этом, так как вы шныряли вблизи замка, в который он запрещает доступ решительно всем.
— Потому что скрывает там жертву своего сластолюбия?
Своего сластолюбия? — удивился опять Кингтон. — Сэр, вы сумасшедший! Или вы знаете какие-нибудь особые подробности, касающиеся супруги милорда?
— Супруги? Вы первый, кто называет так несчастную. Разве свою супругу скрывают от всего света? Разве ее запирают, словно узницу, если имеют честные намерения? И, наконец, разве не преступление выбиваться лорду изо всех сил, чтобы заслужить милость королевы Елизаветы, а обманутую женщину подло держать взаперти, чтобы она могла незаметно исчезнуть, когда станет неудобной?
— Как? — притворялся Кингтон. — Вы сомневаетесь, что леди — законная супруга графа? Говорите, что вы знаете об этом!… Вам ничего не будет грозить, если я увижу, что вы явились совсем с другими целями, чем мутить народ! Вы знаете леди? Вы — родственник этой дамы?
Кингтон так мастерски играл свою роль, что Брай был введен в заблуждение и уже почувствовал доверие к нему.
— Сэр, — воскликнул он, — я — второй отец леди и любил ее, как родную дочь. Лорд увез ее и обещал дать ей свое имя. Я искал только доказательств, сдержал ли он свое слово или обманул меня. Борьба партий в Шотландии нисколько не касается меня. Я не собираюсь вербовать здесь кого бы то ни было, а хочу только убедиться, счастлива ли моя девочка, обманута ли Филли или нет. А так как я имею основания предполагать самое худшее, так как лорд достаточно могуществен, чтобы погубить меня, то я пытался тайком добыть требуемые мне доказательства.
— И вы узнали, что лорд обманул всех, что он не венчан? Но говорят, что брачная церемония все-таки была произведена, хотя и тайно.
— Был совершен обман, и больше ничего! Священника удалили, а в церковной книге исчезла брачная метрика.
— Вы сами видели церковную книгу?
— Нет, но ее видел человек, которому я могу верить, потому что, как и вы, верил в порядочность лорда.
— Это — Томас Ламберт?
Брай утвердительно кивнул, и Кингтон знал теперь все, что хотел, а именно, что Ламберт предал графа.
— Странно! — пробормотал он вполголоса. — А я считал этого человека негодяем, который душой и телом предался графу. Но как же он выдал вам графскую тайну?
— Именно потому, что он — не негодяй, потому, что он сам — отец и знает, что значит видеть, как ребенок погибает в нищете, отчаянии и позоре. Если у вас есть сердце, если вы — порядочный человек, то вы должны помочь мне спасти несчастную жертву.
— Сэр, но что же дает вам уверенность предполагать, что леди, которую вы называете Филли, хочет быть спасенной и последует за вами? Да, наконец, и спасение явится несколько запоздалым. Если леди — не супруга графа, тогда она уже потеряла свою честь, и ей не на что рассчитывать больше, как на то, что лорд обеспечит ее изрядной суммой, способной соблазнить кого-либо на то, чтобы дать ей свое имя.
— Вы были бы правы, если бы Филли была бесчестной, но она скорее согласится умереть, чем быть отвергнутой, и лорд знает это. Потому-то я и боюсь самых страшных последствий. Я боюсь, что он не отступит даже перед убийством, если будет вынужден отделаться от нее, когда ему понадобится быть свободным, чтобы стать мужем королевы.
— То, что вы говорите, — сочувственно размышлял Кингтон, — приводит меня в трепет. Разумеется, лорду придется как-нибудь отделаться от леди, если королева согласится стать его женой: королева вспыльчива и ревнива, она прикажет обезглавить лорда, если узнает, что он изменил ей. Таким образом, тот, кто помог бы скрыть где-нибудь леди, оказал бы графу большую услугу. Но где можно было бы скрыть ее?
— Это уж моя забота! Всем, что свято вам, заклинаю вас, снимите с меня оковы и дайте мне возможность исполнить задуманное. Ведь Филли — мой ребенок!
Кинггон сделал вид, будто задумался в нерешительности.
— Если бы ее увезти в Шотландию, — пробормотал он тихо, — если бы ее можно было спрятать там, пока лорд женится, и сказать ему, что она умерла; если бы тогда такой человек, как я, протянул ей руку, то лорду пришлось бы пойти на все, лишь бы купить наше молчание…
Пытливый взгляд Кингтона прочел по выражению лица Брая, что он усилием воли подавляет в себе желание разразиться проклятиями. Хитрый лицемер понял, что Брая нельзя было склонить в пользу подобного плана, и потому он изменил тон.
— Или, — продолжал он, словно ему пришла в голову другая мысль, — если бы доказать лорду неверность супруги, чтобы он оттолкнул ее раньше, чем будет вынужден пойти на преступление? Это, собственно говоря, можно было бы подстроить…
Брай задрожал от ярости и негодования, он понял, что человек, которому он доверился, думает только о спасении лорда, что ему безразлична несчастная жертва.
Кингтон заметил его возбуждение и принял решение: так как Брай не будет действовать в интересах Кингтона, то незачем входить с ним в соглашение.
— Мы спорим из-за выеденного яйца, — сказал он. — Кто может вообще поручиться, что слухи справедливы, что леди увез сам лорд, а не кто-нибудь из его друзей? Очевидно, лорд не может быть женатым, раз в Лондоне является претендентом на руку королевы, и, следовательно, совершенно невиновен. Знаете что? Если я выпущу вас на свободу, то вам лучше всего скрыться за границу и позабыть о ребенке, который порвал всякие узы с вами и не хочет и слышать о вас!
— Никогда! Лучше я умру в этих цепях! — захрипел Брай, уже не сомневавшийся, что Кингтон выведал от него все, что хотел. — Вы думали обхитрить меня, предполагая, что я не остановлюсь в выборе между тюрьмой и позорным бесчестием, очень возможно, что вы даже хотели с моей помощью обмануть своего господина! Отлично придумано, помощник подлеца! Но он еще пожертвует тобой, чтобы сэкономить благодарность и отделаться от соучастника преступления. Ступай и продавай твоему господину свою совесть, но не торжествуй слишком рано. Более могущественные, чем ты, будут искать меня, и когда найдут, живым или мертвым, то твой господин выдаст им тебя. И когда ты, палач клятвопреступника, будешь проклинать его, то моя тень посмеется над тобой.
— Продолжайте, продолжайте и не щадите глотки, — насмешливо ответил Кингтон. — Через недельку я наведаюсь сюда и посмотрю, может быть, после строгого воздержания вы заговорите иначе!
С этими словами он вышел из камеры и с такой силой щелкнул замком, запирая его, что все зазвенело вокруг.


 Из Дэнвера Мария Шотландская призвала часть преданной ей аристократии, которая, вооружившись, составила небольшое войско вокруг королевы. Храбрый Босвел, Этол, Гэнтли и другие собрались под знамя королевы и решили защищать свою прекрасную властительницу от мятежников. Марии пришлось лишний раз убедиться, какой чарующей силой она обладает, но теперь это не радовало ее, так как ее душа была полна мрачной ненависти. Ее сердце требовало мести за все то, что ей пришлось перенести. В ее жизнь грубо ворвались чужие люди, унизили ее, совершили насилие над ее властью. Ей стоило лишь представить себе убитого Риччио, как рядом с ним вырастала фигура Дарнлея, человека, которого она вытащила из грязи и подняла до ступеней трона. А этот человек даже не имел мужества заступиться за нее, когда ее смертельно оскорбляли! Если Дарнлей и не участвовал в заговоре, не совершал сам убийства, то во всяком случае он был в тот страшный час заодно с убийцами. Кровь Риччио навеки оттолкнула от Марии ее супруга, и она чувствовала к Дарнлею глубокое презрение, невыразимую ненависть.
Королева опубликовала манифест против мятежников, но Дарнлея еще щадила, исподволь подготавливаясь к мести. Мария выжидала благоприятную минуту, придумывала всевозможные способы, чтобы полнее и как можно сильнее отомстить своему мужу. Она притворялась перед Дарнлеем, делала вид, что простила ему, но в ее душе все глубже и глубже росла ненависть к трусливому изменнику. Она письменно обещала Мюррею полное прощение, если он согласится подчиниться ей и поможет рассеять враждебную партию.
Со страстным желанием мести и с сознанием того, что она в состоянии выполнить это желание, Мария переехала в Эдинбург вместе со всеми своими приближенными. Лорды Линдсей, Мортон, Дуглас и их сторонники были привлечены к суду, но успели вовремя бежать в Англию, а поплатились лишь отдельные лица, присутствовавшие в Голируде в момент убийства Риччио. Граф Лэтингтон был отрешен от всех своих должностей, а графу Ленноксу запретили являться ко двору. Тело несчастного Риччио вырыли из земли, отпели в королевской капелле и похоронили с подобающими почестями. Что касается Дарнлея, то его тоже привлекли к ответу, а затем на всех перекрестках улиц появились объявления, гласившие следующее:
«Во избежание ложных слухов и превратных толков, распространяемых в народе относительно участия его высочества в убийстве секретаря королевы и преступном аресте подданных ее величеству лиц, королева объявляет своим верноподданным, что его высочество, принц-супруг, в присутствии Тайного совета королевы, поклялся своей честью ее величеству, что не только не принимал никакого участия в преступлениях изменников, но ничего не знал об отвратительном заговоре».
Готовность, с которой Дарнлей согласился на это унизительное объявление, еще более усилила чувство негодования Марии Стюарт, она, конечно, не верила ни одному слову своего супруга, и вскоре ей пришлось наглядно убедиться, насколько она была права в своем недоверии.
Союзники Дарнлея, возмущенные его двойной изменой, прислали Марии подписанный ее мужем оригинал заговора, из которого ясно было видно, что убийство Риччио было заблаговременно задумано, затем предполагался арест королевы и передача ее короны Дарнлею. Мария велела позвать своего мужа, представила ему доказательство его вины и назвала его коварным изменником, трусом и лжецом. Затем она с отвращением отвернулась и просила Дарнлея держаться подальше от нее.
Напрасно старался Мелвил примирить королеву с супругом. Он пытался убедить ее, что проступок ее мужа объясняется безумной, хотя и необоснованной ревностью, которую старались возбудить в нем его враги, чтобы воспользоваться слабостью его высочества. Мария запретила говорить ей об этом ничтожном человеке, которого она тем более ненавидела, чем сильнее чувствовала себя связанной с ним на всю жизнь.
Между тем приближалось время родов. Королева переехала в Стирлинг, где собиралась провести первые недели после болезни, так как там было тихо и не приходилось опасаться мятежников. Вскоре она разрешилась от бремени мальчиком, которого Дарнлей признал своим законным сыном. Тем не менее Мария не допустила, чтобы ее муж присутствовал при обряде крещения. Она хотела освободиться от Дарнлея и вместе с тем презирала его настолько, что жалела потратить сколько-нибудь усилий для того, чтобы устранить этого ничтожного человека со своего пути.
Мария переживала теперь состояние кризиса: обстоятельства жизни требовали от нее действия, стремления вперед, а сердце жаждало отдыха и покоя. Можно было бы думать, что горький опыт заставил ее забыть о любви, тем более что разочарование, испытанное ею во втором браке, должно было ей напоминать чаще о Франциске и сожалеть, что она изменила его памяти.
Может быть, Мария и действительно не думала бы больше о любви, если бы в ее сердце были лишь грусть о прошлом, разочарование в любимом человеке! Но это было не так. Королева мечтала о новой любви, безумной и страстной, которая опьянила бы ее, заставила бы забыть о всех горестях жизни. Кроме того, Мария думала, что, изменив открыто мужу, она отомстит ему, отплатит за смерть невинно убитого Риччио. Ей хотелось полюбить человека, сильного духом, опираясь на руку которого она могла бы смело и открыто посмеяться над своими недругами.
Такой человек нашелся: это был граф Босвел, смертельный враг Мюррея.
Из Дэнвера Мария Шотландская призвала часть преданной ей аристократии, которая, вооружившись, составила небольшое войско вокруг королевы. Храбрый Босвел, Этол, Гэнтли и другие собрались под знамя королевы и решили защищать свою прекрасную властительницу от мятежников. Марии пришлось лишний раз убедиться, какой чарующей силой она обладает, но теперь это не радовало ее, так как ее душа была полна мрачной ненависти. Ее сердце требовало мести за все то, что ей пришлось перенести. В ее жизнь грубо ворвались чужие люди, унизили ее, совершили насилие над ее властью. Ей стоило лишь представить себе убитого Риччио, как рядом с ним вырастала фигура Дарнлея, человека, которого она вытащила из грязи и подняла до ступеней трона. А этот человек даже не имел мужества заступиться за нее, когда ее смертельно оскорбляли! Если Дарнлей и не участвовал в заговоре, не совершал сам убийства, то во всяком случае он был в тот страшный час заодно с убийцами. Кровь Риччио навеки оттолкнула от Марии ее супруга, и она чувствовала к Дарнлею глубокое презрение, невыразимую ненависть.
Королева опубликовала манифест против мятежников, но Дарнлея еще щадила, исподволь подготавливаясь к мести. Мария выжидала благоприятную минуту, придумывала всевозможные способы, чтобы полнее и как можно сильнее отомстить своему мужу. Она притворялась перед Дарнлеем, делала вид, что простила ему, но в ее душе все глубже и глубже росла ненависть к трусливому изменнику. Она письменно обещала Мюррею полное прощение, если он согласится подчиниться ей и поможет рассеять враждебную партию.
Со страстным желанием мести и с сознанием того, что она в состоянии выполнить это желание, Мария переехала в Эдинбург вместе со всеми своими приближенными. Лорды Линдсей, Мортон, Дуглас и их сторонники были привлечены к суду, но успели вовремя бежать в Англию, а поплатились лишь отдельные лица, присутствовавшие в Голируде в момент убийства Риччио. Граф Лэтингтон был отрешен от всех своих должностей, а графу Ленноксу запретили являться ко двору. Тело несчастного Риччио вырыли из земли, отпели в королевской капелле и похоронили с подобающими почестями. Что касается Дарнлея, то его тоже привлекли к ответу, а затем на всех перекрестках улиц появились объявления, гласившие следующее:
«Во избежание ложных слухов и превратных толков, распространяемых в народе относительно участия его высочества в убийстве секретаря королевы и преступном аресте подданных ее величеству лиц, королева объявляет своим верноподданным, что его высочество, принц-супруг, в присутствии Тайного совета королевы, поклялся своей честью ее величеству, что не только не принимал никакого участия в преступлениях изменников, но ничего не знал об отвратительном заговоре».
Готовность, с которой Дарнлей согласился на это унизительное объявление, еще более усилила чувство негодования Марии Стюарт, она, конечно, не верила ни одному слову своего супруга, и вскоре ей пришлось наглядно убедиться, насколько она была права в своем недоверии.
Союзники Дарнлея, возмущенные его двойной изменой, прислали Марии подписанный ее мужем оригинал заговора, из которого ясно было видно, что убийство Риччио было заблаговременно задумано, затем предполагался арест королевы и передача ее короны Дарнлею. Мария велела позвать своего мужа, представила ему доказательство его вины и назвала его коварным изменником, трусом и лжецом. Затем она с отвращением отвернулась и просила Дарнлея держаться подальше от нее.
Напрасно старался Мелвил примирить королеву с супругом. Он пытался убедить ее, что проступок ее мужа объясняется безумной, хотя и необоснованной ревностью, которую старались возбудить в нем его враги, чтобы воспользоваться слабостью его высочества. Мария запретила говорить ей об этом ничтожном человеке, которого она тем более ненавидела, чем сильнее чувствовала себя связанной с ним на всю жизнь.
Между тем приближалось время родов. Королева переехала в Стирлинг, где собиралась провести первые недели после болезни, так как там было тихо и не приходилось опасаться мятежников. Вскоре она разрешилась от бремени мальчиком, которого Дарнлей признал своим законным сыном. Тем не менее Мария не допустила, чтобы ее муж присутствовал при обряде крещения. Она хотела освободиться от Дарнлея и вместе с тем презирала его настолько, что жалела потратить сколько-нибудь усилий для того, чтобы устранить этого ничтожного человека со своего пути.
Мария переживала теперь состояние кризиса: обстоятельства жизни требовали от нее действия, стремления вперед, а сердце жаждало отдыха и покоя. Можно было бы думать, что горький опыт заставил ее забыть о любви, тем более что разочарование, испытанное ею во втором браке, должно было ей напоминать чаще о Франциске и сожалеть, что она изменила его памяти.
Может быть, Мария и действительно не думала бы больше о любви, если бы в ее сердце были лишь грусть о прошлом, разочарование в любимом человеке! Но это было не так. Королева мечтала о новой любви, безумной и страстной, которая опьянила бы ее, заставила бы забыть о всех горестях жизни. Кроме того, Мария думала, что, изменив открыто мужу, она отомстит ему, отплатит за смерть невинно убитого Риччио. Ей хотелось полюбить человека, сильного духом, опираясь на руку которого она могла бы смело и открыто посмеяться над своими недругами.
Такой человек нашелся: это был граф Босвел, смертельный враг Мюррея.


 Дарнлей действительно тотчас же выехал из Голируда, как только туда прибыл Босвел. На другой день, еще не зная, что Дарнлей скрылся, граф представил Марии Стюарт доказательства, что тот завязал переговоры с католической партией и написал папе, будто королева с каждым днем выказывает все меньше и меньше религиозного рвения.
Мария презрительно передернула плечами и сказала, с досадой отбрасывая бумаги:
— Ах, да кто ему поверит! Право, я даже не вижу, какова цель этой новой подлой комедии!
— Но зато я вижу! — возразил Босвел. — Католики являются вашей главной опорой — вот Дарнлей и хочет вкрасться к ним в доверие, чтобы они встали на его сторону и воспротивились разрыву ваших брачных уз. Кроме того, по правилам вашей религии развод не может состояться без согласия папы. Вот Дарнлей и старается подластиться к папе, представляясь ревностным католиком. Вы улыбаетесь?.. О, это жестоко! Если у вас хватает терпения влачить это тяжелое ярмо, не видя человека более достойного, чем он, то другие не в состоянии терпеть, чтобы вы, которую надо носить на руках, принадлежали какому-то уличному мальчишке! Я лучше убью его, чем потерплю, чтобы он оставался около вас!
Мария продолжала улыбаться и наконец показала графу письмо:
— Прочтите, а потом судите сами!
Босвел схватил письмо.
— От графа Леннокса? — изумился он, читая письмо. — Лорд Дарнлей собирается бежать во Францию, так как не может долее выносить ваше презрение?.. Он до смерти огорчен тем, что потерял вашу любовь, и поэтому хочет навеки расстаться с вами, чтобы вдали от вас постараться искупить свой грех?..
— Разорвите письмо! — улыбнулась Мария. — Это новое доказательство его лицемерия. Письмо пришло вчера, наверное, граф Леннокс надеялся, что это послание растрогает меня, и я пожалею о самоуничижении Дарнлея, удержу его и прощу все! Он выехал за ворота, зная, что я стою у окна. Но я решила — пусть едет куда хочет, мне до него нет никакого дела!
— Но ведь он уехал, не порвав связывающей вас цепи! Разве вы не видите, что он просто хочет сделать невозможным развод и что ему надоело унижаться?.. Вот он и хочет на чужбине навербовать себе сторонников, которые помогли бы ему защитить свои права! Неужели вы не боитесь, что он упорно будет настаивать на своих супружеских правах, чтобы вы никогда не могли подать свою руку тому, кому выпало бы на долю счастье завоевать вашу милость и благосклонность.
Мария Стюарт покачала головой.
— Я боюсь только одного: как бы Дарнлей не вернулся обратно, увидев, что его план оказался недейственным; если я захочу разорвать связывающие меня цепи, то Дарнлей не в силах помешать мне в этом; сбежавший супруг может подпасть под декрет об изгнании, и папа разрушит подобный брачный союз!
— Вы хотите этого? — спросил Босвел. — Мария! Многие могут по праву добиваться вашей короны, и я с радостью уступил бы вас каждому достойному вас, если бы вы могли вручить корону, не отдавая руки. Но вы — королева, и тот, кто ухаживает за вами, добивается не только короны, но и женщины. Клянусь Богом, я никогда бы не мог лицемерить, подобно Генриху Дарнлею, будто добиваюсь руки Марии без ее короны, потому что там, где я люблю, я хочу иметь всю женщину, хочу быть полным господином, а не вассалом, действительно супругом, а не подданным. Мария, прогоните меня, удалите от себя, если ваше сердце не может подать мне ни малейшей надежды! Не дайте разгореться страсти, и без того пожирающей меня, так как я готов для вас даже на убийство!
— Милорд Босвел, вы говорите с замужней женщиной! Если бы я была свободна, то вы не решились бы сказать такие слова под страхом того, что я вас за это изгоню из пределов государства. Но я не свободна, хотя была бы гораздо счастливее, если бы выбрала вас вместо Дарнлея. Этого вам достаточно. Сказать более было бы преступлением, таинство брака ставит между нами непреодолимую преграду. Однако посмотрите-ка! — сказала она, показывая на окно. — Оказывается, я не ошиблась: Дарнлей возвращается!
Босвел взглянул в окно и увидел, как принц-супруг въехал в ворога замка. Босвел топнул ногой, на его лбу от бешенства налились жилы.
— Клянусь Богом, — сказал он, — такое издевательство королева Шотландии не должна стерпеть. Это подлое лицемерие! Граф Леннокс заслуживает казни за свое письмо. С вами — королевой — играют, словно с влюбленной девчонкой!
— Успокойтесь, — ответила королева, — быть может, болтают, что я сама вынудила жестоким обращением Дарнлея покинуть меня. Но пусть он осмелится сделать мне хоть один упрек, тогда я отвечу ему так, как следует; тогда суду придется разобраться, кто из нас виноват!
Королева приказала немедленно созвать Тайный совет и попросить французского посланника присутствовать на заседании.
Когда собрались все лорды, то пригласили и Дарнлея. Слух, будто он сбежал, уже распространился среди всех. Дарнлей знал, что королева получила письмо его отца, он не осуществил намерения сбежать и поэтому мог сказать, что надежда примириться с Марией удержала его в Шотландии. Этим он рассчитывал дать доказательство, что не замышляет никакой измены.
— Ваше высочество, — начала Мария, и уже ее холодный, строгий тон заставил его вздрогнуть, — мы поставлены в известность, будто вы замыслили оставить Шотландию и поискать себе убежища во Франции. Я не хочу спрашивать французского посланника, не завязывали ли вы с ним таких переговоров, которые могут быть сочтены государственной изменой, равно как не хочу допытываться о том, что заставило вас отказаться от своей мысли. Я остановлюсь на одном: вы собирались тайно покинуть страну и принимали меры к обеспечению побега. Ваше высочество, если вы таили при этом какую-либо преступную мысль, то я не смею и не могу ставить вам это в укор, так как вы отказались от нее вполне добровольно. Но я требую ответа, что привело вас к подобной мысли? Мы, к сожалению, уже испытали, что некоторые из наших подданных пустились на открытые мятежные деяния, так как хотели добиться того, чего им не присудил бы никакой суд в стране. Но то, что вы, наш супруг, искали средств к тайному побегу, что вы могли хоть на миг подумать об этом, служит уже обвинением против вас и заставляет предполагать, будто мы лишали вас приличествующих вам прав и защиты. Предъявите Тайному совету ваши обвинения! Мы готовы защищаться против каждого обвинения и представить законные доказательства, но потребуем также, чтобы их проверили и указали нам, как мы должны поступать, чтобы быть справедливыми по отношению к самим себе.
Дарнлей смущенно молчал. Он чувствовал, что всякие обвинения приведут только к тому, что Мария публично напомнит о его старых грехах и потребует наказания за них. Мог ли он жаловаться на отставку от государственных должностей? Мог ли он обвинять Марию в презрительной холодности обращения? Он видел расставленную ему ловушку. Каждое обвинение могло обрушиться против него же самого, и процесс, которого он потребовал бы в свое оправдание, раздавил бы его!
Дарнлей молчал. Лорды тоже обращались к нему с вопросами, но он ничего не отвечал им. Тогда французский посланник объявил, что, собираясь бежать, Дарнлей обрек на нарекания либо свою собственную честь, либо честь королевы. И спросил, может ли он привести обоснованную мотивировку бегства или не даст никаких убедительных объяснений своего поступка.
У Дарнлея не хватило духа привести свои основания. Он заявил, что королева не давала ему никаких оснований для бегства, и Мария, добившаяся своего, объявила, что вполне удовлетворена таким ответом; теперь она была свободна от всяких нареканий, и Дарнлей мог бежать или оставаться, как ему угодно.
Благодаря этому отношения между супругами стали еще хуже, чем прежде, теперь Мария пренебрегала даже внешними формами общения с супругом. Дарнлей заявил, что не желает больше встречаться с ней, и отправился в Стирлинг, но принялся писать оттуда письма, в которых снова стал угрожать бегством. Словом, благодаря своей нерешительности, он все более и более становился достойным всяческого презрения.
Дарнлей действительно тотчас же выехал из Голируда, как только туда прибыл Босвел. На другой день, еще не зная, что Дарнлей скрылся, граф представил Марии Стюарт доказательства, что тот завязал переговоры с католической партией и написал папе, будто королева с каждым днем выказывает все меньше и меньше религиозного рвения.
Мария презрительно передернула плечами и сказала, с досадой отбрасывая бумаги:
— Ах, да кто ему поверит! Право, я даже не вижу, какова цель этой новой подлой комедии!
— Но зато я вижу! — возразил Босвел. — Католики являются вашей главной опорой — вот Дарнлей и хочет вкрасться к ним в доверие, чтобы они встали на его сторону и воспротивились разрыву ваших брачных уз. Кроме того, по правилам вашей религии развод не может состояться без согласия папы. Вот Дарнлей и старается подластиться к папе, представляясь ревностным католиком. Вы улыбаетесь?.. О, это жестоко! Если у вас хватает терпения влачить это тяжелое ярмо, не видя человека более достойного, чем он, то другие не в состоянии терпеть, чтобы вы, которую надо носить на руках, принадлежали какому-то уличному мальчишке! Я лучше убью его, чем потерплю, чтобы он оставался около вас!
Мария продолжала улыбаться и наконец показала графу письмо:
— Прочтите, а потом судите сами!
Босвел схватил письмо.
— От графа Леннокса? — изумился он, читая письмо. — Лорд Дарнлей собирается бежать во Францию, так как не может долее выносить ваше презрение?.. Он до смерти огорчен тем, что потерял вашу любовь, и поэтому хочет навеки расстаться с вами, чтобы вдали от вас постараться искупить свой грех?..
— Разорвите письмо! — улыбнулась Мария. — Это новое доказательство его лицемерия. Письмо пришло вчера, наверное, граф Леннокс надеялся, что это послание растрогает меня, и я пожалею о самоуничижении Дарнлея, удержу его и прощу все! Он выехал за ворота, зная, что я стою у окна. Но я решила — пусть едет куда хочет, мне до него нет никакого дела!
— Но ведь он уехал, не порвав связывающей вас цепи! Разве вы не видите, что он просто хочет сделать невозможным развод и что ему надоело унижаться?.. Вот он и хочет на чужбине навербовать себе сторонников, которые помогли бы ему защитить свои права! Неужели вы не боитесь, что он упорно будет настаивать на своих супружеских правах, чтобы вы никогда не могли подать свою руку тому, кому выпало бы на долю счастье завоевать вашу милость и благосклонность.
Мария Стюарт покачала головой.
— Я боюсь только одного: как бы Дарнлей не вернулся обратно, увидев, что его план оказался недейственным; если я захочу разорвать связывающие меня цепи, то Дарнлей не в силах помешать мне в этом; сбежавший супруг может подпасть под декрет об изгнании, и папа разрушит подобный брачный союз!
— Вы хотите этого? — спросил Босвел. — Мария! Многие могут по праву добиваться вашей короны, и я с радостью уступил бы вас каждому достойному вас, если бы вы могли вручить корону, не отдавая руки. Но вы — королева, и тот, кто ухаживает за вами, добивается не только короны, но и женщины. Клянусь Богом, я никогда бы не мог лицемерить, подобно Генриху Дарнлею, будто добиваюсь руки Марии без ее короны, потому что там, где я люблю, я хочу иметь всю женщину, хочу быть полным господином, а не вассалом, действительно супругом, а не подданным. Мария, прогоните меня, удалите от себя, если ваше сердце не может подать мне ни малейшей надежды! Не дайте разгореться страсти, и без того пожирающей меня, так как я готов для вас даже на убийство!
— Милорд Босвел, вы говорите с замужней женщиной! Если бы я была свободна, то вы не решились бы сказать такие слова под страхом того, что я вас за это изгоню из пределов государства. Но я не свободна, хотя была бы гораздо счастливее, если бы выбрала вас вместо Дарнлея. Этого вам достаточно. Сказать более было бы преступлением, таинство брака ставит между нами непреодолимую преграду. Однако посмотрите-ка! — сказала она, показывая на окно. — Оказывается, я не ошиблась: Дарнлей возвращается!
Босвел взглянул в окно и увидел, как принц-супруг въехал в ворога замка. Босвел топнул ногой, на его лбу от бешенства налились жилы.
— Клянусь Богом, — сказал он, — такое издевательство королева Шотландии не должна стерпеть. Это подлое лицемерие! Граф Леннокс заслуживает казни за свое письмо. С вами — королевой — играют, словно с влюбленной девчонкой!
— Успокойтесь, — ответила королева, — быть может, болтают, что я сама вынудила жестоким обращением Дарнлея покинуть меня. Но пусть он осмелится сделать мне хоть один упрек, тогда я отвечу ему так, как следует; тогда суду придется разобраться, кто из нас виноват!
Королева приказала немедленно созвать Тайный совет и попросить французского посланника присутствовать на заседании.
Когда собрались все лорды, то пригласили и Дарнлея. Слух, будто он сбежал, уже распространился среди всех. Дарнлей знал, что королева получила письмо его отца, он не осуществил намерения сбежать и поэтому мог сказать, что надежда примириться с Марией удержала его в Шотландии. Этим он рассчитывал дать доказательство, что не замышляет никакой измены.
— Ваше высочество, — начала Мария, и уже ее холодный, строгий тон заставил его вздрогнуть, — мы поставлены в известность, будто вы замыслили оставить Шотландию и поискать себе убежища во Франции. Я не хочу спрашивать французского посланника, не завязывали ли вы с ним таких переговоров, которые могут быть сочтены государственной изменой, равно как не хочу допытываться о том, что заставило вас отказаться от своей мысли. Я остановлюсь на одном: вы собирались тайно покинуть страну и принимали меры к обеспечению побега. Ваше высочество, если вы таили при этом какую-либо преступную мысль, то я не смею и не могу ставить вам это в укор, так как вы отказались от нее вполне добровольно. Но я требую ответа, что привело вас к подобной мысли? Мы, к сожалению, уже испытали, что некоторые из наших подданных пустились на открытые мятежные деяния, так как хотели добиться того, чего им не присудил бы никакой суд в стране. Но то, что вы, наш супруг, искали средств к тайному побегу, что вы могли хоть на миг подумать об этом, служит уже обвинением против вас и заставляет предполагать, будто мы лишали вас приличествующих вам прав и защиты. Предъявите Тайному совету ваши обвинения! Мы готовы защищаться против каждого обвинения и представить законные доказательства, но потребуем также, чтобы их проверили и указали нам, как мы должны поступать, чтобы быть справедливыми по отношению к самим себе.
Дарнлей смущенно молчал. Он чувствовал, что всякие обвинения приведут только к тому, что Мария публично напомнит о его старых грехах и потребует наказания за них. Мог ли он жаловаться на отставку от государственных должностей? Мог ли он обвинять Марию в презрительной холодности обращения? Он видел расставленную ему ловушку. Каждое обвинение могло обрушиться против него же самого, и процесс, которого он потребовал бы в свое оправдание, раздавил бы его!
Дарнлей молчал. Лорды тоже обращались к нему с вопросами, но он ничего не отвечал им. Тогда французский посланник объявил, что, собираясь бежать, Дарнлей обрек на нарекания либо свою собственную честь, либо честь королевы. И спросил, может ли он привести обоснованную мотивировку бегства или не даст никаких убедительных объяснений своего поступка.
У Дарнлея не хватило духа привести свои основания. Он заявил, что королева не давала ему никаких оснований для бегства, и Мария, добившаяся своего, объявила, что вполне удовлетворена таким ответом; теперь она была свободна от всяких нареканий, и Дарнлей мог бежать или оставаться, как ему угодно.
Благодаря этому отношения между супругами стали еще хуже, чем прежде, теперь Мария пренебрегала даже внешними формами общения с супругом. Дарнлей заявил, что не желает больше встречаться с ней, и отправился в Стирлинг, но принялся писать оттуда письма, в которых снова стал угрожать бегством. Словом, благодаря своей нерешительности, он все более и более становился достойным всяческого презрения.


 Сэррей обратился к мировому судье Кэнмора, чтобы навести справки о Брае, после того как Дэдлей дал ему слово, что ему ничего неизвестно о судьбе, постигшей Вальтера. Мировой судья обещал сделать все, что в его силах, в поисках исчезнувшего, но не мог подать никакой особенной надежды.
— Все, что происходит в Кэнмор-Кастле, — сказал судья, — окружено глубочайшей тайной. Допустите, что удалось бы даже довести жалобу до сведения королевы; но где же взять доказательства и улики, которыми можно было бы подкрепить ее? У лорда Лейстера достаточно времени, чтобы замести всякие следы, прежде чем начнутся поиски, если их разрешат.
— Но ведь обитателям замка придется дать показания?
— Так что же из этого? Они и дадут их в пользу графа! Ламберт — упрямый, замкнутый человек, душой и телом преданный графу. А потом, кто сказал вам, что тут непременно произошло преступление? Кто сказал вам, что граф Лейстер действительно виноват? Правда, рассказывают, будто граф женился и держит свою супругу в замке. Но я не верю этому. Я гораздо более склонен думать, что лорд выдал отдавшуюся ему девушку замуж за кого-нибудь из своих слуг, ведь иначе он не осмелился бы выступить претендентом на руку королевы. А если этот слуга лорда, а я думаю, что избранным мог быть только Кингтон, защищая свою жену, убил Брая в честном бою? Тогда что? А что если лорд посещает обольщенную с согласия человека, давшего ей свое имя? Ведь тогда, обвинив графа, мы вынуждены обвинить ту, которую хотим спасти? Не падет ли в таком случае гнев королевы на головы наветчиков?
— Так вы все-таки думаете, — мрачно пробормотал Сэррей, — что граф Лейстер не женат?
— Думаю, что нет. Во всяком случае достоверно одно: сделано все, чтобы не было возможности доказать существование такого брака, даже если он и состоялся. Меня не призывали, значит, в гражданском смысле брак несостоятелен. Старый священник лично никогда не видел лорда, это был старый, полуслепой человек, на его память тоже нельзя положиться, чтобы построить улику на основании его показаний, да кроме того, его удалили отсюда. Документ выкраден из книги метрик, свидетелями совершения церемонии были люди, бесконечно преданные графу. Таким образом, мне кажется, что человека, вынужденного хранить опасную тайну и имеющего власть уничтожить доказательства, не следует ставить в такое положение, когда он вынужден будет пойти на преступление, на которое, быть может, без этого он и не решится. Спасти теперь ничего нельзя, а напортить можно много. Если сэр Брай прибег к насилию, то он стал сам жертвой насилия, если он убит, то ему ничем не поможешь, если он посажен в тюрьму, то Кингтон скорее убьет его, чем допустит, чтобы открыли местопребывание узника; но как бы то ни было, что бы мы не предприняли, всем этим мы только ухудшим положение Филли!
Сэррей чувствовал, что на это ничего нельзя ответить, что он бессилен помочь другу, но его вера в слова графа Лейстера была жестоко поколеблена. Все мероприятия, стремившиеся сделать тайну непроницаемой, ясно говорили за то, что над Филли учинено насилие и что Лейстер даже и не думает о том, чтобы когда-нибудь открыто признать ее своей женой, и постарается скрыть всякие следы брака, даже пойти на преступление.
Но как спасти Филли, как разузнать, куда делся Брай, не вызывая этим новых напастей на голову несчастной жертвы Дэдлея? Напрасно Сэррей ломал себе голову, он был бессилен выбраться из этой паутины интриг.
Сэррей обратился к мировому судье Кэнмора, чтобы навести справки о Брае, после того как Дэдлей дал ему слово, что ему ничего неизвестно о судьбе, постигшей Вальтера. Мировой судья обещал сделать все, что в его силах, в поисках исчезнувшего, но не мог подать никакой особенной надежды.
— Все, что происходит в Кэнмор-Кастле, — сказал судья, — окружено глубочайшей тайной. Допустите, что удалось бы даже довести жалобу до сведения королевы; но где же взять доказательства и улики, которыми можно было бы подкрепить ее? У лорда Лейстера достаточно времени, чтобы замести всякие следы, прежде чем начнутся поиски, если их разрешат.
— Но ведь обитателям замка придется дать показания?
— Так что же из этого? Они и дадут их в пользу графа! Ламберт — упрямый, замкнутый человек, душой и телом преданный графу. А потом, кто сказал вам, что тут непременно произошло преступление? Кто сказал вам, что граф Лейстер действительно виноват? Правда, рассказывают, будто граф женился и держит свою супругу в замке. Но я не верю этому. Я гораздо более склонен думать, что лорд выдал отдавшуюся ему девушку замуж за кого-нибудь из своих слуг, ведь иначе он не осмелился бы выступить претендентом на руку королевы. А если этот слуга лорда, а я думаю, что избранным мог быть только Кингтон, защищая свою жену, убил Брая в честном бою? Тогда что? А что если лорд посещает обольщенную с согласия человека, давшего ей свое имя? Ведь тогда, обвинив графа, мы вынуждены обвинить ту, которую хотим спасти? Не падет ли в таком случае гнев королевы на головы наветчиков?
— Так вы все-таки думаете, — мрачно пробормотал Сэррей, — что граф Лейстер не женат?
— Думаю, что нет. Во всяком случае достоверно одно: сделано все, чтобы не было возможности доказать существование такого брака, даже если он и состоялся. Меня не призывали, значит, в гражданском смысле брак несостоятелен. Старый священник лично никогда не видел лорда, это был старый, полуслепой человек, на его память тоже нельзя положиться, чтобы построить улику на основании его показаний, да кроме того, его удалили отсюда. Документ выкраден из книги метрик, свидетелями совершения церемонии были люди, бесконечно преданные графу. Таким образом, мне кажется, что человека, вынужденного хранить опасную тайну и имеющего власть уничтожить доказательства, не следует ставить в такое положение, когда он вынужден будет пойти на преступление, на которое, быть может, без этого он и не решится. Спасти теперь ничего нельзя, а напортить можно много. Если сэр Брай прибег к насилию, то он стал сам жертвой насилия, если он убит, то ему ничем не поможешь, если он посажен в тюрьму, то Кингтон скорее убьет его, чем допустит, чтобы открыли местопребывание узника; но как бы то ни было, что бы мы не предприняли, всем этим мы только ухудшим положение Филли!
Сэррей чувствовал, что на это ничего нельзя ответить, что он бессилен помочь другу, но его вера в слова графа Лейстера была жестоко поколеблена. Все мероприятия, стремившиеся сделать тайну непроницаемой, ясно говорили за то, что над Филли учинено насилие и что Лейстер даже и не думает о том, чтобы когда-нибудь открыто признать ее своей женой, и постарается скрыть всякие следы брака, даже пойти на преступление.
Но как спасти Филли, как разузнать, куда делся Брай, не вызывая этим новых напастей на голову несчастной жертвы Дэдлея? Напрасно Сэррей ломал себе голову, он был бессилен выбраться из этой паутины интриг.


 В горах, на границе Шотландии, был старый замок, который во время последней войны был наполовину сожжен и служил притоном для шотландских разбойников, грабивших пограничные местности. Замок представлял собой довольно объемистое строение и укрепленную башню, которая уцелела от опустошительной силы огня, уничтожившего все внутри жилого помещения. Подъемный мост отрезал единственный доступ к горному утесу, на котором возвышались развалины замка. В последнее время мост был приведен в порядок, так как Кингтон вошел в соглашение с шотландскими разбойниками и выговорил себе приют в этом замке на тот случай, если у него произойдет серьезная ссора с графом Лейстером и понадобится надежное убежище.
Этот замок, под названием Ратгоф-Кастл, Кингтон избрал убежищем для Филли и охранял его надежными, преданными людьми. Переезд туда был совершен с возможной быстротой, а чтобы успокоить Филли и Тони относительно отсутствия Ламберта, их уверили, что он следует вместе со служанками и несколько отстал, так как его кони уступали в быстроте хода.
Лейстер пришел в очень хорошее настроение, когда узнал от Кингтона, что Ламберта можно не опасаться, втайне же он обдумывал, как найти для Филли такое убежище, о котором бы не подозревал даже Кингтон.
— Выписка из церковной книги находится при вас? — спросил он Кингтона, как бы между прочим.
— Это было бы неосторожно с моей стороны, милорд, — ответил Кингтон, — если бы со мной приключилось что- нибудь, документ мог бы попасть в чужие руки.
— А он у вас в сохранном месте?
— Конечно, милорд, так как я не был уверен относительно судебного преследования со стороны лорда Сэррея, то доверил выписку приятелю из Шотландии!
Лейстер едва был в состоянии скрыть свое негодование.
— Такая предосторожность была излишней, — возразил он недовольным тоном. — Что же, мы еще не скоро прибудем к месту назначения?
— Еще четыре мили. Там никто не станет искать вашу супругу.
— Но там полно разбойников?
— Милорд, разбойники нападут на Ратгоф-Кастл в том случае, если того пожелаете вы, это — мощная защита.
— Разве вы забыли, что за вами стоит человек более могущественный?
— Милорд, я счел за благоразумное скрыть ваше имя.
Лейстер одобрил поступок Кингтона, но в нем росло подозрение, что этот покорный слуга стремится совершенно завладеть Филли и занять вполне независимое положение.
— Кингтон, — сказал он после короткого молчания, — вашу предосторожность я одобряю: но она кажется мне почти недостойной. Я готов скорее открыто признаться во всем королеве, чем подвергать Филли хотя бы самой малейшей опасности.
Кингтон улыбнулся. Он отлично понял, что лорд ревнует его к Филли.
— Милорд, — возразил он, — наилучшим средством для вашего успокоения, надеюсь, послужит мое признание, что в Ратгоф-Кастле будет сохранно укрыта не только ваша супруга, но также и женщина, которая для меня дороже всего на свете. Вашей супруге, потребовавшей себе в спутницы мисс Ламберт, я обязан тем, что имею возможность в стенах Ратгоф-Кастла хранить не только ваше, но и свое сокровище.
Лицо Лейстера прояснилось, и подозрение рассеялось.
— А, вы любите дочь управляющего? — воскликнул он.
— Это меня радует вдвойне, так как мне представляется возможность утихомирить ворчливого старика, дав ему богатого зятя. Получили вы уже от мисс ее согласие?
— На это я не мог решиться, милорд. Усердие к службе вам поставило меня во враждебные отношения к старику Ламберту, а мисс Тони так нежно любит своего отца, что к его противнику не может не относиться подозрительно.
— Положитесь на меня, Филли замолвит за вас словечко! — воскликнул лорд с искренним доброжелательством.
Вот наконец сквозь темные верхушки сосен перед ними открылся крутой обрыв скалы со стенами замка на ее вершине. Почерневшие от огня стены мрачно вырисовывались на горизонте, и весь замок напоминал скорее разбойничье гнездо, нежели здание, предназначенное для пребывания молодых женщин.
Через несколько минут подъехали к подъемному мосту. Кингтон подал знак свистком, появился разбойник, вооруженный с ног до головы, петли заскрипели, и мост с грохотом опустился.
Филли испуганно посмотрела на своего супруга, очевидно, ею овладело чувство страха при виде этой тюрьмы. Тони задержала своего коня, она как будто не верила, что это место предназначено для пребывания графини. Даже сам Лейстер пришел в нерешительность, когда увидел дикого молодца, охранявшего вход в замок.
Но поворачивать обратно уже слишком поздно; нужно было, наоборот, скрыть свое подозрительное отношение к Кингтону.
Он взял под уздцы коня Филли и повел к мосту, а Кингтону пришлось втаскивать иноходца Тони почти силой. Мост с грохотом поднялся опять, подоспели неопрятные слуги, коней отвели на конюшню, а гостей Кингтон проводил в жилые комнаты замка.
Комнаты были наскоро приведены в жилое состояние и превосходили, во всяком случае, те ожидания, какие возникали, если смотреть на замок снаружи. Пребывание в таком убежище могло показаться даже несколько романтическим и привлекательным, если бы владельцем замка был не Кингтон, а кто-либо иной. Окна располагались непосредственно над пропастью; открывался широкий вид на лесистые возвышенности, глубокие расселины скал и овраги; внизу зияла глубокая пропасть, по скалам, шумя и пенясь, несся горный поток и терялся в лесной чаще; шум от верхушек темных сосен раздавался как мрачная песня.
Слуги встретили гостей с льстивым подобострастием, которое возбуждало не доверие, а лишь отвращение. На смуглом лице человека, которому Кингтон отдавал распоряжения, лежал отпечаток диких страстей. Темные и жгучие его глаза выражали отвагу и решимость, но вместе с тем и хитрость, когда он получил от Кингтона приказание исполнить все требования господина и нести ответственность за все, что будет происходить в замке.
— Сэр Джонстон, — обратился Лейстер к распорядителю, узнав от Кингтона его имя, — вашему попечению поручаются две дамы, требующие к себе почтения. Вы предоставите им полную свободу и будете ответственны за все их неудовольствия, равно как и за то, чтобы к ним никто не приближался, кроме меня и сэра Кингтона. Если я буду доволен вами, то при каждом моем посещении замка вы будете получать по пятьдесят золотых, а в тот день, когда я увезу отсюда дам, вы получите тысячу золотых и сможете обратиться ко мне с любой просьбой. В моей власти карать за измену и настигнуть изменника, где бы он ни был в Шотландии или во Франции; а за верную службу, если вы даже прежней жизнью обрекли свои головы на погибель, я могу вам добыть милостивое прощение и приличное, доходное служебное положение.
Джонстон прислушивался к этим словам, поняв, что имеет дело с более влиятельным господином, чем тот, который нанимал его. Кингтон же от досады кусал губы, он надеялся, что лорд из предосторожности сохранит свое инкогнито, но тот открыл себя, и Кингтону пришлось утратить свое значение. Джонстон действительно подвергался преследованию за преступление: во время одного грабежа он при самозащите убил мирового судью, поэтому обещание лорда произвело на него большее впечатление, чем все посулы и угрозы Кингтона.
В горах, на границе Шотландии, был старый замок, который во время последней войны был наполовину сожжен и служил притоном для шотландских разбойников, грабивших пограничные местности. Замок представлял собой довольно объемистое строение и укрепленную башню, которая уцелела от опустошительной силы огня, уничтожившего все внутри жилого помещения. Подъемный мост отрезал единственный доступ к горному утесу, на котором возвышались развалины замка. В последнее время мост был приведен в порядок, так как Кингтон вошел в соглашение с шотландскими разбойниками и выговорил себе приют в этом замке на тот случай, если у него произойдет серьезная ссора с графом Лейстером и понадобится надежное убежище.
Этот замок, под названием Ратгоф-Кастл, Кингтон избрал убежищем для Филли и охранял его надежными, преданными людьми. Переезд туда был совершен с возможной быстротой, а чтобы успокоить Филли и Тони относительно отсутствия Ламберта, их уверили, что он следует вместе со служанками и несколько отстал, так как его кони уступали в быстроте хода.
Лейстер пришел в очень хорошее настроение, когда узнал от Кингтона, что Ламберта можно не опасаться, втайне же он обдумывал, как найти для Филли такое убежище, о котором бы не подозревал даже Кингтон.
— Выписка из церковной книги находится при вас? — спросил он Кингтона, как бы между прочим.
— Это было бы неосторожно с моей стороны, милорд, — ответил Кингтон, — если бы со мной приключилось что- нибудь, документ мог бы попасть в чужие руки.
— А он у вас в сохранном месте?
— Конечно, милорд, так как я не был уверен относительно судебного преследования со стороны лорда Сэррея, то доверил выписку приятелю из Шотландии!
Лейстер едва был в состоянии скрыть свое негодование.
— Такая предосторожность была излишней, — возразил он недовольным тоном. — Что же, мы еще не скоро прибудем к месту назначения?
— Еще четыре мили. Там никто не станет искать вашу супругу.
— Но там полно разбойников?
— Милорд, разбойники нападут на Ратгоф-Кастл в том случае, если того пожелаете вы, это — мощная защита.
— Разве вы забыли, что за вами стоит человек более могущественный?
— Милорд, я счел за благоразумное скрыть ваше имя.
Лейстер одобрил поступок Кингтона, но в нем росло подозрение, что этот покорный слуга стремится совершенно завладеть Филли и занять вполне независимое положение.
— Кингтон, — сказал он после короткого молчания, — вашу предосторожность я одобряю: но она кажется мне почти недостойной. Я готов скорее открыто признаться во всем королеве, чем подвергать Филли хотя бы самой малейшей опасности.
Кингтон улыбнулся. Он отлично понял, что лорд ревнует его к Филли.
— Милорд, — возразил он, — наилучшим средством для вашего успокоения, надеюсь, послужит мое признание, что в Ратгоф-Кастле будет сохранно укрыта не только ваша супруга, но также и женщина, которая для меня дороже всего на свете. Вашей супруге, потребовавшей себе в спутницы мисс Ламберт, я обязан тем, что имею возможность в стенах Ратгоф-Кастла хранить не только ваше, но и свое сокровище.
Лицо Лейстера прояснилось, и подозрение рассеялось.
— А, вы любите дочь управляющего? — воскликнул он.
— Это меня радует вдвойне, так как мне представляется возможность утихомирить ворчливого старика, дав ему богатого зятя. Получили вы уже от мисс ее согласие?
— На это я не мог решиться, милорд. Усердие к службе вам поставило меня во враждебные отношения к старику Ламберту, а мисс Тони так нежно любит своего отца, что к его противнику не может не относиться подозрительно.
— Положитесь на меня, Филли замолвит за вас словечко! — воскликнул лорд с искренним доброжелательством.
Вот наконец сквозь темные верхушки сосен перед ними открылся крутой обрыв скалы со стенами замка на ее вершине. Почерневшие от огня стены мрачно вырисовывались на горизонте, и весь замок напоминал скорее разбойничье гнездо, нежели здание, предназначенное для пребывания молодых женщин.
Через несколько минут подъехали к подъемному мосту. Кингтон подал знак свистком, появился разбойник, вооруженный с ног до головы, петли заскрипели, и мост с грохотом опустился.
Филли испуганно посмотрела на своего супруга, очевидно, ею овладело чувство страха при виде этой тюрьмы. Тони задержала своего коня, она как будто не верила, что это место предназначено для пребывания графини. Даже сам Лейстер пришел в нерешительность, когда увидел дикого молодца, охранявшего вход в замок.
Но поворачивать обратно уже слишком поздно; нужно было, наоборот, скрыть свое подозрительное отношение к Кингтону.
Он взял под уздцы коня Филли и повел к мосту, а Кингтону пришлось втаскивать иноходца Тони почти силой. Мост с грохотом поднялся опять, подоспели неопрятные слуги, коней отвели на конюшню, а гостей Кингтон проводил в жилые комнаты замка.
Комнаты были наскоро приведены в жилое состояние и превосходили, во всяком случае, те ожидания, какие возникали, если смотреть на замок снаружи. Пребывание в таком убежище могло показаться даже несколько романтическим и привлекательным, если бы владельцем замка был не Кингтон, а кто-либо иной. Окна располагались непосредственно над пропастью; открывался широкий вид на лесистые возвышенности, глубокие расселины скал и овраги; внизу зияла глубокая пропасть, по скалам, шумя и пенясь, несся горный поток и терялся в лесной чаще; шум от верхушек темных сосен раздавался как мрачная песня.
Слуги встретили гостей с льстивым подобострастием, которое возбуждало не доверие, а лишь отвращение. На смуглом лице человека, которому Кингтон отдавал распоряжения, лежал отпечаток диких страстей. Темные и жгучие его глаза выражали отвагу и решимость, но вместе с тем и хитрость, когда он получил от Кингтона приказание исполнить все требования господина и нести ответственность за все, что будет происходить в замке.
— Сэр Джонстон, — обратился Лейстер к распорядителю, узнав от Кингтона его имя, — вашему попечению поручаются две дамы, требующие к себе почтения. Вы предоставите им полную свободу и будете ответственны за все их неудовольствия, равно как и за то, чтобы к ним никто не приближался, кроме меня и сэра Кингтона. Если я буду доволен вами, то при каждом моем посещении замка вы будете получать по пятьдесят золотых, а в тот день, когда я увезу отсюда дам, вы получите тысячу золотых и сможете обратиться ко мне с любой просьбой. В моей власти карать за измену и настигнуть изменника, где бы он ни был в Шотландии или во Франции; а за верную службу, если вы даже прежней жизнью обрекли свои головы на погибель, я могу вам добыть милостивое прощение и приличное, доходное служебное положение.
Джонстон прислушивался к этим словам, поняв, что имеет дело с более влиятельным господином, чем тот, который нанимал его. Кингтон же от досады кусал губы, он надеялся, что лорд из предосторожности сохранит свое инкогнито, но тот открыл себя, и Кингтону пришлось утратить свое значение. Джонстон действительно подвергался преследованию за преступление: во время одного грабежа он при самозащите убил мирового судью, поэтому обещание лорда произвело на него большее впечатление, чем все посулы и угрозы Кингтона.


 Королева Елизавета танцевала на придворном балу, когда явились с известием, что королева Шотландии разрешилась от бремени сыном. Бэрлей шепотом сообщил ей об этом, королева оставила своего кавалера, опустилась в кресло и мрачно прошептала:
— Королева Шотландии родила сына! А я?..
Ничто не могло так обострить ненависть королевы к сопернице, как материнское счастье Марии. На английский престол не было прямого наследника, неужели же ее смерти будет ждать сын женщины, которая, будучи женой дофина Франции, уже целилась на титул королевы английской?! Неужели Мария, ненавидимая и презираемая ею, станет лучшей матерью для своих подданных, чем она? Гордой Елизавете было тяжелее всего признаться самой себе, что она пропустила самое важное и что ее опередила женщина, которая сочеталась браком не ради забот о престолонаследии, а исключительно ради своего удовольствия. А если она теперь изберет себе супруга, кто поручится, что Бог наградит ее потомством? В этом, казалось, сомневался весь мир, так как шотландец Патрик Адамсон обнародовал уже письмо, в котором доказывалось право на престол шотландского наследного принца, и даже ее собственный парламент обсуждал вопрос о престолонаследии под предлогом избежания возможных в будущем смут. Она воспретила эти обсуждения, и палата лордов подчинилась, но нижняя палата упорствовала. Елизавета выступила с угрозами против не повинующихся королевскому приказанию, и нижняя палата уступила, но в то же время объявила протест против незаконного посягательства на свободу прений.
Мария Стюарт пригласила ее на крестины своего сына, которые долгое время откладывались. Елизавета умела скрывать свое раздражение, но все же ее ответ не был лишен резкости.
«Так как мы, — написала она английскому послу, — несмотря на наше желание, не может приехать в Эдинбург и так как в зимнее время неудобно посылать туда одну из дам Англии, то пусть заменит нас на крестинах графиня Эрджил. Граф Бедфорд, с осторожностью к религиозным чувствам, передаст золотую купель, которую мы при сем посылаем. Вы можете в шутку сказать, что купель сделана специально, когда мы узнали о рождении принца. Теперь, когда он успел подрасти, купель окажется слишком мала для него, поэтому удобнее было бы оставить ее для крещения следующего ребенка, предполагая, конечно, что он будет крещен ранее, чем успеет вырасти…
Что касается ее последнего предложения, переданного через Мелвила, чтобы мы разузнали через людей, оставшихся еще в живых, каким образом и при каких обстоятельствах составлялось духовное завещание нашего отца, короля Генриха VIII, то вы можете ответить на ее вопрос: для ее удовлетворения и ради нашей собственной совести будут предприняты все возможные и допустимые расследования.
С другой стороны, склоните королеву к утверждению эдинбургского договора, откладывавшегося все время из-за нескольких слов, показавшихся Марии нарушающими ее права и требования. Наше намерение — утвердить в том договоре лишь то, что непосредственно касается нас и наших детей, причем мы исключаем из договора все, что могло бы противоречить ее претензиям как ближайшей наследницы после нас и наших детей. Мы можем заключить новый договор, которым утверждалось бы наше обещание никогда не делать и не допускать ничего такого, что нарушало бы ее права, мало того, мы обещаем пресекать каждого, посягающего на них. Вы должны убедить Марию, что это является единственным средством избежать между нами подозрений и недоразумений и что это — единственный путь к упрочению дружественных отношений».
Эти замечательные указания, данные английскому посланнику, свидетельствуют о том, насколько Елизавета умела делать дешевые предложения там, где была уверена, что встретит отказ, и тем выставляла всегда Марию как зачинщицу раздоров.
В таком настроении была королева Елизавета, когда Бэрлей доложил ей, что англичане, между ними и лорд Сэррей, вербуют приверженцев католической партии в Шотландии. Момент был самый благоприятный, чтобы Елизавета могла излить свое раздражение в гневе на виновных. Но лорд Сэррей был другом и соратником Дэдлея, а Бэрлей упомянул, что Сэррея даже видели в графстве Лейстера. Странно было, что граф не делал никаких попыток для защиты своего друга, хотя, видимо, знал, что тот находился под обвинением.
— А вдруг Лейстер — тайный приверженец Марии Стюарт и одобряет вербовку ее сторонников?
Елизавета высказала это подозрение Бэрлею.
— Ваше величество, — ответил он, — граф Лейстер так часто уезжает из Лондона и так тщательно скрывает цель своих поездок, что ваше подозрение, быть может, и основательно.
— Милорд, — разволновалась Елизавета, — кому обязан граф Лейстер своим положением, как не исключительно моей милости? Что сделал он, чем отличился, чтобы попасть в то положение, какое он занимает? Одним тем — я не стыжусь признаться в этом, — что благоговел передо мной, и тем, что его чувство имело больше видов на успех, чем чье бы то ни было другое. Но, клянусь Богом, забыла бы, что я — королева, и стала бы мстить, как оскорбленная женщина, если бы узнала, что он лицемерит, что он шутит со мной, королевой Англии, как будто я — такая же кокетка, как Мария Шотландская. Неужели он решился обмануть меня? Голова изменника будет на плахе, если он окажется виновным. Позовите лорда Лейстера! Я желаю говорить с ним.
— Ваше величество, он уже несколько дней в Лейстершире, и я благодарю Бога, что вы не увидите его в таком возбужденном состоянии. Если он действительно виновен в обмане, то никто не должен подозревать, что вы обмануты им. Ни один мужчина в мире не достоин, чтобы ради него вы уподобились обыкновенной женщине; чем равнодушнее ваше презрение, тем величественнее будет ваша месть.
— Лорд Бэрлей, вы и не подозреваете, что происходит во мне. Лейстер знает, что я любила его и ради него готова была забыть свой долг королевы. Он добровольно сознался мне, что не любит Марию. Она, при всей своей красоте, оскорбляет чувство нравственности, достоинство женщины и королевы. Мне стыдно назвать ее своей соперницей. В тот час, когда Лейстер сказал мне, что Мария — ничто для него, он стал близок моему сердцу. И неужели же все это — игра? Неужели мой вассал отдал ей свое сердце, а я чуть было не доверилась жалкому лицемеру?
— Ваше величество, как бы вы ни были оскорблены, как бы ни был справедлив ваш гнев, но все же ваша ненависть выдаст оскорбленную любовь. Смертный приговор над Лейстером заставил бы торжествовать Марию и поведал бы всему миру, что вы отомстили за свое оскорбленное тщеславие! Осудите графа Лейстера на изгнание, если он виновен, но не мстите ему.
— Изгнать его? — прошептала Елизавета, подавляя слезы злобы и глубоко оскорбленного чувства. — Изгнать для того, чтобы он пошел к Марии и рассказал ей, как он обманул тщеславную Елизавету? Нет, нет, я не хочу верить, пока его измена не будет доказана мне. Пошлите тотчас гонцов, чтобы разыскали Лейстера. Горе тому, кто даст ему возможность бежать! Если же он окажет сопротивление, то заковать его и запереть в тюрьму!…
— Еще нет никаких доказательств. Не обнаруживайте подозрения, пока не получите права судить его! — возразил Бэрлей, пораженный страстностью королевы, которой он не ожидал.
— Вы сомневаетесь? — спросила Елизавета, мрачно глядя на него. — Вы, кажется, изволите шутить со мной? Но кто же обвинил Лейстера, как не вы? Кто навел меня на эти ужасные подозрения? Быть может, вы захотели разведать о том, что значит для меня Дэдлей? Клянусь кровью моего отца, вы раскаетесь в этой игре!
— Ваше величество, — твердо ответил Бэрлей, спокойно глядя ей в глаза, — я не боюсь гнева королевы, если он падает на ее верного слугу, потому что тогда судит королева, а не оскорбленная женщина. Я сам поддерживал лорда Лейстера, когда он влюбился в вас, но вы отвергли его — и я не мог подозревать, что это сопровождалось вашей внутренней борьбой. И странные отлучки лорда обязывали меня в связи с известиями из Лейстершира высказать подозрение, которое теперь кажется мне чрезвычайно оскорбительным.
— Разрешите мне расследовать, ошибался ли я, и я буду счастлив сказать вам, что слишком переусердствовал в своем желании служить вам.
— Сделайте это, Бэрлей!… Нет, сначала я должна сама видеть Лейстера и прочесть в его глазах вину или невиновность. Не говорите никому о подозрениях, его могут предупредить, а я хочу видеть, покраснеет ли он, когда я брошу ему в лицо обвинение в измене.
Бэрлей поклонился, а Елизавета, перейдя к государственным делам, стала разбирать их с таким спокойствием, которое ввело бы в заблуждение каждого, но не Бэрлея. Тот лишь, кто знал ее, мог понять, какая железная воля, какое самообладание требовалось с ее стороны, чтобы подавить бушующие чувства.
Однако, когда Бэрлей вышел от королевы, перо выпало у нее из руки, она сидела совершенно обессилевшая. Теперь, когда она осталась одна, сдерживаемая буря забушевала с новой силой, так как ей не перед кем было скрывать слезы и волнение. Она вся, казалось, была охвачена пламенем, ее глаза горели, грудь тяжело вздымалась, и губы судорожно подергивались.
Какое унизительное, возмущающее ее гордость чувство! Елизавета думала, что победила женскую слабость, а на поверку оказалось, что она ревновала и боялась быть обманутой, как простая девчонка, которой забавляются. Нет, эта мысль была слишком ужасна, чтобы можно было допустить ее!
В чем же заключались чары этой Стюарт? Елизавета порывисто выдвинула ящик, где лежало миниатюрное изображение Марии Стюарт, и горькая улыбка проскользнула по ее лицу.
«Да, она так хороша, но это — красота куртизанки, а не королевы, — сравнивала она. — Мои золотистые волосы красивее, чем ее, бесцветные, у меня большие глаза, а лицо выражает ум и величие, у Марии же какая-то кокетливая улыбка на устах. Какая безвкусица — эти католические побрякушки, крест и папские четки. Моя прикрытая грудь чиста и непорочна, а у нее — вздымается для каждого, кто останавливает на ней взгляд. И что же? Она покоряет сердца, перед ней благоговеют, а я — только мишень для лицемерной лести и наглости. Бэрлей прав: презрение более подобает мне, чем месть. Если он виновен, я раздавлю его как червяка. Я буду судить строго и так, чтобы все видели, что он оскорбил королеву, а не женщину… А если Бэрлей ошибался?.. О, тогда я вознагражу его за то, что он избавил мое сердце от унижения, вознагражу за верность, даже если он потребует моей руки и сердца. Если я теперь протяну Лейстеру руку, то это будет уже не слабость с моей стороны, а сила воли, решение, основанное на испытании и оценке его личности».
Королева Елизавета танцевала на придворном балу, когда явились с известием, что королева Шотландии разрешилась от бремени сыном. Бэрлей шепотом сообщил ей об этом, королева оставила своего кавалера, опустилась в кресло и мрачно прошептала:
— Королева Шотландии родила сына! А я?..
Ничто не могло так обострить ненависть королевы к сопернице, как материнское счастье Марии. На английский престол не было прямого наследника, неужели же ее смерти будет ждать сын женщины, которая, будучи женой дофина Франции, уже целилась на титул королевы английской?! Неужели Мария, ненавидимая и презираемая ею, станет лучшей матерью для своих подданных, чем она? Гордой Елизавете было тяжелее всего признаться самой себе, что она пропустила самое важное и что ее опередила женщина, которая сочеталась браком не ради забот о престолонаследии, а исключительно ради своего удовольствия. А если она теперь изберет себе супруга, кто поручится, что Бог наградит ее потомством? В этом, казалось, сомневался весь мир, так как шотландец Патрик Адамсон обнародовал уже письмо, в котором доказывалось право на престол шотландского наследного принца, и даже ее собственный парламент обсуждал вопрос о престолонаследии под предлогом избежания возможных в будущем смут. Она воспретила эти обсуждения, и палата лордов подчинилась, но нижняя палата упорствовала. Елизавета выступила с угрозами против не повинующихся королевскому приказанию, и нижняя палата уступила, но в то же время объявила протест против незаконного посягательства на свободу прений.
Мария Стюарт пригласила ее на крестины своего сына, которые долгое время откладывались. Елизавета умела скрывать свое раздражение, но все же ее ответ не был лишен резкости.
«Так как мы, — написала она английскому послу, — несмотря на наше желание, не может приехать в Эдинбург и так как в зимнее время неудобно посылать туда одну из дам Англии, то пусть заменит нас на крестинах графиня Эрджил. Граф Бедфорд, с осторожностью к религиозным чувствам, передаст золотую купель, которую мы при сем посылаем. Вы можете в шутку сказать, что купель сделана специально, когда мы узнали о рождении принца. Теперь, когда он успел подрасти, купель окажется слишком мала для него, поэтому удобнее было бы оставить ее для крещения следующего ребенка, предполагая, конечно, что он будет крещен ранее, чем успеет вырасти…
Что касается ее последнего предложения, переданного через Мелвила, чтобы мы разузнали через людей, оставшихся еще в живых, каким образом и при каких обстоятельствах составлялось духовное завещание нашего отца, короля Генриха VIII, то вы можете ответить на ее вопрос: для ее удовлетворения и ради нашей собственной совести будут предприняты все возможные и допустимые расследования.
С другой стороны, склоните королеву к утверждению эдинбургского договора, откладывавшегося все время из-за нескольких слов, показавшихся Марии нарушающими ее права и требования. Наше намерение — утвердить в том договоре лишь то, что непосредственно касается нас и наших детей, причем мы исключаем из договора все, что могло бы противоречить ее претензиям как ближайшей наследницы после нас и наших детей. Мы можем заключить новый договор, которым утверждалось бы наше обещание никогда не делать и не допускать ничего такого, что нарушало бы ее права, мало того, мы обещаем пресекать каждого, посягающего на них. Вы должны убедить Марию, что это является единственным средством избежать между нами подозрений и недоразумений и что это — единственный путь к упрочению дружественных отношений».
Эти замечательные указания, данные английскому посланнику, свидетельствуют о том, насколько Елизавета умела делать дешевые предложения там, где была уверена, что встретит отказ, и тем выставляла всегда Марию как зачинщицу раздоров.
В таком настроении была королева Елизавета, когда Бэрлей доложил ей, что англичане, между ними и лорд Сэррей, вербуют приверженцев католической партии в Шотландии. Момент был самый благоприятный, чтобы Елизавета могла излить свое раздражение в гневе на виновных. Но лорд Сэррей был другом и соратником Дэдлея, а Бэрлей упомянул, что Сэррея даже видели в графстве Лейстера. Странно было, что граф не делал никаких попыток для защиты своего друга, хотя, видимо, знал, что тот находился под обвинением.
— А вдруг Лейстер — тайный приверженец Марии Стюарт и одобряет вербовку ее сторонников?
Елизавета высказала это подозрение Бэрлею.
— Ваше величество, — ответил он, — граф Лейстер так часто уезжает из Лондона и так тщательно скрывает цель своих поездок, что ваше подозрение, быть может, и основательно.
— Милорд, — разволновалась Елизавета, — кому обязан граф Лейстер своим положением, как не исключительно моей милости? Что сделал он, чем отличился, чтобы попасть в то положение, какое он занимает? Одним тем — я не стыжусь признаться в этом, — что благоговел передо мной, и тем, что его чувство имело больше видов на успех, чем чье бы то ни было другое. Но, клянусь Богом, забыла бы, что я — королева, и стала бы мстить, как оскорбленная женщина, если бы узнала, что он лицемерит, что он шутит со мной, королевой Англии, как будто я — такая же кокетка, как Мария Шотландская. Неужели он решился обмануть меня? Голова изменника будет на плахе, если он окажется виновным. Позовите лорда Лейстера! Я желаю говорить с ним.
— Ваше величество, он уже несколько дней в Лейстершире, и я благодарю Бога, что вы не увидите его в таком возбужденном состоянии. Если он действительно виновен в обмане, то никто не должен подозревать, что вы обмануты им. Ни один мужчина в мире не достоин, чтобы ради него вы уподобились обыкновенной женщине; чем равнодушнее ваше презрение, тем величественнее будет ваша месть.
— Лорд Бэрлей, вы и не подозреваете, что происходит во мне. Лейстер знает, что я любила его и ради него готова была забыть свой долг королевы. Он добровольно сознался мне, что не любит Марию. Она, при всей своей красоте, оскорбляет чувство нравственности, достоинство женщины и королевы. Мне стыдно назвать ее своей соперницей. В тот час, когда Лейстер сказал мне, что Мария — ничто для него, он стал близок моему сердцу. И неужели же все это — игра? Неужели мой вассал отдал ей свое сердце, а я чуть было не доверилась жалкому лицемеру?
— Ваше величество, как бы вы ни были оскорблены, как бы ни был справедлив ваш гнев, но все же ваша ненависть выдаст оскорбленную любовь. Смертный приговор над Лейстером заставил бы торжествовать Марию и поведал бы всему миру, что вы отомстили за свое оскорбленное тщеславие! Осудите графа Лейстера на изгнание, если он виновен, но не мстите ему.
— Изгнать его? — прошептала Елизавета, подавляя слезы злобы и глубоко оскорбленного чувства. — Изгнать для того, чтобы он пошел к Марии и рассказал ей, как он обманул тщеславную Елизавету? Нет, нет, я не хочу верить, пока его измена не будет доказана мне. Пошлите тотчас гонцов, чтобы разыскали Лейстера. Горе тому, кто даст ему возможность бежать! Если же он окажет сопротивление, то заковать его и запереть в тюрьму!…
— Еще нет никаких доказательств. Не обнаруживайте подозрения, пока не получите права судить его! — возразил Бэрлей, пораженный страстностью королевы, которой он не ожидал.
— Вы сомневаетесь? — спросила Елизавета, мрачно глядя на него. — Вы, кажется, изволите шутить со мной? Но кто же обвинил Лейстера, как не вы? Кто навел меня на эти ужасные подозрения? Быть может, вы захотели разведать о том, что значит для меня Дэдлей? Клянусь кровью моего отца, вы раскаетесь в этой игре!
— Ваше величество, — твердо ответил Бэрлей, спокойно глядя ей в глаза, — я не боюсь гнева королевы, если он падает на ее верного слугу, потому что тогда судит королева, а не оскорбленная женщина. Я сам поддерживал лорда Лейстера, когда он влюбился в вас, но вы отвергли его — и я не мог подозревать, что это сопровождалось вашей внутренней борьбой. И странные отлучки лорда обязывали меня в связи с известиями из Лейстершира высказать подозрение, которое теперь кажется мне чрезвычайно оскорбительным.
— Разрешите мне расследовать, ошибался ли я, и я буду счастлив сказать вам, что слишком переусердствовал в своем желании служить вам.
— Сделайте это, Бэрлей!… Нет, сначала я должна сама видеть Лейстера и прочесть в его глазах вину или невиновность. Не говорите никому о подозрениях, его могут предупредить, а я хочу видеть, покраснеет ли он, когда я брошу ему в лицо обвинение в измене.
Бэрлей поклонился, а Елизавета, перейдя к государственным делам, стала разбирать их с таким спокойствием, которое ввело бы в заблуждение каждого, но не Бэрлея. Тот лишь, кто знал ее, мог понять, какая железная воля, какое самообладание требовалось с ее стороны, чтобы подавить бушующие чувства.
Однако, когда Бэрлей вышел от королевы, перо выпало у нее из руки, она сидела совершенно обессилевшая. Теперь, когда она осталась одна, сдерживаемая буря забушевала с новой силой, так как ей не перед кем было скрывать слезы и волнение. Она вся, казалось, была охвачена пламенем, ее глаза горели, грудь тяжело вздымалась, и губы судорожно подергивались.
Какое унизительное, возмущающее ее гордость чувство! Елизавета думала, что победила женскую слабость, а на поверку оказалось, что она ревновала и боялась быть обманутой, как простая девчонка, которой забавляются. Нет, эта мысль была слишком ужасна, чтобы можно было допустить ее!
В чем же заключались чары этой Стюарт? Елизавета порывисто выдвинула ящик, где лежало миниатюрное изображение Марии Стюарт, и горькая улыбка проскользнула по ее лицу.
«Да, она так хороша, но это — красота куртизанки, а не королевы, — сравнивала она. — Мои золотистые волосы красивее, чем ее, бесцветные, у меня большие глаза, а лицо выражает ум и величие, у Марии же какая-то кокетливая улыбка на устах. Какая безвкусица — эти католические побрякушки, крест и папские четки. Моя прикрытая грудь чиста и непорочна, а у нее — вздымается для каждого, кто останавливает на ней взгляд. И что же? Она покоряет сердца, перед ней благоговеют, а я — только мишень для лицемерной лести и наглости. Бэрлей прав: презрение более подобает мне, чем месть. Если он виновен, я раздавлю его как червяка. Я буду судить строго и так, чтобы все видели, что он оскорбил королеву, а не женщину… А если Бэрлей ошибался?.. О, тогда я вознагражу его за то, что он избавил мое сердце от унижения, вознагражу за верность, даже если он потребует моей руки и сердца. Если я теперь протяну Лейстеру руку, то это будет уже не слабость с моей стороны, а сила воли, решение, основанное на испытании и оценке его личности».


 В королевском дворце открыли двери большого тронного зала. У ворот разместилась королевская гвардия, а у входа стоял лорд-маршал с большим жезлом в руках. Елизавета хотела принять в присутствии всех министров посланника королевы шотландской. Весь двор был в полном сборе, когда королева вошла в зал и заняла свое место на троне, по правую руку ее стал граф Лейстер, а сзади него поместился какой-то господин, которого раньше ни разу не видели при дворе; граф Лейстер просил позволения привести его, на что получил милостивое разрешение.
Лорд Дэдлей казался спокойным, выражение его лица было веселое, хотя бледность бросалась в глаза. Многие его враги надеялись, что наступил конец могуществу любимца королевы.
Накануне Лейстер вернулся из дворца королевы с намерением сейчас же оседлать лошадь и бежать из Англии. Он рассказал обо всем происшедшем своему верному слуге, ожидая, что тот будет совершенно сражен ужасным известием, но, к его величайшему изумлению, Кингтон только засмеялся:
— Милорд, ваш побег испортит все дело, так как королева, вероятно, приказала следить за вами и вас схватят раньше, чем вы успеете добраться до ворот замка. Подождите обвинения лорда Сэррея и отнеситесь к нему как можно спокойнее. У лорда Сэррея нет никакого доказательства вашей вины, он надеется запугать вас, но сам задрожит, когда увидит, что вы скорее убьете вашу супругу, чем рискнете собственной головой. Напомните ему о слове, которое он вам дал, а еще лучше отрицайте все и предоставьте мне право отвечать за вас.
— Вы не знаете королевы, Кингтон, — возразил Дэдлей, — она благодаря своей подозрительности чрезвычайно наблюдательна и от нее не скроешь лжи. Мне кажется, что лучше сказать ей правду. Она сначала рассвирепеет, но, когда гнев остынет, она успокоится и поймет, что, мстя мне за мою вину, она прежде всего скомпрометирует себя.
— Королева передаст ваше дело в палату пэров, где вас будут судить как соблазнителя женщины, — заметил Кингтон. — Вы оскорбили королеву, добиваясь ее руки, уже будучи женатым. Такой обман по отношению к ее величеству сочтут большим преступлением и вас могут присудить даже к смертной казни. Не забудьте, что главным вашим обвинителем и вместе с тем судьей является оскорбленная женщина.
— К тому же беспощадная в своей ревности! — прибавил Дэдлей. — Да, я поступил как безумный! Все же я предпочитаю вытерпеть какое угодно наказание, чем продолжать существовать в постоянном страхе.
Кингтон не переставал горячо убеждать своего господина в том, что надежда еще не потеряна, и Дэдлей наконец согласился с его доводами. У него явилась даже надежда, что он может выйти победителем из этого критического положения.
В зал вошел лорд Сэррей. Он был в скромном костюме и высоких сапогах из оленьей кожи, придававших ему вид воина, отправляющегося на войну. Может быть, он думал, что являться к королеве в качестве обвиненного лица в парадном платье неуместно. И этот костюм Сэррея произвел очень неприятное впечатление на королеву, которая, подобно многим женщинам, обращала большое внимание на внешность. Она не требовала от Сэррея дорогого одеяния, но то обстоятельство, что он не потрудился надеть придворный костюм, заставило Елизавету обвинить Сэррея в недостатке уважения к ней. К невыгодному впечатлению, произведенному внешностью Сэррея, примешивалось еще и чувство неприязни к нему за то, что он, несмотря на все благодеяния, оказанные ему английской королевой, был на стороне Марии Стюарт.
— Милорд Бэрлей, возьмите, пожалуйста, от лорда Сэррея письмо от нашей сестры, — проговорила Елизавета, затыкая платком нос, — а вы, милорд Сэррей, держитесь подальше от меня. Я даже отсюда чувствую убийственный запах ваших сапог.
— Я проскакал из лагеря сотни миль, ваше величество, чтобы просить вас о правосудии, и потому позволил себе явиться к вам не в туфлях и шелковом камзоле, — холодно ответил Сэррей, приняв слова королевы за желание выказать ему немилость.
— Вы хорошо делаете, милорд, что напоминаете нам о правосудии по отношению к вам, — проговорила Елизавета.
— Вы сказали, что возвращаетесь из лагеря! Где же это было? Я не слыхала, чтобы вы сражались под моими знаменами?
— В Шотландии появились мятежники, ваше величество, которые осмелились злоупотреблять именем вашего величества и распространили ложный слух, будто английская королева благосклонно смотрит и даже поощряет восстание против Марии Стюарт! — ответил Сэррей. — В то же время английский посланник уверяет шотландскую королеву в непоколебимой дружбе вашего величества к ней. Поэтому я больше полагался на слова лорда Рандольфа, чем на слухи мятежников, и выступил против них.
— Вероятно, лорд Рандольф и посоветовал вам сеять возмущение среди моих подданных католиков для блага шотландской королевы? — насмешливо спросила Елизавета.
— И вы с этой целью приехали в графство Лейстер? Что же, много вам удалось навербовать сторонников Марии Стюарт?
— Тот, кто сообщил вам эту небылицу, ваше величество, или сам лжет, или был кем-нибудь жестоко обманут! — негодующим тоном возразил Сэррей.
Милорд Бэрлей, что вы можете сказать по этому поводу? — спросила Елизавета.
— Я могу возразить на резкие слова лорда Сэррея, ваше величество, лишь то, что бумага, переданная мною вам, была удостоверена лейстерским судом. Если тут существует какая-нибудь ошибка, то лорду Сэррею нетрудно будет доказать свою невиновность.
— Милорд, — сказал Сэррей, — я очень благодарен вам за то, что вы дали мне возможность быть принятым королевой и услышать от ее величества, в каком страшном преступлении обвиняют меня. Я думаю, что судья, подписавший этот донос, был обманут каким-нибудь лжецом. Если бы мне пришлось вербовать наемников для защиты шотландской королевы, то мне незачем было ехать во владения графа Лейстера, гораздо проще было бы искать таких людей в собственном графстве! Конечно, я решился бы на это лишь при том условии, если бы вы, ваше величество, ничего не имели против того, чтобы таким способом увеличилось войско шотландской королевы.
— Что же привело вас тогда во владения графа Лейстера? — спросилаЕлизавета. — Очень странно, что обманутым оказался не только судья, но и сам граф Лейстер, ваш старый товарищ по оружию. Милорд Лейстер, — обратилась она к Дэдлею, — на каком основании вы поддерживаете обвинения против лорда Сэррея? Вы слышите, что говорит ваш бывший друг? Он утверждает, что судья был обманут каким-нибудь лжецом.
— Я с удивлением и грустью смотрю на то, что здесь происходит, ваше величество, — ответил Лейстер. — Еще вчера, когда лорд Бэрлей передал вам просьбу лорда Сэррея, я был поражен и глубоко огорчен, что лорд Сэррей выбрал себе посредником не меня, а лорда Бэрлея, и подумал — может быть, и я был кем-то обманут. Уже давно лорд Сэррей не принадлежит к числу моих друзей. При тех отношениях, которые существовали между нами в последнее время, для меня был непонятен приезд лорда Сэррея в мои владения, так как мне не приходило в голову, что он может нарушить свое слово или считать меня способным на измену. Я спросил о цели приезда лорда Сэррея у человека, который является моим заместителем в Лейстере, а именно, у сэра Кингтона, и услышал от него то, что имел уже честь доложить вам; я пригласил сюда сэра Кингтона, чтобы он лично мог подтвердить свои слова и засвидетельствовать, что я всегда рекомендовал ему крайнюю осторожность по отношению к лорду Сэррею.
— Подойдите поближе, сэр Кингтон, — позвала Елизавета, — и скажите всю правду, без утайки. Помните, что дело идет о вашей жизни. Правда, что вы подали жалобу на лорда Сэррея? И если это — правда, то объясните, что побудило вас на этот поступок? Не скрывайте ничего! Может быть, вам известно, что лорд Лейстер тайно поддерживал лорда Сэррея? Хотя я не допускаю этой мысли, но случаются и невероятные вещи.
— Ваше величество, — ответил Кингтон, опускаясь на колено перед королевой, — если кто-нибудь был обманут в этой истории, то прежде всего и больше всех лорд Лейстер. Сознаюсь, что я сам заблуждался и ввел в заблуждение своего господина. Граф Сэррей дал слово лорду Лейстеру, что при соблюдении известных условий со стороны моего господина он никогда не покажется в пределах графства Лейстер. Зная, что обещания, данные моим господином, ничем не были нарушены, и не допуская мысли, что граф Сэррей может изменить своему слову, я объяснил себе приезд графа только тем, что он явился в Лейстер с целью склонить наших католиков в пользу королевы Шотландской. Лорд Сэррей отрицает, что он приехал во владения лорда Лейстера с какой-нибудь политической целью, пусть он тогда объяснит свое присутствие в Лейстере, объяснит, почему он нарушил данное им слово, хотя лорд Лейстер его условия выполнил.
— Господи, что за загадки вы нам задаете! — нетерпеливо воскликнула Елизавета. — Какие-то тайны, какие-то обещания! В чем дело? Милорд Сэррей, я приказываю вам объясниться.
Напоминание о данном слове и намек Кингтона, что Лейстер ни в чем не изменил своим обещаниям, не могли не оказать известного влияния на честного, прямого Сэррея.
— Ваше величество, — проговорил он, — та тайна, о которой здесь идет речь, совершенно частного характера и касается лишь лорда Лейстера и меня. Я обязался хранить данное ему слово при известных условиях с его стороны, но у меня есть основания думать, что он нарушил эти условия. Мой верный слуга и друг, приехавший в Лейстер для того, чтобы убедиться, сдержал ли лорд Лейстер свои обещания, бесследно исчез, я тоже встретил препятствия при первом моем желании попасть к лорду Лейстеру. Теперь я узнаю, что на меня сделали донос, в котором меня обвиняют в государственной измене, и что это сделано с целью удалить меня из пределов Англии. Все вместе взятое служит ясным доказательством, что меня боятся и имеют, очевидно, серьезные причины для этого. Я приехал сюда, ваше величество, просить, даже умолять вас о защите.
— Клянусь всем святым, что здесь происходит нечто неслыханное, — воскликнула королева, гордо выпрямляясь. — Два лорда ссорятся между собой из-за какой-то тайны. Один из них умоляет о защите, другой пишет ложные доносы для того, чтобы отправить своего врага как можно дальше. Говорят о каких-то пропавших людях, точно я и мои министры не в состоянии защитить моих подданных и открыть всякое преступление! Я хочу уяснить себе, в чем дело.
— Ваше величество, — проговорил наконец Лейстер, — я не ссорился с лордом Сэрреем. Вы только что слышали сами, что он не поверил моему обещанию и вследствие этого решился на такой поступок, который легко мог ввести меня в заблуждение. Я считаю ниже своего достоинства оправдываться перед лордом Сэрреем и предпочитаю молчать.
— В таком случае, я заставлю вас говорить, милорд! — воскликнула разгневанная королева. — Вы должны сказать мне, в чем дело. Только изменник может колебаться в том, открыть ли тайну своей королеве, которая удостаивала его полным доверием. Повинуйтесь, милорд, во избежание моего неудовольствия.
Лейстер продолжал молчать.
Недоверие королевы еще больше увеличилось при виде этого непослушания. Не помня себя от гнева, она позвала начальника конвоя и громко приказала арестовать Лейстера.
— Милорд Боуэн, обезоружьте и арестуйте графа Лейстера! — приказала она. — Вы отвечаете мне за него своей головой.
Лейстер отстегнул свою шпагу и передал ее Боуэну, причем так взглянул на Сэррея, точно хотел сказать ему: «Вот видишь, по твоей милости я отправляюсь на эшафот!»
Сэррей не ожидал такого оборота дела. Ведь у него, собственно, не было явных доказательств, что Лейстер не сдержал данного ему обещания! Заточение Вальтера Брая и хитрый обман по отношению к Ламберту могли быть делом рук Кингтона, который останется на свободе и может причинить еще худшее зло.
— Милорд Сэррей, — гневно сказала королева, — охранная грамота шотландской королевы заставляет меня щадить вас, но вы обязуетесь представить мне доказательства своего обвинения. Передайте их лорду Бэрлею и будьте уверены, что преступление не останется без строгого наказания. Но, если ваши слова окажутся клеветой, тогда не ждите пощады.
— Ваше величество, для этого мне необходима ваша помощь, — возразил лорд Сэррей. — Отдайте, ваше величество, строгий приказ, чтобы всякое сообщение между лордом Дэдлеем, его приближенными людьми и жителями графства Лейстер было прекращено. И прошу вас распорядиться, чтобы для меня открылись все темницы и замки владений лорда Лейстера. И тогда ручаюсь вам, что через очень непродолжительный срок я вернусь сюда с явными уликами в руках. Если же окажется, что я ошибся, то разорву охранную грамоту шотландской королевы и покорно понесу то наказание, которое вам угодно будет наложить на меня.
— Ваше желание поразительно странно, — насмешливо заметила Елизавета. — Вы хотите, чтобы я дала вам полномочия распоряжаться в Лейстере, да разве вы забыли, что являетесь обвиняемым? Вы не хотите даже сказать, в чем состоит то преступление, которое заставляет вас просить у меня защиты, а к себе требуете полного доверия! И все же ввиду того, что ни мои просьбы, ни мое приказание не могут вызвать откровенность лорда Лейстера, я склоняюсь исполнить ваше желание. Скажите только, что вы собираетесь делать во владениях графа Лейстера?
— Я хочу осмотреть тюрьмы, ваше величество, — ответил Сэррей, — и поискать, нет ли среди заключенных моего друга, сэра Вальтера Брая; кроме того, мне хочется доставить сюда свидетеля из Кэнморского замка, который мог бы кое-что рассказать по этому делу.
— Вы ищете сэра Брая? — воскликнула королева. — Это не тот ли Брай, которого хотела здесь отравить его жена? Он ведь отправился затем в Шотландию искать своего ребенка.
— Да, ваше величество, это тот самый Брай! — подтвердил Сэррей.
— Что же, он нашел его? — спросила Елизавета.
— Да, ваше величество! Вальтер Брай узнал, что его дочь находится при дворе шотландской королевы, но прежде, чем он успел повидаться с нею, молодую девушку похитили.
— Ах, у него, значит, была дочь?! Хорошенькая? — ревниво проговорила королева. — Скажите, это не она ли повсюду сопровождала вас и графа Лейстера в костюме пажа?
Вместо ответа Сэррей поклонился.
— Постойте, значит, эта особа знакома графу Лейстеру? — засмеялась Елизавета, и ее глаза гневно сверкнули. — Не произошло ли похищение девушки в то время, когда лорд Дэдлей был в Шотландии?
— Да, в это время, ваше величество! — ответил Сэррей.
— В таком случае я угадываю, что нарушило вашу дружбу, — прошептала королева. И громко добавила: — Мне писали из Шотландии об одной сирене, которая ослепила лорда Лейстера своей красотой и затем внезапно исчезла. А теперь я понимаю, что означают все эти тайны! Да, я прикажу обыскать все тюрьмы и замки в Лейстере.
Видя, что граф Лейстер побледнел, Елизавета взъярилась от безумной ревности.
Боясь, чтобы королева не совершила какого-либо вызывающего поступка, Бэрлей поспешил подойти к ней.
— Не выказывайте так явно своей ревности, ваше величество! — прошептал он. — Не подавайте повода к насмешкам! Вспомните, что вы — великая королева Англии, дочь Генриха Восьмого! Победите чувство негодования, соберитесь с силами!
— Нет, это уж слишком! — задыхаясь от злобы, возразила королева. — На лице Дэдлея лежит печать позора, подлой измены! А я еще хотела отдать ему свою руку, он клялся, что любит меня одну на всем свете! Такого наглого обмана не перенесла бы ни одна женщина, даже самого низшего сословия. Неужели я могу допустить, чтобы этот негодяй хвастал, что насмеялся над королевой, как над какой-нибудь…
— Вы очень взволнованы, ваше величество, — прервал ее шепотом Бэрлей, — и потому не можете в эту минуту спокойно вникнуть в дело. — Я не верю, чтобы лорд Лейстер решился на такую измену, это было бы уж слишком смело! Выслушайте лорда Лейстера, но не в присутствии всего двора. Может быть, он и в состоянии будет оправдаться перед вами. Если же у него не будет возможности сделать это, то осудите его, как справедливая королева. Посмотрите на того хитрого мошенника Кингтона, вы видите, что он нашептывает что-то лорду Лейстеру. Мне кажется, что граф — скорее увлекающийся человек, чем сознательный обманщик.
Бэрлей был очень тонким дипломатом и решил, что какой бы оборот ни приняло дело для него во всяком случае будет выгодно сыграть роль посредника между королевой и любимым ею человеком.
— Королева все простит вам, — шептал Кингтон, — если вы ей скажете, что увезли Филли для того, чтобы отомстить лорду Сэррею и сэру Браю, и выдали замуж увезенную девушку за своего слугу.
Лейстер взглянул на королеву, которая продолжала разговаривать с Бэрлеем, и выражение ее лица было так грозно, что Лейстер потерял надежду на то, что она когда-либо простит ему.
Он уже решил было сознаться королеве в своем преступлении и не отягощать своей совести новой ложью, но его размышления были прерваны словами королевы, которая наконец решила высказать свое заключение по этому делу.
— Милорд Сэррей, — громко заговорила Елизавета, и гробовая тишина воцарилась в зале, — мы обсудили вашу просьбу, но прежде чем ответить на нее, желаем дать возможность лорду Лейстеру оправдаться, если он в состоянии будет сделать это. Затем, смотря по обстоятельствам, или сами произведем следствие, или поручим его вам. Так как это дело чрезвычайно щекотливое для лорда Лейстера, то я нахожу справедливым выслушать его без свидетелей, а потому прошу весь двор и вас, милорд Сэррей, на время удалиться из зала.
Все двери открылись, и придворные поспешили к выходу, лишь один Сэррей не двигался с места. Он предчувствовал, что ловкому Лейстеру нетрудно будет обойти влюбленную Елизавету, которая уже наполовину успокоилась.
Нарушив внезапно придворный этикет, Сэррей быстро подошел к трону и, взяв конец платья Елизаветы, взмолился:
— Ваше величество, умоляю вас, не слушайте лорда Лейстера до тех пор, пока я не представлю вам доказательства его вины! Не давайте ему возможности сейчас же принять меры для того, чтобы скрыть следы преступления. Будьте справедливой королевой, не делающей никакой разницы между своими подданными, когда дело идет о раскрытии чьей-нибудь вины.
— Господи, — недовольным тоном проговорила Елизавета, с отвращением вырывая платье, — да вы совершенно забываетесь, милорд Сэррей! Я молча переносила вашу несносную болтовню и отвратительный запах ваших сапог, для вас всего этого мало? Моя снисходительность привела к тому, что вы становитесь дерзки. Я приказала двору и вам удалиться. Исполняйте мой приказ, иначе лорд Боуэн принужден будет арестовать вас.
— Ваше величество, единственное, чего я боюсь, это чтобы вас не обманули лживыми словами, — упорствовал Сэррей. — Я отвечаю вам своей головой, что найду доказательства вины лорда Лейстера, в вашей власти будет казнить меня, если я не выполню своего обещания, но не лишайте же меня возможности представить вам эти доказательства.
— Вы — упрямый, своевольный человек, милорд Сэррей, — ответила королева. — Вы так ослеплены своей ненавистью, что не доверяете даже мудрости той, к которой сами же обратились за правосудием! Я просила вас удалиться и повторяю свою просьбу, одно могу сказать вам в утешение, что лорд Бэрлей поможет вам следить за тем, чтобы ни одно приказание, ни одно распоряжение лорда Лейстера не выходило за пределы этого замка.
Граф Лейстер потупился и сложил руки на груди. Казалось, что он решил молча покориться своей судьбе.
В королевском дворце открыли двери большого тронного зала. У ворот разместилась королевская гвардия, а у входа стоял лорд-маршал с большим жезлом в руках. Елизавета хотела принять в присутствии всех министров посланника королевы шотландской. Весь двор был в полном сборе, когда королева вошла в зал и заняла свое место на троне, по правую руку ее стал граф Лейстер, а сзади него поместился какой-то господин, которого раньше ни разу не видели при дворе; граф Лейстер просил позволения привести его, на что получил милостивое разрешение.
Лорд Дэдлей казался спокойным, выражение его лица было веселое, хотя бледность бросалась в глаза. Многие его враги надеялись, что наступил конец могуществу любимца королевы.
Накануне Лейстер вернулся из дворца королевы с намерением сейчас же оседлать лошадь и бежать из Англии. Он рассказал обо всем происшедшем своему верному слуге, ожидая, что тот будет совершенно сражен ужасным известием, но, к его величайшему изумлению, Кингтон только засмеялся:
— Милорд, ваш побег испортит все дело, так как королева, вероятно, приказала следить за вами и вас схватят раньше, чем вы успеете добраться до ворот замка. Подождите обвинения лорда Сэррея и отнеситесь к нему как можно спокойнее. У лорда Сэррея нет никакого доказательства вашей вины, он надеется запугать вас, но сам задрожит, когда увидит, что вы скорее убьете вашу супругу, чем рискнете собственной головой. Напомните ему о слове, которое он вам дал, а еще лучше отрицайте все и предоставьте мне право отвечать за вас.
— Вы не знаете королевы, Кингтон, — возразил Дэдлей, — она благодаря своей подозрительности чрезвычайно наблюдательна и от нее не скроешь лжи. Мне кажется, что лучше сказать ей правду. Она сначала рассвирепеет, но, когда гнев остынет, она успокоится и поймет, что, мстя мне за мою вину, она прежде всего скомпрометирует себя.
— Королева передаст ваше дело в палату пэров, где вас будут судить как соблазнителя женщины, — заметил Кингтон. — Вы оскорбили королеву, добиваясь ее руки, уже будучи женатым. Такой обман по отношению к ее величеству сочтут большим преступлением и вас могут присудить даже к смертной казни. Не забудьте, что главным вашим обвинителем и вместе с тем судьей является оскорбленная женщина.
— К тому же беспощадная в своей ревности! — прибавил Дэдлей. — Да, я поступил как безумный! Все же я предпочитаю вытерпеть какое угодно наказание, чем продолжать существовать в постоянном страхе.
Кингтон не переставал горячо убеждать своего господина в том, что надежда еще не потеряна, и Дэдлей наконец согласился с его доводами. У него явилась даже надежда, что он может выйти победителем из этого критического положения.
В зал вошел лорд Сэррей. Он был в скромном костюме и высоких сапогах из оленьей кожи, придававших ему вид воина, отправляющегося на войну. Может быть, он думал, что являться к королеве в качестве обвиненного лица в парадном платье неуместно. И этот костюм Сэррея произвел очень неприятное впечатление на королеву, которая, подобно многим женщинам, обращала большое внимание на внешность. Она не требовала от Сэррея дорогого одеяния, но то обстоятельство, что он не потрудился надеть придворный костюм, заставило Елизавету обвинить Сэррея в недостатке уважения к ней. К невыгодному впечатлению, произведенному внешностью Сэррея, примешивалось еще и чувство неприязни к нему за то, что он, несмотря на все благодеяния, оказанные ему английской королевой, был на стороне Марии Стюарт.
— Милорд Бэрлей, возьмите, пожалуйста, от лорда Сэррея письмо от нашей сестры, — проговорила Елизавета, затыкая платком нос, — а вы, милорд Сэррей, держитесь подальше от меня. Я даже отсюда чувствую убийственный запах ваших сапог.
— Я проскакал из лагеря сотни миль, ваше величество, чтобы просить вас о правосудии, и потому позволил себе явиться к вам не в туфлях и шелковом камзоле, — холодно ответил Сэррей, приняв слова королевы за желание выказать ему немилость.
— Вы хорошо делаете, милорд, что напоминаете нам о правосудии по отношению к вам, — проговорила Елизавета.
— Вы сказали, что возвращаетесь из лагеря! Где же это было? Я не слыхала, чтобы вы сражались под моими знаменами?
— В Шотландии появились мятежники, ваше величество, которые осмелились злоупотреблять именем вашего величества и распространили ложный слух, будто английская королева благосклонно смотрит и даже поощряет восстание против Марии Стюарт! — ответил Сэррей. — В то же время английский посланник уверяет шотландскую королеву в непоколебимой дружбе вашего величества к ней. Поэтому я больше полагался на слова лорда Рандольфа, чем на слухи мятежников, и выступил против них.
— Вероятно, лорд Рандольф и посоветовал вам сеять возмущение среди моих подданных католиков для блага шотландской королевы? — насмешливо спросила Елизавета.
— И вы с этой целью приехали в графство Лейстер? Что же, много вам удалось навербовать сторонников Марии Стюарт?
— Тот, кто сообщил вам эту небылицу, ваше величество, или сам лжет, или был кем-нибудь жестоко обманут! — негодующим тоном возразил Сэррей.
Милорд Бэрлей, что вы можете сказать по этому поводу? — спросила Елизавета.
— Я могу возразить на резкие слова лорда Сэррея, ваше величество, лишь то, что бумага, переданная мною вам, была удостоверена лейстерским судом. Если тут существует какая-нибудь ошибка, то лорду Сэррею нетрудно будет доказать свою невиновность.
— Милорд, — сказал Сэррей, — я очень благодарен вам за то, что вы дали мне возможность быть принятым королевой и услышать от ее величества, в каком страшном преступлении обвиняют меня. Я думаю, что судья, подписавший этот донос, был обманут каким-нибудь лжецом. Если бы мне пришлось вербовать наемников для защиты шотландской королевы, то мне незачем было ехать во владения графа Лейстера, гораздо проще было бы искать таких людей в собственном графстве! Конечно, я решился бы на это лишь при том условии, если бы вы, ваше величество, ничего не имели против того, чтобы таким способом увеличилось войско шотландской королевы.
— Что же привело вас тогда во владения графа Лейстера? — спросилаЕлизавета. — Очень странно, что обманутым оказался не только судья, но и сам граф Лейстер, ваш старый товарищ по оружию. Милорд Лейстер, — обратилась она к Дэдлею, — на каком основании вы поддерживаете обвинения против лорда Сэррея? Вы слышите, что говорит ваш бывший друг? Он утверждает, что судья был обманут каким-нибудь лжецом.
— Я с удивлением и грустью смотрю на то, что здесь происходит, ваше величество, — ответил Лейстер. — Еще вчера, когда лорд Бэрлей передал вам просьбу лорда Сэррея, я был поражен и глубоко огорчен, что лорд Сэррей выбрал себе посредником не меня, а лорда Бэрлея, и подумал — может быть, и я был кем-то обманут. Уже давно лорд Сэррей не принадлежит к числу моих друзей. При тех отношениях, которые существовали между нами в последнее время, для меня был непонятен приезд лорда Сэррея в мои владения, так как мне не приходило в голову, что он может нарушить свое слово или считать меня способным на измену. Я спросил о цели приезда лорда Сэррея у человека, который является моим заместителем в Лейстере, а именно, у сэра Кингтона, и услышал от него то, что имел уже честь доложить вам; я пригласил сюда сэра Кингтона, чтобы он лично мог подтвердить свои слова и засвидетельствовать, что я всегда рекомендовал ему крайнюю осторожность по отношению к лорду Сэррею.
— Подойдите поближе, сэр Кингтон, — позвала Елизавета, — и скажите всю правду, без утайки. Помните, что дело идет о вашей жизни. Правда, что вы подали жалобу на лорда Сэррея? И если это — правда, то объясните, что побудило вас на этот поступок? Не скрывайте ничего! Может быть, вам известно, что лорд Лейстер тайно поддерживал лорда Сэррея? Хотя я не допускаю этой мысли, но случаются и невероятные вещи.
— Ваше величество, — ответил Кингтон, опускаясь на колено перед королевой, — если кто-нибудь был обманут в этой истории, то прежде всего и больше всех лорд Лейстер. Сознаюсь, что я сам заблуждался и ввел в заблуждение своего господина. Граф Сэррей дал слово лорду Лейстеру, что при соблюдении известных условий со стороны моего господина он никогда не покажется в пределах графства Лейстер. Зная, что обещания, данные моим господином, ничем не были нарушены, и не допуская мысли, что граф Сэррей может изменить своему слову, я объяснил себе приезд графа только тем, что он явился в Лейстер с целью склонить наших католиков в пользу королевы Шотландской. Лорд Сэррей отрицает, что он приехал во владения лорда Лейстера с какой-нибудь политической целью, пусть он тогда объяснит свое присутствие в Лейстере, объяснит, почему он нарушил данное им слово, хотя лорд Лейстер его условия выполнил.
— Господи, что за загадки вы нам задаете! — нетерпеливо воскликнула Елизавета. — Какие-то тайны, какие-то обещания! В чем дело? Милорд Сэррей, я приказываю вам объясниться.
Напоминание о данном слове и намек Кингтона, что Лейстер ни в чем не изменил своим обещаниям, не могли не оказать известного влияния на честного, прямого Сэррея.
— Ваше величество, — проговорил он, — та тайна, о которой здесь идет речь, совершенно частного характера и касается лишь лорда Лейстера и меня. Я обязался хранить данное ему слово при известных условиях с его стороны, но у меня есть основания думать, что он нарушил эти условия. Мой верный слуга и друг, приехавший в Лейстер для того, чтобы убедиться, сдержал ли лорд Лейстер свои обещания, бесследно исчез, я тоже встретил препятствия при первом моем желании попасть к лорду Лейстеру. Теперь я узнаю, что на меня сделали донос, в котором меня обвиняют в государственной измене, и что это сделано с целью удалить меня из пределов Англии. Все вместе взятое служит ясным доказательством, что меня боятся и имеют, очевидно, серьезные причины для этого. Я приехал сюда, ваше величество, просить, даже умолять вас о защите.
— Клянусь всем святым, что здесь происходит нечто неслыханное, — воскликнула королева, гордо выпрямляясь. — Два лорда ссорятся между собой из-за какой-то тайны. Один из них умоляет о защите, другой пишет ложные доносы для того, чтобы отправить своего врага как можно дальше. Говорят о каких-то пропавших людях, точно я и мои министры не в состоянии защитить моих подданных и открыть всякое преступление! Я хочу уяснить себе, в чем дело.
— Ваше величество, — проговорил наконец Лейстер, — я не ссорился с лордом Сэрреем. Вы только что слышали сами, что он не поверил моему обещанию и вследствие этого решился на такой поступок, который легко мог ввести меня в заблуждение. Я считаю ниже своего достоинства оправдываться перед лордом Сэрреем и предпочитаю молчать.
— В таком случае, я заставлю вас говорить, милорд! — воскликнула разгневанная королева. — Вы должны сказать мне, в чем дело. Только изменник может колебаться в том, открыть ли тайну своей королеве, которая удостаивала его полным доверием. Повинуйтесь, милорд, во избежание моего неудовольствия.
Лейстер продолжал молчать.
Недоверие королевы еще больше увеличилось при виде этого непослушания. Не помня себя от гнева, она позвала начальника конвоя и громко приказала арестовать Лейстера.
— Милорд Боуэн, обезоружьте и арестуйте графа Лейстера! — приказала она. — Вы отвечаете мне за него своей головой.
Лейстер отстегнул свою шпагу и передал ее Боуэну, причем так взглянул на Сэррея, точно хотел сказать ему: «Вот видишь, по твоей милости я отправляюсь на эшафот!»
Сэррей не ожидал такого оборота дела. Ведь у него, собственно, не было явных доказательств, что Лейстер не сдержал данного ему обещания! Заточение Вальтера Брая и хитрый обман по отношению к Ламберту могли быть делом рук Кингтона, который останется на свободе и может причинить еще худшее зло.
— Милорд Сэррей, — гневно сказала королева, — охранная грамота шотландской королевы заставляет меня щадить вас, но вы обязуетесь представить мне доказательства своего обвинения. Передайте их лорду Бэрлею и будьте уверены, что преступление не останется без строгого наказания. Но, если ваши слова окажутся клеветой, тогда не ждите пощады.
— Ваше величество, для этого мне необходима ваша помощь, — возразил лорд Сэррей. — Отдайте, ваше величество, строгий приказ, чтобы всякое сообщение между лордом Дэдлеем, его приближенными людьми и жителями графства Лейстер было прекращено. И прошу вас распорядиться, чтобы для меня открылись все темницы и замки владений лорда Лейстера. И тогда ручаюсь вам, что через очень непродолжительный срок я вернусь сюда с явными уликами в руках. Если же окажется, что я ошибся, то разорву охранную грамоту шотландской королевы и покорно понесу то наказание, которое вам угодно будет наложить на меня.
— Ваше желание поразительно странно, — насмешливо заметила Елизавета. — Вы хотите, чтобы я дала вам полномочия распоряжаться в Лейстере, да разве вы забыли, что являетесь обвиняемым? Вы не хотите даже сказать, в чем состоит то преступление, которое заставляет вас просить у меня защиты, а к себе требуете полного доверия! И все же ввиду того, что ни мои просьбы, ни мое приказание не могут вызвать откровенность лорда Лейстера, я склоняюсь исполнить ваше желание. Скажите только, что вы собираетесь делать во владениях графа Лейстера?
— Я хочу осмотреть тюрьмы, ваше величество, — ответил Сэррей, — и поискать, нет ли среди заключенных моего друга, сэра Вальтера Брая; кроме того, мне хочется доставить сюда свидетеля из Кэнморского замка, который мог бы кое-что рассказать по этому делу.
— Вы ищете сэра Брая? — воскликнула королева. — Это не тот ли Брай, которого хотела здесь отравить его жена? Он ведь отправился затем в Шотландию искать своего ребенка.
— Да, ваше величество, это тот самый Брай! — подтвердил Сэррей.
— Что же, он нашел его? — спросила Елизавета.
— Да, ваше величество! Вальтер Брай узнал, что его дочь находится при дворе шотландской королевы, но прежде, чем он успел повидаться с нею, молодую девушку похитили.
— Ах, у него, значит, была дочь?! Хорошенькая? — ревниво проговорила королева. — Скажите, это не она ли повсюду сопровождала вас и графа Лейстера в костюме пажа?
Вместо ответа Сэррей поклонился.
— Постойте, значит, эта особа знакома графу Лейстеру? — засмеялась Елизавета, и ее глаза гневно сверкнули. — Не произошло ли похищение девушки в то время, когда лорд Дэдлей был в Шотландии?
— Да, в это время, ваше величество! — ответил Сэррей.
— В таком случае я угадываю, что нарушило вашу дружбу, — прошептала королева. И громко добавила: — Мне писали из Шотландии об одной сирене, которая ослепила лорда Лейстера своей красотой и затем внезапно исчезла. А теперь я понимаю, что означают все эти тайны! Да, я прикажу обыскать все тюрьмы и замки в Лейстере.
Видя, что граф Лейстер побледнел, Елизавета взъярилась от безумной ревности.
Боясь, чтобы королева не совершила какого-либо вызывающего поступка, Бэрлей поспешил подойти к ней.
— Не выказывайте так явно своей ревности, ваше величество! — прошептал он. — Не подавайте повода к насмешкам! Вспомните, что вы — великая королева Англии, дочь Генриха Восьмого! Победите чувство негодования, соберитесь с силами!
— Нет, это уж слишком! — задыхаясь от злобы, возразила королева. — На лице Дэдлея лежит печать позора, подлой измены! А я еще хотела отдать ему свою руку, он клялся, что любит меня одну на всем свете! Такого наглого обмана не перенесла бы ни одна женщина, даже самого низшего сословия. Неужели я могу допустить, чтобы этот негодяй хвастал, что насмеялся над королевой, как над какой-нибудь…
— Вы очень взволнованы, ваше величество, — прервал ее шепотом Бэрлей, — и потому не можете в эту минуту спокойно вникнуть в дело. — Я не верю, чтобы лорд Лейстер решился на такую измену, это было бы уж слишком смело! Выслушайте лорда Лейстера, но не в присутствии всего двора. Может быть, он и в состоянии будет оправдаться перед вами. Если же у него не будет возможности сделать это, то осудите его, как справедливая королева. Посмотрите на того хитрого мошенника Кингтона, вы видите, что он нашептывает что-то лорду Лейстеру. Мне кажется, что граф — скорее увлекающийся человек, чем сознательный обманщик.
Бэрлей был очень тонким дипломатом и решил, что какой бы оборот ни приняло дело для него во всяком случае будет выгодно сыграть роль посредника между королевой и любимым ею человеком.
— Королева все простит вам, — шептал Кингтон, — если вы ей скажете, что увезли Филли для того, чтобы отомстить лорду Сэррею и сэру Браю, и выдали замуж увезенную девушку за своего слугу.
Лейстер взглянул на королеву, которая продолжала разговаривать с Бэрлеем, и выражение ее лица было так грозно, что Лейстер потерял надежду на то, что она когда-либо простит ему.
Он уже решил было сознаться королеве в своем преступлении и не отягощать своей совести новой ложью, но его размышления были прерваны словами королевы, которая наконец решила высказать свое заключение по этому делу.
— Милорд Сэррей, — громко заговорила Елизавета, и гробовая тишина воцарилась в зале, — мы обсудили вашу просьбу, но прежде чем ответить на нее, желаем дать возможность лорду Лейстеру оправдаться, если он в состоянии будет сделать это. Затем, смотря по обстоятельствам, или сами произведем следствие, или поручим его вам. Так как это дело чрезвычайно щекотливое для лорда Лейстера, то я нахожу справедливым выслушать его без свидетелей, а потому прошу весь двор и вас, милорд Сэррей, на время удалиться из зала.
Все двери открылись, и придворные поспешили к выходу, лишь один Сэррей не двигался с места. Он предчувствовал, что ловкому Лейстеру нетрудно будет обойти влюбленную Елизавету, которая уже наполовину успокоилась.
Нарушив внезапно придворный этикет, Сэррей быстро подошел к трону и, взяв конец платья Елизаветы, взмолился:
— Ваше величество, умоляю вас, не слушайте лорда Лейстера до тех пор, пока я не представлю вам доказательства его вины! Не давайте ему возможности сейчас же принять меры для того, чтобы скрыть следы преступления. Будьте справедливой королевой, не делающей никакой разницы между своими подданными, когда дело идет о раскрытии чьей-нибудь вины.
— Господи, — недовольным тоном проговорила Елизавета, с отвращением вырывая платье, — да вы совершенно забываетесь, милорд Сэррей! Я молча переносила вашу несносную болтовню и отвратительный запах ваших сапог, для вас всего этого мало? Моя снисходительность привела к тому, что вы становитесь дерзки. Я приказала двору и вам удалиться. Исполняйте мой приказ, иначе лорд Боуэн принужден будет арестовать вас.
— Ваше величество, единственное, чего я боюсь, это чтобы вас не обманули лживыми словами, — упорствовал Сэррей. — Я отвечаю вам своей головой, что найду доказательства вины лорда Лейстера, в вашей власти будет казнить меня, если я не выполню своего обещания, но не лишайте же меня возможности представить вам эти доказательства.
— Вы — упрямый, своевольный человек, милорд Сэррей, — ответила королева. — Вы так ослеплены своей ненавистью, что не доверяете даже мудрости той, к которой сами же обратились за правосудием! Я просила вас удалиться и повторяю свою просьбу, одно могу сказать вам в утешение, что лорд Бэрлей поможет вам следить за тем, чтобы ни одно приказание, ни одно распоряжение лорда Лейстера не выходило за пределы этого замка.
Граф Лейстер потупился и сложил руки на груди. Казалось, что он решил молча покориться своей судьбе.


 Свое бракосочетание с Босвелом Мария Стюарт обставила блестящими празднествами, хотя убитого супруга облекал окровавленный саван. Новобрачная хотела казаться счастливой, и именно это отталкивало от нее истинно преданных ей людей. Ее приближенные понимали, что необузданный Босвел оказывал на нее демоническое влияние с того момента, когда Мария сделалась сообщницей его преступления.
Конечно, она могла бояться хладнокровного убийцу, а мысль, что она прикована к нему кровавым злодейством, пожалуй, внушала ей ужас, но если бы она порвала эту цепь, то очутилась бы без всякой опоры и сделалась бы добычей своих врагов.
Мария стала женой убийцы, но вместе с тем она была королевой, и в ее сердце еще жило гордое сознание, что могущество, которым обладал ее муж, досталось ему через нее. Однако Босвел спешил принять меры, ради собственной безопасности спешил принять меры, чтобы она не вздумала со временем бросить его. И с той же беспощадной суровостью, с какой он принудил ее допустить свое похищение, он начал теперь показывать ей, что она перестала уже быть его повелительницей, а была только женой, что он — ее господин и муж, который не потерпит никаких пререканий, никакой измены.
Все слухи, ходившие о легком поведении Марии, пожалуй, внушили ему опасение, что она когда-нибудь бросит и его честолюбивый Босвел завоевал ее посредством преступления, и поэтому боялся, что все может пойти прахом из-за женской слабости. Первым делом после свадьбы он решил удалить от жены ее доверенных. Мария потребовала, чтобы арестованный им и содержавшийся под строгим караулом Мелвил снова занял почетное место. Однако Босвел воспротивился этому. Тогда Мария напомнила ему, что она — королева, а он, ее супруг, состоит ее вассалом. Едва эти слова сорвались с ее губ, как она содрогнулась при виде мрачной мины Босвела: его глаза загорелись, он запер двери и подступил к жене, точно собираясь сокрушить ее могучим кулаком.
— Мария, — сказал Босвел, — хорошо, что ты сама коснулась этой темы, давай разъясним друг другу наши взгляды на нее. Ты называешь меня своим вассалом. Значит, тебе приходит в голову разыгрывать передо мной королеву, которая имеет право даже велеть казнить меня, которая свободно избирает себе доверенных, а когда супруг становится заносчивым, то принуждает его к повиновению. Я должен быть куклой, если же имею несчастье не нравиться твоим доверенным, тогда я становлюсь бунтовщиком против королевы?
Мрачное выражение, с каким были произнесены эти слова, привело в трепет Марию, она видела огонь гнева на лице Босвела и почти чувствовала, как в нем клокочет злоба.
— Босвел, — воскликнула она, дрожа, — какое подозрение закралось тебе в сердце? Нас сковала вместе любовь, я требую лишь того, чего требует каждая женщина от своего супруга, а именно снисхождения и уважения к людям, которые дороги ей.
— Ты ошибаешься, Мария! — мрачно возразил он. — Нас соединила не любовь, и ты не вправе требовать того, чего требуют другие жены. Пойми меня хорошенько! Любовь связывала нас еще при жизни Дарнлея, и он не мог бы помешать нашему счастью, ты была и тогда свободна, — тебя навсегда приковала ко мне кровь Дарнлея, убийство, общая вина, преступление. Ты моя сообщница и не смеешь иметь доверенных, которым я не доверяю, которым хотелось бы вырвать тебя из моих рук, чтобы я один нес ответственность за нашу общую вину. Ты не смеешь требовать того, чего позволительно требовать другой женщине, потому что ты — королева, и всякая власть, которую дает тебе корона, есть умаление моего права над тобой, которое я завоевал. Ты моя, и я буду держать тебя как жену, которая благоденствует для меня, как и я рискую для тебя жизнью.
— Босвел, тебе, очевидно, хочется превратить меня в твою рабыню. Да, да!… Ведь я была бы не чем иным, как рабыней, если бы слепо повиновалась твоей воле. Ты не довольствуешься тем, что доставляет тебе моя любовь, ты требуешь с угрозами того, в чем я не отказала бы любимому человеку, если бы он обратился ко мне с просьбой. Я желаю оградить гордость моей любви. Я не хочу повиноваться по принуждению, когда послушание не заслуживает даже благодарности.
— Но я этого хочу. Мария, я не доверяю ни одной женщине. Я — не Кастеляр, который слепо кидался в омут гибели и рисковал жизнью, не обеспечив себе награды, я — не Дарнлей, который трусливо изменял и так же впал в самообман; у меня нет охоты разыгрывать роль ревнивого сторожа своей жены и бояться появления второго Риччио. Я повелеваю у себя в доме и не хочу никаких блюдолизов, никаких льстецов, что мне противно — будет удалено. Ты подчинишься мне, твоему мужу, и должна привыкнуть видеть во мне одном своего друга, поверенного, любовника.
— Это унизительно, это — требования тюремщика! Подозрительность, а не любовь подсказывает подобные требования, и ты забываешь, что я имею власть ограничить тебя.
Королева поднялась и хотела дернуть звонок, но Босвел схватил ее руку железной хваткой.
— Повинуйся, — крикнул он, скрежеща зубами, — повинуйся, Мария, иначе я сокрушу тебя!
Она вскрикнула от боли и зарыдала.
— Это жестоко!… — всхлипывала Мария. — Ты прибегаешь к грубой силе с женщиной.
И королеве я покажу свой меч, если она осмелится пойти мне наперекор, а жену я укрощу, если она будет отказываться повиноваться своему господину. Ты хотела дернуть звонок, чтобы позвать на помощь против твоего господина и супруга? За это ты должна просить прощенья на коленях. На колени, Мария! Повинуйся, иначе я заставлю тебя преклониться сам!
— Лучше умереть! Помогите, помогите! — закричала несчастная женщина, но Босвел зажал ей рот, стиснул ее руку и стал пригибать ее к полу, пока ее колени не согнулись поневоле.
Мария рыдала от бешенства и боли, потому что Босвел невыносимо давил ей руку.
— Мне больно, пощади!
— Я буду давить тебе руку, хотя бы она сломалась, если ты не дашь слова слушаться меня; ты должна покориться мне!
— Я буду слушаться! — пробормотала королева, чтобы только освободиться от железного кулака, стискивавшего ее руку с такой силой, что, казалось, из ее пальцев вот-вот брызнет кровь.
Наконец Босвел разжал свои стальные тиски, нагнулся и поцеловал жену в лоб.
— Приди ко мне на грудь! — сказал он. — Клянусь Богом, боль, которую я причинил тебе, заставляет меня страдать, как будто я вонзил раскаленное железо в свою грудь. Оттого, что я люблю, я не хочу тебя потерять, а мог бы потерять, если бы не требовал повиновения. Охлади руку водой и не забывай этого часа, ты испытала мою силу и теперь знаешь ее.
Он отпер дверь.
Однако едва Мария почувствовала себя на свободе, как бросилась к окну и стала звать на помощь, в тот же момент капитан ее гвардии Артур Эрскин вошел в комнату, привлеченный еще раньше криками королевы.
Босвел стоял как вылитый из бронзы, скрестив руки на груди, с мрачным и угрожающим видом.
— Ваше величество, — сказал он, — вы звали на помощь в супружеском споре. Сэр Эрскин ожидает ваших приказаний, прошу вас дать их ему, не называя причины нашей ссоры, потому что я не потерплю иных судей моего поведения, кроме вашего сердца. Если вы находите, что я поступил предосудительно, то осудите меня, если нет, то удалите этого свидетеля, которому подобное положение так же тягостно, как и мне.
Мария почувствовала себя униженной и жалкой, как никогда. Босвел действовал вызывающим образом, даже в настоящую минуту. Неужели ей велеть арестовать человека, из-за которого она навлекла на себя ненависть всей Шотландии, неужели ей суждено вторично встретить в своем супруге заклятого врага? А между тем… невыносимо и терпеть эту жестокую насмешку, сделаться его рабой?.. «Лучше умереть»! — решила она.
— Сэр Эрскин, — воскликнула она, — подайте мне ваш кинжал.
— Сэр Эрскин, — вмешался Босвел, — вы видите, королева сильно возбуждена. Не давайте ей оружия!
— Я хочу кинжал, я хочу лишить себя жизни! Кинжал, сэр, или я выброшусь из окна, я хочу умереть.
Мария вскочила на подоконник.
— Назад, сэр! — загремел Босвел, когда Эрскин рванулся к ней. — Дайте королеве свой кинжал, иначе она ринется вниз, а это была бы жалкая смерть для государыни. Вы колеблетесь?.. Хорошо! Тогда идите вон, я дам королеве свое оружие! Вон! Я приказываю! Повинуйтесь, если вам дорога жизнь!
Эрскин повиновался.
Тогда Босвел вытащил свой кинжал и кинул его под ноги супруге.
— Заколитесь! — хладнокровно сказал он. — Если бы вы попросили оружие у меня, я дал бы вам его, и вы по крайней мере избавили бы меня от этой сцены.
Мария бросилась к кинжалу. Она, конечно, не думала убивать себя, а хотела защититься от жестокостей.
Тут ее взгляд упал на Босвела, который вытащил свой меч и поставил его рукояткой на пол, тогда как острие направил себе в грудь.
— Что ты затеваешь? — крикнула Мария.
— Я хочу умереть, как ты, и если у тебя не хватит мужества заколоться, то я первый покончу с собой.
— Босвел! — прошептала она, растерявшись и дрожа от испуга. — Почему ты хочешь убить себя?
— Потому что ты разлюбила меня, и я лучше сам лишу себя жизни, чем допущу, чтобы меня казнили или зарезали. Избавим себя от тягостных речей, Мария! Я полагался на твою любовь, на твою преданность и послушание, когда рисковал жизнью, чтобы достичь высшего блага. Но возведенное здание рушится. Ты согласна скорее убить себя, чем действовать со мной заодно. Неужели мне дожидаться, пока я сделаюсь тебе в тягость, и ты возненавидишь меня, как Дарнлея? Нет, Джэмс Босвел господствует или умирает. Прощай, Мария, и ты свободна.
Он снова приставил оружие к своей груди и нагнулся.
С громким воплем Мария подскочила к нему и вышибла у него меч, который со звоном покатился на пол. Но поток крови окрасил уже камзол герцога, и Мария убедилась, что этот ужасный человек никогда не шутит.
— Не убивай себя! — зарыдала она. — Я буду повиноваться, я согласна быть твоей служанкой, теперь я верю, что ты любишь меня… О Джэмс, эта кровь!…
С плачем прижала королева носовой платок к ране, схватила мужа в объятия и осыпала его поцелуями. Теперь она снова сделалась любящей, слабой женщиной, которая подчиняется и ласково умоляет, которая требует только любви и жертвует всем для любимого человека, даже собственной жизнью, даже честью!
Конечно, она задумалась о происшедшем, когда Босвел оставил ее, и почувствовала ужас к этому человеку, необузданная горячность которого неуклонно стремилась к своей цели и знала одни крайние насильственные средства; конечно, Мария предвидела, что с этих пор ее жизнь утратит последние проблески свободы. Но ведь она опять одержала верх над своим тираном посредством любви! Эта мысль утешила ее.
Мария надеялась укротить Босвела нежностью, рассеять его подозрения, но ей пришлось ошибиться. Она должна была сделаться его служанкой, чтобы быть не чем иным, как орудием его властолюбия; он приковал ее к себе и отнял у нее средство ослабить свои цепи.
Свое бракосочетание с Босвелом Мария Стюарт обставила блестящими празднествами, хотя убитого супруга облекал окровавленный саван. Новобрачная хотела казаться счастливой, и именно это отталкивало от нее истинно преданных ей людей. Ее приближенные понимали, что необузданный Босвел оказывал на нее демоническое влияние с того момента, когда Мария сделалась сообщницей его преступления.
Конечно, она могла бояться хладнокровного убийцу, а мысль, что она прикована к нему кровавым злодейством, пожалуй, внушала ей ужас, но если бы она порвала эту цепь, то очутилась бы без всякой опоры и сделалась бы добычей своих врагов.
Мария стала женой убийцы, но вместе с тем она была королевой, и в ее сердце еще жило гордое сознание, что могущество, которым обладал ее муж, досталось ему через нее. Однако Босвел спешил принять меры, ради собственной безопасности спешил принять меры, чтобы она не вздумала со временем бросить его. И с той же беспощадной суровостью, с какой он принудил ее допустить свое похищение, он начал теперь показывать ей, что она перестала уже быть его повелительницей, а была только женой, что он — ее господин и муж, который не потерпит никаких пререканий, никакой измены.
Все слухи, ходившие о легком поведении Марии, пожалуй, внушили ему опасение, что она когда-нибудь бросит и его честолюбивый Босвел завоевал ее посредством преступления, и поэтому боялся, что все может пойти прахом из-за женской слабости. Первым делом после свадьбы он решил удалить от жены ее доверенных. Мария потребовала, чтобы арестованный им и содержавшийся под строгим караулом Мелвил снова занял почетное место. Однако Босвел воспротивился этому. Тогда Мария напомнила ему, что она — королева, а он, ее супруг, состоит ее вассалом. Едва эти слова сорвались с ее губ, как она содрогнулась при виде мрачной мины Босвела: его глаза загорелись, он запер двери и подступил к жене, точно собираясь сокрушить ее могучим кулаком.
— Мария, — сказал Босвел, — хорошо, что ты сама коснулась этой темы, давай разъясним друг другу наши взгляды на нее. Ты называешь меня своим вассалом. Значит, тебе приходит в голову разыгрывать передо мной королеву, которая имеет право даже велеть казнить меня, которая свободно избирает себе доверенных, а когда супруг становится заносчивым, то принуждает его к повиновению. Я должен быть куклой, если же имею несчастье не нравиться твоим доверенным, тогда я становлюсь бунтовщиком против королевы?
Мрачное выражение, с каким были произнесены эти слова, привело в трепет Марию, она видела огонь гнева на лице Босвела и почти чувствовала, как в нем клокочет злоба.
— Босвел, — воскликнула она, дрожа, — какое подозрение закралось тебе в сердце? Нас сковала вместе любовь, я требую лишь того, чего требует каждая женщина от своего супруга, а именно снисхождения и уважения к людям, которые дороги ей.
— Ты ошибаешься, Мария! — мрачно возразил он. — Нас соединила не любовь, и ты не вправе требовать того, чего требуют другие жены. Пойми меня хорошенько! Любовь связывала нас еще при жизни Дарнлея, и он не мог бы помешать нашему счастью, ты была и тогда свободна, — тебя навсегда приковала ко мне кровь Дарнлея, убийство, общая вина, преступление. Ты моя сообщница и не смеешь иметь доверенных, которым я не доверяю, которым хотелось бы вырвать тебя из моих рук, чтобы я один нес ответственность за нашу общую вину. Ты не смеешь требовать того, чего позволительно требовать другой женщине, потому что ты — королева, и всякая власть, которую дает тебе корона, есть умаление моего права над тобой, которое я завоевал. Ты моя, и я буду держать тебя как жену, которая благоденствует для меня, как и я рискую для тебя жизнью.
— Босвел, тебе, очевидно, хочется превратить меня в твою рабыню. Да, да!… Ведь я была бы не чем иным, как рабыней, если бы слепо повиновалась твоей воле. Ты не довольствуешься тем, что доставляет тебе моя любовь, ты требуешь с угрозами того, в чем я не отказала бы любимому человеку, если бы он обратился ко мне с просьбой. Я желаю оградить гордость моей любви. Я не хочу повиноваться по принуждению, когда послушание не заслуживает даже благодарности.
— Но я этого хочу. Мария, я не доверяю ни одной женщине. Я — не Кастеляр, который слепо кидался в омут гибели и рисковал жизнью, не обеспечив себе награды, я — не Дарнлей, который трусливо изменял и так же впал в самообман; у меня нет охоты разыгрывать роль ревнивого сторожа своей жены и бояться появления второго Риччио. Я повелеваю у себя в доме и не хочу никаких блюдолизов, никаких льстецов, что мне противно — будет удалено. Ты подчинишься мне, твоему мужу, и должна привыкнуть видеть во мне одном своего друга, поверенного, любовника.
— Это унизительно, это — требования тюремщика! Подозрительность, а не любовь подсказывает подобные требования, и ты забываешь, что я имею власть ограничить тебя.
Королева поднялась и хотела дернуть звонок, но Босвел схватил ее руку железной хваткой.
— Повинуйся, — крикнул он, скрежеща зубами, — повинуйся, Мария, иначе я сокрушу тебя!
Она вскрикнула от боли и зарыдала.
— Это жестоко!… — всхлипывала Мария. — Ты прибегаешь к грубой силе с женщиной.
И королеве я покажу свой меч, если она осмелится пойти мне наперекор, а жену я укрощу, если она будет отказываться повиноваться своему господину. Ты хотела дернуть звонок, чтобы позвать на помощь против твоего господина и супруга? За это ты должна просить прощенья на коленях. На колени, Мария! Повинуйся, иначе я заставлю тебя преклониться сам!
— Лучше умереть! Помогите, помогите! — закричала несчастная женщина, но Босвел зажал ей рот, стиснул ее руку и стал пригибать ее к полу, пока ее колени не согнулись поневоле.
Мария рыдала от бешенства и боли, потому что Босвел невыносимо давил ей руку.
— Мне больно, пощади!
— Я буду давить тебе руку, хотя бы она сломалась, если ты не дашь слова слушаться меня; ты должна покориться мне!
— Я буду слушаться! — пробормотала королева, чтобы только освободиться от железного кулака, стискивавшего ее руку с такой силой, что, казалось, из ее пальцев вот-вот брызнет кровь.
Наконец Босвел разжал свои стальные тиски, нагнулся и поцеловал жену в лоб.
— Приди ко мне на грудь! — сказал он. — Клянусь Богом, боль, которую я причинил тебе, заставляет меня страдать, как будто я вонзил раскаленное железо в свою грудь. Оттого, что я люблю, я не хочу тебя потерять, а мог бы потерять, если бы не требовал повиновения. Охлади руку водой и не забывай этого часа, ты испытала мою силу и теперь знаешь ее.
Он отпер дверь.
Однако едва Мария почувствовала себя на свободе, как бросилась к окну и стала звать на помощь, в тот же момент капитан ее гвардии Артур Эрскин вошел в комнату, привлеченный еще раньше криками королевы.
Босвел стоял как вылитый из бронзы, скрестив руки на груди, с мрачным и угрожающим видом.
— Ваше величество, — сказал он, — вы звали на помощь в супружеском споре. Сэр Эрскин ожидает ваших приказаний, прошу вас дать их ему, не называя причины нашей ссоры, потому что я не потерплю иных судей моего поведения, кроме вашего сердца. Если вы находите, что я поступил предосудительно, то осудите меня, если нет, то удалите этого свидетеля, которому подобное положение так же тягостно, как и мне.
Мария почувствовала себя униженной и жалкой, как никогда. Босвел действовал вызывающим образом, даже в настоящую минуту. Неужели ей велеть арестовать человека, из-за которого она навлекла на себя ненависть всей Шотландии, неужели ей суждено вторично встретить в своем супруге заклятого врага? А между тем… невыносимо и терпеть эту жестокую насмешку, сделаться его рабой?.. «Лучше умереть»! — решила она.
— Сэр Эрскин, — воскликнула она, — подайте мне ваш кинжал.
— Сэр Эрскин, — вмешался Босвел, — вы видите, королева сильно возбуждена. Не давайте ей оружия!
— Я хочу кинжал, я хочу лишить себя жизни! Кинжал, сэр, или я выброшусь из окна, я хочу умереть.
Мария вскочила на подоконник.
— Назад, сэр! — загремел Босвел, когда Эрскин рванулся к ней. — Дайте королеве свой кинжал, иначе она ринется вниз, а это была бы жалкая смерть для государыни. Вы колеблетесь?.. Хорошо! Тогда идите вон, я дам королеве свое оружие! Вон! Я приказываю! Повинуйтесь, если вам дорога жизнь!
Эрскин повиновался.
Тогда Босвел вытащил свой кинжал и кинул его под ноги супруге.
— Заколитесь! — хладнокровно сказал он. — Если бы вы попросили оружие у меня, я дал бы вам его, и вы по крайней мере избавили бы меня от этой сцены.
Мария бросилась к кинжалу. Она, конечно, не думала убивать себя, а хотела защититься от жестокостей.
Тут ее взгляд упал на Босвела, который вытащил свой меч и поставил его рукояткой на пол, тогда как острие направил себе в грудь.
— Что ты затеваешь? — крикнула Мария.
— Я хочу умереть, как ты, и если у тебя не хватит мужества заколоться, то я первый покончу с собой.
— Босвел! — прошептала она, растерявшись и дрожа от испуга. — Почему ты хочешь убить себя?
— Потому что ты разлюбила меня, и я лучше сам лишу себя жизни, чем допущу, чтобы меня казнили или зарезали. Избавим себя от тягостных речей, Мария! Я полагался на твою любовь, на твою преданность и послушание, когда рисковал жизнью, чтобы достичь высшего блага. Но возведенное здание рушится. Ты согласна скорее убить себя, чем действовать со мной заодно. Неужели мне дожидаться, пока я сделаюсь тебе в тягость, и ты возненавидишь меня, как Дарнлея? Нет, Джэмс Босвел господствует или умирает. Прощай, Мария, и ты свободна.
Он снова приставил оружие к своей груди и нагнулся.
С громким воплем Мария подскочила к нему и вышибла у него меч, который со звоном покатился на пол. Но поток крови окрасил уже камзол герцога, и Мария убедилась, что этот ужасный человек никогда не шутит.
— Не убивай себя! — зарыдала она. — Я буду повиноваться, я согласна быть твоей служанкой, теперь я верю, что ты любишь меня… О Джэмс, эта кровь!…
С плачем прижала королева носовой платок к ране, схватила мужа в объятия и осыпала его поцелуями. Теперь она снова сделалась любящей, слабой женщиной, которая подчиняется и ласково умоляет, которая требует только любви и жертвует всем для любимого человека, даже собственной жизнью, даже честью!
Конечно, она задумалась о происшедшем, когда Босвел оставил ее, и почувствовала ужас к этому человеку, необузданная горячность которого неуклонно стремилась к своей цели и знала одни крайние насильственные средства; конечно, Мария предвидела, что с этих пор ее жизнь утратит последние проблески свободы. Но ведь она опять одержала верх над своим тираном посредством любви! Эта мысль утешила ее.
Мария надеялась укротить Босвела нежностью, рассеять его подозрения, но ей пришлось ошибиться. Она должна была сделаться его служанкой, чтобы быть не чем иным, как орудием его властолюбия; он приковал ее к себе и отнял у нее средство ослабить свои цепи.


 Сэр Вальтер Ралейг получил приказание сопровождать Сэррея и Кингтона, чтобы произвести потребованное Елизаветой расследование.
Еще семнадцатилетним юношей Ралейг воевал во Франции с гугенотами, а затем участвовал в карательной морской экспедиции против ирландских мятежников. Елизавета почувствовала симпатию к остроумному молодому человеку, ей очень понравилась галантность его обращения.
Однажды на прогулке королева остановилась в затруднении перед грязной лужей, через которую ей надлежало перейти, тогда Ралейг сорвал с себя плащ и кинул его на лужу, так что перед Елизаветой образовался ковер. Ралейг запретил очищать этот плащ и хранил его как драгоценность; это так понравилось тщеславной женщине, что она с того дня начала отличать его перед всеми.
Открытый рыцарский характер Ралейга внушал Сэррею надежду найти в нем опору в том случае, если Кингтон замышляет измену, но именно в этом-то Сэррей и ошибался. Ралейг был слишком большим дипломатом и опытным придворным, чтобы не видеть из всего происходящего при дворе, что Елизавета любит графа Лейстера и, во всяком случае, для нее приятнее помиловать, а не карать его. Поэтому, когда Сэррей потребовал сначала отправиться в Кэнмор-Кэстл, где он надеялся найти свидетеля, то Ралейг хоть и не воспротивился этому, но разрешил Кингтону послать вперед своего доверенного. Вот почему, когда они прибыли туда, там оказался только Пельдрам, нахально заявивший, что он не мог долее противиться просьбам Ламберта и разрешил ему отправиться в Ратгоф-Кастл, чтобы повидаться там с дочерью.
Сэррей был вне себя от того, что упустил самого важного свидетеля, он уже начинал бояться, что и Брая тоже не удастся найти, когда Пельдрам заявил, что он уже дал знать Браю о необходимости предстать перед королевой, так что его доставят под конвоем надежных людей в Кэнмор-Кастл в ближайшем времени.
Смущение, отразившееся при этом известии на лице Кингтона, и его свирепый взгляд, брошенный на Пельдрама, наполнили Сэррея надеждой, что, быть может, Ламберту все-таки удалось склонить Пельдрама стать на его сторону против Кингтона, и он еще более укрепился в этой надежде, когда Кингтон при первой же возможности уединился с Пельдрамом.
Кингтон послал Пельдраму строгий приказ позаботиться, чтобы Ламберт исчез и чтобы Брая они застали либо мертвым, либо согласившимся следовать определенным предначертаниям. В возможность согласия Брая Кингтон плохо верил и потому заподозрил измену, когда Пельдрам открыто заявил, где именно находится Филли и что Брай должен появиться в Кэнмор-Кастле, Но, может быть, Пельдрам, чувствуя опасность и желая выказать особое рвение, решил пустить в ход крайние средства: убить Брая не в тюрьме, а по дороге. Эта надежда у Кингтона возросла, когда Пельдрам повиновался его первому знаку и последовал за ним в помещение управляющего. Однако недоверие снова закопошилось в его душе, когда он заметил, как Пельдрам нащупывал под камзолом рукоятку пистолета.
— Что случилось? — спросил он с мрачным выражением лица, — теперь мы одни!…
— Да, мы одни… Но у ворот стоят солдаты Ралейга, и мне достаточно только крикнуть, чтобы они стали свидетелями нашего разговора!
— А, вот что! Негодяй! Ты замышляешь предательство! Берегись, над Ралейгом стоит лорд Лейстер!
— Может быть, но только до тех пор, пока его тайна не выплывет на Божий свет, а ведь эта тайна в руках у нас обоих — не у вас одного! Знаете, мне уже давно не нравится, что вы третируете меня как простого слугу, и собираетесь единолично использовать все милости, на которые так щедр граф!
Кингтон закусил губу. Он насквозь видел Пельдрама и отлично понимал, куда тот клонит, и проницательный наблюдатель мог бы разглядеть под натянутой улыбкой Кингтона признаки надвигающейся бури.
— Пельдрам, — сказал он, — каждый другой усмотрел бы на моем месте угрозу в подобных словах, быть может, даже открытое объявление войны. Но я только радуюсь, что нашел в вас не бессловесное орудие, а сознательного и смелого помощника. Да, вы сами виноваты, что до сих пор я видел в вас только слугу. Каждый человек является тем, чем он сам хочет быть, и если в нем кипят честолюбивые надежды, то он должен рискнуть на большее. До сегодняшнего дня вы были в моих глазах простым слугой, вы просто получали жалованье, а я должен был отвечать за то, что вы делали по моему приказанию. Но вы хотите добиться большего. Что же, мне приятнее обрести в вас — вместо слуги — помощника и друга, готового разделить со мной не только награду, но и опасность.
— Ну, знаете ли, больше, чем жизнью, рисковать невозможно, а я уже сотни раз ставил из-за пустяков свою жизнь на карту!
— Пусть, но не забывайте, что в тех случаях вашу жизнь могла спасти сила ваших рук. Теперь же вы осмеливаетесь выступать против такого могущества, которое способно раздавить нас обоих, а защитить нас может не сила рук, не умение драться, а тонкий расчет. Достаточно малейшей неловкости, чтобы погибнуть, потому что вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что мы можем спастись, изменив лорду Лейстеру. От вас и от меня зависит низвергнуть его, но достаточно одного его слова, чтобы он похоронил и нас в своем падении, потому что королева не пощадит исполнителей воли лорда, если решит отомстить ему. Моей целью — а если вы хотите стать моим помощником, а не слугой, то и вашей — должна быть непрестанная забота ограждать графа от малейшей опасности, сохраняя однако в своих руках оружие против него, чтобы он не вздумал отделаться от нас так же, как теперь отделывается от своих бывших друзей.
— Так оно и есть, Кингтон, и потому-то вы и позаботились об исчезновении священника и о перенесении в надежное место документа из церковной книги. Я преследовал ту же цель, что и вы, и потому постарался обеспечить себе в Ламберте и сэре Брае оружие против вас на тог случай, если вы захотите устранить меня!
— Что вы наделали? Несчастный! Да разве вы не знаете, что Брай — непреклонный человек?
— Я завел с ним переговоры и очень доволен их результатом. Он поклялся мне, что скроется из Англии и никогда более не вернется обратно, если я доставлю ему доказательства, что брачная церемония графа и графини Лейстер действительно состоялась и что лорд был вынужден прибегнуть к насилию против него лишь потому, что он и Сэррей грозили погубить его своим недоверием.
Черты лица Кингтона прояснились, а взор засверкал торжеством. Он видел, что Пельдрам не предал лорда, а только хотел оградить себя самого от предательства.
— Ну а Ламберт? — спросил он.
Ламберт поклялся мне хранить тайну лорда от всех и каждого, если я помогу ему вернуть дочь. Он хочет скрыться с ней в Шотландию.
— И вы послали его в Ратгоф-Кастл?
Ну нет! — хитро улыбнулся Пельдрам. — Я не так глуп! Я хочу, чтобы он мог убежать в Шотландию, а вы уже, наверное, позаботились бы, чтобы его убили в Ратгоф-Кастле!
— Значит, он спрятан здесь, в замке?
— Здесь или где-нибудь в другом месте, но вам его не найти. Если он не будет иметь возможности в определенное время обнять Тони на шотландской территории и убедиться, что никто не осмелился обесчестить ее, то он явится в Лондон обвинять вас. Если же его требования будут удовлетворены мною, он будет мне глубоко благодарен за то, что я помог его дочери вырваться из ваших тисков.
Кингтон, еле сдерживая ярость, понял, что Пельдрам перехитрил его и позаботился запастись против него столь же надежным оружием, какое он, Кингтон, имел против графа Лейстера.
— Клянусь, если бы я когда-нибудь мог предположить, что вы умеете так тонко рассчитывать ходы, то открылся бы вам во всем и мы вместе уже давно предупредили бы всякую опасность, — воскликнул он. — Ну, по рукам! Я принимаю все, что вы обещали Ламберту. Мне это тем легче сделать, что я имею виды теперь на другую женщину и охотно уступаю вам крошку Тони, которая должна будет унаследовать все богатства скряги Ламберта.
Пельдрам, пожав руку Кингтона, произнес:
— Я слышал, вы вместе с лордом Сэрреем отправляетесь в Ратгоф-Кастл. Я буду сопровождать вас, чтобы посмотреть, что там происходит; надеюсь, вы ничего не будете иметь против?
Кингтон даже ахнул. Он не ожидал такого предложения, но довольно скоро овладел собой. Все же утешением для него была откровенность Пельдрама, она заставляла предполагать, что Пельдрам может быть неосторожным. А для того, чтобы оплести такого простака сетью хитроумных интриг, не могло быть человека, более способного, чем Кингтон. Из последнего предложения Пельдрама было видно, что тот вполне возмещал энергией и дальновидностью то, чего ему не хватало в хитрости и изворотливости.
— Ахи — это еще не ответ на мой вопрос, — насмешливо сказал Пельдрам.
Вы неправильно истолковываете мое изумление, — поспешно ответил Кингтон, — я просто удивлен той манерой, с которой вы отвергаете предлагаемую дружбу и сомневаетесь в самых святых заверениях…
— Дружба!… Святые уверения!… — повторил Пельдрам.
— Ну ей-Богу же, сэр Кингтон, я не так глуп, как вы думаете. Раз у вас хватает совести быть готовым в любой момент предать графа Лейстера, то что же остановит вас сделать это по отношению ко мне! Словом, с настоящего момента я доверяю вам лишь постольку, поскольку могу следить за вами своими глазами. Поэтому, чтобы не быть обманутым, я отправляюсь вместе с вами.
— Но подумали ли вы, что разрешение отправиться со мной в Ратгоф-Кастл зависит не от меня, что это может разрешить только сэр Ралейг?
— Вот хорошо, что вы напомнили мне о наших гостях! — воскликнул Пельдрам. — Я должен позаботиться о них как представитель графа. А в Ратгоф-Кастл я могу найти дорогу и без вашего общества. Вам после всех сегодняшних треволнений, наверное, нужен покой, так что желаю вам спокойной ночи! — Пельдрам повернулся и вышел из комнаты.
«Проклятье! — подумал Кингтон, — этот субъект в состоянии все испортить мне! Самым простым выходом было бы запустить ему в тело несколько дюймов железа, но для этого Ратгоф-Кастл — несравненно более удобное место, а Джонстон работает к тому же на славу!».
До известной степени успокоенный этой мыслью, Кингтон поспешил подслушать, что говорят между собой Сэррей и Ралейг. С этой целью он отправился в тайник, из которого можно было наблюдать за всем происходящим в той комнате, где остановился Ралейг. Он был уверен, что Сэррей непременно придет поговорить с ним о дальнейших поисках.
Кингтон застал их разговор, но пришел слишком поздно, чтобы услышать что-нибудь полезное. Лишь в прощальных словах Сэррея он уловил, что между ними пробежала какая-то тень, и это еще более заставило его поругать в душе Пельдрама, из-за разговора с которым он был лишен возможности сделать ценные наблюдения. Кингтон видел, что Ралейг, недовольный навязанным ему поручением, вообще не был расположен выполнить его так, чтобы нанести какой-либо ущерб графу Лейстеру. Хотя по характеру Ралейг был прямым и честным, он не мог не дорожить своим положением при дворе. Дело сложилось так, что оставалось совершенно неопределенным, действительно ли обвинители руководствовались честными намерениями, поэтому он решил вести расследование с величайшей осторожностью, зная, насколько тонко и нагло разыгрывались придворные интриги.
Ралейг не пригласил Сэррея разделить с ним обед, но, когда тот пришел, вежливо принял его и любезно предложил сесть.
Сэррей поблагодарил за приглашение.
— Сэр, — сказал он, — вы слышали, что нам сообщил управляющий замка? Мне кажется, мы достаточно отдохнули и можем предпринять шаги в пользу освобождения того самого человека, появление которого особенно важно для меня.
По энергичному лицу сэра Ралейга скользнула тень недовольства, и прошло несколько минут, пока он ответил.
— Милорд, было бы очень смешно, если бы я вздумал отговариваться усталостью или плохой погодой в тех случаях, когда дело идет о службе королеве. Тем не менее, я не вижу причин к поспешности.
— Сэр! — резко напомнил Сэррей, — королева приказала…
— Совершенно верно! Я отлично помню приказание ее величества, я должен отыскать человека по имени Брай и в полной безопасности доставить его ее величеству, так как вы требуете его показаний.
— Этот человек найден, — воскликнул Сэррей, — пока он все еще находится в тюрьме, куда посажен без всяких оснований, и необходимо немедленно выпустить его на свободу.
— Это — уже мое дело — расследовать, справедливо или несправедливо посажен в тюрьму сэр Брай. Он найден, как вы только что сказали сами, и находится в полной сохранности. Ведь ясно, что там, где его стерегли в течение столь долгого времени, он может остаться и до того момента, когда его в полной безопасности отправят в Лондон.
— Но послушайте, сэр Ралейг, ведь этот человек неповинен, как сами вы изволили слышать из уст Кинггона во время его показаний в присутствии королевы!
— На это я уже ответил вам. Ему будет дано полное удовлетворение, но только не мной.
— Но в интересах графа Лейстера заставить исчезнуть этого человека, и так оно и будет, если мы немедленно не примем меры.
— Вы заблуждаетесь! Графу важно, чтобы сэр Брай был бы доставлен в Лондон, и граф, и слуга его — оба они поклялись своей головой в этом. Мы можем захватить Брая на обратном пути. Между прочим, до допроса сэра Брая вам не разрешается никаких непосредственных сношений с ним.
Делая это замечание, Ралейг имел в виду в высшей степени порядочную цель. Если обвинение Сэррея было основательно, тогда ему с Браем не о чем сговариваться; если бы обвинение было ложным, тогда никоим образом нельзя было допускать, чтобы, сговорившись между собой, они были в состоянии продолжать свои интриги.
— Сэр, хотя и косвенным образом, но вы делаете мне этими словами такой упрек, который я не могу оставить без внимания. Вы уже допустили, чтобы обитатели замка были извещены сэром Кингтоном о нашем прибытии. Неужели я должен допустить…
— Стойте, ни слова более! — загремел Ралейг.
Наступила длинная пауза. Ралейг наморщил лоб от возмущения. Но и Сэррей мрачным взглядом впился в уполномоченного королевы, а левая рука его судорожно сжала рукоятку меча.
Ралейг первым делом постарался подавить вспышку гнева, и мало-помалу черты его лица приняли более спокойное выражение.
— Милорд Сэррей, — медленно и выразительно сказал он, — я не подчинен вам в этом расследовании и буду исполнять данное мне поручение так, как сочту это нужным. Отвечать за свои действия я буду только перед королевой. Мне поручено найти двух человек, и я найду их обоих и доставлю к ее величеству; насколько я могу при этом руководствоваться вашими указаниями, это — уже мое дело.
Сэррей встал и добавил с поклоном:
— Честь и счастье дорогого мне существа поставлены на карту в данном деле так же, как и моя собственная жизнь и честь. Мальчишеские проделки бесчестного человека возмутили меня, и я боюсь нового преступления. Поэтому-то я и обращаюсь к вам с вопросом: неужели вы не хотите лично убедиться в безопасности Брая?
— Я завтра увижу этого человека.
— Может быть, мое честное слово не общаться с Браем и данное им обязательство отправиться в Лондон окажутся достаточными, чтобы вы освободили его от незаслуженного ареста?
— Сэр Брай останется, где он есть! — ответил Ралейг, поднимаясь в свою очередь.
Сэррей, еле сдержав себя, вышел из комнаты, где уселся в кресло и, не обращая внимания на накрытый ужин, тяжело опустил голову на руки.
Он подумал о том, что Ралейгу явно противно возложенное на него поручение, что он всеми силами постарается не получить доказательств против Лейстера. Однако он надеялся, что прирожденная честность и порядочность не позволят ему скрыть явные улики, если они все-таки попадутся ему. Но как добыть эти улики в таком лабиринте подлости, интриг и предательства?
Вдруг внезапно блеснувшая мысль заставила Сэррея вскочить. Не притронувшись к еде и питью, он прошел в спальню и не раздеваясь, бросился на кровать. Он был так истощен физически и нравственно, что крайне нуждался в отдыхе.
Сэр Вальтер Ралейг получил приказание сопровождать Сэррея и Кингтона, чтобы произвести потребованное Елизаветой расследование.
Еще семнадцатилетним юношей Ралейг воевал во Франции с гугенотами, а затем участвовал в карательной морской экспедиции против ирландских мятежников. Елизавета почувствовала симпатию к остроумному молодому человеку, ей очень понравилась галантность его обращения.
Однажды на прогулке королева остановилась в затруднении перед грязной лужей, через которую ей надлежало перейти, тогда Ралейг сорвал с себя плащ и кинул его на лужу, так что перед Елизаветой образовался ковер. Ралейг запретил очищать этот плащ и хранил его как драгоценность; это так понравилось тщеславной женщине, что она с того дня начала отличать его перед всеми.
Открытый рыцарский характер Ралейга внушал Сэррею надежду найти в нем опору в том случае, если Кингтон замышляет измену, но именно в этом-то Сэррей и ошибался. Ралейг был слишком большим дипломатом и опытным придворным, чтобы не видеть из всего происходящего при дворе, что Елизавета любит графа Лейстера и, во всяком случае, для нее приятнее помиловать, а не карать его. Поэтому, когда Сэррей потребовал сначала отправиться в Кэнмор-Кэстл, где он надеялся найти свидетеля, то Ралейг хоть и не воспротивился этому, но разрешил Кингтону послать вперед своего доверенного. Вот почему, когда они прибыли туда, там оказался только Пельдрам, нахально заявивший, что он не мог долее противиться просьбам Ламберта и разрешил ему отправиться в Ратгоф-Кастл, чтобы повидаться там с дочерью.
Сэррей был вне себя от того, что упустил самого важного свидетеля, он уже начинал бояться, что и Брая тоже не удастся найти, когда Пельдрам заявил, что он уже дал знать Браю о необходимости предстать перед королевой, так что его доставят под конвоем надежных людей в Кэнмор-Кастл в ближайшем времени.
Смущение, отразившееся при этом известии на лице Кингтона, и его свирепый взгляд, брошенный на Пельдрама, наполнили Сэррея надеждой, что, быть может, Ламберту все-таки удалось склонить Пельдрама стать на его сторону против Кингтона, и он еще более укрепился в этой надежде, когда Кингтон при первой же возможности уединился с Пельдрамом.
Кингтон послал Пельдраму строгий приказ позаботиться, чтобы Ламберт исчез и чтобы Брая они застали либо мертвым, либо согласившимся следовать определенным предначертаниям. В возможность согласия Брая Кингтон плохо верил и потому заподозрил измену, когда Пельдрам открыто заявил, где именно находится Филли и что Брай должен появиться в Кэнмор-Кастле, Но, может быть, Пельдрам, чувствуя опасность и желая выказать особое рвение, решил пустить в ход крайние средства: убить Брая не в тюрьме, а по дороге. Эта надежда у Кингтона возросла, когда Пельдрам повиновался его первому знаку и последовал за ним в помещение управляющего. Однако недоверие снова закопошилось в его душе, когда он заметил, как Пельдрам нащупывал под камзолом рукоятку пистолета.
— Что случилось? — спросил он с мрачным выражением лица, — теперь мы одни!…
— Да, мы одни… Но у ворот стоят солдаты Ралейга, и мне достаточно только крикнуть, чтобы они стали свидетелями нашего разговора!
— А, вот что! Негодяй! Ты замышляешь предательство! Берегись, над Ралейгом стоит лорд Лейстер!
— Может быть, но только до тех пор, пока его тайна не выплывет на Божий свет, а ведь эта тайна в руках у нас обоих — не у вас одного! Знаете, мне уже давно не нравится, что вы третируете меня как простого слугу, и собираетесь единолично использовать все милости, на которые так щедр граф!
Кингтон закусил губу. Он насквозь видел Пельдрама и отлично понимал, куда тот клонит, и проницательный наблюдатель мог бы разглядеть под натянутой улыбкой Кингтона признаки надвигающейся бури.
— Пельдрам, — сказал он, — каждый другой усмотрел бы на моем месте угрозу в подобных словах, быть может, даже открытое объявление войны. Но я только радуюсь, что нашел в вас не бессловесное орудие, а сознательного и смелого помощника. Да, вы сами виноваты, что до сих пор я видел в вас только слугу. Каждый человек является тем, чем он сам хочет быть, и если в нем кипят честолюбивые надежды, то он должен рискнуть на большее. До сегодняшнего дня вы были в моих глазах простым слугой, вы просто получали жалованье, а я должен был отвечать за то, что вы делали по моему приказанию. Но вы хотите добиться большего. Что же, мне приятнее обрести в вас — вместо слуги — помощника и друга, готового разделить со мной не только награду, но и опасность.
— Ну, знаете ли, больше, чем жизнью, рисковать невозможно, а я уже сотни раз ставил из-за пустяков свою жизнь на карту!
— Пусть, но не забывайте, что в тех случаях вашу жизнь могла спасти сила ваших рук. Теперь же вы осмеливаетесь выступать против такого могущества, которое способно раздавить нас обоих, а защитить нас может не сила рук, не умение драться, а тонкий расчет. Достаточно малейшей неловкости, чтобы погибнуть, потому что вы жестоко ошибаетесь, если думаете, что мы можем спастись, изменив лорду Лейстеру. От вас и от меня зависит низвергнуть его, но достаточно одного его слова, чтобы он похоронил и нас в своем падении, потому что королева не пощадит исполнителей воли лорда, если решит отомстить ему. Моей целью — а если вы хотите стать моим помощником, а не слугой, то и вашей — должна быть непрестанная забота ограждать графа от малейшей опасности, сохраняя однако в своих руках оружие против него, чтобы он не вздумал отделаться от нас так же, как теперь отделывается от своих бывших друзей.
— Так оно и есть, Кингтон, и потому-то вы и позаботились об исчезновении священника и о перенесении в надежное место документа из церковной книги. Я преследовал ту же цель, что и вы, и потому постарался обеспечить себе в Ламберте и сэре Брае оружие против вас на тог случай, если вы захотите устранить меня!
— Что вы наделали? Несчастный! Да разве вы не знаете, что Брай — непреклонный человек?
— Я завел с ним переговоры и очень доволен их результатом. Он поклялся мне, что скроется из Англии и никогда более не вернется обратно, если я доставлю ему доказательства, что брачная церемония графа и графини Лейстер действительно состоялась и что лорд был вынужден прибегнуть к насилию против него лишь потому, что он и Сэррей грозили погубить его своим недоверием.
Черты лица Кингтона прояснились, а взор засверкал торжеством. Он видел, что Пельдрам не предал лорда, а только хотел оградить себя самого от предательства.
— Ну а Ламберт? — спросил он.
Ламберт поклялся мне хранить тайну лорда от всех и каждого, если я помогу ему вернуть дочь. Он хочет скрыться с ней в Шотландию.
— И вы послали его в Ратгоф-Кастл?
Ну нет! — хитро улыбнулся Пельдрам. — Я не так глуп! Я хочу, чтобы он мог убежать в Шотландию, а вы уже, наверное, позаботились бы, чтобы его убили в Ратгоф-Кастле!
— Значит, он спрятан здесь, в замке?
— Здесь или где-нибудь в другом месте, но вам его не найти. Если он не будет иметь возможности в определенное время обнять Тони на шотландской территории и убедиться, что никто не осмелился обесчестить ее, то он явится в Лондон обвинять вас. Если же его требования будут удовлетворены мною, он будет мне глубоко благодарен за то, что я помог его дочери вырваться из ваших тисков.
Кингтон, еле сдерживая ярость, понял, что Пельдрам перехитрил его и позаботился запастись против него столь же надежным оружием, какое он, Кингтон, имел против графа Лейстера.
— Клянусь, если бы я когда-нибудь мог предположить, что вы умеете так тонко рассчитывать ходы, то открылся бы вам во всем и мы вместе уже давно предупредили бы всякую опасность, — воскликнул он. — Ну, по рукам! Я принимаю все, что вы обещали Ламберту. Мне это тем легче сделать, что я имею виды теперь на другую женщину и охотно уступаю вам крошку Тони, которая должна будет унаследовать все богатства скряги Ламберта.
Пельдрам, пожав руку Кингтона, произнес:
— Я слышал, вы вместе с лордом Сэрреем отправляетесь в Ратгоф-Кастл. Я буду сопровождать вас, чтобы посмотреть, что там происходит; надеюсь, вы ничего не будете иметь против?
Кингтон даже ахнул. Он не ожидал такого предложения, но довольно скоро овладел собой. Все же утешением для него была откровенность Пельдрама, она заставляла предполагать, что Пельдрам может быть неосторожным. А для того, чтобы оплести такого простака сетью хитроумных интриг, не могло быть человека, более способного, чем Кингтон. Из последнего предложения Пельдрама было видно, что тот вполне возмещал энергией и дальновидностью то, чего ему не хватало в хитрости и изворотливости.
— Ахи — это еще не ответ на мой вопрос, — насмешливо сказал Пельдрам.
Вы неправильно истолковываете мое изумление, — поспешно ответил Кингтон, — я просто удивлен той манерой, с которой вы отвергаете предлагаемую дружбу и сомневаетесь в самых святых заверениях…
— Дружба!… Святые уверения!… — повторил Пельдрам.
— Ну ей-Богу же, сэр Кингтон, я не так глуп, как вы думаете. Раз у вас хватает совести быть готовым в любой момент предать графа Лейстера, то что же остановит вас сделать это по отношению ко мне! Словом, с настоящего момента я доверяю вам лишь постольку, поскольку могу следить за вами своими глазами. Поэтому, чтобы не быть обманутым, я отправляюсь вместе с вами.
— Но подумали ли вы, что разрешение отправиться со мной в Ратгоф-Кастл зависит не от меня, что это может разрешить только сэр Ралейг?
— Вот хорошо, что вы напомнили мне о наших гостях! — воскликнул Пельдрам. — Я должен позаботиться о них как представитель графа. А в Ратгоф-Кастл я могу найти дорогу и без вашего общества. Вам после всех сегодняшних треволнений, наверное, нужен покой, так что желаю вам спокойной ночи! — Пельдрам повернулся и вышел из комнаты.
«Проклятье! — подумал Кингтон, — этот субъект в состоянии все испортить мне! Самым простым выходом было бы запустить ему в тело несколько дюймов железа, но для этого Ратгоф-Кастл — несравненно более удобное место, а Джонстон работает к тому же на славу!».
До известной степени успокоенный этой мыслью, Кингтон поспешил подслушать, что говорят между собой Сэррей и Ралейг. С этой целью он отправился в тайник, из которого можно было наблюдать за всем происходящим в той комнате, где остановился Ралейг. Он был уверен, что Сэррей непременно придет поговорить с ним о дальнейших поисках.
Кингтон застал их разговор, но пришел слишком поздно, чтобы услышать что-нибудь полезное. Лишь в прощальных словах Сэррея он уловил, что между ними пробежала какая-то тень, и это еще более заставило его поругать в душе Пельдрама, из-за разговора с которым он был лишен возможности сделать ценные наблюдения. Кингтон видел, что Ралейг, недовольный навязанным ему поручением, вообще не был расположен выполнить его так, чтобы нанести какой-либо ущерб графу Лейстеру. Хотя по характеру Ралейг был прямым и честным, он не мог не дорожить своим положением при дворе. Дело сложилось так, что оставалось совершенно неопределенным, действительно ли обвинители руководствовались честными намерениями, поэтому он решил вести расследование с величайшей осторожностью, зная, насколько тонко и нагло разыгрывались придворные интриги.
Ралейг не пригласил Сэррея разделить с ним обед, но, когда тот пришел, вежливо принял его и любезно предложил сесть.
Сэррей поблагодарил за приглашение.
— Сэр, — сказал он, — вы слышали, что нам сообщил управляющий замка? Мне кажется, мы достаточно отдохнули и можем предпринять шаги в пользу освобождения того самого человека, появление которого особенно важно для меня.
По энергичному лицу сэра Ралейга скользнула тень недовольства, и прошло несколько минут, пока он ответил.
— Милорд, было бы очень смешно, если бы я вздумал отговариваться усталостью или плохой погодой в тех случаях, когда дело идет о службе королеве. Тем не менее, я не вижу причин к поспешности.
— Сэр! — резко напомнил Сэррей, — королева приказала…
— Совершенно верно! Я отлично помню приказание ее величества, я должен отыскать человека по имени Брай и в полной безопасности доставить его ее величеству, так как вы требуете его показаний.
— Этот человек найден, — воскликнул Сэррей, — пока он все еще находится в тюрьме, куда посажен без всяких оснований, и необходимо немедленно выпустить его на свободу.
— Это — уже мое дело — расследовать, справедливо или несправедливо посажен в тюрьму сэр Брай. Он найден, как вы только что сказали сами, и находится в полной сохранности. Ведь ясно, что там, где его стерегли в течение столь долгого времени, он может остаться и до того момента, когда его в полной безопасности отправят в Лондон.
— Но послушайте, сэр Ралейг, ведь этот человек неповинен, как сами вы изволили слышать из уст Кинггона во время его показаний в присутствии королевы!
— На это я уже ответил вам. Ему будет дано полное удовлетворение, но только не мной.
— Но в интересах графа Лейстера заставить исчезнуть этого человека, и так оно и будет, если мы немедленно не примем меры.
— Вы заблуждаетесь! Графу важно, чтобы сэр Брай был бы доставлен в Лондон, и граф, и слуга его — оба они поклялись своей головой в этом. Мы можем захватить Брая на обратном пути. Между прочим, до допроса сэра Брая вам не разрешается никаких непосредственных сношений с ним.
Делая это замечание, Ралейг имел в виду в высшей степени порядочную цель. Если обвинение Сэррея было основательно, тогда ему с Браем не о чем сговариваться; если бы обвинение было ложным, тогда никоим образом нельзя было допускать, чтобы, сговорившись между собой, они были в состоянии продолжать свои интриги.
— Сэр, хотя и косвенным образом, но вы делаете мне этими словами такой упрек, который я не могу оставить без внимания. Вы уже допустили, чтобы обитатели замка были извещены сэром Кингтоном о нашем прибытии. Неужели я должен допустить…
— Стойте, ни слова более! — загремел Ралейг.
Наступила длинная пауза. Ралейг наморщил лоб от возмущения. Но и Сэррей мрачным взглядом впился в уполномоченного королевы, а левая рука его судорожно сжала рукоятку меча.
Ралейг первым делом постарался подавить вспышку гнева, и мало-помалу черты его лица приняли более спокойное выражение.
— Милорд Сэррей, — медленно и выразительно сказал он, — я не подчинен вам в этом расследовании и буду исполнять данное мне поручение так, как сочту это нужным. Отвечать за свои действия я буду только перед королевой. Мне поручено найти двух человек, и я найду их обоих и доставлю к ее величеству; насколько я могу при этом руководствоваться вашими указаниями, это — уже мое дело.
Сэррей встал и добавил с поклоном:
— Честь и счастье дорогого мне существа поставлены на карту в данном деле так же, как и моя собственная жизнь и честь. Мальчишеские проделки бесчестного человека возмутили меня, и я боюсь нового преступления. Поэтому-то я и обращаюсь к вам с вопросом: неужели вы не хотите лично убедиться в безопасности Брая?
— Я завтра увижу этого человека.
— Может быть, мое честное слово не общаться с Браем и данное им обязательство отправиться в Лондон окажутся достаточными, чтобы вы освободили его от незаслуженного ареста?
— Сэр Брай останется, где он есть! — ответил Ралейг, поднимаясь в свою очередь.
Сэррей, еле сдержав себя, вышел из комнаты, где уселся в кресло и, не обращая внимания на накрытый ужин, тяжело опустил голову на руки.
Он подумал о том, что Ралейгу явно противно возложенное на него поручение, что он всеми силами постарается не получить доказательств против Лейстера. Однако он надеялся, что прирожденная честность и порядочность не позволят ему скрыть явные улики, если они все-таки попадутся ему. Но как добыть эти улики в таком лабиринте подлости, интриг и предательства?
Вдруг внезапно блеснувшая мысль заставила Сэррея вскочить. Не притронувшись к еде и питью, он прошел в спальню и не раздеваясь, бросился на кровать. Он был так истощен физически и нравственно, что крайне нуждался в отдыхе.


 Оставив старого Ламберта, Пельдрам зашагал к Ланкастерской башне. Придя туда, он дернул за висевший около узенькой дверцы звонок и через несколько минут уже входил в камеру, где долгое время томился в заключении Брай.
Благодаря строгому посту в сыром погребе он стал много мягче в обращении и уже не впадал в такие приступы бешенства, как это бывало в первое время его заключения.
Брай был прикован цепями за руки и за ноги, его ложе состояло из гнилой соломы, а пища — из хлеба и воды. Но условия значительно изменились к лучшему с тех пор, как Пельдрам стал навещать его.
— А, сэр! — сказал Пельдрам. — Вы бодрствуете? Тем лучше! Быть может, сегодня суждено сбыться вашим желаниям, если только мы с вами столкуемся.
Брай испытующе поглядел на Пельдрама.
— Все зависит от того, чего вы потребуете, — ответил он.
— Вы, главным образом, желали убедиться, что молодая женщина, судьба которой вас так озабочивает, состоит в законном браке с графом Лейстером?
— Это — почти все, чего я желаю. Если я буду уверен в этом, то все остальное, даже моя собственная судьба, в значительной степени безразличны мне.
— Ну, так я могу показать вам это доказательство! Мне удалось овладеть выкраденным из книги метрик листком — вот он!
Пельдрам протянул Браю запись о бракосочетании графа Лейстера и поднял фонарь, чтобы тот мог прочесть его содержание.
Брай схватил листок дрожащими руками. Там были поименованы все свидетели церемонии, действительно, венчание было совершено по всей форме и вполне законным образом.
— Да будет благословен Бог! — сказал он с тяжелым вздохом. — Но, значит, и я и Сэррей очень несправедливы к графу, он был совершенно прав, когда старался отделаться от нас. Но как попал к вам этот листок?
— Я вытащил его у этого негодяя Кингтона!
— А что могло заставить его выкрасть листок?
— Ну, это нетрудно отгадать! Очевидно, он хотел воспользоваться им в качестве орудия вымогательства против графа!
— Черт возьми! Но ведь граф принимал участие в этой подлости!
— Неужели вы думаете, что граф оставил бы такой важный документ в руках слуги, если бы ему было желательно уничтожить всякие следы венчания? Нет, нет! Кингтон хотел воспользоваться документом в своих интересах и провести графа. Но настала пора, когда нужно открыть графу глаза на подлые проделки его слуги!
— Но что вы собираетесь теперь предпринять?
— Я хочу отправиться прямо к графу, передать ему документ и обвинить Кингтона. Мне кажется, что в награду за это я могу потребовать, чтобыменя назначили вместо Кингтона. Если хотите, то можете отправиться вместе со мной.
В глазах Брая сверкнул огонь недоверия.
— Ну а Ламберт? — спросил он. — Что стало с ним, или что должно стать с ним?
— Он тоже будет сопровождать вас.
Брай помолчал некоторое время и, казалось, раздумывал.
— Нет! — пробормотал он наконец. — Я не могу идти с вами! Если граф поступал вполне честно и не таил против Филли никаких преступных планов, то я слишком глубоко обидел его, чтобы простое объяснение могло бы все искупить. Но я не имею права и встретиться с ним с мечом в руках и лучше соглашусь безропотно принять его упрек в трусости, чем дать удовлетворение таким путем. Я не могу идти с вами, Пельдрам, да и после того, что случилось, и Филли тоже едва ли захочет меня видеть, быть может, она ненавидит меня…
— Я не собираюсь заставлять вас отправляться со мною. Но если граф действительно имеет желание порвать всякие отношения с Филли, то, сделав все это, я сыграл в его глазах очень дурную шутку и поэтому может статься, что вместо награды меня ждет нечто совсем другое. Вот на этот случай мне и могли бы понадобиться ваша помощь и поддержка!
— И, клянусь Богом, это так и будет, — вскочил Брай, — если только мне удастся выбраться из этой клетки!
— Я выпущу вас на свободу, если вы обещаете ожидать в условленном месте — может быть, в Лондоне — вестей от меня!
— Согласен, даю слово!
— Ну и ладно! — ответил Пельдрам.
Отыскав нужные ключи, Пельдрам сначала отомкнул железное кольцо, которым было схвачено тело Брая и которое было связано цепью со стеной, затем освободил пленника от ножных оков и в заключение снял наручники. Цепи со звоном упали на пол.
Брай молча следил за работой Пельдрама, только его грудь тяжело дышала. Когда же он почувствовал, что наконец свободен, то издал такой крик радости, который сначала оглушил Пельдрама, а потом заставил его рассмеяться.
Брай потянулся всем телом и принялся разминать руки и ноги, сгибая и разгибая их и прохаживаясь крупными шагами по камере. Как будто случайно, он подошел к двери камеры, заглянул в коридор и потом повернулся к Пельдраму. Тот не заподозрил ничего дурного, когда Брай вплотную подошел к нему.
— Клянусь Богом, — сказал Брай, — ведь это ж подлость — загонять человека в такие железные тиски. Но, слава Богу, теперь я свободен, а это самое главное. Сэр Пельдрам! Я отплачу за это, чем могу, но только в свое время!
При этих словах Брай вытянул вперед обе руки к Пельдраму, который, сочтя это за желание освобожденного узника обнять его в знак признательности, даже не отшатнулся. Но в тот же момент левая рука Брая охватила его затылок, а правая схватила за горло. Под этим двойным захватом Пельдрам закачался.
— Черт!… Брай! — простонал он. — Да вы с ума сошли, что ли?
Брай же продолжал душить его и совсем притиснул к полу. Лицо Пельдрама почернело, глаза выкатились из орбит, жилы на лбу вздулись, и язык высунулся изо рта. Когда Брай увидел эти признаки и мог быть уверен, что побежденный не будет больше в состоянии кричать, он несколько ослабил тиски своих рук, но постарался при помощи колен подтолкнуть Пельдрама поближе к стене, в то место, где находились только что упавшие с него самого узы.
— Мне очень прискорбно, что пришлось сыграть с вами такую штуку, сэр Пельдрам, — сказал он, — но иначе ничего нельзя было поделать. Слышите ли вы меня и понимаете ли, что я говорю?
Пельдрам утвердительно прохрипел.
— Я принужден посадить вас вместо себя, — сказал Брай, надевая на него наручники и цепи, — и вполне уверен, что вы долго не останетесь моим заместителем. Когда вы освободитесь, то можете думать обо мне что угодно, и предпринимать против меня все что сочтете нужным, но мне кажется, что этот листочек будет у меня в большей сохранности, чем у вас. Поэтому я возьму его, а для того, чтобы иметь возможность выйти отсюда и в случае нужды защищаться, я прихвачу также и ваше оружие. Поэтому лучше не противьтесь моему желанию, иначе вы только заставите меня обойтись с вами более сурово, чем, быть может, я хотел бы, так как я уже сказал вам, что совершенно не желал бы покушаться на вашу жизнь.
Пельдрам попытался сказать что-то, но это совершенно не удалось ему.
— Не теряйте понапрасну слов, сэр! — сказал Брай, заметив намерение побежденного. — Вы только не сопротивляйтесь, пока я навешу на вас все эти украшения, это — все, что я хочу от вас.
Пельдрам бы совершенно беззащитен, он только и мог, что набрать немного воздуха, достаточного, чтобы кое-как поддержать замирающее пламя его жизни. Поэтому Брай не встретил с его стороны никакого сопротивления, когда опоясал его железным кольцом. Сделав это, он выпустил Пельдрама из рук, и тот тяжело, словно мешок, рухнул на пол.
— Да, да, мне и в самом деле очень жалко, — повторил Брай, — что я вынужден обойтись с вами таким образом, но этот документ слишком важен, чтобы ему оставаться в руках негодяя, а если вы и не являетесь таким злодеем, как Кингтон, то нет ни малейшего основания ценить вас много выше его.
Пельдрам разными движениями выказывал желание что- то сказать своему противнику. Но Брай ударил его рукой по губам.
— Кто не хочет слушать, должен почувствовать! — сказал он, оглядываясь на дверь. — Я вам уже раньше говорил это. Только не хватало, чтобы вы кого-то позвали на помощь!
Если бы Брай только мог себе представить, что хотел сообщить ему побежденный Пельдрам, то он не стал бы так заботиться о безопасности и был бы избавлен от многих мытарств. Но после всех этих неудачных попыток Пельдрам опустил голову и не возобновлял больше стараний объясниться. Брай надел на него ножные кандалы. Теперь Пельдрам почти не был в состоянии сдвинуться с места.
Подняв упавший на пол документ и даже не посмотрев на остальные бумаги, Брай взял меч, кинжал и пистолеты побежденного. Торопливо схватив фонарь и ключи, Брай поспешил выйти из камеры, приняв все необходимые меры предосторожности, запер дверь и поставил фонарь вместе со связкой ключей перед входом в помещение сторожа Ральфа, затем скользнул в башенную дверь и выбрался на Божий свет.
Ральф, вышедший на шум, произведенный уходом посетителя, послал ему вслед несколько проклятий, мимоходом глянул в камеру убедиться, здесь ли еще доверенный его попечениям арестант, и снова ушел к себе, чтобы отдаться прерванному сну.
Так что старый Ламберт мог бы до бесконечности поджидать появления Пельдрама.
Оставив старого Ламберта, Пельдрам зашагал к Ланкастерской башне. Придя туда, он дернул за висевший около узенькой дверцы звонок и через несколько минут уже входил в камеру, где долгое время томился в заключении Брай.
Благодаря строгому посту в сыром погребе он стал много мягче в обращении и уже не впадал в такие приступы бешенства, как это бывало в первое время его заключения.
Брай был прикован цепями за руки и за ноги, его ложе состояло из гнилой соломы, а пища — из хлеба и воды. Но условия значительно изменились к лучшему с тех пор, как Пельдрам стал навещать его.
— А, сэр! — сказал Пельдрам. — Вы бодрствуете? Тем лучше! Быть может, сегодня суждено сбыться вашим желаниям, если только мы с вами столкуемся.
Брай испытующе поглядел на Пельдрама.
— Все зависит от того, чего вы потребуете, — ответил он.
— Вы, главным образом, желали убедиться, что молодая женщина, судьба которой вас так озабочивает, состоит в законном браке с графом Лейстером?
— Это — почти все, чего я желаю. Если я буду уверен в этом, то все остальное, даже моя собственная судьба, в значительной степени безразличны мне.
— Ну, так я могу показать вам это доказательство! Мне удалось овладеть выкраденным из книги метрик листком — вот он!
Пельдрам протянул Браю запись о бракосочетании графа Лейстера и поднял фонарь, чтобы тот мог прочесть его содержание.
Брай схватил листок дрожащими руками. Там были поименованы все свидетели церемонии, действительно, венчание было совершено по всей форме и вполне законным образом.
— Да будет благословен Бог! — сказал он с тяжелым вздохом. — Но, значит, и я и Сэррей очень несправедливы к графу, он был совершенно прав, когда старался отделаться от нас. Но как попал к вам этот листок?
— Я вытащил его у этого негодяя Кингтона!
— А что могло заставить его выкрасть листок?
— Ну, это нетрудно отгадать! Очевидно, он хотел воспользоваться им в качестве орудия вымогательства против графа!
— Черт возьми! Но ведь граф принимал участие в этой подлости!
— Неужели вы думаете, что граф оставил бы такой важный документ в руках слуги, если бы ему было желательно уничтожить всякие следы венчания? Нет, нет! Кингтон хотел воспользоваться документом в своих интересах и провести графа. Но настала пора, когда нужно открыть графу глаза на подлые проделки его слуги!
— Но что вы собираетесь теперь предпринять?
— Я хочу отправиться прямо к графу, передать ему документ и обвинить Кингтона. Мне кажется, что в награду за это я могу потребовать, чтобыменя назначили вместо Кингтона. Если хотите, то можете отправиться вместе со мной.
В глазах Брая сверкнул огонь недоверия.
— Ну а Ламберт? — спросил он. — Что стало с ним, или что должно стать с ним?
— Он тоже будет сопровождать вас.
Брай помолчал некоторое время и, казалось, раздумывал.
— Нет! — пробормотал он наконец. — Я не могу идти с вами! Если граф поступал вполне честно и не таил против Филли никаких преступных планов, то я слишком глубоко обидел его, чтобы простое объяснение могло бы все искупить. Но я не имею права и встретиться с ним с мечом в руках и лучше соглашусь безропотно принять его упрек в трусости, чем дать удовлетворение таким путем. Я не могу идти с вами, Пельдрам, да и после того, что случилось, и Филли тоже едва ли захочет меня видеть, быть может, она ненавидит меня…
— Я не собираюсь заставлять вас отправляться со мною. Но если граф действительно имеет желание порвать всякие отношения с Филли, то, сделав все это, я сыграл в его глазах очень дурную шутку и поэтому может статься, что вместо награды меня ждет нечто совсем другое. Вот на этот случай мне и могли бы понадобиться ваша помощь и поддержка!
— И, клянусь Богом, это так и будет, — вскочил Брай, — если только мне удастся выбраться из этой клетки!
— Я выпущу вас на свободу, если вы обещаете ожидать в условленном месте — может быть, в Лондоне — вестей от меня!
— Согласен, даю слово!
— Ну и ладно! — ответил Пельдрам.
Отыскав нужные ключи, Пельдрам сначала отомкнул железное кольцо, которым было схвачено тело Брая и которое было связано цепью со стеной, затем освободил пленника от ножных оков и в заключение снял наручники. Цепи со звоном упали на пол.
Брай молча следил за работой Пельдрама, только его грудь тяжело дышала. Когда же он почувствовал, что наконец свободен, то издал такой крик радости, который сначала оглушил Пельдрама, а потом заставил его рассмеяться.
Брай потянулся всем телом и принялся разминать руки и ноги, сгибая и разгибая их и прохаживаясь крупными шагами по камере. Как будто случайно, он подошел к двери камеры, заглянул в коридор и потом повернулся к Пельдраму. Тот не заподозрил ничего дурного, когда Брай вплотную подошел к нему.
— Клянусь Богом, — сказал Брай, — ведь это ж подлость — загонять человека в такие железные тиски. Но, слава Богу, теперь я свободен, а это самое главное. Сэр Пельдрам! Я отплачу за это, чем могу, но только в свое время!
При этих словах Брай вытянул вперед обе руки к Пельдраму, который, сочтя это за желание освобожденного узника обнять его в знак признательности, даже не отшатнулся. Но в тот же момент левая рука Брая охватила его затылок, а правая схватила за горло. Под этим двойным захватом Пельдрам закачался.
— Черт!… Брай! — простонал он. — Да вы с ума сошли, что ли?
Брай же продолжал душить его и совсем притиснул к полу. Лицо Пельдрама почернело, глаза выкатились из орбит, жилы на лбу вздулись, и язык высунулся изо рта. Когда Брай увидел эти признаки и мог быть уверен, что побежденный не будет больше в состоянии кричать, он несколько ослабил тиски своих рук, но постарался при помощи колен подтолкнуть Пельдрама поближе к стене, в то место, где находились только что упавшие с него самого узы.
— Мне очень прискорбно, что пришлось сыграть с вами такую штуку, сэр Пельдрам, — сказал он, — но иначе ничего нельзя было поделать. Слышите ли вы меня и понимаете ли, что я говорю?
Пельдрам утвердительно прохрипел.
— Я принужден посадить вас вместо себя, — сказал Брай, надевая на него наручники и цепи, — и вполне уверен, что вы долго не останетесь моим заместителем. Когда вы освободитесь, то можете думать обо мне что угодно, и предпринимать против меня все что сочтете нужным, но мне кажется, что этот листочек будет у меня в большей сохранности, чем у вас. Поэтому я возьму его, а для того, чтобы иметь возможность выйти отсюда и в случае нужды защищаться, я прихвачу также и ваше оружие. Поэтому лучше не противьтесь моему желанию, иначе вы только заставите меня обойтись с вами более сурово, чем, быть может, я хотел бы, так как я уже сказал вам, что совершенно не желал бы покушаться на вашу жизнь.
Пельдрам попытался сказать что-то, но это совершенно не удалось ему.
— Не теряйте понапрасну слов, сэр! — сказал Брай, заметив намерение побежденного. — Вы только не сопротивляйтесь, пока я навешу на вас все эти украшения, это — все, что я хочу от вас.
Пельдрам бы совершенно беззащитен, он только и мог, что набрать немного воздуха, достаточного, чтобы кое-как поддержать замирающее пламя его жизни. Поэтому Брай не встретил с его стороны никакого сопротивления, когда опоясал его железным кольцом. Сделав это, он выпустил Пельдрама из рук, и тот тяжело, словно мешок, рухнул на пол.
— Да, да, мне и в самом деле очень жалко, — повторил Брай, — что я вынужден обойтись с вами таким образом, но этот документ слишком важен, чтобы ему оставаться в руках негодяя, а если вы и не являетесь таким злодеем, как Кингтон, то нет ни малейшего основания ценить вас много выше его.
Пельдрам разными движениями выказывал желание что- то сказать своему противнику. Но Брай ударил его рукой по губам.
— Кто не хочет слушать, должен почувствовать! — сказал он, оглядываясь на дверь. — Я вам уже раньше говорил это. Только не хватало, чтобы вы кого-то позвали на помощь!
Если бы Брай только мог себе представить, что хотел сообщить ему побежденный Пельдрам, то он не стал бы так заботиться о безопасности и был бы избавлен от многих мытарств. Но после всех этих неудачных попыток Пельдрам опустил голову и не возобновлял больше стараний объясниться. Брай надел на него ножные кандалы. Теперь Пельдрам почти не был в состоянии сдвинуться с места.
Подняв упавший на пол документ и даже не посмотрев на остальные бумаги, Брай взял меч, кинжал и пистолеты побежденного. Торопливо схватив фонарь и ключи, Брай поспешил выйти из камеры, приняв все необходимые меры предосторожности, запер дверь и поставил фонарь вместе со связкой ключей перед входом в помещение сторожа Ральфа, затем скользнул в башенную дверь и выбрался на Божий свет.
Ральф, вышедший на шум, произведенный уходом посетителя, послал ему вслед несколько проклятий, мимоходом глянул в камеру убедиться, здесь ли еще доверенный его попечениям арестант, и снова ушел к себе, чтобы отдаться прерванному сну.
Так что старый Ламберт мог бы до бесконечности поджидать появления Пельдрама.


 В замке Лохлевин уже в течение двенадцати дней находилась Мария Стюарт. За шумными и печальными днями в Эдинбурге и Голируде последовали более тихие, но не менее печальные благодаря утонченной жестокости леди Дуглас. Но тем не менее в этот промежуток времени произошло много благоприятного для Марии. Елизавета Английская стала на ее сторону и послала уполномоченного для примирения ее с восставшими шотландскими лордами. С другой стороны, вследствие применения к Марии строгости настроение общества изменилось, перейдя к сочувствию. Притеснители Марии начали понимать, что им угрожает тяжелая ответственность.
Главная вина Марии заключалась в ее браке с Босвелом, а преступление Босвела — в убийстве короля. Но теперь, когда Мария была разлучена с супругом, никому не приходило в голову обвинять ее в смерти Дарнлея, вследствие этого у всех партий было средство прийти к соглашению; оно заключалось в том, чтобы признать Босвела козлом отпущения за все совершившееся и подвергнуть его соответствующему наказанию.
Возмутившимся было нетрудно ухватиться за это средство. Приверженцы Марии не желали ничего искреннее, как расторгнуть ее брак с Босвелом, и оставалось только самой Марии высказаться против этого брака. Но она и не думала этого делать, объявив, что лучше в одной только нижней юбке покинет с ним отечество, чем откажется от него.
В это самое время стали раздаваться протесты коронованных особ, осуждавших поведение шотландцев по отношению к их королеве, и бунтовщики все более теряли почву под ногами. Но вдруг произошло событие, снова придавшее им силу и снова сгустившее над головой Марии политические тучи, которые готовы были рассеяться.
Вынужденный разлучиться с Марией, Босвел бежал в Эдинбург, где он надеялся найти убежище и защиту в замке, порученном надзору одного из облагодетельствованных им слуг. Но этот слуга, по имени Джэмс Бэльфор, так мало заслуживал доверия, что Босвел, вскоре открыв его изменнические замыслы, бежал среди ночи и непогоды в Дэнбар, решив ждать там последующих событий. Здесь он не оставался в бездействии; снарядил четыре корабля, подготовил замок к обороне и вообще предпринимал все, что только возможно было в его положении, так как замок был окружен его противниками.
Но вдруг Босвел вспомнил, что среди бурных событий он позабыл один предмет, который мог погубить его и Марию, если бы попался в руки его врагов. Прервав ужин, он с непокрытой головой поспешно выбежал из башни замка на крепостной вал и по нему бежал до тех пор, пока не наткнулся на капитана, который проверял часовых. Босвел судорожно схватил его за руку и увлек его в свой кабинет.
Внешность капитана Блэкеддера изобличала в нем закаленного, храброго воина, это был высокий, сильный мужчина с загорелым лицом и густой бородой, его манеры были сдержаны и решительны.
— Капитан, — сказал Босвел, — ты — мужественный человек и остался верен мне, когда многие покинули меня, я могу рассчитывать на тебя и в будущем, не так ли?
— Вы сами это сказали, — ответил Блэкеддер, — и я не желаю ничего искреннее, как доказать, что не принадлежу к тем трусливым предателям.
— Ты должен попытаться проникнуть в Эдинбург!
— Это будет очень трудно, милорд, — ответил капитан, — но я в вашем распоряжении.
— Прекрасно! В Эдинбурге ты отыщешь моего кастеляна Дэльглейша. Ты, вероятно, найдешь его еще в замке и добром или силой потребуешь от него серебряную шкатулку, которую я доверил ему. Ты понял?
— Да, я потребую прежде добром, но для этого…..
— Тебе нужно письменное полномочие, — быстро перебил его Босвел. — Ты получишь его. — Босвел сел к столу и спешно написал несколько слов на листе бумаги и приложил свою печать. — Вот полномочие, — сказал он. — Я доверяю твоему уму и преданности и сумею отблагодарить тебя. Теперь поспеши: каждое мгновение промедления может принести неисчислимые беды.
Блэкеддер взял бумагу и вышел. Переодевшись в солдатский мундир, он направился к валу, к ближайшему сторожевому посту, тихо ответил на оклик часового и некоторое время в раздумье смотрел на него.
— Мак Леан, — начал капитан, понизив голос, — я хочу предпринять прогулку туда, через вал, на открытое место. Понял ты меня?
— Думаю, что почти да, — ответил солдат после короткой паузы. — Но ваша прогулка будет очень длительной, если вы хотите окружным путем снова пробраться в Дэнбар.
— Я хочу сыграть роль дезертира, — сказал капитан. — Ты вслед мне выстрелом подымешь тревогу, твои товарищи поддержат тебя. Тогда ты можешь объявить о дезертире. Но затем каждую ночь ты должен стоять здесь на часах, ожидая меня, и не удивляйся, если перед тобой вдруг предстанет человек во вражеской форме. Я намерен уйти с шумом, но вернуться как можно тише. Понял?
— Совершенно ясно, — ответил солдат, — я в точности исполню ваши приказания.
— Ну, отлично! Тогда до свидания! — сказал Блэкеддер, после чего перебежал бруствер и спустился по внешнему откосу вала.
— Слушай! Смотри! — раздался тотчас же громкий, отчетливый голос солдата среди ночной тиши.
— Смотри! — повторили часовые ближайших постов.
И пока этот крик перекатывался вокруг крепости, раздался первый выстрел, за которым последовали два других. Весь гарнизон встрепенулся, и все бросились к своим боевым местам. Появился также и граф Босвел, окруженный своими офицерами; все стремились узнать причину ночной тревоги.
Начальники недолго оставались в неизвестности, вскоре перед ними предстал офицер и донес им о случившемся.
Расчет Блэкеддера — привлечь внимание неприятельских постов — удался ему вполне. Окрик, раздавшийся в крепости, дошел до всей сторожевой линии окружающих, и несколько минут спустя послышался голос одного из часовых: «Стой! Кто идет!» Блэкеддера окружили солдаты, с любопытством и неодобрением осматривая его.
— Ведите меня к вашему командиру, — сказал капитан тоном, ясно говорившим, что он привык повелевать и что его солдатское одеяние было лишь переодеванием.
И через полчаса он был в квартире полковника экзекуционной армии восставших против Босвела — лорда Киркэльди де Гранжа.
В замке Лохлевин уже в течение двенадцати дней находилась Мария Стюарт. За шумными и печальными днями в Эдинбурге и Голируде последовали более тихие, но не менее печальные благодаря утонченной жестокости леди Дуглас. Но тем не менее в этот промежуток времени произошло много благоприятного для Марии. Елизавета Английская стала на ее сторону и послала уполномоченного для примирения ее с восставшими шотландскими лордами. С другой стороны, вследствие применения к Марии строгости настроение общества изменилось, перейдя к сочувствию. Притеснители Марии начали понимать, что им угрожает тяжелая ответственность.
Главная вина Марии заключалась в ее браке с Босвелом, а преступление Босвела — в убийстве короля. Но теперь, когда Мария была разлучена с супругом, никому не приходило в голову обвинять ее в смерти Дарнлея, вследствие этого у всех партий было средство прийти к соглашению; оно заключалось в том, чтобы признать Босвела козлом отпущения за все совершившееся и подвергнуть его соответствующему наказанию.
Возмутившимся было нетрудно ухватиться за это средство. Приверженцы Марии не желали ничего искреннее, как расторгнуть ее брак с Босвелом, и оставалось только самой Марии высказаться против этого брака. Но она и не думала этого делать, объявив, что лучше в одной только нижней юбке покинет с ним отечество, чем откажется от него.
В это самое время стали раздаваться протесты коронованных особ, осуждавших поведение шотландцев по отношению к их королеве, и бунтовщики все более теряли почву под ногами. Но вдруг произошло событие, снова придавшее им силу и снова сгустившее над головой Марии политические тучи, которые готовы были рассеяться.
Вынужденный разлучиться с Марией, Босвел бежал в Эдинбург, где он надеялся найти убежище и защиту в замке, порученном надзору одного из облагодетельствованных им слуг. Но этот слуга, по имени Джэмс Бэльфор, так мало заслуживал доверия, что Босвел, вскоре открыв его изменнические замыслы, бежал среди ночи и непогоды в Дэнбар, решив ждать там последующих событий. Здесь он не оставался в бездействии; снарядил четыре корабля, подготовил замок к обороне и вообще предпринимал все, что только возможно было в его положении, так как замок был окружен его противниками.
Но вдруг Босвел вспомнил, что среди бурных событий он позабыл один предмет, который мог погубить его и Марию, если бы попался в руки его врагов. Прервав ужин, он с непокрытой головой поспешно выбежал из башни замка на крепостной вал и по нему бежал до тех пор, пока не наткнулся на капитана, который проверял часовых. Босвел судорожно схватил его за руку и увлек его в свой кабинет.
Внешность капитана Блэкеддера изобличала в нем закаленного, храброго воина, это был высокий, сильный мужчина с загорелым лицом и густой бородой, его манеры были сдержаны и решительны.
— Капитан, — сказал Босвел, — ты — мужественный человек и остался верен мне, когда многие покинули меня, я могу рассчитывать на тебя и в будущем, не так ли?
— Вы сами это сказали, — ответил Блэкеддер, — и я не желаю ничего искреннее, как доказать, что не принадлежу к тем трусливым предателям.
— Ты должен попытаться проникнуть в Эдинбург!
— Это будет очень трудно, милорд, — ответил капитан, — но я в вашем распоряжении.
— Прекрасно! В Эдинбурге ты отыщешь моего кастеляна Дэльглейша. Ты, вероятно, найдешь его еще в замке и добром или силой потребуешь от него серебряную шкатулку, которую я доверил ему. Ты понял?
— Да, я потребую прежде добром, но для этого…..
— Тебе нужно письменное полномочие, — быстро перебил его Босвел. — Ты получишь его. — Босвел сел к столу и спешно написал несколько слов на листе бумаги и приложил свою печать. — Вот полномочие, — сказал он. — Я доверяю твоему уму и преданности и сумею отблагодарить тебя. Теперь поспеши: каждое мгновение промедления может принести неисчислимые беды.
Блэкеддер взял бумагу и вышел. Переодевшись в солдатский мундир, он направился к валу, к ближайшему сторожевому посту, тихо ответил на оклик часового и некоторое время в раздумье смотрел на него.
— Мак Леан, — начал капитан, понизив голос, — я хочу предпринять прогулку туда, через вал, на открытое место. Понял ты меня?
— Думаю, что почти да, — ответил солдат после короткой паузы. — Но ваша прогулка будет очень длительной, если вы хотите окружным путем снова пробраться в Дэнбар.
— Я хочу сыграть роль дезертира, — сказал капитан. — Ты вслед мне выстрелом подымешь тревогу, твои товарищи поддержат тебя. Тогда ты можешь объявить о дезертире. Но затем каждую ночь ты должен стоять здесь на часах, ожидая меня, и не удивляйся, если перед тобой вдруг предстанет человек во вражеской форме. Я намерен уйти с шумом, но вернуться как можно тише. Понял?
— Совершенно ясно, — ответил солдат, — я в точности исполню ваши приказания.
— Ну, отлично! Тогда до свидания! — сказал Блэкеддер, после чего перебежал бруствер и спустился по внешнему откосу вала.
— Слушай! Смотри! — раздался тотчас же громкий, отчетливый голос солдата среди ночной тиши.
— Смотри! — повторили часовые ближайших постов.
И пока этот крик перекатывался вокруг крепости, раздался первый выстрел, за которым последовали два других. Весь гарнизон встрепенулся, и все бросились к своим боевым местам. Появился также и граф Босвел, окруженный своими офицерами; все стремились узнать причину ночной тревоги.
Начальники недолго оставались в неизвестности, вскоре перед ними предстал офицер и донес им о случившемся.
Расчет Блэкеддера — привлечь внимание неприятельских постов — удался ему вполне. Окрик, раздавшийся в крепости, дошел до всей сторожевой линии окружающих, и несколько минут спустя послышался голос одного из часовых: «Стой! Кто идет!» Блэкеддера окружили солдаты, с любопытством и неодобрением осматривая его.
— Ведите меня к вашему командиру, — сказал капитан тоном, ясно говорившим, что он привык повелевать и что его солдатское одеяние было лишь переодеванием.
И через полчаса он был в квартире полковника экзекуционной армии восставших против Босвела — лорда Киркэльди де Гранжа.


 Комнаты, предназначенные Марии Стюарт для ее пребывания в замке Лохлевин, находились в нижнем этаже восточной башни. Выбор помещения для королевы очень мало согласовался как с удобствами, так и с мерами предосторожности для ее охраны.
Королеве было разрешено иметь при себе четырех из ее фрейлин, и все они вместе со своей госпожой занимали только три комнаты. Этими четырьмя дамами королевы были: Флеминг, Бэйтони и две сестры Сэйтон; леди Левингстон была отпущена королевой, так как ее отец и брат не выказали достаточной преданности ее делу, и она не пожелала держать около себя их родственницу.
Мария Стюарт сидела в самой большой из трех комнат в мягком кожаном кресле, а дамы с поникшей головой стояли вокруг нее.
— Уже четыре дня, — вздохнув, сказала Мария, — нет никакой вести от моего супруга и никаких признаков того, что наши верные вассалы пытались освободить меня… О, как я несчастна. Шотландцы — презреннейший народ на земле. Народ, который не почитает своих правителей, сам производит над собой свой суд.
Дамы молчали. В последнее время Марией часто овладевали эти вспышки негодования о ее положении и судьбе, и они привыкли к ним.
Впрочем, настроение королевы менялось очень быстро, так было и сегодня.
— Что мы будем сегодня делать? — продолжала она после короткого молчания. — Как убьем время?.. Так, прежде всего начнем с утренней комедии при участии нашей благородной хозяйки, мы опять разгневаем ее.
При этих словах Мария рассмеялась.
Дамы переглянулись.
— Ваше величество, — сказала Мария Сэйтон, — простите меня, но, по-моему, разговоры с хозяйкой дома раздражают вас более, чем ее. Лучше всего, если бы вы не удостаивали своим вниманием леди Дуглас.
— Мне кажется, ты права, — резко ответила она. — Да, моя милая Сэйтон, эта женщина раздражает меня, но все же я не могу удержаться, чтобы не сказать ей чего-нибудь неприятного. Ну хорошо, мы подчинимся вашей воле. Моя милая Джэн, возьми на себя переговоры с почтенной леди, когда она появится.
— Я уже слышу ее приближение, она несет завтрак, — ответила Джэн.
Леди Дуглас вошла в комнату в сопровождении двух служанок, несших посуду и кушанья. Движения леди были медленны, а осанка не лишена некоторого достоинства. На ней было простое черное платье, а на голове траурный капор, какой носили в то время дамы из высшего класса. Леди Дуглас все продолжала сожалеть о том, что она — не королева, а ее сын не сделался повелителем страны.
Она холодно и чопорно поклонилась королеве, не удостоив присутствующих дам. Затем подошла к столу и велела служанкам приготовить все к завтраку, после чего обе служанки, не ожидая дальнейших приказаний, вышли из комнаты. Сама леди Дуглас также направилась к двери, но при этом бросила удивленный взгляд на молчавшую и не обращавшую на нее внимания королеву. Уже у двери она все-таки остановилась, словно ожидала, что Мария Стюарт заговорит с ней.
— Вы можете идти, — сказала Джэн Сэйтон по знаку, сделанному королевой.
Леди Дуглас насмешливо посмотрела на говорившую и спросила, обращаясь прямо к королеве:
— Нет ли у вас еще каких-либо желаний?
— Для вас есть только приказания! — резко произнесла Мария Стюарт. — Приказания, которых вы будете ждать, не надоедая вашим присутствием.
Леди Дуглас насмешливо улыбнулась и с иронией ответила:
— Нигде нет такого обычая, чтобы заключенные приказывали. Вы находитесь здесь именно в таком положении, и я должна известить вас, что в замок прибыла депутация от Тайного совета лордов и просит позволения представиться вам.
— Я не признаю этого совета! — вспыхнула Мария, вставая, у меня нет ничего общего с бунтовщиками и государственными преступниками, я не хочу видеть их.
— Даже и лорда Мелвила? — насмешливо спросила леди Дуглас.
— Мелвил здесь? — переспросила Мария. — Да, я хочу видеть его, пусть он войдет!
Леди Дуглас поклонилась и вышла из комнаты.
— Мой посол от Елизаветы, — сказала Мария, — значит, мои друзья, мы скоро оставим эту темницу!
Лица всех дам не выразили никакого оживления, надежд. По предыдущему письму королевы Елизаветы никак нельзя было надеяться на ее заступничество за Марию.
— Ваше величество, не угодно ли позавтракать? — предложила Мария Сэйтон, показывая на накрытый стол.
— Нет, — ответила королева, — я не голодна, а вы присаживайтесь и можете кушать.
Дамы поклонились, но ни одна из них не воспользовалась разрешением повелительницы. В это время появился лорд Мелвил в сопровождении Дугласа. Граф тотчас же удалился, и его примеру последовали дамы.
Мария Стюарт села в свое кресло, а Мелвил сначала преклонил колено, чтобы поцеловать ей руку, а затем, с разрешения королевы, начал свои сообщения.
Королева Елизавета предлагала Марии Стюарт подчиниться решениям совета, который требовал от нее отречения от прав на престол в пользу ее сына. Мелвил старался облечь свои сообщения в возможно мягкую форму. Но Мария резко отвергла все предложенные ей условия и в особенности решительно отказалась принять двух остальных уполномоченных совета. Затем она стала жаловаться на плохое обращение с ней в месте ее заключения и на навязчивость надоевшей ей тюремщицы. На эти жалобы Мария имела основание, и Мелвил обещал исполнить ее желание.
Он покинул королеву и отправился объявить о ее решении своим коллегам. Между тем Марии было подано письмо Тогмортона, который от имени королевы Елизаветы тоже советовал ей отказаться от престола, но с добавлением, что «отречение, сделанное по принуждению, не имеет юридической силы и что в любой момент его можно взять обратно».
Мария так и не приняла никакого решения, единственное, что ей удалось, так это получить лучшее помещение и большую свободу и избавиться от надоевшей ей тюремщицы, удалившейся по приказу депутатов Тайного совета лордов в другое свое поместье.
Комнаты, предназначенные Марии Стюарт для ее пребывания в замке Лохлевин, находились в нижнем этаже восточной башни. Выбор помещения для королевы очень мало согласовался как с удобствами, так и с мерами предосторожности для ее охраны.
Королеве было разрешено иметь при себе четырех из ее фрейлин, и все они вместе со своей госпожой занимали только три комнаты. Этими четырьмя дамами королевы были: Флеминг, Бэйтони и две сестры Сэйтон; леди Левингстон была отпущена королевой, так как ее отец и брат не выказали достаточной преданности ее делу, и она не пожелала держать около себя их родственницу.
Мария Стюарт сидела в самой большой из трех комнат в мягком кожаном кресле, а дамы с поникшей головой стояли вокруг нее.
— Уже четыре дня, — вздохнув, сказала Мария, — нет никакой вести от моего супруга и никаких признаков того, что наши верные вассалы пытались освободить меня… О, как я несчастна. Шотландцы — презреннейший народ на земле. Народ, который не почитает своих правителей, сам производит над собой свой суд.
Дамы молчали. В последнее время Марией часто овладевали эти вспышки негодования о ее положении и судьбе, и они привыкли к ним.
Впрочем, настроение королевы менялось очень быстро, так было и сегодня.
— Что мы будем сегодня делать? — продолжала она после короткого молчания. — Как убьем время?.. Так, прежде всего начнем с утренней комедии при участии нашей благородной хозяйки, мы опять разгневаем ее.
При этих словах Мария рассмеялась.
Дамы переглянулись.
— Ваше величество, — сказала Мария Сэйтон, — простите меня, но, по-моему, разговоры с хозяйкой дома раздражают вас более, чем ее. Лучше всего, если бы вы не удостаивали своим вниманием леди Дуглас.
— Мне кажется, ты права, — резко ответила она. — Да, моя милая Сэйтон, эта женщина раздражает меня, но все же я не могу удержаться, чтобы не сказать ей чего-нибудь неприятного. Ну хорошо, мы подчинимся вашей воле. Моя милая Джэн, возьми на себя переговоры с почтенной леди, когда она появится.
— Я уже слышу ее приближение, она несет завтрак, — ответила Джэн.
Леди Дуглас вошла в комнату в сопровождении двух служанок, несших посуду и кушанья. Движения леди были медленны, а осанка не лишена некоторого достоинства. На ней было простое черное платье, а на голове траурный капор, какой носили в то время дамы из высшего класса. Леди Дуглас все продолжала сожалеть о том, что она — не королева, а ее сын не сделался повелителем страны.
Она холодно и чопорно поклонилась королеве, не удостоив присутствующих дам. Затем подошла к столу и велела служанкам приготовить все к завтраку, после чего обе служанки, не ожидая дальнейших приказаний, вышли из комнаты. Сама леди Дуглас также направилась к двери, но при этом бросила удивленный взгляд на молчавшую и не обращавшую на нее внимания королеву. Уже у двери она все-таки остановилась, словно ожидала, что Мария Стюарт заговорит с ней.
— Вы можете идти, — сказала Джэн Сэйтон по знаку, сделанному королевой.
Леди Дуглас насмешливо посмотрела на говорившую и спросила, обращаясь прямо к королеве:
— Нет ли у вас еще каких-либо желаний?
— Для вас есть только приказания! — резко произнесла Мария Стюарт. — Приказания, которых вы будете ждать, не надоедая вашим присутствием.
Леди Дуглас насмешливо улыбнулась и с иронией ответила:
— Нигде нет такого обычая, чтобы заключенные приказывали. Вы находитесь здесь именно в таком положении, и я должна известить вас, что в замок прибыла депутация от Тайного совета лордов и просит позволения представиться вам.
— Я не признаю этого совета! — вспыхнула Мария, вставая, у меня нет ничего общего с бунтовщиками и государственными преступниками, я не хочу видеть их.
— Даже и лорда Мелвила? — насмешливо спросила леди Дуглас.
— Мелвил здесь? — переспросила Мария. — Да, я хочу видеть его, пусть он войдет!
Леди Дуглас поклонилась и вышла из комнаты.
— Мой посол от Елизаветы, — сказала Мария, — значит, мои друзья, мы скоро оставим эту темницу!
Лица всех дам не выразили никакого оживления, надежд. По предыдущему письму королевы Елизаветы никак нельзя было надеяться на ее заступничество за Марию.
— Ваше величество, не угодно ли позавтракать? — предложила Мария Сэйтон, показывая на накрытый стол.
— Нет, — ответила королева, — я не голодна, а вы присаживайтесь и можете кушать.
Дамы поклонились, но ни одна из них не воспользовалась разрешением повелительницы. В это время появился лорд Мелвил в сопровождении Дугласа. Граф тотчас же удалился, и его примеру последовали дамы.
Мария Стюарт села в свое кресло, а Мелвил сначала преклонил колено, чтобы поцеловать ей руку, а затем, с разрешения королевы, начал свои сообщения.
Королева Елизавета предлагала Марии Стюарт подчиниться решениям совета, который требовал от нее отречения от прав на престол в пользу ее сына. Мелвил старался облечь свои сообщения в возможно мягкую форму. Но Мария резко отвергла все предложенные ей условия и в особенности решительно отказалась принять двух остальных уполномоченных совета. Затем она стала жаловаться на плохое обращение с ней в месте ее заключения и на навязчивость надоевшей ей тюремщицы. На эти жалобы Мария имела основание, и Мелвил обещал исполнить ее желание.
Он покинул королеву и отправился объявить о ее решении своим коллегам. Между тем Марии было подано письмо Тогмортона, который от имени королевы Елизаветы тоже советовал ей отказаться от престола, но с добавлением, что «отречение, сделанное по принуждению, не имеет юридической силы и что в любой момент его можно взять обратно».
Мария так и не приняла никакого решения, единственное, что ей удалось, так это получить лучшее помещение и большую свободу и избавиться от надоевшей ей тюремщицы, удалившейся по приказу депутатов Тайного совета лордов в другое свое поместье.


 Содержание письма заключалось в следующем:
Содержание письма заключалось в следующем:


 Босвел очень скоро узнал о трагическом конце своего посланца и обо всех событиях, происшедших с королевой. Он считал невозможным оставаться дольше в Дэнбаре и потому решил бежать к своему родственнику, епископу Мюррею, который предложил ему временный приют.
Но и туда за ним последовал неутомимый лорд де Гранж.
Босвел бежал дальше, набрав на четыре судна своих приверженцев. Потерпев поражение в одной из морских битв и загнанный бурей, он очутился в Ирландии, где его судьба приняла еще худший оборот.
Небо над городом Белфастом и окружающими его горами было обложено тяжелыми тучами, предвестницами сильной бури. Еще накануне вечером темно-серые облака нависли над горизонтом, как бы образуя гигантскую непроницаемую стену, а наутро эта темная масса сгустилась еще сильнее. Не успело солнце скрыться за горами, как сверкнула молния, разрывая облака, и оглушительный удар грома прокатился над землей и заставил всех задрожать. Началась неистовая гроза. Точно огненные змеи извивались голубовато-синие полосы молний, со всех сторон гремел гром, со свистом завывал ветер, и хлестали шумные потоки дождя. Казалось, что наступил конец света.
По-видимому, жители Белфаста, его предместий и маленького городка Граве заранее приготовились к грозе, и потому все улицы были совершенно пусты. Только иногда метались фигуры прохожих, застигнутых бурей, которые торопились спрятаться от непогоды.
При первом ударе грома к набережной в Граве причалила лодка. Молодой человек, выскочив на землю и привязав ее, торопливо направился в восточную часть города. Едва успел он добежать до жалкой, ветхой избушки, как разразилась эта сильнейшая гроза. Захлопнув наружную дверь, молодой человек вошел в комнату, тускло освещенную маленькой лампой. К завыванию ветра и ударам грома снаружи здесь примешивались глубокие, тяжелые стоны, доносившиеся из угла комнаты, где стояла убогая кровать, на которой корчился от жестоких страданий какой-то старик. Блеск молнии на мгновение осветил через незанавешенное окно его жалкую фигуру.
Вошедший глянул на него, но не торопился подойти к страдающему. На мрачном лице молодого человека отражалось неудовольствие из-за разыгравшейся непогоды, но не было и следа участия к больному. Молодой человек был высокий, стройный, с красивым, бледным лицом, обрамленным черными волосами. На нем была круглая шляпа, короткая куртка и полотняные шаровары, которые носили все матросы той местности.
На какое-то мгновение он неподвижно остановился на пороге. Гроза усиливалась, раскаты грома повторялись все чаще и чаще, и все громче и громче стонал больной, точно гроза увеличивала его страдания.
— Джон, сын мой, ты здесь? — слабым голосом спросил больной. — Если бы еще немного, ты уже не застал бы меня в живых. Отчего ты не приходил так долго и оставил меня здесь без всякой помощи?
При первых словах больного хмурая тень пробежала по бледному лицу Джона.
— Я постоянно при вас, — недовольным тоном отозвался он, — отлучился лишь ненадолго и только потому, что вы сами отпустили меня в гавань, где у меня было дело.
— Правда, правда, — прохрипел больной, — но я не думал, что мой конец так близок. Перестанем ссориться! Мне нужно поговорить с тобой. Сядь возле меня и слушай со вниманием, что я скажу тебе.
Молодой человек взял соломенный стул и поставил его около кровати. По-прежнему на его мрачном лице не было выражения участия, желания чем-нибудь облегчить страдания старика.
С непрерывным стоном больной слегка поднялся на подушках, но от полного изнеможения его голова опустилась.
Джон не попытался поддержать голову отца. Лицо его сохраняло прежнее безучастное выражение, хотя по форме губ, по благородным нежным чертам можно было предположить, что у него доброе, отзывчивое сердце.
Совершенно противоположное впечатление производил отец. Ни страдание, ни страх смерти не могли заслонить на лице больного выражение хитрости, жадности и бессильной злобы — все характерные черты низменной натуры.
— Джон, — простонал старик после некоторой паузы, — я воспитал тебя, научил делу, которое может прокормить тебя, через несколько часов я умру, и ты получишь от меня наследство и даже немалое. Понимаешь ты меня?
— Понимаю! — пробормотал безучастно Джон.
Его отец бросил пытливый взгляд на сидевшего сына и продолжал прерывающимся голосом:
— Я воспитывал тебя строго, очень строго, но ты был диким, упрямым мальчиком, непослушным сыном.
Джон открыл было рот, чтобы что-то ответить старику, но раздумал и только пристально посмотрел прямо в глаза отцу.
— Впрочем, я в этом отчасти сам виноват, — продолжал больной, — и должен был раньше обратить внимание на то, что ты — человек, ни к чему не пригодный.
— Но я не преступник! — резко заметил Джон.
— Ты еще будешь им, сын мой, — насмешливо ответил больной, — будешь непременно, это — тоже часть моего наследства!
Громовой удар, более сильный, чем все предыдущие, потряс стены ветхого домишки.
Джон резко вскочил со стула, но только грозно глянул на старика и отвернулся.
— Слушай дальше! — продолжал отец, морщась от боли. — Обрати внимание прежде всего на то, как должен умирать преступник, такой, как я, и каким скоро будешь ты. Я знаю, что чувство страха незнакомо тебе, но настоящим пробным камнем храбрости я признаю смертный час, кончину в полном сознании и с нечистой совестью. Я умираю, понимая это, но не боюсь ни чертей, ни ада. Я так мало думаю о них, что даже в последнюю минуту жизни мечтаю о мести и хочу отомстить тебе за то, что ты был непослушным сыном, отомстить за твои угрозы, которыми ты в последнее время преследовал меня. Слушай же хорошенько! Ты — мой наследник, но не мой сын!
При последних словах старика лицо молодого человека прояснилось.
— Это — правда, я — не ваш сын? — переспросил он, разволновавшись.
— Да, правда! — подтвердил больной. — Ты, которого все называют Джон Гавиа, — не сын перевозчика Гавиа.
Тяжелый вздох вырвался из груди Джона, но на его лице выразилась такая радость, точно совершенно неожиданно исполнилось одно из самых его задушевных желаний. Вдруг он повернулся к двери, как бы собираясь немедленно покинуть комнату.
— Ты хочешь уйти? Ну и уходи! — прохрипел старик. — Оставайся всю жизнь нищим! Если же ты не покинешь меня в последние минуты, то будешь знатным, богатым господином, для которого даже дочь Спитты окажется недостойной. Тебе придется снизойти до нее, чтобы признать ее равной себе.
Джон дошел уже до двери, но упоминание о дочери Спитты заставило его одним прыжком подскочить к кровати больного. Молодой человек ничего не говорил, но в его глазах и в каждой черте его лица сквозило нетерпеливое ожидание, выражался немой вопрос.
— Так-то лучше, мой мальчик, — одобрил старик, — тебе ведь необходимо узнать, кто ты такой? Садись! Нельзя было выбрать лучший момент для нашего объяснения, чем сейчас. Ты не забудешь ни этого часа, ни того, что я скажу тебе. Я сделаю из тебя того, кого желаю, поверь мне!…
Джон судорожно схватился за спинку стула, плотно сжал губы и не мог ни слова выговорить от изумления и негодования. Он часто задумывался над низостью души человека, которого так долго считал своим отцом, но никогда еще тот не казался ему таким отвратительным, как теперь.
Грудь Гавиа продолжала подниматься и опускаться с тем же хрипением, но он перестал стонать. Он готовился исполнить свое давнишнее желание, и это, по-видимому, заглушало его физические страдания. Неприятная гримаса еще сильнее исказила его безобразное лицо.
— Моя месть не коснулась бы тебя, если бы ты был послушным мне, — начал старик, — но этого не случилось, а потому мой гнев перешел и на тебя. Ты уже знаешь, что я по происхождению британец. С юных лет я попал в Ирландию в качестве слуги одного важного господина. Этим господином был лорд и пэр и пользовался большой властью в стране. Однажды ему вздумалось наказать меня за какой- то проступок. И вот ирландский пэр осмелился привязать меня, англичанина, к козлам и высечь палками по спине. Запомни, друг Джон, что англичанин — не то, что какой- нибудь ирландец.
Лоб старика нахмурился, и в глазах запылала ненависть. Джон почуял что-то ужасное и отвернулся от больного.
— Само собой разумеется, что после этой истории мой господин прогнал меня, — продолжал Гавиа, с трудом переводя дыхание. — Первой моей мыслью было тут же заколоть могущественного пэра, но потом я раздумал. В то время положение людей менялось часто и быстро. И всемогущий пэр попал в немилость, и над ним был назначен суд. Меня вызвали свидетелем, и на основании того, что было сказано мной, моего бывшего господина и его брата обвинили в государственной измене и казнили. Нечего, я думаю, упоминать, что мои наговоры и клятвы были очень далеки от правды, это тебе, должно быть, хорошо известно и без того.
Джон стоял неподвижно, точно мраморное изваяние, олицетворяющее собой беспредельный ужас.
Не переставал греметь гром, сверкала непрерывно молния, но ни Джон, ни больной не обращали внимания на грозу. Открытие гнусного преступления заставило молодого человека содрогнуться; на старика же, наоборот, эти ужасные воспоминания подействовали подкрепляющим образом.
— Я совершил это преступление только из мести, — продолжал старик, — без всякого вознаграждения, но один из родственников казненного предложил мне еще больше отомстить моему врагу — и я согласился. Родственник был беден как церковная мышь и с вожделением мечтал об имуществе казненного, которое никак не мог получить ввиду того, что у моего бывшего господина остались жена и ребенок. Тогда я за большую сумму денег подал родственнику благой совет: нужно было, чтобы вдову казненного пэра и ее сына нашли в один прекрасный день мертвыми.
— Изверг! — не выдержал Джон, и холодная дрожь пронизала его тело.
— Нет, Джон, я не убил их, — поспешил успокоить Гавиа, — я был слишком хитер и знал, что смогу лучше воспользоваться обстоятельствами, если оставлю их в живых. Я был знаком с расположением комнат и порядками старого замка и потому для меня не представляло большого труда похитить фамильные бумаги и увезти из замка вдову пэра и ее сына, которому был тогда всего один год. Я не виноват, что вдова вскоре умерла от страха и лишений. Для меня ее смерть была даже несчастьем, так как помешала моим расчетам, чтобы получить от сына ту выгоду, которую я потерял вследствие смерти его матери, и я оставил мальчика при себе.
Джон затаил дыхание, крупные капли пота покрыли его лоб.
— Продолжайте! — беззвучно прошептал он.
— Затем я приехал с мальчиком сюда, — рассказывал больной, — но он оказался непокорным и часто мешал мне в моих планах. Тем не менее я был для него как родной отец: я воспитал его, научил ремеслу, которое может прокормить человека, и теперь оставлю ему в наследство свое имущество и имущество его родителей. Как видишь, этот мальчик — ты!
Хотя Джон сразу понял, чем закончит свою речь ненавистный старик, но не хотел верить этому до последней минуты. Страшный крик вырвался из его груди, перекрыв раскаты грома. Джон бросился к извергу, который был убийцей его родителей, в течение долгих лет тиранил его и даже теперь, на смертном одре, издевался над ним! Не помня себя от гнева, молодой человек схватил больного за горло.
Несмотря на слабость, Гавиа пытался сопротивляться.
— Ты меня хо… чешь… за… душить! — хрипел он, — Твое и… мя…
Джон ничего не слышал. Он все сильнее и сильнее сдавливал горло старика.
— Твое имя… — силился проговорить умирающий, — твое и… мя… там… тем… на… я… шка… ту… лоч… ка… бума… ги…
Джон ничего не сознавал. Вдруг тело старика судорожно забилось с такой силой, что руки молодого человека невольно разжались. Умирающий собрал последние силы, широко открыл рот и прохрипел:
— Те… перь ты то… же пре… ступ… ник!
Бешенство Джона перешло в ужас. Новый пронзительный крик его огласил комнату. А на дворе все так же гремел гром, сверкающие молнии озаряли убогую хижину, потоки дождя струились по окну. Джон стоял неподвижно, не сводя испуганных глаз с лица Гавиа, находившегося в агонии. Если бы не насилие, старик мог бы просуществовать еще несколько часов. Таким образом, Джон чувствовал себя действительно преступником.
Босвел очень скоро узнал о трагическом конце своего посланца и обо всех событиях, происшедших с королевой. Он считал невозможным оставаться дольше в Дэнбаре и потому решил бежать к своему родственнику, епископу Мюррею, который предложил ему временный приют.
Но и туда за ним последовал неутомимый лорд де Гранж.
Босвел бежал дальше, набрав на четыре судна своих приверженцев. Потерпев поражение в одной из морских битв и загнанный бурей, он очутился в Ирландии, где его судьба приняла еще худший оборот.
Небо над городом Белфастом и окружающими его горами было обложено тяжелыми тучами, предвестницами сильной бури. Еще накануне вечером темно-серые облака нависли над горизонтом, как бы образуя гигантскую непроницаемую стену, а наутро эта темная масса сгустилась еще сильнее. Не успело солнце скрыться за горами, как сверкнула молния, разрывая облака, и оглушительный удар грома прокатился над землей и заставил всех задрожать. Началась неистовая гроза. Точно огненные змеи извивались голубовато-синие полосы молний, со всех сторон гремел гром, со свистом завывал ветер, и хлестали шумные потоки дождя. Казалось, что наступил конец света.
По-видимому, жители Белфаста, его предместий и маленького городка Граве заранее приготовились к грозе, и потому все улицы были совершенно пусты. Только иногда метались фигуры прохожих, застигнутых бурей, которые торопились спрятаться от непогоды.
При первом ударе грома к набережной в Граве причалила лодка. Молодой человек, выскочив на землю и привязав ее, торопливо направился в восточную часть города. Едва успел он добежать до жалкой, ветхой избушки, как разразилась эта сильнейшая гроза. Захлопнув наружную дверь, молодой человек вошел в комнату, тускло освещенную маленькой лампой. К завыванию ветра и ударам грома снаружи здесь примешивались глубокие, тяжелые стоны, доносившиеся из угла комнаты, где стояла убогая кровать, на которой корчился от жестоких страданий какой-то старик. Блеск молнии на мгновение осветил через незанавешенное окно его жалкую фигуру.
Вошедший глянул на него, но не торопился подойти к страдающему. На мрачном лице молодого человека отражалось неудовольствие из-за разыгравшейся непогоды, но не было и следа участия к больному. Молодой человек был высокий, стройный, с красивым, бледным лицом, обрамленным черными волосами. На нем была круглая шляпа, короткая куртка и полотняные шаровары, которые носили все матросы той местности.
На какое-то мгновение он неподвижно остановился на пороге. Гроза усиливалась, раскаты грома повторялись все чаще и чаще, и все громче и громче стонал больной, точно гроза увеличивала его страдания.
— Джон, сын мой, ты здесь? — слабым голосом спросил больной. — Если бы еще немного, ты уже не застал бы меня в живых. Отчего ты не приходил так долго и оставил меня здесь без всякой помощи?
При первых словах больного хмурая тень пробежала по бледному лицу Джона.
— Я постоянно при вас, — недовольным тоном отозвался он, — отлучился лишь ненадолго и только потому, что вы сами отпустили меня в гавань, где у меня было дело.
— Правда, правда, — прохрипел больной, — но я не думал, что мой конец так близок. Перестанем ссориться! Мне нужно поговорить с тобой. Сядь возле меня и слушай со вниманием, что я скажу тебе.
Молодой человек взял соломенный стул и поставил его около кровати. По-прежнему на его мрачном лице не было выражения участия, желания чем-нибудь облегчить страдания старика.
С непрерывным стоном больной слегка поднялся на подушках, но от полного изнеможения его голова опустилась.
Джон не попытался поддержать голову отца. Лицо его сохраняло прежнее безучастное выражение, хотя по форме губ, по благородным нежным чертам можно было предположить, что у него доброе, отзывчивое сердце.
Совершенно противоположное впечатление производил отец. Ни страдание, ни страх смерти не могли заслонить на лице больного выражение хитрости, жадности и бессильной злобы — все характерные черты низменной натуры.
— Джон, — простонал старик после некоторой паузы, — я воспитал тебя, научил делу, которое может прокормить тебя, через несколько часов я умру, и ты получишь от меня наследство и даже немалое. Понимаешь ты меня?
— Понимаю! — пробормотал безучастно Джон.
Его отец бросил пытливый взгляд на сидевшего сына и продолжал прерывающимся голосом:
— Я воспитывал тебя строго, очень строго, но ты был диким, упрямым мальчиком, непослушным сыном.
Джон открыл было рот, чтобы что-то ответить старику, но раздумал и только пристально посмотрел прямо в глаза отцу.
— Впрочем, я в этом отчасти сам виноват, — продолжал больной, — и должен был раньше обратить внимание на то, что ты — человек, ни к чему не пригодный.
— Но я не преступник! — резко заметил Джон.
— Ты еще будешь им, сын мой, — насмешливо ответил больной, — будешь непременно, это — тоже часть моего наследства!
Громовой удар, более сильный, чем все предыдущие, потряс стены ветхого домишки.
Джон резко вскочил со стула, но только грозно глянул на старика и отвернулся.
— Слушай дальше! — продолжал отец, морщась от боли. — Обрати внимание прежде всего на то, как должен умирать преступник, такой, как я, и каким скоро будешь ты. Я знаю, что чувство страха незнакомо тебе, но настоящим пробным камнем храбрости я признаю смертный час, кончину в полном сознании и с нечистой совестью. Я умираю, понимая это, но не боюсь ни чертей, ни ада. Я так мало думаю о них, что даже в последнюю минуту жизни мечтаю о мести и хочу отомстить тебе за то, что ты был непослушным сыном, отомстить за твои угрозы, которыми ты в последнее время преследовал меня. Слушай же хорошенько! Ты — мой наследник, но не мой сын!
При последних словах старика лицо молодого человека прояснилось.
— Это — правда, я — не ваш сын? — переспросил он, разволновавшись.
— Да, правда! — подтвердил больной. — Ты, которого все называют Джон Гавиа, — не сын перевозчика Гавиа.
Тяжелый вздох вырвался из груди Джона, но на его лице выразилась такая радость, точно совершенно неожиданно исполнилось одно из самых его задушевных желаний. Вдруг он повернулся к двери, как бы собираясь немедленно покинуть комнату.
— Ты хочешь уйти? Ну и уходи! — прохрипел старик. — Оставайся всю жизнь нищим! Если же ты не покинешь меня в последние минуты, то будешь знатным, богатым господином, для которого даже дочь Спитты окажется недостойной. Тебе придется снизойти до нее, чтобы признать ее равной себе.
Джон дошел уже до двери, но упоминание о дочери Спитты заставило его одним прыжком подскочить к кровати больного. Молодой человек ничего не говорил, но в его глазах и в каждой черте его лица сквозило нетерпеливое ожидание, выражался немой вопрос.
— Так-то лучше, мой мальчик, — одобрил старик, — тебе ведь необходимо узнать, кто ты такой? Садись! Нельзя было выбрать лучший момент для нашего объяснения, чем сейчас. Ты не забудешь ни этого часа, ни того, что я скажу тебе. Я сделаю из тебя того, кого желаю, поверь мне!…
Джон судорожно схватился за спинку стула, плотно сжал губы и не мог ни слова выговорить от изумления и негодования. Он часто задумывался над низостью души человека, которого так долго считал своим отцом, но никогда еще тот не казался ему таким отвратительным, как теперь.
Грудь Гавиа продолжала подниматься и опускаться с тем же хрипением, но он перестал стонать. Он готовился исполнить свое давнишнее желание, и это, по-видимому, заглушало его физические страдания. Неприятная гримаса еще сильнее исказила его безобразное лицо.
— Моя месть не коснулась бы тебя, если бы ты был послушным мне, — начал старик, — но этого не случилось, а потому мой гнев перешел и на тебя. Ты уже знаешь, что я по происхождению британец. С юных лет я попал в Ирландию в качестве слуги одного важного господина. Этим господином был лорд и пэр и пользовался большой властью в стране. Однажды ему вздумалось наказать меня за какой- то проступок. И вот ирландский пэр осмелился привязать меня, англичанина, к козлам и высечь палками по спине. Запомни, друг Джон, что англичанин — не то, что какой- нибудь ирландец.
Лоб старика нахмурился, и в глазах запылала ненависть. Джон почуял что-то ужасное и отвернулся от больного.
— Само собой разумеется, что после этой истории мой господин прогнал меня, — продолжал Гавиа, с трудом переводя дыхание. — Первой моей мыслью было тут же заколоть могущественного пэра, но потом я раздумал. В то время положение людей менялось часто и быстро. И всемогущий пэр попал в немилость, и над ним был назначен суд. Меня вызвали свидетелем, и на основании того, что было сказано мной, моего бывшего господина и его брата обвинили в государственной измене и казнили. Нечего, я думаю, упоминать, что мои наговоры и клятвы были очень далеки от правды, это тебе, должно быть, хорошо известно и без того.
Джон стоял неподвижно, точно мраморное изваяние, олицетворяющее собой беспредельный ужас.
Не переставал греметь гром, сверкала непрерывно молния, но ни Джон, ни больной не обращали внимания на грозу. Открытие гнусного преступления заставило молодого человека содрогнуться; на старика же, наоборот, эти ужасные воспоминания подействовали подкрепляющим образом.
— Я совершил это преступление только из мести, — продолжал старик, — без всякого вознаграждения, но один из родственников казненного предложил мне еще больше отомстить моему врагу — и я согласился. Родственник был беден как церковная мышь и с вожделением мечтал об имуществе казненного, которое никак не мог получить ввиду того, что у моего бывшего господина остались жена и ребенок. Тогда я за большую сумму денег подал родственнику благой совет: нужно было, чтобы вдову казненного пэра и ее сына нашли в один прекрасный день мертвыми.
— Изверг! — не выдержал Джон, и холодная дрожь пронизала его тело.
— Нет, Джон, я не убил их, — поспешил успокоить Гавиа, — я был слишком хитер и знал, что смогу лучше воспользоваться обстоятельствами, если оставлю их в живых. Я был знаком с расположением комнат и порядками старого замка и потому для меня не представляло большого труда похитить фамильные бумаги и увезти из замка вдову пэра и ее сына, которому был тогда всего один год. Я не виноват, что вдова вскоре умерла от страха и лишений. Для меня ее смерть была даже несчастьем, так как помешала моим расчетам, чтобы получить от сына ту выгоду, которую я потерял вследствие смерти его матери, и я оставил мальчика при себе.
Джон затаил дыхание, крупные капли пота покрыли его лоб.
— Продолжайте! — беззвучно прошептал он.
— Затем я приехал с мальчиком сюда, — рассказывал больной, — но он оказался непокорным и часто мешал мне в моих планах. Тем не менее я был для него как родной отец: я воспитал его, научил ремеслу, которое может прокормить человека, и теперь оставлю ему в наследство свое имущество и имущество его родителей. Как видишь, этот мальчик — ты!
Хотя Джон сразу понял, чем закончит свою речь ненавистный старик, но не хотел верить этому до последней минуты. Страшный крик вырвался из его груди, перекрыв раскаты грома. Джон бросился к извергу, который был убийцей его родителей, в течение долгих лет тиранил его и даже теперь, на смертном одре, издевался над ним! Не помня себя от гнева, молодой человек схватил больного за горло.
Несмотря на слабость, Гавиа пытался сопротивляться.
— Ты меня хо… чешь… за… душить! — хрипел он, — Твое и… мя…
Джон ничего не слышал. Он все сильнее и сильнее сдавливал горло старика.
— Твое имя… — силился проговорить умирающий, — твое и… мя… там… тем… на… я… шка… ту… лоч… ка… бума… ги…
Джон ничего не сознавал. Вдруг тело старика судорожно забилось с такой силой, что руки молодого человека невольно разжались. Умирающий собрал последние силы, широко открыл рот и прохрипел:
— Те… перь ты то… же пре… ступ… ник!
Бешенство Джона перешло в ужас. Новый пронзительный крик его огласил комнату. А на дворе все так же гремел гром, сверкающие молнии озаряли убогую хижину, потоки дождя струились по окну. Джон стоял неподвижно, не сводя испуганных глаз с лица Гавиа, находившегося в агонии. Если бы не насилие, старик мог бы просуществовать еще несколько часов. Таким образом, Джон чувствовал себя действительно преступником.


 Джон все еще продолжал стоять недвижно, с диким отчаянием всматриваясь в давно скончавшегося бандита, которого он так недавно называл своим отцом.
«Я убил его! — с отчаянием подумал он. — Я преступник! Но если этим я и повредил кому, так больше всего самому себе: я так и не узнал фамилии моей семьи!… — Джон еще раз взглянул на умершего и вспомнил: — Но он говорил о каком-то ящике! Шкатулка! Она должна быть спрятана у него под подушкой!»
Джон машинально сделал несколько шагов по направлению к мертвому, но потом снова остановился в ужасе. Однако желая придать себе храбрости, он прикрикнул сам на себя:
— Он заслужил того, чтобы умереть от моей руки. Он получил то, что ему причиталось…
Джон решительно шагнул к убогому ложу и сунул руку под подушку, с которой на него словно с угрозой смотрело неподвижное, мертвенно-бледное лицо скончавшегося старика.
Джон не ошибся в своих расчетах, и вытащил маленькую шкатулку из старого, потемневшего дуба. Эта шкатулка была так тяжела, что чуть не выскочила из рук, но Джон крепко ухватил ее и торопливо поднес к столу, где горела коптящая лампа.
Шкатулка была заперта, и Джон снова обернулся к умершему. Он знал, что старик носил ключ от шкатулки на шее, но ему было противно прикасаться к телу старика, и, взяв шкатулку обеими руками, он с силой ударил ею об угол стола.
Замок отскочил, и на землю попадало много бумаг и денежных свертков. Некоторые свертки лопнули, и по полу покатились сверкающие золотые монеты.
Джон не обратил никакого внимания на деньги. Он бережно подобрал все бумаги, расправил их и поднес к свету, пытаясь прочесть. Но содержание бумаг не принесло ему ничего приятного.
Глаза Джона затуманились и с тупой неподвижностью уставились в пространство, руки дрожали. Из его груди вырвался протяжный, полный отчаяния стон. Затем он повернулся, и по его лицу можно было видеть, что не убей он раньше старого негодяя, он неминуемо сделал бы это теперь.
— Еще и это! — хриплым голосом пробормотал молодой человек. — А негодяй все знал…
Он мельком проглядел все остальные бумаги, но ни одна не остановила его внимания, и с выражением дикой решимости он подошел к стене, где висело всевозможное оружие, выбрал нож, торчавший в ножнах, прикрепленных к кожаному поясу. Надев этот пояс и прихватив шляпу, Джон торопливо вышел из комнаты и тем же путем отправился к оставленной на берегу залива лодке.
Добравшись до лодки, Джон на минуту остановился в раздумье, глядя на воды, все еще кипевшие ключом. Но дорога, огибавшая залив, была слишком долгой. Поэтому он вскочил в лодку, наполовину заполненную водой, но не стал вычерпывать ее, а прямо пустился по бушевавшим волнам.
Джон мощными руками держал весла и с силой греб; лодка плясала на седых гребнях валов, но упрямо направлялась не к гавани Белфаста, а к деревне Бельмонт.
У подошвы утеса, где стояла церковь, Джон причалил и выскочил на берег.
Весь вид молодого человека выражал холодную, спокойную решимость. Не прибавляя шага, он спокойно направился к порталу маленькой церкви. Она оказалась незапертой, и молодой человек вошел в нее.
Еще на паперти ему повстречался католический священник, собравшийся уходить.
— Ах, Джо, это ты? — сказал священник. — Да благословит тебя Господь!
Джон глубоко поклонился патеру, как привык это делать с давних пор, и тихо сказал:
— Я страстно хочу облегчить свое сердце и получить отпущение грехов. Не соблаговолите ли вы исповедать меня, достопочтенный отец?
Священник бросил пытливый взгляд на молодого человека и повернул в церковь. Там он поднялся по ступеням алтаря и встал за престолом.
Джон опустился на каменные ступени алтаря.
— Говори, сын мой, — сказал священник, — что угнетает твою душу?
— Достопочтенный отец, — начал Джон слегка вздрагивающим голосом, — я совершил преступление, но я был вне себя и совершил постыдное деяние в состоянии сильного гнева. Когда я вернулся сегодня с залива домой, то застал человека, которого до сих пор считал своим отцом, при смерти. Он сообщил мне, что он мне не отец и что из мести погубил моих родителей. Он стал вдобавок издеваться надо мной, и я пришел в такую ярость, что удавил его, умиравшего!
— Ты самым глупым образом дал гневу увлечь себя, сын мой. Но если ты сказал правду, то этот приступ бешенства легко объяснить, и твое преступление не принадлежит к числу тех, которые не прощаются ни на земле, ни на небесах. Раскаиваешься ли ты, по крайней мере, в своем поступке?
— Да, раскаиваюсь. К тому же он был совершенно бесполезен, и я прошу вас наложить на меня епитимью и отпустить мне грехи. Но я собираюсь совершить еще и другое преступление.
Священник, казавшийся до сих пор кротким, вдруг выпрямился, в его глазах засветилась угроза.
— Несчастный! — загремел он, и его мощный, глубокий голос отдавался под сводом храма многократным эхом. — И с такими намерениями ты осмеливаешься приближаться к святилищу? Ты осмеливаешься переступать порог церкви, держа при себе оружие, заготовленное для мерзкого преступления?
Джон задрожал всем телом, словно в лихорадке, но его решение оставалось непоколебимым.
— Человек, которого до сих пор я называл своим отцом, — запинаясь, сказал он, — был только оружием в руках других людей, которые замыслили погубить мой род и ввергнуть меня в пучину бедствий. Эти люди, и в особенности один из них, отняли у меня имя, положение и состояние. Главный злодей мой должен умереть!
— Ты не вправе убивать! — возразил священник. — Мирское правосудие даст тебе требуемое удовлетворение и вознаградит тебя за все перенесенное. Обратись к нему!
— Это совершенно бесполезно! Этот человек стоит слишком высоко, а у меня не хватит доказательств для полного торжества… Он должен умереть!
— Значит, ты не хочешь отказаться от своих намерений?
— Нет!
— В таком случае, — повысил голос священник, — церковь отталкивает тебя, как отщепенца, и пусть поразит тебя ее проклятие так же, как после твоей кончины поразит тебя осуждение на муку вечную!
Священник отвернулся, спустился с алтаря и пошел из церкви.
Некоторое время Джон недвижно пролежал на полу, а когда поднялся, его глаза, блуждая, искали священника, наконец он вскочил, словно безумный, и стремглав бросился вон из церкви.
Джон все еще продолжал стоять недвижно, с диким отчаянием всматриваясь в давно скончавшегося бандита, которого он так недавно называл своим отцом.
«Я убил его! — с отчаянием подумал он. — Я преступник! Но если этим я и повредил кому, так больше всего самому себе: я так и не узнал фамилии моей семьи!… — Джон еще раз взглянул на умершего и вспомнил: — Но он говорил о каком-то ящике! Шкатулка! Она должна быть спрятана у него под подушкой!»
Джон машинально сделал несколько шагов по направлению к мертвому, но потом снова остановился в ужасе. Однако желая придать себе храбрости, он прикрикнул сам на себя:
— Он заслужил того, чтобы умереть от моей руки. Он получил то, что ему причиталось…
Джон решительно шагнул к убогому ложу и сунул руку под подушку, с которой на него словно с угрозой смотрело неподвижное, мертвенно-бледное лицо скончавшегося старика.
Джон не ошибся в своих расчетах, и вытащил маленькую шкатулку из старого, потемневшего дуба. Эта шкатулка была так тяжела, что чуть не выскочила из рук, но Джон крепко ухватил ее и торопливо поднес к столу, где горела коптящая лампа.
Шкатулка была заперта, и Джон снова обернулся к умершему. Он знал, что старик носил ключ от шкатулки на шее, но ему было противно прикасаться к телу старика, и, взяв шкатулку обеими руками, он с силой ударил ею об угол стола.
Замок отскочил, и на землю попадало много бумаг и денежных свертков. Некоторые свертки лопнули, и по полу покатились сверкающие золотые монеты.
Джон не обратил никакого внимания на деньги. Он бережно подобрал все бумаги, расправил их и поднес к свету, пытаясь прочесть. Но содержание бумаг не принесло ему ничего приятного.
Глаза Джона затуманились и с тупой неподвижностью уставились в пространство, руки дрожали. Из его груди вырвался протяжный, полный отчаяния стон. Затем он повернулся, и по его лицу можно было видеть, что не убей он раньше старого негодяя, он неминуемо сделал бы это теперь.
— Еще и это! — хриплым голосом пробормотал молодой человек. — А негодяй все знал…
Он мельком проглядел все остальные бумаги, но ни одна не остановила его внимания, и с выражением дикой решимости он подошел к стене, где висело всевозможное оружие, выбрал нож, торчавший в ножнах, прикрепленных к кожаному поясу. Надев этот пояс и прихватив шляпу, Джон торопливо вышел из комнаты и тем же путем отправился к оставленной на берегу залива лодке.
Добравшись до лодки, Джон на минуту остановился в раздумье, глядя на воды, все еще кипевшие ключом. Но дорога, огибавшая залив, была слишком долгой. Поэтому он вскочил в лодку, наполовину заполненную водой, но не стал вычерпывать ее, а прямо пустился по бушевавшим волнам.
Джон мощными руками держал весла и с силой греб; лодка плясала на седых гребнях валов, но упрямо направлялась не к гавани Белфаста, а к деревне Бельмонт.
У подошвы утеса, где стояла церковь, Джон причалил и выскочил на берег.
Весь вид молодого человека выражал холодную, спокойную решимость. Не прибавляя шага, он спокойно направился к порталу маленькой церкви. Она оказалась незапертой, и молодой человек вошел в нее.
Еще на паперти ему повстречался католический священник, собравшийся уходить.
— Ах, Джо, это ты? — сказал священник. — Да благословит тебя Господь!
Джон глубоко поклонился патеру, как привык это делать с давних пор, и тихо сказал:
— Я страстно хочу облегчить свое сердце и получить отпущение грехов. Не соблаговолите ли вы исповедать меня, достопочтенный отец?
Священник бросил пытливый взгляд на молодого человека и повернул в церковь. Там он поднялся по ступеням алтаря и встал за престолом.
Джон опустился на каменные ступени алтаря.
— Говори, сын мой, — сказал священник, — что угнетает твою душу?
— Достопочтенный отец, — начал Джон слегка вздрагивающим голосом, — я совершил преступление, но я был вне себя и совершил постыдное деяние в состоянии сильного гнева. Когда я вернулся сегодня с залива домой, то застал человека, которого до сих пор считал своим отцом, при смерти. Он сообщил мне, что он мне не отец и что из мести погубил моих родителей. Он стал вдобавок издеваться надо мной, и я пришел в такую ярость, что удавил его, умиравшего!
— Ты самым глупым образом дал гневу увлечь себя, сын мой. Но если ты сказал правду, то этот приступ бешенства легко объяснить, и твое преступление не принадлежит к числу тех, которые не прощаются ни на земле, ни на небесах. Раскаиваешься ли ты, по крайней мере, в своем поступке?
— Да, раскаиваюсь. К тому же он был совершенно бесполезен, и я прошу вас наложить на меня епитимью и отпустить мне грехи. Но я собираюсь совершить еще и другое преступление.
Священник, казавшийся до сих пор кротким, вдруг выпрямился, в его глазах засветилась угроза.
— Несчастный! — загремел он, и его мощный, глубокий голос отдавался под сводом храма многократным эхом. — И с такими намерениями ты осмеливаешься приближаться к святилищу? Ты осмеливаешься переступать порог церкви, держа при себе оружие, заготовленное для мерзкого преступления?
Джон задрожал всем телом, словно в лихорадке, но его решение оставалось непоколебимым.
— Человек, которого до сих пор я называл своим отцом, — запинаясь, сказал он, — был только оружием в руках других людей, которые замыслили погубить мой род и ввергнуть меня в пучину бедствий. Эти люди, и в особенности один из них, отняли у меня имя, положение и состояние. Главный злодей мой должен умереть!
— Ты не вправе убивать! — возразил священник. — Мирское правосудие даст тебе требуемое удовлетворение и вознаградит тебя за все перенесенное. Обратись к нему!
— Это совершенно бесполезно! Этот человек стоит слишком высоко, а у меня не хватит доказательств для полного торжества… Он должен умереть!
— Значит, ты не хочешь отказаться от своих намерений?
— Нет!
— В таком случае, — повысил голос священник, — церковь отталкивает тебя, как отщепенца, и пусть поразит тебя ее проклятие так же, как после твоей кончины поразит тебя осуждение на муку вечную!
Священник отвернулся, спустился с алтаря и пошел из церкви.
Некоторое время Джон недвижно пролежал на полу, а когда поднялся, его глаза, блуждая, искали священника, наконец он вскочил, словно безумный, и стремглав бросился вон из церкви.


 Главное имение лорда Бэллинэгема было расположено в двух часах пути от реки Ларгана и, несмотря на огромную задолженность владельца, имело еще очень внушительный вид.
Господский дом был в два этажа с верандой и двумя балконами, по обеим сторонам дома расположены обширные постройки, а за ними находилась жалкая деревушка; вдали, слева от парка, окружавшего поместье, на самой равнине виднелось несколько хижин. Когда-то Бэллинэгемы были очень богаты и вели свой род от королей. Но расточительная жизнь теперешнего главы рода, которому в этом помогала и его супруга, привела их к большим долгам, и вся семья зависела всецело от милости кредиторов.
Лорд Лурган прекрасно знал это, но его все же тянуло в семью Бэллинэгемов. Центром притяжения была прекрасная Вероника, овладевшая его сердцем. Он давно заинтересовался ею, и лишь богатство Спитты побудило его домогаться руки Эстер. Но теперь, после всей истории с неудачным бракосочетанием с ней, он решил вернуться к предмету своей любви, утешая себя тем, что Вероника может стать прекрасной представительницей его дома, а он, войдя в эту семью, сумеет поправить ее состояние и будет играть в ней роль избавителя из затруднительного положения.
После грозовой ночи настало дивное утро. В имении рано началось движение слуг, которые занялись исполнением своих обязанностей. По этой суете сразу можно было заметить, что в замке ожидали гостей.
За суетой слуг во дворе наблюдал, отдавая приказания, высокий, статный, красивый молодой человек.
— Бастиан! — раздался вдруг из дома голос, оторвавший молодого человека от занятий.
— Что угодно, ваша милость? — воскликнул он и поспешил к дому и через несколько минут уже стоял перед владельцем имения, главой семьи Бэллинэгем.
Лорд был высоким, худым человеком, почти лысым, причем уцелевшие волосы были совершенно седыми.
— Все ли готово к охоте? — спросил он.
— Все. Вам, милорд, стоит только приказать, и можно будет начать в любой момент. Вы, конечно, позволите взять арендаторов для загона?
— Арендаторов? Ну конечно! Так, в десять часов мы выезжаем из дома. Сходи сейчас же к леди и узнай, как она изволила почивать.
Лорд отвернулся. Бастиан же глубоко склонился перед ним и с двусмысленной усмешкой вышел из комнаты.
Молодой человек был управляющим имением, первым слугой дома, но в то же время являлся фактотумом всех членов семьи.
Согласно полученному приказанию Бастиан отправился к супруге своего господина.
Когда-то леди, может быть, и была красивой, но теперь она отличалась такими внушительными размерами, что о красоте не могло быть и речи. Из-за своей полноты она вынуждена была больше сидеть, так как единственная часть тела, которой она еще владела совершенно свободно, был язык.
Разговор ее с управляющим опять-таки вертелся вокруг гостей, охоты и наконец коснулся лошади, на которой должна была ехать леди Бэллинэгем. Она засыпала Бастиана вопросами, и лишь его многократные уверения в полнейшей незлобивости и миролюбии выбранного для нее животного успокоили ее.
Поклонившись, Бастиан отправился к сыну лорда Бэллинэгема. Родриго, как звали этого отпрыска старинного рода, был молодым человеком двадцати двух лет. Это был грубый, совершенно невежественный, гордый до глупости и властный дурак. К нему Бастиан подошел с выражениями несравненно большего почтения, чем к отцу.
Не обращая внимания на льстивый поклон управляющего, Родриго спросил:
— Бембо вернулся?
— Да! Он исполнил возложенное на него поручение.
— Ты будешь сопровождать меня сегодня вечером. Ты составил себе какой-нибудь план относительно этой девчонки?
— Да, я только что получил разрешение использовать арендаторов для загона, таким образом все взрослые мужчины будут удалены из дома, и вам станет очень легко увезти девушку так, что на первых порах никто даже и не догадается, куда она делась. Для этого я уже нашел двух дельных парней.
— Это хорошо!
Когда разговор с Родриго был кончен, Бастиан направился к его сестре и попросил доложить о себе. Его немедленно пустили.
Мы уже знаем, как звали дочь хозяина дома.
Вероника была настоящей красавицей; если Родриго и приходил в ярость от неминуемой бедности, к которой быстро шла семья, то Веронику это окончательно изводило и заставляло постоянно проливать слезы. Этим и объяснялись ее бледность, худоба и скорбные складки рта и лба.
Она приняла управляющего несравненно ласковее, чем все остальные члены семьи, и ответила на его приветствие.
Бастиан приблизился к ней и передал ей письмо.
Вероника быстро схватила письмо, знаком приказала Бастиану удалиться, и когда тот ушел, вскрыла конверт и вполголоса прочла следующее:
«Дорогая моя, жизнь моя! Не жди меня! Я не имею возможности воспользоваться предстоящей охотой, чтобы повидать тебя после столь долгой разлуки. Мои средства не позволяют принять участие в охоте, и я нахожусь в таком положении, что даже не имею возможности показаться днем на улице. Придумай другой способ осуществить наше свидание. Я охотно отправляюсь пешком в одно из владений твоего отца, так как сгораю желанием увидеться с тобой. Навеки твой Персон».
Вероника глубоко вздохнула и поникла головой. Письмо выпало из рук, и несколько слезинок украдкой скатились по ее щекам. Трудно было сказать, что происходило в ее душе. Но во всяком случае слезы свидетельствовали о том, что она небезразлично относилась к судьбе человека, написавшего ей это письмо.
Девушка долго сидела в таком положении, пока в замок не стали съезжаться гости. Хозяин принимал их всех на веранде, а в восемь часов пригласил в столовую к завтраку.
Главное имение лорда Бэллинэгема было расположено в двух часах пути от реки Ларгана и, несмотря на огромную задолженность владельца, имело еще очень внушительный вид.
Господский дом был в два этажа с верандой и двумя балконами, по обеим сторонам дома расположены обширные постройки, а за ними находилась жалкая деревушка; вдали, слева от парка, окружавшего поместье, на самой равнине виднелось несколько хижин. Когда-то Бэллинэгемы были очень богаты и вели свой род от королей. Но расточительная жизнь теперешнего главы рода, которому в этом помогала и его супруга, привела их к большим долгам, и вся семья зависела всецело от милости кредиторов.
Лорд Лурган прекрасно знал это, но его все же тянуло в семью Бэллинэгемов. Центром притяжения была прекрасная Вероника, овладевшая его сердцем. Он давно заинтересовался ею, и лишь богатство Спитты побудило его домогаться руки Эстер. Но теперь, после всей истории с неудачным бракосочетанием с ней, он решил вернуться к предмету своей любви, утешая себя тем, что Вероника может стать прекрасной представительницей его дома, а он, войдя в эту семью, сумеет поправить ее состояние и будет играть в ней роль избавителя из затруднительного положения.
После грозовой ночи настало дивное утро. В имении рано началось движение слуг, которые занялись исполнением своих обязанностей. По этой суете сразу можно было заметить, что в замке ожидали гостей.
За суетой слуг во дворе наблюдал, отдавая приказания, высокий, статный, красивый молодой человек.
— Бастиан! — раздался вдруг из дома голос, оторвавший молодого человека от занятий.
— Что угодно, ваша милость? — воскликнул он и поспешил к дому и через несколько минут уже стоял перед владельцем имения, главой семьи Бэллинэгем.
Лорд был высоким, худым человеком, почти лысым, причем уцелевшие волосы были совершенно седыми.
— Все ли готово к охоте? — спросил он.
— Все. Вам, милорд, стоит только приказать, и можно будет начать в любой момент. Вы, конечно, позволите взять арендаторов для загона?
— Арендаторов? Ну конечно! Так, в десять часов мы выезжаем из дома. Сходи сейчас же к леди и узнай, как она изволила почивать.
Лорд отвернулся. Бастиан же глубоко склонился перед ним и с двусмысленной усмешкой вышел из комнаты.
Молодой человек был управляющим имением, первым слугой дома, но в то же время являлся фактотумом всех членов семьи.
Согласно полученному приказанию Бастиан отправился к супруге своего господина.
Когда-то леди, может быть, и была красивой, но теперь она отличалась такими внушительными размерами, что о красоте не могло быть и речи. Из-за своей полноты она вынуждена была больше сидеть, так как единственная часть тела, которой она еще владела совершенно свободно, был язык.
Разговор ее с управляющим опять-таки вертелся вокруг гостей, охоты и наконец коснулся лошади, на которой должна была ехать леди Бэллинэгем. Она засыпала Бастиана вопросами, и лишь его многократные уверения в полнейшей незлобивости и миролюбии выбранного для нее животного успокоили ее.
Поклонившись, Бастиан отправился к сыну лорда Бэллинэгема. Родриго, как звали этого отпрыска старинного рода, был молодым человеком двадцати двух лет. Это был грубый, совершенно невежественный, гордый до глупости и властный дурак. К нему Бастиан подошел с выражениями несравненно большего почтения, чем к отцу.
Не обращая внимания на льстивый поклон управляющего, Родриго спросил:
— Бембо вернулся?
— Да! Он исполнил возложенное на него поручение.
— Ты будешь сопровождать меня сегодня вечером. Ты составил себе какой-нибудь план относительно этой девчонки?
— Да, я только что получил разрешение использовать арендаторов для загона, таким образом все взрослые мужчины будут удалены из дома, и вам станет очень легко увезти девушку так, что на первых порах никто даже и не догадается, куда она делась. Для этого я уже нашел двух дельных парней.
— Это хорошо!
Когда разговор с Родриго был кончен, Бастиан направился к его сестре и попросил доложить о себе. Его немедленно пустили.
Мы уже знаем, как звали дочь хозяина дома.
Вероника была настоящей красавицей; если Родриго и приходил в ярость от неминуемой бедности, к которой быстро шла семья, то Веронику это окончательно изводило и заставляло постоянно проливать слезы. Этим и объяснялись ее бледность, худоба и скорбные складки рта и лба.
Она приняла управляющего несравненно ласковее, чем все остальные члены семьи, и ответила на его приветствие.
Бастиан приблизился к ней и передал ей письмо.
Вероника быстро схватила письмо, знаком приказала Бастиану удалиться, и когда тот ушел, вскрыла конверт и вполголоса прочла следующее:
«Дорогая моя, жизнь моя! Не жди меня! Я не имею возможности воспользоваться предстоящей охотой, чтобы повидать тебя после столь долгой разлуки. Мои средства не позволяют принять участие в охоте, и я нахожусь в таком положении, что даже не имею возможности показаться днем на улице. Придумай другой способ осуществить наше свидание. Я охотно отправляюсь пешком в одно из владений твоего отца, так как сгораю желанием увидеться с тобой. Навеки твой Персон».
Вероника глубоко вздохнула и поникла головой. Письмо выпало из рук, и несколько слезинок украдкой скатились по ее щекам. Трудно было сказать, что происходило в ее душе. Но во всяком случае слезы свидетельствовали о том, что она небезразлично относилась к судьбе человека, написавшего ей это письмо.
Девушка долго сидела в таком положении, пока в замок не стали съезжаться гости. Хозяин принимал их всех на веранде, а в восемь часов пригласил в столовую к завтраку.


 Родриго и его спутник держали путь на юго-запад в продолжение нескольких часов. Они приблизились к одному из хуторов, принадлежавших Бэллинэгему. Навстречу к ним вышел старик.
— Ну, Кинно, — крикнул Родриго, — все в порядке?
— Все! — ответил старик с дьявольской усмешкой.
Родриго и Бастиан сошли с коней, старик отвел их в свой дом.
— Останься здесь! — сказал Родриго своему спутнику, когда они очутились в передней.
Бастиан остался, а Родриго вошел в следующую комнату и едва успел закрыть за собой дверь, как Бастиан услышал слабый крик женщины. Бастиан прислушался и насмешливо улыбнулся. Крик повторился несколько раз, и Бастиану показался как будто знакомым. Через некоторое время он услышал, как за дверью борются. Он вскочил было с места, но так как его не звали, то он снова сел на лавку.
Прошло с полчаса, наконец дверь распахнулась, и оттуда вышел Родриго.
Молодой человек был бледен и возбужден, мутными глазами обвел он Бастиана и вошедшего Кинно.
— Коня мне скорее, Кинно! — приказал Родриго. — А ты, Бастиан, позаботься о той женщине! — И выбежал со стариком из дома.
Управляющий вошел в соседнюю комнату. Там стояла кровать, а на ней лежала девушка, едва прикрытая одеждой.
И вдруг, широко раскрыв глаза, Бастиан крикнул почти нечеловеческим голосом, упал близ постели, схватил руку безжизненной девушки и стал кричать:
— Кэт! Кот! Ты слышишь меня?
Девушка не шевелилась.
— Кэт, очнись!
Девушка оставалась по-прежнему неподвижна.
Бастиан приподнял ее голову.
— Мертва! — произнес он беззвучно. — Она мертва!
Бастиан стал бледен как смерть и как будто лишился сознания.
В таком состоянии застал его Кинно, сам ужаснувшись такой картине.
— Черт возьми, Бастиан, что это? — спросил он.
Это — дело рук Бембо, — зарычал управляющий, выходя из оцепенения. — Это сделал негодяй Бембо, а ты помог ему!
Бастиан вскочил и бросился на Кинно, пытаясь схватить его за горло.
Старик не ожидал такого нападения и стал отбиваться от напавшего, спрашивая дрожащим голосом:
— Что случилось? Что случилось?
Но Бастиан едва ли слышал вопросы Кинно, не помня себя от прилива горькой злобы, он изо всех сил ударил старика по голове.
Удар тяжелого кулака был меткий, голова Кинно повисла, и кровь хлынула у него изо рта и носа. Но Бастиан продолжал наносить удары, пока не заметил, что его жертва лежит неподвижно.
Тогда он, дико озираясь, отошел от старика и после некоторого размышления положил руку девушки на грудь и произнес клятву мести. Слов нельзя было расслышать, но, очевидно, клятва была ужасна, так как гневный взор Бастиана метал искры.
Наконец Бастиан оторвался от своей Кэт, некогда, очевидно, любимой им больше всего на свете, вышел поспешными шагами из дома и направился к конюшне, куда поставили его лошадь. Вскочив в седло, он поскакал по направлению к замку, однако, доехав до него, повернул к деревне, предварительно бросив беглый взгляд во двор замка.
Перед одной из хижин Бастиан остановил свою лошадь и спрыгнул с седла. В дверях показался мужчина большого роста, телосложением похожий на слона.
— Бембо! — сказал Бастиан, бросив поводья подскочившему подростку. — Мне надо с тобой поговорить!
Бембо оскалил зубы и устремил на посетителя испытующий взгляд. Самообладание Бастиана не выдавало его волнения. Бембо позвал его в свое жилище и усадил напротив себя.
— Скажи, Бембо, — спросил управляющий, — все ли господа покинули замок?
— Не все… но большая часть.
— А давно ли сэр Родриго вернулся обратно?
— Нет, недавно… он казался чем-то недовольным.
Бастиан вздохнул.
— Вероятно, ты сегодня вечером будешь снова сопровождать лорда Родриго? — с живостью спросил великан, когда гость придвинулся к нему ближе.
— Я готов просить, чтобы ты заменил меня на этот раз, — ответил тот.
Весьма охотно, если лорд изволит приказать! — подхватил Бембо.
— Так отправляйся впереди него, да прямо в преисподнюю! — внезапно крикнул Бастиан.
Бембо издал вопль, откинулся назад и с бульканьем в горле скатился со стула на пол, так как Бастиан троекратно вонзил ему в грудь свой нож.
— Один готов, — пробормотал мститель, — теперь посмотрим, хватит ли у того негодяя мужества спасти честь своей возлюбленной.
Вилль был связан по приказанию Бастиана, когда его привезли в поместье, да вдобавок его привязали еще к столбу сарая, служившего для хранения горючих материалов.
В этом дощатом здании без окон стало уже темно, когда Бастиан отворил дверь, вошел и снова запер ее за собой.
Если вид Бастиана вообще мог в данных обстоятельствах возмутить кровь, то теперешнее выражение его лица должно было удвоить это волнение. Бастиан дышал злобой, Вилль вполне сознательно принял это на свой счет.
— Мошенник… будь я свободен! — пробормотал он, стиснув зубы.
— Вот так ты говоришь, ладно! — с расстановкой произнес Бастиан. — Таким ты мне нравишься, любезный. О, мы с тобой столкуемся!
Вилль не обратил особого внимания на эти слова, которые звучали для него насмешкой, отчего его глаза запылали еще большей ненавистью.
— Прежде всего успокойся, мой друг! — продолжал Бастиан. И перестань видеть во мне врага. Я пришел сейчас к тебе скорее в качестве друга, по крайней мере, в качестве союзника и предлагаю тебе свободу и возможность отомстить… на известных условиях, конечно!
Вилль насторожился. Дикая злоба уступила место недоверчивой пытливости.
— Ты даешь мне свободу? — с удивлением спросил он. — Ты называешь меня своим другом?
Бастиан присел на деревянную колоду.
— Давай потолкуем разумно! — с расстановкой сказал он. — Ты — невольник, я — тоже, свободны здесь только владельцы этой земли. Но между тем мы, невольники, составляем большинство и могли бы сами играть роль господ. Давай попробуем сделать это с тобой вдвоем.
— И я это слышу от тебя? — воскликнул удивленный Билль, заподозрив западню в речах управляющего.
— Ты услышишь от меня еще не то! — с возрастающим жаром подхватил Бастиан. — Я верно служил моим господам, не задумываясь над тем, хороши или дурны были мои поступки. Но вот понадобилось мне найти заместителя, когда я вздумал покинуть моих хозяев, и этим заместителем я избрал Бембо. Он меня ненавидел и воспользовался первым поручением, которое исполнял для распутного Родриго, чтобы нанести мне чувствительный удар. Он отдал в объятия лорда любимую мною девушку. Еще несколько часов назад я сам охранял это чудовище — Родриго, — не подозревая, что ему в жертву была выдана моя Кэт.
Вилль даже вскрикнул, подумав об Анне, о том, что и она не ограждена от похотливых посягательств этого гнусного человека.
— Но, — продолжал, повысив голос, Бастиан, — думаешь, что я оставлю это без расплаты?
— Разумеется, нет! — подхватил Вилль.
Бастиан несколько минут молча смотрел в пространство, после чего встал и принялся отвязывать пленника.
— Так вот, — сказал он, — Бембо поплатился уже за свою подлость, мой нож поразил его в сердце. Но Анна Бруф была уведена во время охоты с той же целью, что и моя Кэт.
Вилль был наконец отвязан.
— Анна! — вскрикнул он. — Анна, говоришь ты?
Анну Бруф отвели в Гора, и сегодня ночью ее посетит наш сэр Родриго. Это не близко отсюда, однако если ты поторопишься, то успеешь вовремя спасти свою невесту!
Вилль прижал руки к глазам, он почти не помнил себя.
— Ах, ты способен только проливать слезы? — сказал с усмешкой Бастиан. — Значит, я в тебе ошибся. Давай, я снова привяжу тебя к столбу, ты будешь отодран плетьми, тогда как Анну…
— Прочь! — крикнул Вилль. — Ты говоришь, что ее отвели в Гора?
— Да, мало того, я сам поеду провожать Родриго, и если ты промахнешься, то я попаду метко. Неужели и теперь ты не веришь, что я перестал быть твоим врагом?
— Верю! — прохрипел Вилль. — Спасибо тебе!
— Ну, так не мешкай… Пройди осторожно парком!… Мы еще свидимся.
Вилль выскользнул из сарая и в несколько шагов достиг парка никем не замеченный. Пошел по течению ручья и скоро очутился в своей деревне. Твердо решив не отступать ни перед чем, он зашел в сарай при мельнице, взял топор и, осторожно обогнув деревню, благополучно миновал ее. То ползком, то согнувшись вдвое, он осмотрительно подвигался вперед и, лишь оставив далеко за собою деревенские жилища, вскинул топор на плечо и пустился бежать во всю прыть.
За два часа Вилль совершил пешком путь, который обыкновенно требовал вдвое большего времени. Обливаясь потом и хрипя от бега, он наконец приблизился к уединенному двору крестьянской усадьбы.
Из нее вышел мужчина в сопровождении женщины.
— Где она у вас? — спросил их разгоряченный пришелец.
— Кто вам нужен? — грубо спросил хозяин.
— Анна Бруф! — взревел он.
— Вилль! — послышался пронзительный крик из комнаты.
— Пропустите! — крикнул молодой человек.
— Назад! — загремел его противник.
Но Вилль уже взмахнул топором, принесенным с собою. Голос Анны, который он узнал, усилил его бешенство, вдобавок нельзя было терять ни минуты. Топор тяжело обрушился на череп крестьянина, тот с глухим стоном рухнул у порога. Женщина с воплем кинулась опрометью от хижины, и Вилль свободно вошел в комнату.
— Анна! — крикнул он, бросаясь к молодой девушке.
— Вилль! — отозвалась она, рванувшись ему навстречу.
Они заключили друг друга в объятия, но силы оставили Анну, так что Виллю пришлось поддержать ее.
— Поспешим! — поторопил он девушку и потянул к выходу.
Тут до их слуха донесся близкий топот скачущих галопом лошадей; всадники остановились у крыльца, кто-то стал кричать во все горло.
— Слишком поздно! — прошептал Вилль, крепче сжав руками топор.
Его лицо было смертельно бледно, глаза метали молнии, но через минуту он справился с собой. Он не сомневался насчет того, чей приезд вызвал такой переполох, вспомнил и обещание Бастиана.
— Пойдем! — решился Вилль и потащил Анну из комнаты, а потом из дома.
Когда Родриго спрыгивал с седла, Вилль вышел с Анной на крыльцо.
— Черт возьми! — воскликнул Родриго. — Что это значит? Откуда ты взялся?
— Пришел пешком! — закричал Вилль, угрожая топором.
— Ведь этого пса посадили под замок? — крикнул Родриго управляющему.
— Должно быть, он сбежал! — отозвался Бастиан.
Родриго стал судорожно шарить под покрышкой седла. В это время Вилль подступил к нему ближе. Обомлевшая Анна прислонилась к дверному косяку.
— Как ты смеешь? — зарычал лорд.
— Негодяй, разбойник! — крикнул Вилль, замахиваясь для удара.
Однако Родриго опередил его — раздался выстрел. Вилль отшатнулся и через секунду рухнул наземь с глухим стоном. Анна вскрикнула. Гнусный развратник разразился грубым хохотом.
Но грянул второй выстрел, лошадь Родриго отпрянула в сторону и свалила его наземь.
— Бастиан… предатель! — простонал сраженный лорд, катаясь по земле.
Анна упала в обморок. А Бастиан повернул свою лошадь иускакал. Он держал путь к Белфасту, которого и достиг в полночь. Еще издали над городом виднелось багровое зарево пожара и оттуда доносилась ружейная пальба. Бастиан попал прямо в уличную схватку и был подхвачен ею. Вдруг он услышал, что его кто-то позвал по имени. Оглядевшись, он узнал лорда Лургана.
— Хватай его! — крикнул лорд.
Бастиан увидел господина в роскошном костюме, а рядом с ним даму. То были Персон и Вероника.
Бастиан остановился в нерешительности, его уже давно стащили с лошади, вокруг него кричали вооруженные матросы и городская чернь. Бастиан затруднятся, чью сторону взять.
— Ко мне, Бастиан! — раздался голос Персона. — Дело идет о спасении твоей госпожи.
И Бастиан решился наконец последовать этому зову, насколько позволяла давка.
Родриго и его спутник держали путь на юго-запад в продолжение нескольких часов. Они приблизились к одному из хуторов, принадлежавших Бэллинэгему. Навстречу к ним вышел старик.
— Ну, Кинно, — крикнул Родриго, — все в порядке?
— Все! — ответил старик с дьявольской усмешкой.
Родриго и Бастиан сошли с коней, старик отвел их в свой дом.
— Останься здесь! — сказал Родриго своему спутнику, когда они очутились в передней.
Бастиан остался, а Родриго вошел в следующую комнату и едва успел закрыть за собой дверь, как Бастиан услышал слабый крик женщины. Бастиан прислушался и насмешливо улыбнулся. Крик повторился несколько раз, и Бастиану показался как будто знакомым. Через некоторое время он услышал, как за дверью борются. Он вскочил было с места, но так как его не звали, то он снова сел на лавку.
Прошло с полчаса, наконец дверь распахнулась, и оттуда вышел Родриго.
Молодой человек был бледен и возбужден, мутными глазами обвел он Бастиана и вошедшего Кинно.
— Коня мне скорее, Кинно! — приказал Родриго. — А ты, Бастиан, позаботься о той женщине! — И выбежал со стариком из дома.
Управляющий вошел в соседнюю комнату. Там стояла кровать, а на ней лежала девушка, едва прикрытая одеждой.
И вдруг, широко раскрыв глаза, Бастиан крикнул почти нечеловеческим голосом, упал близ постели, схватил руку безжизненной девушки и стал кричать:
— Кэт! Кот! Ты слышишь меня?
Девушка не шевелилась.
— Кэт, очнись!
Девушка оставалась по-прежнему неподвижна.
Бастиан приподнял ее голову.
— Мертва! — произнес он беззвучно. — Она мертва!
Бастиан стал бледен как смерть и как будто лишился сознания.
В таком состоянии застал его Кинно, сам ужаснувшись такой картине.
— Черт возьми, Бастиан, что это? — спросил он.
Это — дело рук Бембо, — зарычал управляющий, выходя из оцепенения. — Это сделал негодяй Бембо, а ты помог ему!
Бастиан вскочил и бросился на Кинно, пытаясь схватить его за горло.
Старик не ожидал такого нападения и стал отбиваться от напавшего, спрашивая дрожащим голосом:
— Что случилось? Что случилось?
Но Бастиан едва ли слышал вопросы Кинно, не помня себя от прилива горькой злобы, он изо всех сил ударил старика по голове.
Удар тяжелого кулака был меткий, голова Кинно повисла, и кровь хлынула у него изо рта и носа. Но Бастиан продолжал наносить удары, пока не заметил, что его жертва лежит неподвижно.
Тогда он, дико озираясь, отошел от старика и после некоторого размышления положил руку девушки на грудь и произнес клятву мести. Слов нельзя было расслышать, но, очевидно, клятва была ужасна, так как гневный взор Бастиана метал искры.
Наконец Бастиан оторвался от своей Кэт, некогда, очевидно, любимой им больше всего на свете, вышел поспешными шагами из дома и направился к конюшне, куда поставили его лошадь. Вскочив в седло, он поскакал по направлению к замку, однако, доехав до него, повернул к деревне, предварительно бросив беглый взгляд во двор замка.
Перед одной из хижин Бастиан остановил свою лошадь и спрыгнул с седла. В дверях показался мужчина большого роста, телосложением похожий на слона.
— Бембо! — сказал Бастиан, бросив поводья подскочившему подростку. — Мне надо с тобой поговорить!
Бембо оскалил зубы и устремил на посетителя испытующий взгляд. Самообладание Бастиана не выдавало его волнения. Бембо позвал его в свое жилище и усадил напротив себя.
— Скажи, Бембо, — спросил управляющий, — все ли господа покинули замок?
— Не все… но большая часть.
— А давно ли сэр Родриго вернулся обратно?
— Нет, недавно… он казался чем-то недовольным.
Бастиан вздохнул.
— Вероятно, ты сегодня вечером будешь снова сопровождать лорда Родриго? — с живостью спросил великан, когда гость придвинулся к нему ближе.
— Я готов просить, чтобы ты заменил меня на этот раз, — ответил тот.
Весьма охотно, если лорд изволит приказать! — подхватил Бембо.
— Так отправляйся впереди него, да прямо в преисподнюю! — внезапно крикнул Бастиан.
Бембо издал вопль, откинулся назад и с бульканьем в горле скатился со стула на пол, так как Бастиан троекратно вонзил ему в грудь свой нож.
— Один готов, — пробормотал мститель, — теперь посмотрим, хватит ли у того негодяя мужества спасти честь своей возлюбленной.
Вилль был связан по приказанию Бастиана, когда его привезли в поместье, да вдобавок его привязали еще к столбу сарая, служившего для хранения горючих материалов.
В этом дощатом здании без окон стало уже темно, когда Бастиан отворил дверь, вошел и снова запер ее за собой.
Если вид Бастиана вообще мог в данных обстоятельствах возмутить кровь, то теперешнее выражение его лица должно было удвоить это волнение. Бастиан дышал злобой, Вилль вполне сознательно принял это на свой счет.
— Мошенник… будь я свободен! — пробормотал он, стиснув зубы.
— Вот так ты говоришь, ладно! — с расстановкой произнес Бастиан. — Таким ты мне нравишься, любезный. О, мы с тобой столкуемся!
Вилль не обратил особого внимания на эти слова, которые звучали для него насмешкой, отчего его глаза запылали еще большей ненавистью.
— Прежде всего успокойся, мой друг! — продолжал Бастиан. И перестань видеть во мне врага. Я пришел сейчас к тебе скорее в качестве друга, по крайней мере, в качестве союзника и предлагаю тебе свободу и возможность отомстить… на известных условиях, конечно!
Вилль насторожился. Дикая злоба уступила место недоверчивой пытливости.
— Ты даешь мне свободу? — с удивлением спросил он. — Ты называешь меня своим другом?
Бастиан присел на деревянную колоду.
— Давай потолкуем разумно! — с расстановкой сказал он. — Ты — невольник, я — тоже, свободны здесь только владельцы этой земли. Но между тем мы, невольники, составляем большинство и могли бы сами играть роль господ. Давай попробуем сделать это с тобой вдвоем.
— И я это слышу от тебя? — воскликнул удивленный Билль, заподозрив западню в речах управляющего.
— Ты услышишь от меня еще не то! — с возрастающим жаром подхватил Бастиан. — Я верно служил моим господам, не задумываясь над тем, хороши или дурны были мои поступки. Но вот понадобилось мне найти заместителя, когда я вздумал покинуть моих хозяев, и этим заместителем я избрал Бембо. Он меня ненавидел и воспользовался первым поручением, которое исполнял для распутного Родриго, чтобы нанести мне чувствительный удар. Он отдал в объятия лорда любимую мною девушку. Еще несколько часов назад я сам охранял это чудовище — Родриго, — не подозревая, что ему в жертву была выдана моя Кэт.
Вилль даже вскрикнул, подумав об Анне, о том, что и она не ограждена от похотливых посягательств этого гнусного человека.
— Но, — продолжал, повысив голос, Бастиан, — думаешь, что я оставлю это без расплаты?
— Разумеется, нет! — подхватил Вилль.
Бастиан несколько минут молча смотрел в пространство, после чего встал и принялся отвязывать пленника.
— Так вот, — сказал он, — Бембо поплатился уже за свою подлость, мой нож поразил его в сердце. Но Анна Бруф была уведена во время охоты с той же целью, что и моя Кэт.
Вилль был наконец отвязан.
— Анна! — вскрикнул он. — Анна, говоришь ты?
Анну Бруф отвели в Гора, и сегодня ночью ее посетит наш сэр Родриго. Это не близко отсюда, однако если ты поторопишься, то успеешь вовремя спасти свою невесту!
Вилль прижал руки к глазам, он почти не помнил себя.
— Ах, ты способен только проливать слезы? — сказал с усмешкой Бастиан. — Значит, я в тебе ошибся. Давай, я снова привяжу тебя к столбу, ты будешь отодран плетьми, тогда как Анну…
— Прочь! — крикнул Вилль. — Ты говоришь, что ее отвели в Гора?
— Да, мало того, я сам поеду провожать Родриго, и если ты промахнешься, то я попаду метко. Неужели и теперь ты не веришь, что я перестал быть твоим врагом?
— Верю! — прохрипел Вилль. — Спасибо тебе!
— Ну, так не мешкай… Пройди осторожно парком!… Мы еще свидимся.
Вилль выскользнул из сарая и в несколько шагов достиг парка никем не замеченный. Пошел по течению ручья и скоро очутился в своей деревне. Твердо решив не отступать ни перед чем, он зашел в сарай при мельнице, взял топор и, осторожно обогнув деревню, благополучно миновал ее. То ползком, то согнувшись вдвое, он осмотрительно подвигался вперед и, лишь оставив далеко за собою деревенские жилища, вскинул топор на плечо и пустился бежать во всю прыть.
За два часа Вилль совершил пешком путь, который обыкновенно требовал вдвое большего времени. Обливаясь потом и хрипя от бега, он наконец приблизился к уединенному двору крестьянской усадьбы.
Из нее вышел мужчина в сопровождении женщины.
— Где она у вас? — спросил их разгоряченный пришелец.
— Кто вам нужен? — грубо спросил хозяин.
— Анна Бруф! — взревел он.
— Вилль! — послышался пронзительный крик из комнаты.
— Пропустите! — крикнул молодой человек.
— Назад! — загремел его противник.
Но Вилль уже взмахнул топором, принесенным с собою. Голос Анны, который он узнал, усилил его бешенство, вдобавок нельзя было терять ни минуты. Топор тяжело обрушился на череп крестьянина, тот с глухим стоном рухнул у порога. Женщина с воплем кинулась опрометью от хижины, и Вилль свободно вошел в комнату.
— Анна! — крикнул он, бросаясь к молодой девушке.
— Вилль! — отозвалась она, рванувшись ему навстречу.
Они заключили друг друга в объятия, но силы оставили Анну, так что Виллю пришлось поддержать ее.
— Поспешим! — поторопил он девушку и потянул к выходу.
Тут до их слуха донесся близкий топот скачущих галопом лошадей; всадники остановились у крыльца, кто-то стал кричать во все горло.
— Слишком поздно! — прошептал Вилль, крепче сжав руками топор.
Его лицо было смертельно бледно, глаза метали молнии, но через минуту он справился с собой. Он не сомневался насчет того, чей приезд вызвал такой переполох, вспомнил и обещание Бастиана.
— Пойдем! — решился Вилль и потащил Анну из комнаты, а потом из дома.
Когда Родриго спрыгивал с седла, Вилль вышел с Анной на крыльцо.
— Черт возьми! — воскликнул Родриго. — Что это значит? Откуда ты взялся?
— Пришел пешком! — закричал Вилль, угрожая топором.
— Ведь этого пса посадили под замок? — крикнул Родриго управляющему.
— Должно быть, он сбежал! — отозвался Бастиан.
Родриго стал судорожно шарить под покрышкой седла. В это время Вилль подступил к нему ближе. Обомлевшая Анна прислонилась к дверному косяку.
— Как ты смеешь? — зарычал лорд.
— Негодяй, разбойник! — крикнул Вилль, замахиваясь для удара.
Однако Родриго опередил его — раздался выстрел. Вилль отшатнулся и через секунду рухнул наземь с глухим стоном. Анна вскрикнула. Гнусный развратник разразился грубым хохотом.
Но грянул второй выстрел, лошадь Родриго отпрянула в сторону и свалила его наземь.
— Бастиан… предатель! — простонал сраженный лорд, катаясь по земле.
Анна упала в обморок. А Бастиан повернул свою лошадь иускакал. Он держал путь к Белфасту, которого и достиг в полночь. Еще издали над городом виднелось багровое зарево пожара и оттуда доносилась ружейная пальба. Бастиан попал прямо в уличную схватку и был подхвачен ею. Вдруг он услышал, что его кто-то позвал по имени. Оглядевшись, он узнал лорда Лургана.
— Хватай его! — крикнул лорд.
Бастиан увидел господина в роскошном костюме, а рядом с ним даму. То были Персон и Вероника.
Бастиан остановился в нерешительности, его уже давно стащили с лошади, вокруг него кричали вооруженные матросы и городская чернь. Бастиан затруднятся, чью сторону взять.
— Ко мне, Бастиан! — раздался голос Персона. — Дело идет о спасении твоей госпожи.
И Бастиан решился наконец последовать этому зову, насколько позволяла давка.


 Население Лондона находилось в большом волнении: в одну неделю скончались две дамы, хорошо известные как самому высшему, так и низшему обществу. Эти дамы были — леди Бэтси Килдар и Маргарита Морус.
К числу лиц, особенно огорченных этой потерей, принадлежала и графиня Гертфорд, бывшая Екатерина Блоуэр, мать Филли и возлюбленная сэра Брая.
В судьбе графини многое изменилось после ее заточения. Друзья и приятельницы отдалились от нее, высшее общество, к которому одно время принадлежала она, не допускало ее больше в свой круг. Только Бэтси Килдар и Маргарита Морус удостаивали графиню Гертфорд своим знакомством, за что та была чрезвычайно благодарна им. Смерть двух благодетельниц страшно поразила Екатерину Блоуэр, и она почувствовала себя совершенно одинокой. Слухи о том, что произошло с Филли, дошли до нее и усилили ее подавленное настроение, к которому примешивался еще и страх, что в один прекрасный день к ней может явиться Брай. Предчувствие не обмануло Екатерину.
Брай, несмотря на отсутствие средств, нашел возможность довольно быстро приехать в Лондон. Прежде всего он позаботился о приличном костюме, а затем отправился к графине Гертфорд. Можно было думать, что Кэт, так долго ждавшая и боявшаяся Брая, успеет подготовиться к свиданию с ним, но это оказалось не так. Когда ей доложили о приходе ее бывшего возлюбленного, она смертельно побледнела, но не решилась отказать ему в приеме.
Кэт ждала самого худшего для себя, тем не менее она встала и сделала несколько шагов навстречу Браю.
— Не беспокойтесь, миледи, оставайтесь на своем месте, резким тоном остановил он ее, — наше последнее свидание слишком памятно для меня, и потому у меня нет никакого желания быть с вами на более близком расстоянии.
Графиня вздрогнула и остановилась как вкопанная в ожидании того, что будет дальше.
— Нечего, я думаю, и говорить, — продолжал Брай, — что только самые важные причины заставили меня явиться сюда. Ведь материнские обязанности по отношению к своему же ребенку вы предоставили мне. И не только не старались облегчить мне этот труд, а напротив изыскивали всевозможные меры для того, чтобы ставить мне препятствия на каждом шагу.
— Я глубоко раскаялась в этом, — ответила Кэт, дрожа всем телом. — Я сознаю, что была неправа. Если бы возможно было вернуть старое…
— Оставим это, — прервал ее Брай, — вы заметили совершенно верно — старое вернуть нельзя! Поговорим о том, что привело меня сегодня к вам. Это дело настолько важное, что можно позабыть обо всем другом. Вы знаете, что случилось с вашей дочерью?
— Одни говорят, что она вышла замуж за графа Лейстера, другие же утверждают, что этого брака никогда не было. Во всяком случае Филли находится в каких-то отношениях с лордом Лейстером! — ответила графиня.
— И это все? — снова спросил Брай.
— Нет, не все, но дальнейшие слухи так маловероятны, что им трудно верить. Говорят, что королева Елизавета приказала произвести расследование об отношениях лорда Дэдлея и Филли, и в связи с этим над графом Лейстером и лордом Сэрреем назначено следствие. Я не понимаю, причем тут лорд Сэррей и с какой целью королева могла бы отдать подобное распоряжение?
Брай внимательно выслушал Кэт и наконец сказал:
— А я прекрасно понимаю, в чем тут дело! Но почему же вы не навели более точных справок? Я думаю, что при вашем знакомстве это нетрудно было сделать.
— Нет, с того злополучного случая я стала отверженной, — возразила Кэт.
— Вы наказаны по заслугам, — заметил Брай. — Но оставим прошлое! Скажите лучше, можете ли вы ответить мне совершенно искренне и честно на мой вопрос?
— О да, спрашивайте! — согласилась графиня.
— Любите ли вы свою дочь как настоящая мать? Можете ли вы принять участие в ее судьбе и в состоянии ли что-нибудь сделать для ее блага?
— Если бы вы знали, сколько мне пришлось пережить и перестрадать из-за моего ребенка, вы избавили бы меня от этого вопроса! — ответила Кэт. — Я готова всем пожертвовать для Филли, но думаю, что при нынешнем моем положении она не нуждается в моей помощи.
— Вы ошибаетесь! Ваша дочь очень нуждается в помощи и защите!… Знайте же: она действительно обвенчана с графом Лейстером, у меня имеется в руках доказательство этого. Но, по-видимому, у графа Лейстера имеются серьезные причины для того, чтобы отрицать свой брак, а при характере графа подобное обстоятельство может грозить большой опасностью для Филли. Ввиду этого нам необходимо защитить ее и прежде всего, конечно, отыскать ее.
— А вы не знаете, где она? — спросила Кэт.
— Я знаю, что Лейстер спрятал ее где-то, но где именно, я не могу определенно сказать. Может быть, вы могли бы разузнать это?
— Каким образом?
— Поезжайте к лорду Лейстеру, назовите себя и потребуйте свидания с дочерью. Я не думаю, чтобы при существующих обстоятельствах он уклонился от исполнения вашего требования. Во всяком случае постарайтесь выведать у него, где находится ваша дочь. Это главное, что мне нужно.
Графиня была очень встревожена и испугана советом Брая.
— Это очень тяжелая задача! — произнесла она наконец.
— Тем не менее она должна быть исполнена! — решительно заявил Брай.
Хорошо, я попробую!
— Но это необходимо сделать сегодня же, сию минуту! — настаивал Брай. — Вы поезжайте, а я подожду вас здесь. Только ни слова о том, что я в Лондоне и что вы вообще знаете что-нибудь обо мне. Если же у вас явится желание предать меня, то берегитесь, Кэт Блоуэр!… Подумайте о своем будущем!
Графиня поспешила одеться и направилась во дворец графа Лейстера.
Брай подождал, пока Кэт уйдет из дома, и скрылся. Хотя он был почти уверен, что графиня не выдаст его, тем не менее он был слишком осторожен для того, чтобы вполне положиться на ее слово. Он решил издали следить за тем, что произойдет дальше.
Население Лондона находилось в большом волнении: в одну неделю скончались две дамы, хорошо известные как самому высшему, так и низшему обществу. Эти дамы были — леди Бэтси Килдар и Маргарита Морус.
К числу лиц, особенно огорченных этой потерей, принадлежала и графиня Гертфорд, бывшая Екатерина Блоуэр, мать Филли и возлюбленная сэра Брая.
В судьбе графини многое изменилось после ее заточения. Друзья и приятельницы отдалились от нее, высшее общество, к которому одно время принадлежала она, не допускало ее больше в свой круг. Только Бэтси Килдар и Маргарита Морус удостаивали графиню Гертфорд своим знакомством, за что та была чрезвычайно благодарна им. Смерть двух благодетельниц страшно поразила Екатерину Блоуэр, и она почувствовала себя совершенно одинокой. Слухи о том, что произошло с Филли, дошли до нее и усилили ее подавленное настроение, к которому примешивался еще и страх, что в один прекрасный день к ней может явиться Брай. Предчувствие не обмануло Екатерину.
Брай, несмотря на отсутствие средств, нашел возможность довольно быстро приехать в Лондон. Прежде всего он позаботился о приличном костюме, а затем отправился к графине Гертфорд. Можно было думать, что Кэт, так долго ждавшая и боявшаяся Брая, успеет подготовиться к свиданию с ним, но это оказалось не так. Когда ей доложили о приходе ее бывшего возлюбленного, она смертельно побледнела, но не решилась отказать ему в приеме.
Кэт ждала самого худшего для себя, тем не менее она встала и сделала несколько шагов навстречу Браю.
— Не беспокойтесь, миледи, оставайтесь на своем месте, резким тоном остановил он ее, — наше последнее свидание слишком памятно для меня, и потому у меня нет никакого желания быть с вами на более близком расстоянии.
Графиня вздрогнула и остановилась как вкопанная в ожидании того, что будет дальше.
— Нечего, я думаю, и говорить, — продолжал Брай, — что только самые важные причины заставили меня явиться сюда. Ведь материнские обязанности по отношению к своему же ребенку вы предоставили мне. И не только не старались облегчить мне этот труд, а напротив изыскивали всевозможные меры для того, чтобы ставить мне препятствия на каждом шагу.
— Я глубоко раскаялась в этом, — ответила Кэт, дрожа всем телом. — Я сознаю, что была неправа. Если бы возможно было вернуть старое…
— Оставим это, — прервал ее Брай, — вы заметили совершенно верно — старое вернуть нельзя! Поговорим о том, что привело меня сегодня к вам. Это дело настолько важное, что можно позабыть обо всем другом. Вы знаете, что случилось с вашей дочерью?
— Одни говорят, что она вышла замуж за графа Лейстера, другие же утверждают, что этого брака никогда не было. Во всяком случае Филли находится в каких-то отношениях с лордом Лейстером! — ответила графиня.
— И это все? — снова спросил Брай.
— Нет, не все, но дальнейшие слухи так маловероятны, что им трудно верить. Говорят, что королева Елизавета приказала произвести расследование об отношениях лорда Дэдлея и Филли, и в связи с этим над графом Лейстером и лордом Сэрреем назначено следствие. Я не понимаю, причем тут лорд Сэррей и с какой целью королева могла бы отдать подобное распоряжение?
Брай внимательно выслушал Кэт и наконец сказал:
— А я прекрасно понимаю, в чем тут дело! Но почему же вы не навели более точных справок? Я думаю, что при вашем знакомстве это нетрудно было сделать.
— Нет, с того злополучного случая я стала отверженной, — возразила Кэт.
— Вы наказаны по заслугам, — заметил Брай. — Но оставим прошлое! Скажите лучше, можете ли вы ответить мне совершенно искренне и честно на мой вопрос?
— О да, спрашивайте! — согласилась графиня.
— Любите ли вы свою дочь как настоящая мать? Можете ли вы принять участие в ее судьбе и в состоянии ли что-нибудь сделать для ее блага?
— Если бы вы знали, сколько мне пришлось пережить и перестрадать из-за моего ребенка, вы избавили бы меня от этого вопроса! — ответила Кэт. — Я готова всем пожертвовать для Филли, но думаю, что при нынешнем моем положении она не нуждается в моей помощи.
— Вы ошибаетесь! Ваша дочь очень нуждается в помощи и защите!… Знайте же: она действительно обвенчана с графом Лейстером, у меня имеется в руках доказательство этого. Но, по-видимому, у графа Лейстера имеются серьезные причины для того, чтобы отрицать свой брак, а при характере графа подобное обстоятельство может грозить большой опасностью для Филли. Ввиду этого нам необходимо защитить ее и прежде всего, конечно, отыскать ее.
— А вы не знаете, где она? — спросила Кэт.
— Я знаю, что Лейстер спрятал ее где-то, но где именно, я не могу определенно сказать. Может быть, вы могли бы разузнать это?
— Каким образом?
— Поезжайте к лорду Лейстеру, назовите себя и потребуйте свидания с дочерью. Я не думаю, чтобы при существующих обстоятельствах он уклонился от исполнения вашего требования. Во всяком случае постарайтесь выведать у него, где находится ваша дочь. Это главное, что мне нужно.
Графиня была очень встревожена и испугана советом Брая.
— Это очень тяжелая задача! — произнесла она наконец.
— Тем не менее она должна быть исполнена! — решительно заявил Брай.
Хорошо, я попробую!
— Но это необходимо сделать сегодня же, сию минуту! — настаивал Брай. — Вы поезжайте, а я подожду вас здесь. Только ни слова о том, что я в Лондоне и что вы вообще знаете что-нибудь обо мне. Если же у вас явится желание предать меня, то берегитесь, Кэт Блоуэр!… Подумайте о своем будущем!
Графиня поспешила одеться и направилась во дворец графа Лейстера.
Брай подождал, пока Кэт уйдет из дома, и скрылся. Хотя он был почти уверен, что графиня не выдаст его, тем не менее он был слишком осторожен для того, чтобы вполне положиться на ее слово. Он решил издали следить за тем, что произойдет дальше.


 Как уже было сказано раньше, графиня Гертфорд не имела никакого желания встречаться со своим мужем. Тем не менее ей не удалось избежать свидания с ним.
На другой день по отъезде из Ратгоф-Кастла, к вечеру Кэт и ее спутника застала в дороге сильнейшая непогода. Вблизи не было никакого жилья, где можно было бы укрыться.
Брай, прекрасно знавший эту местность, вдруг вспомнил, что невдалеке располагалось поместье тех Дугласов, которые приютили у себя лорда Бэклея.
— Нам придется просить гостеприимства у Дугласов, — обратился он к графине, — хотя должен предупредить вас, что если Бэклей не умер, то мы наверное увидим его там.
— Неужели нет никакого другого места?
— К сожалению, нет! — ответил Брай.
— В таком случае нечего делать! — с глубоким вздохом согласилась графиня.
С трудом борясь с ветром, они добрались до замка Дугласа и попросили разрешения войти в дом.
Дуглас вышел в зал, чтобы встретить гостей, и был поражен, увидев Вальтера Брая.
— Я, кажется, знаком с вами, сэр, — сказал он. — Милости просим, господа!
Леди Гертфорд молча поклонилась.
— Мы очень благодарны вам, милорд, — проговорил Брай. — Конечно, вы знаете меня, мое имя — Вальтер Брай. Мне уже приходилось раньше просить вашего гостеприимства.
— Да, я вспомнил, — ответил Дуглас, протягивая руку Вальтеру, — пожалуйте, мой дом к вашим услугам.
Хозяин замка позвал слуг, которые провели гостей в отведенные для них комнаты.
— Когда немного отдохнете от дороги, прошу вас пожаловать сюда и поужинать вместе с нами! — радушно пригласил приезжих Дуглас.
Вероятно, Брай умышленно не назвал имя своей спутницы.
Когда путешественники привели в порядок свои туалеты, они спустились в гостиную, где уже собрались все члены семьи Дугласа, а также и муж Кэт, лорд Бэклей.
Очевидно, хозяин дома сообщил фамилию гостя, так как старый грешник, греясь у камина, с насмешливым любопытством поглядывал на дверь. Гости вошли, и Дуглас с семьей поднялись им навстречу.
Вдруг раздался громкий дикий вопль. Лорд Бэклей вскочил с кресла, и безграничный ужас выразился на его лице.
— Привидение, спасите! — вскрикнул он и, как сноп, повалился на землю.
Это произвело большой переполох в семье Дугласа. Все бросились приводить в чувство Бэклея, но ничего не помогло, так как это был не обморок, а удар.
— Я не думал, что он так боится вас, — обратился Дуглас к Вальтеру.
— Не я напугал его, а вот эта дама, — уточнил Вальтер.
— Вы видите перед собой графиню Гертфорд, супругу лорда Бэклея.
— Вам не следовало так поступать, — заметил Дуглас, наморщив лоб, — можно было потребовать объяснений от больного, не прибегая к таким мерам.
— Мы и не желали вступать с ним в объяснения, — ответил Брай, — наоборот, графиня ни за что не хотела видеть своего мужа. Очевидно, его убила нечистая совесть.
— Пожалуй, это верно, — пробормотал Дуглас. — Унесите отсюда покойника, — приказал он слугам. — Мы во всяком случае освободились от тяжелой обузы.
Леди Гертфорд оставалась холодно-равнодушной во время всей сцены, и это, казалось, никого не удивило.
Разговор за ужином не клеился, все рано разошлись по своим комнатам.
Ради приличия графиня Гертфорд осталась в замке до дня похорон мужа, но, как только предали земле тело человека, сделавшего так много зла Кэт и Вальтеру Браю, путешественники двинулись дальше по берегу озера Лохлевин, где они надеялись найти свою дочь.
Как уже было сказано раньше, графиня Гертфорд не имела никакого желания встречаться со своим мужем. Тем не менее ей не удалось избежать свидания с ним.
На другой день по отъезде из Ратгоф-Кастла, к вечеру Кэт и ее спутника застала в дороге сильнейшая непогода. Вблизи не было никакого жилья, где можно было бы укрыться.
Брай, прекрасно знавший эту местность, вдруг вспомнил, что невдалеке располагалось поместье тех Дугласов, которые приютили у себя лорда Бэклея.
— Нам придется просить гостеприимства у Дугласов, — обратился он к графине, — хотя должен предупредить вас, что если Бэклей не умер, то мы наверное увидим его там.
— Неужели нет никакого другого места?
— К сожалению, нет! — ответил Брай.
— В таком случае нечего делать! — с глубоким вздохом согласилась графиня.
С трудом борясь с ветром, они добрались до замка Дугласа и попросили разрешения войти в дом.
Дуглас вышел в зал, чтобы встретить гостей, и был поражен, увидев Вальтера Брая.
— Я, кажется, знаком с вами, сэр, — сказал он. — Милости просим, господа!
Леди Гертфорд молча поклонилась.
— Мы очень благодарны вам, милорд, — проговорил Брай. — Конечно, вы знаете меня, мое имя — Вальтер Брай. Мне уже приходилось раньше просить вашего гостеприимства.
— Да, я вспомнил, — ответил Дуглас, протягивая руку Вальтеру, — пожалуйте, мой дом к вашим услугам.
Хозяин замка позвал слуг, которые провели гостей в отведенные для них комнаты.
— Когда немного отдохнете от дороги, прошу вас пожаловать сюда и поужинать вместе с нами! — радушно пригласил приезжих Дуглас.
Вероятно, Брай умышленно не назвал имя своей спутницы.
Когда путешественники привели в порядок свои туалеты, они спустились в гостиную, где уже собрались все члены семьи Дугласа, а также и муж Кэт, лорд Бэклей.
Очевидно, хозяин дома сообщил фамилию гостя, так как старый грешник, греясь у камина, с насмешливым любопытством поглядывал на дверь. Гости вошли, и Дуглас с семьей поднялись им навстречу.
Вдруг раздался громкий дикий вопль. Лорд Бэклей вскочил с кресла, и безграничный ужас выразился на его лице.
— Привидение, спасите! — вскрикнул он и, как сноп, повалился на землю.
Это произвело большой переполох в семье Дугласа. Все бросились приводить в чувство Бэклея, но ничего не помогло, так как это был не обморок, а удар.
— Я не думал, что он так боится вас, — обратился Дуглас к Вальтеру.
— Не я напугал его, а вот эта дама, — уточнил Вальтер.
— Вы видите перед собой графиню Гертфорд, супругу лорда Бэклея.
— Вам не следовало так поступать, — заметил Дуглас, наморщив лоб, — можно было потребовать объяснений от больного, не прибегая к таким мерам.
— Мы и не желали вступать с ним в объяснения, — ответил Брай, — наоборот, графиня ни за что не хотела видеть своего мужа. Очевидно, его убила нечистая совесть.
— Пожалуй, это верно, — пробормотал Дуглас. — Унесите отсюда покойника, — приказал он слугам. — Мы во всяком случае освободились от тяжелой обузы.
Леди Гертфорд оставалась холодно-равнодушной во время всей сцены, и это, казалось, никого не удивило.
Разговор за ужином не клеился, все рано разошлись по своим комнатам.
Ради приличия графиня Гертфорд осталась в замке до дня похорон мужа, но, как только предали земле тело человека, сделавшего так много зла Кэт и Вальтеру Браю, путешественники двинулись дальше по берегу озера Лохлевин, где они надеялись найти свою дочь.


 В период царствования королевы Елизаветы главнейшую в государстве роль играли Бэрлей и Лейстер, но невольно бросается в глаза, что лорд Сесил Бэрлей был настолько же великим государственным человеком, насколько Дэдлей — ничтожным. Но именно это-то соотношение и обусловливало собою прочность положения каждого из них. Если бы Бэрлей захотел, то он мог бы в любой момент устроить грандиозное падение фаворита королевы. Но если бы Лейстер пал, то Елизавета могла бы направить свои симпатии на другого, который оказался бы, может быть, далеко не таким ничтожным, как Дэдлей, и стал бы оспаривать влияние и власть первого министра. Возможно, что тогда Елизавета даже склонилась бы к мысли о замужестве. Поэтому Бэрлею было выгоднее, чтобы около королевы находился льстивый и любезный, но совершенно ему не опасный Лейстер.
Когда Бэрлей получил первые донесения Вальтера Ралейга, сообщавшего о мерах, принятых им для расследования тайн, связанных с браком графа Лейстера, то он принял их более, чем хладнокровно. Он спокойно продолжал заниматься текущими делами и только покончив с ними, крикнул дежурного курьера и приказал ему немедленно отправиться к лорду Лейстеру, чтобы пригласить его для разговора о весьма важном деле.
Курьер прибыл к Лейстеру в такой ранний час, когда тот по привычке еще почивал, но инстинктивно почувствовал, что дело неладно, поэтому поспешил к премьер-министру.
Бэрлей имел привычку вести все свои дела с абсолютным спокойствием, поэтому не упустил ни одной из формальных тонкостей церемонии приема и только потом приступил к беседе.
— Милорд! — сухим голосом начал он. — Я получил рапорт сэра Вальтера Ралейга, тем не менее считаю нужным сначала поговорить с вами, прежде чем представлю этот рапорт на благоусмотрение ее величества.
Лейстер изменился в лице, но попытался казаться совершенно равнодушным.
— Это очень любезно с вашей стороны, милорд, — ответил он. — Надеюсь, что рапорт сэра Ралейга вполне подтвердил мои показания?
— Нет, этого я не могу сказать, наоборот, из рапорта совершенно ясно видно, что ваш Кинггон является еще гораздо более отъявленным негодяем, чем, быть может, даже вы это предполагаете, и это обстоятельство кажется единственным, которое говорит в вашу пользу.
Неожиданность подобного оборота дел вызвала Лейстера на страшную неосторожность.
— Неужели Кингтон выдал меня — спросил он.
— Прежде — да, — ответил Бэрлей. — Но теперь он выдал с головой только самого себя. Однако будьте любезны лично просмотреть все бумаги, а потом мы уже поговорим с вами.
Бэрлей занялся другим делом, а Лейстер погрузился в чтение поданных ему министром бумаг.
— Дело приняло такой оборот, которого я никак не ожидал! — сказал он наконец.
Бэрлей встал с кресла и, подойдя к нему, произнес:
— Это — естественное следствие доверия, оказываемого преступникам, милорд! Теперь будет очень трудно отвратить дурные последствия происшедшего.
— Да, да, конечно! Но я вижу, что вы полны участия ко мне и готовы оказать мне свою помощь…
— В этом вы, пожалуй, правы. Тем не менее, я руководствуюсь желанием избавить ее величество королеву от лишнего и очень глубокого огорчения… Таким образом, если я и готов помочь вам, то только ради нее…
— Ах, я отлично понимаю вас!… Разумеется, я даже и не смею рассчитывать на такую снисходительность, потому что слишком провинился перед ней… Но, несмотря на все это, поверьте мне, милорд, что если кто обманут во всем этом деле, так только я один!
— Я только что сказал то же самое, милорд.
— Так, значит сэр Брай овладел документом и бежал! — произнес Лейстер. — О, это — очень опасный человек. Для меня он опаснее даже лорда Сэррея!… Быть может, он уже в Лондоне? Или только направляется сюда?
— Возможно, если он имеет основание предполагать, что особа, которой он настойчиво интересуется, находится здесь.
— Так, так… Должно быть, это так, потому что и ее мать несколько дней тому назад явилась ко мне и потребовала у меня свидания с дочерью… Я разрешил…
Бэрлей улыбнулся и произнес:
— Станем с самого начала на правильную точку зрения. Раз мы говорим об этой даме, то для меня и вас она теперь должна быть совершенно посторонней личностью…
— Ну да… Я понимаю вас, милорд… Но не следовало ли нам арестовать графиню Гертфорд и сэра Брая? Быть может, они спелись теперь друг с другом?
— Это очень возможно! Но ваше предложение совершенно неприемлемо. В настоящее время нам остается только предоставить события их естественному ходу. Подождите, пока прибудут арестованные, тогда и видно будет, что нам предпринять. Да и вообще, пока сэр Ралейг вернется, у нас много времени, а мало ли что еще может случиться за это время? Пока вы будете следить за тем, чтобы никто из замешанных в это дело не мог пробраться к ее величеству королеве, и в этом будет состоять ваша специальная задача. Нужно позаботиться, чтобы к ней не проникло ни какое-либо известие, ни какое-либо лицо. Ну, а сделать это вам легче, чем кому бы то ни было!
— Это правда, — пробормотал Лейстер. — Милорд, примите уверения в моей неизменной готовности быть всегда к вашим услугам!
— Я рассчитываю на это, — холодно ответил Бэрлей.
С этим они расстались.
В период царствования королевы Елизаветы главнейшую в государстве роль играли Бэрлей и Лейстер, но невольно бросается в глаза, что лорд Сесил Бэрлей был настолько же великим государственным человеком, насколько Дэдлей — ничтожным. Но именно это-то соотношение и обусловливало собою прочность положения каждого из них. Если бы Бэрлей захотел, то он мог бы в любой момент устроить грандиозное падение фаворита королевы. Но если бы Лейстер пал, то Елизавета могла бы направить свои симпатии на другого, который оказался бы, может быть, далеко не таким ничтожным, как Дэдлей, и стал бы оспаривать влияние и власть первого министра. Возможно, что тогда Елизавета даже склонилась бы к мысли о замужестве. Поэтому Бэрлею было выгоднее, чтобы около королевы находился льстивый и любезный, но совершенно ему не опасный Лейстер.
Когда Бэрлей получил первые донесения Вальтера Ралейга, сообщавшего о мерах, принятых им для расследования тайн, связанных с браком графа Лейстера, то он принял их более, чем хладнокровно. Он спокойно продолжал заниматься текущими делами и только покончив с ними, крикнул дежурного курьера и приказал ему немедленно отправиться к лорду Лейстеру, чтобы пригласить его для разговора о весьма важном деле.
Курьер прибыл к Лейстеру в такой ранний час, когда тот по привычке еще почивал, но инстинктивно почувствовал, что дело неладно, поэтому поспешил к премьер-министру.
Бэрлей имел привычку вести все свои дела с абсолютным спокойствием, поэтому не упустил ни одной из формальных тонкостей церемонии приема и только потом приступил к беседе.
— Милорд! — сухим голосом начал он. — Я получил рапорт сэра Вальтера Ралейга, тем не менее считаю нужным сначала поговорить с вами, прежде чем представлю этот рапорт на благоусмотрение ее величества.
Лейстер изменился в лице, но попытался казаться совершенно равнодушным.
— Это очень любезно с вашей стороны, милорд, — ответил он. — Надеюсь, что рапорт сэра Ралейга вполне подтвердил мои показания?
— Нет, этого я не могу сказать, наоборот, из рапорта совершенно ясно видно, что ваш Кинггон является еще гораздо более отъявленным негодяем, чем, быть может, даже вы это предполагаете, и это обстоятельство кажется единственным, которое говорит в вашу пользу.
Неожиданность подобного оборота дел вызвала Лейстера на страшную неосторожность.
— Неужели Кингтон выдал меня — спросил он.
— Прежде — да, — ответил Бэрлей. — Но теперь он выдал с головой только самого себя. Однако будьте любезны лично просмотреть все бумаги, а потом мы уже поговорим с вами.
Бэрлей занялся другим делом, а Лейстер погрузился в чтение поданных ему министром бумаг.
— Дело приняло такой оборот, которого я никак не ожидал! — сказал он наконец.
Бэрлей встал с кресла и, подойдя к нему, произнес:
— Это — естественное следствие доверия, оказываемого преступникам, милорд! Теперь будет очень трудно отвратить дурные последствия происшедшего.
— Да, да, конечно! Но я вижу, что вы полны участия ко мне и готовы оказать мне свою помощь…
— В этом вы, пожалуй, правы. Тем не менее, я руководствуюсь желанием избавить ее величество королеву от лишнего и очень глубокого огорчения… Таким образом, если я и готов помочь вам, то только ради нее…
— Ах, я отлично понимаю вас!… Разумеется, я даже и не смею рассчитывать на такую снисходительность, потому что слишком провинился перед ней… Но, несмотря на все это, поверьте мне, милорд, что если кто обманут во всем этом деле, так только я один!
— Я только что сказал то же самое, милорд.
— Так, значит сэр Брай овладел документом и бежал! — произнес Лейстер. — О, это — очень опасный человек. Для меня он опаснее даже лорда Сэррея!… Быть может, он уже в Лондоне? Или только направляется сюда?
— Возможно, если он имеет основание предполагать, что особа, которой он настойчиво интересуется, находится здесь.
— Так, так… Должно быть, это так, потому что и ее мать несколько дней тому назад явилась ко мне и потребовала у меня свидания с дочерью… Я разрешил…
Бэрлей улыбнулся и произнес:
— Станем с самого начала на правильную точку зрения. Раз мы говорим об этой даме, то для меня и вас она теперь должна быть совершенно посторонней личностью…
— Ну да… Я понимаю вас, милорд… Но не следовало ли нам арестовать графиню Гертфорд и сэра Брая? Быть может, они спелись теперь друг с другом?
— Это очень возможно! Но ваше предложение совершенно неприемлемо. В настоящее время нам остается только предоставить события их естественному ходу. Подождите, пока прибудут арестованные, тогда и видно будет, что нам предпринять. Да и вообще, пока сэр Ралейг вернется, у нас много времени, а мало ли что еще может случиться за это время? Пока вы будете следить за тем, чтобы никто из замешанных в это дело не мог пробраться к ее величеству королеве, и в этом будет состоять ваша специальная задача. Нужно позаботиться, чтобы к ней не проникло ни какое-либо известие, ни какое-либо лицо. Ну, а сделать это вам легче, чем кому бы то ни было!
— Это правда, — пробормотал Лейстер. — Милорд, примите уверения в моей неизменной готовности быть всегда к вашим услугам!
— Я рассчитываю на это, — холодно ответил Бэрлей.
С этим они расстались.



 Вся жизнь несчастной шотландской королевы Марии Стюарт представляла собой цепь необыкновеннейших приключений, которые нередко встречаются в действительной жизни, Но последняя часть ее жизни, со времени ее вынужденного отказа от престола, превратилась в сплошную драму, и весь ее ужас только подчеркивался той медленностью развития, с которой шел к своему трагическому концу этот один из самых печальных эпизодов истории вообще, и в особенности — хроники царствующих особ и государей.
Мария Стюарт, потерпев поражение в попытке вернуть престол, покинула свою страну и вступила на английскую территорию у Виркингтона в Кумберлэнде; навстречу ей явился губернатор Карлейля, доставивший ее в свой город со всеми приличествующими ее сану почестями.
В то время губернатором Карлейля был лорд Лаутер. Он поспешил послать своей государыне донесение обо всем происшедшем, а пока окружил шотландскую королеву подобающими почестями. Но не успел еще он получить ответ на свое донесение, как к Марии прибыл гонец, вручивший ей письмо от английской королевы, в этом письме Елизавета высказала ей свое участие и дала разрешение оставаться в Англии.
Это было для Марии последним обманчивым сиянием, последним миражом того, будто ее прежний ранг еще вызывал в Европе какое-либо уважение.
Действительно, вскоре лорд Лаутер получил выговор за прием, устроенный Марии, а вслед за этим появились лорд Скруп, начальник западных провинций, и Фрэнсис Кнолисс, вице-канцлер Елизаветы, с инструкциями, касавшимися шотландской королевы, Им было поручено предупредить всех шерифов и мировых судей Кумберлэнда, чтобы они ни в коем случае не допускали бегства Марии, они привезли ей новое письмо Елизаветы, содержание которого в существенных чертах было таким же, как и первое, но с особенным прибавлением словесного поручения.
29 мая 1556 года Скруп и Кноллис были приняты Марией, передали ей письмо своей королевы и прибавили на словах, что Елизавета сожалеет о невозможности принять ее у себя, пока она не оправдается в подозрении, будто принимала участие в убийстве своего супруга.
Мария Стюарт разразилась слезами, в ее сердце зашевелилось подозрение о том, чего ей ожидать здесь в будущем.
— Господи Боже! — сетовала она. — Неужели это — ответ несчастной женщине, которая явилась с просьбой о помощи?
В тот же день прибыл отряд в пятьдесят солдат, которые должны были сторожить королеву; от нее удалили всех дам и слуг; в качестве компаньонки и смотрительницы к ней была приставлена леди Скруп. Мария уже не могла сомневаться, что попала в плен, но, все более убеждаясь в этом, не теряла головы, а наоборот — проникалась мужеством и истинно королевским достоинством, чего не могли отрицать в ней даже ее враги.
Она послала в Лондон лордов Геррьеса и Флеминга, чтобы они постарались там сделать что-нибудь для нее, кроме того, Флеминг должен был отправиться во Францию, чтобы испросить там заступничества и помощи.
А тем временем к английской королеве обратился регент Шотландии, лорд Мюррей, и это обращение дало Елизавете возможность пойти намеченным заранее путем.
После долгого ожидания посланцы Марии получили аудиенцию у английской королевы и передали ей мольбы и пожелания своей повелительницы.
— Я от всего сердца жалею мою царственную сестру, — ответила Елизавета с притворным сочувствием, — но ее честь, так же как и моя, требует строжайшего расследования слухов, касающихся ее поведения.
— Ну а если, ваше величество, — обратился к королеве лорд Геррьес, — обстоятельства — упаси Бог! — сложатся против шотландской королевы?
— Тогда я попытаюсь дать делу правильный ход.
— В таком случае моя повелительница желала бы, чтобы ей дали возможность переправиться на материк Европы, или же в крайнем случае позволили вернуться в Шотландию в том же челноке, в котором она приехала в Англию.
— Я лучше знаю, чего требуют интересы моей царственной кузины, — возразила Елизавета.
Посланцы уехали из Лондона ни с чем.
В это же время начался живой обмен письмами между английским правительством и графом Мюрреем, от которого в конце концов потребовали, чтобы он представил доказательства обвинений, предъявленных им королеве.
Теперь одну за другой стали принимать меры, направленные против Марии Стюарт. 13 июня 1556 года к несчастной королеве прибыл посол Елизаветы, лорд Миюльмор, в сопровождении Скрупа и Кноллиса. Марию ждало новое унижение, так как от нее потребовали, чтобы она подчинилась всем перипетиям правильного судебного процесса. Мария рассердилась и сама написала Елизавете письмо.
Марию стали содержать несравненно хуже, чем в первое время по приезде. Это вызвало протесты французского и испанского посланников; однако Елизавета не приняла их.
Прошло еще два месяца в переговорах, и Мария наконец сдалась. Она согласилась, чтобы ее дело было рассмотрено специальной комиссией, состоявшей из назначенных Елизаветой комиссаров. С этой целью ее перевезли из Карлейля в замок Болтон в графстве Йорк. Тем временем в Шотландии воцарился мир, и Мария снова стала надеяться на благополучный исход.
Комиссия, назначенная Елизаветой, состояла из герцога Норфолка, графа Суссекса и сэра Садлера, канцлера Ланкастера.
В качестве представителей мятежников явились сам Мюррей, граф Монтон, архиепископ Оркнейский, Питкэрн, лорды Линдсей, Макгильд, Голхил, Майтлэнд и Бенанан. Защитниками Марии были епископ Росский, лорды Льюингстон, Бойд, Геррьес, Гамильтон, Гордон Лочинфэр и Яков Коксбэрн.
Прения членов комиссии, которые велись с обеих сторон с одинаковой страстностью и непорядочностью, не имели другого результата, кроме того что Марию Стюарт 26 января 1559 года перевезли из Болтона и Тэтбюри, где она была подвергнута еще более строгому заключению под надзором лорда Шрисбюри. В общем, весь этот процесс превращался в какой-то грандиозный скандал, и Мария уже не могла сомневаться в истинных намерениях Елизаветы, После окончания работы комиссии беспорядки в Шотландии вспыхнули с новой силой.
Леди Скруп, сестра герцога Норфолка, бывшая в течение первого времени компаньонкой и надзирательницей Марии, поддерживала самую оживленную переписку с братом и неоднократно писала ему про красоту и образованность шотландской королевы, Эго заинтересовало герцога, так как он и ранее слышал такие же восторженные отзывы от Сэррея, которого укрывал у себя в первое время после изгнания.
Норфолк был очень честолюбив, владел громадными богатствами и состоял в родстве с первыми родами страны. После своего восшествия на престол Елизавета назначила его членом Тайного совета, и герцог играл блестящую роль в столичном обществе.
Норфолка преследовало странное несчастье в браке. Тридцати двух лет, он уже был в третий раз вдовцом и думал вступить в новый брак, когда Елизавета назначила его председателем комиссии, которой поручено было разобраться в деле Марии Стюарт. Шотландская королева особенно рассчитывала на его помощь, так как знала от его сестры, что герцог весьма участливо относился к ее судьбе. Это побудило Марию обратиться к Норфолку с письмом, и тот, в свою очередь, ответил ей. Эта переписка стала оживленной и регулярной, и у герцога мелькнула мысль просить руки пленной королевы.
Регент Шотландии граф Мюррей отлично видел, какое могло бы создаться положение, если раздуть дело Марии Стюарт в том направлении, в каком желало английское правительство. Однако такого конца он совершенно не хотел, а потому с радостью готов был найти какой-нибудь выход из создавшегося положения, Он не особенно доверял Елизавете и хотел только мира для своего измученного отечества, Мюррей сразу догадался о симпатии герцога Норфолка к Марии и принялся осторожно зондировать почву, чтобы узнать, что можно сделать ему относительно судьбы шотландской королевы.
В этом отношении регента поддерживал секретарь Лэтингтон. Этот человек был соучастником в убийстве Дарнлея, но, будучи более искусным и ловким, чем остальные заговорщики, сумел добыть копии переписки Босвела с Марией. Поэтому его боялся сам регент и старалась подкупить Елизавета.
Норфолк скоро разгадал Лэтингтона и сумел перетянуть его на свою сторону. Посвященный в планы и скрытые намерения Мюррея, Лэтингтон устроил свидание обоих важных для него людей. Разговор между Норфолком и Мюрреем начался с того, что первый пытался представить Шотландию ленным владением Англии, Мюррей же доказал ему, что Шотландия никогда еще не была ничьим леном. Затем Норфолк стал соболезновать о сложившемся положении Марии Стюарт, и Мюррей выказал готовность содействовать улучшению этого положения, если бы для него самого и для Шотландии можно было ожидать какую-нибудь выгоду.
Оба отлично столковались по поводу этого вопроса, и Мюррей, прежний обвинитель Марии, теперь стал выказывать абсолютно пассивное отношение в представлении улик и доказательств обвинения, так что казалось, что Елизавете придется попасть в дурацкое положение.
Но недаром говорил Бэрлей о существовании у Елизаветы каких-то незримых ушей, это пришлось испытать на себе и герцогу Норфолку, Елизавета вызвала его к себе и высказала ему прямо в лицо, что знает о его намерении освободить Марию и жениться на ней.
Из осторожности Норфолку пришлось самыми страшными клятвами отрицать предъявленное ему обвинение. Но Елизавета не поверила. Она перенесла заседание комиссии в Вестминстер и назначила в нее еще новых членов, а именно: Бэкона, Арунделя, Лейстера и секретаря Сесила. Таким образом, Норфолк был связан по рукам и ногам, а Мюррей, убедившись, что Норфолк не может ничего сделать для него, пошел на попятную.
Так Норфолк и Мюррей стали смертельными врагами. Видя, что все пропало, Норфолк решил поднять знамя восстания против своей государыни, стал вербовать приверженцев, и на первых порах это увенчалось успехом, Первыми к нему примкнули графы Арундель и Пемброк, Вестморлэнд, Нортумберленд и лорд Лэмблей Графы Кумберлэнд, Бедфорд, Суссекс, Дэрби и даже Лейстер ответили, что они тоже не прочь поддержать заговорщиков, и это доказывало, насколько Елизавета оттолкнула от себя своим обращением всех пэров государства и какую опасную соперницу она приобрела в лице Марии Стюарт. Нечего и говорить что это еще более раздуло ненависть к ней Елизаветы.
Но если недовольных было так много, что их трудно было счесть, если посланники большинства государств намекали на то, что на их правительства можно вполне рассчитывать, то такая голова, как Бэрлей, стоила всех их вместе взятых.
О том, что против Елизаветы составляется заговор, распространившийся не только в Англии и Шотландии, но и почти по всей Европе, быстро догадались как сама Елизавета, так и Бэрлей. Но в первое время в их руках не было никаких данных, и вот для того, чтобы получить их, Бэрлей учредил свою «Звездную палату». В те времена уже во всех государствах существовала тайная полиция, но не везде она работала так энергично, как эта — в Англии.
По требованию Бэрлея к нему был командирован один из самых смелых и ловких агентов.
— Как вас зовут? — спросил министр.
— Пельдрам.
— Пельдрам? — пробормотал Бэрлей. — Я уже слышал когда-то это имя. Почему вы поступили на службу в «Звездную палату»?
— Мне нужно свести счеты с одним субъектом.
— В данном случае у нас есть дело поважнее. До меня дошли слухи, что затевается заговор, к которому примкнуло много высокопоставленных лиц. Я желаю узнать имена заговорщиков.
— Мы знаем их, милорд!
— Как? — даже вскочил с места Бэрлей. — Вы знаете? Так почему же до сих пор против этих лиц не возбуждено преследование?
— Нам не хватало улик.
— Тогда их надо добыть.
— Вы приказываете, и это будет сделано!
С этими словами наш старый знакомый Пельдрам оставил министра и немедленно отправился исполнять возложенное на него поручение.
Его план добыть улики отличался простотой. Он поскакал в город Линн, где помещался замок Норфолка, явился туда и, вызвав управляющего, заявил, будто до властей дошли слухи, что в замке незаконно томится узник. В тот же момент к замку подскакал еще человек, назвавшийся тоже уполномоченным расследовать дело о незаконном задержании неизвестного узника в замке. Управляющему ничего не оставалось, как допустить их к обыску и тут агентам удалось найти целую кипу компрометирующих Норфолка бумаг. Захватив их, они бешеным галопом понеслись обратно в Лондон. Но и управляющий тоже не зевал, он дал знать заговорщикам о происшедшем, и еще ранее того, как Бэрлей получил улики, заговорщики успели бежать на север.
Восстание все же разразилось, но благодаря тому, что весь план попал в руки властей, его удалось подавить в самом начале. Норфолк и некоторые другие заговорщики были под страхом смертной казни вытребованы на суд Тайного совета и, как только явились в Лондон, были схвачены и немедленно посажены в Тауэр. Только графы Суссекс, и Нортумберленд продолжали активную борьбу с английским правительством. Но эта борьба окончилась для них поражением, им пришлось бежать в Шотландию, где они и были арестованы вместе с многими своими приверженцами.
Таким образом восстание свелось на нет и дало только Елизавете большие выгоды; она не удовольствовалась своей победой, а приказало назначить строгий суд над мятежниками, благодаря чему ей удалось избавиться от многих нежелательных лиц; в одном только Дургэме было казнено более трехсот человек.
Во время этой гражданской войны в Англии продолжалась борьба в Шотландии приверженцев королевы Марии против регента. В этой борьбе погиб самый жестокий враг и преследователь Марии — ее брат Джэмс Стюарт, лорд Мюррей; он был убит 23 января 1570 года лордом Джэмсом Гамильтоном Босвелом.
Смерть регента настолько ослабила партию короля Иакова Шестого, что на некоторое время приверженцы Марии одержали верх.
Но тогда Елизавета приказала своим войскам, стоявшим на северной границе, двинуться в Шотландию, и они выступили на защиту партии Иакова Шестого. Разгорелся короткий, но ожесточенный бой, партия Марии была окончательно разгромлена в стране был заключен мир, а победительницей стала Елизавета.
Вся жизнь несчастной шотландской королевы Марии Стюарт представляла собой цепь необыкновеннейших приключений, которые нередко встречаются в действительной жизни, Но последняя часть ее жизни, со времени ее вынужденного отказа от престола, превратилась в сплошную драму, и весь ее ужас только подчеркивался той медленностью развития, с которой шел к своему трагическому концу этот один из самых печальных эпизодов истории вообще, и в особенности — хроники царствующих особ и государей.
Мария Стюарт, потерпев поражение в попытке вернуть престол, покинула свою страну и вступила на английскую территорию у Виркингтона в Кумберлэнде; навстречу ей явился губернатор Карлейля, доставивший ее в свой город со всеми приличествующими ее сану почестями.
В то время губернатором Карлейля был лорд Лаутер. Он поспешил послать своей государыне донесение обо всем происшедшем, а пока окружил шотландскую королеву подобающими почестями. Но не успел еще он получить ответ на свое донесение, как к Марии прибыл гонец, вручивший ей письмо от английской королевы, в этом письме Елизавета высказала ей свое участие и дала разрешение оставаться в Англии.
Это было для Марии последним обманчивым сиянием, последним миражом того, будто ее прежний ранг еще вызывал в Европе какое-либо уважение.
Действительно, вскоре лорд Лаутер получил выговор за прием, устроенный Марии, а вслед за этим появились лорд Скруп, начальник западных провинций, и Фрэнсис Кнолисс, вице-канцлер Елизаветы, с инструкциями, касавшимися шотландской королевы, Им было поручено предупредить всех шерифов и мировых судей Кумберлэнда, чтобы они ни в коем случае не допускали бегства Марии, они привезли ей новое письмо Елизаветы, содержание которого в существенных чертах было таким же, как и первое, но с особенным прибавлением словесного поручения.
29 мая 1556 года Скруп и Кноллис были приняты Марией, передали ей письмо своей королевы и прибавили на словах, что Елизавета сожалеет о невозможности принять ее у себя, пока она не оправдается в подозрении, будто принимала участие в убийстве своего супруга.
Мария Стюарт разразилась слезами, в ее сердце зашевелилось подозрение о том, чего ей ожидать здесь в будущем.
— Господи Боже! — сетовала она. — Неужели это — ответ несчастной женщине, которая явилась с просьбой о помощи?
В тот же день прибыл отряд в пятьдесят солдат, которые должны были сторожить королеву; от нее удалили всех дам и слуг; в качестве компаньонки и смотрительницы к ней была приставлена леди Скруп. Мария уже не могла сомневаться, что попала в плен, но, все более убеждаясь в этом, не теряла головы, а наоборот — проникалась мужеством и истинно королевским достоинством, чего не могли отрицать в ней даже ее враги.
Она послала в Лондон лордов Геррьеса и Флеминга, чтобы они постарались там сделать что-нибудь для нее, кроме того, Флеминг должен был отправиться во Францию, чтобы испросить там заступничества и помощи.
А тем временем к английской королеве обратился регент Шотландии, лорд Мюррей, и это обращение дало Елизавете возможность пойти намеченным заранее путем.
После долгого ожидания посланцы Марии получили аудиенцию у английской королевы и передали ей мольбы и пожелания своей повелительницы.
— Я от всего сердца жалею мою царственную сестру, — ответила Елизавета с притворным сочувствием, — но ее честь, так же как и моя, требует строжайшего расследования слухов, касающихся ее поведения.
— Ну а если, ваше величество, — обратился к королеве лорд Геррьес, — обстоятельства — упаси Бог! — сложатся против шотландской королевы?
— Тогда я попытаюсь дать делу правильный ход.
— В таком случае моя повелительница желала бы, чтобы ей дали возможность переправиться на материк Европы, или же в крайнем случае позволили вернуться в Шотландию в том же челноке, в котором она приехала в Англию.
— Я лучше знаю, чего требуют интересы моей царственной кузины, — возразила Елизавета.
Посланцы уехали из Лондона ни с чем.
В это же время начался живой обмен письмами между английским правительством и графом Мюрреем, от которого в конце концов потребовали, чтобы он представил доказательства обвинений, предъявленных им королеве.
Теперь одну за другой стали принимать меры, направленные против Марии Стюарт. 13 июня 1556 года к несчастной королеве прибыл посол Елизаветы, лорд Миюльмор, в сопровождении Скрупа и Кноллиса. Марию ждало новое унижение, так как от нее потребовали, чтобы она подчинилась всем перипетиям правильного судебного процесса. Мария рассердилась и сама написала Елизавете письмо.
Марию стали содержать несравненно хуже, чем в первое время по приезде. Это вызвало протесты французского и испанского посланников; однако Елизавета не приняла их.
Прошло еще два месяца в переговорах, и Мария наконец сдалась. Она согласилась, чтобы ее дело было рассмотрено специальной комиссией, состоявшей из назначенных Елизаветой комиссаров. С этой целью ее перевезли из Карлейля в замок Болтон в графстве Йорк. Тем временем в Шотландии воцарился мир, и Мария снова стала надеяться на благополучный исход.
Комиссия, назначенная Елизаветой, состояла из герцога Норфолка, графа Суссекса и сэра Садлера, канцлера Ланкастера.
В качестве представителей мятежников явились сам Мюррей, граф Монтон, архиепископ Оркнейский, Питкэрн, лорды Линдсей, Макгильд, Голхил, Майтлэнд и Бенанан. Защитниками Марии были епископ Росский, лорды Льюингстон, Бойд, Геррьес, Гамильтон, Гордон Лочинфэр и Яков Коксбэрн.
Прения членов комиссии, которые велись с обеих сторон с одинаковой страстностью и непорядочностью, не имели другого результата, кроме того что Марию Стюарт 26 января 1559 года перевезли из Болтона и Тэтбюри, где она была подвергнута еще более строгому заключению под надзором лорда Шрисбюри. В общем, весь этот процесс превращался в какой-то грандиозный скандал, и Мария уже не могла сомневаться в истинных намерениях Елизаветы, После окончания работы комиссии беспорядки в Шотландии вспыхнули с новой силой.
Леди Скруп, сестра герцога Норфолка, бывшая в течение первого времени компаньонкой и надзирательницей Марии, поддерживала самую оживленную переписку с братом и неоднократно писала ему про красоту и образованность шотландской королевы, Эго заинтересовало герцога, так как он и ранее слышал такие же восторженные отзывы от Сэррея, которого укрывал у себя в первое время после изгнания.
Норфолк был очень честолюбив, владел громадными богатствами и состоял в родстве с первыми родами страны. После своего восшествия на престол Елизавета назначила его членом Тайного совета, и герцог играл блестящую роль в столичном обществе.
Норфолка преследовало странное несчастье в браке. Тридцати двух лет, он уже был в третий раз вдовцом и думал вступить в новый брак, когда Елизавета назначила его председателем комиссии, которой поручено было разобраться в деле Марии Стюарт. Шотландская королева особенно рассчитывала на его помощь, так как знала от его сестры, что герцог весьма участливо относился к ее судьбе. Это побудило Марию обратиться к Норфолку с письмом, и тот, в свою очередь, ответил ей. Эта переписка стала оживленной и регулярной, и у герцога мелькнула мысль просить руки пленной королевы.
Регент Шотландии граф Мюррей отлично видел, какое могло бы создаться положение, если раздуть дело Марии Стюарт в том направлении, в каком желало английское правительство. Однако такого конца он совершенно не хотел, а потому с радостью готов был найти какой-нибудь выход из создавшегося положения, Он не особенно доверял Елизавете и хотел только мира для своего измученного отечества, Мюррей сразу догадался о симпатии герцога Норфолка к Марии и принялся осторожно зондировать почву, чтобы узнать, что можно сделать ему относительно судьбы шотландской королевы.
В этом отношении регента поддерживал секретарь Лэтингтон. Этот человек был соучастником в убийстве Дарнлея, но, будучи более искусным и ловким, чем остальные заговорщики, сумел добыть копии переписки Босвела с Марией. Поэтому его боялся сам регент и старалась подкупить Елизавета.
Норфолк скоро разгадал Лэтингтона и сумел перетянуть его на свою сторону. Посвященный в планы и скрытые намерения Мюррея, Лэтингтон устроил свидание обоих важных для него людей. Разговор между Норфолком и Мюрреем начался с того, что первый пытался представить Шотландию ленным владением Англии, Мюррей же доказал ему, что Шотландия никогда еще не была ничьим леном. Затем Норфолк стал соболезновать о сложившемся положении Марии Стюарт, и Мюррей выказал готовность содействовать улучшению этого положения, если бы для него самого и для Шотландии можно было ожидать какую-нибудь выгоду.
Оба отлично столковались по поводу этого вопроса, и Мюррей, прежний обвинитель Марии, теперь стал выказывать абсолютно пассивное отношение в представлении улик и доказательств обвинения, так что казалось, что Елизавете придется попасть в дурацкое положение.
Но недаром говорил Бэрлей о существовании у Елизаветы каких-то незримых ушей, это пришлось испытать на себе и герцогу Норфолку, Елизавета вызвала его к себе и высказала ему прямо в лицо, что знает о его намерении освободить Марию и жениться на ней.
Из осторожности Норфолку пришлось самыми страшными клятвами отрицать предъявленное ему обвинение. Но Елизавета не поверила. Она перенесла заседание комиссии в Вестминстер и назначила в нее еще новых членов, а именно: Бэкона, Арунделя, Лейстера и секретаря Сесила. Таким образом, Норфолк был связан по рукам и ногам, а Мюррей, убедившись, что Норфолк не может ничего сделать для него, пошел на попятную.
Так Норфолк и Мюррей стали смертельными врагами. Видя, что все пропало, Норфолк решил поднять знамя восстания против своей государыни, стал вербовать приверженцев, и на первых порах это увенчалось успехом, Первыми к нему примкнули графы Арундель и Пемброк, Вестморлэнд, Нортумберленд и лорд Лэмблей Графы Кумберлэнд, Бедфорд, Суссекс, Дэрби и даже Лейстер ответили, что они тоже не прочь поддержать заговорщиков, и это доказывало, насколько Елизавета оттолкнула от себя своим обращением всех пэров государства и какую опасную соперницу она приобрела в лице Марии Стюарт. Нечего и говорить что это еще более раздуло ненависть к ней Елизаветы.
Но если недовольных было так много, что их трудно было счесть, если посланники большинства государств намекали на то, что на их правительства можно вполне рассчитывать, то такая голова, как Бэрлей, стоила всех их вместе взятых.
О том, что против Елизаветы составляется заговор, распространившийся не только в Англии и Шотландии, но и почти по всей Европе, быстро догадались как сама Елизавета, так и Бэрлей. Но в первое время в их руках не было никаких данных, и вот для того, чтобы получить их, Бэрлей учредил свою «Звездную палату». В те времена уже во всех государствах существовала тайная полиция, но не везде она работала так энергично, как эта — в Англии.
По требованию Бэрлея к нему был командирован один из самых смелых и ловких агентов.
— Как вас зовут? — спросил министр.
— Пельдрам.
— Пельдрам? — пробормотал Бэрлей. — Я уже слышал когда-то это имя. Почему вы поступили на службу в «Звездную палату»?
— Мне нужно свести счеты с одним субъектом.
— В данном случае у нас есть дело поважнее. До меня дошли слухи, что затевается заговор, к которому примкнуло много высокопоставленных лиц. Я желаю узнать имена заговорщиков.
— Мы знаем их, милорд!
— Как? — даже вскочил с места Бэрлей. — Вы знаете? Так почему же до сих пор против этих лиц не возбуждено преследование?
— Нам не хватало улик.
— Тогда их надо добыть.
— Вы приказываете, и это будет сделано!
С этими словами наш старый знакомый Пельдрам оставил министра и немедленно отправился исполнять возложенное на него поручение.
Его план добыть улики отличался простотой. Он поскакал в город Линн, где помещался замок Норфолка, явился туда и, вызвав управляющего, заявил, будто до властей дошли слухи, что в замке незаконно томится узник. В тот же момент к замку подскакал еще человек, назвавшийся тоже уполномоченным расследовать дело о незаконном задержании неизвестного узника в замке. Управляющему ничего не оставалось, как допустить их к обыску и тут агентам удалось найти целую кипу компрометирующих Норфолка бумаг. Захватив их, они бешеным галопом понеслись обратно в Лондон. Но и управляющий тоже не зевал, он дал знать заговорщикам о происшедшем, и еще ранее того, как Бэрлей получил улики, заговорщики успели бежать на север.
Восстание все же разразилось, но благодаря тому, что весь план попал в руки властей, его удалось подавить в самом начале. Норфолк и некоторые другие заговорщики были под страхом смертной казни вытребованы на суд Тайного совета и, как только явились в Лондон, были схвачены и немедленно посажены в Тауэр. Только графы Суссекс, и Нортумберленд продолжали активную борьбу с английским правительством. Но эта борьба окончилась для них поражением, им пришлось бежать в Шотландию, где они и были арестованы вместе с многими своими приверженцами.
Таким образом восстание свелось на нет и дало только Елизавете большие выгоды; она не удовольствовалась своей победой, а приказало назначить строгий суд над мятежниками, благодаря чему ей удалось избавиться от многих нежелательных лиц; в одном только Дургэме было казнено более трехсот человек.
Во время этой гражданской войны в Англии продолжалась борьба в Шотландии приверженцев королевы Марии против регента. В этой борьбе погиб самый жестокий враг и преследователь Марии — ее брат Джэмс Стюарт, лорд Мюррей; он был убит 23 января 1570 года лордом Джэмсом Гамильтоном Босвелом.
Смерть регента настолько ослабила партию короля Иакова Шестого, что на некоторое время приверженцы Марии одержали верх.
Но тогда Елизавета приказала своим войскам, стоявшим на северной границе, двинуться в Шотландию, и они выступили на защиту партии Иакова Шестого. Разгорелся короткий, но ожесточенный бой, партия Марии была окончательно разгромлена в стране был заключен мир, а победительницей стала Елизавета.


 В 1570 году Марию Стюарт перевезли из Тэтбюри в Чэтсуорт в графстве Дэрби.
В это время в Лондоне разразилась чума, которая проникла также и в Тауэр, где томился в заключении Норфолк. Он и Мария ухитрялись и из тюрьмы продолжать начатую еще ранее переписку. Когда Мария Стюарт увидела, что Франция отказалась помогать ей, то она обратилась с просьбой о помощи к Филиппу Второму Испанскому, и Норфолк знал об этом.
Но об этой переписке знала и Елизавета, Она приказала из-за чумы выпустить Норфолка из Тауэра, но сослала его в замок Линн, где он должен был жить безвыездно под надзором двух агентов «Звездной палаты». Перед отъездом из Лондона он вынужден был обещать, что не станет впредь поддерживать с Марией Стюарт никаких отношений, он поклялся в этом своим честным словом и дал подписку с приложением своей печати, но в душе был полон твердого намерения нарушить обещание.
В один из пасмурных мартовских дней четверо всадников переезжали границу графства Дэрби, направляясь к Чэтсуорту. Они не торопились, хотя дождь и лил как из ведра.
По внешнему виду этих всадников можно было принять за купцов или торговцев, которые в то время постоянно колесили с дорожным мешком за спиной по всей Англии. Но в эти одежды вырядились Сэррей, Брай, Филли и Джонстон.
С тех пор, как Филли убедилась в подлости Лейстера, в ней произошел громадный внутренний перелом. Как когда- то прежде она была готова на все из-за любви к Лейстеру, так теперь из благодарности к Сэррею и Браю способна была пожертвовать чем угодно. Ведь она знала, какую жертву принесли ей они и сумела оценить ее.
Сэррей, отправившийся после изгнания в Шотландию, нашел случай примириться с Георгом Сэйтоном и получил от него разрешение посвататься к Джэн. Теперь же, вопреки запрещению королевы Елизаветы, он опять возвращался в Англию, чтобы попытаться сделать все, что в его силах, для шотландской королевы и — в случае возможности — также для своего родственника герцога Норфолка.
Что касается Брая, то у него было много оснований, чтобы последовать за Филли и Сэрреем. Джонстон рад был новому приключению.
Все четверо прибыли в Чэтсуорт к вечеру, когда почти совершенно стемнело. Там они остановились в харчевне сомнительного вида.
Марию Стюарт стерегли очень строго, она была лишена многих насущнейших удобств, но жестокость в отношении к ней не простиралась настолько далеко, чтобы лишить возможности общаться с кем ей захочется. В то время относительно этого еще не было отдано специальных распоряжений, а ее стражи чувствовали к ней достаточно уважения, чтобы не принимать более строгих мер, чем те, которые были предписаны. Поэтому, когда Филли знаками стала предлагать лицам свиты и придворным дамам разные безделушки для продажи, ее окружили покупатели и любопытные, среди которых, разумеется, были и стражники.
У них под носом Филли удалось передать Джэн Сэйтон три письма, из которых одно было к королеве от Сэррея, а остальные — ей самой, от Сэррея и ее брата.
Как только Филли ушла, Джэн Сэйтон поспешила к королеве. Нельзя описать радость Марии, когда она узнала, какие лица опять оказались вблизи от нее с готовностью оказать ей помощь. Она ответила на письмо Сэррея той же ночью, кроме того, написала письма епископу Росскому и герцогу Норфолку, оба шифрованные; эти письма Джэн должна была ухитриться передать Филли.
В то время как Мария Стюарт писала письма, возбужденная радостной надеждой, Джэн была задумчива и грустна, но в конце концов и она тоже написала свое письмо Сэррею, и когда Филли появилась на следующий день, то ей было вручено четыре письма.
Королева благодарила Сэррея за предложение своих услуг и верность, просила отвезти зашифрованные письма и выражала согласие принять к себе в услужение Тони Ламберт, как это предлагал Сэррей.
Джэн написала, что предаст свою сестру, если примет предложение Сэррея вступить с ним в брак, почему и вынуждена самым решительным образом отклонить его предложение.
Прочитав ее письмо, Сэррей закрыл лицо руками и долго молчал, но потом, тяжело вздохнув, взял себя в руки.
— Сэр Брай, — спокойно сказал он, — мы оба поедем с вами ночью дальше, а Филли и Джонстон останутся здесь, как только Тони прибудет сюда, Филли поведет ее к королеве и вообще постарается поддерживать постоянное сообщение с замком.
После ужина Сэррей и Брай сели на лошадей и, оставив Чэтсуорт, поскакали в Лондон.
В Лондоне Сэррею сказали, что герцог Норфолк выпущен из Тауэра. Поэтому он отправился в городской дом Норфолка, где секретарь герцога, некий Баркер, узнав Сэррея, поведал ему о том, что Норфолк отправлен в Линн. По счастливой случайности секретарь упомянул имя Пельдрама, который сторожит графа, И хотя Сэррей не мог твердо знать, тот ли это Пельдрам, который служил Лейстеру, но все же решил не ездить в Линн, а передать письмо королевы Норфолку через Баркера.
Герцог был страшно доволен, получив письмо. Он поблагодарил Баркера, приказал ему отдохнуть, пока будет готов ответ, а сам позвал своего старшего секретаря Гайфорда, которому и приказал расшифровать письмо Марии.
Она сообщала о предпринятых ею шагах. Послала письмо испанскому королю, так как считала его помощь безусловно необходимой. Просила Норфолка дать слово перейти в католичество, поскольку только при этом условии можно рассчитывать на поддержку английской аристократии. Спрашивала герцога, какое количество вооруженных людей ему необходимо для поддержки. Обо всем этом герцог должен был сообщить ей и епископу Росскому.
Норфолк сейчас же приказал Гайфорду написать требуемые письма. Он выразил согласие на переход в католичество и полную уверенность в поддержке большинства представителей английской знати, так как все они придерживаются католической религии. Сообщил, сколько войска мог бы выставить сам и сколько ему нужно для поддержки солдат и денег!
Приказав сжечь полученное письмо, герцог позвал Баркера и вручил ему оба своих ответных письма.
Брай тоже был не менее осторожен, чем Сэррей. Он отправился во дворец к графине Гертфорд и попросил ее съездить к епископу Росскому, жившему в Лондоне в качестве представителя интересов Марии, и испросить для него аудиенцию. Графиня согласилась и вскоре явилась с ответом, что епископ ожидает Брая.
Епископ принял Брая очень любезно, высказал полную готовность пойти навстречу желаниям королевы Марии и попросил Брая еще раз наведаться к нему.
Как только Брай ушел, епископ вышел из своего дома и направился в Сити; здесь он вошел в один из домов, который судя по вывеске, был банкирской конторой.
Банкир Ридольфи, директор итальянской промышленной компании в Лондоне, флорентинец по рождению и родственник Медичи, был очень богатым человеком, Его главная деятельность заключалась в защите интересов папы, тайным агентом которого он был. Ридольфи был кредитором многих важных особ и таким образом держал их в руках. Он был тоже замешан в заговоре против королевы Елизаветы и долгое время просидел в тюрьме, откуда его выпустили под залог в тысячу фунтов.
Для беседы епископ был приглашен в потайной кабинет Ридольфи.
Необходимо отправить в Испанию верного человека, — предложил епископ, — и я выбрал для этого вас!
— Я готов отправиться, — согласился итальянец.
От банкира епископ проследовал к испанскому посланнику дону Джеральдо Эспалю, чтобы получить для своего посланца необходимый паспорт и рекомендации. Он получил все требуемое, и теперь все дело было за письмом, которое Ридольфи должен был передать испанскому королю Филиппу Второму.
Баркер вернулся в Лондон и отыскал Сэррея в гостинице, где тот остановился.
— Милорд, — сказал он, — герцог Норфолк кланяется вам и благодарит вас. Мне, разумеется, не надо рекомендовать вам осторожность при выполнении всего этого предприятия?
— Разумеется, — ответил Сэррей. — Ну а что вы привезли?
— Два письма, которые вы должны доставить.
Сэррей взял письма, простился с секретарем и отправился к епископу Росскому.
Тот очень любезно принял графа, поблагодарил за содействие и обещал быстро и надежно передать письма по назначению.
Сэррей послал Брая с письмом к королеве Марии, а епископ поспешил отправить итальянца с важным документом из Лондона.
В 1570 году Марию Стюарт перевезли из Тэтбюри в Чэтсуорт в графстве Дэрби.
В это время в Лондоне разразилась чума, которая проникла также и в Тауэр, где томился в заключении Норфолк. Он и Мария ухитрялись и из тюрьмы продолжать начатую еще ранее переписку. Когда Мария Стюарт увидела, что Франция отказалась помогать ей, то она обратилась с просьбой о помощи к Филиппу Второму Испанскому, и Норфолк знал об этом.
Но об этой переписке знала и Елизавета, Она приказала из-за чумы выпустить Норфолка из Тауэра, но сослала его в замок Линн, где он должен был жить безвыездно под надзором двух агентов «Звездной палаты». Перед отъездом из Лондона он вынужден был обещать, что не станет впредь поддерживать с Марией Стюарт никаких отношений, он поклялся в этом своим честным словом и дал подписку с приложением своей печати, но в душе был полон твердого намерения нарушить обещание.
В один из пасмурных мартовских дней четверо всадников переезжали границу графства Дэрби, направляясь к Чэтсуорту. Они не торопились, хотя дождь и лил как из ведра.
По внешнему виду этих всадников можно было принять за купцов или торговцев, которые в то время постоянно колесили с дорожным мешком за спиной по всей Англии. Но в эти одежды вырядились Сэррей, Брай, Филли и Джонстон.
С тех пор, как Филли убедилась в подлости Лейстера, в ней произошел громадный внутренний перелом. Как когда- то прежде она была готова на все из-за любви к Лейстеру, так теперь из благодарности к Сэррею и Браю способна была пожертвовать чем угодно. Ведь она знала, какую жертву принесли ей они и сумела оценить ее.
Сэррей, отправившийся после изгнания в Шотландию, нашел случай примириться с Георгом Сэйтоном и получил от него разрешение посвататься к Джэн. Теперь же, вопреки запрещению королевы Елизаветы, он опять возвращался в Англию, чтобы попытаться сделать все, что в его силах, для шотландской королевы и — в случае возможности — также для своего родственника герцога Норфолка.
Что касается Брая, то у него было много оснований, чтобы последовать за Филли и Сэрреем. Джонстон рад был новому приключению.
Все четверо прибыли в Чэтсуорт к вечеру, когда почти совершенно стемнело. Там они остановились в харчевне сомнительного вида.
Марию Стюарт стерегли очень строго, она была лишена многих насущнейших удобств, но жестокость в отношении к ней не простиралась настолько далеко, чтобы лишить возможности общаться с кем ей захочется. В то время относительно этого еще не было отдано специальных распоряжений, а ее стражи чувствовали к ней достаточно уважения, чтобы не принимать более строгих мер, чем те, которые были предписаны. Поэтому, когда Филли знаками стала предлагать лицам свиты и придворным дамам разные безделушки для продажи, ее окружили покупатели и любопытные, среди которых, разумеется, были и стражники.
У них под носом Филли удалось передать Джэн Сэйтон три письма, из которых одно было к королеве от Сэррея, а остальные — ей самой, от Сэррея и ее брата.
Как только Филли ушла, Джэн Сэйтон поспешила к королеве. Нельзя описать радость Марии, когда она узнала, какие лица опять оказались вблизи от нее с готовностью оказать ей помощь. Она ответила на письмо Сэррея той же ночью, кроме того, написала письма епископу Росскому и герцогу Норфолку, оба шифрованные; эти письма Джэн должна была ухитриться передать Филли.
В то время как Мария Стюарт писала письма, возбужденная радостной надеждой, Джэн была задумчива и грустна, но в конце концов и она тоже написала свое письмо Сэррею, и когда Филли появилась на следующий день, то ей было вручено четыре письма.
Королева благодарила Сэррея за предложение своих услуг и верность, просила отвезти зашифрованные письма и выражала согласие принять к себе в услужение Тони Ламберт, как это предлагал Сэррей.
Джэн написала, что предаст свою сестру, если примет предложение Сэррея вступить с ним в брак, почему и вынуждена самым решительным образом отклонить его предложение.
Прочитав ее письмо, Сэррей закрыл лицо руками и долго молчал, но потом, тяжело вздохнув, взял себя в руки.
— Сэр Брай, — спокойно сказал он, — мы оба поедем с вами ночью дальше, а Филли и Джонстон останутся здесь, как только Тони прибудет сюда, Филли поведет ее к королеве и вообще постарается поддерживать постоянное сообщение с замком.
После ужина Сэррей и Брай сели на лошадей и, оставив Чэтсуорт, поскакали в Лондон.
В Лондоне Сэррею сказали, что герцог Норфолк выпущен из Тауэра. Поэтому он отправился в городской дом Норфолка, где секретарь герцога, некий Баркер, узнав Сэррея, поведал ему о том, что Норфолк отправлен в Линн. По счастливой случайности секретарь упомянул имя Пельдрама, который сторожит графа, И хотя Сэррей не мог твердо знать, тот ли это Пельдрам, который служил Лейстеру, но все же решил не ездить в Линн, а передать письмо королевы Норфолку через Баркера.
Герцог был страшно доволен, получив письмо. Он поблагодарил Баркера, приказал ему отдохнуть, пока будет готов ответ, а сам позвал своего старшего секретаря Гайфорда, которому и приказал расшифровать письмо Марии.
Она сообщала о предпринятых ею шагах. Послала письмо испанскому королю, так как считала его помощь безусловно необходимой. Просила Норфолка дать слово перейти в католичество, поскольку только при этом условии можно рассчитывать на поддержку английской аристократии. Спрашивала герцога, какое количество вооруженных людей ему необходимо для поддержки. Обо всем этом герцог должен был сообщить ей и епископу Росскому.
Норфолк сейчас же приказал Гайфорду написать требуемые письма. Он выразил согласие на переход в католичество и полную уверенность в поддержке большинства представителей английской знати, так как все они придерживаются католической религии. Сообщил, сколько войска мог бы выставить сам и сколько ему нужно для поддержки солдат и денег!
Приказав сжечь полученное письмо, герцог позвал Баркера и вручил ему оба своих ответных письма.
Брай тоже был не менее осторожен, чем Сэррей. Он отправился во дворец к графине Гертфорд и попросил ее съездить к епископу Росскому, жившему в Лондоне в качестве представителя интересов Марии, и испросить для него аудиенцию. Графиня согласилась и вскоре явилась с ответом, что епископ ожидает Брая.
Епископ принял Брая очень любезно, высказал полную готовность пойти навстречу желаниям королевы Марии и попросил Брая еще раз наведаться к нему.
Как только Брай ушел, епископ вышел из своего дома и направился в Сити; здесь он вошел в один из домов, который судя по вывеске, был банкирской конторой.
Банкир Ридольфи, директор итальянской промышленной компании в Лондоне, флорентинец по рождению и родственник Медичи, был очень богатым человеком, Его главная деятельность заключалась в защите интересов папы, тайным агентом которого он был. Ридольфи был кредитором многих важных особ и таким образом держал их в руках. Он был тоже замешан в заговоре против королевы Елизаветы и долгое время просидел в тюрьме, откуда его выпустили под залог в тысячу фунтов.
Для беседы епископ был приглашен в потайной кабинет Ридольфи.
Необходимо отправить в Испанию верного человека, — предложил епископ, — и я выбрал для этого вас!
— Я готов отправиться, — согласился итальянец.
От банкира епископ проследовал к испанскому посланнику дону Джеральдо Эспалю, чтобы получить для своего посланца необходимый паспорт и рекомендации. Он получил все требуемое, и теперь все дело было за письмом, которое Ридольфи должен был передать испанскому королю Филиппу Второму.
Баркер вернулся в Лондон и отыскал Сэррея в гостинице, где тот остановился.
— Милорд, — сказал он, — герцог Норфолк кланяется вам и благодарит вас. Мне, разумеется, не надо рекомендовать вам осторожность при выполнении всего этого предприятия?
— Разумеется, — ответил Сэррей. — Ну а что вы привезли?
— Два письма, которые вы должны доставить.
Сэррей взял письма, простился с секретарем и отправился к епископу Росскому.
Тот очень любезно принял графа, поблагодарил за содействие и обещал быстро и надежно передать письма по назначению.
Сэррей послал Брая с письмом к королеве Марии, а епископ поспешил отправить итальянца с важным документом из Лондона.


 Внезапный отказ Франции поддерживать Марию Стюарт, мог бы показаться странным, если бы не было веских причин, таившихся в закулисной дипломатической борьбе. Дело в том, что до этого Франция снова завязала переговоры с Бэрлеем относительно возможности замужества Елизаветы с одним из французских принцев графом Анжуйским, Пока эти переговоры велись на словах и неофициально, так как Бэрлей считал момент неподходящим для такого политического брака. Но канцлер также понимал, что в последнее время Англия сильно обеднела, чума и голод последних лет ослабили ее силы. Поэтому считал необходимым дать французскому посланнику надежду на скорое и благоприятное разрешение этого вопроса, потребовав взамен, чтобы Франция отказалась от активного заступничества за Марию Стюарт.
Бэрлей помнил клятву, данную в его присутствии Елизаветой, — клятву в том, что она никогда не выйдет замуж, и не думал, что она нарушит ее. Нарушение этой клятвы не входило в его планы. Как хитрый дипломат, он просто хотел использовать все благоприятное значение момента.
Он отправился к графу Лейстеру, высказал ему, в каком затруднительном положении находится сейчас страна, и потом рассказал о предложении французского посланника, графа д’ Обиспена, заключить вечный и нерушимый мир с Францией. Так как подобные миры заключались неоднократно, но обыкновенно вскоре нарушались, то залогом прочности данного мира должен был быть брак королевы Елизаветы с графом Анжуйским. По иронии судьбы Бэрлей предложил именно Лейстеру поговорить об этом браке с Елизаветой.
Как ни неприятно было подобное поручение Лейстеру, он должен был взяться за него. Он понимал, конечно, что в его устах подобное предложение должно показаться Елизавете особенно оскорбительным. Но надеялся, вызвав в ней вспышку гнева, перевести ее в приступ былой нежности. Тогда или все прошлое будет окончательно забыто, или Елизавета все-таки склонится к мысли о браке с ним, Лейстером. Он уже не в силах был оставаться в таком положении, в котором очутился после раскрытия его истории с Филли. Хотя внешне он вроде сохранил полную власть и влияние, но на самом деле Елизавета обращалась с ним теперь презрительно и высокомерно, и, когда они оставались наедине, он даже не осмеливался приблизиться к ней. Если же сватовство рассердит королеву, то ему легко будет указать, что это Бэрлей попросил его заговорить с ней о данном деле, а он, Лейстер, как лицо, стоящее к ней ближе всех, не счел себя вправе выдвигать личные чувства и забывать ради них выгоду государства.
С этими мыслями Лейстер отправился во дворец, чтобы присутствовать на утренней аудиенции, по окончании ее он последовал за королевой в ее апартаменты и остановился там в молчаливом ожидании на пороге.
Вскоре ему представилась возможность заговорить с Елизаветой, отвечая на брошенное ею замечание по поводу чумы. С этого замечания Лейстер перешел на внутреннее положение Англии и в конце концов коснулся вопроса о возможности вечного мира с Францией и высказал, каким образом этот мир мог бы быть осуществлен.
Услышав, что Лейстер предлагает ей замужество с французским принцем, Елизавета вскочила как ужаленная. Ее глаза метнули молнии, лицо запылало гневом, руки судорожно сжимались в кулаки, Это был опасный момент, и Лейстер хорошо сознавал это.
— Милорд, — сказала королева, — вот уже два раза вы рисковали на такие вещи, которые заставляли меня предполагать, что вы смотрите на свои отношения ко мне, как на легкомысленную интрижку с распутной девкой. Теперь вы, кажется, в третий раз решаетесь на это?
— Ваше величество, я думаю, меня трудно в этом заподозрить! Если я рискнул передать вам это предложение, которое исходит от милорда Бэрлея, то только потому, что он хотел сначала видеть, какое впечатление может произвести это на ваше величество, а уже потом сделать вам официальный доклад.
Елизавета несколько успокоилась, а в глазах, обращенных на графа Лейстера, теперь виднелась только глубокая скорбь.
— Вы обсуждали с Бэрлеем этот вопрос? — спросила она.
— Да, ваше величество.
— И что вы сказали по этому поводу?
— Я высказал, что вечный и нерушимый мир с Францией настолько неизмеримо важнее моих личных чувств, что о последних и речи быть не может…
— Ах, Дэдлей, и вы, вы…
Лейстер преклонил колено, схватил руку королевы и страстно поцеловал.
Но, словно ужаленная, Елизавета вырвала руку.
— Довольно! — холодно сказала. — Между нами не должно быть больше подобных глупостей! Ступайте! Я подумаю на досуге об этом деле.
Когда Лейстер рассказал Бэрлею о происшедшей сцене, тот, улыбнувшись, поблагодарил Лейстера и отправился к французскому послу с заявлением, что теперь может принять официальное представление об интересующем Францию предмете.
На следующий день лорд имел продолжительный разговор с Елизаветой. Он доказывал ей, что согласие в сущности ни к чему не обязывает, что переговоры можно будет затянуть года на два, а за это время Англия оправится и не будет уже нуждаться в помощи Франции. Иначе же их положение может стать затруднительным. Со стороны Испании надвигается гроза, и уже теперь надо готовить флот, способный дать ей отпор. Если под предлогом заступничества за Марию Стюарт в дело вмешается еще и Франция, то Англии придется слишком трудно. А пока переговоры о браке будут вестись, Франция будет вынуждена держаться строгого нейтралитета. В конце концов Елизавета согласилась с этими доводами, и было решено передать французскому посланнику, что его предложение встречено королевой очень милостиво.
Таким образом, благодаря тонкому политическому шагу Бэрлея Мария Стюарт потеряла надежду на поддержку с той стороны, с которой могла ожидать ее больше всего.
Внезапный отказ Франции поддерживать Марию Стюарт, мог бы показаться странным, если бы не было веских причин, таившихся в закулисной дипломатической борьбе. Дело в том, что до этого Франция снова завязала переговоры с Бэрлеем относительно возможности замужества Елизаветы с одним из французских принцев графом Анжуйским, Пока эти переговоры велись на словах и неофициально, так как Бэрлей считал момент неподходящим для такого политического брака. Но канцлер также понимал, что в последнее время Англия сильно обеднела, чума и голод последних лет ослабили ее силы. Поэтому считал необходимым дать французскому посланнику надежду на скорое и благоприятное разрешение этого вопроса, потребовав взамен, чтобы Франция отказалась от активного заступничества за Марию Стюарт.
Бэрлей помнил клятву, данную в его присутствии Елизаветой, — клятву в том, что она никогда не выйдет замуж, и не думал, что она нарушит ее. Нарушение этой клятвы не входило в его планы. Как хитрый дипломат, он просто хотел использовать все благоприятное значение момента.
Он отправился к графу Лейстеру, высказал ему, в каком затруднительном положении находится сейчас страна, и потом рассказал о предложении французского посланника, графа д’ Обиспена, заключить вечный и нерушимый мир с Францией. Так как подобные миры заключались неоднократно, но обыкновенно вскоре нарушались, то залогом прочности данного мира должен был быть брак королевы Елизаветы с графом Анжуйским. По иронии судьбы Бэрлей предложил именно Лейстеру поговорить об этом браке с Елизаветой.
Как ни неприятно было подобное поручение Лейстеру, он должен был взяться за него. Он понимал, конечно, что в его устах подобное предложение должно показаться Елизавете особенно оскорбительным. Но надеялся, вызвав в ней вспышку гнева, перевести ее в приступ былой нежности. Тогда или все прошлое будет окончательно забыто, или Елизавета все-таки склонится к мысли о браке с ним, Лейстером. Он уже не в силах был оставаться в таком положении, в котором очутился после раскрытия его истории с Филли. Хотя внешне он вроде сохранил полную власть и влияние, но на самом деле Елизавета обращалась с ним теперь презрительно и высокомерно, и, когда они оставались наедине, он даже не осмеливался приблизиться к ней. Если же сватовство рассердит королеву, то ему легко будет указать, что это Бэрлей попросил его заговорить с ней о данном деле, а он, Лейстер, как лицо, стоящее к ней ближе всех, не счел себя вправе выдвигать личные чувства и забывать ради них выгоду государства.
С этими мыслями Лейстер отправился во дворец, чтобы присутствовать на утренней аудиенции, по окончании ее он последовал за королевой в ее апартаменты и остановился там в молчаливом ожидании на пороге.
Вскоре ему представилась возможность заговорить с Елизаветой, отвечая на брошенное ею замечание по поводу чумы. С этого замечания Лейстер перешел на внутреннее положение Англии и в конце концов коснулся вопроса о возможности вечного мира с Францией и высказал, каким образом этот мир мог бы быть осуществлен.
Услышав, что Лейстер предлагает ей замужество с французским принцем, Елизавета вскочила как ужаленная. Ее глаза метнули молнии, лицо запылало гневом, руки судорожно сжимались в кулаки, Это был опасный момент, и Лейстер хорошо сознавал это.
— Милорд, — сказала королева, — вот уже два раза вы рисковали на такие вещи, которые заставляли меня предполагать, что вы смотрите на свои отношения ко мне, как на легкомысленную интрижку с распутной девкой. Теперь вы, кажется, в третий раз решаетесь на это?
— Ваше величество, я думаю, меня трудно в этом заподозрить! Если я рискнул передать вам это предложение, которое исходит от милорда Бэрлея, то только потому, что он хотел сначала видеть, какое впечатление может произвести это на ваше величество, а уже потом сделать вам официальный доклад.
Елизавета несколько успокоилась, а в глазах, обращенных на графа Лейстера, теперь виднелась только глубокая скорбь.
— Вы обсуждали с Бэрлеем этот вопрос? — спросила она.
— Да, ваше величество.
— И что вы сказали по этому поводу?
— Я высказал, что вечный и нерушимый мир с Францией настолько неизмеримо важнее моих личных чувств, что о последних и речи быть не может…
— Ах, Дэдлей, и вы, вы…
Лейстер преклонил колено, схватил руку королевы и страстно поцеловал.
Но, словно ужаленная, Елизавета вырвала руку.
— Довольно! — холодно сказала. — Между нами не должно быть больше подобных глупостей! Ступайте! Я подумаю на досуге об этом деле.
Когда Лейстер рассказал Бэрлею о происшедшей сцене, тот, улыбнувшись, поблагодарил Лейстера и отправился к французскому послу с заявлением, что теперь может принять официальное представление об интересующем Францию предмете.
На следующий день лорд имел продолжительный разговор с Елизаветой. Он доказывал ей, что согласие в сущности ни к чему не обязывает, что переговоры можно будет затянуть года на два, а за это время Англия оправится и не будет уже нуждаться в помощи Франции. Иначе же их положение может стать затруднительным. Со стороны Испании надвигается гроза, и уже теперь надо готовить флот, способный дать ей отпор. Если под предлогом заступничества за Марию Стюарт в дело вмешается еще и Франция, то Англии придется слишком трудно. А пока переговоры о браке будут вестись, Франция будет вынуждена держаться строгого нейтралитета. В конце концов Елизавета согласилась с этими доводами, и было решено передать французскому посланнику, что его предложение встречено королевой очень милостиво.
Таким образом, благодаря тонкому политическому шагу Бэрлея Мария Стюарт потеряла надежду на поддержку с той стороны, с которой могла ожидать ее больше всего.


 Совещание о судьбе Марии Стюарт происходило как раз в Эскуриале в гигантской усыпальнице испанских королей, выстроенной Филиппом II, и это можно было бы счесть за дурное предзнаменование. Банкир Ридольфи, посланец заговорщиков, прибыл в Мадрид, и 5 июля 1571 года Филипп II дал ему тайную аудиенцию, На ней присутствовал лишь один министр, который просмотрел верительные грамоты и рекомендательные письма итальянца: от испанского посланника в Лондоне, дона Джеральде Эспаль, от герцога Альбы, который писал, что Ридольфи можно смело довериться, и, наконец, от римского папы Пия Пятого.
«Наш возлюбленный сын, Роберт Ридольфи, — писал папа, — представит Вам, Ваше Величество, с Божьей помощью суждения о некоторых делах, которые могут значительно помочь делу христианства и послужить во славу Божию.
Мы просим Вас, Ваше Величество, в этом отношении подарить Ридольфи полнейшее доверие и заклинаем Вас, памятуя о Вашем выдающемся рвении к интересам церкви, принять участие в его предложениях и сделать в этом отношении все, что покажется возможным Вам.
Мы просим Вас, Ваше Величество, подвергнуть все это дело зрелому размышлению и молимся Спасителю о ниспослании удачи всем Вашим делам и начинаниям».
Ридольфи передал также письмо герцога Норфолка и различные словесные поручения заговорщиков, согласно тому, что сообщил ему епископ Росский.
Через день было назначено совещание. Король предложил собравшимся просмотреть все документы, относящиеся к данному делу, и высказать свое мнение.
Просмотр документов не вызвал ни у кого особых замечаний, Только по поводу писем папы и герцога Норфолка Филипп II отметил, что в настоящее время его королевская сокровищница пуста, так что этим он служить не может.
В своем письме Мария Стюарт просила;
«Пусть Тайный совет испанского короля, защитника и опоры католической церкви, не откажет в своей помощи, если не ради меня, то дабы поставить весь остров (Англию) под покров и защиту высокого повелителя и короля».
Испанский посланник при папском дворе Дон-Жуан Цунига доносил, что счел себя обязанным представить папе все затруднения, связанные с данным делом, и предостеречь его от излишнего доверия к посреднику переговоров.
В письме Альбы к герцогу Фериа было коротко и определенно сказано, что предприятие слишком трудно и не может удасться хотя бы потому, что оно вверено дураку и болтуну, каким он считает Ридольфи.
Серьезное значение имело состоящее из двадцати страниц письмо герцога Альбы из Нидерландов к самому королю Филиппу, в котором, в частности, говорилось:
«Сострадание и интерес, которые должно внушить Вам, Ваше Величество, недостойное обращение с королевой шотландской и ее сторонниками, возлагаемая на Вас Богом обязанность содействовать по возможности победе и восстановлению католицизма в Англии, оскорбления, нанесенные в различных видах королевой английской Вам, Ваше Величество, и Вашим подданным, не оставляющие никакой надежды на улучшение отношений при ее царствовании, — все эти причины заставляют меня признать план королевы шотландской и герцога Норфолка, при его удачном исполнении, наиболее пригодным для отвращения зла».
Далее Альба разъяснял трудности выполнения плана и учитывал последствия его преждевременного раскрытия.
«Вследствие этого, — продолжал Альба, — никто не может посоветовать Вам, Ваше Величество, дать свое согласие на требуемое содействие в указываемой форме. Но, если бы королева английская умерла естественной или другой смертью, или если бы ее захватили без Вашего влияния, я ничего не имел бы против этого. Переговоры между королевой английской и герцогом Анжуйским прекратились бы, французы менее боялись бы Ваших замыслов завладеть Англией, а немцы стали бы менее подозрительны, видя, что Вы, Ваше Величество, не имеете другой цели, как только поддержать королеву шотландскую в ее правах на английский престол против других претендентов. Тогда справиться с последними было бы легко еще до вмешательства других коронованных особ…»
Герцог Альба, этот палач Нидерландов, как видно из письма, лишь осторожно намекал на возможность «другой» смерти для королевы английской, кроме естественной, словно он совсем не был посвящен в эту часть плана заговорщиков.
Из протокола совещания с Ридольфи понятно, что у заговорщиков было три пути для достижения цели, а именно: возбуждение восстания, поддержка этого восстания Филиппом II и, по возможности, честный бой; или захват королевы английской, восстание, бой или, наконец, убийство Елизаветы, уничтожение ее партии. В результате благополучного исхода дела можно было бы возвести Марию Стюарт на трон трех соединенных государств — Англии, Шотландии и Ирландии. Кроме того, в своих разъяснениях Ридольфи повторил обещания Марии, а также Норфолка и других заговорщиков.
Когда совет ознакомился с делом, король, предложив Ридольфи выйти, попросил советников высказать свое мнение. Большинство высказалось против оказания помощи заговорщикам.
После долгого молчания Филипп II велел позвать Ридольфи и объявил ему, чтобы он написал Марии Стюарт, Норфолку и епископу Росскому: король даст необходимые приказания. А за спиной Ридольфи остерег испанского посла в Лондоне не входить в слишком близкие отношения с заговорщиками.
Герцогу же Альбе король написал:
«Так как Вы твердо убеждены, что нам нет расчета принимать слишком близкое участие в этом деле, пока союзники не выступят в должной силе, и так как мне известна Ваша мудрая заботливость, то я полагаюсь всецело на Вас, дабы Вы, после зрелого обсуждения, служа Богу и мне, поступили как находите лучшим. Я же уверен, что Вы поведете это большое предприятие с усердием, стойкостью и мудростью».
Ридольфи под благовидным предлогом задержали в Испании, чтобы тайные письма успели дойти раньше его прибытия в Брюссель для встречи с Альбой. И когда Ридольфи встретился с ним, тот осторожно обещал послать подкрепления только в том случае, если в Англии разыграется настоящее дело. Ридольфи оказался в очень трудном положении: его доверители побуждали его действовать, Альба же не обнаруживал никакой уступчивости.
Наконец епископ Росский потребовал определенных донесений через одно доверенное лицо. Ридольфи изложил свой отчет шифрами и, кроме того, передал указанному лицу письма к Марии Стюарт, Норфолку, графу Лэмлею и дону Эспалю.
Фламандец, взявшийся за передачу писем, назывался Карлом Балльи. В Брюсселе он достал для епископа Росского шифрованную азбуку, которая должна была служить союзникам при их письменных сношениях.
Балльи выехал из Голландии и прибыл в гавань Дувр. Когда причаливали к берегу, он позвал своего лакея, а так как тот не являлся, пошел искать его и нашел этого молодца пьяным. Балльи велел ему подняться наверх, взять сундук и следовать за ним.
— Вот еще! — воскликнул лакей. — Мне следовать за вами! Мне нести ваш сундук! Несите его сами и убирайтесь к черту! Я — англичанин и значу больше, чем вы! Ну, что вам еще нужно?
Балльи не мог сдержать себя и ударил лакея. Тот ответил ему, началась бешеная потасовка, послужившая большим развлечением для матросов и пассажиров, Они признали в Балльи иностранца — и на него посыпались угрозы, заставившие его искать защиты. Полиция задержала Балльи и препроводила в адмиралтейство, где жил губернатор пяти портовых городов — лорд Кобам.
Совершенно незначительное это происшествие приняло более серьезный характер, когда лорд пожелал выслушать Балльи и его лакея.
Первым дал свои объяснения Балльи.
— Прекрасно, — возразил лакей, — этот человек — шпион, изменник, бунтовщик, ведущий преступные переговоры с палачом Альба в Нидерландах.
Балльи испугался.
— А кто вы? — спросил лорд Кобам лакея.
— Меня зовут Кингтоном, — ответил лакей. — Милорд Лейстер знает меня и удостоверит мою личность, если вы найдете нужным сообщить ему обо мне. А этот человек, указал он на Балльи, — имеет при себе важные бумаги, прикажите обыскать его. Сундук Балльи был осмотрен, пакет с депешами найден, а так как шифрованное письмо показалось подозрительным, то Балльи и Кингтон были арестованы.
Лорд Кобам послал об этом донесение в Лондон.
Между тем епископ Росский, с нетерпением ожидавший своего агента, поехал ему навстречу в Дувр. Он узнал о задержании Балльи и отправился к Кобаму, с которым случайно был знаком.
— Милорд, — сказал он после первого приветствия, — вы арестовали человека, который находится у меня на службе.
— И не думал, сэр, — ответил Кобам.
Да, вы арестовали фламандца Балльи, у него находятся мои вещи. И я прошу вас вернуть их мне, если его не отпустят на свободу.
— Не отпустят, так как против него есть обвинение.
— А мои вещи?
— Они будут вам возвращены. Вон там стоит сундук. Отыщите свои вещи сами.
Губернатор либо был слишком занят, либо питал слишком много доверия к епископу, или — что самое вероятное — состоял в заговоре с ним, так как тот спокойно взял свой пакет с письмами и удалился.
По приказу из Лондона Балльи и Кингтон вскоре были отправлены в Тауэр. К несчастью, у Балльи нашли записку от епископа Росского, в которой тот уведомлял его, что письма получил и предостерегал не изменять общему делу.
Это было серьезным козырем для Бэрлея, и он велел под пыткой допросить заключенного.
Балльи открыл все, что знал о переписке епископа Росского с Ридольфи и его отношениях с герцогом Альба.
Этого было достаточно, чтобы арестовать епископа и произвести у него домашний обыск. Хитрый епископ сумел устроить так, что у него ничего не нашли. Тем не менее было решено подвергнуть его допросу, и его объяснения должны были выслушать четыре члена государственного совета.
— Я не признаю этого суда, — гордо объявил епископ, — так как обязан отчетом только моей повелительнице, королеве шотландской. Я нахожусь в Лондоне и призван ее послом. Мое задержание считаю беззаконным.
Это было справедливо, и потому от допроса отказались.
Бэрлей знал теперь о существовании заговора, но не открыл еще его цели и имен заговорщиков. Он долго думал об этом деле и вдруг вспомнил о Пельдраме, уже однажды оказавшем ему подобную услугу Поэтому тотчас послал ему в Линн приказ явиться в Лондон. Четыре дня спустя Пельдрам был в приемной лорда Бэрлея, ожидая его распоряжений.
Совещание о судьбе Марии Стюарт происходило как раз в Эскуриале в гигантской усыпальнице испанских королей, выстроенной Филиппом II, и это можно было бы счесть за дурное предзнаменование. Банкир Ридольфи, посланец заговорщиков, прибыл в Мадрид, и 5 июля 1571 года Филипп II дал ему тайную аудиенцию, На ней присутствовал лишь один министр, который просмотрел верительные грамоты и рекомендательные письма итальянца: от испанского посланника в Лондоне, дона Джеральде Эспаль, от герцога Альбы, который писал, что Ридольфи можно смело довериться, и, наконец, от римского папы Пия Пятого.
«Наш возлюбленный сын, Роберт Ридольфи, — писал папа, — представит Вам, Ваше Величество, с Божьей помощью суждения о некоторых делах, которые могут значительно помочь делу христианства и послужить во славу Божию.
Мы просим Вас, Ваше Величество, в этом отношении подарить Ридольфи полнейшее доверие и заклинаем Вас, памятуя о Вашем выдающемся рвении к интересам церкви, принять участие в его предложениях и сделать в этом отношении все, что покажется возможным Вам.
Мы просим Вас, Ваше Величество, подвергнуть все это дело зрелому размышлению и молимся Спасителю о ниспослании удачи всем Вашим делам и начинаниям».
Ридольфи передал также письмо герцога Норфолка и различные словесные поручения заговорщиков, согласно тому, что сообщил ему епископ Росский.
Через день было назначено совещание. Король предложил собравшимся просмотреть все документы, относящиеся к данному делу, и высказать свое мнение.
Просмотр документов не вызвал ни у кого особых замечаний, Только по поводу писем папы и герцога Норфолка Филипп II отметил, что в настоящее время его королевская сокровищница пуста, так что этим он служить не может.
В своем письме Мария Стюарт просила;
«Пусть Тайный совет испанского короля, защитника и опоры католической церкви, не откажет в своей помощи, если не ради меня, то дабы поставить весь остров (Англию) под покров и защиту высокого повелителя и короля».
Испанский посланник при папском дворе Дон-Жуан Цунига доносил, что счел себя обязанным представить папе все затруднения, связанные с данным делом, и предостеречь его от излишнего доверия к посреднику переговоров.
В письме Альбы к герцогу Фериа было коротко и определенно сказано, что предприятие слишком трудно и не может удасться хотя бы потому, что оно вверено дураку и болтуну, каким он считает Ридольфи.
Серьезное значение имело состоящее из двадцати страниц письмо герцога Альбы из Нидерландов к самому королю Филиппу, в котором, в частности, говорилось:
«Сострадание и интерес, которые должно внушить Вам, Ваше Величество, недостойное обращение с королевой шотландской и ее сторонниками, возлагаемая на Вас Богом обязанность содействовать по возможности победе и восстановлению католицизма в Англии, оскорбления, нанесенные в различных видах королевой английской Вам, Ваше Величество, и Вашим подданным, не оставляющие никакой надежды на улучшение отношений при ее царствовании, — все эти причины заставляют меня признать план королевы шотландской и герцога Норфолка, при его удачном исполнении, наиболее пригодным для отвращения зла».
Далее Альба разъяснял трудности выполнения плана и учитывал последствия его преждевременного раскрытия.
«Вследствие этого, — продолжал Альба, — никто не может посоветовать Вам, Ваше Величество, дать свое согласие на требуемое содействие в указываемой форме. Но, если бы королева английская умерла естественной или другой смертью, или если бы ее захватили без Вашего влияния, я ничего не имел бы против этого. Переговоры между королевой английской и герцогом Анжуйским прекратились бы, французы менее боялись бы Ваших замыслов завладеть Англией, а немцы стали бы менее подозрительны, видя, что Вы, Ваше Величество, не имеете другой цели, как только поддержать королеву шотландскую в ее правах на английский престол против других претендентов. Тогда справиться с последними было бы легко еще до вмешательства других коронованных особ…»
Герцог Альба, этот палач Нидерландов, как видно из письма, лишь осторожно намекал на возможность «другой» смерти для королевы английской, кроме естественной, словно он совсем не был посвящен в эту часть плана заговорщиков.
Из протокола совещания с Ридольфи понятно, что у заговорщиков было три пути для достижения цели, а именно: возбуждение восстания, поддержка этого восстания Филиппом II и, по возможности, честный бой; или захват королевы английской, восстание, бой или, наконец, убийство Елизаветы, уничтожение ее партии. В результате благополучного исхода дела можно было бы возвести Марию Стюарт на трон трех соединенных государств — Англии, Шотландии и Ирландии. Кроме того, в своих разъяснениях Ридольфи повторил обещания Марии, а также Норфолка и других заговорщиков.
Когда совет ознакомился с делом, король, предложив Ридольфи выйти, попросил советников высказать свое мнение. Большинство высказалось против оказания помощи заговорщикам.
После долгого молчания Филипп II велел позвать Ридольфи и объявил ему, чтобы он написал Марии Стюарт, Норфолку и епископу Росскому: король даст необходимые приказания. А за спиной Ридольфи остерег испанского посла в Лондоне не входить в слишком близкие отношения с заговорщиками.
Герцогу же Альбе король написал:
«Так как Вы твердо убеждены, что нам нет расчета принимать слишком близкое участие в этом деле, пока союзники не выступят в должной силе, и так как мне известна Ваша мудрая заботливость, то я полагаюсь всецело на Вас, дабы Вы, после зрелого обсуждения, служа Богу и мне, поступили как находите лучшим. Я же уверен, что Вы поведете это большое предприятие с усердием, стойкостью и мудростью».
Ридольфи под благовидным предлогом задержали в Испании, чтобы тайные письма успели дойти раньше его прибытия в Брюссель для встречи с Альбой. И когда Ридольфи встретился с ним, тот осторожно обещал послать подкрепления только в том случае, если в Англии разыграется настоящее дело. Ридольфи оказался в очень трудном положении: его доверители побуждали его действовать, Альба же не обнаруживал никакой уступчивости.
Наконец епископ Росский потребовал определенных донесений через одно доверенное лицо. Ридольфи изложил свой отчет шифрами и, кроме того, передал указанному лицу письма к Марии Стюарт, Норфолку, графу Лэмлею и дону Эспалю.
Фламандец, взявшийся за передачу писем, назывался Карлом Балльи. В Брюсселе он достал для епископа Росского шифрованную азбуку, которая должна была служить союзникам при их письменных сношениях.
Балльи выехал из Голландии и прибыл в гавань Дувр. Когда причаливали к берегу, он позвал своего лакея, а так как тот не являлся, пошел искать его и нашел этого молодца пьяным. Балльи велел ему подняться наверх, взять сундук и следовать за ним.
— Вот еще! — воскликнул лакей. — Мне следовать за вами! Мне нести ваш сундук! Несите его сами и убирайтесь к черту! Я — англичанин и значу больше, чем вы! Ну, что вам еще нужно?
Балльи не мог сдержать себя и ударил лакея. Тот ответил ему, началась бешеная потасовка, послужившая большим развлечением для матросов и пассажиров, Они признали в Балльи иностранца — и на него посыпались угрозы, заставившие его искать защиты. Полиция задержала Балльи и препроводила в адмиралтейство, где жил губернатор пяти портовых городов — лорд Кобам.
Совершенно незначительное это происшествие приняло более серьезный характер, когда лорд пожелал выслушать Балльи и его лакея.
Первым дал свои объяснения Балльи.
— Прекрасно, — возразил лакей, — этот человек — шпион, изменник, бунтовщик, ведущий преступные переговоры с палачом Альба в Нидерландах.
Балльи испугался.
— А кто вы? — спросил лорд Кобам лакея.
— Меня зовут Кингтоном, — ответил лакей. — Милорд Лейстер знает меня и удостоверит мою личность, если вы найдете нужным сообщить ему обо мне. А этот человек, указал он на Балльи, — имеет при себе важные бумаги, прикажите обыскать его. Сундук Балльи был осмотрен, пакет с депешами найден, а так как шифрованное письмо показалось подозрительным, то Балльи и Кингтон были арестованы.
Лорд Кобам послал об этом донесение в Лондон.
Между тем епископ Росский, с нетерпением ожидавший своего агента, поехал ему навстречу в Дувр. Он узнал о задержании Балльи и отправился к Кобаму, с которым случайно был знаком.
— Милорд, — сказал он после первого приветствия, — вы арестовали человека, который находится у меня на службе.
— И не думал, сэр, — ответил Кобам.
Да, вы арестовали фламандца Балльи, у него находятся мои вещи. И я прошу вас вернуть их мне, если его не отпустят на свободу.
— Не отпустят, так как против него есть обвинение.
— А мои вещи?
— Они будут вам возвращены. Вон там стоит сундук. Отыщите свои вещи сами.
Губернатор либо был слишком занят, либо питал слишком много доверия к епископу, или — что самое вероятное — состоял в заговоре с ним, так как тот спокойно взял свой пакет с письмами и удалился.
По приказу из Лондона Балльи и Кингтон вскоре были отправлены в Тауэр. К несчастью, у Балльи нашли записку от епископа Росского, в которой тот уведомлял его, что письма получил и предостерегал не изменять общему делу.
Это было серьезным козырем для Бэрлея, и он велел под пыткой допросить заключенного.
Балльи открыл все, что знал о переписке епископа Росского с Ридольфи и его отношениях с герцогом Альба.
Этого было достаточно, чтобы арестовать епископа и произвести у него домашний обыск. Хитрый епископ сумел устроить так, что у него ничего не нашли. Тем не менее было решено подвергнуть его допросу, и его объяснения должны были выслушать четыре члена государственного совета.
— Я не признаю этого суда, — гордо объявил епископ, — так как обязан отчетом только моей повелительнице, королеве шотландской. Я нахожусь в Лондоне и призван ее послом. Мое задержание считаю беззаконным.
Это было справедливо, и потому от допроса отказались.
Бэрлей знал теперь о существовании заговора, но не открыл еще его цели и имен заговорщиков. Он долго думал об этом деле и вдруг вспомнил о Пельдраме, уже однажды оказавшем ему подобную услугу Поэтому тотчас послал ему в Линн приказ явиться в Лондон. Четыре дня спустя Пельдрам был в приемной лорда Бэрлея, ожидая его распоряжений.


 Как только первому министру Елизаветы доложили, что в приемной его ожидает некий Пельдрам, тот быстро вскочил и велел впустить ожидавшего. Пельдрам вошел, Бэрлей приказал присутствовавшему в комнате секретарю удалиться, а сам стал перед вошедшим и устремил на него пытливый взор. Пельдрам храбро выдержал этот взгляд и спокойно ждал, что министр скажет.
— Сэр Пельдрам, — наконец начал Бэрлей, — как вам живется в замке Линн?
— Очень спокойно, — ответил Пельдрам. — Мне редко приходилось вести столь мирную жизнь.
— А что делает герцог?
— О нем нельзя сказать ничего особенного: он гуляет, ездит верхом, катается, охотится, разговаривает со своими слугами.
— Принимает ли он посторонних?
— Никогда.
— Ведет ли он корреспонденцию?
— Несомненно?
— Кому поручаются для отправки его письма?
— Его лакеям. Но ведь был определенный приказ не мешать им ни в чем.
— Я знаю это, но ловкий человек должен понимать двойственность всякого приказа.
— А-а! Ну, я сомневаюсь, чтобы лакеи были посвящены в тайны герцога.
— Но можно было бы узнать адреса писем, отправляемых герцогом.
— Их я знаю, милорд.
— Значит, вы все же проявили зоркость. Ну, потом назовете мне имена адресатов, а теперь скажите; как вы отнесетесь к известию, что ваш друг Кингтон посажен мной в тюрьму?
— Слава Богу, милорд! Я думаю, что он не должен выйти из нее иначе, чем на виселицу.
— Дело обстоит приблизительно так. Но слушайте дальше! Кингтон был лакеем у некоего Балльи, везшего секретные письма к епископу Росскому. Господин и слуга были задержаны, а их бумаги конфискованы, но исчезли необъяснимым образом. Епископ, получивший эти бумаги, арестован, но у него ничего не нашли. Балльи сознался, что епископ через итальянца Ридольфи состоит в отношениях с герцогом Альба. Это что-нибудь да означает. Очевидно, есть заговор, и вы должны выяснить мне это.
— Задача нелегкая!
— Вы правы, но я выдам вам Кинггона, а вы мне взамен — заговорщиков.
— За голову Кинггона стоит постараться.
— Меня очень удивило бы, если бы герцог не был замешан в деле; назовите мне людей, которым он адресует свои письма.
— Большей частью своему секретарю Баркеру, живущему здесь, в Лондоне, затем Лэмлею, Соустэмитону и Перси.
— Так, так! Было бы хорошо, если бы вы послали верного человека в Чэтсуорт, так как настоящего главаря заговора, несомненно, надо искать там.
— Я буду наблюдать за этим уголком.
— Хорошо!… Я вскоре буду ожидать ваших сообщений. Теперь идите!…
Пельдрам раскланялся и вышел из комнаты. В глубоком раздумье он покинул дом и направился по улице и через какое-то время остановился напротив дома французского посла.
В этот момент из дома вышел секретарь Норфолка Баркер, осмотрелся кругом и поспешно удалился.
Это обстоятельствоимело очень важное значение для Пельдрама, без долгих рассуждений он отправился ко дворцу Норфолка и, став поблизости, стал наблюдать. Уже через полчаса он увидел этого секретаря, отъезжавшего верхом.
Пельдрам поспешил в свою квартиру, велел оседлать лошадь и последовал за Баркером, который, судя по его расчетам, мог ехать только к своему господину. Но, прежде чем он оставил Лондон, ему неожиданно попался навстречу Брай, который, казалось, его не заметил.
У Пельдрама не было ни времени, ни охоты преследовать Брая, он преследовал Баркера. Секретарь явно смутился, когда Пельдрам объявил, что намерен совершить путь до замка Линн в его обществе. Отклонить компанию нежелательного спутника не было никакой возможности, и оба продолжали путь. Пельдрам ни на секунду не спускал взгляда со своего попутчика, так как его чутье подсказывало ему, что он напал на верный след.
Путешественники прибыли в замок Линн, и пока Пельдрам делал вид, что собирается позаботиться об отдыхе, Баркер отправился к своему господину.
— Деньги уплачены? — спросил Норфолк секретаря.
— Да, милорд, — ответил тот.
В кабинете графа находился и секретарь Гайфорд, которому Норфолк сказал:
— Расшифруйте присланное мне письмо.
Гайфорд принялся за работу и вскоре сообщил:
— Ваша светлость! Вас просят переслать верным путем переданные суммы лордам шотландской королевы в Эдинбург.
— Хорошо, это будет исполнено. Но кого пошлешь?
— Гайфорд, вы сами должны отправиться туда.
— Слушаю, милорд, — ответил секретарь.
О каких деньгах шла речь?
Несмотря на видимое уничтожение партии Марии Стюарт, война в Ирландии вспыхнула вновь. 2 сентября 1571 года графу Ленноксу, регенту Шотландии, назначенному Елизаветой вместо убитого Мюррея, удалось взять Дэмбертон. Среди пленных находился дядя Гамильтона, убившего Мюррея. Леннокс объявил его виновным в этом убийстве и приказал повесить. Это вызвало ярость в партии Марии, и ее члены попросили необходимые средства для продолжения войны у Франции, которая и выделила деньги.
Оба секретаря Норфолка покинули кабинет графа. Один из них отправился отдохнуть, другой — приготовиться к дороге. Они слышали впереди себя поспешно удаляющиеся шаги, но не придали этому значения. А между тем это Пельдрам подслушал весь разговор заговорщиков и быстро направился в комнаты, занимаемые им вместе с его агентом.
— Гекки, — приказал он, — надень оружие, пойди к герцогу, объяви ему, что он не смеет выходить из своей комнаты, и сторожи его хорошенько. Я думаю, что его голова представляет большую ценность для нас.
Гекки ответил пошловатым смехом, взял свое оружие и пошел исполнять приказание.
Герцог взглянул на него удивленными глазами.
— Что вам угодно?
— Я хочу составить вам компанию, милорд, — спокойно ответил охранник, — вы — мой пленник.
— По чьему приказанию?
— По приказанию сэра Пельдрама.
— Пельдрам не имеет никакого права вводить какие- либо ограничения моей свободы.
— Это — его дело. Мне же придется заставить вас повиноваться.
— Мы еще поговорим об этом, — сказал Норфолк как можно спокойнее, хотя заподозрил неладное.
Пельдрам отправился к коменданту замка и сказал ему твердым тоном:
— Выставьте караульных во дворе замка, велите часовым никого не пропускать в замок и не выпускать оттуда, приготовьте караульную комнату для приема пленников и дайте мне верного человека, который мог бы спешно доставить мой рапорт лорду Бэрлею.
Офицер не выразил не малейшего протеста, так как имя Сесила Бэрлея действовало магическим образом во всей Англии. Все требования Пельдрама были выполнены.
Пельдрам потребовал еще четырех стрелков в провожатые себе и вместе с ними тотчас же отправился к Гайфорду.
Тот был удивлен не менее, чем его господин при появлении стрелков.
— Отдайте письма, которые вы сейчас вынесли из комнаты герцога! — приказал Пельдрам.
Гайфорд отказался повиноваться.
Тогда Пельдрам подошел к нему, обыскал его, насильно отнял пакет и приказал солдатам:
— Свяжите его!
Его приказ был исполнен.
— Один из вас пусть отведет этого человека в караульную комнату и передаст его коменданту.
Гайфорда увели.
После этого Пельдрам отправился к старому кастеляну и также арестовал его. Баркера постигла та же участь.
Покончив с этим, Пельдрам поставил еще двух часовых перед помещением герцога, а затем написал Бэрлею свой рапорт и отослал его вместе с отобранными бумагами. В Чэтсуорт он отправил своего сотоварища Гекки для наблюдения за Марией. Стюарт.
Ничто не могло сравниться с радостью Бэрлея при известии об этом неожиданном раскрытии заговора. Тотчас же для следствия над арестованными в Линн была отправлена комиссия, и уже после первого допроса Гайфорд был отвезен в Лондон, где его заключили в Тауэр.
В тюрьме его снова допрашивали и подвергли пытке. Страх перед степенями пыток заставил его сознаться во всем и указать, где в замке Линн были спрятаны письма Марии Стюарт, епископа Росского и других к Норфолку. Письма были найдены и отправлены в Лондон вместе с Баркером и кастеляном. Их обоих пытали подобно Гайфорду, и они подтвердили показания своего единомышленника.
Был допрошен и епископ Росский. Он снова пробовал ссылаться на преимущества своего положения как посла, но ему дали понять, что своей изменой он утратил эти преимущества и точно так же может подвергнуться пытке, если еще долее будет упорствовать в своем молчании. Это подействовало, епископ сознался во всем, как и остальные заключенные.
По полученному приказу Пельдрам доставил в Лондон также и герцога Норфолка, который, как и другие, был посажен в Тауэр, а затем вскоре был также допрошен. Герцог написал королеве Елизавете письмо, полное раскаяния и просил о снисхождении и прощении. Но для такой просьбы время было слишком неблагоприятное, а события слишком осложнены.
Пельдрам окончил свою задачу в деле Норфолка и получил приказ ехать в Чэтсуорт для наблюдения за Марией Стюарт, а быть может, еще больше для того, чтобы добыть новые доказательства против обвиняемых или выискать новых заговорщиков.
Когда Гекки прибыл в Чэтсуорт, там еще ничего не знали о том, что произошло в Лондоне и Линне, и все вели себя по-прежнему свободно, так что Гекки мог беспрепятственно наблюдать за всеми. Вскоре он убедился, что тут находится какое-то лицо, при помощи которого Мария Стюарт сообщается с внешним миром, но долгое время никак не мог решить, кто был этим человеком, так как Филли и ее спутники выглядели простыми безобидными купцами, ради наживы посещающими замок.
В этот промежуток времени Сэррей пришел к решению освободить из заключения Марию Стюарт, не дожидаясь результатов заговора. С этой целью он несколько раз советовался с епископом Росским, сочувствовавшим его плану. И в то время, когда Пельдрам встретился с Браем, заговорщики были заняты приготовлениями к бегству Марии. Ради этого Брай был послан подготовить подходы к берегу моря и в маленьком городке — судно, на котором Мария Стюарт могла бы переправиться из Англии во Францию.
Арест епископа Росского, конечно, очень напугал заговорщиков, но они увидели, что арест не повлек за собой никаких серьезных последствий. Тем не менее Сэррей находил отсутствие епископа очень неприятным, так как союзники лишились главного действующего лица для связей, ставших со времени ареста епископа случайными и ненадежными. Поэтому легко себе представить весь ужас Сэррея, когда распространилась весть о раскрытии заговора, Он быстро вскочил на свою лошадь и помчался в Чэтсуорт спасти хоть что-то, что еще было возможно спасти.
Мария Стюарт со своей женской свитой жила спокойно в Чэтсуорте и искусно поддерживала отношения с внешним миром при помощи Тони Ламберт.
Так обстояло дело, когда Гекки наконец стал подозревать торговцев, постоянно посещающих замок, и постарался поближе познакомиться с ними. Это случилось, когда Брай вернулся, окончив порученное ему дело. Во время своей поездки он посетил Лондон и привез письма от Сэррея к Марии Стюарт. Гекки на правах земляка пытался сблизиться с Браем, но тот резко отвернулся от него, что и послужило для Гекки подтверждением его подозрения. Он сообщил об этом Пельдраму — и тот выехал в Чэтсуорт.
Сэррей прибыл раньше Пельдрама и тотчас же созвал своих товарищей.
— Друзья, — начал он, — я привез дурные вести: заговор раскрыт, самые важные его члены задержаны, наше пребывание здесь опасно. Филли, бегите в замок, сообщите там, что я сказал, и пусть уничтожат все письма и документы. Бегите скорей, скорей! А мы займемся приготовлением к отъезду.
Филли была теперь так известна в замке, что без особенного труда пробралась к Тони. Исполнив поручение, она хотела покинуть замок, но как раз в это время были усилены караульные посты и никого из замка не выпускали. Филли оказалась в плену вместе с другими.
Легко сообразить, от кого исходили эти строгости. Вскоре после Сэррея в Чэтсуорт прибыл Пельдрам. Когда он, как уже опытный полицейский, распорядился насчет главного, то пожелал повидать тех, кто был на подозрении.
А в это время Джонстон был на дворе, седлал лошадей. Брай отправился к хозяину уплатить по счету, а Сэррей беспокойно ходил взад и вперед по своей комнате. Приблизившись к окну, он бросил взгляд на улицу и отскочил от окна, схватившись за меч.
— Так и есть! Эта проклятая ищейка напала на наш след! — промолвил Сэррей и, спешно выбежав во двор, сказал Джонстону: — Поторопитесь, нас выследили.
Брай, покончивший расчеты с хозяином, вышел как раз в этот миг на лестницу.
— Вальтер, Вальтер! — позвал его Сэррей пониженным голосом. — Оглянитесь!
Пельдрам, стоявший со своими товарищами перед окном, увидел Сэррея и, тотчас узнав его, воскликнул:
— А!… Он самый! Это хорошо, Гекки, нам решительно повезло. Пойдем, но имей в виду, что нам придется здесь иметь дело с настоящими мужчинами.
Брай услышал предостерегающий голос Сэррея и тотчас узнал Пельдрама.
— Берегись! — обнажив меч, крикнул он, бросившись на Пельдрама, и страшный удар по голове сбросил того окровавленным на землю.
— Вперед, Гекки! — успел крикнуть Пельдрам, падая обессиленным.
— Ты — Гекки? — воскликнул Брай, парируя удар второго врага. — А, черт побери, с тобой-то и хотелось мне встретиться! Получи это за графа Нортумберленда.
Брай имел в виду то, что когда-то Гекки продал этого графа, попавшего в его руки.
Удар Вальтера был так меток и силен, что голова разбойника оказалась почти отрубленной, и он с предсмертным хрипом упал на землю.
— Что случилось? — воскликнул хозяин, выбегая во двор.
Все обитатели дома столпились у места происшествия.
— Разбойники хотели ограбить нас, — ответил Брай. — Нам нет надобности торопиться, друзья.
В это время появился солдат из замка и направился к Сэррею.
— Вы должны спешить, — тихо сказал он, — а молодая дама в безопасности.
— Задержите этих людей! — простонал Пельдрам.
— Кто вы? — спросил его солдат.
— Я…
— Пойдемте, Брай, нам лучше уйти! — сказал Сэррей…
Лошади были готовы, Джонстон, Брай и Сэррей вскочили в седла и выехали через открытые ворота на улицу, где уже собралась толпа. Когда трое смельчаков оставили далеко за собой Чэтсуорт, Брай спросил;
— А Филли?
— Она в безопасности, — ответил Сэррей.
— Куда мы направим свой путь?
— Я сам еще не знаю толком.
От ударов Брая сраженный Гекки скоро испустил дух, но Пельдрам все же пришел в себя. К его полномочиям относилось ужесточение мер, касавшихся заключения Марии Стюарт. Королеве были оставлены только две комнаты. Она была разлучена со своей свитой, ей прислуживала всего одна женщина. Случайно выбор пал на Тони.
При обыске в замке в прежних комнатах Марии и в принадлежащих ей вещах ничего не нашли.
Присутствия Филли в замке тоже, казалось, никто не замечал. Конечно, она держалась, по возможности, в тени. Незнакомые считали ее служанкой леди Джэн Сэйтон. К тому же она так изменила свою внешность, что и знакомые не могли ее узнать.
Как только первому министру Елизаветы доложили, что в приемной его ожидает некий Пельдрам, тот быстро вскочил и велел впустить ожидавшего. Пельдрам вошел, Бэрлей приказал присутствовавшему в комнате секретарю удалиться, а сам стал перед вошедшим и устремил на него пытливый взор. Пельдрам храбро выдержал этот взгляд и спокойно ждал, что министр скажет.
— Сэр Пельдрам, — наконец начал Бэрлей, — как вам живется в замке Линн?
— Очень спокойно, — ответил Пельдрам. — Мне редко приходилось вести столь мирную жизнь.
— А что делает герцог?
— О нем нельзя сказать ничего особенного: он гуляет, ездит верхом, катается, охотится, разговаривает со своими слугами.
— Принимает ли он посторонних?
— Никогда.
— Ведет ли он корреспонденцию?
— Несомненно?
— Кому поручаются для отправки его письма?
— Его лакеям. Но ведь был определенный приказ не мешать им ни в чем.
— Я знаю это, но ловкий человек должен понимать двойственность всякого приказа.
— А-а! Ну, я сомневаюсь, чтобы лакеи были посвящены в тайны герцога.
— Но можно было бы узнать адреса писем, отправляемых герцогом.
— Их я знаю, милорд.
— Значит, вы все же проявили зоркость. Ну, потом назовете мне имена адресатов, а теперь скажите; как вы отнесетесь к известию, что ваш друг Кингтон посажен мной в тюрьму?
— Слава Богу, милорд! Я думаю, что он не должен выйти из нее иначе, чем на виселицу.
— Дело обстоит приблизительно так. Но слушайте дальше! Кингтон был лакеем у некоего Балльи, везшего секретные письма к епископу Росскому. Господин и слуга были задержаны, а их бумаги конфискованы, но исчезли необъяснимым образом. Епископ, получивший эти бумаги, арестован, но у него ничего не нашли. Балльи сознался, что епископ через итальянца Ридольфи состоит в отношениях с герцогом Альба. Это что-нибудь да означает. Очевидно, есть заговор, и вы должны выяснить мне это.
— Задача нелегкая!
— Вы правы, но я выдам вам Кинггона, а вы мне взамен — заговорщиков.
— За голову Кинггона стоит постараться.
— Меня очень удивило бы, если бы герцог не был замешан в деле; назовите мне людей, которым он адресует свои письма.
— Большей частью своему секретарю Баркеру, живущему здесь, в Лондоне, затем Лэмлею, Соустэмитону и Перси.
— Так, так! Было бы хорошо, если бы вы послали верного человека в Чэтсуорт, так как настоящего главаря заговора, несомненно, надо искать там.
— Я буду наблюдать за этим уголком.
— Хорошо!… Я вскоре буду ожидать ваших сообщений. Теперь идите!…
Пельдрам раскланялся и вышел из комнаты. В глубоком раздумье он покинул дом и направился по улице и через какое-то время остановился напротив дома французского посла.
В этот момент из дома вышел секретарь Норфолка Баркер, осмотрелся кругом и поспешно удалился.
Это обстоятельствоимело очень важное значение для Пельдрама, без долгих рассуждений он отправился ко дворцу Норфолка и, став поблизости, стал наблюдать. Уже через полчаса он увидел этого секретаря, отъезжавшего верхом.
Пельдрам поспешил в свою квартиру, велел оседлать лошадь и последовал за Баркером, который, судя по его расчетам, мог ехать только к своему господину. Но, прежде чем он оставил Лондон, ему неожиданно попался навстречу Брай, который, казалось, его не заметил.
У Пельдрама не было ни времени, ни охоты преследовать Брая, он преследовал Баркера. Секретарь явно смутился, когда Пельдрам объявил, что намерен совершить путь до замка Линн в его обществе. Отклонить компанию нежелательного спутника не было никакой возможности, и оба продолжали путь. Пельдрам ни на секунду не спускал взгляда со своего попутчика, так как его чутье подсказывало ему, что он напал на верный след.
Путешественники прибыли в замок Линн, и пока Пельдрам делал вид, что собирается позаботиться об отдыхе, Баркер отправился к своему господину.
— Деньги уплачены? — спросил Норфолк секретаря.
— Да, милорд, — ответил тот.
В кабинете графа находился и секретарь Гайфорд, которому Норфолк сказал:
— Расшифруйте присланное мне письмо.
Гайфорд принялся за работу и вскоре сообщил:
— Ваша светлость! Вас просят переслать верным путем переданные суммы лордам шотландской королевы в Эдинбург.
— Хорошо, это будет исполнено. Но кого пошлешь?
— Гайфорд, вы сами должны отправиться туда.
— Слушаю, милорд, — ответил секретарь.
О каких деньгах шла речь?
Несмотря на видимое уничтожение партии Марии Стюарт, война в Ирландии вспыхнула вновь. 2 сентября 1571 года графу Ленноксу, регенту Шотландии, назначенному Елизаветой вместо убитого Мюррея, удалось взять Дэмбертон. Среди пленных находился дядя Гамильтона, убившего Мюррея. Леннокс объявил его виновным в этом убийстве и приказал повесить. Это вызвало ярость в партии Марии, и ее члены попросили необходимые средства для продолжения войны у Франции, которая и выделила деньги.
Оба секретаря Норфолка покинули кабинет графа. Один из них отправился отдохнуть, другой — приготовиться к дороге. Они слышали впереди себя поспешно удаляющиеся шаги, но не придали этому значения. А между тем это Пельдрам подслушал весь разговор заговорщиков и быстро направился в комнаты, занимаемые им вместе с его агентом.
— Гекки, — приказал он, — надень оружие, пойди к герцогу, объяви ему, что он не смеет выходить из своей комнаты, и сторожи его хорошенько. Я думаю, что его голова представляет большую ценность для нас.
Гекки ответил пошловатым смехом, взял свое оружие и пошел исполнять приказание.
Герцог взглянул на него удивленными глазами.
— Что вам угодно?
— Я хочу составить вам компанию, милорд, — спокойно ответил охранник, — вы — мой пленник.
— По чьему приказанию?
— По приказанию сэра Пельдрама.
— Пельдрам не имеет никакого права вводить какие- либо ограничения моей свободы.
— Это — его дело. Мне же придется заставить вас повиноваться.
— Мы еще поговорим об этом, — сказал Норфолк как можно спокойнее, хотя заподозрил неладное.
Пельдрам отправился к коменданту замка и сказал ему твердым тоном:
— Выставьте караульных во дворе замка, велите часовым никого не пропускать в замок и не выпускать оттуда, приготовьте караульную комнату для приема пленников и дайте мне верного человека, который мог бы спешно доставить мой рапорт лорду Бэрлею.
Офицер не выразил не малейшего протеста, так как имя Сесила Бэрлея действовало магическим образом во всей Англии. Все требования Пельдрама были выполнены.
Пельдрам потребовал еще четырех стрелков в провожатые себе и вместе с ними тотчас же отправился к Гайфорду.
Тот был удивлен не менее, чем его господин при появлении стрелков.
— Отдайте письма, которые вы сейчас вынесли из комнаты герцога! — приказал Пельдрам.
Гайфорд отказался повиноваться.
Тогда Пельдрам подошел к нему, обыскал его, насильно отнял пакет и приказал солдатам:
— Свяжите его!
Его приказ был исполнен.
— Один из вас пусть отведет этого человека в караульную комнату и передаст его коменданту.
Гайфорда увели.
После этого Пельдрам отправился к старому кастеляну и также арестовал его. Баркера постигла та же участь.
Покончив с этим, Пельдрам поставил еще двух часовых перед помещением герцога, а затем написал Бэрлею свой рапорт и отослал его вместе с отобранными бумагами. В Чэтсуорт он отправил своего сотоварища Гекки для наблюдения за Марией. Стюарт.
Ничто не могло сравниться с радостью Бэрлея при известии об этом неожиданном раскрытии заговора. Тотчас же для следствия над арестованными в Линн была отправлена комиссия, и уже после первого допроса Гайфорд был отвезен в Лондон, где его заключили в Тауэр.
В тюрьме его снова допрашивали и подвергли пытке. Страх перед степенями пыток заставил его сознаться во всем и указать, где в замке Линн были спрятаны письма Марии Стюарт, епископа Росского и других к Норфолку. Письма были найдены и отправлены в Лондон вместе с Баркером и кастеляном. Их обоих пытали подобно Гайфорду, и они подтвердили показания своего единомышленника.
Был допрошен и епископ Росский. Он снова пробовал ссылаться на преимущества своего положения как посла, но ему дали понять, что своей изменой он утратил эти преимущества и точно так же может подвергнуться пытке, если еще долее будет упорствовать в своем молчании. Это подействовало, епископ сознался во всем, как и остальные заключенные.
По полученному приказу Пельдрам доставил в Лондон также и герцога Норфолка, который, как и другие, был посажен в Тауэр, а затем вскоре был также допрошен. Герцог написал королеве Елизавете письмо, полное раскаяния и просил о снисхождении и прощении. Но для такой просьбы время было слишком неблагоприятное, а события слишком осложнены.
Пельдрам окончил свою задачу в деле Норфолка и получил приказ ехать в Чэтсуорт для наблюдения за Марией Стюарт, а быть может, еще больше для того, чтобы добыть новые доказательства против обвиняемых или выискать новых заговорщиков.
Когда Гекки прибыл в Чэтсуорт, там еще ничего не знали о том, что произошло в Лондоне и Линне, и все вели себя по-прежнему свободно, так что Гекки мог беспрепятственно наблюдать за всеми. Вскоре он убедился, что тут находится какое-то лицо, при помощи которого Мария Стюарт сообщается с внешним миром, но долгое время никак не мог решить, кто был этим человеком, так как Филли и ее спутники выглядели простыми безобидными купцами, ради наживы посещающими замок.
В этот промежуток времени Сэррей пришел к решению освободить из заключения Марию Стюарт, не дожидаясь результатов заговора. С этой целью он несколько раз советовался с епископом Росским, сочувствовавшим его плану. И в то время, когда Пельдрам встретился с Браем, заговорщики были заняты приготовлениями к бегству Марии. Ради этого Брай был послан подготовить подходы к берегу моря и в маленьком городке — судно, на котором Мария Стюарт могла бы переправиться из Англии во Францию.
Арест епископа Росского, конечно, очень напугал заговорщиков, но они увидели, что арест не повлек за собой никаких серьезных последствий. Тем не менее Сэррей находил отсутствие епископа очень неприятным, так как союзники лишились главного действующего лица для связей, ставших со времени ареста епископа случайными и ненадежными. Поэтому легко себе представить весь ужас Сэррея, когда распространилась весть о раскрытии заговора, Он быстро вскочил на свою лошадь и помчался в Чэтсуорт спасти хоть что-то, что еще было возможно спасти.
Мария Стюарт со своей женской свитой жила спокойно в Чэтсуорте и искусно поддерживала отношения с внешним миром при помощи Тони Ламберт.
Так обстояло дело, когда Гекки наконец стал подозревать торговцев, постоянно посещающих замок, и постарался поближе познакомиться с ними. Это случилось, когда Брай вернулся, окончив порученное ему дело. Во время своей поездки он посетил Лондон и привез письма от Сэррея к Марии Стюарт. Гекки на правах земляка пытался сблизиться с Браем, но тот резко отвернулся от него, что и послужило для Гекки подтверждением его подозрения. Он сообщил об этом Пельдраму — и тот выехал в Чэтсуорт.
Сэррей прибыл раньше Пельдрама и тотчас же созвал своих товарищей.
— Друзья, — начал он, — я привез дурные вести: заговор раскрыт, самые важные его члены задержаны, наше пребывание здесь опасно. Филли, бегите в замок, сообщите там, что я сказал, и пусть уничтожат все письма и документы. Бегите скорей, скорей! А мы займемся приготовлением к отъезду.
Филли была теперь так известна в замке, что без особенного труда пробралась к Тони. Исполнив поручение, она хотела покинуть замок, но как раз в это время были усилены караульные посты и никого из замка не выпускали. Филли оказалась в плену вместе с другими.
Легко сообразить, от кого исходили эти строгости. Вскоре после Сэррея в Чэтсуорт прибыл Пельдрам. Когда он, как уже опытный полицейский, распорядился насчет главного, то пожелал повидать тех, кто был на подозрении.
А в это время Джонстон был на дворе, седлал лошадей. Брай отправился к хозяину уплатить по счету, а Сэррей беспокойно ходил взад и вперед по своей комнате. Приблизившись к окну, он бросил взгляд на улицу и отскочил от окна, схватившись за меч.
— Так и есть! Эта проклятая ищейка напала на наш след! — промолвил Сэррей и, спешно выбежав во двор, сказал Джонстону: — Поторопитесь, нас выследили.
Брай, покончивший расчеты с хозяином, вышел как раз в этот миг на лестницу.
— Вальтер, Вальтер! — позвал его Сэррей пониженным голосом. — Оглянитесь!
Пельдрам, стоявший со своими товарищами перед окном, увидел Сэррея и, тотчас узнав его, воскликнул:
— А!… Он самый! Это хорошо, Гекки, нам решительно повезло. Пойдем, но имей в виду, что нам придется здесь иметь дело с настоящими мужчинами.
Брай услышал предостерегающий голос Сэррея и тотчас узнал Пельдрама.
— Берегись! — обнажив меч, крикнул он, бросившись на Пельдрама, и страшный удар по голове сбросил того окровавленным на землю.
— Вперед, Гекки! — успел крикнуть Пельдрам, падая обессиленным.
— Ты — Гекки? — воскликнул Брай, парируя удар второго врага. — А, черт побери, с тобой-то и хотелось мне встретиться! Получи это за графа Нортумберленда.
Брай имел в виду то, что когда-то Гекки продал этого графа, попавшего в его руки.
Удар Вальтера был так меток и силен, что голова разбойника оказалась почти отрубленной, и он с предсмертным хрипом упал на землю.
— Что случилось? — воскликнул хозяин, выбегая во двор.
Все обитатели дома столпились у места происшествия.
— Разбойники хотели ограбить нас, — ответил Брай. — Нам нет надобности торопиться, друзья.
В это время появился солдат из замка и направился к Сэррею.
— Вы должны спешить, — тихо сказал он, — а молодая дама в безопасности.
— Задержите этих людей! — простонал Пельдрам.
— Кто вы? — спросил его солдат.
— Я…
— Пойдемте, Брай, нам лучше уйти! — сказал Сэррей…
Лошади были готовы, Джонстон, Брай и Сэррей вскочили в седла и выехали через открытые ворота на улицу, где уже собралась толпа. Когда трое смельчаков оставили далеко за собой Чэтсуорт, Брай спросил;
— А Филли?
— Она в безопасности, — ответил Сэррей.
— Куда мы направим свой путь?
— Я сам еще не знаю толком.
От ударов Брая сраженный Гекки скоро испустил дух, но Пельдрам все же пришел в себя. К его полномочиям относилось ужесточение мер, касавшихся заключения Марии Стюарт. Королеве были оставлены только две комнаты. Она была разлучена со своей свитой, ей прислуживала всего одна женщина. Случайно выбор пал на Тони.
При обыске в замке в прежних комнатах Марии и в принадлежащих ей вещах ничего не нашли.
Присутствия Филли в замке тоже, казалось, никто не замечал. Конечно, она держалась, по возможности, в тени. Незнакомые считали ее служанкой леди Джэн Сэйтон. К тому же она так изменила свою внешность, что и знакомые не могли ее узнать.


 Следствие по делу Норфолка длилось до января 1572 года. Наконец двадцать четвертого числа этого месяца состоялся суд в большом Вестминстерском зале. Норфолка обвиняли в намерении лишить королеву Елизавету престола и жизни, в желании вступить в брак с Марией Стюарт, к которой он, как судья над ней, должен был бы относиться как к нарушительнице супружеской верности и мужеубийце, а также в преступных сношениях с папой римским и испанским королем.
После предъявления доказательств герцогу дано было право защищать себя, что он и исполнил в общем с ловкостью, умом и убедительностью. Одно лишь было позорно с его стороны — он с презрением говорил о браке с Марией Стюарт. Но его защитительная речь не увенчалась успехом. После долгого совещания члены суда единогласно приговорили его к смерти. Приговор был объявлен герцогу, и он выслушал его спокойно.
— Милорды, — сказал он в ответ, — я умираю верным моей королеве, насколько это только возможно. Вы вытолкнули меня из своего круга, но я надеюсь вскоре быть в лучшем кругу. Я не прошу никого из вас ходатайствовать за мою жизнь. Для меня все кончено. Но я лишь прошу быть моими заступниками у ее величества, чтобы она не лишила своей доброты моих бедных осиротелых детей, уплатила мои долги и не оставила в нищете моих бедных слуг.
Норфолк перед смертью написал письмо Елизавете, в котором выражал свое раскаяние, молил о милости и в особенности просил монархиню позаботиться о его детях.
Совершенно иначе поступила Мария по отношению к нему. Услышав о смертном приговоре Норфолку, Мария плакала день и ночь и объявила, что смерть Норфолка принесет ей более огорчения, чем кончина ее первого супруга Франциска II, которого она все же бесконечно любила.
В эти часы ее скорби Филли удалось пробраться к ней и посоветовать обратиться лично к Елизавете с просьбой о помиловании Норфолка. Мария ухватилась за эту мысль и написала трогательное письмо, которое Филли взялась передать.
Храбрая женщина с вверенным ей письмом покинула Чэтсуорт и отправилась в Лондон, прежде всего к своей матери.
Графиня Гертфорд, следившая со вниманием и не без сердечного волнения за текущими событиями, приняла ее с радостью.
Филли решила передать с матерью письмо Марии Стюарт и свое послание Лейстеру.
«Милорд, мой господин и повелитель! — писала она мужу. — Вы, быть может, рассердились на меня за то, что я без Вашего разрешения покинула указанное Вами мне местопребывание, и, быть может, думаете, что вследствие пережитых Вами обстоятельств я изменилась к Вам в своих чувствах. Это было бы заблуждением с Вашей стороны. Я ушла с намерением быть Вам полезной, и мне было больно, что Вы не выказали мне доверия, которым наградили дурных, вероломных людей. Моя любовь к Вам осталась неизменной, я готова быть Вам служанкой — всем, чем хотите, как это уж и было. Никогда не бойтесь, что я предъявлю к Вам какие-нибудь требования или претензии. Но я решила обратиться к Вам, ради другой особы, страдания которой так же велики, как незаслуженны. С чувством удовлетворения и радости узнала, что Вы не играли никакой деятельной роли во враждебной ей партии. Эта причина дает мне смелость просить Вас передать прилагаемое письмо несчастной королевы Марии Стюарт в руки королевы английской. В этом письме королева просит о помиловании Норфолка. Ведь герцог был также и Вашим другом. Итак, я по-прежнему близка Вам. Прикажите только — и с Вами сейчас же будет Ваша Филли».
Когда лорду Лейстеру доложили о графине Гертфорд, он колебался, принять ли ее, но благоразумно согласился. Правда, Лейстер принял графиню холодно, до известной степени настроенным против всяких ее требований и упреков. Взяв письмо, он вскрыл его, глазами пробежал несколько строк и испугался, но, дочитав до конца, глубоко вздохнул и долгое время оставался в раздумье, а затем произнес:
— Я постараюсь исполнить желание леди, на скажу прямо — надежды на успех очень мало.
Графиня поклонилась.
— Я также желал бы повидать вашу дочь, — продолжал он, — сегодня вечером я навещу ее.
Графиня снова поклонилась и вышла от лорда, чтобы поспешить к дочери и рассказать ей о своем посещении.
Филли была чрезвычайно рада сообщению своей матери.
Лейстер сдержал слово относительно письма Марии. Правда, он передал его королеве Елизавете не сам, так как это было для него слишком опасно.
Как и следовало ожидать, письмо не привело ни к чему. Мария Стюарт была самой неподходящей заступницей для герцога Норфолка.
Свидание Лейстера с Филли состоялось в тот же вечер, Филли была все так же красива, как и прежде, И при виде ее прежняя страсть снова возгорелась в сердце лорда, и он провел счастливый вечер в доме графини. Но не ограничился этим. Он объявил, что не желает более отпускать от себя Филли, и было решено сообща, что она вместе с матерью переселится в его замок Кенилворот. Действительно, уже на другой день обе отправились в путь.
Елизавета долго медлила подписать смертный приговор Норфолку. Не было недостатка в людях, просивших о помиловании и смягчении. Но ее сопротивление поддерживалось строгим неумолимым лордом Бэрлеем.
Наконец 31 мая 1572 года Елизавета подписала вынесенный Норфлоку смертный приговор, а 2 июня 1572 года Лондон снова сделался свидетелем зрелища, которое видел так часто в прежние времена и которое ему предстояло нередко видеть и в будущем. Ровно в восемь часов утра двери Тауэра для Норфолка отворились. На Тауэр-Гилле был воздвигнут для него эшафот. Он вступил на роковой помост спокойно и с достоинством.
По старинному обычаю, в Англии преступнику позволялось держать речь перед казнью, и у врат вечности говорилось много замечательного как невинно, так и справедливо осужденными. Норфолк воспользовался этим правом и долго говорил к народу, после чего обратился с молитвой к Богу и положил голову на плаху, не позволив завязать себе глаза. Секира палача сверкнула в воздухе — и великому заговору герцога пришел конец.
Во время этих событий Мария Стюарт была переведена из Чэтсуорта в Шеффилд, где содержалась под строгим надзором Шрисбери. Остальные участники заговора были наказаны различным образом, хотя не поплатились жизнью: большинство из них ждало изгнание и конфискация имущества. Епископ Росский также очутился в числе изгнанников, причем ему пригрозили жестокой карой, если он посмеет вернуться обратно. Балльи был схвачен и выдворен за границу.
Зато Кинггону повезло. По ошибке Бэрлею было доложено о смерти Пельдрама, как и Гекки. Это была значительная потеря для министра. Но так как теперь он освободился от обещания, данного Пельдраму, то подумал заменить его Кингтоном. И вот после переговоров с министром смелый злодей исчез из Тауэра. Когда же Пельдрам снова объявился, то от него отделались, сказав, что его враг бежал по недосмотру сторожей.
Следствие по делу Норфолка длилось до января 1572 года. Наконец двадцать четвертого числа этого месяца состоялся суд в большом Вестминстерском зале. Норфолка обвиняли в намерении лишить королеву Елизавету престола и жизни, в желании вступить в брак с Марией Стюарт, к которой он, как судья над ней, должен был бы относиться как к нарушительнице супружеской верности и мужеубийце, а также в преступных сношениях с папой римским и испанским королем.
После предъявления доказательств герцогу дано было право защищать себя, что он и исполнил в общем с ловкостью, умом и убедительностью. Одно лишь было позорно с его стороны — он с презрением говорил о браке с Марией Стюарт. Но его защитительная речь не увенчалась успехом. После долгого совещания члены суда единогласно приговорили его к смерти. Приговор был объявлен герцогу, и он выслушал его спокойно.
— Милорды, — сказал он в ответ, — я умираю верным моей королеве, насколько это только возможно. Вы вытолкнули меня из своего круга, но я надеюсь вскоре быть в лучшем кругу. Я не прошу никого из вас ходатайствовать за мою жизнь. Для меня все кончено. Но я лишь прошу быть моими заступниками у ее величества, чтобы она не лишила своей доброты моих бедных осиротелых детей, уплатила мои долги и не оставила в нищете моих бедных слуг.
Норфолк перед смертью написал письмо Елизавете, в котором выражал свое раскаяние, молил о милости и в особенности просил монархиню позаботиться о его детях.
Совершенно иначе поступила Мария по отношению к нему. Услышав о смертном приговоре Норфолку, Мария плакала день и ночь и объявила, что смерть Норфолка принесет ей более огорчения, чем кончина ее первого супруга Франциска II, которого она все же бесконечно любила.
В эти часы ее скорби Филли удалось пробраться к ней и посоветовать обратиться лично к Елизавете с просьбой о помиловании Норфолка. Мария ухватилась за эту мысль и написала трогательное письмо, которое Филли взялась передать.
Храбрая женщина с вверенным ей письмом покинула Чэтсуорт и отправилась в Лондон, прежде всего к своей матери.
Графиня Гертфорд, следившая со вниманием и не без сердечного волнения за текущими событиями, приняла ее с радостью.
Филли решила передать с матерью письмо Марии Стюарт и свое послание Лейстеру.
«Милорд, мой господин и повелитель! — писала она мужу. — Вы, быть может, рассердились на меня за то, что я без Вашего разрешения покинула указанное Вами мне местопребывание, и, быть может, думаете, что вследствие пережитых Вами обстоятельств я изменилась к Вам в своих чувствах. Это было бы заблуждением с Вашей стороны. Я ушла с намерением быть Вам полезной, и мне было больно, что Вы не выказали мне доверия, которым наградили дурных, вероломных людей. Моя любовь к Вам осталась неизменной, я готова быть Вам служанкой — всем, чем хотите, как это уж и было. Никогда не бойтесь, что я предъявлю к Вам какие-нибудь требования или претензии. Но я решила обратиться к Вам, ради другой особы, страдания которой так же велики, как незаслуженны. С чувством удовлетворения и радости узнала, что Вы не играли никакой деятельной роли во враждебной ей партии. Эта причина дает мне смелость просить Вас передать прилагаемое письмо несчастной королевы Марии Стюарт в руки королевы английской. В этом письме королева просит о помиловании Норфолка. Ведь герцог был также и Вашим другом. Итак, я по-прежнему близка Вам. Прикажите только — и с Вами сейчас же будет Ваша Филли».
Когда лорду Лейстеру доложили о графине Гертфорд, он колебался, принять ли ее, но благоразумно согласился. Правда, Лейстер принял графиню холодно, до известной степени настроенным против всяких ее требований и упреков. Взяв письмо, он вскрыл его, глазами пробежал несколько строк и испугался, но, дочитав до конца, глубоко вздохнул и долгое время оставался в раздумье, а затем произнес:
— Я постараюсь исполнить желание леди, на скажу прямо — надежды на успех очень мало.
Графиня поклонилась.
— Я также желал бы повидать вашу дочь, — продолжал он, — сегодня вечером я навещу ее.
Графиня снова поклонилась и вышла от лорда, чтобы поспешить к дочери и рассказать ей о своем посещении.
Филли была чрезвычайно рада сообщению своей матери.
Лейстер сдержал слово относительно письма Марии. Правда, он передал его королеве Елизавете не сам, так как это было для него слишком опасно.
Как и следовало ожидать, письмо не привело ни к чему. Мария Стюарт была самой неподходящей заступницей для герцога Норфолка.
Свидание Лейстера с Филли состоялось в тот же вечер, Филли была все так же красива, как и прежде, И при виде ее прежняя страсть снова возгорелась в сердце лорда, и он провел счастливый вечер в доме графини. Но не ограничился этим. Он объявил, что не желает более отпускать от себя Филли, и было решено сообща, что она вместе с матерью переселится в его замок Кенилворот. Действительно, уже на другой день обе отправились в путь.
Елизавета долго медлила подписать смертный приговор Норфолку. Не было недостатка в людях, просивших о помиловании и смягчении. Но ее сопротивление поддерживалось строгим неумолимым лордом Бэрлеем.
Наконец 31 мая 1572 года Елизавета подписала вынесенный Норфлоку смертный приговор, а 2 июня 1572 года Лондон снова сделался свидетелем зрелища, которое видел так часто в прежние времена и которое ему предстояло нередко видеть и в будущем. Ровно в восемь часов утра двери Тауэра для Норфолка отворились. На Тауэр-Гилле был воздвигнут для него эшафот. Он вступил на роковой помост спокойно и с достоинством.
По старинному обычаю, в Англии преступнику позволялось держать речь перед казнью, и у врат вечности говорилось много замечательного как невинно, так и справедливо осужденными. Норфолк воспользовался этим правом и долго говорил к народу, после чего обратился с молитвой к Богу и положил голову на плаху, не позволив завязать себе глаза. Секира палача сверкнула в воздухе — и великому заговору герцога пришел конец.
Во время этих событий Мария Стюарт была переведена из Чэтсуорта в Шеффилд, где содержалась под строгим надзором Шрисбери. Остальные участники заговора были наказаны различным образом, хотя не поплатились жизнью: большинство из них ждало изгнание и конфискация имущества. Епископ Росский также очутился в числе изгнанников, причем ему пригрозили жестокой карой, если он посмеет вернуться обратно. Балльи был схвачен и выдворен за границу.
Зато Кинггону повезло. По ошибке Бэрлею было доложено о смерти Пельдрама, как и Гекки. Это была значительная потеря для министра. Но так как теперь он освободился от обещания, данного Пельдраму, то подумал заменить его Кингтоном. И вот после переговоров с министром смелый злодей исчез из Тауэра. Когда же Пельдрам снова объявился, то от него отделались, сказав, что его враг бежал по недосмотру сторожей.


 Неудача заговора герцога Норфолка охладила пыл не только Шотландии и Англии, но и почти всех европейских стран. Некоторое время никто не помышлял о способах освобождения из неволи Марии Стюарт и восстановления ее прав. У нее была отнята малейшая возможность затеять новые политические интриги, тогда как у ее приверженцев как будто пропала к тому всякая охота. Между тем политические дела Европы шли своим чередом.
Елизавета подавила восстание на севере своего королевства; заговор против нее герцога Норфолка провалился. Ее политике удалось разъединить две враждебные ей великие державы на европейском континенте. Елизавета воспользовалась заключенным ею миром с Францией, равно как проектом брачного союза между ней и герцогом Анжуйским, чтобы домогаться союза с французским королем Карлом IX. Путем заключения позднее договора об этом Англия заручилась поддержкой Франции в случае испанского нашествия.
Счастье было на стороне Елизаветы и в Шотландии. Мария Стюарт все еще имела там сильную партию. С тех пор, как снова начались военные действия между лордами верными королеве и лордами верными королю, графа Леннокса постигла участь его предшественника Мюррея: он также был убит. Вследствие этого знатнейшие лорды короля были арестованы. На следующий день регентом был избран граф Марр, состоявший воспитателем при молодом короле.
Несмотря на занятие Дэмбертона и поддержку королевы Елизаветы, партия короля не могла вполне подорвать партию приверженцев королевы Марии Стюарт, которые заняли кроме Эдинбурга замки Нидри, Ливингстон и Блекнесс. Они победоносно сражались как на севере, так и на востоке Шотландии.
Елизавета решила заставить эту партию добровольно сложить оружие и потому устроила между враждующими партиями перемирие, состоявшееся 20 июля 1572 года. За услуги, которые Елизавета оказала этим Иакову VI, она добилась выдачи графа Нортумберленда, который и был казнен в Йорке 25 августа.
Однако в тот момент, когда Елизавета воображала себя в полной безопасности, пришло известие о Варфоломеевской ночи в Париже. Вопль ужаса пронесся по всему королевству, Елизавета созвала свой Тайный совет.
Много дней заставила она прождать аудиенции французского посланника Ла-Мот-Фенелона в Оксфорде, куда он прибыл, чтобы оправдать эту кровопролитную резню мнимым открытием заговора протестантов. Когда королева приняла его наконец, она сама, как и члены ее государственного совета и знатнейшие дамы, была облачена во все черное, а ее кабинет походил на погребальный склеп. Ла-Мот-Фенелон прошел мимо безмолвных присутствующих и приблизился к Елизавете. Она приняла его с необычайно строгим видом, снова высказала свое отвращение к подобному злодейству и решительно не поверила объяснениям Фенелона. Она отнеслась с удивлением и порицанием к поступку французского короля Карла IX, а на уверения, которые возобновил посланник, возразила, что сильно опасается, как бы те, которые склонили французского короля пожертвовать своими наследственными подданными, не заставили его пожертвовать потом королевой.
Елизавета думала, что ее предали, и ей казалось, что протестантству грозит большой заговор, сигналом которого послужила резня в Париже. По этой причине она заключила союз с Германией, велела вербовать там солдат, укрепила Портсмут, Дувр и остров Уайт, снарядила десять больших кораблей для крейсирования в Ла-Манше, оказала поддержку протестантам во Франции, строже прежнего следила за католиками в своем королевстве и строила самые пагубные планы относительно королевы Марии Стюарт, на которую возлагались надежды католической партии как в Англии, так и в Шотландии.
После раскрытия заговора герцога Норфолка Елизавета официально заявила, что не могла бы прожить спокойно ни единого часа, если бы Мария Стюарт снова вступила на престол, и что теперь она приняла твердое решение никогда больше не возвращать ей свободы. Протестантское духовенство считало, что смертная казнь шотландской королевы была бы справедлива, законоведы, со своей стороны, доказывали ее законность. Обе палаты парламента хотели предать Марию Стюарт суду. Однако Елизавета воспротивилась этому. Чтобы избавить царственную пленницу от преследований подобного рода, парламент был распущен и правительство удовольствовалось тем, что решило запугать шотландскую королеву лишь подобием обвинения.
Марию Стюарт подвергли допросу. Она отвечала осторожно, утверждая, что не питала никаких враждебных намерений против Елизаветы, когда задумала вступить в брак с Норфолком, а посылая Ридольфи к папе Пию V и Филиппу II, имела в виду только освобождение Шотландии. Елизавета, которая нашла ее объяснения неудовлетворительными, не хотела затевать судебный процесс. Но после кровопролития Варфоломеевской ночи стала все же помышлять о том, как бы избавиться от Марии. План, начертанный ею с этой целью при помощи Бэрлея и Лейстера, должен был осуществиться в Шотландии, и выполнять его доверили одному из самых ловких агентов. В Шотландию отправился Генрих Киллегрю, зять Бэрлея, с двумя поручениями, одно из которых было явным, а другое тайным, Первое заключалось в том, чтобы привести к окончательному примирению враждующие политические партии, второе — чтобы договориться с графом Мортоном относительно смерти Марии Стюарт.
Киллегрю должен был дать понять союзникам Елизаветы, что ради общей безопасности Мария Стюарт не может оставаться в живых, но что ее неудобно судить в Англии, а лучше — в Шотландии. С этой целью шотландцы должны были бы потребовать к себе пленную Марию, которая и будет выдана им Елизаветой.
Киллегрю встретил в Шотландии также крайнее волнение по поводу Варфоломеевской ночи. Престарелый Нокс, удалившийся в Сент-Эндрю, снова вернулся в Эдинбург. Хотя вследствие апоплексического удара у него отнялась половина тела, он все же приказал внести себя на кафедру и, будучи терзаем страданиями и разгорячен гневом, громил убийц его протестантских братьев во Франции. Нокс со своими учениками много способствовал тому, что союз Шотландии с Францией стал делаться все популярнее.
Киллегрю воспользовался этим для своих целей; ему удалось убедить графа Мортона в необходимости казни Марии Стюарт, но регента Марра не так легко было убедить в этом.
Киллегрю при поддержке Нокса все более и более восстанавливал народ против католиков и имел многократные совещания с Марром и Мортоном о «великом деле». Оба графа согласились наконец устранить предмет несогласий, то есть Марию Стюарт, и даже было оговорено время для ее гибели — не позже четырех часов после выдачи ее шотландцам. Условием этого они поставили следующее: чтобы Елизавета объявила себя защитницей молодого короля Иакова VI, чтобы права последнего не были умалены смертью матери, чтобы между обоими королевствами был заключен оборонительный союз, чтобы три тысячи человек из английского войска присутствовали при казни (это была военная сила, которая, соединившись с войском молодого короля, должна была взять приступом крепость Эдинбурга) и, наконец, чтобы эта крепость была уступлена регенту и Англия заплатила бы шотландскому войску недополученное им жалованье.
Елизавета, по своей скупости, нашла такие условия неприемлемыми. Она очень желала погубить Марию Стюарт, но не имела никакой охоты платить убийцам и выставлять себя соучастницей этого злодейства.
Внезапная смерть регента графа Марра, умершего 28 октября 1573 года в Стирлинге (как полагают, отравленного), задержала эти постыдные переговоры, но они продолжались до 1574 года.
Бэрлей предложил королеве избавиться от Марии Стюарт в Англии. Елизавета не решилась последовать его совету, но склонила на свою сторону и совершенно подавила партию Марии Стюарт в Шотландии. Мортон был назначен регентом после умершего графа Марра; в тот самый день, когда он принял бразды правления, скончался Нокс. Этот непреклонный деятель реформации, так много способствовавший своими поучениями религиозному и политическому перевороту в Шотландии, умер, хотя и больной телом, но крепкий духом, в возрасте шестидесятисеми лет.
Партия королевы Марии после пятилетней бесплодной борьбы значительно обессилела. В ее руках оставалась теперь лишь крепость Эдинбург. Киркэльди ла Гранж и Летингтон держались в эдинбургской цитадели, где ожидали помощи, обещанной французским двором. Тогда как прочие приверженцы Марии Стюарт, с Гамильтонами и Гордонами во главе, пошли на соглашение, предложенное им Мортоном, эти двое храбрых защитников Эдинбурга имея в своем распоряжении всего двести солдат, решили сопротивляться до конца. Они не хотели слышать о сдаче, полагаясь на неприступность своей твердыни и ожидаемую помощь французов.
Однако союзники не пришли им на выручку. Против крепости повели осаду. За недостатком средств обороны она не могла оказать продолжительного сопротивления, и вскоре ее мужественные защитники принуждены были сдаться. Летингтон умер в тюрьме, а Киркэльди ла Гранж был повешен мстительным регентом Мортоном на Крестовой площади Эдинбурга.
С их смертью партия Марии Стюарт в Шотландии окончательно погибла. Королева страшно горевала, часто впадая в уныние. Однако суровость ее заточения насколько смягчили, да и сама она изменила теперь свое поведение и речи. Она старалась кротостью добиваться свободы, которой ей не удалось достичь силой. Вооружась терпением, Мария, прежде высокомерная, красноречивая, беспокойная и смелая, превратилась в почти смиренную женщину. Она избегала всего, что могло возбудить подозрительность Елизаветы, и ограничивалась в своих письмах к ней только тем, что относилось к управлению ее вдовьей частью во Франции. Из-за сырости тюремных стен Мария заболела ревматизмом, который мучил ее вместе с хронической болезнью печени. По ее просьбе ей было разрешено пользоваться минеральными ваннами в Шеффилде.
Вместо того, чтобы затевать заговоры в Англии, в Шотландии и на континенте, Мария Стюарт рассеивала скуку неволи, забавляясь птицами и собаками, или же занималась шитьем. Она поручала покупать для нее шелк, атлас, ленты для изящных дамских рукоделий, которые подносила потом, через посредство Ла-Мот-Фенелона, королеве Елизавете. При первом известии о том, что та благосклонно приняла ее подношения, Мария написала ей, что была обрадована такой милостью и готова во всем угождать и повиноваться Елизавете. Движимая этим желанием, она часто просила епископа. Глазгоуского выписывать ей из Франции то одно, то другое, что можно было поднести в дар Елизавете, какие- нибудь браслеты, зеркала или модные новости. Она радовалась, что эти подарки всегда принимались благосклонно. Вот до чего дошла несчастная Мария Стюарт!
Вместе с тем она старалась задобрить также и наиболее важных советников Елизаветы; она просила принца, своего родственника, передавать от нее подарки и изъявления благодарности графу Лейстеру, который обещал действовать в ее пользу; Бэрлею она писала самые дружеские письма; льстила даже беспокойному Валингэму, сделавшемуся статс-секретарем после назначения Бэрлея государственным казначеем. Она опасалась беспокойной фантазии этого министра, который, заведуя полицией, заботился теперь о безопасности Елизаветы.
После смерти Карла IX на французский престол вступил Генрих III. До этого он славился мудростью и твердостью, но, сделавшись королем, недолго обнаруживал эти достоинства. Мария Стюарт полагалась на него более всех прочих деверей, которых у нее было трое. Поначалу она думала, что он вступится за нее энергичнее Карла IX, просила не признавать ее сына королем Шотландии. Она хотела, чтобы Генрих III заключил с ней тайный союз и помог ей восстановить свои права, а прежде всего, чтобы он не возобновлял договора, заключенного в апреле 1572 года между Карлом IX и Елизаветой.
Однако Мария лишилась своей главной опоры при французском дворе в лице кардинала Лотарингского, которому была искренне предана, больше, чем всем родственникам, и к которому питала, наибольшее доверие. С его смертью у нее рухнула последняя надежда на поддержку со стороны Генриха III, потому что он под руководством своей матери следовал политике, сделавшей все правление Карла IX тревожным и кровавым. Эта политика лукавства соответствовала наклонностям Екатерины Медичи.
Генрих III возобновил заключенный в 1572 году союз с Англией; тогда Мария Стюарт снова обратилась к Филиппу II и папе через посредство епископа Росского, которого она снова аккредитовала при римском дворе после его освобождения. Папа Григорий XIII, следовавший планам своего предшественника Пия V и поддерживавший восстание в Ирландии, пытался уговорить Филиппа II снарядить экспедицию против Англии под началом дона Хуана Австрийского и предлагал, кроме того, устроить брачный союз между Марией Стюарт и этим молодым принцем. Однако Филипп II остался равнодушен к этим планам, несмотря на часто повторяемые просьбы Марии Стюарт передать ему своего сына как залог католичества. Она даже хотела лишить наследства своего ребенка и перенести его права на могущественного защитника католической веры в Европе.
Частые приступы ее болезней, окружавшие ее в неволе опасности и возможные последствия затеваемых ею заговоров принудили Марию Стюарт составить завещание. Оно было весьма обширно. И в нем она прежде всего заявляла, что оставит свой престол сыну лишь при том условии, если он отречется от учения Кальвина, принятого им по внушению приближенных, и пожелает вернуться в лоно католической церкви.
Тем временем никакого проблеска надежды на лучшее будущее для Марии Стюарт не было, и она уже не рассчитывала больше ни на чью поддержку и участие, за исключением не особенно могущественных Гизов, которые много обещали, но были бессильны сдержать свои обещания.
В продолжение пяти лет своего регентства Мортон поддерживал мир в Шотландии, в течение этого времени в ней не возникали новые политические партии и не возобновлялись старые раздоры. При таких благоприятных условиях росло благосостояние страны. Городская промышленность развивалась, флот прибавлялся, народное благополучие увеличивалось. Столь счастливая перемена в Шотландии возбуждала удивление и почти зависть посланников Елизаветы. Однако оставаться долгое время в спокойствии и подчинении было не в духе шотландского дворянства, ему надоело повиноваться Мортону, ненасытная скупость и крайнее высокомерие которого способствовали возникновению новых заговоров.
Александр Эрскин, гувернер короля, и Бэченан, один из королевских опекунов, заключили между собой союз с целью ниспровергнуть Мортона. К этому союзу примкнули многие из значительнейших представителей старой партии; с общего согласия они отрешили Мортона от регентства в 1578 году и утвердили Иакова VI, не достигшего еще одиннадцатилетнего возраста, в королевских правах, пользование которыми союзники разделили между собой. Мортон внешне спокойно подчинился своему отрешению и после того, как сам провозгласил в Эдинбурге непосредственное управление короля, добровольно удалился в замок Далькейт, оставив, по-видимому, всякие честолюбивые помыслы, и предался мирным занятиям. Но втайне он подготавливал ниспровержение тех, которые низложили его.
Не прошло и двух месяцев, как этот хитрый и предприимчивый вельможа снова ринулся в борьбу с редкой смелостью и полнейшим успехом. При поддержке своих союзников он овладел замком Стирлинг и спорной особой юного короля. От восстановления регентства Мортон отказался, но от имени парламента, который под его руководством и влиянием собрался в замке Стирлинга, он составил государственный совет для ведения общественных дел; высшее руководство советом было передано ему, тогда как на словах авторитет Иакова VI оставался в прежней силе. Снова облеченный королевской властью, хотя и в иной форме, Мортон отчасти поладил и со своими врагами.
Тем не менее против него подготовлялись более решительные действия. Это было делом рук двоих молодых шотландцев, которые, незадолго перед тем прибыв с континента, сумели приобрести доверие Иакова VI и сделались его любимцами.
Эсм Стюарт, известный под именем Д’Обиньи кавалер привлекательной наружности и пленительного ума, утонченных и мягких привычек, покинул французский двор, где он был воспитан, появился в 1579 году при шотландском дворе с тайным поручением от герцога Гиза. Он был католиком, и ему предстояло заменить герцога Этола в качестве главы политической партии, которая осталась верна старинной религии страны и ее королевскому роду. Иаков VI, приходившийся двоюродным братом Эсму Стюарту, принял его чрезвычайно приветливо, привязался к нему, назначил его своим камергером и дал ему титул графа Леннокса. Такое внезапное повышение Эсма Стюарта встревожило Мортона и Елизавету. Они провидели намерения нового любимца; он подвергался нападкам партии ревностных просвитериан как католик, а в то же время английская партия обвиняла его в том, что он замышляет овладеть королем, чтобы увезти его в Джэбертон, а оттуда за границу. Это подозрение было небезосновательно, так как в 1579 и 1580 годах Мария Стюарт только и думала о том, чтобы вывезти своего сына из Шотландии. Однако Елизавета, предупрежденная Мортоном, приняла свои меры.
Эсма Стюарта поддерживал другой шотландец, превосходивший его смелостью и ловкостью. Это был лорд Джэмс Очильтрен. Он в качестве искателя приключений участвовал в войнах на континенте, а после своего возвращения в Шотландию был сделан капитаном королевской гвардии. Любимый своим повелителем и действовавший заодно с дворянской партией, враждебной Мортону, капитан Очильтрен обвинил бывшего регента в соучастии в убийстве Дарнлея и приказал арестовать его прямо в собрании государственного совета и в присутствии самого короля. Этот крайне смелый шаг увенчался успехом и возвестил предстоящее падение английской партии в Шотландии.
Елизавета была в сильнейшей степени поражена случившимся, она сделала, казалось, все, чтобы спасти Мортона, но просчиталась. Арестованный в декабре 1580 года Мортон был приговорен и 2 июня 1581 года обезглавлен за участие в заговоре против отца короля. Он показал, что знал о готовившемся покушении на Дарнлея, однако не принимал в нем участия; выдать заговорщиков он не посмел не мог, потому что все, по его словам, происходило с согласия и под руководством королевы Марии.
Мортон был казнен. Партия его была ниспровергнута, а большая часть его родственников и друзей была приговорена к смерти или тяжким наказаниям, более счастливые из них успели бежать. Иаков VI обвинителя Очильтрена сделал графом Аррапским, отдал графство Мортон католику Максвелу, графство Оркней — графу Марчу, а лорда Рутвена сделал графом Говрином.
При известии о смерти Мортона Мария Стюарт почувствовала, что ее жажда мщения удовлетворена, и у нее мелькнула надежда на благоприятный поворот в ее собственной судьбе. С Ленноксом, которому королева прежде не доверяла, она вошла теперь в сношения. Мария долгое время не соглашалась признавать королевский титул за своим сыном и предлагала католическим державам сделать то же самое. Но тут она приняла наконец проект совместного управления страной, по которому ее сын, в силу ее нового — на этот раз добровольного — решения, должен был принять королевский сан и править вместе с ней. Мария Стюарт уполномочила герцога Гиза устроить и завершить это соглашение, Но кроме названного плана, который не было уже надобности скрывать, назревал другой, безусловно тайный. Этот план, набросанный иезуитами, одобренный папой, принятый Ленноксом и получивший согласие шотландского короля, а также обеспеченный содействием лотарингского дома и военной помощью короля Испании, заключался в том, чтобы сделать Шотландию снова католической страной, а Марию Стюарт освободить и возвести вновь на трон.
Возникновение этого плана прервало временное затишье в деятельности Марии Стюарт, тот период ее бессилия, безнадежности и нравственного угнетения. Мария вновь воспряла духом и в короткое время развила деятельность, которую можно назвать грандиозной и которая вновь грозила прежними опасностями ее противнице Елизавете.
Неудача заговора герцога Норфолка охладила пыл не только Шотландии и Англии, но и почти всех европейских стран. Некоторое время никто не помышлял о способах освобождения из неволи Марии Стюарт и восстановления ее прав. У нее была отнята малейшая возможность затеять новые политические интриги, тогда как у ее приверженцев как будто пропала к тому всякая охота. Между тем политические дела Европы шли своим чередом.
Елизавета подавила восстание на севере своего королевства; заговор против нее герцога Норфолка провалился. Ее политике удалось разъединить две враждебные ей великие державы на европейском континенте. Елизавета воспользовалась заключенным ею миром с Францией, равно как проектом брачного союза между ней и герцогом Анжуйским, чтобы домогаться союза с французским королем Карлом IX. Путем заключения позднее договора об этом Англия заручилась поддержкой Франции в случае испанского нашествия.
Счастье было на стороне Елизаветы и в Шотландии. Мария Стюарт все еще имела там сильную партию. С тех пор, как снова начались военные действия между лордами верными королеве и лордами верными королю, графа Леннокса постигла участь его предшественника Мюррея: он также был убит. Вследствие этого знатнейшие лорды короля были арестованы. На следующий день регентом был избран граф Марр, состоявший воспитателем при молодом короле.
Несмотря на занятие Дэмбертона и поддержку королевы Елизаветы, партия короля не могла вполне подорвать партию приверженцев королевы Марии Стюарт, которые заняли кроме Эдинбурга замки Нидри, Ливингстон и Блекнесс. Они победоносно сражались как на севере, так и на востоке Шотландии.
Елизавета решила заставить эту партию добровольно сложить оружие и потому устроила между враждующими партиями перемирие, состоявшееся 20 июля 1572 года. За услуги, которые Елизавета оказала этим Иакову VI, она добилась выдачи графа Нортумберленда, который и был казнен в Йорке 25 августа.
Однако в тот момент, когда Елизавета воображала себя в полной безопасности, пришло известие о Варфоломеевской ночи в Париже. Вопль ужаса пронесся по всему королевству, Елизавета созвала свой Тайный совет.
Много дней заставила она прождать аудиенции французского посланника Ла-Мот-Фенелона в Оксфорде, куда он прибыл, чтобы оправдать эту кровопролитную резню мнимым открытием заговора протестантов. Когда королева приняла его наконец, она сама, как и члены ее государственного совета и знатнейшие дамы, была облачена во все черное, а ее кабинет походил на погребальный склеп. Ла-Мот-Фенелон прошел мимо безмолвных присутствующих и приблизился к Елизавете. Она приняла его с необычайно строгим видом, снова высказала свое отвращение к подобному злодейству и решительно не поверила объяснениям Фенелона. Она отнеслась с удивлением и порицанием к поступку французского короля Карла IX, а на уверения, которые возобновил посланник, возразила, что сильно опасается, как бы те, которые склонили французского короля пожертвовать своими наследственными подданными, не заставили его пожертвовать потом королевой.
Елизавета думала, что ее предали, и ей казалось, что протестантству грозит большой заговор, сигналом которого послужила резня в Париже. По этой причине она заключила союз с Германией, велела вербовать там солдат, укрепила Портсмут, Дувр и остров Уайт, снарядила десять больших кораблей для крейсирования в Ла-Манше, оказала поддержку протестантам во Франции, строже прежнего следила за католиками в своем королевстве и строила самые пагубные планы относительно королевы Марии Стюарт, на которую возлагались надежды католической партии как в Англии, так и в Шотландии.
После раскрытия заговора герцога Норфолка Елизавета официально заявила, что не могла бы прожить спокойно ни единого часа, если бы Мария Стюарт снова вступила на престол, и что теперь она приняла твердое решение никогда больше не возвращать ей свободы. Протестантское духовенство считало, что смертная казнь шотландской королевы была бы справедлива, законоведы, со своей стороны, доказывали ее законность. Обе палаты парламента хотели предать Марию Стюарт суду. Однако Елизавета воспротивилась этому. Чтобы избавить царственную пленницу от преследований подобного рода, парламент был распущен и правительство удовольствовалось тем, что решило запугать шотландскую королеву лишь подобием обвинения.
Марию Стюарт подвергли допросу. Она отвечала осторожно, утверждая, что не питала никаких враждебных намерений против Елизаветы, когда задумала вступить в брак с Норфолком, а посылая Ридольфи к папе Пию V и Филиппу II, имела в виду только освобождение Шотландии. Елизавета, которая нашла ее объяснения неудовлетворительными, не хотела затевать судебный процесс. Но после кровопролития Варфоломеевской ночи стала все же помышлять о том, как бы избавиться от Марии. План, начертанный ею с этой целью при помощи Бэрлея и Лейстера, должен был осуществиться в Шотландии, и выполнять его доверили одному из самых ловких агентов. В Шотландию отправился Генрих Киллегрю, зять Бэрлея, с двумя поручениями, одно из которых было явным, а другое тайным, Первое заключалось в том, чтобы привести к окончательному примирению враждующие политические партии, второе — чтобы договориться с графом Мортоном относительно смерти Марии Стюарт.
Киллегрю должен был дать понять союзникам Елизаветы, что ради общей безопасности Мария Стюарт не может оставаться в живых, но что ее неудобно судить в Англии, а лучше — в Шотландии. С этой целью шотландцы должны были бы потребовать к себе пленную Марию, которая и будет выдана им Елизаветой.
Киллегрю встретил в Шотландии также крайнее волнение по поводу Варфоломеевской ночи. Престарелый Нокс, удалившийся в Сент-Эндрю, снова вернулся в Эдинбург. Хотя вследствие апоплексического удара у него отнялась половина тела, он все же приказал внести себя на кафедру и, будучи терзаем страданиями и разгорячен гневом, громил убийц его протестантских братьев во Франции. Нокс со своими учениками много способствовал тому, что союз Шотландии с Францией стал делаться все популярнее.
Киллегрю воспользовался этим для своих целей; ему удалось убедить графа Мортона в необходимости казни Марии Стюарт, но регента Марра не так легко было убедить в этом.
Киллегрю при поддержке Нокса все более и более восстанавливал народ против католиков и имел многократные совещания с Марром и Мортоном о «великом деле». Оба графа согласились наконец устранить предмет несогласий, то есть Марию Стюарт, и даже было оговорено время для ее гибели — не позже четырех часов после выдачи ее шотландцам. Условием этого они поставили следующее: чтобы Елизавета объявила себя защитницей молодого короля Иакова VI, чтобы права последнего не были умалены смертью матери, чтобы между обоими королевствами был заключен оборонительный союз, чтобы три тысячи человек из английского войска присутствовали при казни (это была военная сила, которая, соединившись с войском молодого короля, должна была взять приступом крепость Эдинбурга) и, наконец, чтобы эта крепость была уступлена регенту и Англия заплатила бы шотландскому войску недополученное им жалованье.
Елизавета, по своей скупости, нашла такие условия неприемлемыми. Она очень желала погубить Марию Стюарт, но не имела никакой охоты платить убийцам и выставлять себя соучастницей этого злодейства.
Внезапная смерть регента графа Марра, умершего 28 октября 1573 года в Стирлинге (как полагают, отравленного), задержала эти постыдные переговоры, но они продолжались до 1574 года.
Бэрлей предложил королеве избавиться от Марии Стюарт в Англии. Елизавета не решилась последовать его совету, но склонила на свою сторону и совершенно подавила партию Марии Стюарт в Шотландии. Мортон был назначен регентом после умершего графа Марра; в тот самый день, когда он принял бразды правления, скончался Нокс. Этот непреклонный деятель реформации, так много способствовавший своими поучениями религиозному и политическому перевороту в Шотландии, умер, хотя и больной телом, но крепкий духом, в возрасте шестидесятисеми лет.
Партия королевы Марии после пятилетней бесплодной борьбы значительно обессилела. В ее руках оставалась теперь лишь крепость Эдинбург. Киркэльди ла Гранж и Летингтон держались в эдинбургской цитадели, где ожидали помощи, обещанной французским двором. Тогда как прочие приверженцы Марии Стюарт, с Гамильтонами и Гордонами во главе, пошли на соглашение, предложенное им Мортоном, эти двое храбрых защитников Эдинбурга имея в своем распоряжении всего двести солдат, решили сопротивляться до конца. Они не хотели слышать о сдаче, полагаясь на неприступность своей твердыни и ожидаемую помощь французов.
Однако союзники не пришли им на выручку. Против крепости повели осаду. За недостатком средств обороны она не могла оказать продолжительного сопротивления, и вскоре ее мужественные защитники принуждены были сдаться. Летингтон умер в тюрьме, а Киркэльди ла Гранж был повешен мстительным регентом Мортоном на Крестовой площади Эдинбурга.
С их смертью партия Марии Стюарт в Шотландии окончательно погибла. Королева страшно горевала, часто впадая в уныние. Однако суровость ее заточения насколько смягчили, да и сама она изменила теперь свое поведение и речи. Она старалась кротостью добиваться свободы, которой ей не удалось достичь силой. Вооружась терпением, Мария, прежде высокомерная, красноречивая, беспокойная и смелая, превратилась в почти смиренную женщину. Она избегала всего, что могло возбудить подозрительность Елизаветы, и ограничивалась в своих письмах к ней только тем, что относилось к управлению ее вдовьей частью во Франции. Из-за сырости тюремных стен Мария заболела ревматизмом, который мучил ее вместе с хронической болезнью печени. По ее просьбе ей было разрешено пользоваться минеральными ваннами в Шеффилде.
Вместо того, чтобы затевать заговоры в Англии, в Шотландии и на континенте, Мария Стюарт рассеивала скуку неволи, забавляясь птицами и собаками, или же занималась шитьем. Она поручала покупать для нее шелк, атлас, ленты для изящных дамских рукоделий, которые подносила потом, через посредство Ла-Мот-Фенелона, королеве Елизавете. При первом известии о том, что та благосклонно приняла ее подношения, Мария написала ей, что была обрадована такой милостью и готова во всем угождать и повиноваться Елизавете. Движимая этим желанием, она часто просила епископа. Глазгоуского выписывать ей из Франции то одно, то другое, что можно было поднести в дар Елизавете, какие- нибудь браслеты, зеркала или модные новости. Она радовалась, что эти подарки всегда принимались благосклонно. Вот до чего дошла несчастная Мария Стюарт!
Вместе с тем она старалась задобрить также и наиболее важных советников Елизаветы; она просила принца, своего родственника, передавать от нее подарки и изъявления благодарности графу Лейстеру, который обещал действовать в ее пользу; Бэрлею она писала самые дружеские письма; льстила даже беспокойному Валингэму, сделавшемуся статс-секретарем после назначения Бэрлея государственным казначеем. Она опасалась беспокойной фантазии этого министра, который, заведуя полицией, заботился теперь о безопасности Елизаветы.
После смерти Карла IX на французский престол вступил Генрих III. До этого он славился мудростью и твердостью, но, сделавшись королем, недолго обнаруживал эти достоинства. Мария Стюарт полагалась на него более всех прочих деверей, которых у нее было трое. Поначалу она думала, что он вступится за нее энергичнее Карла IX, просила не признавать ее сына королем Шотландии. Она хотела, чтобы Генрих III заключил с ней тайный союз и помог ей восстановить свои права, а прежде всего, чтобы он не возобновлял договора, заключенного в апреле 1572 года между Карлом IX и Елизаветой.
Однако Мария лишилась своей главной опоры при французском дворе в лице кардинала Лотарингского, которому была искренне предана, больше, чем всем родственникам, и к которому питала, наибольшее доверие. С его смертью у нее рухнула последняя надежда на поддержку со стороны Генриха III, потому что он под руководством своей матери следовал политике, сделавшей все правление Карла IX тревожным и кровавым. Эта политика лукавства соответствовала наклонностям Екатерины Медичи.
Генрих III возобновил заключенный в 1572 году союз с Англией; тогда Мария Стюарт снова обратилась к Филиппу II и папе через посредство епископа Росского, которого она снова аккредитовала при римском дворе после его освобождения. Папа Григорий XIII, следовавший планам своего предшественника Пия V и поддерживавший восстание в Ирландии, пытался уговорить Филиппа II снарядить экспедицию против Англии под началом дона Хуана Австрийского и предлагал, кроме того, устроить брачный союз между Марией Стюарт и этим молодым принцем. Однако Филипп II остался равнодушен к этим планам, несмотря на часто повторяемые просьбы Марии Стюарт передать ему своего сына как залог католичества. Она даже хотела лишить наследства своего ребенка и перенести его права на могущественного защитника католической веры в Европе.
Частые приступы ее болезней, окружавшие ее в неволе опасности и возможные последствия затеваемых ею заговоров принудили Марию Стюарт составить завещание. Оно было весьма обширно. И в нем она прежде всего заявляла, что оставит свой престол сыну лишь при том условии, если он отречется от учения Кальвина, принятого им по внушению приближенных, и пожелает вернуться в лоно католической церкви.
Тем временем никакого проблеска надежды на лучшее будущее для Марии Стюарт не было, и она уже не рассчитывала больше ни на чью поддержку и участие, за исключением не особенно могущественных Гизов, которые много обещали, но были бессильны сдержать свои обещания.
В продолжение пяти лет своего регентства Мортон поддерживал мир в Шотландии, в течение этого времени в ней не возникали новые политические партии и не возобновлялись старые раздоры. При таких благоприятных условиях росло благосостояние страны. Городская промышленность развивалась, флот прибавлялся, народное благополучие увеличивалось. Столь счастливая перемена в Шотландии возбуждала удивление и почти зависть посланников Елизаветы. Однако оставаться долгое время в спокойствии и подчинении было не в духе шотландского дворянства, ему надоело повиноваться Мортону, ненасытная скупость и крайнее высокомерие которого способствовали возникновению новых заговоров.
Александр Эрскин, гувернер короля, и Бэченан, один из королевских опекунов, заключили между собой союз с целью ниспровергнуть Мортона. К этому союзу примкнули многие из значительнейших представителей старой партии; с общего согласия они отрешили Мортона от регентства в 1578 году и утвердили Иакова VI, не достигшего еще одиннадцатилетнего возраста, в королевских правах, пользование которыми союзники разделили между собой. Мортон внешне спокойно подчинился своему отрешению и после того, как сам провозгласил в Эдинбурге непосредственное управление короля, добровольно удалился в замок Далькейт, оставив, по-видимому, всякие честолюбивые помыслы, и предался мирным занятиям. Но втайне он подготавливал ниспровержение тех, которые низложили его.
Не прошло и двух месяцев, как этот хитрый и предприимчивый вельможа снова ринулся в борьбу с редкой смелостью и полнейшим успехом. При поддержке своих союзников он овладел замком Стирлинг и спорной особой юного короля. От восстановления регентства Мортон отказался, но от имени парламента, который под его руководством и влиянием собрался в замке Стирлинга, он составил государственный совет для ведения общественных дел; высшее руководство советом было передано ему, тогда как на словах авторитет Иакова VI оставался в прежней силе. Снова облеченный королевской властью, хотя и в иной форме, Мортон отчасти поладил и со своими врагами.
Тем не менее против него подготовлялись более решительные действия. Это было делом рук двоих молодых шотландцев, которые, незадолго перед тем прибыв с континента, сумели приобрести доверие Иакова VI и сделались его любимцами.
Эсм Стюарт, известный под именем Д’Обиньи кавалер привлекательной наружности и пленительного ума, утонченных и мягких привычек, покинул французский двор, где он был воспитан, появился в 1579 году при шотландском дворе с тайным поручением от герцога Гиза. Он был католиком, и ему предстояло заменить герцога Этола в качестве главы политической партии, которая осталась верна старинной религии страны и ее королевскому роду. Иаков VI, приходившийся двоюродным братом Эсму Стюарту, принял его чрезвычайно приветливо, привязался к нему, назначил его своим камергером и дал ему титул графа Леннокса. Такое внезапное повышение Эсма Стюарта встревожило Мортона и Елизавету. Они провидели намерения нового любимца; он подвергался нападкам партии ревностных просвитериан как католик, а в то же время английская партия обвиняла его в том, что он замышляет овладеть королем, чтобы увезти его в Джэбертон, а оттуда за границу. Это подозрение было небезосновательно, так как в 1579 и 1580 годах Мария Стюарт только и думала о том, чтобы вывезти своего сына из Шотландии. Однако Елизавета, предупрежденная Мортоном, приняла свои меры.
Эсма Стюарта поддерживал другой шотландец, превосходивший его смелостью и ловкостью. Это был лорд Джэмс Очильтрен. Он в качестве искателя приключений участвовал в войнах на континенте, а после своего возвращения в Шотландию был сделан капитаном королевской гвардии. Любимый своим повелителем и действовавший заодно с дворянской партией, враждебной Мортону, капитан Очильтрен обвинил бывшего регента в соучастии в убийстве Дарнлея и приказал арестовать его прямо в собрании государственного совета и в присутствии самого короля. Этот крайне смелый шаг увенчался успехом и возвестил предстоящее падение английской партии в Шотландии.
Елизавета была в сильнейшей степени поражена случившимся, она сделала, казалось, все, чтобы спасти Мортона, но просчиталась. Арестованный в декабре 1580 года Мортон был приговорен и 2 июня 1581 года обезглавлен за участие в заговоре против отца короля. Он показал, что знал о готовившемся покушении на Дарнлея, однако не принимал в нем участия; выдать заговорщиков он не посмел не мог, потому что все, по его словам, происходило с согласия и под руководством королевы Марии.
Мортон был казнен. Партия его была ниспровергнута, а большая часть его родственников и друзей была приговорена к смерти или тяжким наказаниям, более счастливые из них успели бежать. Иаков VI обвинителя Очильтрена сделал графом Аррапским, отдал графство Мортон католику Максвелу, графство Оркней — графу Марчу, а лорда Рутвена сделал графом Говрином.
При известии о смерти Мортона Мария Стюарт почувствовала, что ее жажда мщения удовлетворена, и у нее мелькнула надежда на благоприятный поворот в ее собственной судьбе. С Ленноксом, которому королева прежде не доверяла, она вошла теперь в сношения. Мария долгое время не соглашалась признавать королевский титул за своим сыном и предлагала католическим державам сделать то же самое. Но тут она приняла наконец проект совместного управления страной, по которому ее сын, в силу ее нового — на этот раз добровольного — решения, должен был принять королевский сан и править вместе с ней. Мария Стюарт уполномочила герцога Гиза устроить и завершить это соглашение, Но кроме названного плана, который не было уже надобности скрывать, назревал другой, безусловно тайный. Этот план, набросанный иезуитами, одобренный папой, принятый Ленноксом и получивший согласие шотландского короля, а также обеспеченный содействием лотарингского дома и военной помощью короля Испании, заключался в том, чтобы сделать Шотландию снова католической страной, а Марию Стюарт освободить и возвести вновь на трон.
Возникновение этого плана прервало временное затишье в деятельности Марии Стюарт, тот период ее бессилия, безнадежности и нравственного угнетения. Мария вновь воспряла духом и в короткое время развила деятельность, которую можно назвать грандиозной и которая вновь грозила прежними опасностями ее противнице Елизавете.


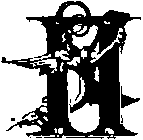 По некоторым причинам Бэрлей, назначенный государственным казначеем, не считал возможным доверять парламенту. Вероятно, тот не вполне согласовывался с его волей в процессе против сообщников Норфолка. Вдобавок Бэрлею было слишком трудно сверх основных занятий руководить еще и полицией. Поэтому он почувствовал необходимость передать должность главного начальника полиции надежному человеку. Он нашел вполне подходящего заместителя в лице своего зятя Валингэма, который успел возвыситься тем временем до звания статс-секретаря. Бэрлей дал ему приказ завести собственную полицию, причем рекомендовал для услуг вне пределов Англии сэра Кингтона.
Валингэм принялся исполнять полученное поручение с большим рвением и удовольствием, а Кингтон отправился во Францию, откуда долго переписывался со своим патроном, пока нашел необходимым потолковать с ним лично. Валингэм назначил своему агенту свидание осенью 1582 года.
Кингтон явился скоро и был приведен к статс-секретарю.
По наружности Кингтон смахивал теперь на честного зажиточного горожанина, и Валингэм невольно рассмеялся над простецким видом своего подчиненного, которому, впрочем, не особенно доверял. Он предложил Кингтону представить отчет о своей деятельности.
— Я должен начать издалека, милорд, — сказал Кингтон. — Мои прежние сообщения нужно дополнить, чтобы сделать понятным дальнейшее.
— К делу! — поторопил его Валингэм.
Кингтон сообщил, в каком положении находится дело заговора о новом вступлении Марии Стюарт на трон. Во главе этого заговора стали иезуиты, причем ими посланы в Англию и Шотландию специальные эмиссары, главными из которых были Роберт Пэрсонс и Эдмунд Кэмпиан. Они, заботясь о расширении папской власти, состояли в связи с Гизами и имели обещание Филиппа II Испанского на выдачу денег, необходимых для освобождения Марии Стюарт. К герцогу Ленноксу посланы иезуиты Крейтон и Гольт для того, чтобы условиться, как привести в исполнение задуманное дело.
Валингэм, услышав это, поблагодарил Кингтона за сообщение и спросил, как можно было бы помешать этому заговору.
— Для этого прежде всего необходимо изловить иезуитов и под пыткой добиться у них признания, — ответил Клинтон.
— Но где же их найти?
— Кэмпиан находится в Шеффилде, вблизи Марии Стюарт, и потому нужно особенно внимательно наблюдать за ней. Далее следует занять войсками шотландскую границу и предложить лорду Бэрлею помощь.
— Это ловко придумано, и, по-моему, вы правы! — одобрил Валингэм.
Кингтон, улыбнувшись, произнес:
— Милорд, могу ли я позволить себе один вопрос?
— Разумеется.
— Милорды Бэрлей иЛейстер в данную минуту как будто не особенно ладят между собой?
— Ах… это обстоятельство…
— В высшей степени интересует меня, милорд, — подхватил Кингтон. — Между Лейстером и мной также не все еще выяснено: я не могу забыть, что во время процесса Норфолка он не помог мне выкарабкаться из беды, и если я разузнаю все, а самое главное, если получу позволение лорда Бэрлея, то могу сыграть с ним такую шутку, что все мы останемся вполне довольны.
— Не стану отрицать, сэр, между этими двумя сановниками действительно замечается некоторая холодность…
— … проистекающая из того, что ваша повелительница до такой степени благоволит к лорду Лейстеру, что он позволяет себе возноситься… Не правда ли?
— Вы, должно быть, состоите в союзе с сатаной?
— Я — тайный агент вашей светлости. И хотел бы попросить, чтобы меня тайно допустили к королеве.
— Но… ведь вы изгнаны из страны… Приказ о вашем изгнании не отменен.
— Дайте мне только письменное удостоверение, что я состою на вашей службе и принес на своем посту значительную пользу. С этим удостоверением в руках я предстану перед королевой.
— Это кажется мне рискованным… Подобный шаг опасен как для вас, так и для меня.
Кингтон улыбнулся.
— Тем не менее вы велели мне явиться и приняли меня. Конечно, вы полагали, что можете пожертвовать мной. Но это только навредило бы вам. Между тем мы можем договориться. Выдайте мне удостоверение, а я дам вам письменный документ, не лишенный ценности.
— Вы торгуетесь? Но ведь вам платят за ваши услуги.
— Все это прекрасно, однако определять границы этих услуг предоставлено мне самому Я достаточно сделал за полученные мной деньги, а за этот письменный документ желаю получить от вас свидетельство.
Кингтон показал министру письмо.
— Оно важно? — спросил тот.
— Да, — кивнул Кингтон и прочитал: — «Ваш король и папа, судя по тому, что говорил иезуит, кажется, желают воспользоваться моими услугами, чтобы осуществить задуманный ими план относительно восстановления католичества в Шотландии и освобождения шотландской королевы».
— Кто это пишет? — резко спросил Валингэм.
— Герцог Леннокс.
Кингтон отдал листок статс-секретарю, и тот прочитал его до конца. Агент посматривал на него с довольной улыбкой.
— Это весьма ценно! — сказал Валингэм.
— Да, милорд. Пожалуйте же мне свидетельство!
Министр подсел к столу и написал требуемый документ; за неимением казенной печати он воспользовался своим перстнем с гербом и передал листок Кингтону.
Тот принял его с поклоном и произнес:
— У меня еще есть к вам просьба! Не может ли лорд Бэрлей провести меня к королеве без предварительного доклада о том, кто я таков!
— Но я не могу тут ничего решить.
— Вот это второе письмо может помочь решению, — подал Кингтон министру новый документ.
— Ага, — воскликнул тот, — от Леннокса к королеве Марии… весь план заговорщиков. Вы — очень полезный человек!
— Таким я был всегда… — сказал Кингтон, — меня только не умели ценить.
— Этот упрек не должен относиться ко мне, сэр, — сказал министр. — Я уважу вашу просьбу, приходите ко мне завтра вечером, мы еще с вами потолкуем.
Кингтон поклонился и вышел из конспиративной квартиры.
Вскоре после него покинул ее и Валингэм в сопровождении своего слуги. За ними обоими последовал украдкой человек до самого дома Валингэма, он несомненно наблюдал за домом, где происходило тайное свидание.
— Пусть меня повесят, — пробормотал этот шпион, — если статс-секретарь не совещался здесь с отчаянным малым Кингтоном.
Этим шпионом был Пельдрам. Полиция парламента в Англии следила за полицией государственного казначея, и наоборот.
На следующий вечер Кингтон, как ему было приказано, явился к своему начальнику, и тот велел ему следовать за собой.
Во дворце Кингтона привели в комнаты королевы, и он предстал перед ней в том самом кабинете, где Елизавета так часто принимала его бывшего господина, графа Лейстера. Кингтон немедленно бросился на колени.
По весьма понятным причинам, королева держалась от него в отдалении, но комната была так ярко освещена множеством свечей, что она вспомнила лицо посетителя.
— Ваши черты как будто знакомы мне, — сказала она. — Должно быть, я видела вас раньше.
— Человек подвержен перемене времени, и я не избег этого закона, — ответил Кингтон, — но последние двенадцать лет не коснулись моей высокой повелительницы. Вы, ваше величество, именно столько времени тому назад подарили меня милостивым взглядом.
Кингтон затронул тщеславие женщины такой с виду грубой, но на самом деле тонко обдуманной лестью. Однако Елизавета как будто пропустила ее мимо ушей.
— Кто же вы такой? — задала она вопрос.
— Верный слуга вашего величества! Позвольте пока остаться при этом определении.
— Ах, кажется, вы хотите здесь повелевать?!
— И не думаю… но мне, я полагаю, позволительно надеяться, что ваши министры уже успели сообщить вам, ваше величество, о замыслах ваших врагов, открытых благодаря мне.
— Эти сообщения вообще рекомендуют вас, — поспешно сказала королева. — Вы желаете дополнить их?
— Не соблаговолите ли вы, ваше величество, принять и просмотреть вот эти два документа.
Елизавета колебалась некоторое время, но вид и обращение незнакомца не вызывали никаких опасений. Она подошла к нему ближе и взяла оба письма, после чего снова удалилась, чтобы приняться за чтение.
Вдруг с ней произошла резкая перемена, и это было совершенно понятно. Одна из бумаг представляла собой письмо Марии Стюарт к Мендозе. Другая была ответом ей этого посланника Филиппа II при английском дворе. Оба письма касались затеянного заговора.
— Я обязана вас благодарить, — сказала она Кингтону. — Встаньте!… Кто вы такой?
— Ваше величество, предварительно еще одно слово, — сказал Кингтон. — Священник Кэмпиан, переодетый зубным врачом, служит посредником для передачи писем между Марией Стюарт и послом Мендозой. За зеркалом в комнате последнего спрятана переписка заговорщиков.
— Благодарю… благодарю вас!… Ваша верность должно быть награждена. Ну, а теперь ваше имя!
— Оно находится в этом документе, — ответил Кингтон, подавая королеве бумагу, написанную Валингэмом.
Елизавета бросила на нее беглый взгляд.
— Кингтон? — удивилась она с совершенно особенным выражением внутренней борьбы.
— Да, я — Кингтон. Я — ваш всеподданнейший слуга и прошу только об одной милости! Дозвольте мне служить и дальше вам, ваше величество, так как я рассчитываю в скором времени предать Кэмпиана в руки правосудия.
Хитрец ловко вел свою игру. Елизавета, пожалуй, успела уже сообразить, что Бэрлей неспроста прислал ей этого человека.
— Что же, — решила королева, — ваши прежние проступки должны быть забыты ради услуг, которые вы оказали нам. Не рассчитывайте однако на награду за них… Встаньте!…
— Я уже награжден вашей милостью! — не вставая с колен, возразил Кингтон. — Но у меня есть, еще одна просьба к вам, ваше величество.
— Я согласна выслушать ее, — ответила Елизавета.
— То, что я сделал раньше для лорда Лейстера, было ради его спасения; я принес жертву, которую он принял, но за которую я не удостоился его признательности. Ведь он действительно вступил в брак с леди Филли Бэклей.
Королева на минуту задумалась, а затем сказала:
— Я поняла вас. Но самопожертвованию в пользу вашего господина равнялась ваша дерзость против вашей королевы. Вы не заслужили награды.
— А может быть, я удостоюсь ее, когда доложу, что супруга графа Лейстера вот уже десять лет живет в его замке Кенилворт, принимает там его у себя и вообще пользуется всеми своими правами.
— Правда ли это? — опешила Елизавета.
— Да, ваше величество, — подтвердил Кингтон. — Вы сами могли бы убедиться в справедливости моих слов, если бы в той местности случайно устроилась охота. А до тех пор я буду наблюдать за охотничьим замком, чтобы не допустить удаления этой особы.
— Это вы из мести предаете Лейстера?
— Я не предаю лорда, ваше величество, а только доношу по долгу верноподданного вам, моей повелительнице. Кто неверен в одном, тому нетрудно при случае дойти до измены и в другом.
Елизавета размышляла некоторое время.
«Правда, — думала она, — моя слабость навлекла на себя жестокую кару». И вслух произнесла:
— Молчите о своих сообщениях, наблюдайте за Кенилвортским замком и доносите мне! Но это не самое главное. Первым долгом заботьтесь об исполнении приказов лордов Бэрлея и Валингэма. Можете идти.
Кингтон покинул королеву, и вскоре пустился в путь, направляясь в Шеффилд.
А тем временем лорду Лейстеру доложили о приходе агента парламентской полиции.
Название тайного судилища для политических и уголовных преступлений звучало грозно даже для высших сановников государства. Поэтому Лейстер немедленно принял посетителя и, к своему удивлению, тотчас узнал его. Перед ним стоял Пельдрам.
— Как вы осмелились? — с досадой воскликнул Лейстер.
— Милорд, мое теперешнее звание должно было бы послужить вам достаточным ответом, — сказал Пельдрам.
— Но я пришел не по долгу службы, а в ваших интересах.
— Как… в моих интересах?
— Именно так, милорд… Это побудило меня еще много лет назад попытаться уничтожить змею, которую вы пригрели на своей груди и которая замышляла вашу гибель.
— Вы намекаете на Кингтона?
— Разумеется, милорд. Не скрою, я действовал небескорыстно, потому что хотел поступить на его место, но я служил бы вам верой и правдой, на что готов еще и теперь.
— Допустим, что я поверил бы вам, в чем же заключается услуга, которую вы намерены оказать мне?
— Прежде всего в сообщении, что Кингтон принадлежит к полиции Валингэма и попал на службу при содействии лорда Бэрлея.
— Неужели?
— Да, милорд… Затем скажу вам еще, что в настоящее время Кингтон наблюдает за Кенилвортским замком, а это немаловажно.
— Боже мой! — воскликнул Лейстер.
— Тот человек — мой заклятый враг, отомстить ему — цель моей жизни. Но в настоящее время он мне недоступен. Я знаю, что происходит в замке, и догадываюсь, по чьему приказу находится там Кингтон. Может быть, вы еще в состоянии помешать замыслам ваших врагов?
Лейстер вздрогнул.
— Благодарю вас, Пельдрам, — сказал он, — мы еще увидимся с вами. Надеюсь, что мне удастся все уладить. Но пока я остаюсь вашим должником.
Пельдрам поклонился и вышел.
Лейстер сел к письменному столу и поспешно написал письмо, которое тотчас отправил с верховым гонцом. Сам же он переоделся и поехал в Вестминстер. Он надеялся получить на некоторое время отпуск, чтобы посмотреть самому, как поступить для сокрытия связи, которая так долго оставалась необнаруженной, что он почти перестал опасаться ее разоблачения.
По некоторым причинам Бэрлей, назначенный государственным казначеем, не считал возможным доверять парламенту. Вероятно, тот не вполне согласовывался с его волей в процессе против сообщников Норфолка. Вдобавок Бэрлею было слишком трудно сверх основных занятий руководить еще и полицией. Поэтому он почувствовал необходимость передать должность главного начальника полиции надежному человеку. Он нашел вполне подходящего заместителя в лице своего зятя Валингэма, который успел возвыситься тем временем до звания статс-секретаря. Бэрлей дал ему приказ завести собственную полицию, причем рекомендовал для услуг вне пределов Англии сэра Кингтона.
Валингэм принялся исполнять полученное поручение с большим рвением и удовольствием, а Кингтон отправился во Францию, откуда долго переписывался со своим патроном, пока нашел необходимым потолковать с ним лично. Валингэм назначил своему агенту свидание осенью 1582 года.
Кингтон явился скоро и был приведен к статс-секретарю.
По наружности Кингтон смахивал теперь на честного зажиточного горожанина, и Валингэм невольно рассмеялся над простецким видом своего подчиненного, которому, впрочем, не особенно доверял. Он предложил Кингтону представить отчет о своей деятельности.
— Я должен начать издалека, милорд, — сказал Кингтон. — Мои прежние сообщения нужно дополнить, чтобы сделать понятным дальнейшее.
— К делу! — поторопил его Валингэм.
Кингтон сообщил, в каком положении находится дело заговора о новом вступлении Марии Стюарт на трон. Во главе этого заговора стали иезуиты, причем ими посланы в Англию и Шотландию специальные эмиссары, главными из которых были Роберт Пэрсонс и Эдмунд Кэмпиан. Они, заботясь о расширении папской власти, состояли в связи с Гизами и имели обещание Филиппа II Испанского на выдачу денег, необходимых для освобождения Марии Стюарт. К герцогу Ленноксу посланы иезуиты Крейтон и Гольт для того, чтобы условиться, как привести в исполнение задуманное дело.
Валингэм, услышав это, поблагодарил Кингтона за сообщение и спросил, как можно было бы помешать этому заговору.
— Для этого прежде всего необходимо изловить иезуитов и под пыткой добиться у них признания, — ответил Клинтон.
— Но где же их найти?
— Кэмпиан находится в Шеффилде, вблизи Марии Стюарт, и потому нужно особенно внимательно наблюдать за ней. Далее следует занять войсками шотландскую границу и предложить лорду Бэрлею помощь.
— Это ловко придумано, и, по-моему, вы правы! — одобрил Валингэм.
Кингтон, улыбнувшись, произнес:
— Милорд, могу ли я позволить себе один вопрос?
— Разумеется.
— Милорды Бэрлей иЛейстер в данную минуту как будто не особенно ладят между собой?
— Ах… это обстоятельство…
— В высшей степени интересует меня, милорд, — подхватил Кингтон. — Между Лейстером и мной также не все еще выяснено: я не могу забыть, что во время процесса Норфолка он не помог мне выкарабкаться из беды, и если я разузнаю все, а самое главное, если получу позволение лорда Бэрлея, то могу сыграть с ним такую шутку, что все мы останемся вполне довольны.
— Не стану отрицать, сэр, между этими двумя сановниками действительно замечается некоторая холодность…
— … проистекающая из того, что ваша повелительница до такой степени благоволит к лорду Лейстеру, что он позволяет себе возноситься… Не правда ли?
— Вы, должно быть, состоите в союзе с сатаной?
— Я — тайный агент вашей светлости. И хотел бы попросить, чтобы меня тайно допустили к королеве.
— Но… ведь вы изгнаны из страны… Приказ о вашем изгнании не отменен.
— Дайте мне только письменное удостоверение, что я состою на вашей службе и принес на своем посту значительную пользу. С этим удостоверением в руках я предстану перед королевой.
— Это кажется мне рискованным… Подобный шаг опасен как для вас, так и для меня.
Кингтон улыбнулся.
— Тем не менее вы велели мне явиться и приняли меня. Конечно, вы полагали, что можете пожертвовать мной. Но это только навредило бы вам. Между тем мы можем договориться. Выдайте мне удостоверение, а я дам вам письменный документ, не лишенный ценности.
— Вы торгуетесь? Но ведь вам платят за ваши услуги.
— Все это прекрасно, однако определять границы этих услуг предоставлено мне самому Я достаточно сделал за полученные мной деньги, а за этот письменный документ желаю получить от вас свидетельство.
Кингтон показал министру письмо.
— Оно важно? — спросил тот.
— Да, — кивнул Кингтон и прочитал: — «Ваш король и папа, судя по тому, что говорил иезуит, кажется, желают воспользоваться моими услугами, чтобы осуществить задуманный ими план относительно восстановления католичества в Шотландии и освобождения шотландской королевы».
— Кто это пишет? — резко спросил Валингэм.
— Герцог Леннокс.
Кингтон отдал листок статс-секретарю, и тот прочитал его до конца. Агент посматривал на него с довольной улыбкой.
— Это весьма ценно! — сказал Валингэм.
— Да, милорд. Пожалуйте же мне свидетельство!
Министр подсел к столу и написал требуемый документ; за неимением казенной печати он воспользовался своим перстнем с гербом и передал листок Кингтону.
Тот принял его с поклоном и произнес:
— У меня еще есть к вам просьба! Не может ли лорд Бэрлей провести меня к королеве без предварительного доклада о том, кто я таков!
— Но я не могу тут ничего решить.
— Вот это второе письмо может помочь решению, — подал Кингтон министру новый документ.
— Ага, — воскликнул тот, — от Леннокса к королеве Марии… весь план заговорщиков. Вы — очень полезный человек!
— Таким я был всегда… — сказал Кингтон, — меня только не умели ценить.
— Этот упрек не должен относиться ко мне, сэр, — сказал министр. — Я уважу вашу просьбу, приходите ко мне завтра вечером, мы еще с вами потолкуем.
Кингтон поклонился и вышел из конспиративной квартиры.
Вскоре после него покинул ее и Валингэм в сопровождении своего слуги. За ними обоими последовал украдкой человек до самого дома Валингэма, он несомненно наблюдал за домом, где происходило тайное свидание.
— Пусть меня повесят, — пробормотал этот шпион, — если статс-секретарь не совещался здесь с отчаянным малым Кингтоном.
Этим шпионом был Пельдрам. Полиция парламента в Англии следила за полицией государственного казначея, и наоборот.
На следующий вечер Кингтон, как ему было приказано, явился к своему начальнику, и тот велел ему следовать за собой.
Во дворце Кингтона привели в комнаты королевы, и он предстал перед ней в том самом кабинете, где Елизавета так часто принимала его бывшего господина, графа Лейстера. Кингтон немедленно бросился на колени.
По весьма понятным причинам, королева держалась от него в отдалении, но комната была так ярко освещена множеством свечей, что она вспомнила лицо посетителя.
— Ваши черты как будто знакомы мне, — сказала она. — Должно быть, я видела вас раньше.
— Человек подвержен перемене времени, и я не избег этого закона, — ответил Кингтон, — но последние двенадцать лет не коснулись моей высокой повелительницы. Вы, ваше величество, именно столько времени тому назад подарили меня милостивым взглядом.
Кингтон затронул тщеславие женщины такой с виду грубой, но на самом деле тонко обдуманной лестью. Однако Елизавета как будто пропустила ее мимо ушей.
— Кто же вы такой? — задала она вопрос.
— Верный слуга вашего величества! Позвольте пока остаться при этом определении.
— Ах, кажется, вы хотите здесь повелевать?!
— И не думаю… но мне, я полагаю, позволительно надеяться, что ваши министры уже успели сообщить вам, ваше величество, о замыслах ваших врагов, открытых благодаря мне.
— Эти сообщения вообще рекомендуют вас, — поспешно сказала королева. — Вы желаете дополнить их?
— Не соблаговолите ли вы, ваше величество, принять и просмотреть вот эти два документа.
Елизавета колебалась некоторое время, но вид и обращение незнакомца не вызывали никаких опасений. Она подошла к нему ближе и взяла оба письма, после чего снова удалилась, чтобы приняться за чтение.
Вдруг с ней произошла резкая перемена, и это было совершенно понятно. Одна из бумаг представляла собой письмо Марии Стюарт к Мендозе. Другая была ответом ей этого посланника Филиппа II при английском дворе. Оба письма касались затеянного заговора.
— Я обязана вас благодарить, — сказала она Кингтону. — Встаньте!… Кто вы такой?
— Ваше величество, предварительно еще одно слово, — сказал Кингтон. — Священник Кэмпиан, переодетый зубным врачом, служит посредником для передачи писем между Марией Стюарт и послом Мендозой. За зеркалом в комнате последнего спрятана переписка заговорщиков.
— Благодарю… благодарю вас!… Ваша верность должно быть награждена. Ну, а теперь ваше имя!
— Оно находится в этом документе, — ответил Кингтон, подавая королеве бумагу, написанную Валингэмом.
Елизавета бросила на нее беглый взгляд.
— Кингтон? — удивилась она с совершенно особенным выражением внутренней борьбы.
— Да, я — Кингтон. Я — ваш всеподданнейший слуга и прошу только об одной милости! Дозвольте мне служить и дальше вам, ваше величество, так как я рассчитываю в скором времени предать Кэмпиана в руки правосудия.
Хитрец ловко вел свою игру. Елизавета, пожалуй, успела уже сообразить, что Бэрлей неспроста прислал ей этого человека.
— Что же, — решила королева, — ваши прежние проступки должны быть забыты ради услуг, которые вы оказали нам. Не рассчитывайте однако на награду за них… Встаньте!…
— Я уже награжден вашей милостью! — не вставая с колен, возразил Кингтон. — Но у меня есть, еще одна просьба к вам, ваше величество.
— Я согласна выслушать ее, — ответила Елизавета.
— То, что я сделал раньше для лорда Лейстера, было ради его спасения; я принес жертву, которую он принял, но за которую я не удостоился его признательности. Ведь он действительно вступил в брак с леди Филли Бэклей.
Королева на минуту задумалась, а затем сказала:
— Я поняла вас. Но самопожертвованию в пользу вашего господина равнялась ваша дерзость против вашей королевы. Вы не заслужили награды.
— А может быть, я удостоюсь ее, когда доложу, что супруга графа Лейстера вот уже десять лет живет в его замке Кенилворт, принимает там его у себя и вообще пользуется всеми своими правами.
— Правда ли это? — опешила Елизавета.
— Да, ваше величество, — подтвердил Кингтон. — Вы сами могли бы убедиться в справедливости моих слов, если бы в той местности случайно устроилась охота. А до тех пор я буду наблюдать за охотничьим замком, чтобы не допустить удаления этой особы.
— Это вы из мести предаете Лейстера?
— Я не предаю лорда, ваше величество, а только доношу по долгу верноподданного вам, моей повелительнице. Кто неверен в одном, тому нетрудно при случае дойти до измены и в другом.
Елизавета размышляла некоторое время.
«Правда, — думала она, — моя слабость навлекла на себя жестокую кару». И вслух произнесла:
— Молчите о своих сообщениях, наблюдайте за Кенилвортским замком и доносите мне! Но это не самое главное. Первым долгом заботьтесь об исполнении приказов лордов Бэрлея и Валингэма. Можете идти.
Кингтон покинул королеву, и вскоре пустился в путь, направляясь в Шеффилд.
А тем временем лорду Лейстеру доложили о приходе агента парламентской полиции.
Название тайного судилища для политических и уголовных преступлений звучало грозно даже для высших сановников государства. Поэтому Лейстер немедленно принял посетителя и, к своему удивлению, тотчас узнал его. Перед ним стоял Пельдрам.
— Как вы осмелились? — с досадой воскликнул Лейстер.
— Милорд, мое теперешнее звание должно было бы послужить вам достаточным ответом, — сказал Пельдрам.
— Но я пришел не по долгу службы, а в ваших интересах.
— Как… в моих интересах?
— Именно так, милорд… Это побудило меня еще много лет назад попытаться уничтожить змею, которую вы пригрели на своей груди и которая замышляла вашу гибель.
— Вы намекаете на Кингтона?
— Разумеется, милорд. Не скрою, я действовал небескорыстно, потому что хотел поступить на его место, но я служил бы вам верой и правдой, на что готов еще и теперь.
— Допустим, что я поверил бы вам, в чем же заключается услуга, которую вы намерены оказать мне?
— Прежде всего в сообщении, что Кингтон принадлежит к полиции Валингэма и попал на службу при содействии лорда Бэрлея.
— Неужели?
— Да, милорд… Затем скажу вам еще, что в настоящее время Кингтон наблюдает за Кенилвортским замком, а это немаловажно.
— Боже мой! — воскликнул Лейстер.
— Тот человек — мой заклятый враг, отомстить ему — цель моей жизни. Но в настоящее время он мне недоступен. Я знаю, что происходит в замке, и догадываюсь, по чьему приказу находится там Кингтон. Может быть, вы еще в состоянии помешать замыслам ваших врагов?
Лейстер вздрогнул.
— Благодарю вас, Пельдрам, — сказал он, — мы еще увидимся с вами. Надеюсь, что мне удастся все уладить. Но пока я остаюсь вашим должником.
Пельдрам поклонился и вышел.
Лейстер сел к письменному столу и поспешно написал письмо, которое тотчас отправил с верховым гонцом. Сам же он переоделся и поехал в Вестминстер. Он надеялся получить на некоторое время отпуск, чтобы посмотреть самому, как поступить для сокрытия связи, которая так долго оставалась необнаруженной, что он почти перестал опасаться ее разоблачения.


 Несмотря на то, что арест, процесс и казнь Кэмпиана были крупной неудачей для заговорщиков. однако, когда им стало известно, что он никого не выдал, они успокоились. Кроме того, Пэрсонс благополучно вернулся из Англии, чтобы сообщить о настроении народа. Приверженцы Марии Стюарт решительно не догадывались, насколько посвящены в заговор их противники. Пэрсон уехал в Шотландию с деньгами, собранными на общее дело, а в то же время Гизы все энергичнее вели дело заговора к его осуществлению.
Между тем Валингэм имел повсюду своих шпионов. Секретарь французского посланника был подкуплен; посланник Иакова VI предал сам своего повелителя; один из слуг Леннокса был предателем.
Был создан еще один более ограниченный союз с целью убийства Елизаветы. В состав его входили лорды Арден и Соммервиль, а также священник Галл. Союзникам много содействовал в Англии сэр Фрэнсис Трогмортон, сын бывшего посланника Елизаветы при дворе Марии Стюарт, он был арестован первым. За ним — граф Нортумберленд с сыном, граф Эрондэль, его жена, дядя и брат. Лорду Пэджету и Чарльзу Эрондэлю удалось бежать. Трогмортона трижды подвергали пытке, но он не сознался ни в чем до самой смерти, которую принял на эшафоте. Крейтон и прочие арестованные священники также были казнены.
До этого времени распространилась молва о любовных похождениях Елизаветы и ее безнравственных поступках, что жестоко возмутило королеву.
Конечно, этот заговор только ухудшил положение Марии Стюарт, и, несмотря на ее жалобные письма к Елизавете, та приказала перевести ее в замок Уитфилд, а затем в еще более мрачный замок Тильбэри.
В разгар всех этих событий случилось то, что Лейстер совершил или приказал совершить деяние, которое заклеймило навсегда этого любимца Елизаветы.
Филли занимала по праву положение супруги Лейстера и в течение нескольких лет подарила ему двоих детей. Мать находилась при ней, и вся маленькая семья жила тихо и спокойно в отдаленном охотничьем замке Кенилворт, где уединение обитателей нарушалась только редкими посещениями Лейстера.
Сэррей и Брай наконец нашли Филли, но когда она заявила, что желает всецело посвятить свою жизнь супругу, то они в сопровождении Джонстона покинули Британию вообще, чтобы поступить на военную службу за границей. Однако слухи о замышляемой казни Марии Стюарт, уже тогда носившиеся в Европе, впоследствии вернули их обратно.
К этому времени мать Филли умерла и была погребена и оплакана дочерью и внуками.
Когда Пельдрам предостерег Лейстера о нависшей над ним опасности, тот вообразил, что имеет дело лишь с Бэрлеем и Валингэмом, и надеялся, что в силах вступить в борьбу с ними. Поэтому, отправившись в Вестминстер, Лейстер обошелся с Бэрлеем довольно резко. Неучтиво обошелся он и с Валингэмом.
На аудиенции у королевы в тот день не произошло поначалу ничего особенного; только в заключение Бэрлей подал Елизавете депеши, которые считались тайными, так как их содержание не обсуждалось на государственном совете.
Когда Елизавета удалилась в свои апартаменты, лорд Лейстер, по обыкновению, последовал за ней. Королева сначала прочла депеши, а когда наконец взглянула на графа, то ее глаза были полны гнева.
— Ваше величество, — сказал Лейстер, — я принужден; просить о кратком отпуске.
— Вот как? — промолвила Елизавета. — Разве вы опять больны? Насколько я заметила, вы заболеваете через правильные промежутки времени. Ах, если бы я могла также ссылаться на болезни!…
— На этот раз неотложные дела призывают меня в мои поместья.
— А куда именно собираетесь вы ехать?
— В мои владения в восточной части графства, ваше величество.
— Кажется, у вас там обширные, прекрасные леса?
— Молва часто бывает обманчива!
— В этих лесах есть красивые охотничьи замки?
— Замки, да, но не из красивых, ваше величество.
— Как вы думаете, не вправе ли я воспользоваться отдыхом при таком множестве занятий и среди стольких треволнений?
Лейстер насторожился и уклончиво ответил:
— Никто не может помешать в том вам, ваше величество!
— А мой долг? — возразила королева. — Но я хочу попробовать, не удастся ли мне успокоить свою совесть. Право, я сделаю так! Когда собираетесь вы ехать?
— Завтра же утром.
— Не можете ли вы подождать до послезавтра?
— Если вам, ваше величество, угодно…
— Прошу вас, Дэдлей!
— Я повинуюсь.
— Ну, тогда я напрошусь к вам на неделю в гости. Чтобы воспользоваться удовольствием охоты, мы можем поселиться… ну, хотя бы в Кенилворте. Послезавтра мы выедем из Лондона.
Лейстер был отпущен жестом руки и не посмел прекословить, Ему казалось, будто его ударили по голове, — до такой степени был он ошеломлен.
Вернувшись домой, граф тотчас же послал за Пельдрамом и, когда тот пришел, объявил ему, что желает знать, каким образом наблюдают за Кенилвортом и той местностью, где расположен замок.
— Я буду там с достаточным количеством людей, — сказал агент, — но боюсь, что мне не удастся сделать многое, так как нам могут помешать люди королевы.
Вскоре стало известно, что королева покидает на неделю свою столицу, для чего поспешно приступили к сборам и приготовлениям. Особенно усердно принимались меры безопасности, и в назначенное время королевский двор покинул Лондон.
Лейстеру эта поездка далась кровью. Каждый его шаг подвергался строжайшему контролю, точно он был пленником. Вместо того чтобы ехать прямо в Кенилворт, Елизавета расположилась на ночлег в деревне, недалеко от замка. На место прибыли только на другой день, к завтраку.
Напрасно пытался Лейстер тайно снестись со своими людьми — этого не допустили. После завтрака Елизавета потребовала, чтобы ей показали внутреннее убранство замка, который уже сильно обветшал. Лейстер должен был водить ее повсюду сам.
Пройдя анфиладу комнат, царственная гостья дошла до запертой двери, которую Лейстер хотел миновать.
— Куда ведет эта дверь? — спросила Елизавета.
Я и сам толком не знаю, что там. Какие-то жуткие заброшенные комнаты, куда редко кто входил и до меня…
Королева окинула взглядом высокие своды дверей, массивные дубовые доски и, покачав головой, промолвила:
— Я мало верю сказкам про старинные замки, поэтому прикажите отворить эту дверь; мне интересно знать, что скрывается за ней…
Лейстер побелел как смерть, однако велел позвать дворецкого и приказал ему отворить дверь. Тот, поискав дрожащими руками ключ, отпер дверь, трясясь как лист.
Когда ключ еще только начал поворачиваться в замке, раздался оглушительный треск, от которого дрогнули и пол, и каменные стены. Почти все охнули от неожиданности. Смотритель толкнул одну половинку дверей и отскочил назад.
С первого взгляда можно было убедиться, что за этой дверью скрывалась внутренность одной из башен, но в этом помещении не было ни пола, ни потолка; вверху виднелись башенные зубцы, внизу зияла темная, мрачная пропасть, откуда доносился глухой шум. Королева стояла окаменев от ужаса, как и все ее провожатые.
— Покинем этот замок, — воскликнула наконец Елизавета, бросив зоркий взгляд на побледневшего графа, — я не смогу ни секунды чувствовать себя здесь в безопасности!
Королева ушла, за нею последовала ее свита, а позади всех неверными, дрожащими шагами шел Лейстер.
Из охоты ничего не вышло, все возвратились в Лондон, и Елизавета никогда, ни единым словом не напоминала Лейстеру о случившемся. Она, вероятно, думала, что он жестоко наказан, так же, как и она жестоко отомщена соперницей, которая, несмотря на свое убожество, бедность и низкое происхождение, одержала победу над богатой, красивой, знатной королевой.
С того момента Филли совершенно исчезла. Можно было бы предположить, что Лейстер укрыл ее и детей в более надежном месте. Но продолжительная болезнь, которой он страдал после этого случая с неудачной охотой, заставляет предполагать худшее.
Кенилворт был, во всяком случае, одним из ужаснейших сооружений седой старины. Будучи первоначально итальянским изобретением, оно затем быстро распространилось во всей Европе и служило для бесследного исчезновения людей. Возможно, что Лейстер отдал приказание, в случае обнаружения убежища его семьи в башне, погубить их всех Возможно также, что Филли мужественно решила лучше погубить себя и детей, нежели еще раз поставить своего возлюбленного супруга в затруднительное положение из-за нее. Однако достоверных сведений не было, а Кенилвортская башня продолжала наводить ужас на население страны.
Удивленный столь быстрым отъездом двора, Кингтон навел в замке справки. Результаты, по-видимому, мало соответствовали его желаниям, так как он велел своим людям немедленно отправиться в Лондон, сам поехал отдельно. Он ехал, глубоко задумавшись. Вдруг на пути ему встретились трое, и от неожиданности их появления Кингтон на миг даже испугался.
— Черт возьми! — воскликнул один из всадников. — Это он!
— Брай! — вырвалось из уст Кингтона.
— Да, негодяй, это — я! — воскликнул тот.
Все стремительно обнажили свои мечи.
— Именем королевы, вы арестованы! — крикнул Кингтон.
— Попробуй арестовать! — пригрозил Брай, двинувшись на Кингтона.
Тот быстро сообразил, что ему следует заманить их поближе к своим людям и тогда уже с их помощью принудить к сдаче. Поэтому он повернул своего коня обратно и поскакал, надеясь, что Брай и его спутники бросятся за ним — и тогда попадут в западню.
Всадники скакали сначала по открытой местности, а потом попали в большой лес.
— Стой! — раздался окрик за деревьями.
Кингтон, бывший впереди, растерялся и придержал коня, в тот же момент ожил весь лес, со всех сторон подлетели более пятидесяти всадников и окружили как преследуемого, так и преследующих.
— Стой! — послышался вторично тот же голос. — Именем закона…
— Пельдрам! — простонал пораженный Кингтон.
— Совершенно верно! Мы знаем друг друга. Ваше оружие, господа!
— Проклятие! — воскликнул Брай. — Как поступить, милорд Сэррей?
— Все равно, — сказал граф. — Мы не можем вступить в борьбу с таким отрядом.
— Ну и к черту! — крикнул старый забияка, бросая свое оружие. — Я довольно уже пожил!
Пельдрам принял оружие от Брая, Сэррея и Джонстона Когда же он потребовал его и от Кингтона, тот заявил.
— Я состою на государственной службе!
— Это после выяснится! — отрезал Пельдрам.
Он хотел доставить себе удовольствие арестовать и под конвоем отвезти в Лондон столь ненавистного ему человека. Отряд вместе с пленниками направился в столицу.
У Пельдрама были свои счеты с Сэрреем и Браем. Но Брай был его земляком, а шотландец всегда питает слабость к другому шотландцу, даже если они и готовы перервать друг другу глотки. Поэтому Пельдрам подумал, что за двойное поражение будет достаточной местью, если он сдаст Брая с Сэрреем в ближайшем местечке. Так он и сделал, оставив Джонстона на свободе, так как совершенно забыл, кто это такой. Но Пельдрам не мог отказать себе в удовольствии доставить Кингтона в Лондон и сдать его там в Тауэр.
Разумеется, Пельдрам не мог рискнуть на убийство Кингтона, но хотел наказать его всеми неудобствами хождения по этапу, надеясь оправдаться потом, что просто не узнал его.
Конечно, Кингтона очень скоро выпустили из Тауэра, но он счел за лучшее признать, что в данном деле произошло простое недоразумение, и не стал ни в чем обвинять Пельдрама или выводить на свет Божий их старые счеты. Потому Бэрлей и Валингэм не узнали о проступке Пельдрама, направленном против их общих интересов.
Вражда Бэрлея и Лейстера со времени катастрофы в Кенилворте достигла значительной силы и королеве Елизавете не раз приходилась быть посредницей между ними, причем она часто становилась на сторону Лейстера. Жертва, которую он, как ей казалось, принес в Кенилворте, примирила ее с фаворитом, несмотря на всю преступность этого акта. Бэрлей же был достаточно умен, чтобы идти слишком далеко, и, по-видимому, примирился с утвердившимся положением Лейстера.
Оставшийся на свободе Джонстон сумел быстро вернуть свободу Сэррею и Браю, взломав их оковы.
Когда Сэррей узнал подробности событий в Кенилворте, заподозрив в преступлении Лейстера, когда увидел, что Елизавета не только оставила безнаказанным виновника столь мерзкого убийства, но даже не лишила его своего благоволения, — он окончательно и решительно перешел на сторону ее врагов.
Несмотря на то, что арест, процесс и казнь Кэмпиана были крупной неудачей для заговорщиков. однако, когда им стало известно, что он никого не выдал, они успокоились. Кроме того, Пэрсонс благополучно вернулся из Англии, чтобы сообщить о настроении народа. Приверженцы Марии Стюарт решительно не догадывались, насколько посвящены в заговор их противники. Пэрсон уехал в Шотландию с деньгами, собранными на общее дело, а в то же время Гизы все энергичнее вели дело заговора к его осуществлению.
Между тем Валингэм имел повсюду своих шпионов. Секретарь французского посланника был подкуплен; посланник Иакова VI предал сам своего повелителя; один из слуг Леннокса был предателем.
Был создан еще один более ограниченный союз с целью убийства Елизаветы. В состав его входили лорды Арден и Соммервиль, а также священник Галл. Союзникам много содействовал в Англии сэр Фрэнсис Трогмортон, сын бывшего посланника Елизаветы при дворе Марии Стюарт, он был арестован первым. За ним — граф Нортумберленд с сыном, граф Эрондэль, его жена, дядя и брат. Лорду Пэджету и Чарльзу Эрондэлю удалось бежать. Трогмортона трижды подвергали пытке, но он не сознался ни в чем до самой смерти, которую принял на эшафоте. Крейтон и прочие арестованные священники также были казнены.
До этого времени распространилась молва о любовных похождениях Елизаветы и ее безнравственных поступках, что жестоко возмутило королеву.
Конечно, этот заговор только ухудшил положение Марии Стюарт, и, несмотря на ее жалобные письма к Елизавете, та приказала перевести ее в замок Уитфилд, а затем в еще более мрачный замок Тильбэри.
В разгар всех этих событий случилось то, что Лейстер совершил или приказал совершить деяние, которое заклеймило навсегда этого любимца Елизаветы.
Филли занимала по праву положение супруги Лейстера и в течение нескольких лет подарила ему двоих детей. Мать находилась при ней, и вся маленькая семья жила тихо и спокойно в отдаленном охотничьем замке Кенилворт, где уединение обитателей нарушалась только редкими посещениями Лейстера.
Сэррей и Брай наконец нашли Филли, но когда она заявила, что желает всецело посвятить свою жизнь супругу, то они в сопровождении Джонстона покинули Британию вообще, чтобы поступить на военную службу за границей. Однако слухи о замышляемой казни Марии Стюарт, уже тогда носившиеся в Европе, впоследствии вернули их обратно.
К этому времени мать Филли умерла и была погребена и оплакана дочерью и внуками.
Когда Пельдрам предостерег Лейстера о нависшей над ним опасности, тот вообразил, что имеет дело лишь с Бэрлеем и Валингэмом, и надеялся, что в силах вступить в борьбу с ними. Поэтому, отправившись в Вестминстер, Лейстер обошелся с Бэрлеем довольно резко. Неучтиво обошелся он и с Валингэмом.
На аудиенции у королевы в тот день не произошло поначалу ничего особенного; только в заключение Бэрлей подал Елизавете депеши, которые считались тайными, так как их содержание не обсуждалось на государственном совете.
Когда Елизавета удалилась в свои апартаменты, лорд Лейстер, по обыкновению, последовал за ней. Королева сначала прочла депеши, а когда наконец взглянула на графа, то ее глаза были полны гнева.
— Ваше величество, — сказал Лейстер, — я принужден; просить о кратком отпуске.
— Вот как? — промолвила Елизавета. — Разве вы опять больны? Насколько я заметила, вы заболеваете через правильные промежутки времени. Ах, если бы я могла также ссылаться на болезни!…
— На этот раз неотложные дела призывают меня в мои поместья.
— А куда именно собираетесь вы ехать?
— В мои владения в восточной части графства, ваше величество.
— Кажется, у вас там обширные, прекрасные леса?
— Молва часто бывает обманчива!
— В этих лесах есть красивые охотничьи замки?
— Замки, да, но не из красивых, ваше величество.
— Как вы думаете, не вправе ли я воспользоваться отдыхом при таком множестве занятий и среди стольких треволнений?
Лейстер насторожился и уклончиво ответил:
— Никто не может помешать в том вам, ваше величество!
— А мой долг? — возразила королева. — Но я хочу попробовать, не удастся ли мне успокоить свою совесть. Право, я сделаю так! Когда собираетесь вы ехать?
— Завтра же утром.
— Не можете ли вы подождать до послезавтра?
— Если вам, ваше величество, угодно…
— Прошу вас, Дэдлей!
— Я повинуюсь.
— Ну, тогда я напрошусь к вам на неделю в гости. Чтобы воспользоваться удовольствием охоты, мы можем поселиться… ну, хотя бы в Кенилворте. Послезавтра мы выедем из Лондона.
Лейстер был отпущен жестом руки и не посмел прекословить, Ему казалось, будто его ударили по голове, — до такой степени был он ошеломлен.
Вернувшись домой, граф тотчас же послал за Пельдрамом и, когда тот пришел, объявил ему, что желает знать, каким образом наблюдают за Кенилвортом и той местностью, где расположен замок.
— Я буду там с достаточным количеством людей, — сказал агент, — но боюсь, что мне не удастся сделать многое, так как нам могут помешать люди королевы.
Вскоре стало известно, что королева покидает на неделю свою столицу, для чего поспешно приступили к сборам и приготовлениям. Особенно усердно принимались меры безопасности, и в назначенное время королевский двор покинул Лондон.
Лейстеру эта поездка далась кровью. Каждый его шаг подвергался строжайшему контролю, точно он был пленником. Вместо того чтобы ехать прямо в Кенилворт, Елизавета расположилась на ночлег в деревне, недалеко от замка. На место прибыли только на другой день, к завтраку.
Напрасно пытался Лейстер тайно снестись со своими людьми — этого не допустили. После завтрака Елизавета потребовала, чтобы ей показали внутреннее убранство замка, который уже сильно обветшал. Лейстер должен был водить ее повсюду сам.
Пройдя анфиладу комнат, царственная гостья дошла до запертой двери, которую Лейстер хотел миновать.
— Куда ведет эта дверь? — спросила Елизавета.
Я и сам толком не знаю, что там. Какие-то жуткие заброшенные комнаты, куда редко кто входил и до меня…
Королева окинула взглядом высокие своды дверей, массивные дубовые доски и, покачав головой, промолвила:
— Я мало верю сказкам про старинные замки, поэтому прикажите отворить эту дверь; мне интересно знать, что скрывается за ней…
Лейстер побелел как смерть, однако велел позвать дворецкого и приказал ему отворить дверь. Тот, поискав дрожащими руками ключ, отпер дверь, трясясь как лист.
Когда ключ еще только начал поворачиваться в замке, раздался оглушительный треск, от которого дрогнули и пол, и каменные стены. Почти все охнули от неожиданности. Смотритель толкнул одну половинку дверей и отскочил назад.
С первого взгляда можно было убедиться, что за этой дверью скрывалась внутренность одной из башен, но в этом помещении не было ни пола, ни потолка; вверху виднелись башенные зубцы, внизу зияла темная, мрачная пропасть, откуда доносился глухой шум. Королева стояла окаменев от ужаса, как и все ее провожатые.
— Покинем этот замок, — воскликнула наконец Елизавета, бросив зоркий взгляд на побледневшего графа, — я не смогу ни секунды чувствовать себя здесь в безопасности!
Королева ушла, за нею последовала ее свита, а позади всех неверными, дрожащими шагами шел Лейстер.
Из охоты ничего не вышло, все возвратились в Лондон, и Елизавета никогда, ни единым словом не напоминала Лейстеру о случившемся. Она, вероятно, думала, что он жестоко наказан, так же, как и она жестоко отомщена соперницей, которая, несмотря на свое убожество, бедность и низкое происхождение, одержала победу над богатой, красивой, знатной королевой.
С того момента Филли совершенно исчезла. Можно было бы предположить, что Лейстер укрыл ее и детей в более надежном месте. Но продолжительная болезнь, которой он страдал после этого случая с неудачной охотой, заставляет предполагать худшее.
Кенилворт был, во всяком случае, одним из ужаснейших сооружений седой старины. Будучи первоначально итальянским изобретением, оно затем быстро распространилось во всей Европе и служило для бесследного исчезновения людей. Возможно, что Лейстер отдал приказание, в случае обнаружения убежища его семьи в башне, погубить их всех Возможно также, что Филли мужественно решила лучше погубить себя и детей, нежели еще раз поставить своего возлюбленного супруга в затруднительное положение из-за нее. Однако достоверных сведений не было, а Кенилвортская башня продолжала наводить ужас на население страны.
Удивленный столь быстрым отъездом двора, Кингтон навел в замке справки. Результаты, по-видимому, мало соответствовали его желаниям, так как он велел своим людям немедленно отправиться в Лондон, сам поехал отдельно. Он ехал, глубоко задумавшись. Вдруг на пути ему встретились трое, и от неожиданности их появления Кингтон на миг даже испугался.
— Черт возьми! — воскликнул один из всадников. — Это он!
— Брай! — вырвалось из уст Кингтона.
— Да, негодяй, это — я! — воскликнул тот.
Все стремительно обнажили свои мечи.
— Именем королевы, вы арестованы! — крикнул Кингтон.
— Попробуй арестовать! — пригрозил Брай, двинувшись на Кингтона.
Тот быстро сообразил, что ему следует заманить их поближе к своим людям и тогда уже с их помощью принудить к сдаче. Поэтому он повернул своего коня обратно и поскакал, надеясь, что Брай и его спутники бросятся за ним — и тогда попадут в западню.
Всадники скакали сначала по открытой местности, а потом попали в большой лес.
— Стой! — раздался окрик за деревьями.
Кингтон, бывший впереди, растерялся и придержал коня, в тот же момент ожил весь лес, со всех сторон подлетели более пятидесяти всадников и окружили как преследуемого, так и преследующих.
— Стой! — послышался вторично тот же голос. — Именем закона…
— Пельдрам! — простонал пораженный Кингтон.
— Совершенно верно! Мы знаем друг друга. Ваше оружие, господа!
— Проклятие! — воскликнул Брай. — Как поступить, милорд Сэррей?
— Все равно, — сказал граф. — Мы не можем вступить в борьбу с таким отрядом.
— Ну и к черту! — крикнул старый забияка, бросая свое оружие. — Я довольно уже пожил!
Пельдрам принял оружие от Брая, Сэррея и Джонстона Когда же он потребовал его и от Кингтона, тот заявил.
— Я состою на государственной службе!
— Это после выяснится! — отрезал Пельдрам.
Он хотел доставить себе удовольствие арестовать и под конвоем отвезти в Лондон столь ненавистного ему человека. Отряд вместе с пленниками направился в столицу.
У Пельдрама были свои счеты с Сэрреем и Браем. Но Брай был его земляком, а шотландец всегда питает слабость к другому шотландцу, даже если они и готовы перервать друг другу глотки. Поэтому Пельдрам подумал, что за двойное поражение будет достаточной местью, если он сдаст Брая с Сэрреем в ближайшем местечке. Так он и сделал, оставив Джонстона на свободе, так как совершенно забыл, кто это такой. Но Пельдрам не мог отказать себе в удовольствии доставить Кингтона в Лондон и сдать его там в Тауэр.
Разумеется, Пельдрам не мог рискнуть на убийство Кингтона, но хотел наказать его всеми неудобствами хождения по этапу, надеясь оправдаться потом, что просто не узнал его.
Конечно, Кингтона очень скоро выпустили из Тауэра, но он счел за лучшее признать, что в данном деле произошло простое недоразумение, и не стал ни в чем обвинять Пельдрама или выводить на свет Божий их старые счеты. Потому Бэрлей и Валингэм не узнали о проступке Пельдрама, направленном против их общих интересов.
Вражда Бэрлея и Лейстера со времени катастрофы в Кенилворте достигла значительной силы и королеве Елизавете не раз приходилась быть посредницей между ними, причем она часто становилась на сторону Лейстера. Жертва, которую он, как ей казалось, принес в Кенилворте, примирила ее с фаворитом, несмотря на всю преступность этого акта. Бэрлей же был достаточно умен, чтобы идти слишком далеко, и, по-видимому, примирился с утвердившимся положением Лейстера.
Оставшийся на свободе Джонстон сумел быстро вернуть свободу Сэррею и Браю, взломав их оковы.
Когда Сэррей узнал подробности событий в Кенилворте, заподозрив в преступлении Лейстера, когда увидел, что Елизавета не только оставила безнаказанным виновника столь мерзкого убийства, но даже не лишила его своего благоволения, — он окончательно и решительно перешел на сторону ее врагов.


 На одной из равнин графства Стэффорд находится одинокий холм, на вершине которого в старину стоял укрепленный замок Тильбэри. Была зима. Сугробы снега покрывали землю, резкий ветер завывал вокруг старого замка и, носясь по обширной равнине, вздымал и кружил снежные вихри. С юга по равнине тянулся отряд всадников численностью около пятидесяти лошадей. Во главе отряда ехали два человека. Один из них был высокий, несколько угловатый. Его лицо носило отпечаток суровости и строгости. Звали его рыцарь Амиас Полэт. Спутником рыцаря был его помощник в делах, офицер-стрелок Друри. Он был ниже ростом и плотнее, с добродушными чертами лица. Всадники, сопровождавшие этих двух господ, были стрелками.
Надзор за Марией Стюарт в замке Тильбэри был теперь поручен таким людям, которые в ней не видели ничего, кроме узницы самого низкого сорта, женщины преступной, уличенной убийцы, словом, женщины-дьявола, за которой нужно зорко следить и поступать с ней сообразно ее проступкам. Таких надзирателей и нашли в лице Амиаса Полэта и его помощника Друри.
Полэт несколько раз поднимал голову и устремлял мрачный взгляд в пространство, чтобы сквозь метелицу разглядеть очертания видневшегося вдалеке замка. Воспользовавшись моментом, когда воздух несколько просветлел, Друри рассмотрел старый замок и невольно вздохнул.
— Вам не нравится тут? — резко спросил Полэт.
— Что? Дорога, снег или старый замок? — спросил Друри вместо ответа на вопрос.
— Ну, снег и неудобства пути не должны смущать солдата, — заметил рыцарь. — Я имел в виду тот старый замок.
— Откровенно говоря, я желал бы лучше попасть туда, куда, вероятно, желала бы переместиться и обитательница этого, с позволения сказать, замка.
— Полэт перекрестился, и черты его лица приняли выражение фанатического благочестия, делавшего и без того непривлекательное лицо Амиаса прямо отвратительным.
— Это — доброе пожелание, — сказал он елейным голосом, — и да исполнит его Господь Бог! Но уверяю вас, Друри, это место как нельзя более подходит для укрытия этой клятвопреступницы, государственной изменницы и мужеубийцы, которая под нашим надзором должна приобрести кротость агнца.
Друри испуганно взглянул на своего начальника и молча опустил голову.
— Не огорчайтесь, — продолжал рыцарь, — на мою долю выпала честь занять ответственный пост надзирающего за этой великой грешницей, а для вас такая же высокая честь быть моим помощником. Подумайте, какая награда ждет нас за эту службу, не говоря уже о той высокой награде, которую мы приобретем в загробной жизни за то, что уничтожим все коварные проделки этого чудовища!…
Полное, раскрасневшееся от ветра лицо Друри свидетельствовало о том, что он не особенно спешит заручиться небесной наградой.
— Я не сомневаюсь, — ответил он с легкой улыбкой, — что нас вознаградят хорошо, но все же нам предстоит тяжелая, беспокойная и даже опасная служба.
— Знаю, Друри, знаю отлично, но ревностное отношение к долгу службы облегчит нашу задачу, моя бдительность нелегко притупляется. Вы будете заменять меня лишь в те часы, когда слабость бренного тела потребует некоторого отдыха.
— Я готов служить, — ответил Друри, — и надеюсь, что вы останетесь довольны моей помощью.
Сильный порыв ветра заставил их умолкнуть, и дальнейший путь до самой крепости они совершали молча.
Еще далеко от замка послышались звуки сторожевого рожка, а затем оклики. Приблизившись на расстояние, когда можно уже расслышать звуки человеческого голоса, всадники дали знать о себе. Немного спустя им открыли ворота.
При въезде в крепость отряд был встречен Ральфом Садлером и его помощником. Затем Полэта и Друри пригласили в комнату, которую до тех пор занимал Садлер. Было отдано приказание разместить вновь прибывших людей, а Садлер тем временем знакомил Полэта с порядками и условиями жизни в замке.
Молча, но чрезвычайно внимательно следил рыцарь за речью Садлера и с зоркостью ястребиного ока осматривал каждый переданный ему предмет.
— А теперь я хотел бы увидеть главный пункт, которого касаются мои служебные обязанности, — сказал наконец Полэт, после того как принял все дела от Садлера.
— Быть может, вы отдохнете с дороги, — спросил тот, — и переоденетесь, чтобы представиться королеве в более соответствующем виде?
Полэт выпрямился во весь рост и, бросив на своего собеседника проницательный, уничтожающий взгляд, ответил строгим тоном:
— Я не совсем понимаю вас. Я думал, что буду иметь дело не с королевой, а с заключенной, относительно обхождения с ней у меня есть точные предписания, которые намереваюсь выполнять со свойственной мне точностью. На службе у моей королевы я позволяю себе отдыхать лишь тогда, когда могу получить ее разрешение. Проводите меня к заключенной!
— Весьма охотно, — сказал сдержанно Садлер, — это — моя последняя служебная обязанность, и я постараюсь отделаться от нее как можно скорее.
— Великолепно! В таком случае мы с вами одного мнения! — сказал Полэт.
Оба направились к покоям Марии Стюарт. Садлер велел доложить, что желал бы предстать перед ней вместе с новым комендантом замка.
— Этим докладам нужно положить конец, — пробормотал Полэт.
Мария Стюарт велела ответить, что ей в такое время неприятно принимать посетителей, но тем не менее она их примет. Полэт глухо засмеялся и последовал за Садлером в покои королевы.
Мария Стюарт занимала в убогом замке Тильбэри всего две комнаты. По стенам струилась вода, отопление было, по-видимому, очень скудным, и окна были такого устройства, какое встречается только в самых бедных хижинах. Мария стояла, опершись на комод из орехового дерева. Ее костюм был в беспорядке, вид болезненный, страдальческий, и в непричесанных волосах серебрилась седина.
Войдя в комнату, Садлер поклонился, но Полэт не счел нужным этого делать. Мария взглянула на него испытующе и с упреком, но этот взгляд оставил сурового пуританина равнодушным.
— Вы, должно быть, имеете важное сообщение, что являетесь в столь неурочный час? — обратилась Мария к Садлеру. — Быть может, моя царственная сестра Елизавета поняла наконец, какое обхождение подобает мне?
— На этот вопрос я не могу ответить вам, — ответил сэр Садлер с поклоном. — Я передал свои обязанности своему преемнику, и мне остается только представить вам его: рыцарь Амиас Полэт, новый комендант Тильбэри.
Взгляды Марии Стюарт и Полэта встретились. Ему и в голову не пришло хотя бы из приличия поклониться королеве. Садлер досадливо отвернулся, а Мария, поразмыслив, решила, что лучше не обращать внимания на грубость рыцаря.
— Сэр, — обратилась она к нему, — я надеюсь, что вы посланы королевой Англии с целью улучшить мое положение? Взгляните на эту комнату, стены, печи; это не похоже на человеческое жилище.
— Моя высокая повелительница предназначила вам это помещение, — ответил рыцарь сухим тоном, — и я прибыл сюда лишь для того, чтобы выполнять ее приказания.
— Королеве, очевидно, неизвестно, каково мое жилище и поэтому вы должны доложить ей об этом.
— Не вы отдаете здесь приказания, а я, — резко ответил пуританин. — Вам придется лишь в точности их исполнять.
— Как? — возмутилась Мария. — Я не ослышалась? Как вы смеете говорить со мной в такой форме? Вашу невежливость я еще могу понять, но грубости я не допущу!
— Не нужно лишних слов! Отныне вы будете видеться и говорить с вашей прислугой только в моем присутствии.
— Отлично, сэр! — сказала Мария насмешливым тоном.
— Выходить из комнаты вы будете лишь с моего разрешения и в моем сопровождении!
— Благодарю вас за честь!
— Ни одного письма вы не отправите, пока я предварительно не прочту его. Вне замка вы ни с кем не будете говорить даже в моем присутствии. Раздавать милостыню вам запрещено.
— Мне кажется, вы — не рыцарь, а тюремщик!
— Я сторожу преступную женщину и принимаю соответствующие меры. Пойдемте, сэр Садлер! Представьте мне слуг, чтобы я мог отобрать их по своему усмотрению.
Садлер поклонился королеве и последовал за строгим Полэтом. Мария стояла ни жива ни мертва.
Когда были улажены все дела, старый комендант стал готовиться к отъезду.
— Не желаете ли погостить у меня еще день? — спросил Полэт.
— Нет, благодарю, — ответил Садлер, — здешняя атмосфера мне всегда была противна, а теперь более, чем когда-либо.
— Ну, как вам угодно! — пробормотал фанатик, и Садлер со своим товарищем и приближенными людьми покинул замок, пустившись в дорогу по открытой снежной равнине.
Сэр Амиас стал распоряжаться в замке подобно злому духу.
Мария Стюарт переживала ужасное, тяжелое время. Полэт не отступил от своего постановления. Королева была лишена всякого сообщения с внешним миром, любая ее сторонняя деятельность была парализована, она не имела возможности переписываться со своими приверженцами. Кроме того, горе, причиненное поведением ее сына, короля Шотландии, отказавшегося от нее, угнетало ее. Состояние ее здоровья ухудшилось настолько, что даже бесчувственный железный пуританин Полэт нашел необходимым донести об этом Елизавете и выставить причиной болезни запущенность замка. Вследствие этого донесения Марию перевели в замок Чартлей, в графстве Бедфорд, где ей возвратили ее слуг и предоставили большие удобства. Переезд состоялся в конце декабря 1585 года. Однако Полэт остался, по-прежнему, ее охранником, и его бдительность нимало не уменьшилась, напротив, строгость приняла даже более злобный характер.
Однако Мария мало-помалу привыкла к своему тюремщику, а он, в свою очередь, становился все предупредительнее и вежливее. Лицемерие, за которое старый пуританин так презирал католиков, было доведено им самим до блестящего совершенства.
Так, например, он явился к Марии в один прекрасный августовский день и предложил ей принять участие в охоте, которая предпринималась в Тиксальском парке.
Мария взглянула на рыцаря с недоверием.
— Что это значит, сэр? — спросила она. — Это — проявление милости ко мне королевы Елизаветы?
— Не уверен, — ответил Полэт. — Это я прошу у вас милости!
— Не знаю, как вас понимать? Каким образом мое присутствие на охоте может оказаться милостью для вас?
— Служебный долг обязывает меня, миледи, не покидать вас. Если вы согласитесь принять участие в охоте, то, следовательно, и я могу воспользоваться ей, если же нет, то и мне пришлось бы отказаться от этого удовольствия.
— Ах, вот в чем дело! — поняла Мария. — Рыцарь Амиас просит свою пленницу об одолжении! Ну, я не хочу оказаться нелюбезной! Когда же должна состояться охота?
— Восемнадцатого числа.
— Хорошо, я согласна принять участие!
— Вы очень милостивы! — произнес лицемер, отвешивая низкий поклон.
В назначенный для охоты день Мария встала очень рано. Летнее время и более гигиеничные условия жизни немного восстановили ее здоровье, и она снова приобрела прежнюю жизнерадостность. С тех пор как ей возвратили экипаж, она совершала частые прогулки в окрестностях замка Чартлея, Правда, эти поездки были всегда обставлены чрезмерными предосторожностями. Сам Полэт с восемнадцатью конными стрелками сопровождал экипаж королевы, к которому никто, даже ни один нищий, не смел приблизиться.
Хотя Полэт не подавал Марии никакого основания предполагать, что этот выезд на охоту можно считать уступкой со стороны королевы Англии, но, кто знаком с ощущениями человека заключенного, тот поймет, как охотно тот цепляется за самую слабую надежду и желает видеть в этом надежду на скорое освобождение. Такими мыслями была занята и Мария. Несомненно, что и развлечение предстоящей охотой имело известную прелесть для лишенной свободы королевы.
Она много шутила со своими дамами, пока совершала туалет, а затем позавтракала с большим аппетитом.
Немного спустя подъехал экипаж, запряженный четверкой лошадей, появился обычный эскорт, и Полэт проводил Марию из ее комнаты к экипажу. Она была настолько хорошо настроена, что сказала несколько любезных слов старому лицемеру и позволила ему помочь ей сесть в экипаж. Затем рыцарь сел на лошадь, и все тронулись в путь. Полэт держался у самой дверцы экипажа.
Приблизительно на полдороге от Чартлея к Тиксалю Мария вдруг заметила всадника с конвоем.
— Это — тоже участник охоты? — спросила она своего спутника.
— Возможно, — ответил Амиас, — сейчас узнаем!
Подъехали ближе. Часто случалось, что во время выездов королевы попадались на пути люди, побуждаемые любопытством взглянуть на узницу. Это были или приверженцы английской королевы, которые со злорадством смотрели на узницу; или иностранцы, которые с большим или меньшим интересом следили за судьбой Марии; или, наконец, люди из партии Марии Стюарт, которые искали случая выразить ей свое почтение. Само собой разумеется, что последняя категория была наименьшая по численности, так как проявление преданности не всегда было безопасно для них и самой заключенной.
Мария уже привыкла быть постоянным предметом любопытства и потому отворачивалась, когда к ее экипажу приближались злобствующие зеваки, и, наоборот, приветливо кланялась сочувствующим.
Однако человека, которого она увидела тут, нельзя было отнести ни к одной из перечисленных категорий, в этом королева очень скоро убедилась, и ею овладело беспокойство.
«Боже мой, кто бы это мог быть?» — подумала она.
Полэт подскакал к всаднику и стал почтительно докладывать ему о чем-то.
Когда экипаж приблизился, незнакомец приказал кучерам остановиться, а сам направил своего коня к дверце экипажа.
— Меня зовут Томас Джордж, — заговорил он, — и я встречаю вас по поручению королевы Англии, этого вам достаточно, чтобы подчиниться моим требованиям, в случае же сопротивления с вашей стороны я уполномочен прибегнуть к силе.
— Боже мой! — испугалась Мария. — Что это значит?
— Я имею приказание препроводить вас в Тиксаль.
— Значит, мое местожительство снова меняется?
— Да, но лишь на короткое время.
— По какой причине?
— Для того, чтобы произвести обыск в замке Чартлей!
Мария побледнела.
— Для чего нужен обыск в замке? — спросила она дрожащим голосом.
— Чтобы найти письма и документы, свидетельствующие против вас и ваших сообщников.
— Это гнусно! — крикнула королева. — Я хочу вернуться тотчас же!
— Вы, по-видимому, забыли то, что я только. что сказал.
— На помощь! — крикнула Мария. — На помощь, слуги мои! Защищайте свою королеву! Это переходит всякие границы, я попала в руки разбойников с большой дороги… Помогите, освободите меня!
Мария пришла в исступление, а в это время по приказу Джорджа ее обоих секретарей Кэрлея и Ноэ под конвоем отправили в Лондон.
— Успокойтесь! — сказал Томас Джордж, перекрывая крик Марии, — успокойтесь! Я надеюсь, что вы поутихните, если я назову вам одно только имя — Бабингтон!
Мария опешила.
— Все открыто, — продолжал Джордж, — и вас может спасти лишь уступчивость. Примите это к сведению!
— Я погибла! — прошептала Мария.
Королеву привезли в замок Тиксаль, принадлежавший Вальтеру Астону, и там она в продолжение семнадцати дней была в одиночном заключении.
В это время в замке Чартлей производили тщательный обыск, обыскали все углы, а найденные письма, драгоценности и деньги были освидетельствованы и отправлены в Лондон.
Когда дело было окончено, Марию снова перевезли в Чартлей в сопровождении, можно бы сказать, почетной свиты, если бы она не была вместе с тем и стражей.
Сто сорок дворян сопровождали королеву от одного замка до другого. Впереди ехал Амиас Полэт.
На одной из равнин графства Стэффорд находится одинокий холм, на вершине которого в старину стоял укрепленный замок Тильбэри. Была зима. Сугробы снега покрывали землю, резкий ветер завывал вокруг старого замка и, носясь по обширной равнине, вздымал и кружил снежные вихри. С юга по равнине тянулся отряд всадников численностью около пятидесяти лошадей. Во главе отряда ехали два человека. Один из них был высокий, несколько угловатый. Его лицо носило отпечаток суровости и строгости. Звали его рыцарь Амиас Полэт. Спутником рыцаря был его помощник в делах, офицер-стрелок Друри. Он был ниже ростом и плотнее, с добродушными чертами лица. Всадники, сопровождавшие этих двух господ, были стрелками.
Надзор за Марией Стюарт в замке Тильбэри был теперь поручен таким людям, которые в ней не видели ничего, кроме узницы самого низкого сорта, женщины преступной, уличенной убийцы, словом, женщины-дьявола, за которой нужно зорко следить и поступать с ней сообразно ее проступкам. Таких надзирателей и нашли в лице Амиаса Полэта и его помощника Друри.
Полэт несколько раз поднимал голову и устремлял мрачный взгляд в пространство, чтобы сквозь метелицу разглядеть очертания видневшегося вдалеке замка. Воспользовавшись моментом, когда воздух несколько просветлел, Друри рассмотрел старый замок и невольно вздохнул.
— Вам не нравится тут? — резко спросил Полэт.
— Что? Дорога, снег или старый замок? — спросил Друри вместо ответа на вопрос.
— Ну, снег и неудобства пути не должны смущать солдата, — заметил рыцарь. — Я имел в виду тот старый замок.
— Откровенно говоря, я желал бы лучше попасть туда, куда, вероятно, желала бы переместиться и обитательница этого, с позволения сказать, замка.
— Полэт перекрестился, и черты его лица приняли выражение фанатического благочестия, делавшего и без того непривлекательное лицо Амиаса прямо отвратительным.
— Это — доброе пожелание, — сказал он елейным голосом, — и да исполнит его Господь Бог! Но уверяю вас, Друри, это место как нельзя более подходит для укрытия этой клятвопреступницы, государственной изменницы и мужеубийцы, которая под нашим надзором должна приобрести кротость агнца.
Друри испуганно взглянул на своего начальника и молча опустил голову.
— Не огорчайтесь, — продолжал рыцарь, — на мою долю выпала честь занять ответственный пост надзирающего за этой великой грешницей, а для вас такая же высокая честь быть моим помощником. Подумайте, какая награда ждет нас за эту службу, не говоря уже о той высокой награде, которую мы приобретем в загробной жизни за то, что уничтожим все коварные проделки этого чудовища!…
Полное, раскрасневшееся от ветра лицо Друри свидетельствовало о том, что он не особенно спешит заручиться небесной наградой.
— Я не сомневаюсь, — ответил он с легкой улыбкой, — что нас вознаградят хорошо, но все же нам предстоит тяжелая, беспокойная и даже опасная служба.
— Знаю, Друри, знаю отлично, но ревностное отношение к долгу службы облегчит нашу задачу, моя бдительность нелегко притупляется. Вы будете заменять меня лишь в те часы, когда слабость бренного тела потребует некоторого отдыха.
— Я готов служить, — ответил Друри, — и надеюсь, что вы останетесь довольны моей помощью.
Сильный порыв ветра заставил их умолкнуть, и дальнейший путь до самой крепости они совершали молча.
Еще далеко от замка послышались звуки сторожевого рожка, а затем оклики. Приблизившись на расстояние, когда можно уже расслышать звуки человеческого голоса, всадники дали знать о себе. Немного спустя им открыли ворота.
При въезде в крепость отряд был встречен Ральфом Садлером и его помощником. Затем Полэта и Друри пригласили в комнату, которую до тех пор занимал Садлер. Было отдано приказание разместить вновь прибывших людей, а Садлер тем временем знакомил Полэта с порядками и условиями жизни в замке.
Молча, но чрезвычайно внимательно следил рыцарь за речью Садлера и с зоркостью ястребиного ока осматривал каждый переданный ему предмет.
— А теперь я хотел бы увидеть главный пункт, которого касаются мои служебные обязанности, — сказал наконец Полэт, после того как принял все дела от Садлера.
— Быть может, вы отдохнете с дороги, — спросил тот, — и переоденетесь, чтобы представиться королеве в более соответствующем виде?
Полэт выпрямился во весь рост и, бросив на своего собеседника проницательный, уничтожающий взгляд, ответил строгим тоном:
— Я не совсем понимаю вас. Я думал, что буду иметь дело не с королевой, а с заключенной, относительно обхождения с ней у меня есть точные предписания, которые намереваюсь выполнять со свойственной мне точностью. На службе у моей королевы я позволяю себе отдыхать лишь тогда, когда могу получить ее разрешение. Проводите меня к заключенной!
— Весьма охотно, — сказал сдержанно Садлер, — это — моя последняя служебная обязанность, и я постараюсь отделаться от нее как можно скорее.
— Великолепно! В таком случае мы с вами одного мнения! — сказал Полэт.
Оба направились к покоям Марии Стюарт. Садлер велел доложить, что желал бы предстать перед ней вместе с новым комендантом замка.
— Этим докладам нужно положить конец, — пробормотал Полэт.
Мария Стюарт велела ответить, что ей в такое время неприятно принимать посетителей, но тем не менее она их примет. Полэт глухо засмеялся и последовал за Садлером в покои королевы.
Мария Стюарт занимала в убогом замке Тильбэри всего две комнаты. По стенам струилась вода, отопление было, по-видимому, очень скудным, и окна были такого устройства, какое встречается только в самых бедных хижинах. Мария стояла, опершись на комод из орехового дерева. Ее костюм был в беспорядке, вид болезненный, страдальческий, и в непричесанных волосах серебрилась седина.
Войдя в комнату, Садлер поклонился, но Полэт не счел нужным этого делать. Мария взглянула на него испытующе и с упреком, но этот взгляд оставил сурового пуританина равнодушным.
— Вы, должно быть, имеете важное сообщение, что являетесь в столь неурочный час? — обратилась Мария к Садлеру. — Быть может, моя царственная сестра Елизавета поняла наконец, какое обхождение подобает мне?
— На этот вопрос я не могу ответить вам, — ответил сэр Садлер с поклоном. — Я передал свои обязанности своему преемнику, и мне остается только представить вам его: рыцарь Амиас Полэт, новый комендант Тильбэри.
Взгляды Марии Стюарт и Полэта встретились. Ему и в голову не пришло хотя бы из приличия поклониться королеве. Садлер досадливо отвернулся, а Мария, поразмыслив, решила, что лучше не обращать внимания на грубость рыцаря.
— Сэр, — обратилась она к нему, — я надеюсь, что вы посланы королевой Англии с целью улучшить мое положение? Взгляните на эту комнату, стены, печи; это не похоже на человеческое жилище.
— Моя высокая повелительница предназначила вам это помещение, — ответил рыцарь сухим тоном, — и я прибыл сюда лишь для того, чтобы выполнять ее приказания.
— Королеве, очевидно, неизвестно, каково мое жилище и поэтому вы должны доложить ей об этом.
— Не вы отдаете здесь приказания, а я, — резко ответил пуританин. — Вам придется лишь в точности их исполнять.
— Как? — возмутилась Мария. — Я не ослышалась? Как вы смеете говорить со мной в такой форме? Вашу невежливость я еще могу понять, но грубости я не допущу!
— Не нужно лишних слов! Отныне вы будете видеться и говорить с вашей прислугой только в моем присутствии.
— Отлично, сэр! — сказала Мария насмешливым тоном.
— Выходить из комнаты вы будете лишь с моего разрешения и в моем сопровождении!
— Благодарю вас за честь!
— Ни одного письма вы не отправите, пока я предварительно не прочту его. Вне замка вы ни с кем не будете говорить даже в моем присутствии. Раздавать милостыню вам запрещено.
— Мне кажется, вы — не рыцарь, а тюремщик!
— Я сторожу преступную женщину и принимаю соответствующие меры. Пойдемте, сэр Садлер! Представьте мне слуг, чтобы я мог отобрать их по своему усмотрению.
Садлер поклонился королеве и последовал за строгим Полэтом. Мария стояла ни жива ни мертва.
Когда были улажены все дела, старый комендант стал готовиться к отъезду.
— Не желаете ли погостить у меня еще день? — спросил Полэт.
— Нет, благодарю, — ответил Садлер, — здешняя атмосфера мне всегда была противна, а теперь более, чем когда-либо.
— Ну, как вам угодно! — пробормотал фанатик, и Садлер со своим товарищем и приближенными людьми покинул замок, пустившись в дорогу по открытой снежной равнине.
Сэр Амиас стал распоряжаться в замке подобно злому духу.
Мария Стюарт переживала ужасное, тяжелое время. Полэт не отступил от своего постановления. Королева была лишена всякого сообщения с внешним миром, любая ее сторонняя деятельность была парализована, она не имела возможности переписываться со своими приверженцами. Кроме того, горе, причиненное поведением ее сына, короля Шотландии, отказавшегося от нее, угнетало ее. Состояние ее здоровья ухудшилось настолько, что даже бесчувственный железный пуританин Полэт нашел необходимым донести об этом Елизавете и выставить причиной болезни запущенность замка. Вследствие этого донесения Марию перевели в замок Чартлей, в графстве Бедфорд, где ей возвратили ее слуг и предоставили большие удобства. Переезд состоялся в конце декабря 1585 года. Однако Полэт остался, по-прежнему, ее охранником, и его бдительность нимало не уменьшилась, напротив, строгость приняла даже более злобный характер.
Однако Мария мало-помалу привыкла к своему тюремщику, а он, в свою очередь, становился все предупредительнее и вежливее. Лицемерие, за которое старый пуританин так презирал католиков, было доведено им самим до блестящего совершенства.
Так, например, он явился к Марии в один прекрасный августовский день и предложил ей принять участие в охоте, которая предпринималась в Тиксальском парке.
Мария взглянула на рыцаря с недоверием.
— Что это значит, сэр? — спросила она. — Это — проявление милости ко мне королевы Елизаветы?
— Не уверен, — ответил Полэт. — Это я прошу у вас милости!
— Не знаю, как вас понимать? Каким образом мое присутствие на охоте может оказаться милостью для вас?
— Служебный долг обязывает меня, миледи, не покидать вас. Если вы согласитесь принять участие в охоте, то, следовательно, и я могу воспользоваться ей, если же нет, то и мне пришлось бы отказаться от этого удовольствия.
— Ах, вот в чем дело! — поняла Мария. — Рыцарь Амиас просит свою пленницу об одолжении! Ну, я не хочу оказаться нелюбезной! Когда же должна состояться охота?
— Восемнадцатого числа.
— Хорошо, я согласна принять участие!
— Вы очень милостивы! — произнес лицемер, отвешивая низкий поклон.
В назначенный для охоты день Мария встала очень рано. Летнее время и более гигиеничные условия жизни немного восстановили ее здоровье, и она снова приобрела прежнюю жизнерадостность. С тех пор как ей возвратили экипаж, она совершала частые прогулки в окрестностях замка Чартлея, Правда, эти поездки были всегда обставлены чрезмерными предосторожностями. Сам Полэт с восемнадцатью конными стрелками сопровождал экипаж королевы, к которому никто, даже ни один нищий, не смел приблизиться.
Хотя Полэт не подавал Марии никакого основания предполагать, что этот выезд на охоту можно считать уступкой со стороны королевы Англии, но, кто знаком с ощущениями человека заключенного, тот поймет, как охотно тот цепляется за самую слабую надежду и желает видеть в этом надежду на скорое освобождение. Такими мыслями была занята и Мария. Несомненно, что и развлечение предстоящей охотой имело известную прелесть для лишенной свободы королевы.
Она много шутила со своими дамами, пока совершала туалет, а затем позавтракала с большим аппетитом.
Немного спустя подъехал экипаж, запряженный четверкой лошадей, появился обычный эскорт, и Полэт проводил Марию из ее комнаты к экипажу. Она была настолько хорошо настроена, что сказала несколько любезных слов старому лицемеру и позволила ему помочь ей сесть в экипаж. Затем рыцарь сел на лошадь, и все тронулись в путь. Полэт держался у самой дверцы экипажа.
Приблизительно на полдороге от Чартлея к Тиксалю Мария вдруг заметила всадника с конвоем.
— Это — тоже участник охоты? — спросила она своего спутника.
— Возможно, — ответил Амиас, — сейчас узнаем!
Подъехали ближе. Часто случалось, что во время выездов королевы попадались на пути люди, побуждаемые любопытством взглянуть на узницу. Это были или приверженцы английской королевы, которые со злорадством смотрели на узницу; или иностранцы, которые с большим или меньшим интересом следили за судьбой Марии; или, наконец, люди из партии Марии Стюарт, которые искали случая выразить ей свое почтение. Само собой разумеется, что последняя категория была наименьшая по численности, так как проявление преданности не всегда было безопасно для них и самой заключенной.
Мария уже привыкла быть постоянным предметом любопытства и потому отворачивалась, когда к ее экипажу приближались злобствующие зеваки, и, наоборот, приветливо кланялась сочувствующим.
Однако человека, которого она увидела тут, нельзя было отнести ни к одной из перечисленных категорий, в этом королева очень скоро убедилась, и ею овладело беспокойство.
«Боже мой, кто бы это мог быть?» — подумала она.
Полэт подскакал к всаднику и стал почтительно докладывать ему о чем-то.
Когда экипаж приблизился, незнакомец приказал кучерам остановиться, а сам направил своего коня к дверце экипажа.
— Меня зовут Томас Джордж, — заговорил он, — и я встречаю вас по поручению королевы Англии, этого вам достаточно, чтобы подчиниться моим требованиям, в случае же сопротивления с вашей стороны я уполномочен прибегнуть к силе.
— Боже мой! — испугалась Мария. — Что это значит?
— Я имею приказание препроводить вас в Тиксаль.
— Значит, мое местожительство снова меняется?
— Да, но лишь на короткое время.
— По какой причине?
— Для того, чтобы произвести обыск в замке Чартлей!
Мария побледнела.
— Для чего нужен обыск в замке? — спросила она дрожащим голосом.
— Чтобы найти письма и документы, свидетельствующие против вас и ваших сообщников.
— Это гнусно! — крикнула королева. — Я хочу вернуться тотчас же!
— Вы, по-видимому, забыли то, что я только. что сказал.
— На помощь! — крикнула Мария. — На помощь, слуги мои! Защищайте свою королеву! Это переходит всякие границы, я попала в руки разбойников с большой дороги… Помогите, освободите меня!
Мария пришла в исступление, а в это время по приказу Джорджа ее обоих секретарей Кэрлея и Ноэ под конвоем отправили в Лондон.
— Успокойтесь! — сказал Томас Джордж, перекрывая крик Марии, — успокойтесь! Я надеюсь, что вы поутихните, если я назову вам одно только имя — Бабингтон!
Мария опешила.
— Все открыто, — продолжал Джордж, — и вас может спасти лишь уступчивость. Примите это к сведению!
— Я погибла! — прошептала Мария.
Королеву привезли в замок Тиксаль, принадлежавший Вальтеру Астону, и там она в продолжение семнадцати дней была в одиночном заключении.
В это время в замке Чартлей производили тщательный обыск, обыскали все углы, а найденные письма, драгоценности и деньги были освидетельствованы и отправлены в Лондон.
Когда дело было окончено, Марию снова перевезли в Чартлей в сопровождении, можно бы сказать, почетной свиты, если бы она не была вместе с тем и стражей.
Сто сорок дворян сопровождали королеву от одного замка до другого. Впереди ехал Амиас Полэт.


 В замке Тильбэри Мария Стюарт в течение целого года была лишена возможности поддерживать отношения со своими защитниками, но они не оставались в бездеятельности. Филипп II Испанский безусловно принадлежал к ее приверженцам. У этого жестокого, хитрого и мстительного государя вообще не было никаких добрых движений души. Он хотел нанести ущерб политическому положению Англии, хотел вредить Елизавете, а это легче всего можно было сделать под видом участия к судьбе Марии Стюарт, прикрываясь оскорблением, наносимым католической религии, верховным рыцарем и заступником которой Филипп любил представляться. Но он был слишком недоверчив, чтобы быстрым и решительным выступлением нанести врагам Марии серьезный удар. Поэтому-то часто все его начинания кончались неудачей, и этим можно объяснить, почему его заступничество не принесло реальной пользы Марии Стюарт. Тем не менее он все-таки поддерживал деньгами ее приверженцев в Шотландии и выплачивал пенсии и субсидии изгнанным шотландским мятежникам в остальных частях Европы. Так, например, доктор Аллан, основавший в Реймсе семинарию, в которой воспитывались в иезуитском духе молодые люди, чтобы, став священниками, рассеяться по всей земле, работая в пользу папской власти, получал от Филиппа две тысячи золотых талеров в год, а Томас Трогмортон, попавшийся во Франции из-за какой-то проделки и заключенный за это в Бастилию, получал в тюрьме ежемесячно 40 талеров, выплачиваемых ему за счет Филиппа.
Семинария доктора Аллана помещалась в здании прежнего монастыря, которое было предоставлено папой ее основателю. К этому-то монастырю в один из дней поста 1586 года подошел какой-то офицер, внимательным и испытующим взглядом окинул местность вокруг и позвонил у входной двери.
Привратник выглянул сначала в маленькое слуховое оконце, а потом высунул голову в приоткрытую дверь и спросил офицера:
— Что вам угодно?
— Мне нужно повидать кое-кого в монастыре, если только тот, кого я ищу, находится тут, — ответил путник.
— Это — вовсе не монастырь, — сказал привратник. — Но соблаговолите все-таки назвать того, кого вы хотите повидать, чтобы я мог вам ответить, здесь ли он.
— О, мне нужны патер Гугсон и доктор Джиффорд! ответил офицер.
— А как зовут вас?
— Саваж, Джон Саваж. Вы только передайте им мой привет, а они уж сами скажут, насколько они рады повидаться со мной!
Привратник закрыл окно и скрылся.
Прошло почти четверть часа, пока он вернулся, и без всяких разговоров открыл дверь, попросив офицера войти.
В портале здания его уже ждали два духовных лица… Оба с большой радостью приветствовали Саважа, хотя в их обращении чувствовалась некоторая сдержанность, приличествующая людям их сана.
— А, вот так свиданьице, ребята! — радостно воскликнулофицер. — Ну, как видите, я остался все тем же необузданным школьником, чего о вас уж во всяком случае не скажешь, достопочтенные отцы!
Священники кротко улыбнулись, один из них, Гугсон, был маленьким и очень полным; другой, доктор Джиффорд, очень худым и высоким.
— Ты стал мирянином, к чему всегда имел ярко выраженную склонность, — ответил Гугсон. — Но мы пошли совсем другой дорогой.
— Да уж, правда! Мне-то черная ряса никогда не была по душе! Что угодно, только не это, братец!
— Стал офицером? — спросил Джиффорд. — На чьей службе состоишь?
На службе испанского короля Филиппа, или, если тебе это больше нравится, у принца Пармского в Нидерландах.
— Да благословит Господь твоего господина! — сказал Гугсон. — Однако не лучше ли нам отправиться в келью?
— Да, да, пойдемте ко мне, — пригласил Джиффорд.
Трое друзей отправились в келью доктора и вскоре уже сидели за столом, заставленным пищей и питьем.
В связи с постом кушанья, поданные гостю, отличались некоторой скудностью, но вина было в изобилии.
Бравый офицер не преминул отправить несколько бокалов в пересохшее горло, что его примирило с недостаточной изысканностью закуски.
— Ну, — сказал Джиффорд, — расскажи нам о своей мирской жизни.
— О да, — поддержал Гугсон, — послушать о том, как храбрый человек поражает врагов истинной веры, поучительно; это возвышает душу!
— Что же, послушайте, — ответил им Саваж и, еще раз промочив горло, принялся рассказывать.
Возбужденный выпитым вином, Саваж оказался на высоте призвания рассказчика. Почти три часа подряд он занимал своими повествованиями друзей своих детских лет, а они с большим вниманием слушали его, изредка обмениваясь многозначительными взглядами.
— Да, ты много пережил, — сказал Джиффорд, когда Саваж остановился, — этого отрицать нельзя!
— А все-таки твои переживания прежде всего бессмысленны и бесцельны! — заметил Гугсон.
— А чтобы черт побрал все ваши высшие цели! — воскликнул вояка. — Какое мне до них дело? Я просто живу себе!
Бравый Джон осушил еще бокальчик.
— Но нельзя же отрицать, что каждый человек должен выполнить свое предназначение! — произнес Джиффорд.
— Да, он не смеет, как лукавый раб, зарывать в землю данный ему талант! — прибавил Гугсон.
— Что-то я не понимаю, о чем вы, братцы!
— Ведь ты — англичанин, Джон?
— Ну, разумеется.
— У тебя есть законная королева?
— Есть-то есть, да она сейчас же повесила бы меня, если бы смогла достать!
— Неужели ты считаешь дочь Ваала своей законной государыней?
— Дочь Ваала? Ну, нечего сказать, славное имечко для королевы.
— Законной государыней является только Мария Стюарт!
— Мария Стюарт? — переспросил Джон, изумленный подобным утверждением.
Достопочтенные отцы помолчали, как бы предоставив Саважу время для размышления над этой новостью для него.
— Да, Мария Стюарт! — повторил наконец Джиффорд. — И если бы ты служил ей, этой мученице за правду и веру, то послужил бы также и единой святой церкви!
— Да как ей послужишь? Надо иметь твердую ночву под ногами.
— Смелый человек, вроде тебя, мог бы сделать многое. Он вручил бы Марии ее законный трон, а церкви вернул бы заблудшую в неверии Англию.
— Ты говоришь загадками, брат!
— И тому, и другому мешает только злодейка, именуемая Елизаветой!
— Черт возьми! Значит…
— Значит, тот, кто ниспровергнет ее, совершит действие, угодное небесам и миру.
— Да, говоря прямо, что ты хочешь от меня?
— Елизавета должна пасть.
— От моей руки?
— Да, от твоей, если только, разумеется;, у тебя найдется достаточно религиозного усердия!
— Словом, ты считаешь, что я мог бы и должен был бы убить Елизавету, королеву английскую?
Джиффорд замолчал, многозначительно глянув на Гугсона, сидевшего все время с молитвенно сложенными руками.
— Ты правильно понял нас, брат, — сказал Гугсон. — Все подвиги, совершенные тобой до сего времени, — ничто в сравнении с этим одним.
Джон задумчиво посмотрел на священников и потупил взгляд. Собеседники не мешали его размышлениям.
— Если подумать как следует, — прервал молчание Джон Саваж, — то это ведь, собственно говоря, такой же способ уничтожения врагов, как и всякий другой, А Елизавета — мой враг, мой самый отчаянный враг. Ведь сущее несчастие — болтаться из-за нее по всему свету, вдали от родины.
— И более того! — сказал Гугсон. — Елизавета — еретичка, узурпировала трон, принадлежащий Марии Стюарт.
— Гм! — пробормотал Саваж. — Но я один… что могу я сделать в одиночку?
— Ты найдешь друзей, поддержку и помощь, ты не будешь один, брат!
— Подумай над этим, — прибавил Гугсон. — Если ты решишься, то мы откроемся тебе во многом, что даст тебе решимость в дальнейшем. А до тех пор будь нашим гостем, брат! Решай, как знаешь, но мы во всяком случае останемся друзьями!
И Джон Саваж стал думать над этим и думал целых три недели. В течение этого времени он был объектом непрерывной нравственной пытки, так как наставлять его на путь истины взялся весь семинарский синклит во главе с самим начальником, доктором Алланом. В конце концов Саваж сдался и выразил согласие убить Елизавету.
Вскоре в семинарию прибыли Пэджэт и Морган. Саважа наделили необходимыми средствами, снабдили инструкциями и направили в Англию. Ему указали в Англии человека, который должен был руководить его деятельностью. К этому лицу по имени Бабингтон дали рекомендательное письмо.
А почти в то же время священник Джон Баллар, организовавший в Англии шпионскую сеть для партии Марии Стюарт, благополучно вернулся во Францию и поспешил в Париж, чтобы дать отчет в своих действиях.
В самом центре Парижа тогда встречались громадные пустыри и пустынные улицы, тем не менее в редких зданиях на этих пустырях жили очень знатные лица, в особенности, если у них был недостаток в средствах или если имелись особые причины жить подальше от любопытных глаз.
В старом развалившемся доме, находившемся на одной из пустынных улиц, через несколько недель после отъезда Саважа в Англию, происходило собрание представителей шотландских эмигрантов. Среди них — лорды Пэджэт и Морган. На собрании присутствовал также испанский посланник при парижском дворе дон Мендоза. Все эти господа собрались для постной вечери, однако она была роскошнее и обильнее любой праздничной пирушки большинства граждан и вполне заслуживала название политического обеда.
За столом было очень весело, присутствующие рассказывали анекдоты из интимной жизни Елизаветы, а испанский посланник со слезами на глазах от смеха все умолял рассказать еще что-нибудь такое же веселое.
Вдруг появился лакей и передал Моргану листок пергамента. Едва взглянув на него, Морган вскочил с места и воскликнул:
— Господа, теперь нам придется перейти от смеха и шуток к серьезным делам. Попроси войти!… — обратился он к лакею.
Вошел священник Джон Баллар, статный мужчина со смелым, энергичным лицом, и стал докладывать обо всем, сделанном им в Англии. После тщательных расспросов и подробных разъяснений Морган рассказал священнику, что им удалось завербовать Джона Саважа, который обещал убить английскую королеву и с этой целью уже отправился на место назначения.
— Вот это — настоящий путь, который должен привести нас к цели, — воскликнул храбрый священник, и его взгляд засверкал радостью. — Я немедленно вернусь обратно, чтобы делом и советом поддержать этого отважного человека.
Было решено, что Баллар вернется в Лондон под именем полковника Форсо.
На этом и покончили. Баллару вручили рекомендательное письмо, на адресе которого стояло: «Сэру Энтони Бабинггону».
В замке Тильбэри Мария Стюарт в течение целого года была лишена возможности поддерживать отношения со своими защитниками, но они не оставались в бездеятельности. Филипп II Испанский безусловно принадлежал к ее приверженцам. У этого жестокого, хитрого и мстительного государя вообще не было никаких добрых движений души. Он хотел нанести ущерб политическому положению Англии, хотел вредить Елизавете, а это легче всего можно было сделать под видом участия к судьбе Марии Стюарт, прикрываясь оскорблением, наносимым католической религии, верховным рыцарем и заступником которой Филипп любил представляться. Но он был слишком недоверчив, чтобы быстрым и решительным выступлением нанести врагам Марии серьезный удар. Поэтому-то часто все его начинания кончались неудачей, и этим можно объяснить, почему его заступничество не принесло реальной пользы Марии Стюарт. Тем не менее он все-таки поддерживал деньгами ее приверженцев в Шотландии и выплачивал пенсии и субсидии изгнанным шотландским мятежникам в остальных частях Европы. Так, например, доктор Аллан, основавший в Реймсе семинарию, в которой воспитывались в иезуитском духе молодые люди, чтобы, став священниками, рассеяться по всей земле, работая в пользу папской власти, получал от Филиппа две тысячи золотых талеров в год, а Томас Трогмортон, попавшийся во Франции из-за какой-то проделки и заключенный за это в Бастилию, получал в тюрьме ежемесячно 40 талеров, выплачиваемых ему за счет Филиппа.
Семинария доктора Аллана помещалась в здании прежнего монастыря, которое было предоставлено папой ее основателю. К этому-то монастырю в один из дней поста 1586 года подошел какой-то офицер, внимательным и испытующим взглядом окинул местность вокруг и позвонил у входной двери.
Привратник выглянул сначала в маленькое слуховое оконце, а потом высунул голову в приоткрытую дверь и спросил офицера:
— Что вам угодно?
— Мне нужно повидать кое-кого в монастыре, если только тот, кого я ищу, находится тут, — ответил путник.
— Это — вовсе не монастырь, — сказал привратник. — Но соблаговолите все-таки назвать того, кого вы хотите повидать, чтобы я мог вам ответить, здесь ли он.
— О, мне нужны патер Гугсон и доктор Джиффорд! ответил офицер.
— А как зовут вас?
— Саваж, Джон Саваж. Вы только передайте им мой привет, а они уж сами скажут, насколько они рады повидаться со мной!
Привратник закрыл окно и скрылся.
Прошло почти четверть часа, пока он вернулся, и без всяких разговоров открыл дверь, попросив офицера войти.
В портале здания его уже ждали два духовных лица… Оба с большой радостью приветствовали Саважа, хотя в их обращении чувствовалась некоторая сдержанность, приличествующая людям их сана.
— А, вот так свиданьице, ребята! — радостно воскликнулофицер. — Ну, как видите, я остался все тем же необузданным школьником, чего о вас уж во всяком случае не скажешь, достопочтенные отцы!
Священники кротко улыбнулись, один из них, Гугсон, был маленьким и очень полным; другой, доктор Джиффорд, очень худым и высоким.
— Ты стал мирянином, к чему всегда имел ярко выраженную склонность, — ответил Гугсон. — Но мы пошли совсем другой дорогой.
— Да уж, правда! Мне-то черная ряса никогда не была по душе! Что угодно, только не это, братец!
— Стал офицером? — спросил Джиффорд. — На чьей службе состоишь?
На службе испанского короля Филиппа, или, если тебе это больше нравится, у принца Пармского в Нидерландах.
— Да благословит Господь твоего господина! — сказал Гугсон. — Однако не лучше ли нам отправиться в келью?
— Да, да, пойдемте ко мне, — пригласил Джиффорд.
Трое друзей отправились в келью доктора и вскоре уже сидели за столом, заставленным пищей и питьем.
В связи с постом кушанья, поданные гостю, отличались некоторой скудностью, но вина было в изобилии.
Бравый офицер не преминул отправить несколько бокалов в пересохшее горло, что его примирило с недостаточной изысканностью закуски.
— Ну, — сказал Джиффорд, — расскажи нам о своей мирской жизни.
— О да, — поддержал Гугсон, — послушать о том, как храбрый человек поражает врагов истинной веры, поучительно; это возвышает душу!
— Что же, послушайте, — ответил им Саваж и, еще раз промочив горло, принялся рассказывать.
Возбужденный выпитым вином, Саваж оказался на высоте призвания рассказчика. Почти три часа подряд он занимал своими повествованиями друзей своих детских лет, а они с большим вниманием слушали его, изредка обмениваясь многозначительными взглядами.
— Да, ты много пережил, — сказал Джиффорд, когда Саваж остановился, — этого отрицать нельзя!
— А все-таки твои переживания прежде всего бессмысленны и бесцельны! — заметил Гугсон.
— А чтобы черт побрал все ваши высшие цели! — воскликнул вояка. — Какое мне до них дело? Я просто живу себе!
Бравый Джон осушил еще бокальчик.
— Но нельзя же отрицать, что каждый человек должен выполнить свое предназначение! — произнес Джиффорд.
— Да, он не смеет, как лукавый раб, зарывать в землю данный ему талант! — прибавил Гугсон.
— Что-то я не понимаю, о чем вы, братцы!
— Ведь ты — англичанин, Джон?
— Ну, разумеется.
— У тебя есть законная королева?
— Есть-то есть, да она сейчас же повесила бы меня, если бы смогла достать!
— Неужели ты считаешь дочь Ваала своей законной государыней?
— Дочь Ваала? Ну, нечего сказать, славное имечко для королевы.
— Законной государыней является только Мария Стюарт!
— Мария Стюарт? — переспросил Джон, изумленный подобным утверждением.
Достопочтенные отцы помолчали, как бы предоставив Саважу время для размышления над этой новостью для него.
— Да, Мария Стюарт! — повторил наконец Джиффорд. — И если бы ты служил ей, этой мученице за правду и веру, то послужил бы также и единой святой церкви!
— Да как ей послужишь? Надо иметь твердую ночву под ногами.
— Смелый человек, вроде тебя, мог бы сделать многое. Он вручил бы Марии ее законный трон, а церкви вернул бы заблудшую в неверии Англию.
— Ты говоришь загадками, брат!
— И тому, и другому мешает только злодейка, именуемая Елизаветой!
— Черт возьми! Значит…
— Значит, тот, кто ниспровергнет ее, совершит действие, угодное небесам и миру.
— Да, говоря прямо, что ты хочешь от меня?
— Елизавета должна пасть.
— От моей руки?
— Да, от твоей, если только, разумеется;, у тебя найдется достаточно религиозного усердия!
— Словом, ты считаешь, что я мог бы и должен был бы убить Елизавету, королеву английскую?
Джиффорд замолчал, многозначительно глянув на Гугсона, сидевшего все время с молитвенно сложенными руками.
— Ты правильно понял нас, брат, — сказал Гугсон. — Все подвиги, совершенные тобой до сего времени, — ничто в сравнении с этим одним.
Джон задумчиво посмотрел на священников и потупил взгляд. Собеседники не мешали его размышлениям.
— Если подумать как следует, — прервал молчание Джон Саваж, — то это ведь, собственно говоря, такой же способ уничтожения врагов, как и всякий другой, А Елизавета — мой враг, мой самый отчаянный враг. Ведь сущее несчастие — болтаться из-за нее по всему свету, вдали от родины.
— И более того! — сказал Гугсон. — Елизавета — еретичка, узурпировала трон, принадлежащий Марии Стюарт.
— Гм! — пробормотал Саваж. — Но я один… что могу я сделать в одиночку?
— Ты найдешь друзей, поддержку и помощь, ты не будешь один, брат!
— Подумай над этим, — прибавил Гугсон. — Если ты решишься, то мы откроемся тебе во многом, что даст тебе решимость в дальнейшем. А до тех пор будь нашим гостем, брат! Решай, как знаешь, но мы во всяком случае останемся друзьями!
И Джон Саваж стал думать над этим и думал целых три недели. В течение этого времени он был объектом непрерывной нравственной пытки, так как наставлять его на путь истины взялся весь семинарский синклит во главе с самим начальником, доктором Алланом. В конце концов Саваж сдался и выразил согласие убить Елизавету.
Вскоре в семинарию прибыли Пэджэт и Морган. Саважа наделили необходимыми средствами, снабдили инструкциями и направили в Англию. Ему указали в Англии человека, который должен был руководить его деятельностью. К этому лицу по имени Бабингтон дали рекомендательное письмо.
А почти в то же время священник Джон Баллар, организовавший в Англии шпионскую сеть для партии Марии Стюарт, благополучно вернулся во Францию и поспешил в Париж, чтобы дать отчет в своих действиях.
В самом центре Парижа тогда встречались громадные пустыри и пустынные улицы, тем не менее в редких зданиях на этих пустырях жили очень знатные лица, в особенности, если у них был недостаток в средствах или если имелись особые причины жить подальше от любопытных глаз.
В старом развалившемся доме, находившемся на одной из пустынных улиц, через несколько недель после отъезда Саважа в Англию, происходило собрание представителей шотландских эмигрантов. Среди них — лорды Пэджэт и Морган. На собрании присутствовал также испанский посланник при парижском дворе дон Мендоза. Все эти господа собрались для постной вечери, однако она была роскошнее и обильнее любой праздничной пирушки большинства граждан и вполне заслуживала название политического обеда.
За столом было очень весело, присутствующие рассказывали анекдоты из интимной жизни Елизаветы, а испанский посланник со слезами на глазах от смеха все умолял рассказать еще что-нибудь такое же веселое.
Вдруг появился лакей и передал Моргану листок пергамента. Едва взглянув на него, Морган вскочил с места и воскликнул:
— Господа, теперь нам придется перейти от смеха и шуток к серьезным делам. Попроси войти!… — обратился он к лакею.
Вошел священник Джон Баллар, статный мужчина со смелым, энергичным лицом, и стал докладывать обо всем, сделанном им в Англии. После тщательных расспросов и подробных разъяснений Морган рассказал священнику, что им удалось завербовать Джона Саважа, который обещал убить английскую королеву и с этой целью уже отправился на место назначения.
— Вот это — настоящий путь, который должен привести нас к цели, — воскликнул храбрый священник, и его взгляд засверкал радостью. — Я немедленно вернусь обратно, чтобы делом и советом поддержать этого отважного человека.
Было решено, что Баллар вернется в Лондон под именем полковника Форсо.
На этом и покончили. Баллару вручили рекомендательное письмо, на адресе которого стояло: «Сэру Энтони Бабинггону».


 Года за четыре до этого в Париже проживал молодой англичанин, он не принадлежал к числу изгнанников, а находился там для собственного удовольствия. Обладая большими средствами и имея рекомендательные письма к влиятельным парижанам, этот англичанин вскоре занял довольно видное положение в рядах местной знати. Но в этом положении не было ничего такого, чего пришлось бы стыдиться молодому человеку. Энтони Бабингтон хотя и был весел и жизнерадостен, но это не мешало ему оставаться нравственным и порядочным, между прочим он щедро помогал бедным соплеменникам, принужденным жить в Париже по политическим причинам. Благодаря всему этому, благодаря его симпатичной наружности и богатству многие с большой настойчивостью добивались знакомства с ним, а куда хотел проникнуть он сам — для него не бывало запрета.
Будучи ревностным католиком, Бабингтон не чувствовал особой любви к Елизавете, и равнодушие к английской королеве легко превратилось у него, вследствие ее политики, в пламенную ненависть. Как чувствительный, рыцарски настроенный человек, он искренне сожалел Марии Стюарт, и, когда попал в среду ее приверженцев, эта симпатия переросла в энтузиазм.
Когда прошло время, которое Бабингтон собирался провести в Париже, он оказался не только вполне посвященным во все планы заговорщиков, но и сам всей душой примкнул к ним. На первых порах он взял на себя роль посредника, через руки которого проходила корреспонденция Марии Стюарт с ее приверженцами в Париже. Это было нетрудно, так как его поместья были расположены недалеко от Чэтсуорта, где в то время Мария содержалась под надзором лорда Шресбюри.
Когда Марию перевели в Тильбэри, Бабинггону еще удавалось по временам помогать обмену писем, но со времени назначения надзирателем за шотландской королевой Амиса Полэта это стало невозможным. Когда же Марию перевели в Чартлэй, то Бабингтон переселился в Лондон, где вел существование джентльмена, ищущего в жизни одни только забавы и наслаждения. Там, в Лондоне, у Бабингтона были громадные связи, в различных салонах ему приходилось встречаться даже с Валингэмом и лордом Лейстером, так что он постоянно бывал в курсе придворной жизни. И скоро он убедился, что помочь Марии совершенно невозможно.
Отчасти в силу этого, а отчасти из сознания громадной опасности, которой он совершенно бесцельно подвергался, Бабингтон стал все больше и больше удаляться от кружка заговорщиков, не подозревая, что они уже наметили его для одной из главнейших ролей. Он уже подумывал, во избежание всяких случайностей, переселиться на материк и начал готовиться к эмиграции, но судьба готовила ему иное.
В мае 1586 года Бабингтон окончательно решил уехать как раз в то самое время, когда в Лондон прибыли Саваж и Баллар.
Однажды, вернувшись поздно вечером домой, Бабингтон узнал от лакея, что в его отсутствие был какой-то незнакомец, который обещал прийти на следующее утро. Бабингтон с большим неудовольствием принял это известие, он догадывался, что должно было означать это появление таинственного незнакомца, а когда справился о его внешнем виде, то подумал — уж не скрыться ли ему на рассвете из Лондона? Но посетитель явился на другое утро настолько рано, что Бабингтон еще был в постели, и ему волей-неволей пришлось принять его.
Посетителем оказался Джон Саваж. Если патер Баллар счел необходимым надеть форму солдата, чтобы не быть узнанным в Англии, то вояка, наоборот, нацепил рясу священнослужителя. Однако Бабингтон был достаточно проницателен, чтобы разгадать, что внешний вид Саважа — только личина. Поэтому довольно недружелюбно принял его и недовольно ответил на приветствия посетителя, пытливо осматривавшего того, от кого должен был получить ближайшие инструкции для столь важного дела, как цареубийство.
— Вы уже вчера были здесь, сэр? — начал Бабингтон. — Чем могу служить вам?
— Собственно ничем, — осторожно ответил Саваж, — Но, быть может, окажется, что мы оба служим кому-нибудь другому, для которого было бы очень выгодно, если бы мы объединились с вами в нашей службе.
— Я — свободный дворянин, — гордо произнес Бабингтон. — Я что-то вас не понимаю. Да и кто вы такой вообще?
— Мое имя не имеет никакого отношения к делу. Но, если хотите, меня зовут Джон Саваж, я — капитан армии герцога Пармского, католик и приверженец королевы Марии Стюарт, как и вы, если верить слухам.
— Все это располагает меня в вашу пользу, — ответил Бабингтон, — нужны доказательства.
— А вот и доказательства! — сказал Саваж, подавая принесенные с собой бумаги.
Бабингтон сначала осмотрел внешний вид поданных ему писем и только потом распечатал их. Во время чтения он несколько раз изменился в лице, и со стороны могло бы показаться, что его бросает то в жар, то в холод.
Саваж решил, что Бабингтон трусит.
«Вот каковы все эти знатные барчуки! — подумал он. — На разговор горазды, а чуть дошло до дела — так и на попятный!»
Но он сильно ошибался, делая такие умозаключения. Конечно, Бабингтон далеко не равнодушно относился к опасностям, которые ему грозили, но по существу он все-таки был не трусом. В данном же случае его волнение объяснялось отчасти некоторой неожиданностью, заключавшейся как в необходимости против воли снова выступить на арену открытой противоправительственной деятельности, так и в исключительности намеченных мер.
Кончив чтение, он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате и, вдруг остановившись перед Саважем, произнес:
— Ваших рекомендаций вполне достаточно, имена, которыми они подписаны, не оставляют желать ничего лучшего. Но тем не менее, мне ни к чему подробно обсуждать с вами содержание врученных вами писем. Однако вы сами должны понять, что осторожность необходима не только в смысле общего правила, но и в том отношении, что ни за какое дело нельзя браться, если почва для него не подготовлена.
— Поспешишь — людей насмешишь. Поэтому пока что вам придется подождать моих инструкций.
Саваж не ожидал, что Бабингтон заговорит в таком тоне. Он был удивлен и заметил, вставая с кресла:
— Я думал, что лучшим путем всегда является самый короткий.
— Наоборот, сэр, — возразил ему Бабингтон. — Если задуманное предприятие сорвется, то это может повести только к окончательной гибели того самого лица, которому мы хотим послужить. В данном деле имеется еще и другая сторона, которую непременно надо принять во внимание. Для того чтобы правильно подойти к нашему делу, необходимо выждать некоторое время.
— Время? — переспросил Саваж. — Но я здесь в большой опасности.
— О вашей безопасности я позабочусь, сэр.
Бабингтон заставил Джона снова переодеться и послал его в сопровождении слуги в свои поместья. Что именно предпринимал он в это время, так и осталось неизвестным.
Вскоре к Бабингтону явился Баллар, и благодаря этому переодетому священнику все дело приняло новый оборот.
Вообще Баллар был рожден скорее воином, чем священником. Во всей его внешности, в повадках было что-то импонирующее, и отвага, которой дышало его лицо, была действительно главной чертой его характера. А вдобавок ко всему этому он отличался еще и истинно монашеским фанатизмом!
Прибыв в первый раз к Бабингтону, он тоже вручил ему свои рекомендательные письма.
К этому времени Бабингтон несколько свыкся с мыслью о затеянном заговорщиками смелом деянии, но продолжал считать, что насильственное освобождение Марии Стюарт все-таки лучше, чем убийство Елизаветы. Поэтому Бабингтон уже не удивлялся, как при встрече с Саважем, а стал разрабатывать план, который давал всему этому безрассудному предприятию хоть какое-нибудь разумное движение. По прочтении писем он сказал Баллару:
— Лорд Морган пишет мне, что я во что бы то ни стало должен помешать вам или Саважу вступать в непосредственный контакт с шотландской королевой. Это требование очень разумно, вы должны согласиться.
— Разумеется, — ответил священник, — и не входит в мои намерения.
— Выслушайте-ка внимательно, что я вам скажу. Толкуют, как и всегда, будто на Англию готовится нападение извне. Это безусловно необходимо для осуществления нашего плана, хотя бы для отвлечения внимания. Но одновременно с нападением внутри страны должно произойти восстание. Тогда освобождение Марии и убийство Елизаветы должны произойти одновременно, так как иначе Бэрлей вырвет у нас из рук все благие последствия задуманного нами предприятия. Но, пока мы подготовим все это, наступит осень, лучшее время года для проведения намеченного плана.
— Мне предписано повиноваться вам, и я готов к этому.
— Ну, тогда вы еще получите от меня дальнейшие инструкции. Кстати, какова ваша безопасность в Лондоне?
— О ней я позабочусь сам.
— Хорошо! Теперь скажите мне, где я могу найти вас?
Баллар объяснил Бабинггону, где он будет находиться и каким образом ему можно дать знать, а затем ушел.
Баллар нашел убежище у некоего Мода, весьма загадочного человека, с которым он познакомился за границей и которому слепо доверял. У этого Мода собирались для обсуждения подробностей заговора секретарь французского посольства Поли, Артур Грегори, Филиппс и, наконец, иезуит Жильбер Джиффорд, которого ни в коем случае не надо смешивать с доктором Джиффордом из Реймса.
Все эти люди служили главным образом посредниками при обмене письмами заговорщиков, рассеянных по всей Европе, и в сущности играли только подчиненную роль.
У Бабингтона был загородный дом, куда он и поместил Джона Саважа в качестве управляющего.
Познакомившись с Балларом, Саваж несколько раз посещал собрания в доме Мода, но члены этого собрания не расположили его в свою пользу, а Джон даже находил, что все эти люди слишком легкомысленны для того, чтобы им можно было доверять.
Но Бабингтон уже не мог отступать назад. Деятельно работая по всем направлениям, он довел дело до той точки, когда оказалось существенно необходимым снестись с Марией Стюарт. Для этой цели Баллар предложил иезуита Джиффорда, и Бабингтон велел тому придти к нему.
Джиффорд произвел далеко не благоприятное впечатление на Бабингтона, но когда он вкратце описал всю свою предшествующую деятельность, то Бабингтон не мог сомневаться, что иезуит посвящен во все детали заговора. Поэтому он сообщил иезуиту о своих намерениях и спросил о том, как бы можно было их исполнить.
Тот на короткое время задумался, а затем ответил:
— Знаю!… Во время моих попыток вступить в отношения с людьми в Чартлее я заметил, что каждую неделю в определенный день туда привозят бочку пива.
— Подобные поставки делаются очень часто, но все предметы, проходящие этим путем, подвергаются тщательному досмотру.
— Конечно. Но в пиве можно переслать письмо так, что его не заметят. Разрешите мне только попробовать. Сначала произведем маленький опыт. Можно?
— Ну что же, попытайтесь!
Джиффорд направился переодетым к пивовару, который, по его сведениям, доставлял пиво, подкупил одного из рабочих и попросил, чтобы тот, доставив пиво в Чартлей, обратил внимание смотрителя винного погреба королевы на втулку, которой была закупорена бочка.
В эту втулку было вложено письмо на имя секретаря Марии Стюарт — Ноэ; в письме не было ничего особенного, но просили сообщить таким же способом, возможен ли в дальнейшем этот путь для передачи корреспонденции.
Ответ не замедлил последовать, и Джиффорд отправился с ним к Бабингтону. Тогда тот переслал Ноэ шифрованное письмо, в котором сообщал о намерениях и планах, питаемых приверженцами королевы.
И на это письмо тоже пришел ответ, так что Бабингтон не замедлил переслать новоизобретенным путем самые важные из тех писем, которые накапливались в течение этого времени для Марии Стюарт.
На последние Мария ответила лично. Хотя ее письмо и было адресовано на имя Моргана, но в сущности предназначалось для сведения всех ее приверженцев. Между прочим она написала:
«Берегитесь — очень прошу вас об этом — втягиваться в такие дела, которые позднее только увеличат подозрения против вас. Что касается меня, то в настоящий момент я имею основания не сообщать об опасности, которая грозит в случае раскрытия дела. Мой тюремщик ввел такой строгий и педантичный порядок, что я не могу ничего принять или отослать без его ведома».
Вообще все письмо было полно уговоров отступиться от задуманного.
Между прочим необходимо отметить, что с самого начала этого обмена письмами Марии была предоставлена большая свобода, а Полэт стал притворяться более приветливым. Но Мария Стюарт не могла совершенно переродиться, поэтому вновь кинулась в самый водоворот заговора. Каждую неделю вышеописанным путем письма шли в Чартлей и обратно. Мария была в курсе всего происходящего и затеваемого ее приверженцами, ей даже представилась возможность лично руководить всем делом из тюрьмы.
Одно из самых важных заседаний состоялось в первых числах июля в загородном доме Бабингтона, и тут было решено, что освобождение Марии Бабингтон возьмет на себя, с этой целью он купил имение Лихтфилд, находившееся в непосредственной близости от Чартлея.
На этом же заседании были намечены люди, обязанностью которых будет убить Елизавету. Это были: Джон Саваж, Патрик Баруэль, ирландец родом, Джон Черсик, Эдуард Абингтон, Чарльз Тильнай, Чидьок Тичбори.
Поднять знамя восстания в провинции поручалось Эдуарду Виндзору, Томасу Салисбэри, Роберту Геджу, Джону Тауерсу, Джону Томасу, Генриху Дэну. К числу этих заговорщиков принадлежал также и Сэррей.
Из высшей английской аристократии готовыми по первому знаку подняться за Марию Стюарт были: сын герцога Норфолка, граф Арундель, Томас и Вильям Говарды, граф Нортумберленд, лорд Дакр, лорды и графы Стрэндж, Дерби, Сэнлей, Монтэдж Комптон, Морлей, всего — тридцать девять человек.
Помощь, обещанная Филиппом II, тоже начинала вырисовываться, он готовился к экспедиции в Англию. Шотландские отряды тоже готовы были двинуться на Англию.
Бабингтон участвовал в заговоре против Елизаветы в общем-то по своей глупости. Но руководство заговором было очень разумным и могло бы даже обеспечить успех, если были бы сдержаны все обещания и, наконец, если бы не было измены. А предатель таился в том обществе, среди которого вращался Баллар, или полковник Форсо, как он назывался в Лондоне.
Вообще Баллар был очень странным человеком. Будучи одет в рясу и сдерживая себя строгими тисками монашеского долга, он мог легко провести кого угодно. Но в мундире, стараясь поступками и привычками подражать разнузданным нравам военных, он чувствовал себя не в своей тарелке, так что даже не особенно дальновидный Саваж мог его разоблачить. Это и заставляло Бабингтона доверять Баллару менее того, сколько нужно было для успеха дела. Так, например, Баллар был исключен из числа тех, которые собирались в загородном доме Бабингтона на совещания, и он, считая себя одной из важнейших фигур заговора, был очень обижен этим.
Мод, хозяин Баллара, был долгое время его верным товарищем в его распутных похождениях. И вот случилось так, что однажды они попали в кабачок, где приносились жертвы не только Бахусу. В этом кабачке возникла ссора, оба приятеля вмешались в нее, и когда появилась полиция, то в числе других собралась арестовать и их обоих.
То, что для всякого другого человека могло оказаться только неприятным происшествием, для наших героев должно было повлечь за собой очень дурные последствия. Поэтому они обнажили оружие и напали на полицейских, в чем их ревностно поддержал весь остальной сброд посетителей кабачка, А так как их было довольно много, то полиция потерпела поражение, и забияки поспешили разбежаться. Баллар и Мод думали, что довольно счастливо выкарабкались из этой истории и через несколько дней совершенно забыли о ней.
Но вот однажды, отправляясь в Кастэнд, загородный дом Бабингтона, Баллар встретил человека с перевязанной головой и загляделся на него. Тот обратил на это внимание и неожиданно поскользнулся. Баллар спокойно продолжал свой путь, а перевязанный последовал за ним на некотором расстоянии.
Вскоре им навстречу попался человек, одетый в мундир одного из высших полицейских чинов «Звездной палаты». Это был Пельдрам.
Перевязанный человек почтительно поздоровался с ним и указал на Баллара:
— Вот человек, который ранил меня несколько дней тому назад в кабачке.
Пельдрам мрачно посмотрел вслед Баллару и злобно пробормотал:
— По виду — это дворянчик, ну а этим господам не вменяется в особенное преступление, если они ткнут шпагой низшего служителя «Звездной палаты». Но на всякий случай проследи за ним, Том, а чтобы он не заметил этого, постарайся встретить кого-нибудь из коллег и поручи ему продолжить наблюдение. Я хочу знать, кто этот человек. Понял?
— Слушаюсь! — ответил подчиненный Пельдрама и поспешил за Балларом.
А тот все продолжал спокойно идти своей дорогой, не заметив никакого преследования. Так дошел он до окраины города, где начинались уже поля, прошел в какую-то лачугу, побыл там короткое время и затем вернулся в Лондон в свою квартиру.
Агент, которому Том поручил проследить за Балларом, дождался, когда тот через шесть часов вышел из дома, и наблюдал за ним до тех пор, пока не встретил товарища и не поручил продолжать слежку. Сам же поспешил вернуться к квартире преследуемого, чтобы навести там требуемые справки.
Он узнал, что живет здесь Баллар, и без всяких размышлений отправился в квартиру Мода.
Мод был дома и с удивлением взглянул на вошедшего полицейского. Когда же тот объяснил, что он — служащий «Звездной палаты», то от испуга у Мода кровь в жилах застыла и волосы чуть ли не встали дыбом. Полицейский потребовал, чтобы Мод назвал свое имя и род занятий.
Это было легко Моду. Чем-чем, а документами он был снабжен в достаточном количестве. Он предъявил доказательства того, что он — англичанин, состоящий на службе секретаря французского посольства.
— Хорошо, — произнес полицейский, — совсем хорошо, по крайней мере в отношении вас, хотя с другой стороны, англичане, состоящие на службе у французов, всегда подозрительны. Но у вас имеется квартирант.
— Квартирант?
— Пожалуйста, не притворяйтесь! Я знаю, что это так! Кто этот человек?
— Ах, вы про этого?.. Да это, собственно говоря, не квартирант, а, так сказать, гость…
— В таком случае я должен сказать еще, что вы принимаете у себя очень подозрительных гостей… Дело, должно быть, не чисто, раз люди с наружностью джентльмена живут в такой дыре, как ваше жилище, раз они посещают низкопробные вертепы и вступают там в драку со стражами общественной безопасности!
— Этого я уж не знаю, — дерзко ответил Мод.
— Готов вам поверить, но все-таки будьте любезны сказать мне, как попал этот человек в ваш дом?
— Мне его рекомендовали…
— Кто именно?
— Мой патрон.
— Тоже хорошая рекомендация! Как его зовут?
— Форсо.
— А чем занимается Форсо?
— Он военный, полковник, в настоящее время в отставке.
— Так, так!
Полицейский в замешательстве почесал затылок. Положение полковника в отставке сразу объясняло все, что с первого взгляда казалось подозрительным, а именно — привычку к бесшабашной жизни и неимение средств. Кроме того, полицейский из личного опыта знал, что с безработными военными шутить не приходится. Но как бы там ни было, а поручение ему было дано в самой категорической форме, и он должен был довести дознание до конца.
— Когда же вернется этот господин домой? — спросил он Мода.
— Это совершенно неопределенно.
— Так я подожду его здесь, — решительно заявил полицейский. — А пока он не вернется домой, вы тоже должны оставаться здесь.
Но Баллар не был таким неосторожным и легкомысленным, как это могло показаться, он нарочно колесил по городу, чтобы измучить преследователя. Когда же полицейский отмахал за ним два больших конца, то Баллар неожиданно исчез.
Домой Баллар решил тоже сразу не возвращаться — сначала послал мальчишку, чтобы тот прощупал почву.
Когда мальчишка прибыл на квартиру Мода, полицейский все еще оставался на своем посту. Следуя данным инструкциям, мальчик сказал Моду, что его кузен просил спросить, как его здоровье.
— Ага! — воскликнул полицейский. — Знаем мы этих кузенов! Не трудитесь отвечать, сэр Мод! Слушай-ка, мальчик, я — служащий «Звездной палаты».
Мальчишка страшно перепугался.
— Тебе меня нечего бояться, если ты будешь послушным, — продолжал полицейский. — Но берегись, если ты не сделаешь того, что я тебе сейчас прикажу!
— Я готов все сделать! — ответил мальчик.
— В таком случае ступай обратно к «кузену» и скажи ему, что сэр Мод ждет его.
Мальчик отправился, а полицейский пошел следом за ним и встал настороже у двери.
Баллар принял ответ мальчика за правду, но в последний момент лисьим нюхом почувствовал что-то неладное. Он юркнул в сторону, хотя полицейский и кинулся за ним, но не мог помешать иезуиту ускользнуть из его рук.
Надутый полицейский вернулся к своему начальнику и доложил ему обо всем происшедшем. Выслушав его, Пельдрам решил лично взяться за это дело.
Эта история затянулась. Преследование Баллара продолжалось несколько месяцев, но Пельдраму так и не удалось поймать человека, следить за которым его заставляла скорее честь сыщика, чем подозрение, что преследуемый и на самом деле — важный преступник.
Что может показаться очень странным — так это то, что соучастники заговора не имели никакого понятия об этом преследовании. Таким образом, это было каким-то состязанием на приз, происходившим только между Пельдрамом и Балларом.
За это время Бабингтон вообще редко видел иезуита. Он только что вернулся из имения, купленного им вблизи от Чартлея, и так много работал над подготовкой переворота, что даже его внешний вид совершенно изменился. Прежде он отличался некоторой полнотой, а теперь стал худым, физически и нравственно истощенным. Кроме того, лето стояло очень жаркое, и во время своих частых путешествий Бабингтон изнемогал от палящих лучей солнца. Он истосковался по отдыху, и твердо решил в течение нескольких дней сделать передышку.
Прибыв в свой городской дом, он разделся с помощью камердинера, вытянулся на софе и сказал:
— Джек, меня ни для кого нет дома сегодня!
— Слушаюсь! — ответил тот.
— Меня нет в Лондоне вообще, понимаешь?
— Понимаю.
— Я устал, Джэк, так устал, что на отдых и восстановление сил мне понадобится по крайней мере неделя.
— Совершенно верно!
— Теперь ты знаешь, значит, что нужно делать. Всем посетителям ты скажешь, что меня нет, что я в Париже, что ли.
— Я желал бы, сэр, чтобы мы действительно были там.
— И я желал бы того, ей Богу, но делать нечего, приходится оставаться здесь.
— К сожалению, — произнес слуга со вздохом и вышел из комнаты.
Бабингтон был настолько утомлен, что заснул.
Вдруг слуга снова появился с очень обеспокоенным видом и воскликнул:
— Сэр! Дорогой сэр, проснитесь!
Но так как тот не двигался, то Джэк стал будить его.
— Мне слишком скоро пришлось ослушаться вашего приказания, сэр, но я принужден сделать это, — сказал он.
— Ну, в чем дело? — недовольно спросил очнувшийся хозяин.
Пришел какой-то незнакомец.
— К черту его, я никого не хочу видеть!
— Этот человек настаивает, к тому же у него, кажется, имеются важные вести.
— Кто же он такой?
— Это — агент «Звездной палаты», состоящий у вас на жаловании.
Через две минуты в комнату вошел посетитель, находившийся, по-видимому, также в большом волнении.
— Да хранит вас Бог, сэр! — быстро проговорил он. — Какое счастье, что я застал вас в Лондоне и имею возможность говорить с вами.
— У вас, по-видимому, имеются дурные вести?
— Дурные, очень дурные, сэр!
— Что-нибудь открыто?
— Да, во всяком случае нас предали!
— Черт возьми! Кто же мог быть этим предателем?
— Вы знаете, сэр, некоего Мода?
— Конечно!
— Так вот он явился сегодня к нашему начальнику Пельдраму и заявил, что проживающий у него полковник Форсо на самом деле — священник и зовут его Баллар.
— Будь проклят этот предатель!
Затем он заявил, что после долгих стараний ему удалось заманить Баллара в свою квартиру, где он осилил его и связал, так что можно теперь взять его оттуда.
— Ох! — простонал Бабингтон. — В таком случае все погибло! Ну, что же? Взяли его?
— Это должно совершиться с минуты на минуту.
— Хорошо, благодарю вас за сообщение. Джэк, Джэк, поди сюда!
Лакей вошел, а посетитель удалился.
— Коня мне поскорее! — крикнул Бабингтон.
Слуга вышел, а Бабингтон стал одеваться, Он совсем потерял голову и думал не о том, чтобы кого-то предупредить, а лишь о бегстве и о спасении своей особы. Одевшись, он выбежал во двор, вскочил на коня и поспешил из Лондона. Некоторое время он скакал вперед без всякой определенной цели, пока наконец не стемнело. Тем временем он собрался с мыслями и понял, что его бегство не только испортит все дело, но послужит еще проявлением трусости. Наконец, известия могли быть ложны, даже в случае их достоверности еще многое можно было бы спасти. Под влиянием этих соображений он повернул обратно в Лондон, переночевав по дороге в плохонькой гостинице.
На следующее утро он отправился в Сэнт-Эгидиен, свое загородное поместье, где его встретил Саваж.
Последний проводил его в жилую комнату и спросил:
— Вы знаете, сэр, что нас выдали и что Баллар уже арестован?
— Да, знаю. А кто еще арестован?
— Больше никто! Вот письмо королевы!
Прочтя письмо, Бабингтон сказал:
— Я отвечу, но что можно предпринять, сэр Джон?
Бабингтон старался казаться таким же спокойным, каким был Саваж.
— Немедленно убить Елизавету! — ответил Саваж.
— Хорошо, возьмите это на себя.
— Завтра этой женщины не будет в живых! — сказал отважный офицер.
— Хорошо, хорошо! — сказал Бабингтон, вынимая кошелек и снимая с пальцев кольца. — Вот вам на всякий случай необходимые средства. Только ваша рука может спасти нас… Не мешкайте!
— Завтра это свершится! — подтвердил Саваж. — Вообще все эти большие приготовления были совершенно излишни.
Джон удалился, а Бабингтон принялся за письмо к Марии Стюарт. Он извещал ее о том, что случилось, но обещал употребить все средства, чтобы удалось их предприятие.
Это письмо уже не попало в руки Марии.
Насколько Бабингтон в первый момент струсил и потерял бодрость, настолько потом в нем явилась какая-то отчаянная отвага. Он решил самолично принять участие в свержении Елизаветы. Для этого он поехал в Лондон. Но Бабингтону не удалось исполнить свое намерение, поэтому он отправился в свою квартиру, где его уже ждал Саваж.
— Это невозможно, — воскликнул тот, — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в ближайшее время. Приняты все меры предосторожности, весь наш план обнаружен.
После краткого совещания оба покинули дом и отправились к Тичборну. Последний, встретив их, возбужденно спросил:
— Знаете ли вы, что Баллара подвергли пытке и он выдал всех нас?
— Будь проклят этот поп! — воскликнул Саваж. — Я это предвидел… Чего можно было ждать от него и всей его шайки!
— Необходимо бежать! — сказал Бабингтон.
Только не днем, — заметил Тичборн. — Следуйте за мной, я укажу вам убежище, где мы можем выждать ночи! — с этими словами Тичборн ввел своих посетителей в подвальное помещение с несколькими выходами.
Заговорщики все прибывали к Тичборну, и его слуга препровождал их в упомянутое убежище, Про неявившихся говорили, что они все арестованы. Тичборн распорядился, чтобы к вечеру были приготовлены лошади.
Вечером Бабингтон бежал из Лондона вместе со своими сообщниками. Достигнув Сэн-Джонского леса, они надеялись укрыться там, но их преследовали, настигли очень скоро и, арестовав, отправили в Лондон.
Так закончился заговор Бабингтона. Понятно, почему Мария Стюарт, услыхав имя Бабингтона, так побледнела и воскликнула, что все погибло. Раскрытие этого заговора послужило поводом к разыгранному Амиасом приглашению на охоту по приказанию Валингэма.
Однако разоблачению способствовал не только арест Баллара. Сыграла роковую роль и измена Кингтона.
Года за четыре до этого в Париже проживал молодой англичанин, он не принадлежал к числу изгнанников, а находился там для собственного удовольствия. Обладая большими средствами и имея рекомендательные письма к влиятельным парижанам, этот англичанин вскоре занял довольно видное положение в рядах местной знати. Но в этом положении не было ничего такого, чего пришлось бы стыдиться молодому человеку. Энтони Бабингтон хотя и был весел и жизнерадостен, но это не мешало ему оставаться нравственным и порядочным, между прочим он щедро помогал бедным соплеменникам, принужденным жить в Париже по политическим причинам. Благодаря всему этому, благодаря его симпатичной наружности и богатству многие с большой настойчивостью добивались знакомства с ним, а куда хотел проникнуть он сам — для него не бывало запрета.
Будучи ревностным католиком, Бабингтон не чувствовал особой любви к Елизавете, и равнодушие к английской королеве легко превратилось у него, вследствие ее политики, в пламенную ненависть. Как чувствительный, рыцарски настроенный человек, он искренне сожалел Марии Стюарт, и, когда попал в среду ее приверженцев, эта симпатия переросла в энтузиазм.
Когда прошло время, которое Бабингтон собирался провести в Париже, он оказался не только вполне посвященным во все планы заговорщиков, но и сам всей душой примкнул к ним. На первых порах он взял на себя роль посредника, через руки которого проходила корреспонденция Марии Стюарт с ее приверженцами в Париже. Это было нетрудно, так как его поместья были расположены недалеко от Чэтсуорта, где в то время Мария содержалась под надзором лорда Шресбюри.
Когда Марию перевели в Тильбэри, Бабинггону еще удавалось по временам помогать обмену писем, но со времени назначения надзирателем за шотландской королевой Амиса Полэта это стало невозможным. Когда же Марию перевели в Чартлэй, то Бабингтон переселился в Лондон, где вел существование джентльмена, ищущего в жизни одни только забавы и наслаждения. Там, в Лондоне, у Бабингтона были громадные связи, в различных салонах ему приходилось встречаться даже с Валингэмом и лордом Лейстером, так что он постоянно бывал в курсе придворной жизни. И скоро он убедился, что помочь Марии совершенно невозможно.
Отчасти в силу этого, а отчасти из сознания громадной опасности, которой он совершенно бесцельно подвергался, Бабингтон стал все больше и больше удаляться от кружка заговорщиков, не подозревая, что они уже наметили его для одной из главнейших ролей. Он уже подумывал, во избежание всяких случайностей, переселиться на материк и начал готовиться к эмиграции, но судьба готовила ему иное.
В мае 1586 года Бабингтон окончательно решил уехать как раз в то самое время, когда в Лондон прибыли Саваж и Баллар.
Однажды, вернувшись поздно вечером домой, Бабингтон узнал от лакея, что в его отсутствие был какой-то незнакомец, который обещал прийти на следующее утро. Бабингтон с большим неудовольствием принял это известие, он догадывался, что должно было означать это появление таинственного незнакомца, а когда справился о его внешнем виде, то подумал — уж не скрыться ли ему на рассвете из Лондона? Но посетитель явился на другое утро настолько рано, что Бабингтон еще был в постели, и ему волей-неволей пришлось принять его.
Посетителем оказался Джон Саваж. Если патер Баллар счел необходимым надеть форму солдата, чтобы не быть узнанным в Англии, то вояка, наоборот, нацепил рясу священнослужителя. Однако Бабингтон был достаточно проницателен, чтобы разгадать, что внешний вид Саважа — только личина. Поэтому довольно недружелюбно принял его и недовольно ответил на приветствия посетителя, пытливо осматривавшего того, от кого должен был получить ближайшие инструкции для столь важного дела, как цареубийство.
— Вы уже вчера были здесь, сэр? — начал Бабингтон. — Чем могу служить вам?
— Собственно ничем, — осторожно ответил Саваж, — Но, быть может, окажется, что мы оба служим кому-нибудь другому, для которого было бы очень выгодно, если бы мы объединились с вами в нашей службе.
— Я — свободный дворянин, — гордо произнес Бабингтон. — Я что-то вас не понимаю. Да и кто вы такой вообще?
— Мое имя не имеет никакого отношения к делу. Но, если хотите, меня зовут Джон Саваж, я — капитан армии герцога Пармского, католик и приверженец королевы Марии Стюарт, как и вы, если верить слухам.
— Все это располагает меня в вашу пользу, — ответил Бабингтон, — нужны доказательства.
— А вот и доказательства! — сказал Саваж, подавая принесенные с собой бумаги.
Бабингтон сначала осмотрел внешний вид поданных ему писем и только потом распечатал их. Во время чтения он несколько раз изменился в лице, и со стороны могло бы показаться, что его бросает то в жар, то в холод.
Саваж решил, что Бабингтон трусит.
«Вот каковы все эти знатные барчуки! — подумал он. — На разговор горазды, а чуть дошло до дела — так и на попятный!»
Но он сильно ошибался, делая такие умозаключения. Конечно, Бабингтон далеко не равнодушно относился к опасностям, которые ему грозили, но по существу он все-таки был не трусом. В данном же случае его волнение объяснялось отчасти некоторой неожиданностью, заключавшейся как в необходимости против воли снова выступить на арену открытой противоправительственной деятельности, так и в исключительности намеченных мер.
Кончив чтение, он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате и, вдруг остановившись перед Саважем, произнес:
— Ваших рекомендаций вполне достаточно, имена, которыми они подписаны, не оставляют желать ничего лучшего. Но тем не менее, мне ни к чему подробно обсуждать с вами содержание врученных вами писем. Однако вы сами должны понять, что осторожность необходима не только в смысле общего правила, но и в том отношении, что ни за какое дело нельзя браться, если почва для него не подготовлена.
— Поспешишь — людей насмешишь. Поэтому пока что вам придется подождать моих инструкций.
Саваж не ожидал, что Бабингтон заговорит в таком тоне. Он был удивлен и заметил, вставая с кресла:
— Я думал, что лучшим путем всегда является самый короткий.
— Наоборот, сэр, — возразил ему Бабингтон. — Если задуманное предприятие сорвется, то это может повести только к окончательной гибели того самого лица, которому мы хотим послужить. В данном деле имеется еще и другая сторона, которую непременно надо принять во внимание. Для того чтобы правильно подойти к нашему делу, необходимо выждать некоторое время.
— Время? — переспросил Саваж. — Но я здесь в большой опасности.
— О вашей безопасности я позабочусь, сэр.
Бабингтон заставил Джона снова переодеться и послал его в сопровождении слуги в свои поместья. Что именно предпринимал он в это время, так и осталось неизвестным.
Вскоре к Бабингтону явился Баллар, и благодаря этому переодетому священнику все дело приняло новый оборот.
Вообще Баллар был рожден скорее воином, чем священником. Во всей его внешности, в повадках было что-то импонирующее, и отвага, которой дышало его лицо, была действительно главной чертой его характера. А вдобавок ко всему этому он отличался еще и истинно монашеским фанатизмом!
Прибыв в первый раз к Бабингтону, он тоже вручил ему свои рекомендательные письма.
К этому времени Бабингтон несколько свыкся с мыслью о затеянном заговорщиками смелом деянии, но продолжал считать, что насильственное освобождение Марии Стюарт все-таки лучше, чем убийство Елизаветы. Поэтому Бабингтон уже не удивлялся, как при встрече с Саважем, а стал разрабатывать план, который давал всему этому безрассудному предприятию хоть какое-нибудь разумное движение. По прочтении писем он сказал Баллару:
— Лорд Морган пишет мне, что я во что бы то ни стало должен помешать вам или Саважу вступать в непосредственный контакт с шотландской королевой. Это требование очень разумно, вы должны согласиться.
— Разумеется, — ответил священник, — и не входит в мои намерения.
— Выслушайте-ка внимательно, что я вам скажу. Толкуют, как и всегда, будто на Англию готовится нападение извне. Это безусловно необходимо для осуществления нашего плана, хотя бы для отвлечения внимания. Но одновременно с нападением внутри страны должно произойти восстание. Тогда освобождение Марии и убийство Елизаветы должны произойти одновременно, так как иначе Бэрлей вырвет у нас из рук все благие последствия задуманного нами предприятия. Но, пока мы подготовим все это, наступит осень, лучшее время года для проведения намеченного плана.
— Мне предписано повиноваться вам, и я готов к этому.
— Ну, тогда вы еще получите от меня дальнейшие инструкции. Кстати, какова ваша безопасность в Лондоне?
— О ней я позабочусь сам.
— Хорошо! Теперь скажите мне, где я могу найти вас?
Баллар объяснил Бабинггону, где он будет находиться и каким образом ему можно дать знать, а затем ушел.
Баллар нашел убежище у некоего Мода, весьма загадочного человека, с которым он познакомился за границей и которому слепо доверял. У этого Мода собирались для обсуждения подробностей заговора секретарь французского посольства Поли, Артур Грегори, Филиппс и, наконец, иезуит Жильбер Джиффорд, которого ни в коем случае не надо смешивать с доктором Джиффордом из Реймса.
Все эти люди служили главным образом посредниками при обмене письмами заговорщиков, рассеянных по всей Европе, и в сущности играли только подчиненную роль.
У Бабингтона был загородный дом, куда он и поместил Джона Саважа в качестве управляющего.
Познакомившись с Балларом, Саваж несколько раз посещал собрания в доме Мода, но члены этого собрания не расположили его в свою пользу, а Джон даже находил, что все эти люди слишком легкомысленны для того, чтобы им можно было доверять.
Но Бабингтон уже не мог отступать назад. Деятельно работая по всем направлениям, он довел дело до той точки, когда оказалось существенно необходимым снестись с Марией Стюарт. Для этой цели Баллар предложил иезуита Джиффорда, и Бабингтон велел тому придти к нему.
Джиффорд произвел далеко не благоприятное впечатление на Бабингтона, но когда он вкратце описал всю свою предшествующую деятельность, то Бабингтон не мог сомневаться, что иезуит посвящен во все детали заговора. Поэтому он сообщил иезуиту о своих намерениях и спросил о том, как бы можно было их исполнить.
Тот на короткое время задумался, а затем ответил:
— Знаю!… Во время моих попыток вступить в отношения с людьми в Чартлее я заметил, что каждую неделю в определенный день туда привозят бочку пива.
— Подобные поставки делаются очень часто, но все предметы, проходящие этим путем, подвергаются тщательному досмотру.
— Конечно. Но в пиве можно переслать письмо так, что его не заметят. Разрешите мне только попробовать. Сначала произведем маленький опыт. Можно?
— Ну что же, попытайтесь!
Джиффорд направился переодетым к пивовару, который, по его сведениям, доставлял пиво, подкупил одного из рабочих и попросил, чтобы тот, доставив пиво в Чартлей, обратил внимание смотрителя винного погреба королевы на втулку, которой была закупорена бочка.
В эту втулку было вложено письмо на имя секретаря Марии Стюарт — Ноэ; в письме не было ничего особенного, но просили сообщить таким же способом, возможен ли в дальнейшем этот путь для передачи корреспонденции.
Ответ не замедлил последовать, и Джиффорд отправился с ним к Бабингтону. Тогда тот переслал Ноэ шифрованное письмо, в котором сообщал о намерениях и планах, питаемых приверженцами королевы.
И на это письмо тоже пришел ответ, так что Бабингтон не замедлил переслать новоизобретенным путем самые важные из тех писем, которые накапливались в течение этого времени для Марии Стюарт.
На последние Мария ответила лично. Хотя ее письмо и было адресовано на имя Моргана, но в сущности предназначалось для сведения всех ее приверженцев. Между прочим она написала:
«Берегитесь — очень прошу вас об этом — втягиваться в такие дела, которые позднее только увеличат подозрения против вас. Что касается меня, то в настоящий момент я имею основания не сообщать об опасности, которая грозит в случае раскрытия дела. Мой тюремщик ввел такой строгий и педантичный порядок, что я не могу ничего принять или отослать без его ведома».
Вообще все письмо было полно уговоров отступиться от задуманного.
Между прочим необходимо отметить, что с самого начала этого обмена письмами Марии была предоставлена большая свобода, а Полэт стал притворяться более приветливым. Но Мария Стюарт не могла совершенно переродиться, поэтому вновь кинулась в самый водоворот заговора. Каждую неделю вышеописанным путем письма шли в Чартлей и обратно. Мария была в курсе всего происходящего и затеваемого ее приверженцами, ей даже представилась возможность лично руководить всем делом из тюрьмы.
Одно из самых важных заседаний состоялось в первых числах июля в загородном доме Бабингтона, и тут было решено, что освобождение Марии Бабингтон возьмет на себя, с этой целью он купил имение Лихтфилд, находившееся в непосредственной близости от Чартлея.
На этом же заседании были намечены люди, обязанностью которых будет убить Елизавету. Это были: Джон Саваж, Патрик Баруэль, ирландец родом, Джон Черсик, Эдуард Абингтон, Чарльз Тильнай, Чидьок Тичбори.
Поднять знамя восстания в провинции поручалось Эдуарду Виндзору, Томасу Салисбэри, Роберту Геджу, Джону Тауерсу, Джону Томасу, Генриху Дэну. К числу этих заговорщиков принадлежал также и Сэррей.
Из высшей английской аристократии готовыми по первому знаку подняться за Марию Стюарт были: сын герцога Норфолка, граф Арундель, Томас и Вильям Говарды, граф Нортумберленд, лорд Дакр, лорды и графы Стрэндж, Дерби, Сэнлей, Монтэдж Комптон, Морлей, всего — тридцать девять человек.
Помощь, обещанная Филиппом II, тоже начинала вырисовываться, он готовился к экспедиции в Англию. Шотландские отряды тоже готовы были двинуться на Англию.
Бабингтон участвовал в заговоре против Елизаветы в общем-то по своей глупости. Но руководство заговором было очень разумным и могло бы даже обеспечить успех, если были бы сдержаны все обещания и, наконец, если бы не было измены. А предатель таился в том обществе, среди которого вращался Баллар, или полковник Форсо, как он назывался в Лондоне.
Вообще Баллар был очень странным человеком. Будучи одет в рясу и сдерживая себя строгими тисками монашеского долга, он мог легко провести кого угодно. Но в мундире, стараясь поступками и привычками подражать разнузданным нравам военных, он чувствовал себя не в своей тарелке, так что даже не особенно дальновидный Саваж мог его разоблачить. Это и заставляло Бабингтона доверять Баллару менее того, сколько нужно было для успеха дела. Так, например, Баллар был исключен из числа тех, которые собирались в загородном доме Бабингтона на совещания, и он, считая себя одной из важнейших фигур заговора, был очень обижен этим.
Мод, хозяин Баллара, был долгое время его верным товарищем в его распутных похождениях. И вот случилось так, что однажды они попали в кабачок, где приносились жертвы не только Бахусу. В этом кабачке возникла ссора, оба приятеля вмешались в нее, и когда появилась полиция, то в числе других собралась арестовать и их обоих.
То, что для всякого другого человека могло оказаться только неприятным происшествием, для наших героев должно было повлечь за собой очень дурные последствия. Поэтому они обнажили оружие и напали на полицейских, в чем их ревностно поддержал весь остальной сброд посетителей кабачка, А так как их было довольно много, то полиция потерпела поражение, и забияки поспешили разбежаться. Баллар и Мод думали, что довольно счастливо выкарабкались из этой истории и через несколько дней совершенно забыли о ней.
Но вот однажды, отправляясь в Кастэнд, загородный дом Бабингтона, Баллар встретил человека с перевязанной головой и загляделся на него. Тот обратил на это внимание и неожиданно поскользнулся. Баллар спокойно продолжал свой путь, а перевязанный последовал за ним на некотором расстоянии.
Вскоре им навстречу попался человек, одетый в мундир одного из высших полицейских чинов «Звездной палаты». Это был Пельдрам.
Перевязанный человек почтительно поздоровался с ним и указал на Баллара:
— Вот человек, который ранил меня несколько дней тому назад в кабачке.
Пельдрам мрачно посмотрел вслед Баллару и злобно пробормотал:
— По виду — это дворянчик, ну а этим господам не вменяется в особенное преступление, если они ткнут шпагой низшего служителя «Звездной палаты». Но на всякий случай проследи за ним, Том, а чтобы он не заметил этого, постарайся встретить кого-нибудь из коллег и поручи ему продолжить наблюдение. Я хочу знать, кто этот человек. Понял?
— Слушаюсь! — ответил подчиненный Пельдрама и поспешил за Балларом.
А тот все продолжал спокойно идти своей дорогой, не заметив никакого преследования. Так дошел он до окраины города, где начинались уже поля, прошел в какую-то лачугу, побыл там короткое время и затем вернулся в Лондон в свою квартиру.
Агент, которому Том поручил проследить за Балларом, дождался, когда тот через шесть часов вышел из дома, и наблюдал за ним до тех пор, пока не встретил товарища и не поручил продолжать слежку. Сам же поспешил вернуться к квартире преследуемого, чтобы навести там требуемые справки.
Он узнал, что живет здесь Баллар, и без всяких размышлений отправился в квартиру Мода.
Мод был дома и с удивлением взглянул на вошедшего полицейского. Когда же тот объяснил, что он — служащий «Звездной палаты», то от испуга у Мода кровь в жилах застыла и волосы чуть ли не встали дыбом. Полицейский потребовал, чтобы Мод назвал свое имя и род занятий.
Это было легко Моду. Чем-чем, а документами он был снабжен в достаточном количестве. Он предъявил доказательства того, что он — англичанин, состоящий на службе секретаря французского посольства.
— Хорошо, — произнес полицейский, — совсем хорошо, по крайней мере в отношении вас, хотя с другой стороны, англичане, состоящие на службе у французов, всегда подозрительны. Но у вас имеется квартирант.
— Квартирант?
— Пожалуйста, не притворяйтесь! Я знаю, что это так! Кто этот человек?
— Ах, вы про этого?.. Да это, собственно говоря, не квартирант, а, так сказать, гость…
— В таком случае я должен сказать еще, что вы принимаете у себя очень подозрительных гостей… Дело, должно быть, не чисто, раз люди с наружностью джентльмена живут в такой дыре, как ваше жилище, раз они посещают низкопробные вертепы и вступают там в драку со стражами общественной безопасности!
— Этого я уж не знаю, — дерзко ответил Мод.
— Готов вам поверить, но все-таки будьте любезны сказать мне, как попал этот человек в ваш дом?
— Мне его рекомендовали…
— Кто именно?
— Мой патрон.
— Тоже хорошая рекомендация! Как его зовут?
— Форсо.
— А чем занимается Форсо?
— Он военный, полковник, в настоящее время в отставке.
— Так, так!
Полицейский в замешательстве почесал затылок. Положение полковника в отставке сразу объясняло все, что с первого взгляда казалось подозрительным, а именно — привычку к бесшабашной жизни и неимение средств. Кроме того, полицейский из личного опыта знал, что с безработными военными шутить не приходится. Но как бы там ни было, а поручение ему было дано в самой категорической форме, и он должен был довести дознание до конца.
— Когда же вернется этот господин домой? — спросил он Мода.
— Это совершенно неопределенно.
— Так я подожду его здесь, — решительно заявил полицейский. — А пока он не вернется домой, вы тоже должны оставаться здесь.
Но Баллар не был таким неосторожным и легкомысленным, как это могло показаться, он нарочно колесил по городу, чтобы измучить преследователя. Когда же полицейский отмахал за ним два больших конца, то Баллар неожиданно исчез.
Домой Баллар решил тоже сразу не возвращаться — сначала послал мальчишку, чтобы тот прощупал почву.
Когда мальчишка прибыл на квартиру Мода, полицейский все еще оставался на своем посту. Следуя данным инструкциям, мальчик сказал Моду, что его кузен просил спросить, как его здоровье.
— Ага! — воскликнул полицейский. — Знаем мы этих кузенов! Не трудитесь отвечать, сэр Мод! Слушай-ка, мальчик, я — служащий «Звездной палаты».
Мальчишка страшно перепугался.
— Тебе меня нечего бояться, если ты будешь послушным, — продолжал полицейский. — Но берегись, если ты не сделаешь того, что я тебе сейчас прикажу!
— Я готов все сделать! — ответил мальчик.
— В таком случае ступай обратно к «кузену» и скажи ему, что сэр Мод ждет его.
Мальчик отправился, а полицейский пошел следом за ним и встал настороже у двери.
Баллар принял ответ мальчика за правду, но в последний момент лисьим нюхом почувствовал что-то неладное. Он юркнул в сторону, хотя полицейский и кинулся за ним, но не мог помешать иезуиту ускользнуть из его рук.
Надутый полицейский вернулся к своему начальнику и доложил ему обо всем происшедшем. Выслушав его, Пельдрам решил лично взяться за это дело.
Эта история затянулась. Преследование Баллара продолжалось несколько месяцев, но Пельдраму так и не удалось поймать человека, следить за которым его заставляла скорее честь сыщика, чем подозрение, что преследуемый и на самом деле — важный преступник.
Что может показаться очень странным — так это то, что соучастники заговора не имели никакого понятия об этом преследовании. Таким образом, это было каким-то состязанием на приз, происходившим только между Пельдрамом и Балларом.
За это время Бабингтон вообще редко видел иезуита. Он только что вернулся из имения, купленного им вблизи от Чартлея, и так много работал над подготовкой переворота, что даже его внешний вид совершенно изменился. Прежде он отличался некоторой полнотой, а теперь стал худым, физически и нравственно истощенным. Кроме того, лето стояло очень жаркое, и во время своих частых путешествий Бабингтон изнемогал от палящих лучей солнца. Он истосковался по отдыху, и твердо решил в течение нескольких дней сделать передышку.
Прибыв в свой городской дом, он разделся с помощью камердинера, вытянулся на софе и сказал:
— Джек, меня ни для кого нет дома сегодня!
— Слушаюсь! — ответил тот.
— Меня нет в Лондоне вообще, понимаешь?
— Понимаю.
— Я устал, Джэк, так устал, что на отдых и восстановление сил мне понадобится по крайней мере неделя.
— Совершенно верно!
— Теперь ты знаешь, значит, что нужно делать. Всем посетителям ты скажешь, что меня нет, что я в Париже, что ли.
— Я желал бы, сэр, чтобы мы действительно были там.
— И я желал бы того, ей Богу, но делать нечего, приходится оставаться здесь.
— К сожалению, — произнес слуга со вздохом и вышел из комнаты.
Бабингтон был настолько утомлен, что заснул.
Вдруг слуга снова появился с очень обеспокоенным видом и воскликнул:
— Сэр! Дорогой сэр, проснитесь!
Но так как тот не двигался, то Джэк стал будить его.
— Мне слишком скоро пришлось ослушаться вашего приказания, сэр, но я принужден сделать это, — сказал он.
— Ну, в чем дело? — недовольно спросил очнувшийся хозяин.
Пришел какой-то незнакомец.
— К черту его, я никого не хочу видеть!
— Этот человек настаивает, к тому же у него, кажется, имеются важные вести.
— Кто же он такой?
— Это — агент «Звездной палаты», состоящий у вас на жаловании.
Через две минуты в комнату вошел посетитель, находившийся, по-видимому, также в большом волнении.
— Да хранит вас Бог, сэр! — быстро проговорил он. — Какое счастье, что я застал вас в Лондоне и имею возможность говорить с вами.
— У вас, по-видимому, имеются дурные вести?
— Дурные, очень дурные, сэр!
— Что-нибудь открыто?
— Да, во всяком случае нас предали!
— Черт возьми! Кто же мог быть этим предателем?
— Вы знаете, сэр, некоего Мода?
— Конечно!
— Так вот он явился сегодня к нашему начальнику Пельдраму и заявил, что проживающий у него полковник Форсо на самом деле — священник и зовут его Баллар.
— Будь проклят этот предатель!
Затем он заявил, что после долгих стараний ему удалось заманить Баллара в свою квартиру, где он осилил его и связал, так что можно теперь взять его оттуда.
— Ох! — простонал Бабингтон. — В таком случае все погибло! Ну, что же? Взяли его?
— Это должно совершиться с минуты на минуту.
— Хорошо, благодарю вас за сообщение. Джэк, Джэк, поди сюда!
Лакей вошел, а посетитель удалился.
— Коня мне поскорее! — крикнул Бабингтон.
Слуга вышел, а Бабингтон стал одеваться, Он совсем потерял голову и думал не о том, чтобы кого-то предупредить, а лишь о бегстве и о спасении своей особы. Одевшись, он выбежал во двор, вскочил на коня и поспешил из Лондона. Некоторое время он скакал вперед без всякой определенной цели, пока наконец не стемнело. Тем временем он собрался с мыслями и понял, что его бегство не только испортит все дело, но послужит еще проявлением трусости. Наконец, известия могли быть ложны, даже в случае их достоверности еще многое можно было бы спасти. Под влиянием этих соображений он повернул обратно в Лондон, переночевав по дороге в плохонькой гостинице.
На следующее утро он отправился в Сэнт-Эгидиен, свое загородное поместье, где его встретил Саваж.
Последний проводил его в жилую комнату и спросил:
— Вы знаете, сэр, что нас выдали и что Баллар уже арестован?
— Да, знаю. А кто еще арестован?
— Больше никто! Вот письмо королевы!
Прочтя письмо, Бабингтон сказал:
— Я отвечу, но что можно предпринять, сэр Джон?
Бабингтон старался казаться таким же спокойным, каким был Саваж.
— Немедленно убить Елизавету! — ответил Саваж.
— Хорошо, возьмите это на себя.
— Завтра этой женщины не будет в живых! — сказал отважный офицер.
— Хорошо, хорошо! — сказал Бабингтон, вынимая кошелек и снимая с пальцев кольца. — Вот вам на всякий случай необходимые средства. Только ваша рука может спасти нас… Не мешкайте!
— Завтра это свершится! — подтвердил Саваж. — Вообще все эти большие приготовления были совершенно излишни.
Джон удалился, а Бабингтон принялся за письмо к Марии Стюарт. Он извещал ее о том, что случилось, но обещал употребить все средства, чтобы удалось их предприятие.
Это письмо уже не попало в руки Марии.
Насколько Бабингтон в первый момент струсил и потерял бодрость, настолько потом в нем явилась какая-то отчаянная отвага. Он решил самолично принять участие в свержении Елизаветы. Для этого он поехал в Лондон. Но Бабингтону не удалось исполнить свое намерение, поэтому он отправился в свою квартиру, где его уже ждал Саваж.
— Это невозможно, — воскликнул тот, — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в ближайшее время. Приняты все меры предосторожности, весь наш план обнаружен.
После краткого совещания оба покинули дом и отправились к Тичборну. Последний, встретив их, возбужденно спросил:
— Знаете ли вы, что Баллара подвергли пытке и он выдал всех нас?
— Будь проклят этот поп! — воскликнул Саваж. — Я это предвидел… Чего можно было ждать от него и всей его шайки!
— Необходимо бежать! — сказал Бабингтон.
Только не днем, — заметил Тичборн. — Следуйте за мной, я укажу вам убежище, где мы можем выждать ночи! — с этими словами Тичборн ввел своих посетителей в подвальное помещение с несколькими выходами.
Заговорщики все прибывали к Тичборну, и его слуга препровождал их в упомянутое убежище, Про неявившихся говорили, что они все арестованы. Тичборн распорядился, чтобы к вечеру были приготовлены лошади.
Вечером Бабингтон бежал из Лондона вместе со своими сообщниками. Достигнув Сэн-Джонского леса, они надеялись укрыться там, но их преследовали, настигли очень скоро и, арестовав, отправили в Лондон.
Так закончился заговор Бабингтона. Понятно, почему Мария Стюарт, услыхав имя Бабингтона, так побледнела и воскликнула, что все погибло. Раскрытие этого заговора послужило поводом к разыгранному Амиасом приглашению на охоту по приказанию Валингэма.
Однако разоблачению способствовал не только арест Баллара. Сыграла роковую роль и измена Кингтона.


 Не менее, чем Мария, была потрясена Елизавета, когда узнала о готовившемся против нее заговоре. Королева Англии узнала о нем от Бэрлея в присутствии Валингэма и Лейстера. Был при этом докладе и Кингтон. Елизавета в первый момент как бы окаменела, но затем разразилась бурным неистовством. Она плакала, кричала, яростно металась по комнате, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Когда ее возгласы стали несколько явственнее, можно было разобрать проклятия, относящиеся к Марии.
Присутствующие испуганно смотрели на нее. Бэрлей пытался несколько раз заговорить, но Елизавета не слушала его. Наконец ему удалось привлечь ее внимание.
— Ваше величество, — начал он, — вы не дали мне договорить. Неужели ваши верные слуги решились бы выступить перед вами с таким известием, если бы заранее не обезвредили ядовитого жала змеи?
Придя несколько в себя, Елизавета приказала Кингтону удалиться, а затем обратилась к присутствующим:
— Милорды, вы застигли меня врасплох. Поговорим теперь! Неужели, лорд Лейстер, вы ничего не знали о заговоре, грозящем моей жизни и всей стране?
По замешательству Лейстера видно было, что ему ничего не было известно.
— Ваше величество, — смущенно пробормотал он, — это, собственно, не входило в круг моих обязанностей.
Елизавета бросила на него уничтожающий взгляд, расположилась в кресле и предложила Бэрлею продолжать свой доклад. После Бэрлея давал отчет статс-секретарь Валингэм. Наконец позвали Кингтона. Выслушав его с полным вниманием, Елизавета сказала наконец:
— Так нужно схватить их всех!
— Простите, ваше величество, — заметил Валингэм, — эти люди, равно как и все доказательства их виновности, находятся в наших руках, но дело идет об установлении виновности еще одной особы, главной зачинщицы и злоумышленницы в этом деле. Быть может, было бы своевременно теперь положить конец всем этим козням, но я не мог решиться без позволения вашею величества.
Елизавета вздрогнула и взглянула на всех троих испытующим взором, из ее груди вырвался тяжелый вздох, а затем она медленно произнесла:
— Я даю вам на то мои полномочия, милорды, поступайте как находите необходимым; а теперь дайте мне возможность несколько отдохнуть. Вас, лорд Сесил, я желала бы видеть в скором времени.
Все четверо вышли из комнаты.
Какие же сети в этот раз были расставлены Кингтоном?
В туманное осеннее утро 1585 года в большой тюрьме одного из городов, где десять лет тому назад вспыхнуло крупное восстание, заметно было оживление. Причиной тому стало событие в тюремной жизни — арестанта выпускали на волю. Такое счастье выпало на долю некоего Андрея Полея, рабочего с мельницы. За участие в восстании он был приговорен к пятнадцатилетнему тюремному заключению, но, отбыв десять лет, нынче освобождался милостью королевы, простившей ему остальные пять лет.
Выйдя на свободу, первым делом Полей отправился в родное село, находившееся в десяти часах от города, чтобы повидаться с родными. Но каково было его удивление и разочарование, когда из его мельницы вышел навстречу совершенно чужой человек.
После некоторых расспросов Андрей Полей узнал, что в течение этих десяти лет многое изменилось. Мельник Полей со своим семейством покинул село и вероятнее всего уехал во Францию. Из односельчан, которые могли бы дать точные сведения, тоже никого не осталось.
Андрей грустно поник головой и, усталый, голодный, поплелся в ближайшую корчму, чтобы подкрепить свои силы. Там ему назвали человека из соседнего городка, который мог бы дать сведения относительно его родных.
Наутро Андрей Полей отправился в тот городок и нашел этого человека, священника иезуита Джильбера Джиффорда.
Джиффорд родился в графстве Стаффорд, его отец за религиозные убеждения был долгое время в заключении в Лондоне. Сам же он покинул Лондон двенадцати лет от роду, получив потом воспитание у иезуитов во Франции и приняв посвящение в реймской семинарии доктора Аллана.
Молодой Джиффорд снискал расположение своего начальства и проявлял участие к судьбе Марии Стюарт. На этом основании он выполнял роль посредника и наконец отправился в Лондон, где он вступил в сообщество Баллара и вызвался способствовать переписке Марии с Бабинггоном. Ему было известно о заговоре, он сообщался с наиболее видными участниками его, но сам, казалось, был склонен выдать партию и ждал только благоприятного случая.
Такой не замедлил представиться.
Во время своих частых разъездов Джиффорд однажды встретился в корчме с человеком, который заинтересовал его.
Оба они много путешествовали по Италии и Испании, оба оказались одних политических взглядов. Джиффорду так понравился новый знакомый, что он пригласил его к себе на другой день.
В назначенный час тот явился. После трапезы и приятных разговоров гость вдруг совершенно переменил тон и, вынув из кармана пистолет, сказал:
— Вы — иезуит. Вы — корреспондент Моргана и Пэджета в Париже, вы — участник заговора против нашей королевы. Я же — помощник начальника полиции Валингэма, меня зовут Кингтон. Теперь попытайтесь оправдаться, а я посмотрю, следует вас арестовать или нет.
Джиффорд, хотя и был озадачен таким оборотом дела, но сразу решил извлечь выгоду из этой встречи. Поэтому, спокойно улыбаясь, обратился к Кингтону:
— Мне очень приятно познакомиться с вами, я уже давно хотел сделать разоблачения, но не знал, куда обратиться, чтобы при этом не пострадать. Готов служить вам во всех отношениях.
После некоторых расспросов Кингтон и Джиффорд заключили союз. Джиффорд дал обязательство сообщать Кингтону о всех деяниях участников заговора и с этого момента стал вести двойную игру, причем его услуги Кинггону оплачивались, конечно, звонкой монетой.
Когда Полей явился к Джиффорду, тот как раз нуждался в надежном посыльном к Кингтону. Познакомившись с судьбой Андрея, он предложил ему поступить к нему на службу и отправил его в Лондон с письмом.
Полей явился в Лондон, Кингтон позаботилсяпристроить его на службу в полиции и сделать посредником в своей переписке с Джиффордом.
В письме, доставленном Кингтону Полеем, говорилось:
«Ваше мнение относительно Грегори и Фелиппса совершенно верно, но я полагаю, что их незачем арестовывать, а лучше склонить на свою сторону путем подкупа. Грегори обладает особым искусством вскрывать письма и снова запечатывать их, Фелиппс же умеет подобрать ключ к любому шифру. Оба могут пригодиться».
Грегори был членом сообщества Баллара и постоянным посетителем квартиры Мода. Таким образом, все нити заговора были в руках Кингтона довольно продолжительное время, а полиция могла действовать довольно успешно. Главную роль в этом играл Кингтон.
Французский посланник Шатонэф работал в кабинете вместе со своим секретарем Жереллем. Просматривая бумаги, он время от времени вздыхал. Наконец сказал:
— Я очень хотел бы избавиться от всей этой переписки! Роль посланника как-то не вяжется с ролью почтовой конторы для врагов королевы!
— Сожгите всю эту корреспонденцию, и вы избавитесь от всяких затруднений! — посоветовал ему секретарь.
— Вероятно, я так и сделаю. В течение месяца я решу этот вопрос, а пока припрячьте все это, — сказал посланник и удалился из кабинета.
Немного спустя вошел Кингтон и приветливо поздоровался с Жереллем.
— Вы пришли очень кстати, — сказал француз, — в течение месяца я сдам вам весь запас накопившихся для королевы писем.
Кингтон обрадовался и условился с Жереллем, что он познакомит его с Грегори и Фелиппсом.
Встретившись после этого со своим начальником Валингэмом, он предложил ему:
— Милорд, необходимо королеве Марии Стюарт в Чартлее предоставить возможность свободно переписываться, тогда в наших руках будут несомненные улики.
Валингэм с восторгом принял это предложение и дал свое согласие. Грегори и Фелиппс были подкуплены без всяких затруднений, вступили на службу к Валингэму, но вместе с тем продолжали общаться с заговорщиками, чтобы оставаться в курсе дела.
Амиас Полэт получил необходимые указания от Валингэма и принял деятельное участие в этом провокационном деле. Вся переписка королевы теперь шла через руки Валингэма и его приспешников, все ее планы и намерения были известны ему. Это и объяснило перемену в обращении и чрезвычайную любезность и предупредительность сэра Полэта по отношению к Марии Стюарт.
Но, расставляя сети Марии Стюарт и ее приверженцам, Кингтон через своих агентов установил строгое наблюдение за тем, что происходило в кабинетах Мадрида, Парижа, Рима и даже в немецких придворных сферах. Для этих целей ему понадобилось значительное число агентов, которые, кроме своих прямых обязанностей, должны были еще следить друг за другом. Джиффорд, Полей и Мод были отправлены им во Францию. Вербуя новых агентов, он обратил внимание на рослого, веселого, добродушного молодого человека по имени Тичборн. Имущественное положение парня находилось далеко не в блестящем состоянии и из-за легкомыслия ему пришлось вести в Лондоне довольно сомнительное существование.
Однажды в обществе, где присутствовал и Кингтон, Тичборн позволил себе отозваться несколько пренебрежительно о британцах и всех приверженцах короля Иакова. Кингтон принял это к сведению и надеялся использовать это таким же образом, как то ему удалось с Джиффордом.
По уходе гостей Кингтон под благовидным предлогом задержался с Тичборном.
— Если я не ошибаюсь, — сказал ему Кингтон, — вы — приверженец несчастной королевы Марии?
— Я — шотландец, — ответил Тичборн, — а потому это естественно. А вы?
— Что касается меня, то… Скажите, вы посвящены в подробности заговора?
— Заговора? — переспросил Тичбор, чрезвычайно удивленный.
— Да! Существует заговор освободить Марию Стюарт и возвести ее на английский престол.
— Боже мой! И вы — участник этого заговора!
— Да! Я предполагал, что и вы — наш единомышленник, я был неосторожен, но надеюсь, что имею дело с честным человеком, который не станет доносить на меня!
— Будьте покойны — поспешно заявил Тичборн. — Я вообще никогда не выдаю, а тем более приверженцев Марии, напротив, если вы ближе познакомите меня с этим делом, то убедитесь, что я с готовностью приму участие в нем и готов на самопожертвование.
Кингтон ответил не сразу, как будто раздумывая о чем- то. По всему было видно, что он ошибся в Тичборне, рассчитывая встретить в нем соучастника заговора. Впрочем, это была не беда, так как молодой человек выразил готовность вступить в партию заговорщиков.
— Вы мне не доверяете? — огорчился Тичборн.
— О нет, вы не ошибаетесь! — ответил сыщик. — Я только раздумывал, как бы лучше всего познакомить вас с подробностями дела, сейчас у меня слишком мало времени на это.
— Как вам будет угодно! — сказал Тичборн. — Я всегда к вашим услугам.
Надеюсь, мы скоро свидимся, — заключил Кингтон и распростился со своим собеседником.
Тичборн был впоследствии вовлечен в заговор, но Кингтон ошибся, предполагая встретить в нем послушное орудие для своих целей. Напротив, Тичборн очень скоро потерял к нему доверие и прервал с ним всякие отношения по причинам, которые остались невыясненными.
Кингтон был взбешен поведением молодого человека, но решил щадить его до последнего момента, чтобы не разоблачить своей роли перед заговорщиками, и выжидал до поры до времени. А Чидьок Тичборн вошел в число тех пяти молодых людей, которые позднее хотели взять на себя дело убийства Елизаветы.
Не менее, чем Мария, была потрясена Елизавета, когда узнала о готовившемся против нее заговоре. Королева Англии узнала о нем от Бэрлея в присутствии Валингэма и Лейстера. Был при этом докладе и Кингтон. Елизавета в первый момент как бы окаменела, но затем разразилась бурным неистовством. Она плакала, кричала, яростно металась по комнате, издавая какие-то нечленораздельные звуки. Когда ее возгласы стали несколько явственнее, можно было разобрать проклятия, относящиеся к Марии.
Присутствующие испуганно смотрели на нее. Бэрлей пытался несколько раз заговорить, но Елизавета не слушала его. Наконец ему удалось привлечь ее внимание.
— Ваше величество, — начал он, — вы не дали мне договорить. Неужели ваши верные слуги решились бы выступить перед вами с таким известием, если бы заранее не обезвредили ядовитого жала змеи?
Придя несколько в себя, Елизавета приказала Кингтону удалиться, а затем обратилась к присутствующим:
— Милорды, вы застигли меня врасплох. Поговорим теперь! Неужели, лорд Лейстер, вы ничего не знали о заговоре, грозящем моей жизни и всей стране?
По замешательству Лейстера видно было, что ему ничего не было известно.
— Ваше величество, — смущенно пробормотал он, — это, собственно, не входило в круг моих обязанностей.
Елизавета бросила на него уничтожающий взгляд, расположилась в кресле и предложила Бэрлею продолжать свой доклад. После Бэрлея давал отчет статс-секретарь Валингэм. Наконец позвали Кингтона. Выслушав его с полным вниманием, Елизавета сказала наконец:
— Так нужно схватить их всех!
— Простите, ваше величество, — заметил Валингэм, — эти люди, равно как и все доказательства их виновности, находятся в наших руках, но дело идет об установлении виновности еще одной особы, главной зачинщицы и злоумышленницы в этом деле. Быть может, было бы своевременно теперь положить конец всем этим козням, но я не мог решиться без позволения вашею величества.
Елизавета вздрогнула и взглянула на всех троих испытующим взором, из ее груди вырвался тяжелый вздох, а затем она медленно произнесла:
— Я даю вам на то мои полномочия, милорды, поступайте как находите необходимым; а теперь дайте мне возможность несколько отдохнуть. Вас, лорд Сесил, я желала бы видеть в скором времени.
Все четверо вышли из комнаты.
Какие же сети в этот раз были расставлены Кингтоном?
В туманное осеннее утро 1585 года в большой тюрьме одного из городов, где десять лет тому назад вспыхнуло крупное восстание, заметно было оживление. Причиной тому стало событие в тюремной жизни — арестанта выпускали на волю. Такое счастье выпало на долю некоего Андрея Полея, рабочего с мельницы. За участие в восстании он был приговорен к пятнадцатилетнему тюремному заключению, но, отбыв десять лет, нынче освобождался милостью королевы, простившей ему остальные пять лет.
Выйдя на свободу, первым делом Полей отправился в родное село, находившееся в десяти часах от города, чтобы повидаться с родными. Но каково было его удивление и разочарование, когда из его мельницы вышел навстречу совершенно чужой человек.
После некоторых расспросов Андрей Полей узнал, что в течение этих десяти лет многое изменилось. Мельник Полей со своим семейством покинул село и вероятнее всего уехал во Францию. Из односельчан, которые могли бы дать точные сведения, тоже никого не осталось.
Андрей грустно поник головой и, усталый, голодный, поплелся в ближайшую корчму, чтобы подкрепить свои силы. Там ему назвали человека из соседнего городка, который мог бы дать сведения относительно его родных.
Наутро Андрей Полей отправился в тот городок и нашел этого человека, священника иезуита Джильбера Джиффорда.
Джиффорд родился в графстве Стаффорд, его отец за религиозные убеждения был долгое время в заключении в Лондоне. Сам же он покинул Лондон двенадцати лет от роду, получив потом воспитание у иезуитов во Франции и приняв посвящение в реймской семинарии доктора Аллана.
Молодой Джиффорд снискал расположение своего начальства и проявлял участие к судьбе Марии Стюарт. На этом основании он выполнял роль посредника и наконец отправился в Лондон, где он вступил в сообщество Баллара и вызвался способствовать переписке Марии с Бабинггоном. Ему было известно о заговоре, он сообщался с наиболее видными участниками его, но сам, казалось, был склонен выдать партию и ждал только благоприятного случая.
Такой не замедлил представиться.
Во время своих частых разъездов Джиффорд однажды встретился в корчме с человеком, который заинтересовал его.
Оба они много путешествовали по Италии и Испании, оба оказались одних политических взглядов. Джиффорду так понравился новый знакомый, что он пригласил его к себе на другой день.
В назначенный час тот явился. После трапезы и приятных разговоров гость вдруг совершенно переменил тон и, вынув из кармана пистолет, сказал:
— Вы — иезуит. Вы — корреспондент Моргана и Пэджета в Париже, вы — участник заговора против нашей королевы. Я же — помощник начальника полиции Валингэма, меня зовут Кингтон. Теперь попытайтесь оправдаться, а я посмотрю, следует вас арестовать или нет.
Джиффорд, хотя и был озадачен таким оборотом дела, но сразу решил извлечь выгоду из этой встречи. Поэтому, спокойно улыбаясь, обратился к Кингтону:
— Мне очень приятно познакомиться с вами, я уже давно хотел сделать разоблачения, но не знал, куда обратиться, чтобы при этом не пострадать. Готов служить вам во всех отношениях.
После некоторых расспросов Кингтон и Джиффорд заключили союз. Джиффорд дал обязательство сообщать Кингтону о всех деяниях участников заговора и с этого момента стал вести двойную игру, причем его услуги Кинггону оплачивались, конечно, звонкой монетой.
Когда Полей явился к Джиффорду, тот как раз нуждался в надежном посыльном к Кингтону. Познакомившись с судьбой Андрея, он предложил ему поступить к нему на службу и отправил его в Лондон с письмом.
Полей явился в Лондон, Кингтон позаботилсяпристроить его на службу в полиции и сделать посредником в своей переписке с Джиффордом.
В письме, доставленном Кингтону Полеем, говорилось:
«Ваше мнение относительно Грегори и Фелиппса совершенно верно, но я полагаю, что их незачем арестовывать, а лучше склонить на свою сторону путем подкупа. Грегори обладает особым искусством вскрывать письма и снова запечатывать их, Фелиппс же умеет подобрать ключ к любому шифру. Оба могут пригодиться».
Грегори был членом сообщества Баллара и постоянным посетителем квартиры Мода. Таким образом, все нити заговора были в руках Кингтона довольно продолжительное время, а полиция могла действовать довольно успешно. Главную роль в этом играл Кингтон.
Французский посланник Шатонэф работал в кабинете вместе со своим секретарем Жереллем. Просматривая бумаги, он время от времени вздыхал. Наконец сказал:
— Я очень хотел бы избавиться от всей этой переписки! Роль посланника как-то не вяжется с ролью почтовой конторы для врагов королевы!
— Сожгите всю эту корреспонденцию, и вы избавитесь от всяких затруднений! — посоветовал ему секретарь.
— Вероятно, я так и сделаю. В течение месяца я решу этот вопрос, а пока припрячьте все это, — сказал посланник и удалился из кабинета.
Немного спустя вошел Кингтон и приветливо поздоровался с Жереллем.
— Вы пришли очень кстати, — сказал француз, — в течение месяца я сдам вам весь запас накопившихся для королевы писем.
Кингтон обрадовался и условился с Жереллем, что он познакомит его с Грегори и Фелиппсом.
Встретившись после этого со своим начальником Валингэмом, он предложил ему:
— Милорд, необходимо королеве Марии Стюарт в Чартлее предоставить возможность свободно переписываться, тогда в наших руках будут несомненные улики.
Валингэм с восторгом принял это предложение и дал свое согласие. Грегори и Фелиппс были подкуплены без всяких затруднений, вступили на службу к Валингэму, но вместе с тем продолжали общаться с заговорщиками, чтобы оставаться в курсе дела.
Амиас Полэт получил необходимые указания от Валингэма и принял деятельное участие в этом провокационном деле. Вся переписка королевы теперь шла через руки Валингэма и его приспешников, все ее планы и намерения были известны ему. Это и объяснило перемену в обращении и чрезвычайную любезность и предупредительность сэра Полэта по отношению к Марии Стюарт.
Но, расставляя сети Марии Стюарт и ее приверженцам, Кингтон через своих агентов установил строгое наблюдение за тем, что происходило в кабинетах Мадрида, Парижа, Рима и даже в немецких придворных сферах. Для этих целей ему понадобилось значительное число агентов, которые, кроме своих прямых обязанностей, должны были еще следить друг за другом. Джиффорд, Полей и Мод были отправлены им во Францию. Вербуя новых агентов, он обратил внимание на рослого, веселого, добродушного молодого человека по имени Тичборн. Имущественное положение парня находилось далеко не в блестящем состоянии и из-за легкомыслия ему пришлось вести в Лондоне довольно сомнительное существование.
Однажды в обществе, где присутствовал и Кингтон, Тичборн позволил себе отозваться несколько пренебрежительно о британцах и всех приверженцах короля Иакова. Кингтон принял это к сведению и надеялся использовать это таким же образом, как то ему удалось с Джиффордом.
По уходе гостей Кингтон под благовидным предлогом задержался с Тичборном.
— Если я не ошибаюсь, — сказал ему Кингтон, — вы — приверженец несчастной королевы Марии?
— Я — шотландец, — ответил Тичборн, — а потому это естественно. А вы?
— Что касается меня, то… Скажите, вы посвящены в подробности заговора?
— Заговора? — переспросил Тичбор, чрезвычайно удивленный.
— Да! Существует заговор освободить Марию Стюарт и возвести ее на английский престол.
— Боже мой! И вы — участник этого заговора!
— Да! Я предполагал, что и вы — наш единомышленник, я был неосторожен, но надеюсь, что имею дело с честным человеком, который не станет доносить на меня!
— Будьте покойны — поспешно заявил Тичборн. — Я вообще никогда не выдаю, а тем более приверженцев Марии, напротив, если вы ближе познакомите меня с этим делом, то убедитесь, что я с готовностью приму участие в нем и готов на самопожертвование.
Кингтон ответил не сразу, как будто раздумывая о чем- то. По всему было видно, что он ошибся в Тичборне, рассчитывая встретить в нем соучастника заговора. Впрочем, это была не беда, так как молодой человек выразил готовность вступить в партию заговорщиков.
— Вы мне не доверяете? — огорчился Тичборн.
— О нет, вы не ошибаетесь! — ответил сыщик. — Я только раздумывал, как бы лучше всего познакомить вас с подробностями дела, сейчас у меня слишком мало времени на это.
— Как вам будет угодно! — сказал Тичборн. — Я всегда к вашим услугам.
Надеюсь, мы скоро свидимся, — заключил Кингтон и распростился со своим собеседником.
Тичборн был впоследствии вовлечен в заговор, но Кингтон ошибся, предполагая встретить в нем послушное орудие для своих целей. Напротив, Тичборн очень скоро потерял к нему доверие и прервал с ним всякие отношения по причинам, которые остались невыясненными.
Кингтон был взбешен поведением молодого человека, но решил щадить его до последнего момента, чтобы не разоблачить своей роли перед заговорщиками, и выжидал до поры до времени. А Чидьок Тичборн вошел в число тех пяти молодых людей, которые позднее хотели взять на себя дело убийства Елизаветы.


 В своих планах Елизавета предполагала смерть Марии, но чтобы ни у кого не могло зародиться и тени подозрения относительно ее участия в этом деле. Валингэм понял желание королевы и хотел, чтобы вина за опасный заговор всецело пала на Марию Стюарт. Но ни письма Марии, ни ее планы и намерения не давали достаточного повода к смертному приговору над ней. Лишь с появлением в Лондоне Баллара и Саважа и ведением заговора под руководством Бабингтона дело приняло желательный оборот, так как теперь были все данные, что Мария одобряла намерения своих приверженцев.
Чтобы удобнее было следить за всей перепиской, Фелиппса отправили в Чартлей. Там на месте он должен был дешифровать письма Марии и, кроме того, втереться к ней в доверие, воспользовавшись тем, что она знала его с давних пор.
Но Марии помог инстинкт самосохранения — она отказалась от отношений с Фелиппсом. Или, быть может, ее оттолкнула его неприглядная внешность (Фелиппс был мал ростом, тщедушен, рыж, с лицом, изрытым оспой). Но тому оказалось достаточным ее писем к Бабингтону. Фелиппс, равно как и Полэт, позаботился о доносах, результатом чего был арест заговорщиков.
Лондон, вся Англия, можно сказать, и вся Европа были поражены разоблачением этого заговора. Следствие началось с допроса Бабингтона, Саважа и Баллара. Бабингтон держал себя на допросе с достоинством. Он сознался в своих намерениях и действиях, словом, признал свою вину. Так же держали себя Саваж, Баллар и многие другие их соучастники, подтвердив, таким образом, преступность заговора. Всем угрожал смертный приговор, вопрос был только в том, какого рода смерть должна была их постигнуть.
Перед загородным домом Бабингтона в Сэнт-Эгидиене, обычным местом сходок заговорщиков, в назначенный день были сооружены подмостки. Народу собралось несметное количество не только из Лондона, но и всех отдаленных окрестностей.
На лобном месте был еще раз прочтен смертный приговор Бабингтону, Саважу, Баллару, Тичборну, Баруэлю, Тильнаю и Абингтону. А затем всем им вспороли животы.
Зрелище было настолько отвратительное и потрясающее, что многим зевакам сделалось дурно. Тысячи людей разошлись до окончания казни. В толпе слышался громкий протест, несмотря на то, что заговорщики далеко не пользовались симпатиями народа.
Из-за такого грозного настроения толпы приговор над остальными преступниками пришлось несколько смягчать. Семеро остальных были на следующий день повешены в Лондоне на обычном лобном месте. Этим закончился первый акт заключительной драмы из жизни Марии Стюарт.
Вечером этого знаменательного дня в небольшую корчму в Грэйдоне сошлись Сэррей, Брай и Джонстон.
Время наложило свою печать на этих людей. Сэррей совершенно поседел, и его лицо было изборождено глубокими морщинами, но по его уверенным движениям было заметно, что силы еще не оставили его. Брая можно было сравнить со старым дубом, потерявшим листья и сучья, но еще могучим и способным противостоять невзгодам житейских бурь. Джонстон был моложе их и меньше перенес превратностей судьбы; по наружности он казался человеком в самом расцвете лет.
Сэррей и его спутники отправились было на север по делам заговора, но, узнав о событиях в Лондоне, возвратились обратно. Они явились слишком поздно, чтобы хоть как-то помочь делу, поэтому держались поодаль от развернувшихся роковых событий. Сэррей и Брай не решались показаться в Лондоне, поэтому Джонстон один отправился на разведку и, возвратившись, стал рассказывать, что удалось узнать. Сэррей, заложив руки за спину, крупными шагами ходил по комнате. Брай слушал, сидя за столом и подперев голову руками. Когда Джонстон окончил свой рассказ о казнях, Сэррей заметил:
— Иначе и не могло быть! Дело Марии погибло теперь окончательно.
— Безвозвратно! — согласился Брай.
— А что вы слышали о несчастной королеве? — спросил Сэррей.
— Королева находится еще в Чартлее, — ответил Джонстон, — но, говорят, ее перевезут в другое место. Куда — не знаю.
— Наверное, в Тауэр? — заметил граф.
— А оттуда — на несколько ступеней выше!… — прибавил Брай.
— Да, возможно! — продолжал Джонстон. — Говорят о процессе против нее, графа Арунделя и еще нескольких господ. Впрочем, вот список имен тех лиц, которые лишаются прав состояния и имущество которых конфискуется.
Сэррей просмотрел список и молча передал его Браю. Имена их обоих значились в этом списке. Брай тоже ничего не сказал.
— Говорили вы с леди Сэйтон? — спросил Сэррей.
— Да, милорд. Леди Джэн намерена возвратиться в Шотландию. Ее брат желает этого, и она повинуется. Леди дала понять, что люди в ее и вашем возрасте не могут ни о чем больше думать, кроме как о чисто дружеских отношениях.
— Она не написала мне ни строчки?
— Нет, милорд, она посчитала, что это может повредить как вам, так и ей.
— Она права, — сказал Сэррей с глубоким вздохом. — И эта надежда утрачена, как все надежды в моей жизни. Сэр Брай, наши жизненные задачи значительно упрощаются.
— По-видимому, так, милорд.
— Я намерен довести эту игру до конца, быть может, королеве Марии можно еще помочь чем-нибудь. Если вы желаете избрать себе иной путь, я ничего не имею против этого.
— Я остаюсь с вами! — сказал Брай.
— А вы, Джонстон?
— И я также, милорд.
— В таком случае поселимся на морском 6epery, где, в случае опасности, останется для нас свободный путь к бегству.
Все трое отправились в тот же вечер на восток графства.
Перед колесницей, на которой везли осужденных в Сэнт — Эгидиен, ехал впереди Кингтон с частью своих конных стражников. Этот бывший слуга Лейстера теперь чувствовал себя прочно и мог рассчитывать на повышение и награды.
У Кингтона несомненно имелись завистники, но все они смолкли, ослепленные его взлетом. Один только человек больше всех был раззадорен его удачами и готов был ему мстить — это Пельдрам. Но по некоторым причинам все медлил проявить свою месть по отношению к столь ненавистному ему человеку. Но теперь, когда Кингтон возглавлял парадное шествие, Пельдрам обложил городские ворота своими людьми.
Заметив Пельдрама, Кингтон иронически улыбнулся, но тем не менее очень вежливо поклонился своему бывшему товарищу. Эта насмешка была последней каплей, переполнившей терпение Пельдрама.
Волнение, вызванное в народе жестокой картиной казни, в первый день доставило много забот полиции, так что Пельдрам не мог думать ни о чем другом, кроме исполнения своих обязанностей, поэтому и на второй день он вернулся домой лишь к вечеру после затянувшихся служебных дел.
Пельдрам был холостяк, как и Кингтон, но по своим средствам жил вполне прилично и удобно, имел даже слугу, с помощью которого он разделся, поужинал и затем отпустил его. Но вскоре встал и оделся сперва в кожаную рубаху, как было принято в те времена одеваться для путешествия, а сверх нее надел верхнее платье. Потом отправился на конюшню, оседлал коня, вооружился и, покинув свое жилище, направился на восток.
На одном из первых попавшихся постоялых дворов Пельдрам оставил коня и пешком вернулся в город.
Кингтон после дней, даже недель, проведенных в беспрестанной суете, тоже решил было отдохнуть.
Но вот дверь отворилась, он оглянулся и побледнел, узнав Пельдрама, сумевшего проникнуть к нему без доклада.
— Это вы, сэр? — вот все, что он нашелся сказать в первый момент.
Пельдрам окинул взглядом всю комнату.
— Честь имею кланяться, сэр! — сказал он. — Не беспокойтесь, я пришел к вам по служебному делу.
Кингтон поднялся, несмотря на неожиданность визита, он не терял присутствия духа, ясно оценивая свое положение.
— Служебное дело? — повторил он с расстановкой, зорко следя за вошедшим. — Какое же?
Пельдрам медленным шагом направился к его постели.
— Стой! — крикнул Кингтон. — Остановитесь там! Мы можем говорить с вами и на расстоянии.
— Разве вы боитесь меня?
— Во всяком случае мы не имеем основания доверять друг другу, — ответил Кингтон, — поэтому делайте, как я вам говорю.
Пельдрам остановился, как бы наслаждаясь страхом злодея.
Кингтон был всегда отважен и не раз имел случай доказать это, но Пельдрам был тоже не из робкого десятка, к тому же разница в годах была в его пользу.
— Переходите к делу! — потребовал Кингтон. — Чем скорее мы покончим, тем лучше.
— Вы правы! — сказал Пельдрам и одним прыжком очутился близ своей жертвы, в один миг он всадил кинжал в грудь Кингтона, который упал с громким криком.
Пельдрам, не произнеся ни слова, вытащил кинжал из груди своего противника, очистил его от крови, набросил одеяло на скончавшегося преступника и вышел из комнаты.
Он вернулся к тому месту, где оставил своего коня, вскочил на него и направился из Лондона к северу.
В тот вечер многие высокопоставленные лица получили письма, доставленные загадочным образом. Одним из первых получил такое письмо первый лорд «Звездной палаты». В нем говорилось следующее:
В своих планах Елизавета предполагала смерть Марии, но чтобы ни у кого не могло зародиться и тени подозрения относительно ее участия в этом деле. Валингэм понял желание королевы и хотел, чтобы вина за опасный заговор всецело пала на Марию Стюарт. Но ни письма Марии, ни ее планы и намерения не давали достаточного повода к смертному приговору над ней. Лишь с появлением в Лондоне Баллара и Саважа и ведением заговора под руководством Бабингтона дело приняло желательный оборот, так как теперь были все данные, что Мария одобряла намерения своих приверженцев.
Чтобы удобнее было следить за всей перепиской, Фелиппса отправили в Чартлей. Там на месте он должен был дешифровать письма Марии и, кроме того, втереться к ней в доверие, воспользовавшись тем, что она знала его с давних пор.
Но Марии помог инстинкт самосохранения — она отказалась от отношений с Фелиппсом. Или, быть может, ее оттолкнула его неприглядная внешность (Фелиппс был мал ростом, тщедушен, рыж, с лицом, изрытым оспой). Но тому оказалось достаточным ее писем к Бабингтону. Фелиппс, равно как и Полэт, позаботился о доносах, результатом чего был арест заговорщиков.
Лондон, вся Англия, можно сказать, и вся Европа были поражены разоблачением этого заговора. Следствие началось с допроса Бабингтона, Саважа и Баллара. Бабингтон держал себя на допросе с достоинством. Он сознался в своих намерениях и действиях, словом, признал свою вину. Так же держали себя Саваж, Баллар и многие другие их соучастники, подтвердив, таким образом, преступность заговора. Всем угрожал смертный приговор, вопрос был только в том, какого рода смерть должна была их постигнуть.
Перед загородным домом Бабингтона в Сэнт-Эгидиене, обычным местом сходок заговорщиков, в назначенный день были сооружены подмостки. Народу собралось несметное количество не только из Лондона, но и всех отдаленных окрестностей.
На лобном месте был еще раз прочтен смертный приговор Бабингтону, Саважу, Баллару, Тичборну, Баруэлю, Тильнаю и Абингтону. А затем всем им вспороли животы.
Зрелище было настолько отвратительное и потрясающее, что многим зевакам сделалось дурно. Тысячи людей разошлись до окончания казни. В толпе слышался громкий протест, несмотря на то, что заговорщики далеко не пользовались симпатиями народа.
Из-за такого грозного настроения толпы приговор над остальными преступниками пришлось несколько смягчать. Семеро остальных были на следующий день повешены в Лондоне на обычном лобном месте. Этим закончился первый акт заключительной драмы из жизни Марии Стюарт.
Вечером этого знаменательного дня в небольшую корчму в Грэйдоне сошлись Сэррей, Брай и Джонстон.
Время наложило свою печать на этих людей. Сэррей совершенно поседел, и его лицо было изборождено глубокими морщинами, но по его уверенным движениям было заметно, что силы еще не оставили его. Брая можно было сравнить со старым дубом, потерявшим листья и сучья, но еще могучим и способным противостоять невзгодам житейских бурь. Джонстон был моложе их и меньше перенес превратностей судьбы; по наружности он казался человеком в самом расцвете лет.
Сэррей и его спутники отправились было на север по делам заговора, но, узнав о событиях в Лондоне, возвратились обратно. Они явились слишком поздно, чтобы хоть как-то помочь делу, поэтому держались поодаль от развернувшихся роковых событий. Сэррей и Брай не решались показаться в Лондоне, поэтому Джонстон один отправился на разведку и, возвратившись, стал рассказывать, что удалось узнать. Сэррей, заложив руки за спину, крупными шагами ходил по комнате. Брай слушал, сидя за столом и подперев голову руками. Когда Джонстон окончил свой рассказ о казнях, Сэррей заметил:
— Иначе и не могло быть! Дело Марии погибло теперь окончательно.
— Безвозвратно! — согласился Брай.
— А что вы слышали о несчастной королеве? — спросил Сэррей.
— Королева находится еще в Чартлее, — ответил Джонстон, — но, говорят, ее перевезут в другое место. Куда — не знаю.
— Наверное, в Тауэр? — заметил граф.
— А оттуда — на несколько ступеней выше!… — прибавил Брай.
— Да, возможно! — продолжал Джонстон. — Говорят о процессе против нее, графа Арунделя и еще нескольких господ. Впрочем, вот список имен тех лиц, которые лишаются прав состояния и имущество которых конфискуется.
Сэррей просмотрел список и молча передал его Браю. Имена их обоих значились в этом списке. Брай тоже ничего не сказал.
— Говорили вы с леди Сэйтон? — спросил Сэррей.
— Да, милорд. Леди Джэн намерена возвратиться в Шотландию. Ее брат желает этого, и она повинуется. Леди дала понять, что люди в ее и вашем возрасте не могут ни о чем больше думать, кроме как о чисто дружеских отношениях.
— Она не написала мне ни строчки?
— Нет, милорд, она посчитала, что это может повредить как вам, так и ей.
— Она права, — сказал Сэррей с глубоким вздохом. — И эта надежда утрачена, как все надежды в моей жизни. Сэр Брай, наши жизненные задачи значительно упрощаются.
— По-видимому, так, милорд.
— Я намерен довести эту игру до конца, быть может, королеве Марии можно еще помочь чем-нибудь. Если вы желаете избрать себе иной путь, я ничего не имею против этого.
— Я остаюсь с вами! — сказал Брай.
— А вы, Джонстон?
— И я также, милорд.
— В таком случае поселимся на морском 6epery, где, в случае опасности, останется для нас свободный путь к бегству.
Все трое отправились в тот же вечер на восток графства.
Перед колесницей, на которой везли осужденных в Сэнт — Эгидиен, ехал впереди Кингтон с частью своих конных стражников. Этот бывший слуга Лейстера теперь чувствовал себя прочно и мог рассчитывать на повышение и награды.
У Кингтона несомненно имелись завистники, но все они смолкли, ослепленные его взлетом. Один только человек больше всех был раззадорен его удачами и готов был ему мстить — это Пельдрам. Но по некоторым причинам все медлил проявить свою месть по отношению к столь ненавистному ему человеку. Но теперь, когда Кингтон возглавлял парадное шествие, Пельдрам обложил городские ворота своими людьми.
Заметив Пельдрама, Кингтон иронически улыбнулся, но тем не менее очень вежливо поклонился своему бывшему товарищу. Эта насмешка была последней каплей, переполнившей терпение Пельдрама.
Волнение, вызванное в народе жестокой картиной казни, в первый день доставило много забот полиции, так что Пельдрам не мог думать ни о чем другом, кроме исполнения своих обязанностей, поэтому и на второй день он вернулся домой лишь к вечеру после затянувшихся служебных дел.
Пельдрам был холостяк, как и Кингтон, но по своим средствам жил вполне прилично и удобно, имел даже слугу, с помощью которого он разделся, поужинал и затем отпустил его. Но вскоре встал и оделся сперва в кожаную рубаху, как было принято в те времена одеваться для путешествия, а сверх нее надел верхнее платье. Потом отправился на конюшню, оседлал коня, вооружился и, покинув свое жилище, направился на восток.
На одном из первых попавшихся постоялых дворов Пельдрам оставил коня и пешком вернулся в город.
Кингтон после дней, даже недель, проведенных в беспрестанной суете, тоже решил было отдохнуть.
Но вот дверь отворилась, он оглянулся и побледнел, узнав Пельдрама, сумевшего проникнуть к нему без доклада.
— Это вы, сэр? — вот все, что он нашелся сказать в первый момент.
Пельдрам окинул взглядом всю комнату.
— Честь имею кланяться, сэр! — сказал он. — Не беспокойтесь, я пришел к вам по служебному делу.
Кингтон поднялся, несмотря на неожиданность визита, он не терял присутствия духа, ясно оценивая свое положение.
— Служебное дело? — повторил он с расстановкой, зорко следя за вошедшим. — Какое же?
Пельдрам медленным шагом направился к его постели.
— Стой! — крикнул Кингтон. — Остановитесь там! Мы можем говорить с вами и на расстоянии.
— Разве вы боитесь меня?
— Во всяком случае мы не имеем основания доверять друг другу, — ответил Кингтон, — поэтому делайте, как я вам говорю.
Пельдрам остановился, как бы наслаждаясь страхом злодея.
Кингтон был всегда отважен и не раз имел случай доказать это, но Пельдрам был тоже не из робкого десятка, к тому же разница в годах была в его пользу.
— Переходите к делу! — потребовал Кингтон. — Чем скорее мы покончим, тем лучше.
— Вы правы! — сказал Пельдрам и одним прыжком очутился близ своей жертвы, в один миг он всадил кинжал в грудь Кингтона, который упал с громким криком.
Пельдрам, не произнеся ни слова, вытащил кинжал из груди своего противника, очистил его от крови, набросил одеяло на скончавшегося преступника и вышел из комнаты.
Он вернулся к тому месту, где оставил своего коня, вскочил на него и направился из Лондона к северу.
В тот вечер многие высокопоставленные лица получили письма, доставленные загадочным образом. Одним из первых получил такое письмо первый лорд «Звездной палаты». В нем говорилось следующее:


 Бэрлей и Валингэм добились теперь своей цели. У них в руках были ясные доказательства того, что Мария Стюарт не только интриговала против государственной безопасности Англии, но и принимала участие в заговоре на жизнь королевы Елизаветы. Эти доказательства заключались в показаниях некоторых арестованных, в показаниях, которые ожидались от других арестованных, в показаниях предателей и в переписке, которая была сразу раскрыта, так что удалось снять точные копии всех писем, которыми обменивалась Мария Стюарт с заговорщиками.
Теперь Елизавета имела случай избавиться уже на законном основании от своей соперницы и навсегда обезвредить ее.
Но всех этих улик, добытых Валингэмом при раскрытии заговора, было ему недостаточно. Он хотел иметь в руках более бесспорные улики. С этой целью он с самого начала изолировал двух человек, близко стоявших к Марии, от процесса, направленного против Бабингтона и его соучастников; эти лица должны были стать главными свидетелями обвинения, направленного против Марии Стюарт. Это были оба секретаря Марии, Кэрлей и Ноэ, которых задержали и арестовали на пути из Чартлея в Тиксаль.
Во время процесса над другими заговорщиками Валингэм приказал доставить обоих секретарей к себе на дом и там держать под строжайшим арестом. Из этого видно, какую важность придавал он этим лицам.
Только тогда, когда процесс Бабингтона был закончен и приговор суда приведен в исполнение, Валингэм снова занялся судьбой арестованных. Однажды он явился к своему шурину Бэрлею обсудить с ним дальнейшую возможность их использования в деле.
— Самым простым было бы судить и казнить их вместе со всеми другими заговорщиками, — сказал первый министр Елизаветы.
— Нет, милорд, — ответил Валингэм, — я много думал об этом. Этих секретарей нельзя назвать заговорщиками, так как в их обязанность совсем не входило доносить о том, что делала их повелительница, они были подчинены только ей и исполняли данное им приказание. Поэтому, если бы они фигурировали на процессе, ныне окончившемся, то их, наверное, оправдали бы. Мы должны использовать их другим образом.
— А именно?
— Об этом-то я и хочу поговорить с вами, — ответил Валингэм. — Для нас совершенно безразлично, умрут эти люди или останутся в живых, ведь они были безвольным орудием в чужих руках. Но мы могли бы их так запугать, что получили бы от них показания, направленные против бывшей шотландской королевы.
— В этом есть свой резон, — задумчиво сказал Бэрлей.
— Так вы все еще стараетесь вести намеченную вами линию?
— Пока я не вижу оснований отступать от нее, — ответил Валингэм, — пожалуй, больше и не представится такой счастливой возможности стряхнуть кошмар, угнетающий столько времени Англию. Когда у меня в руках будут показания Кэрлея и Ноэ, я представлю на обсуждение государственного совета предложение учинить формальный процесс против настоящей виновницы всех этих злодеяний.
— Да, да! — оживленно воскликнул Бэрлей. — Это действительно — самый верный путь.
Валингэм с благодарной улыбкой поклонился ему и вышел.
Вернувшись домой, он послал за Пельдрамом.
Лорд-президент «Звездной палаты», Бэрлей и Лейстер приняли Пельдрама после его возвращения в Лондон достаточно прохладно, но он все-таки убедился, что они не питают к нему дурных чувств. Бэрлей даже добился для него полного прощения королевы. Между прочим, Елизавета помянула убитого Кингтона — человека, который сделал так много для ее безопасности, лишь одной фразой:
— Жаль! Это был полезный человек.
Только один Валингэм не захотел встретиться с Пельдрамом, а просто выслал ему с лакеем патент на новую должность.
Такое отношение насторожило шотландца. И теперь, когда ему передали приказание государственного секретаря немедленно явиться, Пельдрам не мог отделаться от чувства некоторого беспокойства. Тем не менее он поспешил одеться и отправиться по вызову, сознавая, что от этого свидания, быть может, зависит вся его будущность.
Когда он вошел в кабинет Валингэма, тот с ног до головы окинул его пытливым взглядом. Поклонившись, Пельдрам ждал, пока с ним заговорят.
— Знаете ли вы, — начал государственный секретарь, — кто и что вы в сущности такое?
— Кажется, знаю, — ответил Пельдрам. — Я — орудие в ваших руках, вещь, которой пользуются, пока она нужна, и которую выбросят вон, когда в ней отпадет необходимость.
— Подобный ответ избавляет вас от нагоняя, — улыбаясь, ответил Валингэм. — Вы, очевидно, нашли, что из Кингтона я уже извлек всю возможную пользу?
— Да, милорд.
— И думаете, что можете заменить мне его?
— Вполне, милорд!
— Вы слишком много берете на себя. Кингтон отличался умом, храбростью и знанием обстоятельств момента.
— Я, разумеется, не могу знать многое так, как знал он, но я тоже храбр и неглуп. Кроме того, я — верный слуга, что никак нельзя сказать про Кингтона.
— В этом отношении я не могу пожаловаться на него.
— Возможно, ведь его подлость хорошо оплачивалась на вашей службе!
Валингэм закусил губы и отвернулся от Пельдрама.
— Может быть, и так, — произнес он после паузы. — Ну-с, посмотрим, как вы замените его. Правда, я не рассчитываю, что нам в ближайшем будущем снова предстоят такие истории, как в последнее время, но необходимо позаботиться о том, чтобы они не могли повториться. Не знакомы ли вы с секретарями Марии Стюарт?
— Я знаю их только по именам, не более.
— Ну да это неважно. Вы должны втереться к ним в доверие и постараться напугать их возможностью следствия и суда.
— Слушаю-с, милорд.
— При этом вы должны вселить в них надежду, что имеется возможность вылезть сухими из воды.
— А какова эта возможность?
— Если они дадут показания против их прежней госпожи.
— Я настрою их как следует!
— В настоящий момент они находятся здесь, во дворце; вы отправите их в Тауэр, это поможет вам поближе сойтись с ними, так как в Тауэре они останутся под вашим специальным надзором.
— Великолепно, милорд!
Валингэм отпустил Пельдрама, и тот немедленно принялся за исполнение возложенного на него поручения. Было ли оно ему по душе — неизвестно, но к Марии Стюарт он никогда не чувствовал особенной симпатии, поэтому ему не приходилось употреблять насилие над собой, чтобы выполнить все, что от него требовалось.
Кэрлей и Ноэ были допрошены сейчас же после ареста, но не признали справедливости возведенного на них обвинения, а относительно того, что касалось Марии Стюарт, отговорились полнейшим неведением.
Их беспокойство отчасти улеглось, когда из Тауэра их переправили в дом Валингэма, но вскоре перед ними явились новые заботы, Будучи изолированы от всех, не имея ни малейшего представления о том, что делалось в то время на свете, они терзались неизвестностью, которая была для них тем тяжелее, что совесть их была нечиста. Их арест не отличался особенной строгостью, и условия жизни были неплохи. Но лакеи Валингэма отличались полнейшей непроницаемостью, и арестованным не удавалось выпытать у них ни единого слова. Тем не менее оба подозревали, что происходит что-то очень важное, в чем им уготована определенная роль.
В таком состоянии духа секретарей и застал Пельдрам, когда вошел к ним и резким тоном заявил, что их снова переводят в Тауэр, а на приготовления дают два часа. После этого заявления он ушел, чтобы позаботиться о конной страже, которая должна была конвоировать арестантов, а испуганные секретари Марии приготовились к самому худшему.
Когда Пельдрам явился снова, он застал их в страшно угнетенном состоянии духа и решил притвориться, будто тронут их судьбой.
— Только носов не вешать, друзья! — сказал он. — Если бы с вами хотели поступить, как с остальными заговорщиками, ваша песенка уже давно была бы спета!
— Чья песенка? — испуганно спросил Кэрлей.
— Черт возьми! Да вы ничего не знаете? — удивился Пельдрам.
— Мы изолированы от всего света, — ответил Ноэ. — Пожалуйста, расскажите, что произошло!
— Да, если дело обстоит так, то я сам ничего не знаю, — ответил Пельдрам.
— О, пожалуйста, расскажите! — взмолился Ноэ. — Вы не можете представить, как мучит нас эта неизвестность!
— Ну что же, в конце концов это ничему повредить не может! — согласился Пельдрам. — Так слушайте: все сообщество заговорщиков казнено, за исключением вас и тех, которые успели сбежать.
— Ну а королева? — вырвалось у Кэрлея.
Ноэ бросил на товарища укоризненный взгляд.
Пельдрам насторожился.
— О вашей королеве я не буду говорить, — ответил он.
— Могу лишь добавить, что с вами собираются поступить так же, как с ними. Выяснилось, что вы… Впрочем, это меня не касается.
— Что вас не касается?
— Выяснилось, что вы принимали близкое участие в замыслах Марии Стюарт; таким образом, вам не избежать наказания, если только вы что-либо умолчите в своих показаниях.
— Да мы ничего не знаем о делах королевы! — поспешил возразить Ноэ.
— Королева не замышляла ничего дурного! — прибавил Кэрлей.
— Меня это, господа, нисколько не касается, — с притворным равнодушием махнул рукой Пельдрам. — Ну, вы готовы?
— Мы к вашим услугам.
Оба секретаря последовали за Пельдрамом и под сильным конвоем были отправлены в Тауэр, где их приняли в свои объятия мрачные подземелья, на страже которых стояли сумрачные тюремщики.
Как могло казаться на первый взгляд, Пельдрам принялся за выполнение возложенного на него поручения довольно-таки неуклюжим образом, но на самом деле это был совершенно правильный путь, и разлученные между собой арестанты на все лады день и ночь повторяли про себя его слова. Каждому из них становилось совершенно ясно, что более всего может выиграть тот, кто первый принесет повинную.
Пельдрам неоднократно посещал их в камерах, не упуская случая внушать им каждый раз то же самое. Хотя никто из них не сделал признаний, но по истечении некоторого времени Пельдрам почувствовал, что почва достаточно подготовлена, и доложил об этом Валингэму.
Государственный секретарь только и ждал этого.
Чтобы выслушать показания обоих секретарей, была назначена целая комиссия под председательством его самого, разумеется, остальные члены этой комиссии сидели там только для вида.
В день допроса перед комиссией привели сначала одного Ноэ, и Валингэм обратился к нему необыкновенно ласково.
— Сэр, — сказал он, обращаясь к Ноэ, — ваша повелительница очень глубоко провинилась перед законом, и весьма возможно, что все ее соучастники вместе с ней должны будут предстать перед судом. Но соучастниками могли быть только лица, которые вели ее корреспонденцию, то есть секретари — вы и Кэрлей!
— Милорд, — после некоторого раздумья ответил допрашиваемый, — мне неизвестно никакой вины за королевой Марией, а тем менее могу быть виновным в чем-либо я сам.
— Вы хотите, может быть, сказать этим, что Мария Стюарт сама вела всю корреспонденцию?
— Да, она сама вела всю свою корреспонденцию, но то, что я видел, — была самая невинная переписка. Впрочем, отправкой корреспонденции заведовал не я, а Кэрлей.
Валингэм приказал увести Ноэ и привести Кэрлея.
Первые ответы Кэрлея были в общих чертах похожи на ответы Ноэ, но, когда ему предъявили показания Ноэ, что отправкой корреспонденции заведовал он, Кэрлей испугался и показал, что Мария Стюарт диктовала Ноэ все письма, и Ноэ потом исправлял ошибки и правил слог. Вновь вызванному Ноэ был предъявлен этот оговор, и он был принужден признаться, что это так и было. Но он добавил, что Кэрлей шифровал все письма и заботился о доставлении их по адресатам. Кэрлею пришлось признаться в этом, и, когда их обоих уличили в отрицании или, по крайней мере, в сокрытии важных показаний, им стали грозить пыткой. Напуганный этим, Ноэ признался, что письмо к Бабингтону, перехваченное властями и касавшееся планов бегства и деталей заговора, Мария Стюарт написала совершенно самостоятельно. Кэрлей должен был сознаться, что и это письмо он тоже шифровал. В конце концов оба секретаря сдались под угрозами и показали, что Мария Стюарт была отлично осведомлена о ходе заговора и замыслах заговорщиков.
На этом допрос был закончен. Теперь власти имели в руках все доказательства участия Марии Стюарт в заговоре.
Валингэм спешно принялся за доклад государственному совету, в этом докладе он объединил все показания и улики, что должно было послужить фундаментом для обвинения Марии Стюарт.
Между прочим, когда заговор был открыт, симпатии народных масс оказались на стороне Елизаветы, что доказывало, насколько в воображении заговорщиков были преувеличены любовь и сочувствие населения к Марии Стюарт. Очень часто на площадях и на народных собраниях раздавались голоса, проклинавшие Марию и ругавшие ее бранными словами, порочащими ее репутацию и честь. Но в то же время и жестокость расправы Елизаветы с заговорщиками вызывала порицания толпы.
Валингэм, разумеется, часто и подолгу совещался с Бэрлеем о ходе следствия против Марии, представил ему полный доклад, и, когда наконец увидал, что может предъявить шотландской королеве веское обвинение, то заставил шурина пойти на решительный шаг.
Но для этого прежде всего надо было получить согласие Елизаветы. Из всего образа действий английской королевы довольно ярко проступает ее характер; при все своей энергии она прежде всего оставалась женщиной, боящейся последнего, решительного шага. Поэтому каждый раз, когда Бэрлей заговаривал с ней о судьбе Марии Стюарт, Елизавета впадала в нерешительность и не могла побороть свои колебания. В конце концов это так надоело Бэрлею, что он заявил Валингэму о необходимости прекратить все это дело.
— Милорд, — ответил Валингэм, — я понимаю вас. Но будьте так добры, возьмите меня как-нибудь с собой, когда вы отправитесь на совещание с королевой.
Так и было сделано. И Валингэм напомнил королеве обо всем, что замышляли заговорщики. Он указал, что в стране не может наступить успокоение, пока существует причина волнений — Мария Стюарт. Сослался на то, что короли могут прощать личные обиды, но не имеют права подвергать страну вечной опасности, а до тех пор, пока не будет покончено с Марией Стюарт, Англии будет грозить постоянная опасность и извне, и изнутри.
Елизавета была бы очень рада, если бы ее уговорили, но она именно не хотела, чтобы все дело получило окраску личной мести с ее стороны.
Но Валингэм был наготове и тут.
— Ваше величество, — ответил он — народ требует от вас справедливости. Пусть сам народ, в лице своих представителей — первых пэров государства, решит судьбу виновницы вечных беспорядков. Пусть специально вами назначенная комиссия выслушает мой доклад и вынесет свое решение.
— Допустим, что это так и будет, — сказала королева, — но ведь короли и государи всей земли ревностно отнесутся к приговору коронованной особе, и все они станут моими врагами, если этот приговор будет чересчур суров.
— Быть может, вы, ваше величество, соблаговолите ответить мне, — возразил Валингэм, — какой, собственно, страны государыней является Мария Стюарт?
Елизавета замялась.
— Выгнанная собственными подданными и преследуемая за преступления, — продолжал государственный секретарь, — она в течение девятнадцати лет только и занимается тем, что сеет раздоры и мятеж в стране, которая приняла ее, дала ей кров и защиту. Мария Стюарт уже давно извергнута из сонма коронованных лиц.
Елизавета не могла не согласиться с этим, так как отлично видела всю свою выгоду в такой постановке вопроса. Но она была умна и изворотлива. Поэтому не взяла на себя ответственность выносить приговор Марии Стюарт, а, как советовал Валингэм, передала дело решению совета пэров государства.
Как только была сделана такая уступка королевы, сейчас же был созван Тайный совет, которому и предъявили все улики и доказательства виновности Марии Стюарт. Пэры, принимавшие участие в этом совещании, высказывались за то, чтобы Мария была подвергнута еще более строгому заключению, чем до сих пор, большинство высказалось за смертный приговор, а Лейстер, как говорят, даже сделал предложение просто отравить ее. Но Валингэм, заранее уверенный в исходе затеваемого дела, все-таки настаивал, чтобы всему делу был придан вид официального судебного процесса, и это предложение было принято.
В конце концов совет пэров выделил из своего состава сорок шесть человек для участия в судебном заседании, которое должно было выяснить виновность Марии Стюарт. Председательство в этом суде совет предоставил канцлеру Бромлею, о чем был издан 5 октября 1586 года особый указ, привлекший к суду Марию Стюарт, С юридической стороны совет основывался на особом законе, изданном при Эдуарде III и касавшемся государственных предателей, бунтовщиков и зачинщиков смут.
Членам суда было предписано немедленно отправиться в Фосрингай, присутствовать там в судебных прениях и потом вынести приговор, И вскоре мир стал свидетелем такой драмы, подобной которой еще никогда не было.
Бэрлей и Валингэм добились теперь своей цели. У них в руках были ясные доказательства того, что Мария Стюарт не только интриговала против государственной безопасности Англии, но и принимала участие в заговоре на жизнь королевы Елизаветы. Эти доказательства заключались в показаниях некоторых арестованных, в показаниях, которые ожидались от других арестованных, в показаниях предателей и в переписке, которая была сразу раскрыта, так что удалось снять точные копии всех писем, которыми обменивалась Мария Стюарт с заговорщиками.
Теперь Елизавета имела случай избавиться уже на законном основании от своей соперницы и навсегда обезвредить ее.
Но всех этих улик, добытых Валингэмом при раскрытии заговора, было ему недостаточно. Он хотел иметь в руках более бесспорные улики. С этой целью он с самого начала изолировал двух человек, близко стоявших к Марии, от процесса, направленного против Бабингтона и его соучастников; эти лица должны были стать главными свидетелями обвинения, направленного против Марии Стюарт. Это были оба секретаря Марии, Кэрлей и Ноэ, которых задержали и арестовали на пути из Чартлея в Тиксаль.
Во время процесса над другими заговорщиками Валингэм приказал доставить обоих секретарей к себе на дом и там держать под строжайшим арестом. Из этого видно, какую важность придавал он этим лицам.
Только тогда, когда процесс Бабингтона был закончен и приговор суда приведен в исполнение, Валингэм снова занялся судьбой арестованных. Однажды он явился к своему шурину Бэрлею обсудить с ним дальнейшую возможность их использования в деле.
— Самым простым было бы судить и казнить их вместе со всеми другими заговорщиками, — сказал первый министр Елизаветы.
— Нет, милорд, — ответил Валингэм, — я много думал об этом. Этих секретарей нельзя назвать заговорщиками, так как в их обязанность совсем не входило доносить о том, что делала их повелительница, они были подчинены только ей и исполняли данное им приказание. Поэтому, если бы они фигурировали на процессе, ныне окончившемся, то их, наверное, оправдали бы. Мы должны использовать их другим образом.
— А именно?
— Об этом-то я и хочу поговорить с вами, — ответил Валингэм. — Для нас совершенно безразлично, умрут эти люди или останутся в живых, ведь они были безвольным орудием в чужих руках. Но мы могли бы их так запугать, что получили бы от них показания, направленные против бывшей шотландской королевы.
— В этом есть свой резон, — задумчиво сказал Бэрлей.
— Так вы все еще стараетесь вести намеченную вами линию?
— Пока я не вижу оснований отступать от нее, — ответил Валингэм, — пожалуй, больше и не представится такой счастливой возможности стряхнуть кошмар, угнетающий столько времени Англию. Когда у меня в руках будут показания Кэрлея и Ноэ, я представлю на обсуждение государственного совета предложение учинить формальный процесс против настоящей виновницы всех этих злодеяний.
— Да, да! — оживленно воскликнул Бэрлей. — Это действительно — самый верный путь.
Валингэм с благодарной улыбкой поклонился ему и вышел.
Вернувшись домой, он послал за Пельдрамом.
Лорд-президент «Звездной палаты», Бэрлей и Лейстер приняли Пельдрама после его возвращения в Лондон достаточно прохладно, но он все-таки убедился, что они не питают к нему дурных чувств. Бэрлей даже добился для него полного прощения королевы. Между прочим, Елизавета помянула убитого Кингтона — человека, который сделал так много для ее безопасности, лишь одной фразой:
— Жаль! Это был полезный человек.
Только один Валингэм не захотел встретиться с Пельдрамом, а просто выслал ему с лакеем патент на новую должность.
Такое отношение насторожило шотландца. И теперь, когда ему передали приказание государственного секретаря немедленно явиться, Пельдрам не мог отделаться от чувства некоторого беспокойства. Тем не менее он поспешил одеться и отправиться по вызову, сознавая, что от этого свидания, быть может, зависит вся его будущность.
Когда он вошел в кабинет Валингэма, тот с ног до головы окинул его пытливым взглядом. Поклонившись, Пельдрам ждал, пока с ним заговорят.
— Знаете ли вы, — начал государственный секретарь, — кто и что вы в сущности такое?
— Кажется, знаю, — ответил Пельдрам. — Я — орудие в ваших руках, вещь, которой пользуются, пока она нужна, и которую выбросят вон, когда в ней отпадет необходимость.
— Подобный ответ избавляет вас от нагоняя, — улыбаясь, ответил Валингэм. — Вы, очевидно, нашли, что из Кингтона я уже извлек всю возможную пользу?
— Да, милорд.
— И думаете, что можете заменить мне его?
— Вполне, милорд!
— Вы слишком много берете на себя. Кингтон отличался умом, храбростью и знанием обстоятельств момента.
— Я, разумеется, не могу знать многое так, как знал он, но я тоже храбр и неглуп. Кроме того, я — верный слуга, что никак нельзя сказать про Кингтона.
— В этом отношении я не могу пожаловаться на него.
— Возможно, ведь его подлость хорошо оплачивалась на вашей службе!
Валингэм закусил губы и отвернулся от Пельдрама.
— Может быть, и так, — произнес он после паузы. — Ну-с, посмотрим, как вы замените его. Правда, я не рассчитываю, что нам в ближайшем будущем снова предстоят такие истории, как в последнее время, но необходимо позаботиться о том, чтобы они не могли повториться. Не знакомы ли вы с секретарями Марии Стюарт?
— Я знаю их только по именам, не более.
— Ну да это неважно. Вы должны втереться к ним в доверие и постараться напугать их возможностью следствия и суда.
— Слушаю-с, милорд.
— При этом вы должны вселить в них надежду, что имеется возможность вылезть сухими из воды.
— А какова эта возможность?
— Если они дадут показания против их прежней госпожи.
— Я настрою их как следует!
— В настоящий момент они находятся здесь, во дворце; вы отправите их в Тауэр, это поможет вам поближе сойтись с ними, так как в Тауэре они останутся под вашим специальным надзором.
— Великолепно, милорд!
Валингэм отпустил Пельдрама, и тот немедленно принялся за исполнение возложенного на него поручения. Было ли оно ему по душе — неизвестно, но к Марии Стюарт он никогда не чувствовал особенной симпатии, поэтому ему не приходилось употреблять насилие над собой, чтобы выполнить все, что от него требовалось.
Кэрлей и Ноэ были допрошены сейчас же после ареста, но не признали справедливости возведенного на них обвинения, а относительно того, что касалось Марии Стюарт, отговорились полнейшим неведением.
Их беспокойство отчасти улеглось, когда из Тауэра их переправили в дом Валингэма, но вскоре перед ними явились новые заботы, Будучи изолированы от всех, не имея ни малейшего представления о том, что делалось в то время на свете, они терзались неизвестностью, которая была для них тем тяжелее, что совесть их была нечиста. Их арест не отличался особенной строгостью, и условия жизни были неплохи. Но лакеи Валингэма отличались полнейшей непроницаемостью, и арестованным не удавалось выпытать у них ни единого слова. Тем не менее оба подозревали, что происходит что-то очень важное, в чем им уготована определенная роль.
В таком состоянии духа секретарей и застал Пельдрам, когда вошел к ним и резким тоном заявил, что их снова переводят в Тауэр, а на приготовления дают два часа. После этого заявления он ушел, чтобы позаботиться о конной страже, которая должна была конвоировать арестантов, а испуганные секретари Марии приготовились к самому худшему.
Когда Пельдрам явился снова, он застал их в страшно угнетенном состоянии духа и решил притвориться, будто тронут их судьбой.
— Только носов не вешать, друзья! — сказал он. — Если бы с вами хотели поступить, как с остальными заговорщиками, ваша песенка уже давно была бы спета!
— Чья песенка? — испуганно спросил Кэрлей.
— Черт возьми! Да вы ничего не знаете? — удивился Пельдрам.
— Мы изолированы от всего света, — ответил Ноэ. — Пожалуйста, расскажите, что произошло!
— Да, если дело обстоит так, то я сам ничего не знаю, — ответил Пельдрам.
— О, пожалуйста, расскажите! — взмолился Ноэ. — Вы не можете представить, как мучит нас эта неизвестность!
— Ну что же, в конце концов это ничему повредить не может! — согласился Пельдрам. — Так слушайте: все сообщество заговорщиков казнено, за исключением вас и тех, которые успели сбежать.
— Ну а королева? — вырвалось у Кэрлея.
Ноэ бросил на товарища укоризненный взгляд.
Пельдрам насторожился.
— О вашей королеве я не буду говорить, — ответил он.
— Могу лишь добавить, что с вами собираются поступить так же, как с ними. Выяснилось, что вы… Впрочем, это меня не касается.
— Что вас не касается?
— Выяснилось, что вы принимали близкое участие в замыслах Марии Стюарт; таким образом, вам не избежать наказания, если только вы что-либо умолчите в своих показаниях.
— Да мы ничего не знаем о делах королевы! — поспешил возразить Ноэ.
— Королева не замышляла ничего дурного! — прибавил Кэрлей.
— Меня это, господа, нисколько не касается, — с притворным равнодушием махнул рукой Пельдрам. — Ну, вы готовы?
— Мы к вашим услугам.
Оба секретаря последовали за Пельдрамом и под сильным конвоем были отправлены в Тауэр, где их приняли в свои объятия мрачные подземелья, на страже которых стояли сумрачные тюремщики.
Как могло казаться на первый взгляд, Пельдрам принялся за выполнение возложенного на него поручения довольно-таки неуклюжим образом, но на самом деле это был совершенно правильный путь, и разлученные между собой арестанты на все лады день и ночь повторяли про себя его слова. Каждому из них становилось совершенно ясно, что более всего может выиграть тот, кто первый принесет повинную.
Пельдрам неоднократно посещал их в камерах, не упуская случая внушать им каждый раз то же самое. Хотя никто из них не сделал признаний, но по истечении некоторого времени Пельдрам почувствовал, что почва достаточно подготовлена, и доложил об этом Валингэму.
Государственный секретарь только и ждал этого.
Чтобы выслушать показания обоих секретарей, была назначена целая комиссия под председательством его самого, разумеется, остальные члены этой комиссии сидели там только для вида.
В день допроса перед комиссией привели сначала одного Ноэ, и Валингэм обратился к нему необыкновенно ласково.
— Сэр, — сказал он, обращаясь к Ноэ, — ваша повелительница очень глубоко провинилась перед законом, и весьма возможно, что все ее соучастники вместе с ней должны будут предстать перед судом. Но соучастниками могли быть только лица, которые вели ее корреспонденцию, то есть секретари — вы и Кэрлей!
— Милорд, — после некоторого раздумья ответил допрашиваемый, — мне неизвестно никакой вины за королевой Марией, а тем менее могу быть виновным в чем-либо я сам.
— Вы хотите, может быть, сказать этим, что Мария Стюарт сама вела всю корреспонденцию?
— Да, она сама вела всю свою корреспонденцию, но то, что я видел, — была самая невинная переписка. Впрочем, отправкой корреспонденции заведовал не я, а Кэрлей.
Валингэм приказал увести Ноэ и привести Кэрлея.
Первые ответы Кэрлея были в общих чертах похожи на ответы Ноэ, но, когда ему предъявили показания Ноэ, что отправкой корреспонденции заведовал он, Кэрлей испугался и показал, что Мария Стюарт диктовала Ноэ все письма, и Ноэ потом исправлял ошибки и правил слог. Вновь вызванному Ноэ был предъявлен этот оговор, и он был принужден признаться, что это так и было. Но он добавил, что Кэрлей шифровал все письма и заботился о доставлении их по адресатам. Кэрлею пришлось признаться в этом, и, когда их обоих уличили в отрицании или, по крайней мере, в сокрытии важных показаний, им стали грозить пыткой. Напуганный этим, Ноэ признался, что письмо к Бабингтону, перехваченное властями и касавшееся планов бегства и деталей заговора, Мария Стюарт написала совершенно самостоятельно. Кэрлей должен был сознаться, что и это письмо он тоже шифровал. В конце концов оба секретаря сдались под угрозами и показали, что Мария Стюарт была отлично осведомлена о ходе заговора и замыслах заговорщиков.
На этом допрос был закончен. Теперь власти имели в руках все доказательства участия Марии Стюарт в заговоре.
Валингэм спешно принялся за доклад государственному совету, в этом докладе он объединил все показания и улики, что должно было послужить фундаментом для обвинения Марии Стюарт.
Между прочим, когда заговор был открыт, симпатии народных масс оказались на стороне Елизаветы, что доказывало, насколько в воображении заговорщиков были преувеличены любовь и сочувствие населения к Марии Стюарт. Очень часто на площадях и на народных собраниях раздавались голоса, проклинавшие Марию и ругавшие ее бранными словами, порочащими ее репутацию и честь. Но в то же время и жестокость расправы Елизаветы с заговорщиками вызывала порицания толпы.
Валингэм, разумеется, часто и подолгу совещался с Бэрлеем о ходе следствия против Марии, представил ему полный доклад, и, когда наконец увидал, что может предъявить шотландской королеве веское обвинение, то заставил шурина пойти на решительный шаг.
Но для этого прежде всего надо было получить согласие Елизаветы. Из всего образа действий английской королевы довольно ярко проступает ее характер; при все своей энергии она прежде всего оставалась женщиной, боящейся последнего, решительного шага. Поэтому каждый раз, когда Бэрлей заговаривал с ней о судьбе Марии Стюарт, Елизавета впадала в нерешительность и не могла побороть свои колебания. В конце концов это так надоело Бэрлею, что он заявил Валингэму о необходимости прекратить все это дело.
— Милорд, — ответил Валингэм, — я понимаю вас. Но будьте так добры, возьмите меня как-нибудь с собой, когда вы отправитесь на совещание с королевой.
Так и было сделано. И Валингэм напомнил королеве обо всем, что замышляли заговорщики. Он указал, что в стране не может наступить успокоение, пока существует причина волнений — Мария Стюарт. Сослался на то, что короли могут прощать личные обиды, но не имеют права подвергать страну вечной опасности, а до тех пор, пока не будет покончено с Марией Стюарт, Англии будет грозить постоянная опасность и извне, и изнутри.
Елизавета была бы очень рада, если бы ее уговорили, но она именно не хотела, чтобы все дело получило окраску личной мести с ее стороны.
Но Валингэм был наготове и тут.
— Ваше величество, — ответил он — народ требует от вас справедливости. Пусть сам народ, в лице своих представителей — первых пэров государства, решит судьбу виновницы вечных беспорядков. Пусть специально вами назначенная комиссия выслушает мой доклад и вынесет свое решение.
— Допустим, что это так и будет, — сказала королева, — но ведь короли и государи всей земли ревностно отнесутся к приговору коронованной особе, и все они станут моими врагами, если этот приговор будет чересчур суров.
— Быть может, вы, ваше величество, соблаговолите ответить мне, — возразил Валингэм, — какой, собственно, страны государыней является Мария Стюарт?
Елизавета замялась.
— Выгнанная собственными подданными и преследуемая за преступления, — продолжал государственный секретарь, — она в течение девятнадцати лет только и занимается тем, что сеет раздоры и мятеж в стране, которая приняла ее, дала ей кров и защиту. Мария Стюарт уже давно извергнута из сонма коронованных лиц.
Елизавета не могла не согласиться с этим, так как отлично видела всю свою выгоду в такой постановке вопроса. Но она была умна и изворотлива. Поэтому не взяла на себя ответственность выносить приговор Марии Стюарт, а, как советовал Валингэм, передала дело решению совета пэров государства.
Как только была сделана такая уступка королевы, сейчас же был созван Тайный совет, которому и предъявили все улики и доказательства виновности Марии Стюарт. Пэры, принимавшие участие в этом совещании, высказывались за то, чтобы Мария была подвергнута еще более строгому заключению, чем до сих пор, большинство высказалось за смертный приговор, а Лейстер, как говорят, даже сделал предложение просто отравить ее. Но Валингэм, заранее уверенный в исходе затеваемого дела, все-таки настаивал, чтобы всему делу был придан вид официального судебного процесса, и это предложение было принято.
В конце концов совет пэров выделил из своего состава сорок шесть человек для участия в судебном заседании, которое должно было выяснить виновность Марии Стюарт. Председательство в этом суде совет предоставил канцлеру Бромлею, о чем был издан 5 октября 1586 года особый указ, привлекший к суду Марию Стюарт, С юридической стороны совет основывался на особом законе, изданном при Эдуарде III и касавшемся государственных предателей, бунтовщиков и зачинщиков смут.
Членам суда было предписано немедленно отправиться в Фосрингай, присутствовать там в судебных прениях и потом вынести приговор, И вскоре мир стал свидетелем такой драмы, подобной которой еще никогда не было.


 Сорок четыре года Марии Стюарт исполнилось 8 декабря 1586 года. Восемнадцать из них она провела в изоляции, переходя из более суровых условия в менее суровые и наоборот, Причем последние четыре года прошли в самых тяжких условиях среди мятежных смут и непрестанной опасности, Мария была одной из красивейших женщин своего времени. Но в последние годы жизни ее уж никак нельзя было назвать красивой. В 1580–1586 годы она превратилась в невзрачную матрону с седеющими волосами. Ревматические страдания исказили ее былую пластичность, болезнь печени изменила фигуру, и только ее лицо сравнительно мало изменилось, причем, ее большие черные глаза по-прежнему сверкали горячим огнем.
Последние события особенно тяжело отразились на Марии, и вполне ясно, что изысканная жестокость, с которой ее сторожа сообщили ей о судьбе ее приверженцев, должна была усугубить силу ее страданий.
Благочестивый Амиас Полэт особенно в этом постарался. После того как предательски затеянная им ловушка с успехом сделала свое дело, он опять стал относиться к пленнице строго и грубо.
5 октября 1586 года в день, когда был издан злополучный указ совета пэров, перед замком Чартлей остановился отряд всадников. Полэт вышел к воротам и приветствовал прибывших, это были тайный советник Вальтер Мидлмэй и нотариус Баркер со свитой.
— Ну-с, сэр Амиас, — сказал первый, — получили ли вы последние распоряжения?
— Да, сэр! — ответил тот.
— И приняли нужные меры?
— Разумеется, сэр.
— И объявили этой женщине то, что решено насчет ее судьбы?
— Нет, сэр! Да с этим нечего особенно торопиться. Я думаю, что после такой скачки вы с удовольствием позавтракаете, а я позабочусь обо всем остальном.
— Ну что же, хорошо, сэр, — ответил тайный советник.
— Давайте примем это приглашение, сэр Баркер?
Полэт и Друри отлично посидели за завтраком, и только после этого Полэт, послав Друри позаботиться о приготовлениях к отъезду, отправился к Марии Стюарт, чтобы объявить ей о перемене места ее заключения.
По приказанию Друри, к воротам подъехал крытый экипаж. Его окружили пятьдесят всадников, к конвою присоединилась также и свита приезжих.
Мария Стюарт была больна и уже несколько дней не покидала постели. Из слуг у нее остались лишь бывшая кормилица и еще одна женщина. Кормилица Кеннеди хотела помешать Полэту проникнуть в спальню, но тот резко оттолкнул ее в сторону, прикрикнув:
— Что вы себе позволяете? Быть может, вы затеваете здесь еще заговор, а потому и не хотите пропустить меня?
— Королеве сегодня очень плохо, — ответила кормилица.
— Больна она или нет, — воскликнул Полэт, — а меня она должна выслушивать в любое время. Ступайте обе вон!
Служанки не сразу повиновались, глядя вопросительно на королеву.
— Ступайте! — сказала им Мария. — Что вам нужно здесь, сэр?
— Чтобы вы немедленно встали! — строго ответил Полэт.
— Для чего? — спросила королева.
— Чтобы отправиться отсюда в Фосрингай.
Мария вздохнула, ничего не ответив. Она с трудом встала, оделась и приготовилась пуститься в путь. Вскоре экипаж под прикрытием конвоя двинулся из Чартлея. Быть может, в этот момент Мария инстинктивно почувствовала близость развязки…
Поздно ночью она прибыла в место своего нового заточения. Служанки, которых ей разрешили оставить себе, прибыли позднее.
6 октября Амиас Полэт, Мидлмэй и Баркер явились к королеве, которая только проснулась. Без всяких околичностей Мидлмэй передал Марии Стюарт письмо Елизаветы. Мария молча взяла его, вскрыла и прочла.
В этом письме Елизавета в самых строгих выражениях укоряла Марию Стюарт в том, что она принимала участие в заговоре, направленном против Англии и самой Елизаветы, и потребовала от Марии, чтобы она согласилась подчиниться судебному следствию, которое должно выяснить степень ее вины.
Прочитав письмо, Мария помолчала некоторое время и, гордо глянув на посетителей, сказала:
— Моя сестра Елизавета, с одной стороны, плохо осведомлена, с другой — забывает о своем и моем положении. Я не подданная ей, и ее суд не вправе судить меня.
— И тем не менее наша государыня держится того взгляда, что вы должны будете подчиниться решению суда, — ответил Мидлмэй.
— Что?! — воскликнула Мария. — Неужели она могла забыть, что я — прирожденная королева?
— А между тем вам было бы лучше подчиниться ей, — сказал Баркер.
Никогда в жизни! Я не опозорю до такой степени моего положения, пола и сана! — воскликнула Мария. — Передайте этот ответ своей государыне.
— Так и будет сделано, — холодно произнес Мидлмэй.
Оставив Марию, прибывшие вернулись обратно в Лондон.
Тем временем в Фосрингай прибыли члены назначенного суда, а с ними — Бэрлей и Валингэм.
Самым важным вопросом была компетентность суда, потому что раз Мария не соглашалась признать его, то трудно было подыскать для него юридическое основание. Очевидно, слишком легкомысленно с самого начала понадеялись, что Мария быстро и добровольно согласится подчиниться суду.
При этих обстоятельствах Елизавета приказала продолжать расследование, но только пока не доводить его до приговора. Она написала Марии Стюарт еще письмо, которое было настолько же заискивающим, насколько предыдущее — строгим. В этом письме она уверяла, что назначила суд только для того, чтобы Мария имела возможность оправдаться как женщина, государыня и гостья Англии. И она будет виновата сама, если добрые намерения Елизаветы останутся безрезультатными. Но, с другой стороны, — было указано в письме, — Мария имеет равное право предъявить свои обвинения против Елизаветы, и назначенный состав суда уполномочен рассмотреть их и вынести свой приговор.
Таким образом, все дело представили Марии в совершенно другом виде. Правда, и теперь она все еще колебалась, но камергер Гаттон взялся уговорить ее согласиться. Он явился к ней под видом искреннего друга, и ему удалось убедить Марию предстать перед судом. И как только она выразила согласие, было назначено заседание на 14 октября.
Для зала судебного заседания воспользовались большой комнатой замка Фосрингай, куда и ввели Марию Стюарт под конвоем нескольких алебардистов. При этом она опиралась на Мелвила и на домашнего врача Буркэна, потому что чувствовала себя настолько нездоровой, что не могла идти одна без посторонней помощи.
Кроме судей, в зал заседания были допущены в качестве зрителей также и посторонние лица.
При входе в зал Мария Стюарт с достоинством поклонилась всем присутствующим, и ее попросили занять место на приготовленном для нее сиденье, обитом бархатом.
Мария села.
Сейчас же после этого поднялся канцлер Бромлэй, который произнес длинную речь. В ней он излагал все основания, побудившие Елизавету потребовать Марию Стюарт к суду и следствию. Затем секретарь суда прочел указ, на основании которого был созван настоящий состав суда.
После этого заговорила Мария. Она рассказала историю своего появления в Англии, сообщила о том, как с ней стали обращаться, как ей пришлось страдать. Затем она выразила протест против всякого ущерба, который мог бы быть нанесен ей вследствие данного судебного заседания, причем ссылалась на свой сан и положение иностранки, находящейся на английской территории.
На это ей ответил Бэрлей, он заявил, что каждый, находящийся на английской территории, обязан подчиняться английским законам.
По его требованию поднялся государственный прокурор, который доложил суду историю заговора Бабингтона. Он обвинял Марию Стюарт в соучастии и подстрекательстве к этому заговору, приводя в подтверждение обвинения улики и доказательства.
Мария отрицала свое участие в заговоре, оспаривала действительность улик и доброкачественность доказательств и потребовала, чтобы Ноэ и Кэрлей были вызваны на очную ставку с ней. В общем, защита Марии отличалась мудростью иубедительностью, она проявила недюжинный дар слова.
После этого начались судебные прения, которые по своему характеру никоим образом не могли послужить к чести достопочтенных судей. В этих прениях принимали участие Бэрлей и Валингэм. В конце концов Мария обвинила последнего в обмане и подлоге. Государственный секретарь ответил ей резкостью, и на этом закончилось заседание этого дня.
На следующий день Мария Стюарт категорически отказалась признать компетенцию суда и снова уверяла в своей невиновности. В дальнейших дебатах она потребовала, чтобы был назначен для нее защитник, и отказалась присутствовать на дальнейших заседаниях суда и давать какие-либо показания. Поэтому суд прервал заседание, 25 октября он должен был снова открыться, но уже в Лондоне. Это заседание было последним — прения пришли к концу, и суд единогласно вынес Марии Стюарт смертный приговор. Через несколько дней на заседании парламента приговор суда был утвержден.
Конечно, все это было сплошной комедией. Могущественная королева Елизавета заставила назначенных ею же судей приговорить к смерти ненавистную соперницу, а продажные живодеры выбивались из сил, чтобы оскорбить и побольнее обидеть одинокую, слабую, больную женщину!
Но даже и теперь, кода, казалось, все было кончено, когда были приговор суда, решение парламента, а следовательно и народа, английская королева все еще не была у желанной цели. Опять всплыли прежние опасения и страхи, она не решалась привести приговор в исполнение, как ни старались советники подействовать на ее волю. Особенно старался Валингэм, который неустанно твердил королеве Елизавете о необходимости решиться, причем делал это так дерзко, что при других обстоятельствах неминуемо вызвало бы немилость королевы.
Марии Стюарт 10 ноября объявили приговор, который она выслушала с полным спокойствием, лишь снова выразив протест против действий английской королевы.
Пэры государства, судьи, парламент, народ — все требовали казни женщины, которая в течение ряда лет служила источником непрерывных смут и беспорядков в стране. Но через месяц после приговора и из-за границы послышались голоса, протестовавшие против решения суда. Эти протесты сыпались со всех сторон, хотя им и придавали очень мягкую форму.
Государи, выражавшие протест, думали, что Елизавета никогда не решится утвердить приговор, что она просто не хочет брать это на себя и ждет именно протестов, чтобы на основании их отменить решение суда.
Прежде всего из числа коронованных особ за Марию заступился ее сын, Иаков VI, который и предпринял ряд шагов в ее защиту. Кроме голоса крови, он имел и другие основания для этого.
Приняла свои меры и троица верных слуг Марии Стюарт.
Сэррей, Брай и Джонстон скрылись в маленькой гавани графства Кент от преследований. Когда сыск закончился, они решили вместе отправиться в Лондон, поменявшись для конспирации ролями… Джонстон теперь разыгрывал барина, а Сэррей и Брай — его слуг.
У Сэррея было в Лондоне достаточно верных друзей, при помощи которых он скоро мог узнать, какие намерения питают теперь по отношению к судьбе Марии Стюарт, и, получив требуемые сведения, отправился со своими спутниками в Чартлей, а потом и в Фосрингай, где оставался до тех пор, пока не закончились заседания судебной комиссии. За ней троица вернулась в Лондон. Там Сэррей сейчас же после произнесения приговора над Марией принялся серьезно обсуждать со своими друзьями вопрос, чем могли бы они теперь помочь несчастной королеве.
К сожалению, они были бессильны сделать что-либо самостоятельно, и в горе Сэррей решил отправиться к королю Иакову, чтобы убедить его заступиться за мать. Товарищи Сэррея согласились с этим решением и без долгих сборов последовали к цели.
Сама Мария тоже не оставалась бездеятельной, она обратилась с письмом к папе Сиксту Пятому, испанскому королю Филиппу Второму, королю Франции Генриху Третьему, герцогу Гизу и многим другим. Хотя во всех этих письмах она и писала, что не дорожит своей жизнью, но требовала помощи во имя принципа справедливости. Благодаря всему этому дело Марии Стюарт должно было вступить в новую стадию, и Европа с лихорадочным возбуждением следила за его исходом.
Сорок четыре года Марии Стюарт исполнилось 8 декабря 1586 года. Восемнадцать из них она провела в изоляции, переходя из более суровых условия в менее суровые и наоборот, Причем последние четыре года прошли в самых тяжких условиях среди мятежных смут и непрестанной опасности, Мария была одной из красивейших женщин своего времени. Но в последние годы жизни ее уж никак нельзя было назвать красивой. В 1580–1586 годы она превратилась в невзрачную матрону с седеющими волосами. Ревматические страдания исказили ее былую пластичность, болезнь печени изменила фигуру, и только ее лицо сравнительно мало изменилось, причем, ее большие черные глаза по-прежнему сверкали горячим огнем.
Последние события особенно тяжело отразились на Марии, и вполне ясно, что изысканная жестокость, с которой ее сторожа сообщили ей о судьбе ее приверженцев, должна была усугубить силу ее страданий.
Благочестивый Амиас Полэт особенно в этом постарался. После того как предательски затеянная им ловушка с успехом сделала свое дело, он опять стал относиться к пленнице строго и грубо.
5 октября 1586 года в день, когда был издан злополучный указ совета пэров, перед замком Чартлей остановился отряд всадников. Полэт вышел к воротам и приветствовал прибывших, это были тайный советник Вальтер Мидлмэй и нотариус Баркер со свитой.
— Ну-с, сэр Амиас, — сказал первый, — получили ли вы последние распоряжения?
— Да, сэр! — ответил тот.
— И приняли нужные меры?
— Разумеется, сэр.
— И объявили этой женщине то, что решено насчет ее судьбы?
— Нет, сэр! Да с этим нечего особенно торопиться. Я думаю, что после такой скачки вы с удовольствием позавтракаете, а я позабочусь обо всем остальном.
— Ну что же, хорошо, сэр, — ответил тайный советник.
— Давайте примем это приглашение, сэр Баркер?
Полэт и Друри отлично посидели за завтраком, и только после этого Полэт, послав Друри позаботиться о приготовлениях к отъезду, отправился к Марии Стюарт, чтобы объявить ей о перемене места ее заключения.
По приказанию Друри, к воротам подъехал крытый экипаж. Его окружили пятьдесят всадников, к конвою присоединилась также и свита приезжих.
Мария Стюарт была больна и уже несколько дней не покидала постели. Из слуг у нее остались лишь бывшая кормилица и еще одна женщина. Кормилица Кеннеди хотела помешать Полэту проникнуть в спальню, но тот резко оттолкнул ее в сторону, прикрикнув:
— Что вы себе позволяете? Быть может, вы затеваете здесь еще заговор, а потому и не хотите пропустить меня?
— Королеве сегодня очень плохо, — ответила кормилица.
— Больна она или нет, — воскликнул Полэт, — а меня она должна выслушивать в любое время. Ступайте обе вон!
Служанки не сразу повиновались, глядя вопросительно на королеву.
— Ступайте! — сказала им Мария. — Что вам нужно здесь, сэр?
— Чтобы вы немедленно встали! — строго ответил Полэт.
— Для чего? — спросила королева.
— Чтобы отправиться отсюда в Фосрингай.
Мария вздохнула, ничего не ответив. Она с трудом встала, оделась и приготовилась пуститься в путь. Вскоре экипаж под прикрытием конвоя двинулся из Чартлея. Быть может, в этот момент Мария инстинктивно почувствовала близость развязки…
Поздно ночью она прибыла в место своего нового заточения. Служанки, которых ей разрешили оставить себе, прибыли позднее.
6 октября Амиас Полэт, Мидлмэй и Баркер явились к королеве, которая только проснулась. Без всяких околичностей Мидлмэй передал Марии Стюарт письмо Елизаветы. Мария молча взяла его, вскрыла и прочла.
В этом письме Елизавета в самых строгих выражениях укоряла Марию Стюарт в том, что она принимала участие в заговоре, направленном против Англии и самой Елизаветы, и потребовала от Марии, чтобы она согласилась подчиниться судебному следствию, которое должно выяснить степень ее вины.
Прочитав письмо, Мария помолчала некоторое время и, гордо глянув на посетителей, сказала:
— Моя сестра Елизавета, с одной стороны, плохо осведомлена, с другой — забывает о своем и моем положении. Я не подданная ей, и ее суд не вправе судить меня.
— И тем не менее наша государыня держится того взгляда, что вы должны будете подчиниться решению суда, — ответил Мидлмэй.
— Что?! — воскликнула Мария. — Неужели она могла забыть, что я — прирожденная королева?
— А между тем вам было бы лучше подчиниться ей, — сказал Баркер.
Никогда в жизни! Я не опозорю до такой степени моего положения, пола и сана! — воскликнула Мария. — Передайте этот ответ своей государыне.
— Так и будет сделано, — холодно произнес Мидлмэй.
Оставив Марию, прибывшие вернулись обратно в Лондон.
Тем временем в Фосрингай прибыли члены назначенного суда, а с ними — Бэрлей и Валингэм.
Самым важным вопросом была компетентность суда, потому что раз Мария не соглашалась признать его, то трудно было подыскать для него юридическое основание. Очевидно, слишком легкомысленно с самого начала понадеялись, что Мария быстро и добровольно согласится подчиниться суду.
При этих обстоятельствах Елизавета приказала продолжать расследование, но только пока не доводить его до приговора. Она написала Марии Стюарт еще письмо, которое было настолько же заискивающим, насколько предыдущее — строгим. В этом письме она уверяла, что назначила суд только для того, чтобы Мария имела возможность оправдаться как женщина, государыня и гостья Англии. И она будет виновата сама, если добрые намерения Елизаветы останутся безрезультатными. Но, с другой стороны, — было указано в письме, — Мария имеет равное право предъявить свои обвинения против Елизаветы, и назначенный состав суда уполномочен рассмотреть их и вынести свой приговор.
Таким образом, все дело представили Марии в совершенно другом виде. Правда, и теперь она все еще колебалась, но камергер Гаттон взялся уговорить ее согласиться. Он явился к ней под видом искреннего друга, и ему удалось убедить Марию предстать перед судом. И как только она выразила согласие, было назначено заседание на 14 октября.
Для зала судебного заседания воспользовались большой комнатой замка Фосрингай, куда и ввели Марию Стюарт под конвоем нескольких алебардистов. При этом она опиралась на Мелвила и на домашнего врача Буркэна, потому что чувствовала себя настолько нездоровой, что не могла идти одна без посторонней помощи.
Кроме судей, в зал заседания были допущены в качестве зрителей также и посторонние лица.
При входе в зал Мария Стюарт с достоинством поклонилась всем присутствующим, и ее попросили занять место на приготовленном для нее сиденье, обитом бархатом.
Мария села.
Сейчас же после этого поднялся канцлер Бромлэй, который произнес длинную речь. В ней он излагал все основания, побудившие Елизавету потребовать Марию Стюарт к суду и следствию. Затем секретарь суда прочел указ, на основании которого был созван настоящий состав суда.
После этого заговорила Мария. Она рассказала историю своего появления в Англии, сообщила о том, как с ней стали обращаться, как ей пришлось страдать. Затем она выразила протест против всякого ущерба, который мог бы быть нанесен ей вследствие данного судебного заседания, причем ссылалась на свой сан и положение иностранки, находящейся на английской территории.
На это ей ответил Бэрлей, он заявил, что каждый, находящийся на английской территории, обязан подчиняться английским законам.
По его требованию поднялся государственный прокурор, который доложил суду историю заговора Бабингтона. Он обвинял Марию Стюарт в соучастии и подстрекательстве к этому заговору, приводя в подтверждение обвинения улики и доказательства.
Мария отрицала свое участие в заговоре, оспаривала действительность улик и доброкачественность доказательств и потребовала, чтобы Ноэ и Кэрлей были вызваны на очную ставку с ней. В общем, защита Марии отличалась мудростью иубедительностью, она проявила недюжинный дар слова.
После этого начались судебные прения, которые по своему характеру никоим образом не могли послужить к чести достопочтенных судей. В этих прениях принимали участие Бэрлей и Валингэм. В конце концов Мария обвинила последнего в обмане и подлоге. Государственный секретарь ответил ей резкостью, и на этом закончилось заседание этого дня.
На следующий день Мария Стюарт категорически отказалась признать компетенцию суда и снова уверяла в своей невиновности. В дальнейших дебатах она потребовала, чтобы был назначен для нее защитник, и отказалась присутствовать на дальнейших заседаниях суда и давать какие-либо показания. Поэтому суд прервал заседание, 25 октября он должен был снова открыться, но уже в Лондоне. Это заседание было последним — прения пришли к концу, и суд единогласно вынес Марии Стюарт смертный приговор. Через несколько дней на заседании парламента приговор суда был утвержден.
Конечно, все это было сплошной комедией. Могущественная королева Елизавета заставила назначенных ею же судей приговорить к смерти ненавистную соперницу, а продажные живодеры выбивались из сил, чтобы оскорбить и побольнее обидеть одинокую, слабую, больную женщину!
Но даже и теперь, кода, казалось, все было кончено, когда были приговор суда, решение парламента, а следовательно и народа, английская королева все еще не была у желанной цели. Опять всплыли прежние опасения и страхи, она не решалась привести приговор в исполнение, как ни старались советники подействовать на ее волю. Особенно старался Валингэм, который неустанно твердил королеве Елизавете о необходимости решиться, причем делал это так дерзко, что при других обстоятельствах неминуемо вызвало бы немилость королевы.
Марии Стюарт 10 ноября объявили приговор, который она выслушала с полным спокойствием, лишь снова выразив протест против действий английской королевы.
Пэры государства, судьи, парламент, народ — все требовали казни женщины, которая в течение ряда лет служила источником непрерывных смут и беспорядков в стране. Но через месяц после приговора и из-за границы послышались голоса, протестовавшие против решения суда. Эти протесты сыпались со всех сторон, хотя им и придавали очень мягкую форму.
Государи, выражавшие протест, думали, что Елизавета никогда не решится утвердить приговор, что она просто не хочет брать это на себя и ждет именно протестов, чтобы на основании их отменить решение суда.
Прежде всего из числа коронованных особ за Марию заступился ее сын, Иаков VI, который и предпринял ряд шагов в ее защиту. Кроме голоса крови, он имел и другие основания для этого.
Приняла свои меры и троица верных слуг Марии Стюарт.
Сэррей, Брай и Джонстон скрылись в маленькой гавани графства Кент от преследований. Когда сыск закончился, они решили вместе отправиться в Лондон, поменявшись для конспирации ролями… Джонстон теперь разыгрывал барина, а Сэррей и Брай — его слуг.
У Сэррея было в Лондоне достаточно верных друзей, при помощи которых он скоро мог узнать, какие намерения питают теперь по отношению к судьбе Марии Стюарт, и, получив требуемые сведения, отправился со своими спутниками в Чартлей, а потом и в Фосрингай, где оставался до тех пор, пока не закончились заседания судебной комиссии. За ней троица вернулась в Лондон. Там Сэррей сейчас же после произнесения приговора над Марией принялся серьезно обсуждать со своими друзьями вопрос, чем могли бы они теперь помочь несчастной королеве.
К сожалению, они были бессильны сделать что-либо самостоятельно, и в горе Сэррей решил отправиться к королю Иакову, чтобы убедить его заступиться за мать. Товарищи Сэррея согласились с этим решением и без долгих сборов последовали к цели.
Сама Мария тоже не оставалась бездеятельной, она обратилась с письмом к папе Сиксту Пятому, испанскому королю Филиппу Второму, королю Франции Генриху Третьему, герцогу Гизу и многим другим. Хотя во всех этих письмах она и писала, что не дорожит своей жизнью, но требовала помощи во имя принципа справедливости. Благодаря всему этому дело Марии Стюарт должно было вступить в новую стадию, и Европа с лихорадочным возбуждением следила за его исходом.


 Самый серьезный и содержательный протест был сделан королем Франции Генрихом III. Его посланник Шатонэф подал протест против приговора, еще не дожидаясь специальных полномочий своего монарха. Поэтому Елизавета отправила в Париж Ваттона с точными копиями всех фигурировавших в процессе документов и протоколов судебных заседаний, чтобы доказать фактами Генриху III, насколько действительно провинилась Мария.
Генрих сейчас же ответил на представления этого посланника Елизаветы. Он соглашался, что Мария действительно провинилась, но причину всех этих преступных действий он видел в несправедливом и суровом заключении, которому она была бесправно подвергнута; при этом он выдвигал на первый план положение, что государь не подлежит ответственности перед трибуналом из неравных ему по сану лиц. По понятиям того времени, это положение было совершенно бесспорно. В качестве «лучшего друга» Генрих III советовал Елизавете отказаться от строгого наказания и явить акт милосердия. В этом отношении французский король действовал настолько разумно, насколько это возможно. Вслед за этим ответным посланием он командировал в Лондон специального полномочного посла де Бельевра, который прибыл к английскому двору 1 декабря 1587 года и немедленно попросил аудиенции.
27 декабря Елизавета собрала на совещание своих ближайших советников, чтобы до приема посла обсудить с ними положение дел.
— Вы видите, милорды, — начала она, — что мои опасения были более, чем справедливы. Мой народ и я согласны в необходимости сделать решительный шаг, но вся Европа — заметьте себе: вся Европа — горой стоит за эту женщину, и нам придется вступить во вражду со всеми европейскими государями.
— Пусть вся Европа выступает против нас хотя бы с оружием в руках, — ответил Бэрлей, — она натолкнется на несокрушимое могущество Англии.
— Да, но подобная война может привести мое государство к окончательному разорению и гибели! — воскликнула королева.
— Ваше величество, — настаивал Бэрлей. — Эта война только явит в настоящем свете все величие Англии и ее повелительницы!
В этом отношении Бэрлей оказался пророком.
— Вам-то хорошо говорить, — ответила ему Елизавета, — на вас падает самая ничтожная часть ответственности, я же должна буду вынести ее в полной мере!
— Ваше величество, моя голова в вашей власти, пусть она падет, если я дал вам дурной совет, вас же никто не может привлечь к ответственности!
— Но подумайте, вся Европа против нас!
— Только католическая Европа, и у нас тоже найдутся друзья.
— Эти друзья придут на помощь слишком поздно или попытаются выторговать что-нибудь для себя, воспользовавшись нашим тяжелым положением.
— Наше войско, наш флот достаточно сильны, чтобы защитить страну, а отсутствие единодушия и взаимное недоверие наших врагов являются тоже нашими могущественными союзниками.
Елизавета задумалась.
— Итак, значит вы категорически рекомендуете мне отклонить просьбу о помиловании осужденной? — сказала она наконец.
— О нет, ваше величество, в этом отношении вам ни к чему давать какой-либо категорический ответ. Приговор над так называемой «шотландской королевой» состоялся — это никто не станет, да и не захочет отрицать. Но что касается дальнейшего — тут не о чем говорить. Помилование составляет прерогативу английской государыни, этой прерогативой вы можете воспользоваться вплоть до последней минуты перед приведением приговора в исполнение. Но никто не имеет права настаивать на том, чтобы вы пользовались ею, равно как никто не смеет требовать от вас категорических заявлений и обещаний поступить так или иначе. Это — дело вашего собственного усмотрения, и только.
— Но ведь французский посол потребует определенного ответа?
— Тогда путь подождет, пока совершившийся факт ответит ему вместо всяких слов.
Елизавета задумалась.
— Ну что же, — ответила она, — пусть войдет посол!
Елизавета предпочла принять де Бельевра в присутствии немногих близких лиц.
Посол вошел в комнату с вежливостью и изысканностью манер истинного француза, но и с уверенностью храброго франка. Он в изысканных выражениях приветствовал Елизавету от имени своего государя.
Когда ему было разрешено говорить, он произнес длинную, содержательную речь, которая должна была произвести несомненное впечатление. Бельевр осветил дело Марии Стюарт с точки зрения исторической науки. Он сослался на все примеры суда и казни над коронованными особами. Все эти прецеденты он разбил на две категории — на случаи, когда подобная судьба коронованной особы юридически оправдывалась, и когда она не могла быть оправдана таким образом. Случай Марии Стюарт он отнес сначала к первой категории и после ряда доказательств сделал вывод, что приговор над ней противоречит исторической логике. Таким образом, осуждение Марии Стюарт могло быть отнесено только ко второй категории — к категории случаев незаконного суда над государями. Затем посол перешел к политической стороне события в отношении настоящего и будущего и намекнул на бесконечное количество мстителей, появление которых вызовет за границей казнь Марии Стюарт. После этого де Бельевр перешел к Англии и английскому народу. С неотразимой логикой он доказал, что тот самый народ, который теперь требует казни Марии Стюарт, потом будет проклинать виновницу этой смерти. В конце концов он постарался доказать, что казнь Марии будет только на руку всем внешним и внутренним врагам Елизаветы, что они только и ждут этого, так как в суровости этой меры надеются найти оправдание их действий и намерений.
Елизавета и ее советники никак не ожидали встретить во французском после такого оратора.
Бэрлей и Валингэм в первое время чувствовали себя разбитыми по всем пунктам, Елизавета вначале испугалась, но именно потому, что стрелы посла попали в цель, ее гордость зашевелилась и вызвала у нее необдуманный припадок ярости, Не чувствуя себя в состоянии сейчас же ответить что-нибудь на положения, выставленные Бельевром, она принялась попросту поносить Марию на чем свет стоит. Она забылась до такой степени, что представила себя и Марию врагами не на жизнь, а на смерть.
— Только смерть одной из нас, — сказала она, — могла бы обеспечить спокойную жизнь другой.
Она потребовала от Бельевра чтобы он указал ей какой- нибудь выход, который гарантировал бы страну от бунтовщических посягательств Марии, тогда она с удовольствием не только помилует ее, но и отпустит на все четыре стороны.
Бельевр ухватился за это и просил, чтобы ему было разрешено развить в дальнейшем эту мысль, но для этого он должен сначала испросить специальных инструкций у своего государя. Это было ему разрешено, и посол удалился.
Когда он ушел, Елизавета и ее советники тяжело вздохнули. Бельевр нарисовал им такие перспективы последствий казни Марии, о которых до сих пор они даже и не думали.
— Я жила под вечной угрозой, пока Мария Стюарт оставалась на свободе, — сказала Елизавета, — я продолжала жить под угрозой, когда она попала в мои руки, и такое же положение вещей ожидает меня и после ее смерти. Я — несчастная королева!
— Вы напрасно изволите беспокоиться, ваше величество! — пытался утешить ее Валингэм. — Ваша особа находится в полной безопасности.
— Но как мне теперь быть с этими переговорами? Как отклонить вмешательство Франции?
— Вам нужно для отдыха переменить резиденцию, — ответил Бзрлей, — а ведение дальнейших переговоров возложить на меня.
— А мне поручить, — вставил Валингэм, — дать этому господину, равно как и всем любителям совать нос в чужие дела, подобающий ответ.
— Что же вы собираетесь предпринять? — спросила Елизавета.
— Заставить ответить население Лондона, всей Англии! — ответил государственный секретарь.
— Это не повредило бы! — заметил Бэрлей.
— Хорошо, я согласна на это. Принимаю ваше предложение, милорды. За каждое облегчение, которое вы сделаете мне в этом трудном деле, я щедро награжу вас.
Одновременно с переговорами с Францией происходили также переговоры с шотландским королем Иаковом.
Когда известие о процессе, начатом против Марии Стюарт, дошло до Шотландии, там в душах всех вспыхнуло возмущение против этого. Часть дворянства выразила его в письмах к Елизавете и Валингэму. В них содержались угрозы, заслуживавшие внимания.
Лишь сын несчастной Марии, король Иаков VI, казалось, не сочувствовал страданиям и мрачному будущему своей матери и ясно выразил это перед французским посланником.
— Ваше величество, — проговорил посланник, — обращение английской королевы с вашей матерью должно было бы возмутить вас до последней степени.
— Вы забываете, что я — король и что для меня важнее всего спокойствие моего государства! — возразил Иаков VI.
— Но ведь подданные вашего величества ничего не имеют против Марии Стюарт как матери своего короля! — заметил посланник.
— Нет, нет, не говорите мне ничего о бывшей королеве, — нетерпеливо ответил король. — Моя мать пожинает лишь то, что она посеяла.
Шотландский же парламент высказал иное мнение на этот счет и предложил Иакову VI объявить войну Англии.
Король ограничился тем, что написал письмо Елизавете, в котором просил английскую королеву держать Марию Стюарт еще в более строгом заточении, чем это было до сих пор.
Многие шотландские лорды, среди которых был и Георг Сэйтон, продолжали горячо убеждать короля заступиться за свою мать, но он относился очень холодно к их просьбам и решительно заявлял, что предпочтет видеть Марию Стюарт мертвой, чем решится поссориться с Елизаветой и лишиться, таким образом, надежды унаследовать от нее английский престол.
В это-то время в Шотландию и приехал граф Сэррей со своими спутниками. Он прежде всего отправился к Георгу Дугласу, который принял его с распростертыми объятиями. Сэррей рассказал, с какой целью он явился в Шотландию, и просил сообщить ему, какое настроение господствует при дворе и среди народа. Дуглас предупредил преданного друга Марии Стюарт, что трудно рассчитывать на успех его дела, и познакомил его со всем тем, что происходило в последнее время в Шотландии. Между прочим он упомянул и о том, что семья Сэйтонов совершенно удалена от двора.
— Мне нужно видеть сейчас же Георга Сэйтона, — сказал Сэррей.
— Поедемте к нему, — предложил Дуглас, — я буду сопровождать вас.
Сэйтоны были непоколебимы в своей привязанности к Марии Стюарт. Но глава семьи, Георг Сэйтон, несмотря на все старания, ничего не мог сделать для улучшения судьбы бывшей шотландской королевы: его сестры тоже оказались бессильными. Мария Сэйтон уже давно была больна: горе, всевозможные волнения, страдания за королеву и свою судьбу окончательно подорвали ее здоровье. Даже, остававшаяся дольше всех при Марии Стюарт, была всецело поглощена мыслью о ней и не переставала оплакивать несчастную королеву. В замке Сэйтонов царила грусть, которая еще усиливалась от зимней непогоды и замкнутой, уединенной жизни.
Вся семья была очень удивлена когда однажды вечером слуга доложил, что в замок приехали гости.
Георг Сэйтон велел просить неожиданных посетителей и был искренне обрадован при виде Дугласа и графа Сэррея. Сестры смутились, отвечая на поклон графа. Мария побледнела, а Джэн, наоборот, вспыхнула, как молоденькая девушка. Сэррей тоже не мог побороть свое волнение.
— Что привело вас снова в Шотландию? — спросил Сэйтон после первых взаимных приветствий. — Я думал, что вы вынесли уже достаточно много страданий в нашей несчастной стране и не захотите больше приезжать сюда.
— Правда, мне пришлось пережить много грустных минут в Шотландии, — ответил Сэррей, — но тут же я испытал и счастливейшие часы в моей жизни. Теперь же я приехал в Шотландию для того, чтобы сообщить Иакову Шестому, как дурно обращаются с его матерью.
— Он это знает! — мрачным голосом заметил Сэйтон.
— Да, но он слышал об этом от лиц, не видевших, как оскорбляют Марию Стюарт, а я сам — очевидец недостойного поведения Елизаветы. Я надеюсь, что мне удастся убедить короля спасти свою мать! — сказал Сэррей.
— Ах, если бы вы могли сделать это! — с тяжелым вздохом произнесла Джэн.
— Граф Сэррей может многое сделать! — колко заметила Мария Сэйтон.
— Благодарю вас за такое доверие ко мне, — поклонился Сэррей, — оно для меня тем более ценно, что я редко видел его с вашей стороны.
— Господи, — нетерпеливо воскликнул Георг Сэйтон, — я думаю, что вы уже настолько помудрели с возрастом, что можете говорить о серьезных вещах без всяких колкостей и шуток.
— Я и не шучу, милорд, — возразил Сэррей. — Однако скажите, каким образом я могу видеть короля? Говорят, что он живет очень замкнуто и доступ к нему труден.
— Обратитесь к любимцу Иакова, лорду Грэю, — насмешливо ответил Сэйтон, — если вам удастся попасть к нему в милость, то и король отнесется к вам благосклонно.
— Вы смеетесь, — заметил Сэррей, — но я действительно обращусь к нему.
— Это ни к чему не приведет! — пробормотал Дуглас.
— Я знаю, — продолжал Сэррей, что Грэй — враг Марии Стюарт и оказывает самое пагубное влияние на ее сына; тем не менее я надеюсь достигнуть через него того, чего желаю.
— Дай Бог! — недоверчиво пожал плечами Сэйтон.
После ужина, за которым присутствовали Мария и Джэн, гости разошлись по своим комнатам.
На другое утро Сэррей встал пораньше и вышел в столовую, надеясь увидеть Джэн и поговорить с ней наедине. Его надежды оправдались. Младшая леди Сэйтон, очевидно, тоже была не прочь повидаться со своим поклонником, и когда Сэррей вошел в комнату, то застал там предмет своей неизменной любви.
— Вы, вероятно, не думали, миледи, встретиться со мной после нашего последнего свидания и моего прощального письма? — обратился Сэррей к Джэн.
— Сознаюсь, милорд, что не рассчитывала видеть вас! — ответила Джэн.
— Ваш ответ заставляет меня спросить вас, довольны ли вы, что ваш расчет не оправдался, или жалеете об этом? — продолжал Сэррей.
— Не расспрашивайте меня, граф, — проговорила Джэн, — вам прекрасно известно, что именно заставляет нас всех страдать! Вы сами знаете, что я ничего не могу иметь лично против вас.
— Благодарю вас, миледи, за эти слова, — сказал Сэррей. — Поверьте, что только беспокойство за участь королевы принудило меня явиться к вам; ведь я знаю, что вы и не желаете встречаться со мной.
— Я очень признательна вам, граф, за вашу преданность королеве, — заметила Джэн. — Впрочем, я никогда не сомневалась, что до последней минуты своей жизни вы готовы служить ей.
— Вы думаете, что только королеве, миледи? — нежно спросил Сэррей.
— Эта служба так велика, что всякие другие интересы бледнеют перед ней! — уклончиво ответила Джэн.
— Но, оставаясь верным королеве до самой кончины, я все же надеюсь и на свое личное счастье. Скажите, Джэн, могу ли я рассчитывать на это счастье? — горячо спросил Сэррей, сжимая руку смущенной леди Сэйтон.
Джэн молчала, потупившись.
— Граф Сэррей, — начала она наконец почти торжественным тоном, — я не буду говорить о том, что брак в нашем возрасте вызовет всеобщий смех, мы можем не обращать на это внимания. Но существует другое препятствие для нашего союза: я не могу быть счастливой в то время, когда моей обожаемой королеве грозит опасность. Устраните это препятствие, освободите королеву, и тогда я ваша.
— Вы смеетесь надо мной, Джэн! — с горькой улыбкой воскликнул Сэррей. — Как можете вы требовать от жалкого изгнанника того, что не в состоянии сделать короли и целые государства?
— Я ничего не требую от вас, граф, — возразила Джэн. — Вы предложили мне вопрос, и я откровенно на него отвечаю вам.
— Вы забыли, Джэн, что я принес в жертву Марии Стюарт свое состояние и положение в обществе! — напомнил Сэррей.
— Я ничего не забыла, Роберт, — возразила Джэн, — я ценю вас за это, преклоняюсь перед вами! Скажу без всякого стеснения, что среди всех мужчин, которых я встречала в жизни, вы — единственный человек, которому я могла бы отдать свою руку.
— Я целую эту руку, ваши слова придают мне новую силу и энергию. Я, конечно, не в состоянии один спасти королеву, но могу повлиять на других. Измените несколько свои условия, скажите, что вы будете моей, если мне удастся склонить короля Иакова на свою сторону. Я думаю, что союз между Шотландией, Францией и Испанией может оказаться настолько опасным королеве Елизавете, что она решится освободить Марию Стюарт. Итак, вы согласны?
— Не мучьте меня, граф Сэррей! — взмолилась Джэн.
— А мои мучения? Как можете вы, Джэн, такая добрая и отзывчивая, быть жестокой со мной? — проговорил Сэррей. — Умоляю вас, не заглушайте в себе тех чувств, которые хранятся в вашем сердце. Ведь ваша жестокость ко мне не спасет королевы. Не приводите меня в отчаяние. Если я буду сознавать, что могу надеяться на личное счастье, во мне оживут юношеские силы, которые в соединении со зрелым опытом могут сделать многое.
Джэн ничего не ответила.
— Что означает ваше молчание? — спросил Сэррей. — Я принимаю его за согласие на предложенное условие. Итак: если король Иаков Шестой предпримет что-нибудь серьезное для спасения своей матери, вы обещаете быть моей женой! Да?
— Да! — прошептала Джэн. — Поговорите с моим братом.
Сэррей заключил Джэн в свои объятия, и легкая грусть охватила обоих. Сэррей поцеловал руки своей невесты и отправился к Георгу Сэйтону. Но тот довольно холодно принял его предложение. Узнав, на каких условиях Джэн согласилась быть женой графа Сэррея, Сэйтон согласился на этот брак, хотя и не мог вполне подавить свое неудовольствие.
В тот же день вечером Сэррей и Дуглас покинули замок Сэйтонов. Дуглас отравился в свое поместье, а Сэррей с двумя спутниками поехал в Эдинбург.
Случайно или умышленно, но воспитание короля Иакова велось крайне небрежно. В юности он подпадал под совершенно противоположные влияния, которые не могли не отразиться на его характере. Он был в одно и то же время добродушно бесхарактерным и страшно жестоким. Вид обнаженного меча приводил его в трепет, а вместе с тем он был способен на безумно смелый поступок. Отличаясь большой скупостью, Иаков VI все же тратил большие деньги на подарки своим любимцам, которые менялись очень часто, пока король не приблизил к себе Патрика Грэя.
Главной страстью Иакова VI или, вернее, главной его слабостью была охота. Всякий, кто хотел попасть в милость к королю, должен был интересоваться охотой или по крайней мере делать вид, что интересуется ею. Большую часть своего времени король проводил на охоте, в обществе Грэя.
Когда Сэррей приехал в Эдинбург, Иаков VI тоже охотился в горах вместе со своим фаворитом.
Сэррей словно помолодел с тех пор, как Джэн Сэйтон обещала быть его женой. Даже Брай заметил перемену в своем друге. Узнав, в чем дело, он только глубоко вздохнул над напрасно потраченными годами и своей разбитой жизнью.
Сэррей нанял квартиру и начал нетерпеливо ожидать возвращения короля. Сначала он думал поехать вслед за ним на охоту, но потом решил, что для дела будет полезнее, если он переговорит с Иаковым VI в Эдинбурге.
На этот раз король охотился недолго. Как только Сэррей узнал о его приезде, он отправился к всесильному Патрику Грэю.
Фаворит Иакова VI принял Сэррея с некоторым удивлением.
— Граф Сэррей? — переспросил он, задумавшись. — Мне кажется, что я вас знаю, милорд. Где мы с вами встречались?
— В Париже, в Англии и здесь, — ответил Сэррей, — но вам, вероятно, более знакомо мое имя, чем я сам.
— Совершенно верно! — смеясь, воскликнул Грэй. — Я очень рад видеть вас и думаю, что какие-нибудь особенные обстоятельства привели вас ко мне. Садитесь, милорд, и расскажите, в чем дело.
— Я хотел просить вас доставить мне аудиенцию у короля! — проговорил Сэррей.
Грэй принял важный вид. Просьба Сэррея польстила его самолюбию.
— Ах, вы просите аудиенции, — улыбаясь, сказал Грэй, — только аудиенции? Моего ходатайства вам не нужно?
— Напротив, о нем я особенно прошу вас! — возразил Сэрррей.
— Скажите же мне, чего вы хотите. Ввиду того, что вы не шотландец, я не моту предугадать, в чем дело.
— Как вам, может быть, известно, — проговорил Сэррей, — я изгнан из Англии, хотя и оставался там до сих пор.
— Я этого не знал! — заметил несколько смущенно Грэй.
— Мои поместья в Англии не конфискованы, но все же на них наложен запрет, — начал Сэррей.
— Вы хотите получить их обратно? — перебил Грэй.
— Не совсем так. Я намереваюсь вступить в брак с шотландкой и перейти в подданство короля Иакова VI…
— Я думаю, что король ничего не будет иметь против этого.
— Я уверен, что после вашей милостивой просьбы его величество не откажет мне в этой просьбе. Но, помимо этого, я хочу просить короля ходатайствовать перед Англией, чтобы мне была выплачена деньгами стоимость моих имений.
— Ах, так вот в чем вся суть! — воскликнул Грэй.
— В знак признательности к вам за милостивое содействие я прошу вас, сэр, принять от меня эту бумагу.
Сэррей вынул из кармана сложенный лист и передал его Грэю, который с удивлением развернул его.
Это была дарственная запись на имя Патрика Грэя. По ней половина английских поместий лорда Сэррея переходила во владение фаворита короля Иакова VI.
Грэй с изумлением смотрел на человека, так просто предлагавшего ему огромный подарок. К числу недостатков Грэя можно было отнести и страшное корыстолюбие.
— Милорд, — весело воскликнул он, — я обещаю вам и аудиенцию, и свое ходатайство, и все, все, что вы захотите.
Легкая улыбка скользнула по губам Сэррея и тотчас же исчезла. Он знал, что его щедрый подарок ничего не стоит, но, конечно, умолчал об этом.
— Когда я могу иметь счастье представиться его величеству? — спросил Сэррей.
— Когда хотите, милорд, хоть сегодня! — ответил Грэй.
— Чем скорее, тем лучше! — заметил Сэррей.
— Тогда скажите мне, где вас найти, и я пошлю за вами, как только будет можно! — проговорил Грэй.
Сэррей оставил свой адрес и распростился с могущественным любимцем Иакова VI. Он не сомневался, что получит аудиенцию, так как Грэй сам был заинтересован в том, чтобы Англия заплатила за поместья Сэррея.
Придя домой, Сэррей сел за письменный стол и очень долго писал длинное письмо. Затем он запечатал его и надписал за нем имя своей невесты.
Отложив письмо в сторону, Сэррей осмотрел имевшееся у него оружие: меч, кинжал и маленький пистолет, который легко было спрятать. Убедившись в исправности оружия, он позвал к себе Брая и Джонстона и заявил им:
— Друзья мои, в скором времени я должен буду отправиться к королю Иакову. Вы знаете, с какой целью я домогался этого свидания?
Брай утвердительно кивнул головой, а Джонстон весело ответил:
— Да, мы знаем, и от всей души желаем вам успеха!
— Я решил, — продолжал Сэррей, — во что бы то ни стало достигнуть своей цели. Все меры будут пущены для этого в ход, весьма возможно, что придется погубить себя, и в таком случае вы больше никогда не увидите меня.
Брай равнодушно выслушал это сообщение, а Джонстон с удивлением посмотрел на графа.
— Если я к вам больше не вернусь, — заговорил снова Сэррей после некоторого молчания, — то вы оба останетесь моими наследниками. Разделите мое имущество по равной части между собой. Я прошу вас только, сэр Брай, передать это письмо лично леди Джэн Сэйтон.
— Все будет исполнено, как вы приказываете, — ответил Брай. — Во всяком случае знайте, что за вашу смерть жестоко отомстят. Я беру на себя это дело.
— Я присоединяюсь к вам! — поддержал клятву и Джонстон.
— Благодарю вас, друзья мои, за вашу верность и привязанность ко мне, — проговорил он, подавая им руку. — Я все надеялся, что в состоянии буду вознаградить вас за ваши труды, но, кажется, моим надеждам не суждено сбыться. Прощайте и будьте счастливы!
По уходе Сэррея Патрик Грэй оделся и отправился во дворец. Дар Сэррея был так заманчив, что любимец короля решил действовать безотлагательно.
У Иакова VI был сонный и скучающий вид, когда Грэй вошел в комнату. При виде своего любимца король оживился.
— Ты уже встал, Патрик? — спросил он. — А я все ломал себе голову над вопросом, — приказать ли разбудить тебя, или ждать, пока ты сам проснешься! Как поживают наши собаки, Патрик?
— У меня еще не было времени справиться о них, Иаков, — шутливо ответил Грэй, — приличие требовало, чтобы я прежде всего навестил их хозяина. Как я вижу, ты дьявольски хорошо чувствуешь себя, Иаков!
— Именно дьявольски! — недовольным тоном ответил король. — Я провел скверную ночь, теперь мне хочется спать, все раздражает, одним словом, я готов подраться с чертями.
— Ты в дурном настроении, король! В таком случае позвольте откланяться, ваше величество! — шутливо поклонился Грэй.
— Не дурачься, Патрик! Садись и постарайся развлечь меня.
— Попробую. Мне сегодня с утра пришлось иметь дело с весело настроенными людьми…
— Ах, у тебя есть какая-то новость? — перебил Грэя король. — Говори скорее.
— Ну хорошо. Скажи мне, Иаков, ты любишь своих верных друзей? — спросил Патрик.
— Что ты хочешь этим сказать? Я знаю, что все друзья — очень дорогая мебель; черт бы их побрал.
— Да, я думаю, что они тебе дорого обходятся, — подтвердил Грэй, — ты осыпаешь их благодеяниями, твоя щедрость не имеет границ!
— Я не понимаю тебя, Патрик, ты точно смеешься, а между тем нет еще и недели, как я подарил тебе французскую борзую.
— Черт бы побрал всех собак вместе с твоими друзьями! — засмеялся Грэй. — А знаешь ли ты, Иаков, что простой английский лорд перещеголял в щедрости шотландского короля?
— Что ты выдумываешь! — махнул рукой Иаков.
— Уверяю тебя, что говорю серьезно! Вот посмотри-ка, какой подарок я получил сегодня утром..
Грэй протянул королю дарственную запись, полученную от Сэррея.
— Это недурно! — воскликнул Иаков. — Скажи, пожалуйста, не тот ли это Сэррей, который слишком интересовался ее величеством, моей матерью?
— Я думаю, что тот самый! — ответил Грэй.
— Тот самый, у которого вышла история с Лейстером? — снова спросил король.
— Да!
— Он теперь здесь? Интересно знать, любит ли охотиться этот малый! — задумчиво произнес Иаков.
— Не малый, а старик! — поправил Грэй. — Я думаю, что он — прекрасный охотник!
— Ах да, я и забыл, что Сэррей не может быть молодым. Отчего же он не представился нам? — спросил король. — Я хотел бы видеть его.
— А он — тебя! — засмеялся Грэй. — Дело устраивается в лучшем виде.
— К твоей выгоде, Патрик? — мрачно заметил Иаков.
— Никоим образом, — серьезно возразил Грэй, — для меня совершенно безразлично, примешь ли ты Сэррея, или нет. Вероятно, он хочет исполнить просто долг вежливости, желая представиться тебе, а может быть, попросить, чтобы ты принял его к себе на службу. Говорят, что он — храбрый воин.
— Мне кажется, что его выслали из Англии, — вспомнил Иаков, — пожалуй, кузина Елизавета рассердится на меня, если я приму его.
— В таком случае я предложу ему поскорее уехать из Шотландии, — сказал Грэй.
— Нет, нет, я хочу поговорить с ним! — капризно заявил король.
— Тогда, быть может, позвать его сегодня? — предложил Патрик. — Ты скучаешь, а лорд Сэррей — старый холостяк, жил долго при французском дворе и может рассказать кое-что очень веселое про парижские нравы.
— Пошли за ним! — распорядился Иаков.
— Ваше величество изволит приказывать — и верному рабу приходится повиноваться! — шутливо раскланялся Грэй и вышел из комнаты.
— Повеса! — крикнул ему вслед король.
Лакей, посланный Грэем, застал Сэррея дома, и граф немедленно явился во дворец короля, где его принял сначала Грэй.
— Я ничего не сказал королю относительно вашего дела, — предупредил Патрик Сэррея, — говорите с ним смело, сами.
Он ввел Роберта Сэррея в приемную короля и затем удалился под каким-то предлогом, оставив Иакова VI наедине с лордом Сэрреем, который внимательно осматривал все выходы из комнаты, думая, что ему, может быть, придется тайно скрыться из дворца.
Король предложил Сэррею сесть и начал говорить с ним сначала о делах Англии и о судьбе самого Сэррея, который рассказал о том деле, ради которого будто бы приехал в Шотландию.
Иаков не дал определенного ответа, он обещал подумать, это означало, что хотел посоветоваться со своим фаворитом. И Сэррей перевел разговор на то, для чего действительно явился к королю.
Иаков сейчас же понял главную цель Сэррея и с непостижимым упрямством заявил, что не намерен ничего больше делать для своей матери.
Однако Сэррей не отступал. Он постарался осветить с самой благоприятной стороны этот вопрос в чисто политическом отношении. Был уже такой момент, когда король начал видимо склоняться на его сторону, как вдруг опомнился и пошел на попятный:
— Нет, нет, не говорите мне больше ничего о моей матери! Она получает по заслугам.
Сэррей хотел затронуть сердце короля, но оно было покрыто непроницаемой броней. Он так грубо отвечал на просьбы Сэррея, что граф вышел из себя и решил пустить в ход последнее средство. Он обнажил свой меч и бросился к Иакову VI, который смертельно побледнел, задрожал и закрыл глаза от страха.
— Вы хотите убить меня? — закричал король. — Спрячьте свой меч!
— Выслушайте меня, ваше величество, — угрожающим тоном проговорил Сэррей, — обнаженный меч так испугал вашу мать, что эта боязнь перешла и на вас. Этот же меч закончит вашу жизнь, если вы не согласитесь исполнить мое требование.
— Спрячьте свой меч, я сделаю все, что вы хотите! — простонал Иаков.
— Прежде всего дайте мне слово, что вы никого не позовете на помощь и никому не расскажете о том, что сейчас происходит между нами! — потребовал Сэррей.
— Даю вам слово! — весь дрожа, ответил король.
— Затем вы должны согласиться на все мои условия и дать мне в этом письменное доказательство, подписанное вашим именем.
— Хорошо, хорошо, я на все согласен, только спрячьте свой меч! — твердил Иаков.
Сэррей вложил меч в ножны и проговорил, не спуская с короля взгляда:
— Мое условие заключается в следующем: вы сейчас же отправите своего посла к Елизавете Английской и потребуете, чтобы она немедленно освободила Марию Стюарт и дала ей возможность уехать, куда та пожелает.
— Я сделаю это, хотя убежден в бесполезности моего требования, — ответил король.
— Вы объявите английской королеве, что в случае ее отказа исполнить ваше требование вам придется воевать с ней, и начнете действительно готовиться к войне.
— Хорошо, я уже дал вам свое слово и теперь не могу отказаться от него! — тоскливо пробормотал Иаков.
— Вы предложите Франции и Испании войти в союз с вами для освобождения Марии Стюарт и пошлете меня в качестве своего посланника к представителям этих двух держав.
— Хорошо, хорошо!
— Теперь я попрошу вас, ваше величество, дать мне письменное удостоверение в том, что вы согласны на все мои условия.
Иаков VI подошел с тяжелым вздохом к письменному столу и написал Сэррею требуемый документ.
Тот внимательно прочел и, пряча его в карман, сказал:
— Спешное дело заставляет меня уехать на несколько дней. Этого времени будет достаточно для того, чтобы отправить кого-нибудь к королеве Елизавете и приготовить для меня полномочия как для вашего посланника во Франции и Испании. Торопитесь, ваше величество!… Если вы промедлите, я должен буду рассказать всем о том, что тут произошло, и опубликовать ваше письменное обязательство. Предупреждаю вас, что всякое покушение на мою жизнь будет поставлено вам в вину и найдутся люди, которые жестоко отомстят вам за мою смерть.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты, не ожидая никаких возражений со стороны короля.
Грэй ожидал Сэррея в следующей приемной и спросил его, доволен ли он результатами аудиенции. Граф ответил, что очень доволен разговором с королем. Тогда Грэй многозначительно улыбнулся и поспешно направился в кабинет Иакова VI.
Король находился еще всецело под впечатлением только что пережитой сцены, когда к нему вошел Грэй. Несмотря на свою ограниченность, Иаков понял, что не следует рассказывать своему фавориту о том, что произошло между ним и Сэрреем.
— Странного человека ты посадил мне на шею, Патрик! — притворно спокойным тоном обратился король к Грэю, — он хочет, чтобы Англия заплатила ему деньга за его поместья и просит моего ходатайства. Но не в этом дело. Он рассказал мне кое-что о жизни моей матери в Англии, и я пришел к заключению, что должен серьезно позаботиться о ее участи. Я хочу послать доверенное лицо к Елизавете и пригрозить ей войной, если она не освободит моей матери. Как ты думаешь, кого можно послать в Лондон?
— Я должен раньше знать подробно весь план действия и только тогда могу предложить кого-нибудь! — ответил Грэй.
Иаков сообщил ему о своих намерениях таким тоном, точно сам придумал весь план. Грэй спросил, разрешается ли этому послу позаботиться также и о поместьях Сэррея, и когда получил утвердительный ответ, то предложил себя в качестве посланца к Елизавете Английской. Король неохотно согласился на это предложение, но Грэй сумел так обставить дело, что Иаков на другой же день отправил его в Лондон.
Сейчас же по приезде Грэй попросил аудиенции у королевы, на что и получил немедленное разрешение. Елизавета прекрасно помнила его. Письмо Иакова VI чрезвычайно удивило и рассердило ее, и в порыве гнева она объявила, что король Шотландии ни под каким видом не унаследует от нее английского престола.
Когда французские послы узнали, что Грэй приехал в Лондон и уже два раза был принят королевой, они тоже явились к ней. Это было 15 декабря 1586 года.
Королева Елизавета очень сетовала при встрече с ними на Генриха III, но опять уклонилась от прямого ответа относительно своих дальнейших намерений и отослала французов к лорду Бэрлею для переговоров. Чтобы избежать участия в совещании по поводу Марии Стюарт, она на другой же день покинула Лондон, оставив широкие полномочия как лорду Бэрлею, так и Валингэму. Она поручила главному сыщику привести в исполнение задуманный им план — организовать народную демонстрацию против Марии Стюарт.
Самый серьезный и содержательный протест был сделан королем Франции Генрихом III. Его посланник Шатонэф подал протест против приговора, еще не дожидаясь специальных полномочий своего монарха. Поэтому Елизавета отправила в Париж Ваттона с точными копиями всех фигурировавших в процессе документов и протоколов судебных заседаний, чтобы доказать фактами Генриху III, насколько действительно провинилась Мария.
Генрих сейчас же ответил на представления этого посланника Елизаветы. Он соглашался, что Мария действительно провинилась, но причину всех этих преступных действий он видел в несправедливом и суровом заключении, которому она была бесправно подвергнута; при этом он выдвигал на первый план положение, что государь не подлежит ответственности перед трибуналом из неравных ему по сану лиц. По понятиям того времени, это положение было совершенно бесспорно. В качестве «лучшего друга» Генрих III советовал Елизавете отказаться от строгого наказания и явить акт милосердия. В этом отношении французский король действовал настолько разумно, насколько это возможно. Вслед за этим ответным посланием он командировал в Лондон специального полномочного посла де Бельевра, который прибыл к английскому двору 1 декабря 1587 года и немедленно попросил аудиенции.
27 декабря Елизавета собрала на совещание своих ближайших советников, чтобы до приема посла обсудить с ними положение дел.
— Вы видите, милорды, — начала она, — что мои опасения были более, чем справедливы. Мой народ и я согласны в необходимости сделать решительный шаг, но вся Европа — заметьте себе: вся Европа — горой стоит за эту женщину, и нам придется вступить во вражду со всеми европейскими государями.
— Пусть вся Европа выступает против нас хотя бы с оружием в руках, — ответил Бэрлей, — она натолкнется на несокрушимое могущество Англии.
— Да, но подобная война может привести мое государство к окончательному разорению и гибели! — воскликнула королева.
— Ваше величество, — настаивал Бэрлей. — Эта война только явит в настоящем свете все величие Англии и ее повелительницы!
В этом отношении Бэрлей оказался пророком.
— Вам-то хорошо говорить, — ответила ему Елизавета, — на вас падает самая ничтожная часть ответственности, я же должна буду вынести ее в полной мере!
— Ваше величество, моя голова в вашей власти, пусть она падет, если я дал вам дурной совет, вас же никто не может привлечь к ответственности!
— Но подумайте, вся Европа против нас!
— Только католическая Европа, и у нас тоже найдутся друзья.
— Эти друзья придут на помощь слишком поздно или попытаются выторговать что-нибудь для себя, воспользовавшись нашим тяжелым положением.
— Наше войско, наш флот достаточно сильны, чтобы защитить страну, а отсутствие единодушия и взаимное недоверие наших врагов являются тоже нашими могущественными союзниками.
Елизавета задумалась.
— Итак, значит вы категорически рекомендуете мне отклонить просьбу о помиловании осужденной? — сказала она наконец.
— О нет, ваше величество, в этом отношении вам ни к чему давать какой-либо категорический ответ. Приговор над так называемой «шотландской королевой» состоялся — это никто не станет, да и не захочет отрицать. Но что касается дальнейшего — тут не о чем говорить. Помилование составляет прерогативу английской государыни, этой прерогативой вы можете воспользоваться вплоть до последней минуты перед приведением приговора в исполнение. Но никто не имеет права настаивать на том, чтобы вы пользовались ею, равно как никто не смеет требовать от вас категорических заявлений и обещаний поступить так или иначе. Это — дело вашего собственного усмотрения, и только.
— Но ведь французский посол потребует определенного ответа?
— Тогда путь подождет, пока совершившийся факт ответит ему вместо всяких слов.
Елизавета задумалась.
— Ну что же, — ответила она, — пусть войдет посол!
Елизавета предпочла принять де Бельевра в присутствии немногих близких лиц.
Посол вошел в комнату с вежливостью и изысканностью манер истинного француза, но и с уверенностью храброго франка. Он в изысканных выражениях приветствовал Елизавету от имени своего государя.
Когда ему было разрешено говорить, он произнес длинную, содержательную речь, которая должна была произвести несомненное впечатление. Бельевр осветил дело Марии Стюарт с точки зрения исторической науки. Он сослался на все примеры суда и казни над коронованными особами. Все эти прецеденты он разбил на две категории — на случаи, когда подобная судьба коронованной особы юридически оправдывалась, и когда она не могла быть оправдана таким образом. Случай Марии Стюарт он отнес сначала к первой категории и после ряда доказательств сделал вывод, что приговор над ней противоречит исторической логике. Таким образом, осуждение Марии Стюарт могло быть отнесено только ко второй категории — к категории случаев незаконного суда над государями. Затем посол перешел к политической стороне события в отношении настоящего и будущего и намекнул на бесконечное количество мстителей, появление которых вызовет за границей казнь Марии Стюарт. После этого де Бельевр перешел к Англии и английскому народу. С неотразимой логикой он доказал, что тот самый народ, который теперь требует казни Марии Стюарт, потом будет проклинать виновницу этой смерти. В конце концов он постарался доказать, что казнь Марии будет только на руку всем внешним и внутренним врагам Елизаветы, что они только и ждут этого, так как в суровости этой меры надеются найти оправдание их действий и намерений.
Елизавета и ее советники никак не ожидали встретить во французском после такого оратора.
Бэрлей и Валингэм в первое время чувствовали себя разбитыми по всем пунктам, Елизавета вначале испугалась, но именно потому, что стрелы посла попали в цель, ее гордость зашевелилась и вызвала у нее необдуманный припадок ярости, Не чувствуя себя в состоянии сейчас же ответить что-нибудь на положения, выставленные Бельевром, она принялась попросту поносить Марию на чем свет стоит. Она забылась до такой степени, что представила себя и Марию врагами не на жизнь, а на смерть.
— Только смерть одной из нас, — сказала она, — могла бы обеспечить спокойную жизнь другой.
Она потребовала от Бельевра чтобы он указал ей какой- нибудь выход, который гарантировал бы страну от бунтовщических посягательств Марии, тогда она с удовольствием не только помилует ее, но и отпустит на все четыре стороны.
Бельевр ухватился за это и просил, чтобы ему было разрешено развить в дальнейшем эту мысль, но для этого он должен сначала испросить специальных инструкций у своего государя. Это было ему разрешено, и посол удалился.
Когда он ушел, Елизавета и ее советники тяжело вздохнули. Бельевр нарисовал им такие перспективы последствий казни Марии, о которых до сих пор они даже и не думали.
— Я жила под вечной угрозой, пока Мария Стюарт оставалась на свободе, — сказала Елизавета, — я продолжала жить под угрозой, когда она попала в мои руки, и такое же положение вещей ожидает меня и после ее смерти. Я — несчастная королева!
— Вы напрасно изволите беспокоиться, ваше величество! — пытался утешить ее Валингэм. — Ваша особа находится в полной безопасности.
— Но как мне теперь быть с этими переговорами? Как отклонить вмешательство Франции?
— Вам нужно для отдыха переменить резиденцию, — ответил Бзрлей, — а ведение дальнейших переговоров возложить на меня.
— А мне поручить, — вставил Валингэм, — дать этому господину, равно как и всем любителям совать нос в чужие дела, подобающий ответ.
— Что же вы собираетесь предпринять? — спросила Елизавета.
— Заставить ответить население Лондона, всей Англии! — ответил государственный секретарь.
— Это не повредило бы! — заметил Бэрлей.
— Хорошо, я согласна на это. Принимаю ваше предложение, милорды. За каждое облегчение, которое вы сделаете мне в этом трудном деле, я щедро награжу вас.
Одновременно с переговорами с Францией происходили также переговоры с шотландским королем Иаковом.
Когда известие о процессе, начатом против Марии Стюарт, дошло до Шотландии, там в душах всех вспыхнуло возмущение против этого. Часть дворянства выразила его в письмах к Елизавете и Валингэму. В них содержались угрозы, заслуживавшие внимания.
Лишь сын несчастной Марии, король Иаков VI, казалось, не сочувствовал страданиям и мрачному будущему своей матери и ясно выразил это перед французским посланником.
— Ваше величество, — проговорил посланник, — обращение английской королевы с вашей матерью должно было бы возмутить вас до последней степени.
— Вы забываете, что я — король и что для меня важнее всего спокойствие моего государства! — возразил Иаков VI.
— Но ведь подданные вашего величества ничего не имеют против Марии Стюарт как матери своего короля! — заметил посланник.
— Нет, нет, не говорите мне ничего о бывшей королеве, — нетерпеливо ответил король. — Моя мать пожинает лишь то, что она посеяла.
Шотландский же парламент высказал иное мнение на этот счет и предложил Иакову VI объявить войну Англии.
Король ограничился тем, что написал письмо Елизавете, в котором просил английскую королеву держать Марию Стюарт еще в более строгом заточении, чем это было до сих пор.
Многие шотландские лорды, среди которых был и Георг Сэйтон, продолжали горячо убеждать короля заступиться за свою мать, но он относился очень холодно к их просьбам и решительно заявлял, что предпочтет видеть Марию Стюарт мертвой, чем решится поссориться с Елизаветой и лишиться, таким образом, надежды унаследовать от нее английский престол.
В это-то время в Шотландию и приехал граф Сэррей со своими спутниками. Он прежде всего отправился к Георгу Дугласу, который принял его с распростертыми объятиями. Сэррей рассказал, с какой целью он явился в Шотландию, и просил сообщить ему, какое настроение господствует при дворе и среди народа. Дуглас предупредил преданного друга Марии Стюарт, что трудно рассчитывать на успех его дела, и познакомил его со всем тем, что происходило в последнее время в Шотландии. Между прочим он упомянул и о том, что семья Сэйтонов совершенно удалена от двора.
— Мне нужно видеть сейчас же Георга Сэйтона, — сказал Сэррей.
— Поедемте к нему, — предложил Дуглас, — я буду сопровождать вас.
Сэйтоны были непоколебимы в своей привязанности к Марии Стюарт. Но глава семьи, Георг Сэйтон, несмотря на все старания, ничего не мог сделать для улучшения судьбы бывшей шотландской королевы: его сестры тоже оказались бессильными. Мария Сэйтон уже давно была больна: горе, всевозможные волнения, страдания за королеву и свою судьбу окончательно подорвали ее здоровье. Даже, остававшаяся дольше всех при Марии Стюарт, была всецело поглощена мыслью о ней и не переставала оплакивать несчастную королеву. В замке Сэйтонов царила грусть, которая еще усиливалась от зимней непогоды и замкнутой, уединенной жизни.
Вся семья была очень удивлена когда однажды вечером слуга доложил, что в замок приехали гости.
Георг Сэйтон велел просить неожиданных посетителей и был искренне обрадован при виде Дугласа и графа Сэррея. Сестры смутились, отвечая на поклон графа. Мария побледнела, а Джэн, наоборот, вспыхнула, как молоденькая девушка. Сэррей тоже не мог побороть свое волнение.
— Что привело вас снова в Шотландию? — спросил Сэйтон после первых взаимных приветствий. — Я думал, что вы вынесли уже достаточно много страданий в нашей несчастной стране и не захотите больше приезжать сюда.
— Правда, мне пришлось пережить много грустных минут в Шотландии, — ответил Сэррей, — но тут же я испытал и счастливейшие часы в моей жизни. Теперь же я приехал в Шотландию для того, чтобы сообщить Иакову Шестому, как дурно обращаются с его матерью.
— Он это знает! — мрачным голосом заметил Сэйтон.
— Да, но он слышал об этом от лиц, не видевших, как оскорбляют Марию Стюарт, а я сам — очевидец недостойного поведения Елизаветы. Я надеюсь, что мне удастся убедить короля спасти свою мать! — сказал Сэррей.
— Ах, если бы вы могли сделать это! — с тяжелым вздохом произнесла Джэн.
— Граф Сэррей может многое сделать! — колко заметила Мария Сэйтон.
— Благодарю вас за такое доверие ко мне, — поклонился Сэррей, — оно для меня тем более ценно, что я редко видел его с вашей стороны.
— Господи, — нетерпеливо воскликнул Георг Сэйтон, — я думаю, что вы уже настолько помудрели с возрастом, что можете говорить о серьезных вещах без всяких колкостей и шуток.
— Я и не шучу, милорд, — возразил Сэррей. — Однако скажите, каким образом я могу видеть короля? Говорят, что он живет очень замкнуто и доступ к нему труден.
— Обратитесь к любимцу Иакова, лорду Грэю, — насмешливо ответил Сэйтон, — если вам удастся попасть к нему в милость, то и король отнесется к вам благосклонно.
— Вы смеетесь, — заметил Сэррей, — но я действительно обращусь к нему.
— Это ни к чему не приведет! — пробормотал Дуглас.
— Я знаю, — продолжал Сэррей, что Грэй — враг Марии Стюарт и оказывает самое пагубное влияние на ее сына; тем не менее я надеюсь достигнуть через него того, чего желаю.
— Дай Бог! — недоверчиво пожал плечами Сэйтон.
После ужина, за которым присутствовали Мария и Джэн, гости разошлись по своим комнатам.
На другое утро Сэррей встал пораньше и вышел в столовую, надеясь увидеть Джэн и поговорить с ней наедине. Его надежды оправдались. Младшая леди Сэйтон, очевидно, тоже была не прочь повидаться со своим поклонником, и когда Сэррей вошел в комнату, то застал там предмет своей неизменной любви.
— Вы, вероятно, не думали, миледи, встретиться со мной после нашего последнего свидания и моего прощального письма? — обратился Сэррей к Джэн.
— Сознаюсь, милорд, что не рассчитывала видеть вас! — ответила Джэн.
— Ваш ответ заставляет меня спросить вас, довольны ли вы, что ваш расчет не оправдался, или жалеете об этом? — продолжал Сэррей.
— Не расспрашивайте меня, граф, — проговорила Джэн, — вам прекрасно известно, что именно заставляет нас всех страдать! Вы сами знаете, что я ничего не могу иметь лично против вас.
— Благодарю вас, миледи, за эти слова, — сказал Сэррей. — Поверьте, что только беспокойство за участь королевы принудило меня явиться к вам; ведь я знаю, что вы и не желаете встречаться со мной.
— Я очень признательна вам, граф, за вашу преданность королеве, — заметила Джэн. — Впрочем, я никогда не сомневалась, что до последней минуты своей жизни вы готовы служить ей.
— Вы думаете, что только королеве, миледи? — нежно спросил Сэррей.
— Эта служба так велика, что всякие другие интересы бледнеют перед ней! — уклончиво ответила Джэн.
— Но, оставаясь верным королеве до самой кончины, я все же надеюсь и на свое личное счастье. Скажите, Джэн, могу ли я рассчитывать на это счастье? — горячо спросил Сэррей, сжимая руку смущенной леди Сэйтон.
Джэн молчала, потупившись.
— Граф Сэррей, — начала она наконец почти торжественным тоном, — я не буду говорить о том, что брак в нашем возрасте вызовет всеобщий смех, мы можем не обращать на это внимания. Но существует другое препятствие для нашего союза: я не могу быть счастливой в то время, когда моей обожаемой королеве грозит опасность. Устраните это препятствие, освободите королеву, и тогда я ваша.
— Вы смеетесь надо мной, Джэн! — с горькой улыбкой воскликнул Сэррей. — Как можете вы требовать от жалкого изгнанника того, что не в состоянии сделать короли и целые государства?
— Я ничего не требую от вас, граф, — возразила Джэн. — Вы предложили мне вопрос, и я откровенно на него отвечаю вам.
— Вы забыли, Джэн, что я принес в жертву Марии Стюарт свое состояние и положение в обществе! — напомнил Сэррей.
— Я ничего не забыла, Роберт, — возразила Джэн, — я ценю вас за это, преклоняюсь перед вами! Скажу без всякого стеснения, что среди всех мужчин, которых я встречала в жизни, вы — единственный человек, которому я могла бы отдать свою руку.
— Я целую эту руку, ваши слова придают мне новую силу и энергию. Я, конечно, не в состоянии один спасти королеву, но могу повлиять на других. Измените несколько свои условия, скажите, что вы будете моей, если мне удастся склонить короля Иакова на свою сторону. Я думаю, что союз между Шотландией, Францией и Испанией может оказаться настолько опасным королеве Елизавете, что она решится освободить Марию Стюарт. Итак, вы согласны?
— Не мучьте меня, граф Сэррей! — взмолилась Джэн.
— А мои мучения? Как можете вы, Джэн, такая добрая и отзывчивая, быть жестокой со мной? — проговорил Сэррей. — Умоляю вас, не заглушайте в себе тех чувств, которые хранятся в вашем сердце. Ведь ваша жестокость ко мне не спасет королевы. Не приводите меня в отчаяние. Если я буду сознавать, что могу надеяться на личное счастье, во мне оживут юношеские силы, которые в соединении со зрелым опытом могут сделать многое.
Джэн ничего не ответила.
— Что означает ваше молчание? — спросил Сэррей. — Я принимаю его за согласие на предложенное условие. Итак: если король Иаков Шестой предпримет что-нибудь серьезное для спасения своей матери, вы обещаете быть моей женой! Да?
— Да! — прошептала Джэн. — Поговорите с моим братом.
Сэррей заключил Джэн в свои объятия, и легкая грусть охватила обоих. Сэррей поцеловал руки своей невесты и отправился к Георгу Сэйтону. Но тот довольно холодно принял его предложение. Узнав, на каких условиях Джэн согласилась быть женой графа Сэррея, Сэйтон согласился на этот брак, хотя и не мог вполне подавить свое неудовольствие.
В тот же день вечером Сэррей и Дуглас покинули замок Сэйтонов. Дуглас отравился в свое поместье, а Сэррей с двумя спутниками поехал в Эдинбург.
Случайно или умышленно, но воспитание короля Иакова велось крайне небрежно. В юности он подпадал под совершенно противоположные влияния, которые не могли не отразиться на его характере. Он был в одно и то же время добродушно бесхарактерным и страшно жестоким. Вид обнаженного меча приводил его в трепет, а вместе с тем он был способен на безумно смелый поступок. Отличаясь большой скупостью, Иаков VI все же тратил большие деньги на подарки своим любимцам, которые менялись очень часто, пока король не приблизил к себе Патрика Грэя.
Главной страстью Иакова VI или, вернее, главной его слабостью была охота. Всякий, кто хотел попасть в милость к королю, должен был интересоваться охотой или по крайней мере делать вид, что интересуется ею. Большую часть своего времени король проводил на охоте, в обществе Грэя.
Когда Сэррей приехал в Эдинбург, Иаков VI тоже охотился в горах вместе со своим фаворитом.
Сэррей словно помолодел с тех пор, как Джэн Сэйтон обещала быть его женой. Даже Брай заметил перемену в своем друге. Узнав, в чем дело, он только глубоко вздохнул над напрасно потраченными годами и своей разбитой жизнью.
Сэррей нанял квартиру и начал нетерпеливо ожидать возвращения короля. Сначала он думал поехать вслед за ним на охоту, но потом решил, что для дела будет полезнее, если он переговорит с Иаковым VI в Эдинбурге.
На этот раз король охотился недолго. Как только Сэррей узнал о его приезде, он отправился к всесильному Патрику Грэю.
Фаворит Иакова VI принял Сэррея с некоторым удивлением.
— Граф Сэррей? — переспросил он, задумавшись. — Мне кажется, что я вас знаю, милорд. Где мы с вами встречались?
— В Париже, в Англии и здесь, — ответил Сэррей, — но вам, вероятно, более знакомо мое имя, чем я сам.
— Совершенно верно! — смеясь, воскликнул Грэй. — Я очень рад видеть вас и думаю, что какие-нибудь особенные обстоятельства привели вас ко мне. Садитесь, милорд, и расскажите, в чем дело.
— Я хотел просить вас доставить мне аудиенцию у короля! — проговорил Сэррей.
Грэй принял важный вид. Просьба Сэррея польстила его самолюбию.
— Ах, вы просите аудиенции, — улыбаясь, сказал Грэй, — только аудиенции? Моего ходатайства вам не нужно?
— Напротив, о нем я особенно прошу вас! — возразил Сэрррей.
— Скажите же мне, чего вы хотите. Ввиду того, что вы не шотландец, я не моту предугадать, в чем дело.
— Как вам, может быть, известно, — проговорил Сэррей, — я изгнан из Англии, хотя и оставался там до сих пор.
— Я этого не знал! — заметил несколько смущенно Грэй.
— Мои поместья в Англии не конфискованы, но все же на них наложен запрет, — начал Сэррей.
— Вы хотите получить их обратно? — перебил Грэй.
— Не совсем так. Я намереваюсь вступить в брак с шотландкой и перейти в подданство короля Иакова VI…
— Я думаю, что король ничего не будет иметь против этого.
— Я уверен, что после вашей милостивой просьбы его величество не откажет мне в этой просьбе. Но, помимо этого, я хочу просить короля ходатайствовать перед Англией, чтобы мне была выплачена деньгами стоимость моих имений.
— Ах, так вот в чем вся суть! — воскликнул Грэй.
— В знак признательности к вам за милостивое содействие я прошу вас, сэр, принять от меня эту бумагу.
Сэррей вынул из кармана сложенный лист и передал его Грэю, который с удивлением развернул его.
Это была дарственная запись на имя Патрика Грэя. По ней половина английских поместий лорда Сэррея переходила во владение фаворита короля Иакова VI.
Грэй с изумлением смотрел на человека, так просто предлагавшего ему огромный подарок. К числу недостатков Грэя можно было отнести и страшное корыстолюбие.
— Милорд, — весело воскликнул он, — я обещаю вам и аудиенцию, и свое ходатайство, и все, все, что вы захотите.
Легкая улыбка скользнула по губам Сэррея и тотчас же исчезла. Он знал, что его щедрый подарок ничего не стоит, но, конечно, умолчал об этом.
— Когда я могу иметь счастье представиться его величеству? — спросил Сэррей.
— Когда хотите, милорд, хоть сегодня! — ответил Грэй.
— Чем скорее, тем лучше! — заметил Сэррей.
— Тогда скажите мне, где вас найти, и я пошлю за вами, как только будет можно! — проговорил Грэй.
Сэррей оставил свой адрес и распростился с могущественным любимцем Иакова VI. Он не сомневался, что получит аудиенцию, так как Грэй сам был заинтересован в том, чтобы Англия заплатила за поместья Сэррея.
Придя домой, Сэррей сел за письменный стол и очень долго писал длинное письмо. Затем он запечатал его и надписал за нем имя своей невесты.
Отложив письмо в сторону, Сэррей осмотрел имевшееся у него оружие: меч, кинжал и маленький пистолет, который легко было спрятать. Убедившись в исправности оружия, он позвал к себе Брая и Джонстона и заявил им:
— Друзья мои, в скором времени я должен буду отправиться к королю Иакову. Вы знаете, с какой целью я домогался этого свидания?
Брай утвердительно кивнул головой, а Джонстон весело ответил:
— Да, мы знаем, и от всей души желаем вам успеха!
— Я решил, — продолжал Сэррей, — во что бы то ни стало достигнуть своей цели. Все меры будут пущены для этого в ход, весьма возможно, что придется погубить себя, и в таком случае вы больше никогда не увидите меня.
Брай равнодушно выслушал это сообщение, а Джонстон с удивлением посмотрел на графа.
— Если я к вам больше не вернусь, — заговорил снова Сэррей после некоторого молчания, — то вы оба останетесь моими наследниками. Разделите мое имущество по равной части между собой. Я прошу вас только, сэр Брай, передать это письмо лично леди Джэн Сэйтон.
— Все будет исполнено, как вы приказываете, — ответил Брай. — Во всяком случае знайте, что за вашу смерть жестоко отомстят. Я беру на себя это дело.
— Я присоединяюсь к вам! — поддержал клятву и Джонстон.
— Благодарю вас, друзья мои, за вашу верность и привязанность ко мне, — проговорил он, подавая им руку. — Я все надеялся, что в состоянии буду вознаградить вас за ваши труды, но, кажется, моим надеждам не суждено сбыться. Прощайте и будьте счастливы!
По уходе Сэррея Патрик Грэй оделся и отправился во дворец. Дар Сэррея был так заманчив, что любимец короля решил действовать безотлагательно.
У Иакова VI был сонный и скучающий вид, когда Грэй вошел в комнату. При виде своего любимца король оживился.
— Ты уже встал, Патрик? — спросил он. — А я все ломал себе голову над вопросом, — приказать ли разбудить тебя, или ждать, пока ты сам проснешься! Как поживают наши собаки, Патрик?
— У меня еще не было времени справиться о них, Иаков, — шутливо ответил Грэй, — приличие требовало, чтобы я прежде всего навестил их хозяина. Как я вижу, ты дьявольски хорошо чувствуешь себя, Иаков!
— Именно дьявольски! — недовольным тоном ответил король. — Я провел скверную ночь, теперь мне хочется спать, все раздражает, одним словом, я готов подраться с чертями.
— Ты в дурном настроении, король! В таком случае позвольте откланяться, ваше величество! — шутливо поклонился Грэй.
— Не дурачься, Патрик! Садись и постарайся развлечь меня.
— Попробую. Мне сегодня с утра пришлось иметь дело с весело настроенными людьми…
— Ах, у тебя есть какая-то новость? — перебил Грэя король. — Говори скорее.
— Ну хорошо. Скажи мне, Иаков, ты любишь своих верных друзей? — спросил Патрик.
— Что ты хочешь этим сказать? Я знаю, что все друзья — очень дорогая мебель; черт бы их побрал.
— Да, я думаю, что они тебе дорого обходятся, — подтвердил Грэй, — ты осыпаешь их благодеяниями, твоя щедрость не имеет границ!
— Я не понимаю тебя, Патрик, ты точно смеешься, а между тем нет еще и недели, как я подарил тебе французскую борзую.
— Черт бы побрал всех собак вместе с твоими друзьями! — засмеялся Грэй. — А знаешь ли ты, Иаков, что простой английский лорд перещеголял в щедрости шотландского короля?
— Что ты выдумываешь! — махнул рукой Иаков.
— Уверяю тебя, что говорю серьезно! Вот посмотри-ка, какой подарок я получил сегодня утром..
Грэй протянул королю дарственную запись, полученную от Сэррея.
— Это недурно! — воскликнул Иаков. — Скажи, пожалуйста, не тот ли это Сэррей, который слишком интересовался ее величеством, моей матерью?
— Я думаю, что тот самый! — ответил Грэй.
— Тот самый, у которого вышла история с Лейстером? — снова спросил король.
— Да!
— Он теперь здесь? Интересно знать, любит ли охотиться этот малый! — задумчиво произнес Иаков.
— Не малый, а старик! — поправил Грэй. — Я думаю, что он — прекрасный охотник!
— Ах да, я и забыл, что Сэррей не может быть молодым. Отчего же он не представился нам? — спросил король. — Я хотел бы видеть его.
— А он — тебя! — засмеялся Грэй. — Дело устраивается в лучшем виде.
— К твоей выгоде, Патрик? — мрачно заметил Иаков.
— Никоим образом, — серьезно возразил Грэй, — для меня совершенно безразлично, примешь ли ты Сэррея, или нет. Вероятно, он хочет исполнить просто долг вежливости, желая представиться тебе, а может быть, попросить, чтобы ты принял его к себе на службу. Говорят, что он — храбрый воин.
— Мне кажется, что его выслали из Англии, — вспомнил Иаков, — пожалуй, кузина Елизавета рассердится на меня, если я приму его.
— В таком случае я предложу ему поскорее уехать из Шотландии, — сказал Грэй.
— Нет, нет, я хочу поговорить с ним! — капризно заявил король.
— Тогда, быть может, позвать его сегодня? — предложил Патрик. — Ты скучаешь, а лорд Сэррей — старый холостяк, жил долго при французском дворе и может рассказать кое-что очень веселое про парижские нравы.
— Пошли за ним! — распорядился Иаков.
— Ваше величество изволит приказывать — и верному рабу приходится повиноваться! — шутливо раскланялся Грэй и вышел из комнаты.
— Повеса! — крикнул ему вслед король.
Лакей, посланный Грэем, застал Сэррея дома, и граф немедленно явился во дворец короля, где его принял сначала Грэй.
— Я ничего не сказал королю относительно вашего дела, — предупредил Патрик Сэррея, — говорите с ним смело, сами.
Он ввел Роберта Сэррея в приемную короля и затем удалился под каким-то предлогом, оставив Иакова VI наедине с лордом Сэрреем, который внимательно осматривал все выходы из комнаты, думая, что ему, может быть, придется тайно скрыться из дворца.
Король предложил Сэррею сесть и начал говорить с ним сначала о делах Англии и о судьбе самого Сэррея, который рассказал о том деле, ради которого будто бы приехал в Шотландию.
Иаков не дал определенного ответа, он обещал подумать, это означало, что хотел посоветоваться со своим фаворитом. И Сэррей перевел разговор на то, для чего действительно явился к королю.
Иаков сейчас же понял главную цель Сэррея и с непостижимым упрямством заявил, что не намерен ничего больше делать для своей матери.
Однако Сэррей не отступал. Он постарался осветить с самой благоприятной стороны этот вопрос в чисто политическом отношении. Был уже такой момент, когда король начал видимо склоняться на его сторону, как вдруг опомнился и пошел на попятный:
— Нет, нет, не говорите мне больше ничего о моей матери! Она получает по заслугам.
Сэррей хотел затронуть сердце короля, но оно было покрыто непроницаемой броней. Он так грубо отвечал на просьбы Сэррея, что граф вышел из себя и решил пустить в ход последнее средство. Он обнажил свой меч и бросился к Иакову VI, который смертельно побледнел, задрожал и закрыл глаза от страха.
— Вы хотите убить меня? — закричал король. — Спрячьте свой меч!
— Выслушайте меня, ваше величество, — угрожающим тоном проговорил Сэррей, — обнаженный меч так испугал вашу мать, что эта боязнь перешла и на вас. Этот же меч закончит вашу жизнь, если вы не согласитесь исполнить мое требование.
— Спрячьте свой меч, я сделаю все, что вы хотите! — простонал Иаков.
— Прежде всего дайте мне слово, что вы никого не позовете на помощь и никому не расскажете о том, что сейчас происходит между нами! — потребовал Сэррей.
— Даю вам слово! — весь дрожа, ответил король.
— Затем вы должны согласиться на все мои условия и дать мне в этом письменное доказательство, подписанное вашим именем.
— Хорошо, хорошо, я на все согласен, только спрячьте свой меч! — твердил Иаков.
Сэррей вложил меч в ножны и проговорил, не спуская с короля взгляда:
— Мое условие заключается в следующем: вы сейчас же отправите своего посла к Елизавете Английской и потребуете, чтобы она немедленно освободила Марию Стюарт и дала ей возможность уехать, куда та пожелает.
— Я сделаю это, хотя убежден в бесполезности моего требования, — ответил король.
— Вы объявите английской королеве, что в случае ее отказа исполнить ваше требование вам придется воевать с ней, и начнете действительно готовиться к войне.
— Хорошо, я уже дал вам свое слово и теперь не могу отказаться от него! — тоскливо пробормотал Иаков.
— Вы предложите Франции и Испании войти в союз с вами для освобождения Марии Стюарт и пошлете меня в качестве своего посланника к представителям этих двух держав.
— Хорошо, хорошо!
— Теперь я попрошу вас, ваше величество, дать мне письменное удостоверение в том, что вы согласны на все мои условия.
Иаков VI подошел с тяжелым вздохом к письменному столу и написал Сэррею требуемый документ.
Тот внимательно прочел и, пряча его в карман, сказал:
— Спешное дело заставляет меня уехать на несколько дней. Этого времени будет достаточно для того, чтобы отправить кого-нибудь к королеве Елизавете и приготовить для меня полномочия как для вашего посланника во Франции и Испании. Торопитесь, ваше величество!… Если вы промедлите, я должен буду рассказать всем о том, что тут произошло, и опубликовать ваше письменное обязательство. Предупреждаю вас, что всякое покушение на мою жизнь будет поставлено вам в вину и найдутся люди, которые жестоко отомстят вам за мою смерть.
Сэррей поклонился и вышел из комнаты, не ожидая никаких возражений со стороны короля.
Грэй ожидал Сэррея в следующей приемной и спросил его, доволен ли он результатами аудиенции. Граф ответил, что очень доволен разговором с королем. Тогда Грэй многозначительно улыбнулся и поспешно направился в кабинет Иакова VI.
Король находился еще всецело под впечатлением только что пережитой сцены, когда к нему вошел Грэй. Несмотря на свою ограниченность, Иаков понял, что не следует рассказывать своему фавориту о том, что произошло между ним и Сэрреем.
— Странного человека ты посадил мне на шею, Патрик! — притворно спокойным тоном обратился король к Грэю, — он хочет, чтобы Англия заплатила ему деньга за его поместья и просит моего ходатайства. Но не в этом дело. Он рассказал мне кое-что о жизни моей матери в Англии, и я пришел к заключению, что должен серьезно позаботиться о ее участи. Я хочу послать доверенное лицо к Елизавете и пригрозить ей войной, если она не освободит моей матери. Как ты думаешь, кого можно послать в Лондон?
— Я должен раньше знать подробно весь план действия и только тогда могу предложить кого-нибудь! — ответил Грэй.
Иаков сообщил ему о своих намерениях таким тоном, точно сам придумал весь план. Грэй спросил, разрешается ли этому послу позаботиться также и о поместьях Сэррея, и когда получил утвердительный ответ, то предложил себя в качестве посланца к Елизавете Английской. Король неохотно согласился на это предложение, но Грэй сумел так обставить дело, что Иаков на другой же день отправил его в Лондон.
Сейчас же по приезде Грэй попросил аудиенции у королевы, на что и получил немедленное разрешение. Елизавета прекрасно помнила его. Письмо Иакова VI чрезвычайно удивило и рассердило ее, и в порыве гнева она объявила, что король Шотландии ни под каким видом не унаследует от нее английского престола.
Когда французские послы узнали, что Грэй приехал в Лондон и уже два раза был принят королевой, они тоже явились к ней. Это было 15 декабря 1586 года.
Королева Елизавета очень сетовала при встрече с ними на Генриха III, но опять уклонилась от прямого ответа относительно своих дальнейших намерений и отослала французов к лорду Бэрлею для переговоров. Чтобы избежать участия в совещании по поводу Марии Стюарт, она на другой же день покинула Лондон, оставив широкие полномочия как лорду Бэрлею, так и Валингэму. Она поручила главному сыщику привести в исполнение задуманный им план — организовать народную демонстрацию против Марии Стюарт.


 Статс-секретарь Валингэм 7 декабря 1586 года предложил созвать английский народ и сделал его судьей между королевой Елизаветой и Марией Стюарт. Делая это предложение, Валингэм, очевидно, не уяснил себе хорошо, что представляет собой народ. В то время народные массы во всей Европе были измучены тяжелыми войнами, бедны и лишены всякого политического развития. План Валингэма ясно доказывает, что он не был настоящим государственным деятелем. Согласие Бэрлея на этот проект кладет тень и на прозорливость главного советника королевы; а поведение самой королевы Елизаветы в этом деле несомненно убеждает, что она не знала, что и для абсолютизма существуют известные границы.
На другой же день после своего предложения Валингэм позвал к себе начальника тайной полиции Пельдрама.
— По-видимому, вы чувствуете себя прекрасно, — обратился статс-секретарь к своему подчиненному, — почиваете на лаврах и свое место превратили в синекуру! Великолепно устроились, нечего сказать!
— В чем вы упрекаете меня, ваша светлость? — улыбаясь, возразил Пельдрам. — Я могу сказать, что действительно считаю себя виновником настоящего спокойного состояния Англии. От души желаю ей и в будущем такого же мира и тишины!
— Это хорошо сказано, но вы упускаете из виду одно обстоятельство, — заметил Валингэм. — Полиция так же должна ждать преступлений, как солдат — войны. Без этих условий полицейский и военный становятся бесполезными людьми.
— Нечто подобное испытываю я сам, но войну ведут не ради удовольствия, и преступления — не самоцель, хотя это, как я полагаю, было правилом моего предшественника.
Валингэм опешил, может быть, он почувствовал себя задетым лично, но быстро пришел в себя.
— У вас, ей-Богу, есть здравый смысл! — сказал он. — Ну мы скоро подвергнем его испытанию!
— Вы весьма лестного мнения обо мне!
— Не совсем так, сэр Пельдрам. Каково общее настроение народа в Лондоне?
— Благоприятное, милорд.
— Я подразумеваю отношение к королеве и правительству?
— Благоприятное, милорд.
— Ну а по отношению к так называемой королеве шотландской?
— Плохое, милорд.
— В каком смысле?
— Королеву осуждают, как сделали это и ее судьи.
— Значит, ее смертный приговор встречен с одобрением?
— Да, милорд.
— Народ требует его исполнения?
— Вот уж не знаю, милорд!
— Но народ должен потребовать этого!…
— Вот как? — сухо сказал Пельдрам. — Если бы народу сказали о том, он обрадовался бы.
— Вы — глупец, сэр! — сердито воскликнул Валингэм.
Трезвый, ясный рассудок Пельдрама, вероятно, вполне схватывал значение этого дела. Ведь так часто бывает, что совершенно простые люди мыслят и судят правильнее, чем мудрейшие из мудрецов, когда вопрос касается только человеческих постановлений и действий. Резкое замечание министра как будто совсем не оскорбило агента.
— Ну, — спокойно ответил он на его брань, — колпак дурака впору чуть ли не всякой человеческой голове. Болезнь эта всеобщая.
Статс-секретарь порывисто обернулся и бросил на говорившего зоркий взгляд, после чего однако громко расхохотался.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Мне кажется, мы с вами поладим. Да, да, должность научит уму-разуму! Я почти готов подумать, что вы уже поняли меня.
— Позволю себе объяснить точнее. Судьи высказались, парламент тоже; королева, наша всемилостивейшая повелительница, осталась довольна ихречами, но теперь ей угодно, чтобы и народ, объяснявшийся до сих пор молча, возвысил свой голос.
— Превосходно, сэр. Именно так. Население Лондона, население Англии должно возвысить голос, должно одобрить произнесенный приговор и потребовать его исполнения. Лондон при этом пойдет впереди, народ последует за ним. Вы же с вашими людьми обязаны стараться вызвать чудовищную овацию.
— Дайте мне более точные указания, и я посмотрю, что можно будет сделать.
— Предстоит публичное торжественное объявление приговора Марии Стюарт, и этот день должен сделаться праздником для столицы Англии. Ради того вам поручается огласка предстоящего события, и до наступления знаменательного дня вы будете воодушевлять народ к громким манифестациям.
— Слушаюсь, милорд!
— Хорошо, значит, мы столковались, — воскликнул Валингэм. — Принимайтесь за дело.
И Пельдрам принялся.
Конечно, редко бывало, чтобы шайке сыщиков давалось поручение подобного свойства. Пожалуй, нечто похожее происходило во времена римских императоров в эпоху упадка Рима.
Подчиненные Валингэма, под руководством Пельдрама, сновали по всему городу, появлялись везде. В семейных домах, в трактирах, а также на улицах возвещали они о новом празднике, жители Лондона, радостно настроенные близостью рождественских праздников, жадно бросились на приманку.
Странный подарок к Рождеству готовила Елизавета своим подданным.
День публичного объявления приговора наконец наступил. Предстоящая казнь шотландской королевы была обнародована посредством плакатов, вывешенных на улицах, и словесных объявлений через глашатаев. Кроме этого, круглые сутки трезвонили все лондонские колокола. Жители города день и ночь бродили по улицам. То там, то здесь гремело громкое ликованье. Потешные огни взвивались к ночному небу. Весь Лондон словно спятил с ума.
Когда рассеялся угар, одурманивший английскую столицу и нашедший некоторый отклик в стране, были собраны донесения лиц, поставленных наблюдать за народом, и Елизавете отправили бумагу, в которой излагалось ясно выраженное желание народа.
Однако вместе с тем Бельевр написал королеве, увещевая ее не уступать принуждению и твердо держаться данного слова.
Елизавета ответила ему, что даст еще двенадцатидневную отсрочку. Бельевр тотчас отправил с этим ответом виконта Жанлиса к Генриху III, чтобы ускорить присылку новых инструкций, а затем, по прошествии праздников, явился сам к Елизавете, которая, покинув Лондон, жила в замке Гриниче, где проводила Рождество.
Бельевр удостоился приема, но Елизавета встретила его неблагосклонно.
— Милостивый государь, — сказала она, — я вовсе не желаю больше вмешиваться лично в это злополучное дело; поступок, на который вы решились, перешел границы смелости и заслуживает уже иного названия.
Однако Елизавета ошиблась, рассчитывая запугать этого человека.
— Ваше величество, — сказал он, — вы должны быть благодарны каждому, кто осмелится поступить таким образом, чтобы не дать запятнать вам свой сан и имя.
— Как вы смеете говорить это? — возмутилась Елизавета. — Я одна знаю, что подобает мне делать и что предписывает мне долг по отношению к себе самой! Но прежде всего позвольте спросить: говорите ли вы от имени вашего государя?
— Да, ваше величество!
— Удалитесь! — обратилась королева к своей свите и, оставшись с посланником наедине, холодно спросила: — Значит, до вас уже дошли инструкции короля?
— Не те, которые вы подразумеваете, ваше величество! Инструкции, которым я следую, получены мною уже давно и на крайний случай.
— Тогда говорите, но взвешивайте свои слова и не забывайте, что вы стоите перед королевой, которая обязана отчетом в своих действиях только Господу Богу.
— Богу и человечеству! — возразил Бельевр. — Кроме того, вы ответственны также перед международным правом, если дело дойдет до угроз моей личности, главное правило каждого повелителя — по возможности избегать крови. Кровь вопиет о крови, и этот призыв никогда не остается без последствий.
— Как, вы угрожаете?
— Я уполномочен на это, ваше величество.
— Письменным документом?
— Вот он!
Бельевр подал Елизавете бумаги; королева была озадачена.
— Мой брат, французский король, берет на себя слишком много! — сказала наконец она.
— Не мне судить о том, ваше величество, — возразил Бельевр, — но выслушайте еще одно: вы воображаете, что вам грозят наемные убийцы, подосланные королевой Марией Стюарт. Вы ошибаетесь, потому что если бы она захотела посягнуть на вашу особу таким образом, то ей было бы легко найти человека, который мог бы появиться перед вами под тем же видом, как и я. Откажитесь от этого призрака — и тогда вы посмотрите на дело иными глазами.
Елизавета побледнела, она поднялась с места, ей было трудно скрыть свой страх и принять внушительную осанку.
— Я отправлю своего посланника к королю Генриху! — с усилием произнесла она. — А вы можете возвратиться во Францию.
Бельевр покинул Гринич и Англию. Елизавета написала Генриху пространное письмо, полное обвинений, упреков и угроз.
В своем благородном негодовании Бельевр совершил еще больший промах, который принес весьма прискорбные плоды.
Вскоре после него отбыл и шотландец Грэй, после чего Мария могла уже считаться погибшей.
Статс-секретарь Валингэм 7 декабря 1586 года предложил созвать английский народ и сделал его судьей между королевой Елизаветой и Марией Стюарт. Делая это предложение, Валингэм, очевидно, не уяснил себе хорошо, что представляет собой народ. В то время народные массы во всей Европе были измучены тяжелыми войнами, бедны и лишены всякого политического развития. План Валингэма ясно доказывает, что он не был настоящим государственным деятелем. Согласие Бэрлея на этот проект кладет тень и на прозорливость главного советника королевы; а поведение самой королевы Елизаветы в этом деле несомненно убеждает, что она не знала, что и для абсолютизма существуют известные границы.
На другой же день после своего предложения Валингэм позвал к себе начальника тайной полиции Пельдрама.
— По-видимому, вы чувствуете себя прекрасно, — обратился статс-секретарь к своему подчиненному, — почиваете на лаврах и свое место превратили в синекуру! Великолепно устроились, нечего сказать!
— В чем вы упрекаете меня, ваша светлость? — улыбаясь, возразил Пельдрам. — Я могу сказать, что действительно считаю себя виновником настоящего спокойного состояния Англии. От души желаю ей и в будущем такого же мира и тишины!
— Это хорошо сказано, но вы упускаете из виду одно обстоятельство, — заметил Валингэм. — Полиция так же должна ждать преступлений, как солдат — войны. Без этих условий полицейский и военный становятся бесполезными людьми.
— Нечто подобное испытываю я сам, но войну ведут не ради удовольствия, и преступления — не самоцель, хотя это, как я полагаю, было правилом моего предшественника.
Валингэм опешил, может быть, он почувствовал себя задетым лично, но быстро пришел в себя.
— У вас, ей-Богу, есть здравый смысл! — сказал он. — Ну мы скоро подвергнем его испытанию!
— Вы весьма лестного мнения обо мне!
— Не совсем так, сэр Пельдрам. Каково общее настроение народа в Лондоне?
— Благоприятное, милорд.
— Я подразумеваю отношение к королеве и правительству?
— Благоприятное, милорд.
— Ну а по отношению к так называемой королеве шотландской?
— Плохое, милорд.
— В каком смысле?
— Королеву осуждают, как сделали это и ее судьи.
— Значит, ее смертный приговор встречен с одобрением?
— Да, милорд.
— Народ требует его исполнения?
— Вот уж не знаю, милорд!
— Но народ должен потребовать этого!…
— Вот как? — сухо сказал Пельдрам. — Если бы народу сказали о том, он обрадовался бы.
— Вы — глупец, сэр! — сердито воскликнул Валингэм.
Трезвый, ясный рассудок Пельдрама, вероятно, вполне схватывал значение этого дела. Ведь так часто бывает, что совершенно простые люди мыслят и судят правильнее, чем мудрейшие из мудрецов, когда вопрос касается только человеческих постановлений и действий. Резкое замечание министра как будто совсем не оскорбило агента.
— Ну, — спокойно ответил он на его брань, — колпак дурака впору чуть ли не всякой человеческой голове. Болезнь эта всеобщая.
Статс-секретарь порывисто обернулся и бросил на говорившего зоркий взгляд, после чего однако громко расхохотался.
— Черт возьми! — воскликнул он. — Мне кажется, мы с вами поладим. Да, да, должность научит уму-разуму! Я почти готов подумать, что вы уже поняли меня.
— Позволю себе объяснить точнее. Судьи высказались, парламент тоже; королева, наша всемилостивейшая повелительница, осталась довольна ихречами, но теперь ей угодно, чтобы и народ, объяснявшийся до сих пор молча, возвысил свой голос.
— Превосходно, сэр. Именно так. Население Лондона, население Англии должно возвысить голос, должно одобрить произнесенный приговор и потребовать его исполнения. Лондон при этом пойдет впереди, народ последует за ним. Вы же с вашими людьми обязаны стараться вызвать чудовищную овацию.
— Дайте мне более точные указания, и я посмотрю, что можно будет сделать.
— Предстоит публичное торжественное объявление приговора Марии Стюарт, и этот день должен сделаться праздником для столицы Англии. Ради того вам поручается огласка предстоящего события, и до наступления знаменательного дня вы будете воодушевлять народ к громким манифестациям.
— Слушаюсь, милорд!
— Хорошо, значит, мы столковались, — воскликнул Валингэм. — Принимайтесь за дело.
И Пельдрам принялся.
Конечно, редко бывало, чтобы шайке сыщиков давалось поручение подобного свойства. Пожалуй, нечто похожее происходило во времена римских императоров в эпоху упадка Рима.
Подчиненные Валингэма, под руководством Пельдрама, сновали по всему городу, появлялись везде. В семейных домах, в трактирах, а также на улицах возвещали они о новом празднике, жители Лондона, радостно настроенные близостью рождественских праздников, жадно бросились на приманку.
Странный подарок к Рождеству готовила Елизавета своим подданным.
День публичного объявления приговора наконец наступил. Предстоящая казнь шотландской королевы была обнародована посредством плакатов, вывешенных на улицах, и словесных объявлений через глашатаев. Кроме этого, круглые сутки трезвонили все лондонские колокола. Жители города день и ночь бродили по улицам. То там, то здесь гремело громкое ликованье. Потешные огни взвивались к ночному небу. Весь Лондон словно спятил с ума.
Когда рассеялся угар, одурманивший английскую столицу и нашедший некоторый отклик в стране, были собраны донесения лиц, поставленных наблюдать за народом, и Елизавете отправили бумагу, в которой излагалось ясно выраженное желание народа.
Однако вместе с тем Бельевр написал королеве, увещевая ее не уступать принуждению и твердо держаться данного слова.
Елизавета ответила ему, что даст еще двенадцатидневную отсрочку. Бельевр тотчас отправил с этим ответом виконта Жанлиса к Генриху III, чтобы ускорить присылку новых инструкций, а затем, по прошествии праздников, явился сам к Елизавете, которая, покинув Лондон, жила в замке Гриниче, где проводила Рождество.
Бельевр удостоился приема, но Елизавета встретила его неблагосклонно.
— Милостивый государь, — сказала она, — я вовсе не желаю больше вмешиваться лично в это злополучное дело; поступок, на который вы решились, перешел границы смелости и заслуживает уже иного названия.
Однако Елизавета ошиблась, рассчитывая запугать этого человека.
— Ваше величество, — сказал он, — вы должны быть благодарны каждому, кто осмелится поступить таким образом, чтобы не дать запятнать вам свой сан и имя.
— Как вы смеете говорить это? — возмутилась Елизавета. — Я одна знаю, что подобает мне делать и что предписывает мне долг по отношению к себе самой! Но прежде всего позвольте спросить: говорите ли вы от имени вашего государя?
— Да, ваше величество!
— Удалитесь! — обратилась королева к своей свите и, оставшись с посланником наедине, холодно спросила: — Значит, до вас уже дошли инструкции короля?
— Не те, которые вы подразумеваете, ваше величество! Инструкции, которым я следую, получены мною уже давно и на крайний случай.
— Тогда говорите, но взвешивайте свои слова и не забывайте, что вы стоите перед королевой, которая обязана отчетом в своих действиях только Господу Богу.
— Богу и человечеству! — возразил Бельевр. — Кроме того, вы ответственны также перед международным правом, если дело дойдет до угроз моей личности, главное правило каждого повелителя — по возможности избегать крови. Кровь вопиет о крови, и этот призыв никогда не остается без последствий.
— Как, вы угрожаете?
— Я уполномочен на это, ваше величество.
— Письменным документом?
— Вот он!
Бельевр подал Елизавете бумаги; королева была озадачена.
— Мой брат, французский король, берет на себя слишком много! — сказала наконец она.
— Не мне судить о том, ваше величество, — возразил Бельевр, — но выслушайте еще одно: вы воображаете, что вам грозят наемные убийцы, подосланные королевой Марией Стюарт. Вы ошибаетесь, потому что если бы она захотела посягнуть на вашу особу таким образом, то ей было бы легко найти человека, который мог бы появиться перед вами под тем же видом, как и я. Откажитесь от этого призрака — и тогда вы посмотрите на дело иными глазами.
Елизавета побледнела, она поднялась с места, ей было трудно скрыть свой страх и принять внушительную осанку.
— Я отправлю своего посланника к королю Генриху! — с усилием произнесла она. — А вы можете возвратиться во Францию.
Бельевр покинул Гринич и Англию. Елизавета написала Генриху пространное письмо, полное обвинений, упреков и угроз.
В своем благородном негодовании Бельевр совершил еще больший промах, который принес весьма прискорбные плоды.
Вскоре после него отбыл и шотландец Грэй, после чего Мария могла уже считаться погибшей.


 Сэррей достиг одной из намеченных им целей, а это помогло ему приблизиться и к другой. Теперь как будто ничто не препятствовало больше его женитьбе на Джэн Сэйтон. Замок Сэйтон стоял среди пустынной, дикой местности в горах; была зима, и погода приняла крайне суровый характер. Бурный ветер то и дело поднимал снежную метель, а жестокая стужа удерживала людей в их жилищах.
Между тем зимнее ненастье не пугало Сэррея, который спешил верхом в замок Сэйтон. Разгоревшийся снова сердечный пыл делал его менее чувствительным к холоду, мешал ему замечать жестокую снежную вьюгу. Его манила вперед сладкая надежда: он рассчитывал в скором времени достичь цели своих желаний.
Обитатели замка не ожидали возвращения Сэррея в такой короткий срок. Поэтому при виде приближающегося гостя они были удивлены, а Георг даже мрачно нахмурился. Тем не менее он радушно приветствовал графа и первым долгом распорядился, чтобы домашние позаботились о его удобствах.
Несмотря на железную волю, Сэррею понадобилось несколько часов, чтобы восстановить свои силы, и лишь после надлежащего отдыха он появился в гостиной замка, где его ожидали трое людей с самыми разнородными чувствами.
Взаимные приветствия опять возобновились.
— Ваше скорое возвращение, — начал Георг, — избавляет меня от необходимости задать вам один вопрос.
— В том-то и дело! — с улыбкой сказал гость. — Между тем было бы лучше, если бы вы задали мне его.
— Вот как? — произнес Сэйтон. — Значит, у вас были известные намерения?
— Разумеется, были, и вы можете быть уверены, что я их не забыл!
— Следовательно, вы сделали попытку, граф?
— Да, и она увенчалась успехом.
— Да? — изумился Георг, а сестры посмотрели на Сэррея широко раскрытыми глазами.
— Я так и знала! — шепотом промолвила Мария. — Да, графу Сэррею доступно очень многое.
Гость поклонился и взглянул украдкой на Джэн. Та покраснела и потупила голову.
— Вы, должно быть, искусны в колдовстве, — воскликнул Георг, — или же произошло чудо.
— Да, нечто подобное, — ответил граф. — Добром, конечно, мне не удалось бы заставить короля Иакова изменить его намерения. Вообще он — человек бесчувственный, просто бессердечный!
— Я давно знал это! — тихо произнес Сэйтон. — Значит, вы прибегли к силе?
Я угрожал обнаженным мечом, и… ну, ведь вы знаете малодушие короля!
— Значит, вы провинились в оскорблении величества, граф?
— Несомненно и даже потребовал удостоверения в том.
Трое слушателей графа посмотрели на него во все глаза. Между тем он вытащил бумагу, написанную королем Иаковом, и подал ее Георгу Сэйтону. Тот взял документ, прочел и передал сестрам.
Пока они читали, Георг мрачно смотрел в пол. Мария тяжело вздохнула, а Джэн бросило в дрожь, когда она вернула документ Сэррею.
— И после такого происшествия вы рискуете еще оставаться в пределах Шотландии и даже путешествовать? — спросил Георг.
— Да, и совершенно один! — улыбаясь, подтвердил Сэррей. — И, как вы видите, без малейшей опасности.
— Вы не знаете короля Иакова.
— Я знаю его и в дополнение составленной им бумага упомянул еще о том, что его посланник к Елизавете, должно быть, теперь уже находится в дороге.
— Хорошо, если бы так! Но каковы однако ваши дальнейшие намерения?
— Я отправляюсь в качестве посланника короля Иакова во Францию и Испанию.
— Вот это — дело. Я полагаю, вы уедете скоро?
— Как только привезу свои полномочия из замка Голируд.
— Значит, вы собираетесь вернуться в Эдинбург?
— Через несколько дней.
— На вашем месте я не стал бы делать этого.
— Я должен, согласно условию. Кроме того, мне надо убедиться, точно ли посланник короля Иакова отбыл в Лондон. Между тем и здесь, как известно вам, моим любезным хозяевам, мне предстоит устроить одно дело.
Сестры и брат примолкли.
— Леди Джэн, — с новой улыбкой начал Сэррей, — я сдержал свое слово.
— Да, граф! — прошептала девушка.
— Ну а вы, леди, сдержите свое?
— Я еще раньше просила вас обратиться к моему брату, он — глава семьи, граф.
— А вы что скажете, лорд Георг? — спросил Сэррей. — Ведь вы также давали мне слово!
Георг продолжал мрачно и молча смотреть в пространство.
— Да, я дал вам слово, — с расстановкой произнес он, немного помолчав, — а для меня мое слово священно.
— Благодарю вас обоих! — с живостью сказал Сэррей. — Но вы знаете, что времени у меня в обрез, и потому свадьба должна быть тихая и на скорую руку.
— Согласен с вами, — ответил Сэйтон, — но, в свою очередь, попрошу вас обратиться с этим к сестрам.
— А вы что скажете, Джэн? — спросил Сэррей, взяв руку молодой девушки.
— Роберт, — ответила она, — у меня нет более собственной воли. Время принадлежит вам и вашей цели, потому что, как вам известно, мое решение было принято лишь с тем, чтобы содействовать ей.
По лицу Сэррея скользнуло страдальческое выражение, но он вскоре преодолел себя и сказал:
— В таком случае можно ли в пятидневный срок справиться со всеми необходимыми приготовлениями?
— Да, — ответил Георг, — в воскресенье может состояться ваша свадьба.
Сэррей по очереди пожал руки брату и обеим сестрам Сэйтон.
Наступила продолжительная пауза, после которой переговоры возобновились опять. Дело в том, что хотя свадьба затевалась тихая, но это значило только, что на нее не будут приглашены гости издалека. К людям своего клана это не относилось, их было необходимо пригласить и угощать на свадебном пиру; в подобных случаях это было их правом и посягнуть на него значило подстрекать их к неповиновению и упорству.
Жених не принимал участия в этих переговорах между домашними, а лишь извинялся, что причинил столько хлопот; но делать было нечего.
На другой день из замка потянулись люди и подводы за съестными припасами, снаряжались гонцы, чтобы оповестить людей клана, и вскоре замок Сэйтон принял иной вид, оживился и повеселел. Действительно, его комнаты мало-помалу наполнились гостями, которые только и знали, что угощались с утра до вечера или поднимали шумные споры, когда виски ударяло им в голову. Между тем подвозили все новые запасы съестного, чтобы доставлять дальнейшую работу желудкам приглашенных, и те приятно проводили время, насколько позволяли обстоятельства и суровая погода.
Так настал знаменательный день, и священник уже совершил поутру богослужение, на котором присутствовали все гости, прибывшие в замок.
После полудня должно было состояться само бракосочетание, и ввиду близости важного момента Сэррей, а также и его невеста чувствовали себя в торжественном настроении. Сэррей пожелал еще переговорить с Джэн наедине, прежде чем предстать с ней перед алтарем, и молодая девушка согласилась исполнить его желание.
Однако не успел он начать разговор, как Мария подала Сэррею записку, сильно озадачившую его. Он дважды пробежал ее глазами, и удивленная Джэн тотчас заметила в нем тревогу, вызванную этим посланием.
— Что с вами, Роберт? — спросила невеста. — Кажется, вы получили неприятные известия?
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Важные и безотлагательные? — переспросила девушка. — Тогда сначала переговорите с ним, Роберт.
— А вы разрешаете это?
— Что за вопрос, Роберт! Кто может знать, как много зависит от того, что вы повидаете присланного гонца?
— Ваша правда, тем более, что писавший эти строки может сообщить только важное.
— Так ступайте, Роберт!
— Кто принес эту записку, Мария? — спросил Сэррей старшую Сэйтон.
— Этот человек ждет во дворе!
— Тогда прошу извинения! — сказал граф, поклонился и поспешно вышел.
В коридоре Сэррей столкнулся с незнакомым человеком, который сообщил, что ему поручено проводить графа к тому, кто желает переговорить с ним.
— Кто послал вас? — спросил граф.
— Сэр Брай и сэр Джонстон, — ответил тот.
— А где они находятся?
— В Эдинбурге, — последовал ответ. — Но со мной прибыл человек, который хочет с вами переговорить по их поручению.
— Где же он?
— За воротами замка.
— Пойдемте! — сказал Сэррей, и они вдвоем покинули замок.
Кто-то из прислуги замка слышал происходивший между ними разговор и был свидетелем ухода Сэррея.
Так как стояли короткие зимние дни, то и при ясной погоде около трех часов пополудни начинало уже темнеть, а в тот день при непрекращавшейся снежной метели стемнело еще раньше. В этом вечернем сумраке и скрылись Сэррей и его провожатый.
Между тем гости и священник постепенно собрались в церкви замка. Недоставало только обрученной четы, а также брата и сестры невесты…
И в этом немалую роль сыграли события в Эдинбурге.
Едва только Грэй успел покинуть Голируд, как король Иаков стал тотчас собираться в отъезд из столицы своего королевства. Однако еще до своего отъезда он потребовал к себе егеря из своих отдаленных поместий и долго беседовал с ним, после чего тот направился в Эдинбург.
Приезжий егерь, получивший поручение этого рода, нанял себе квартиру в Эдинбурге, тогда как Иаков с небольшой свитой, несмотря на скверную погоду, отправился на север Шотландии.
Оставшийся в Эдинбурге егерь часто появлялся в той местности, где была квартира Сэррея, занятая до сих пор его спутниками. И вот однажды он столкнулся здесь с Джонстоном. Последний опешил при виде егеря, смутился и тот при этой встрече. Не было сомнения, что они узнали друг друга, но это не доставило им удовольствия.
Королевский егерь первый решился заговорить, пожалуй, из-за того, что чувствовал себя в полной безопасности.
— Здравствуйте, сэр! — сказал он. — Вот уж не думал не гадал когда-нибудь встретиться с вами, а тем более здесь, в столице Шотландии!
— Это вы?! — откликнулся Джонстон. — Однако вы носите теперь военную форму, да еще королевскую; это — вовсе не то платье, каким довольствовался некогда Джэмс Стренглей, и потому вам позволительно теперь смотреть свысока на старого друга.
— Ну расстались-то мы как раз не по-дружески, — возразил Джэмс. — Но все-таки с какой стати быть нам на «вы»? Я могу с таким же удобством спросить: «Как поживаешь, друг Джонстон?»
— Благодарствую! — ответил тот. — Не могу жаловаться. Однако ты, во всяком случае, более удачлив?
— Это что-нибудь да значит, друг Джонстон! Человека, терпевшего гонения от Босвела, король Иаков, конечно, мог возвысить.
— Но Босвел, пожалуй, был прав?
— Это как смотреть на вещи, старина. Скажи, однако, ты сделался папистом?
— Вовсе нет, но я перестал воровать чужую дичь.
— О, я также давным-давно бросил это ремесло! Значит, мы оба стали порядочными людьми.
— Как будто и так.
— По-моему, ничто не мешает нам теперь достойно отпраздновать нашу встречу.
— Гм!… — замялся Джонстон.
Однако королевский ловчий приставал к нему до тех пор, пока тот не согласился позавтракать вместе с ним.
Старые приятели отправились в харчевню, где заказанный ими завтрак продлился не только до обеда, но даже до ужина.
Когда, после возобновления прежней дружбы, они поднялись наконец, чтобы отправиться по домам, голова Джонстона сильно отяжелела. Джэмс Стренглей выведал от него все, что желал знать, а вдобавок получил еще несколько строк, написанных его рукой, чего, собственно, и добивался главным образом.
Джонстон, пошатываясь, поплелся восвояси и на другой день не помнил хорошенько, что с ним произошло. Стренглею также понадобилось некоторое время, чтобы очухаться после дружеской попойки, однако это удалось ему скорее и лучше, чем Джонстону. На следующее же утро, в сопровождении другого человека, он затем верхом покинул Эдинбург и направился к замку Сэйтон.
Именно эти двое бродяг выманили Сэррея из замка, и, как можно догадаться, исчезновение графа Сэррея произошло по наущению короля Иакова.
Сэррей исчез бесследно как раз перед своим бракосочетанием с Джэн Сэйтон.
Однако нужно прибавить, что и другим лицам могла быть выгодна гибель этого ревностного приверженца шотландской королевы.
Думали и на Георга Сэйтона, так как он постоянно смотрел на Сэррея как на человека, который нанес ему смертельное оскорбление. Установить что-либо верное насчет этого случая так и не удалось.
А тем временем все обитатели замка Сэйтон вместе с прибывшими гостями собрались в церкви, и ввиду того, что жених с невестой мешкали слишком долго, Георг пошел сам поторопить их.
Тут сестры сообщили ему о том, что Сэррей вышел по какому-то поводу из замка и не вернулся.
Георг не обнаружил при этом особенного удивления, однако послал людей на поиски жениха. Его искали повсюду, около замка и в окрестностях, искали тщательно и настойчиво, но и Сэррей, и присланный к нему гонец словно канули в воду.
Вскоре весть об исчезновении графа проникла и в церковь. Она постепенно опустела, и вместо свадебного пира приглашенные приступили к подобию погребальной тризны.
Джэн никто не мог утешить. Гостям осталось только покинуть замок, погруженный в печаль.
Брай и Джонстон деятельно разыскивали своего друга повсюду и наконец пропали без вести сами, причем никто не мог сказать, куда они девались.
Итак, от Сэррея уже нельзя было ожидать никакой помощи Марии Стюарт.
Сэррей достиг одной из намеченных им целей, а это помогло ему приблизиться и к другой. Теперь как будто ничто не препятствовало больше его женитьбе на Джэн Сэйтон. Замок Сэйтон стоял среди пустынной, дикой местности в горах; была зима, и погода приняла крайне суровый характер. Бурный ветер то и дело поднимал снежную метель, а жестокая стужа удерживала людей в их жилищах.
Между тем зимнее ненастье не пугало Сэррея, который спешил верхом в замок Сэйтон. Разгоревшийся снова сердечный пыл делал его менее чувствительным к холоду, мешал ему замечать жестокую снежную вьюгу. Его манила вперед сладкая надежда: он рассчитывал в скором времени достичь цели своих желаний.
Обитатели замка не ожидали возвращения Сэррея в такой короткий срок. Поэтому при виде приближающегося гостя они были удивлены, а Георг даже мрачно нахмурился. Тем не менее он радушно приветствовал графа и первым долгом распорядился, чтобы домашние позаботились о его удобствах.
Несмотря на железную волю, Сэррею понадобилось несколько часов, чтобы восстановить свои силы, и лишь после надлежащего отдыха он появился в гостиной замка, где его ожидали трое людей с самыми разнородными чувствами.
Взаимные приветствия опять возобновились.
— Ваше скорое возвращение, — начал Георг, — избавляет меня от необходимости задать вам один вопрос.
— В том-то и дело! — с улыбкой сказал гость. — Между тем было бы лучше, если бы вы задали мне его.
— Вот как? — произнес Сэйтон. — Значит, у вас были известные намерения?
— Разумеется, были, и вы можете быть уверены, что я их не забыл!
— Следовательно, вы сделали попытку, граф?
— Да, и она увенчалась успехом.
— Да? — изумился Георг, а сестры посмотрели на Сэррея широко раскрытыми глазами.
— Я так и знала! — шепотом промолвила Мария. — Да, графу Сэррею доступно очень многое.
Гость поклонился и взглянул украдкой на Джэн. Та покраснела и потупила голову.
— Вы, должно быть, искусны в колдовстве, — воскликнул Георг, — или же произошло чудо.
— Да, нечто подобное, — ответил граф. — Добром, конечно, мне не удалось бы заставить короля Иакова изменить его намерения. Вообще он — человек бесчувственный, просто бессердечный!
— Я давно знал это! — тихо произнес Сэйтон. — Значит, вы прибегли к силе?
Я угрожал обнаженным мечом, и… ну, ведь вы знаете малодушие короля!
— Значит, вы провинились в оскорблении величества, граф?
— Несомненно и даже потребовал удостоверения в том.
Трое слушателей графа посмотрели на него во все глаза. Между тем он вытащил бумагу, написанную королем Иаковом, и подал ее Георгу Сэйтону. Тот взял документ, прочел и передал сестрам.
Пока они читали, Георг мрачно смотрел в пол. Мария тяжело вздохнула, а Джэн бросило в дрожь, когда она вернула документ Сэррею.
— И после такого происшествия вы рискуете еще оставаться в пределах Шотландии и даже путешествовать? — спросил Георг.
— Да, и совершенно один! — улыбаясь, подтвердил Сэррей. — И, как вы видите, без малейшей опасности.
— Вы не знаете короля Иакова.
— Я знаю его и в дополнение составленной им бумага упомянул еще о том, что его посланник к Елизавете, должно быть, теперь уже находится в дороге.
— Хорошо, если бы так! Но каковы однако ваши дальнейшие намерения?
— Я отправляюсь в качестве посланника короля Иакова во Францию и Испанию.
— Вот это — дело. Я полагаю, вы уедете скоро?
— Как только привезу свои полномочия из замка Голируд.
— Значит, вы собираетесь вернуться в Эдинбург?
— Через несколько дней.
— На вашем месте я не стал бы делать этого.
— Я должен, согласно условию. Кроме того, мне надо убедиться, точно ли посланник короля Иакова отбыл в Лондон. Между тем и здесь, как известно вам, моим любезным хозяевам, мне предстоит устроить одно дело.
Сестры и брат примолкли.
— Леди Джэн, — с новой улыбкой начал Сэррей, — я сдержал свое слово.
— Да, граф! — прошептала девушка.
— Ну а вы, леди, сдержите свое?
— Я еще раньше просила вас обратиться к моему брату, он — глава семьи, граф.
— А вы что скажете, лорд Георг? — спросил Сэррей. — Ведь вы также давали мне слово!
Георг продолжал мрачно и молча смотреть в пространство.
— Да, я дал вам слово, — с расстановкой произнес он, немного помолчав, — а для меня мое слово священно.
— Благодарю вас обоих! — с живостью сказал Сэррей. — Но вы знаете, что времени у меня в обрез, и потому свадьба должна быть тихая и на скорую руку.
— Согласен с вами, — ответил Сэйтон, — но, в свою очередь, попрошу вас обратиться с этим к сестрам.
— А вы что скажете, Джэн? — спросил Сэррей, взяв руку молодой девушки.
— Роберт, — ответила она, — у меня нет более собственной воли. Время принадлежит вам и вашей цели, потому что, как вам известно, мое решение было принято лишь с тем, чтобы содействовать ей.
По лицу Сэррея скользнуло страдальческое выражение, но он вскоре преодолел себя и сказал:
— В таком случае можно ли в пятидневный срок справиться со всеми необходимыми приготовлениями?
— Да, — ответил Георг, — в воскресенье может состояться ваша свадьба.
Сэррей по очереди пожал руки брату и обеим сестрам Сэйтон.
Наступила продолжительная пауза, после которой переговоры возобновились опять. Дело в том, что хотя свадьба затевалась тихая, но это значило только, что на нее не будут приглашены гости издалека. К людям своего клана это не относилось, их было необходимо пригласить и угощать на свадебном пиру; в подобных случаях это было их правом и посягнуть на него значило подстрекать их к неповиновению и упорству.
Жених не принимал участия в этих переговорах между домашними, а лишь извинялся, что причинил столько хлопот; но делать было нечего.
На другой день из замка потянулись люди и подводы за съестными припасами, снаряжались гонцы, чтобы оповестить людей клана, и вскоре замок Сэйтон принял иной вид, оживился и повеселел. Действительно, его комнаты мало-помалу наполнились гостями, которые только и знали, что угощались с утра до вечера или поднимали шумные споры, когда виски ударяло им в голову. Между тем подвозили все новые запасы съестного, чтобы доставлять дальнейшую работу желудкам приглашенных, и те приятно проводили время, насколько позволяли обстоятельства и суровая погода.
Так настал знаменательный день, и священник уже совершил поутру богослужение, на котором присутствовали все гости, прибывшие в замок.
После полудня должно было состояться само бракосочетание, и ввиду близости важного момента Сэррей, а также и его невеста чувствовали себя в торжественном настроении. Сэррей пожелал еще переговорить с Джэн наедине, прежде чем предстать с ней перед алтарем, и молодая девушка согласилась исполнить его желание.
Однако не успел он начать разговор, как Мария подала Сэррею записку, сильно озадачившую его. Он дважды пробежал ее глазами, и удивленная Джэн тотчас заметила в нем тревогу, вызванную этим посланием.
— Что с вами, Роберт? — спросила невеста. — Кажется, вы получили неприятные известия?
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Я сам еще не знаю толком, дорогая Джэн, — ответил он. — Мне пишут только, что податель записки должен сделать мне важные и безотлагательные сообщения.
— Важные и безотлагательные? — переспросила девушка. — Тогда сначала переговорите с ним, Роберт.
— А вы разрешаете это?
— Что за вопрос, Роберт! Кто может знать, как много зависит от того, что вы повидаете присланного гонца?
— Ваша правда, тем более, что писавший эти строки может сообщить только важное.
— Так ступайте, Роберт!
— Кто принес эту записку, Мария? — спросил Сэррей старшую Сэйтон.
— Этот человек ждет во дворе!
— Тогда прошу извинения! — сказал граф, поклонился и поспешно вышел.
В коридоре Сэррей столкнулся с незнакомым человеком, который сообщил, что ему поручено проводить графа к тому, кто желает переговорить с ним.
— Кто послал вас? — спросил граф.
— Сэр Брай и сэр Джонстон, — ответил тот.
— А где они находятся?
— В Эдинбурге, — последовал ответ. — Но со мной прибыл человек, который хочет с вами переговорить по их поручению.
— Где же он?
— За воротами замка.
— Пойдемте! — сказал Сэррей, и они вдвоем покинули замок.
Кто-то из прислуги замка слышал происходивший между ними разговор и был свидетелем ухода Сэррея.
Так как стояли короткие зимние дни, то и при ясной погоде около трех часов пополудни начинало уже темнеть, а в тот день при непрекращавшейся снежной метели стемнело еще раньше. В этом вечернем сумраке и скрылись Сэррей и его провожатый.
Между тем гости и священник постепенно собрались в церкви замка. Недоставало только обрученной четы, а также брата и сестры невесты…
И в этом немалую роль сыграли события в Эдинбурге.
Едва только Грэй успел покинуть Голируд, как король Иаков стал тотчас собираться в отъезд из столицы своего королевства. Однако еще до своего отъезда он потребовал к себе егеря из своих отдаленных поместий и долго беседовал с ним, после чего тот направился в Эдинбург.
Приезжий егерь, получивший поручение этого рода, нанял себе квартиру в Эдинбурге, тогда как Иаков с небольшой свитой, несмотря на скверную погоду, отправился на север Шотландии.
Оставшийся в Эдинбурге егерь часто появлялся в той местности, где была квартира Сэррея, занятая до сих пор его спутниками. И вот однажды он столкнулся здесь с Джонстоном. Последний опешил при виде егеря, смутился и тот при этой встрече. Не было сомнения, что они узнали друг друга, но это не доставило им удовольствия.
Королевский егерь первый решился заговорить, пожалуй, из-за того, что чувствовал себя в полной безопасности.
— Здравствуйте, сэр! — сказал он. — Вот уж не думал не гадал когда-нибудь встретиться с вами, а тем более здесь, в столице Шотландии!
— Это вы?! — откликнулся Джонстон. — Однако вы носите теперь военную форму, да еще королевскую; это — вовсе не то платье, каким довольствовался некогда Джэмс Стренглей, и потому вам позволительно теперь смотреть свысока на старого друга.
— Ну расстались-то мы как раз не по-дружески, — возразил Джэмс. — Но все-таки с какой стати быть нам на «вы»? Я могу с таким же удобством спросить: «Как поживаешь, друг Джонстон?»
— Благодарствую! — ответил тот. — Не могу жаловаться. Однако ты, во всяком случае, более удачлив?
— Это что-нибудь да значит, друг Джонстон! Человека, терпевшего гонения от Босвела, король Иаков, конечно, мог возвысить.
— Но Босвел, пожалуй, был прав?
— Это как смотреть на вещи, старина. Скажи, однако, ты сделался папистом?
— Вовсе нет, но я перестал воровать чужую дичь.
— О, я также давным-давно бросил это ремесло! Значит, мы оба стали порядочными людьми.
— Как будто и так.
— По-моему, ничто не мешает нам теперь достойно отпраздновать нашу встречу.
— Гм!… — замялся Джонстон.
Однако королевский ловчий приставал к нему до тех пор, пока тот не согласился позавтракать вместе с ним.
Старые приятели отправились в харчевню, где заказанный ими завтрак продлился не только до обеда, но даже до ужина.
Когда, после возобновления прежней дружбы, они поднялись наконец, чтобы отправиться по домам, голова Джонстона сильно отяжелела. Джэмс Стренглей выведал от него все, что желал знать, а вдобавок получил еще несколько строк, написанных его рукой, чего, собственно, и добивался главным образом.
Джонстон, пошатываясь, поплелся восвояси и на другой день не помнил хорошенько, что с ним произошло. Стренглею также понадобилось некоторое время, чтобы очухаться после дружеской попойки, однако это удалось ему скорее и лучше, чем Джонстону. На следующее же утро, в сопровождении другого человека, он затем верхом покинул Эдинбург и направился к замку Сэйтон.
Именно эти двое бродяг выманили Сэррея из замка, и, как можно догадаться, исчезновение графа Сэррея произошло по наущению короля Иакова.
Сэррей исчез бесследно как раз перед своим бракосочетанием с Джэн Сэйтон.
Однако нужно прибавить, что и другим лицам могла быть выгодна гибель этого ревностного приверженца шотландской королевы.
Думали и на Георга Сэйтона, так как он постоянно смотрел на Сэррея как на человека, который нанес ему смертельное оскорбление. Установить что-либо верное насчет этого случая так и не удалось.
А тем временем все обитатели замка Сэйтон вместе с прибывшими гостями собрались в церкви, и ввиду того, что жених с невестой мешкали слишком долго, Георг пошел сам поторопить их.
Тут сестры сообщили ему о том, что Сэррей вышел по какому-то поводу из замка и не вернулся.
Георг не обнаружил при этом особенного удивления, однако послал людей на поиски жениха. Его искали повсюду, около замка и в окрестностях, искали тщательно и настойчиво, но и Сэррей, и присланный к нему гонец словно канули в воду.
Вскоре весть об исчезновении графа проникла и в церковь. Она постепенно опустела, и вместо свадебного пира приглашенные приступили к подобию погребальной тризны.
Джэн никто не мог утешить. Гостям осталось только покинуть замок, погруженный в печаль.
Брай и Джонстон деятельно разыскивали своего друга повсюду и наконец пропали без вести сами, причем никто не мог сказать, куда они девались.
Итак, от Сэррея уже нельзя было ожидать никакой помощи Марии Стюарт.


 Беспорядкам, вызванным из-за шотландской королевы, было еще не суждено улечься. Во время народных манифестаций в Лондоне Пельдрамом был арестован какой-то подозрительный субъект. Этого человека звали Морди, и на допросе он указал на некоего Стаффорда как на своего спутника, однако отрицал всякую вину как со своей, так и с его стороны.
Стаффорд был сыном статс-дамы королевы Елизаветы и братом английского посланника в Париже, следовательно, особой, на которую не так-то легко было посягнуть.
Между тем Пельдрам счел нужным обратить внимание своего патрона Валингэма на связь Стаффорда с Морди, и тот поручил ему наблюдать за молодым Стаффордом.
История этого случая, этого предпоследнего заговора в пользу Марии Стюарт, несколько темна, а так как здесь был замешан Валингэм, то заговор казался подстроенным им самим.
В один осенний день 1586 года английский посланник в Париже, лорд Стаффорд, в сильнейшей тревоге шагал по своему кабинету. Он остановился лишь для того, чтобы, позвонив, вызвать лакея и узнать, не получен ли ответ.
— Нет, милорд! — снова ответил слуга и удалился по знаку своего господина.
Однако вскоре он вернулся без зова и доложил посланнику о посетителе.
— Это — он? — с живостью спросил посланник.
— Нет, милорд, — сказал лакей, — это — сам начальник полиции.
Лорд поспешно вышел, чтобы принять главного в те времена полицейского чиновника в Париже и ввести его в свой кабинет; лакей удалился.
— Премного обязан вам, — сказал Стаффорд начальнику полиции, когда они остались вдвоем, — что вы потрудились сами… Однако какие вести предстоит мне услышать от вас?
— Милорд, — ответил француз, — я считаю за счастье, что могу успокоить вас: дело идет вовсе не о нападении с целью грабежа, но о похищении девушки.
— Славу Богу!… Но каким образом можно уладить это?
— Его величество приказал немедленно выслать виновных из Франции.
— Пусть так и будет.
— Сколько понадобится времени на их дорожные сборы?
— Один… нет, постойте… три часа.
— Хорошо, через три часа оба молодых человека будут доставлены сюда. Вам предоставляется дать им обоим провожатых из служащих при посольстве.
— Это мне тем приятнее.
Начальник парижской охранной полиции встал и пошел к выходу, сопровождаемый новыми изъявлениями живейшей благодарности посланника. Как только посетитель вышел из комнаты, лорд Стаффорд велел позвать своего секретаря.
— Вы уплатили долг моего брата и мистера Морди? — спросил он.
— Да, милорд!
— Составьте тотчас письменное требование, — продолжал посланник, — по которому эти двое господ по прибытии в Англию должны быть арестованы за долги и препровождены в лондонскую долговую тюрьму.
Секретарь поклонился.
— Распорядитесь еще, чтобы курьер держался наготове.
— Все будет исполнено!
Секретарь удалился, а посланник сел к письменному столу и принялся писать письмо своей матери.
Когда оно было окончено, то на его зов явился секретарь с написанным требованием, а вскоре и готовый к отъезду курьер. Последнего снабдили деловыми бумагами, разнородными словесными распоряжениями и приказали ему как можно скорее исполнить полученные поручения. С тем он и покинул дом посольства. Посланник дал теперь приказ, чтобы еще четверо из его слуг собрались ехать в Англию. Было велено оседлать шесть лошадей.
Эти приготовления были окончены, когда парижская полиция доставила в дом посольства двоих молодых людей, которые были введены к посланнику поодиночке.
Один из них был младший брат лорда Стаффорда, другой — его приятель, Морди, также состоявший секретарем при посланнике. Лорд Стаффорд жестоко разбранил того и другого за их непристойную выходку и сказал им, что они должны ехать в Англию, где получат новые распоряжения. Виновные не смели возражать и немедленно отбыли разными путями в Лондон, каждый в сопровождении двух слуг.
Так как путешествие совершалось на курьерских лошадях, то путники скоро достигли гавани Па-де-Кале и отплыли в Англию, где обнаружилось, какого рода меры были приняты против обоих так поспешно высланных жуиров. Эти меры были для них совершенной неожиданностью, и единственным утешением виновным послужила надежда, что они снова свидятся между собой в лондонской долговой тюрьме.
Молодой Стаффорд тотчас написал оттуда матери, и хотя старший брат упрашивал ее подольше подержать взаперти юного повесу, однако материнское сердце не выдержало, леди Стаффорд уплатила долги младшего сына, и он был выпущен на свободу. Его же друг Морди оставался в тюрьме до тех пор, пока Стаффорд не освободил его в день обнародования смертного приговора Марии Стюарт; оба они вздумали потешаться в этот день, подстрекая народные массы к различным крайностям.
Как это часто бывает, подчиненные Пельдрама приняли этих молодых шалопаев за опасных бунтовщиков, что вызвало их преследование и арест. Морди был принужден в конце концов откровенно рассказать о своих обстоятельствах, и так как ни он, ни Стаффорд, собственно, не совершили никакого преступления, то Морди снова посадили в долговую тюрьму, тогда как судебное преследование против Стаффорда было прекращено.
Но хотя мать и выкупила Стаффорда из долгов, однако она не собиралась сделать для него еще что-нибудь и тот оказался лишенным всяких средств. Рассерженный на мать и брата, он очень скоро перенес этот гнев на других лиц, и когда посещал в тюрьме своего друга, то они жестоко бранили вдвоем всех тех, кто вредил им или преследовал их.
Это привело обоих ветреников к тому, что они принялись строить планы насчет того, как бы им разжиться деньгами. И вот приятели уговорились между собой обратиться к французскому посланнику с предложением такого рода: они брались убить королеву Елизавету, если каждому из них заплатят по сто двадцать червонцев. Но если вспомнить, что Пельдрам уже вел переговоры с Морди и Стаффордом, а Валингэм давал Пельдраму указания насчет их обоих, то дело принимало совсем иной оборот. Во всяком случае выговоренная плата за преступление была весьма ничтожна.
Заговор между двоими искателями приключений был вполне обдуман; но Бельевр покинул Англию, и потому молодой Стаффорд обратился к Шатонефу. Старое родовое имя открыло испорченному юноше доступ к посланнику и как раз в такое время, когда француз был сильно занят, диктуя письмо своему секретарю Кордалю.
На вопрос, чего он желает, Стаффорд объявил, что некто, содержащийся в долговой тюрьме, может сообщить посланнику важные сведения, касающиеся Марии Стюарт.
Как раз в то время Шатонеф особенно хлопотал в интересах шотландской королевы; в сообщении, предложенном ему каким-то арестантом, он не видел решительно ничего таинственного и потому велел своему другому секретарю, Дестранну, отправиться вместе с Стаффордом к означенному лицу и переговорить с ним.
Стаффорд и Дестранн отправились в Ньюгейт, где в то время содержались несостоятельные должники. Здесь Морди открыл посетителю без утайки свой план и свои намерения, Однако Дестранн назвал его сумасбродом и в сильнейшем гневе покинул тюрьму, а также обоих достойных приятелей. Шатоннеф, со своей стороны, дал знать Стаффорду, чтобы тот не смел больше показываться в доме посольства, если не хочет, чтобы на него донесли.
Однако Стаффорд предупредил возможность подобного доноса, сделав сам на посланника донос о том, что он будто бы старался склонить его и Морди к убийству королевы Елизаветы.
Несмотря на нелепость подобного обвинения, было возбуждено следствие. Дестранна арестовали, бумаги Шатонефа опечатали, а Елизавета написала угрожающие и строгие письма Генриху III. В продолжение многих недель всякое сообщение Англии с материком было прервано, и это, пожалуй, также входило в планы Валингэма.
После глупой истории Морди и Стаффорда, главные виновники которой, впрочем, бесследно исчезли, казалось, не было больше никакого основания щадить Марию Стюарт, тем не менее Елизавета все еще не решалась дать приказ об исполнении смертного приговора.
Первый раз в жизни у королевы обнаружились признаки уныния и меланхолии. Елизавета прекратила все свои обычные увеселения, в особенности охоту. Она искала уединения и по временам впадала в мрачное раздумье. Несмотря на ее болезненное состояние, настойчивый Валингэм не давал ей покоя. Он умел добраться до нее в любое время и, требуя вновь смерти Марии Стюарт, жестоко мучил этим английскую королеву.
В своих переживаниях она то и дело возвращалась к прежней мысли — тайно избавиться от Марии. Однако проницательный Валингэм решительно не мог сообразить, на что намекала королева. Наконец Елизавета поняла, что со своими планами ей надо обратиться к кому-нибудь другому.
Однако случаю было суждено прервать ход этих событий. Новый заговор в пользу Марии, о котором она решительно не подозревала, разразился, как гром, с невероятной внезапностью.
Беспорядкам, вызванным из-за шотландской королевы, было еще не суждено улечься. Во время народных манифестаций в Лондоне Пельдрамом был арестован какой-то подозрительный субъект. Этого человека звали Морди, и на допросе он указал на некоего Стаффорда как на своего спутника, однако отрицал всякую вину как со своей, так и с его стороны.
Стаффорд был сыном статс-дамы королевы Елизаветы и братом английского посланника в Париже, следовательно, особой, на которую не так-то легко было посягнуть.
Между тем Пельдрам счел нужным обратить внимание своего патрона Валингэма на связь Стаффорда с Морди, и тот поручил ему наблюдать за молодым Стаффордом.
История этого случая, этого предпоследнего заговора в пользу Марии Стюарт, несколько темна, а так как здесь был замешан Валингэм, то заговор казался подстроенным им самим.
В один осенний день 1586 года английский посланник в Париже, лорд Стаффорд, в сильнейшей тревоге шагал по своему кабинету. Он остановился лишь для того, чтобы, позвонив, вызвать лакея и узнать, не получен ли ответ.
— Нет, милорд! — снова ответил слуга и удалился по знаку своего господина.
Однако вскоре он вернулся без зова и доложил посланнику о посетителе.
— Это — он? — с живостью спросил посланник.
— Нет, милорд, — сказал лакей, — это — сам начальник полиции.
Лорд поспешно вышел, чтобы принять главного в те времена полицейского чиновника в Париже и ввести его в свой кабинет; лакей удалился.
— Премного обязан вам, — сказал Стаффорд начальнику полиции, когда они остались вдвоем, — что вы потрудились сами… Однако какие вести предстоит мне услышать от вас?
— Милорд, — ответил француз, — я считаю за счастье, что могу успокоить вас: дело идет вовсе не о нападении с целью грабежа, но о похищении девушки.
— Славу Богу!… Но каким образом можно уладить это?
— Его величество приказал немедленно выслать виновных из Франции.
— Пусть так и будет.
— Сколько понадобится времени на их дорожные сборы?
— Один… нет, постойте… три часа.
— Хорошо, через три часа оба молодых человека будут доставлены сюда. Вам предоставляется дать им обоим провожатых из служащих при посольстве.
— Это мне тем приятнее.
Начальник парижской охранной полиции встал и пошел к выходу, сопровождаемый новыми изъявлениями живейшей благодарности посланника. Как только посетитель вышел из комнаты, лорд Стаффорд велел позвать своего секретаря.
— Вы уплатили долг моего брата и мистера Морди? — спросил он.
— Да, милорд!
— Составьте тотчас письменное требование, — продолжал посланник, — по которому эти двое господ по прибытии в Англию должны быть арестованы за долги и препровождены в лондонскую долговую тюрьму.
Секретарь поклонился.
— Распорядитесь еще, чтобы курьер держался наготове.
— Все будет исполнено!
Секретарь удалился, а посланник сел к письменному столу и принялся писать письмо своей матери.
Когда оно было окончено, то на его зов явился секретарь с написанным требованием, а вскоре и готовый к отъезду курьер. Последнего снабдили деловыми бумагами, разнородными словесными распоряжениями и приказали ему как можно скорее исполнить полученные поручения. С тем он и покинул дом посольства. Посланник дал теперь приказ, чтобы еще четверо из его слуг собрались ехать в Англию. Было велено оседлать шесть лошадей.
Эти приготовления были окончены, когда парижская полиция доставила в дом посольства двоих молодых людей, которые были введены к посланнику поодиночке.
Один из них был младший брат лорда Стаффорда, другой — его приятель, Морди, также состоявший секретарем при посланнике. Лорд Стаффорд жестоко разбранил того и другого за их непристойную выходку и сказал им, что они должны ехать в Англию, где получат новые распоряжения. Виновные не смели возражать и немедленно отбыли разными путями в Лондон, каждый в сопровождении двух слуг.
Так как путешествие совершалось на курьерских лошадях, то путники скоро достигли гавани Па-де-Кале и отплыли в Англию, где обнаружилось, какого рода меры были приняты против обоих так поспешно высланных жуиров. Эти меры были для них совершенной неожиданностью, и единственным утешением виновным послужила надежда, что они снова свидятся между собой в лондонской долговой тюрьме.
Молодой Стаффорд тотчас написал оттуда матери, и хотя старший брат упрашивал ее подольше подержать взаперти юного повесу, однако материнское сердце не выдержало, леди Стаффорд уплатила долги младшего сына, и он был выпущен на свободу. Его же друг Морди оставался в тюрьме до тех пор, пока Стаффорд не освободил его в день обнародования смертного приговора Марии Стюарт; оба они вздумали потешаться в этот день, подстрекая народные массы к различным крайностям.
Как это часто бывает, подчиненные Пельдрама приняли этих молодых шалопаев за опасных бунтовщиков, что вызвало их преследование и арест. Морди был принужден в конце концов откровенно рассказать о своих обстоятельствах, и так как ни он, ни Стаффорд, собственно, не совершили никакого преступления, то Морди снова посадили в долговую тюрьму, тогда как судебное преследование против Стаффорда было прекращено.
Но хотя мать и выкупила Стаффорда из долгов, однако она не собиралась сделать для него еще что-нибудь и тот оказался лишенным всяких средств. Рассерженный на мать и брата, он очень скоро перенес этот гнев на других лиц, и когда посещал в тюрьме своего друга, то они жестоко бранили вдвоем всех тех, кто вредил им или преследовал их.
Это привело обоих ветреников к тому, что они принялись строить планы насчет того, как бы им разжиться деньгами. И вот приятели уговорились между собой обратиться к французскому посланнику с предложением такого рода: они брались убить королеву Елизавету, если каждому из них заплатят по сто двадцать червонцев. Но если вспомнить, что Пельдрам уже вел переговоры с Морди и Стаффордом, а Валингэм давал Пельдраму указания насчет их обоих, то дело принимало совсем иной оборот. Во всяком случае выговоренная плата за преступление была весьма ничтожна.
Заговор между двоими искателями приключений был вполне обдуман; но Бельевр покинул Англию, и потому молодой Стаффорд обратился к Шатонефу. Старое родовое имя открыло испорченному юноше доступ к посланнику и как раз в такое время, когда француз был сильно занят, диктуя письмо своему секретарю Кордалю.
На вопрос, чего он желает, Стаффорд объявил, что некто, содержащийся в долговой тюрьме, может сообщить посланнику важные сведения, касающиеся Марии Стюарт.
Как раз в то время Шатонеф особенно хлопотал в интересах шотландской королевы; в сообщении, предложенном ему каким-то арестантом, он не видел решительно ничего таинственного и потому велел своему другому секретарю, Дестранну, отправиться вместе с Стаффордом к означенному лицу и переговорить с ним.
Стаффорд и Дестранн отправились в Ньюгейт, где в то время содержались несостоятельные должники. Здесь Морди открыл посетителю без утайки свой план и свои намерения, Однако Дестранн назвал его сумасбродом и в сильнейшем гневе покинул тюрьму, а также обоих достойных приятелей. Шатоннеф, со своей стороны, дал знать Стаффорду, чтобы тот не смел больше показываться в доме посольства, если не хочет, чтобы на него донесли.
Однако Стаффорд предупредил возможность подобного доноса, сделав сам на посланника донос о том, что он будто бы старался склонить его и Морди к убийству королевы Елизаветы.
Несмотря на нелепость подобного обвинения, было возбуждено следствие. Дестранна арестовали, бумаги Шатонефа опечатали, а Елизавета написала угрожающие и строгие письма Генриху III. В продолжение многих недель всякое сообщение Англии с материком было прервано, и это, пожалуй, также входило в планы Валингэма.
После глупой истории Морди и Стаффорда, главные виновники которой, впрочем, бесследно исчезли, казалось, не было больше никакого основания щадить Марию Стюарт, тем не менее Елизавета все еще не решалась дать приказ об исполнении смертного приговора.
Первый раз в жизни у королевы обнаружились признаки уныния и меланхолии. Елизавета прекратила все свои обычные увеселения, в особенности охоту. Она искала уединения и по временам впадала в мрачное раздумье. Несмотря на ее болезненное состояние, настойчивый Валингэм не давал ей покоя. Он умел добраться до нее в любое время и, требуя вновь смерти Марии Стюарт, жестоко мучил этим английскую королеву.
В своих переживаниях она то и дело возвращалась к прежней мысли — тайно избавиться от Марии. Однако проницательный Валингэм решительно не мог сообразить, на что намекала королева. Наконец Елизавета поняла, что со своими планами ей надо обратиться к кому-нибудь другому.
Однако случаю было суждено прервать ход этих событий. Новый заговор в пользу Марии, о котором она решительно не подозревала, разразился, как гром, с невероятной внезапностью.


 День этот был для могущественной королевы Англии одним из самых дурных. Советники ее короны, возвращаясь в зал из ее комнаты после очередного доклада, одним своим видом уже свидетельствовали о мрачном настроении своей повелительницы. У королевы остался один только Валингэм. С некоторого времени Елизавета стала предпринимать над ним совершенно своеобразные экзерциции, однако он выказывал себя при этом таким же несообразительным, как глупейший новобранец из крестьян при наставлениях унтера. Правда, и намеки, и заигрывания Елизаветы тоже не превосходили ясностью цветистой речи и унтера, но Валингэм, этот всегда столь тонкий государственный человек и прирожденный полицейский, должен был бы стыдиться, что в этом деле проявил так мало сообразительности. Отчего Елизавета еще более сердилась на него, обыкновенно такого покладистого и услужливого, а теперь — невыносимо упрямого, словно заезженная лошадь.
После утренних разговоров с Валенгэмом душевная болезнь Елизаветы зачастую возрастала до настоящих пароксизмов, когда было очень трудно иметь с ней какое- либо дело. Но в такие минуты наготове держали козлов отпущения, способных принять на себя первые потоки ее гнева, и с этой целью Бэрлей очень часто пользовался графом Лейстером.
Отношения обоих лордов друг к другу ни на волос не улучшились с тех пор, когда Лейстер убедился, что казначей содействовал его падению. Но в то же самое время политическое ничтожество Лейстера высветилось еще яснее, да и сам он приближался к тому переходному возрасту, когда красивый мужчина превращается в престарелого фата.
Лейстер глубоко ненавидел Бэрлея и не доверял ему, но каждый раз попадался на удочку Бэрлея, когда тот делал вид, будто верил, что фаворит Елизаветы имеет особое влияние на королеву.
И в этот роковой день, когда по окончании аудиенции лорды вышли из покоев королевы, лорд-казначей дал понять Лейстеру, что хочет переговорить с ним. Лейстер принял это сообщение с выражением холодной вежливости, и оба лорда уединились у окна.
— Милорд, — начал Бэрлей, — я принужден задать вам нескромный вопрос и даже, быть может, упрекнуть вас кое в чем…
— А именно? — с удивлением спросил Лейтстер.
Он был поражен особенным тоном, которым начал разговор Бэрлей.
— Мне кажется, что вы пренебрегаете нашей всемилостивейшей государыней!
— Милорд! — возмутился Лейстер.
— Простите, но как может тогда ее величество так долго пребывать в столь дурном настроении, если за ней ухаживают с должным вниманием и заботливостью?
— Да разве же вы не видели и не слышали, — с раздражением сказал Лейстер, — как она обошлась со мной сегодня?
— Преданный слуга коронованной особы должен уметь все перенести. Благоволением дарственных особ нельзя пользоваться без известных жертв, это — столь же лестное, сколь и полное ответственности положение! Ведь почти преступно выказывать неудовольствие там, где вы должны проявить двойную заботливость и внимание!
— Но послушайте, милорд Бэрлей…
— Дайте мне договорить до конца, милорд! Мы беседуем с вами наедине, и слова, которые говорятся в интересах нашей государыни, нашей высокой повелительницы, не должны и не могут оскорбить вас. Но ваше неудовольствие превращается в государственное преступление, раз благодаря ему у королевы продолжается дурное расположение духа!
Доказательства Бэрлея сыпались с присущей ему логической меткостью, и Лейстер чуть на задыхался от злости, так как не мог придумать никаких основательных возражений на пересыпанную лестью речь своего врага.
— От удивления у меня нет слов, — произнес он наконец. — Мне казалось, что я навсегда потерял благоволение и милость ее величества…
— Ничего подобного! — возразил Бэрлей. — Но давайте сначала посмотрим, куда нас ведет то состояние духа, в которое погружена ее величество. Никогда до такой степени не сказывалась необходимость в ее влиянии на ход политики, как в данный момент, а мы, несмотря на это, никак не можем побудить ее к какому-либо решению.
— Я тоже вижу это.
— Наши внешние враги строят целые комбинации на этом состоянии монархини, и их расчеты заходят очень далеко. Если королева не воспрянет духом, если ее страдания прогрессивно будут расти, то она сыграет с нами очень неприятную штуку…
— Да… да, к сожалению… к сожалению… Но как, спрашивается, изменить это настроение?
— А вот послушайте, что я думаю относительно этого. Итак, наши враги видят в затишье нашей придворной жизни в настоящий момент малодушие, нерешительность, раскаяние в тех шагах, которые были сочтены разумными с точки зрения нашей политики; поэтому они с большей смелостью подняли голову и дерзнули даже угрожать. Это требует от нас контрвызова, блеска, пышности двора, веселья, быть может, даже больших охот, которые в прежнее время составляли любимое развлечение королевы!
— Вы совершенно правы, милорд. Но я все-таки повторяю свой последний вопрос: как прогнать это настроение?
— Мне казалось, что вы могли бы указать королеве на несовместимость подобного состояния духа с королевским саном, указать на возможность потери красоты лица от тоски и горя, на потерю популярности, на исторические последствия, наконец!
— Это очень тяжелая задача!
— Я знаю. Но только вы один и были бы способны разрешить ее!
— Слишком лестно, милорд!
— В то же время вы получите солидную поддержку. Мы сумеем довести до сведения монархини желания двора и народа и сообщить о недовольстве, которое вызывает этот необоснованный траур, и опасения, как бы он не превратился в действительно необходимый…
— Такие намеки я не хотел бы делать.
— Да вам и не нужно делать их. В конце концов я вскользь упомянул ей об иностранной политике, и королева, осажденная таким образом со всех сторон, неизбежно придет в другое состояние духа.
— И при этом я непременно должен быть тем, кто станет таскать для вас каштаны из огня?
— Каждый делает то, что в его силах! — холодно ответил лорд-казначей. — Ведь вы знаете, что для достижения моих целей — то есть целей, связанных с государственными интересами, я охотно довольствуюсь собственными силами и во всяком случае не стал бы искать союза именно с вами, если бы мог как-нибудь обойтись без вас.
— Это по крайней мере высказано с достаточной ясностью и определенностью, — ответил Лейстер, почувствовавший себя и обиженным, и польщенным, — и я готов поверить вам на слово!
— Вы видите, я отдаюсь в вашу власть, отдаю должное вашим заслугам и признаю ваши выдающиеся качества, как это делает наша высокая повелительница. И если я лично иногда держусь иного мнения, то в результате все-таки подчиняюсь взгляду ее величества. Так попытаемся же каждый с своей стороны исполнить свою обязанность, как того требует наша служба ее величеству!
— Вы правы, — вздохнув, согласился Лейстер. — Значит, я должен покориться печальной необходимости… Мне следует сейчас же отправиться к ее величеству?
— Чем скорее, тем лучше, милорд. Но подождите сначала Валингэма; он сообщит вам, каково теперь настроение ее величества. Честь имею кланяться!
Оба лорда глубоко склонились друг перед другом с обязательной улыбкой на устах. И эта улыбка не была так лжива, как всегда, потому что на этот раз они не чувствовали обычной жажды свернуть друг другу шеи.
Лейстер остался в зале, чтобы обождать Валингэма, а Бэрлей прошел в приемную комнату, где встретил даму, с которой очень почтительно раскланялся.
— Леди Анна, — сказал он ей, — мне нужно поговорить с вами, если вы разрешите.
— Пожалуйста, милорд, я к вашим услугам! — ответила дама и последовала за министром в соседнюю комнату.
Леди Анна Брауфорд была в то время обер-гофмейстериной королевы, так глубоко преданной ей, что готова была позволить растоптать себя, если бы это понадобилось для блага Елизаветы. Очень гордая и ограниченная, но добродушная женщина, она имела характер, как нельзя более подходящий для той цели, которую наметил в данном случае Бэрлей.
— Вы, миледи, вероятно, опять и глаз не сомкнули ночью? — спросил лорд леди Анну.
К сожалению, нет: дежурная камер-фрейлина доложила мне, что ночью королева была беспокойнее, чем когда-либо прежде.
— Это просто несчастье!
— Страшное несчастье, милорд!
— Нам нужно как-нибудь помочь этому делу!
— Кто тут может помочь, милорд!
— Вы, леди!
— Что?.. Я?.. Интересно, каким образом я могла бы помочь?
— Ее величество не любит, когда ей говорят правду, но в данном случае необходимо кому-то решиться, даже под угрозой немилости. Но для этого не всякий годится, да и не у всякого найдется столько преданности и готовности к самопожертвованию, как у вас, леди…
— Если бы этого одного было достаточно…
— Вы должны открыть государыне глаза на то, как изменилась она за последнее время; на то, как она изменится еще более и какой неизгладимый след оставит на лице болезнь, если она не справится с ней.
— Вы пугаете меня, милорд!
— Вы должны сообщить ее величеству, что народ уже ропщет, что народ боится за последствия ее болезни, и что все это можно было бы изменить развлечениями и удовольствиями. Время карнавала прошло, но мы могли бы устроить блестящую охоту. Стоит только ее величеству сделать первый шаг, а другие уже не заставят себя ждать. Я уверен, что вы при своей безграничной преданности государыне поможете нам предотвратить несчастье!
— Ну конечно, конечно! — согласилась леди Брауфорд. — Я готова сделать все, что вы считаете нужным, милорд!
— Так сделайте все, что я говорил. Как только милорд Лейстер поговорит с королевой, ступайте к ней!
Лорд-казначей схватил руку леди Брауфорд и поднес ее к своим губам, хотя обыкновенно он не удостаивал этой чести ни одной из придворных дам.
Польщенная леди Брауфорд залилась ярким румянцем и низко поклонилась, эта любезность министра еще более подогрела ее готовность стать громоотводом для него.
Тем временем из апартаментов королевы вышел Валингэм. Он казался чрезвычайно довольным и веселым, словно только что получил величайшую милость, чего, разумеется, на самом деле вовсе не было.
Лорд Лейстер пошел ему навстречу и спросил:
— Что, ее величество спокойна?
— Как всегда!
— Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа! — нетерпеливо сказал Лейстер. — Дело идет о слишком важных вещах. Я спрашиваю вас согласно договоренности с лордом Бэрлеем.
— Так, так! — сказал Валингэм, пытливо всматриваясь в лорда Лейстера. — Но мне казалось, что мой ответ достаточно определен!
— Значит, королева все еще возбуждена и раздражена?
— Ну да!… Но лучше бы она пришла в еще большее раздражение, но по другому поводу.
— Хорошо, — кивнул Лейстер и поспешил к покоям королевы.
Он застыл у порога в глубоком поклоне.
Действительно, внешний вид Елизаветы говорил о глубоком душевном расстройстве. В чертах ее лица, во всех движениях сквозило беспокойство; лихорадочный румянец горел на щеках, глаза бегали по комнате с беспокойным трепетом, лоб был мрачно нахмурен, костюм, вопреки всем привычкам королевы, был небрежен. Она шагала по комнате из угла в угол. Приметив Лейстера, королева резко остановилась и сурово спросила:
— Кто вас звал?
— Ваше величество, — ответил Лейстер, — ваше милостивое позволение на вход в ваши апартаменты для верного слуги является уже само по себе призывом в те минуты, когда это оказывается нужным.
— Ваше присутствие нужно? Но для чего?
— Я не могу больше смотреть на то, как прекраснейшая в мире женщина пренебрегает дарами природы, словно кающаяся грешница!
— Что вы себе опять позволяете, безумный вы человек! — окончательно вышла из себя Елизавета.
— Я позволю себе скорее рискнуть головой, чем молчать долее и не сказать вам, что ваша красота пропадает, что ваш ум теряет в блеске и остроте, что ваши недруги уже радуются тому, что вы вот-вот заболеете. Даже больше, когда-нибудь история упомянет, что до известного момента Елизавета была великой государыней, но…
Надо признать, что для подобного момента слова Лейстера были чересчур смелы. Елизавета даже побледнела от бешенства и крикнула ему, величественно указав рукой на дверь:
— Вон! И не появляйтесь ко мне на глаза до тех пор, пока я не прикажу позвать вас!
Лейстер исчез. Дело оказалось гораздо хуже, чем он мог ожидать, и в его голове уже мелькнула мысль, не подстроил ли всего этого Бэрлей умышленно, чтобы окончательно лишить его благоволения королевы. Он осмотрелся по сторонам, нет ли где-нибудь Бэрлея, и, не найдя его, ушел из дворца.
Леди Анна зорко наблюдала за Лейстером, когда он выходил из комнаты королевы. Он не обратил на нее никакого внимания, поэтому она не решилась заговорить с ним, но ей нетрудно было догадаться, что его визит окончился не очень-то удачно. Несмотря на это, она все-таки отправилась к королеве.
Елизавета не обратила ни малейшего внимания на появление в комнате леди Анны, но крайне удивилась, когда обер-гофмейстерина опустилась около нее на колени и поцеловала подол ее платья.
— Что тебе, Анна? — раздраженно спросила Елизавета.
— Выслушайте меня, пожалуйста, ваше величество!
— Да что тебе нужно? Ну, говори! — еще раздраженнее ответила Елизавета.
— Вы сами, ваше величество, часто говорили: женщина, которая появляется перед мужчиной в небрежном виде, унижает себя!
— Как?… Разве я так небрежно одета?
— Да, ваше величество, и теперь это больше бросается в глаза, чем обыкновенно!
— Но почему?
— Горе начинает отражаться в ваших чертах, государыня, вы худеете, у вас портится цвет лица, взор тускнеет…
— Господи Боже! И это все заметили?
— Конечно, заметили и говорят об этом…
— Ах, сплетники!… Разве солнце всегда блестит?
— Но во времена затмений, когда блеск солнца помрачается, это вызывает смятение.
— Правда… Ну, и что еще?
— Люди думают, чтопри дворе объявлен траур, и спрашивают, почему?
— Ох уж эти мне людишки!… Они только и жаждут развлечений и удовольствий! Неужели они не могут понять, какие чувства обуревают мою душу? Неужели они хотят, чтобы я была их рабой?
— Королевой, государыня! Они хотят, чтобы вы были королевой! Да и вам самой станет легче, если вы немного рассеетесь и потом привычной рукой возьметесь за бразды правления! Ведь уж сколько времени продолжается все это!… А за границей болтают, что английский двор оскудел… А почему? Этого я уж не знаю..
— Нет, это не смеют говорить! — с раздражением воскликнула Елизавета. — Нет, только не это! Дай мне зеркало!
Леди Анна поспешила исполнить приказание.
Конечно, Елизавета не раз смотрелась в зеркало, но в ее голове не было тех мыслей, которые сейчас вызвали в ней разговоры с Лейстером и обер-гофмейстериной. Теперь же, бросив взгляд в зеркало, она невольно отшатнулась и пробормотала:
— Да, я сильно изменилась!
— Соизволите приказать подать вам одеться? — поспешила спросить леди Анна.
— Да, сделай это.
Обер-гофмейстерина радостно поспешила позвать фрейлин; против всякого ожидания она добилась очень многого, и, может быть, только потому, что первый гнев королевы обрушился на Лейстера.
Леди Анна позвала фрейлин, заведовавших гардеробом королевы, и камер-фрейлин. Все поспешили к исполнению своих обязанностей. Леди Анна выбрала любимое платье Елизаветы. Через пять минут королева уже была занята большим туалетом, но для кого собственно — этого она не знала и сама. Но если бы эта всемогущая государыня догадалась сейчас, что служит просто марионеткой в ловких руках своего первого министра, ему пришлось бы плохо..
Через некоторое время Бэрлей снова подошел к леди Анне с немым вопросом. Та сразу поняла его.
— Ее величество занята туалетом, — ответила она.
Ласковая улыбка и новый поцелуй ее руки были наградой министра послушанию обер-гофмейстерины.
— Дайте мне знать, когда государыня окончит свой туалет, — сказал он.
— Слушаю-с, милорд, — ответила леди Анна.
Бэрлей вернулся обратно в кабинет, где он обыкновенно работал во время своих занятий во дворце. Вскоре ему дали знать, что туалет окончен, и он отправился к королеве.
Слезы облегчают горе женщины, но в еще большей степени заботы о собственной наружности могут облегчить ее страдания. Теперь в Елизавете проснулось прежнее кокетство, и казалось, что она забыла обо всем на свете, кроме наряда и украшений.
Королева сидела посреди своей гардеробной в кресле. Перед ней, по бокам и сзади стояли венецианские зеркала выше человеческого роста, и около нее хлопотали парикмахерши да камер-фрейлина, старавшаяся половчее укрепить какое-то бриллиантовое украшение.
Бэрлей так и застыл, словно окаменев, у порога. Елизавета поняла своего министра и улыбнулась. Она выслала из комнаты своих дам и, улыбаясь, спросила Бэрлея:
— С чем вы явились, милорд?
— Ваше величество, я даже забыл, зачем явился к вам, — ответил Бэрлей, весь погруженный в восхищенное созерцание. — Я благословляю небо, что мои глаза удостоились видеть вас в присущем вам блеске, красоте и величественности, что весь ваш вид говорит о лживости уверений ваших врагов!
— В чем дело? — Елизавета поспешно встала и скользнула в находившийся по соседству рабочий кабинет. Бэрлей последовал за ней. — Говорите!
— Злобная зависть и подлое недоброжелательство врагов Англии заставляют их распространять за границей слухи, будто над лондонским двором веет призрак смерти…
— Ого! — в гневе воскликнула королева.
— Врага государства и религии, — продолжал Бэрлей, — уже торжествуют, что в Англии естественным путем произойдет перемена царствования…
— Довольно! — крикнула Елизавета, и ее щеки покраснели даже под слоем белил и румян. — Все остальное я уже поняла! Лорд Дэдлей прав, в известном отношении он обладает огромным тактом…
Бэрлей насмешливо улыбнулся.
— Но хорошо же, — продолжала Елизавета. — Теперь я снова покажу себя! Мы устроим несколько праздников. Я докажу всему свету, что никакие государственные заботы не могут слишком тяжело придавить мне плечи! Что вы посоветуете?
— Погода очень хороша, ваше величество. Прикажите устроить большую охоту. При этом мы не только докажем, что наш двор полон жизни, но и ваша особа явится во всем своем лучезарном величии. Сплетни в народе будут опровергнуты, издевательства и злобные надежды заграничных недругов исчезнут сами собой и все их оскорбительные расчеты разлетятся прахом!
— Вы правы! Завтра же пусть будет устроена большая охота. У вас есть что-нибудь для меня?
Бэрлей сделал ряд незначительных докладов, с которыми было скоро покончено, и ушел от королевы, довольный успехом своего плана.
Елизавета подозвала дежурную камер-фрейлину и приказала:
— Если лорд Лейстер еще в Гринвиче, то позовите его сюда!
Камер-фрейлина ушла.
Лейстер, сейчас же явившийся по переданному ему приказанию, был очень поражен переменой во внешнем виде королевы, но затаил в себе это изумление и стоял у порога с низким поклоном, ожидая приказаний Елизаветы.
— Милорд Дэдлей, — сказала королева, — мы желаем устроить завтра большую охоту, позаботьтесь о всех необходимых приготовлениях, вы будете нашим кавалером.
Счастливый Дэдлей! Как ему было владеть собой!
Он поклонился так низко, что чуть не коснулся лбом пола, и, пятясь, пятясь, вышел из кабинета королевы, ободряемый ее ласковыми улыбками. Сверкая счастьем и гордостью, он прошел через приемную, куда уже проникло известие об устраиваемой большой охоте, что вызвало всеобщую радость и оживление.
День этот был для могущественной королевы Англии одним из самых дурных. Советники ее короны, возвращаясь в зал из ее комнаты после очередного доклада, одним своим видом уже свидетельствовали о мрачном настроении своей повелительницы. У королевы остался один только Валингэм. С некоторого времени Елизавета стала предпринимать над ним совершенно своеобразные экзерциции, однако он выказывал себя при этом таким же несообразительным, как глупейший новобранец из крестьян при наставлениях унтера. Правда, и намеки, и заигрывания Елизаветы тоже не превосходили ясностью цветистой речи и унтера, но Валингэм, этот всегда столь тонкий государственный человек и прирожденный полицейский, должен был бы стыдиться, что в этом деле проявил так мало сообразительности. Отчего Елизавета еще более сердилась на него, обыкновенно такого покладистого и услужливого, а теперь — невыносимо упрямого, словно заезженная лошадь.
После утренних разговоров с Валенгэмом душевная болезнь Елизаветы зачастую возрастала до настоящих пароксизмов, когда было очень трудно иметь с ней какое- либо дело. Но в такие минуты наготове держали козлов отпущения, способных принять на себя первые потоки ее гнева, и с этой целью Бэрлей очень часто пользовался графом Лейстером.
Отношения обоих лордов друг к другу ни на волос не улучшились с тех пор, когда Лейстер убедился, что казначей содействовал его падению. Но в то же самое время политическое ничтожество Лейстера высветилось еще яснее, да и сам он приближался к тому переходному возрасту, когда красивый мужчина превращается в престарелого фата.
Лейстер глубоко ненавидел Бэрлея и не доверял ему, но каждый раз попадался на удочку Бэрлея, когда тот делал вид, будто верил, что фаворит Елизаветы имеет особое влияние на королеву.
И в этот роковой день, когда по окончании аудиенции лорды вышли из покоев королевы, лорд-казначей дал понять Лейстеру, что хочет переговорить с ним. Лейстер принял это сообщение с выражением холодной вежливости, и оба лорда уединились у окна.
— Милорд, — начал Бэрлей, — я принужден задать вам нескромный вопрос и даже, быть может, упрекнуть вас кое в чем…
— А именно? — с удивлением спросил Лейтстер.
Он был поражен особенным тоном, которым начал разговор Бэрлей.
— Мне кажется, что вы пренебрегаете нашей всемилостивейшей государыней!
— Милорд! — возмутился Лейстер.
— Простите, но как может тогда ее величество так долго пребывать в столь дурном настроении, если за ней ухаживают с должным вниманием и заботливостью?
— Да разве же вы не видели и не слышали, — с раздражением сказал Лейстер, — как она обошлась со мной сегодня?
— Преданный слуга коронованной особы должен уметь все перенести. Благоволением дарственных особ нельзя пользоваться без известных жертв, это — столь же лестное, сколь и полное ответственности положение! Ведь почти преступно выказывать неудовольствие там, где вы должны проявить двойную заботливость и внимание!
— Но послушайте, милорд Бэрлей…
— Дайте мне договорить до конца, милорд! Мы беседуем с вами наедине, и слова, которые говорятся в интересах нашей государыни, нашей высокой повелительницы, не должны и не могут оскорбить вас. Но ваше неудовольствие превращается в государственное преступление, раз благодаря ему у королевы продолжается дурное расположение духа!
Доказательства Бэрлея сыпались с присущей ему логической меткостью, и Лейстер чуть на задыхался от злости, так как не мог придумать никаких основательных возражений на пересыпанную лестью речь своего врага.
— От удивления у меня нет слов, — произнес он наконец. — Мне казалось, что я навсегда потерял благоволение и милость ее величества…
— Ничего подобного! — возразил Бэрлей. — Но давайте сначала посмотрим, куда нас ведет то состояние духа, в которое погружена ее величество. Никогда до такой степени не сказывалась необходимость в ее влиянии на ход политики, как в данный момент, а мы, несмотря на это, никак не можем побудить ее к какому-либо решению.
— Я тоже вижу это.
— Наши внешние враги строят целые комбинации на этом состоянии монархини, и их расчеты заходят очень далеко. Если королева не воспрянет духом, если ее страдания прогрессивно будут расти, то она сыграет с нами очень неприятную штуку…
— Да… да, к сожалению… к сожалению… Но как, спрашивается, изменить это настроение?
— А вот послушайте, что я думаю относительно этого. Итак, наши враги видят в затишье нашей придворной жизни в настоящий момент малодушие, нерешительность, раскаяние в тех шагах, которые были сочтены разумными с точки зрения нашей политики; поэтому они с большей смелостью подняли голову и дерзнули даже угрожать. Это требует от нас контрвызова, блеска, пышности двора, веселья, быть может, даже больших охот, которые в прежнее время составляли любимое развлечение королевы!
— Вы совершенно правы, милорд. Но я все-таки повторяю свой последний вопрос: как прогнать это настроение?
— Мне казалось, что вы могли бы указать королеве на несовместимость подобного состояния духа с королевским саном, указать на возможность потери красоты лица от тоски и горя, на потерю популярности, на исторические последствия, наконец!
— Это очень тяжелая задача!
— Я знаю. Но только вы один и были бы способны разрешить ее!
— Слишком лестно, милорд!
— В то же время вы получите солидную поддержку. Мы сумеем довести до сведения монархини желания двора и народа и сообщить о недовольстве, которое вызывает этот необоснованный траур, и опасения, как бы он не превратился в действительно необходимый…
— Такие намеки я не хотел бы делать.
— Да вам и не нужно делать их. В конце концов я вскользь упомянул ей об иностранной политике, и королева, осажденная таким образом со всех сторон, неизбежно придет в другое состояние духа.
— И при этом я непременно должен быть тем, кто станет таскать для вас каштаны из огня?
— Каждый делает то, что в его силах! — холодно ответил лорд-казначей. — Ведь вы знаете, что для достижения моих целей — то есть целей, связанных с государственными интересами, я охотно довольствуюсь собственными силами и во всяком случае не стал бы искать союза именно с вами, если бы мог как-нибудь обойтись без вас.
— Это по крайней мере высказано с достаточной ясностью и определенностью, — ответил Лейстер, почувствовавший себя и обиженным, и польщенным, — и я готов поверить вам на слово!
— Вы видите, я отдаюсь в вашу власть, отдаю должное вашим заслугам и признаю ваши выдающиеся качества, как это делает наша высокая повелительница. И если я лично иногда держусь иного мнения, то в результате все-таки подчиняюсь взгляду ее величества. Так попытаемся же каждый с своей стороны исполнить свою обязанность, как того требует наша служба ее величеству!
— Вы правы, — вздохнув, согласился Лейстер. — Значит, я должен покориться печальной необходимости… Мне следует сейчас же отправиться к ее величеству?
— Чем скорее, тем лучше, милорд. Но подождите сначала Валингэма; он сообщит вам, каково теперь настроение ее величества. Честь имею кланяться!
Оба лорда глубоко склонились друг перед другом с обязательной улыбкой на устах. И эта улыбка не была так лжива, как всегда, потому что на этот раз они не чувствовали обычной жажды свернуть друг другу шеи.
Лейстер остался в зале, чтобы обождать Валингэма, а Бэрлей прошел в приемную комнату, где встретил даму, с которой очень почтительно раскланялся.
— Леди Анна, — сказал он ей, — мне нужно поговорить с вами, если вы разрешите.
— Пожалуйста, милорд, я к вашим услугам! — ответила дама и последовала за министром в соседнюю комнату.
Леди Анна Брауфорд была в то время обер-гофмейстериной королевы, так глубоко преданной ей, что готова была позволить растоптать себя, если бы это понадобилось для блага Елизаветы. Очень гордая и ограниченная, но добродушная женщина, она имела характер, как нельзя более подходящий для той цели, которую наметил в данном случае Бэрлей.
— Вы, миледи, вероятно, опять и глаз не сомкнули ночью? — спросил лорд леди Анну.
К сожалению, нет: дежурная камер-фрейлина доложила мне, что ночью королева была беспокойнее, чем когда-либо прежде.
— Это просто несчастье!
— Страшное несчастье, милорд!
— Нам нужно как-нибудь помочь этому делу!
— Кто тут может помочь, милорд!
— Вы, леди!
— Что?.. Я?.. Интересно, каким образом я могла бы помочь?
— Ее величество не любит, когда ей говорят правду, но в данном случае необходимо кому-то решиться, даже под угрозой немилости. Но для этого не всякий годится, да и не у всякого найдется столько преданности и готовности к самопожертвованию, как у вас, леди…
— Если бы этого одного было достаточно…
— Вы должны открыть государыне глаза на то, как изменилась она за последнее время; на то, как она изменится еще более и какой неизгладимый след оставит на лице болезнь, если она не справится с ней.
— Вы пугаете меня, милорд!
— Вы должны сообщить ее величеству, что народ уже ропщет, что народ боится за последствия ее болезни, и что все это можно было бы изменить развлечениями и удовольствиями. Время карнавала прошло, но мы могли бы устроить блестящую охоту. Стоит только ее величеству сделать первый шаг, а другие уже не заставят себя ждать. Я уверен, что вы при своей безграничной преданности государыне поможете нам предотвратить несчастье!
— Ну конечно, конечно! — согласилась леди Брауфорд. — Я готова сделать все, что вы считаете нужным, милорд!
— Так сделайте все, что я говорил. Как только милорд Лейстер поговорит с королевой, ступайте к ней!
Лорд-казначей схватил руку леди Брауфорд и поднес ее к своим губам, хотя обыкновенно он не удостаивал этой чести ни одной из придворных дам.
Польщенная леди Брауфорд залилась ярким румянцем и низко поклонилась, эта любезность министра еще более подогрела ее готовность стать громоотводом для него.
Тем временем из апартаментов королевы вышел Валингэм. Он казался чрезвычайно довольным и веселым, словно только что получил величайшую милость, чего, разумеется, на самом деле вовсе не было.
Лорд Лейстер пошел ему навстречу и спросил:
— Что, ее величество спокойна?
— Как всегда!
— Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа! — нетерпеливо сказал Лейстер. — Дело идет о слишком важных вещах. Я спрашиваю вас согласно договоренности с лордом Бэрлеем.
— Так, так! — сказал Валингэм, пытливо всматриваясь в лорда Лейстера. — Но мне казалось, что мой ответ достаточно определен!
— Значит, королева все еще возбуждена и раздражена?
— Ну да!… Но лучше бы она пришла в еще большее раздражение, но по другому поводу.
— Хорошо, — кивнул Лейстер и поспешил к покоям королевы.
Он застыл у порога в глубоком поклоне.
Действительно, внешний вид Елизаветы говорил о глубоком душевном расстройстве. В чертах ее лица, во всех движениях сквозило беспокойство; лихорадочный румянец горел на щеках, глаза бегали по комнате с беспокойным трепетом, лоб был мрачно нахмурен, костюм, вопреки всем привычкам королевы, был небрежен. Она шагала по комнате из угла в угол. Приметив Лейстера, королева резко остановилась и сурово спросила:
— Кто вас звал?
— Ваше величество, — ответил Лейстер, — ваше милостивое позволение на вход в ваши апартаменты для верного слуги является уже само по себе призывом в те минуты, когда это оказывается нужным.
— Ваше присутствие нужно? Но для чего?
— Я не могу больше смотреть на то, как прекраснейшая в мире женщина пренебрегает дарами природы, словно кающаяся грешница!
— Что вы себе опять позволяете, безумный вы человек! — окончательно вышла из себя Елизавета.
— Я позволю себе скорее рискнуть головой, чем молчать долее и не сказать вам, что ваша красота пропадает, что ваш ум теряет в блеске и остроте, что ваши недруги уже радуются тому, что вы вот-вот заболеете. Даже больше, когда-нибудь история упомянет, что до известного момента Елизавета была великой государыней, но…
Надо признать, что для подобного момента слова Лейстера были чересчур смелы. Елизавета даже побледнела от бешенства и крикнула ему, величественно указав рукой на дверь:
— Вон! И не появляйтесь ко мне на глаза до тех пор, пока я не прикажу позвать вас!
Лейстер исчез. Дело оказалось гораздо хуже, чем он мог ожидать, и в его голове уже мелькнула мысль, не подстроил ли всего этого Бэрлей умышленно, чтобы окончательно лишить его благоволения королевы. Он осмотрелся по сторонам, нет ли где-нибудь Бэрлея, и, не найдя его, ушел из дворца.
Леди Анна зорко наблюдала за Лейстером, когда он выходил из комнаты королевы. Он не обратил на нее никакого внимания, поэтому она не решилась заговорить с ним, но ей нетрудно было догадаться, что его визит окончился не очень-то удачно. Несмотря на это, она все-таки отправилась к королеве.
Елизавета не обратила ни малейшего внимания на появление в комнате леди Анны, но крайне удивилась, когда обер-гофмейстерина опустилась около нее на колени и поцеловала подол ее платья.
— Что тебе, Анна? — раздраженно спросила Елизавета.
— Выслушайте меня, пожалуйста, ваше величество!
— Да что тебе нужно? Ну, говори! — еще раздраженнее ответила Елизавета.
— Вы сами, ваше величество, часто говорили: женщина, которая появляется перед мужчиной в небрежном виде, унижает себя!
— Как?… Разве я так небрежно одета?
— Да, ваше величество, и теперь это больше бросается в глаза, чем обыкновенно!
— Но почему?
— Горе начинает отражаться в ваших чертах, государыня, вы худеете, у вас портится цвет лица, взор тускнеет…
— Господи Боже! И это все заметили?
— Конечно, заметили и говорят об этом…
— Ах, сплетники!… Разве солнце всегда блестит?
— Но во времена затмений, когда блеск солнца помрачается, это вызывает смятение.
— Правда… Ну, и что еще?
— Люди думают, чтопри дворе объявлен траур, и спрашивают, почему?
— Ох уж эти мне людишки!… Они только и жаждут развлечений и удовольствий! Неужели они не могут понять, какие чувства обуревают мою душу? Неужели они хотят, чтобы я была их рабой?
— Королевой, государыня! Они хотят, чтобы вы были королевой! Да и вам самой станет легче, если вы немного рассеетесь и потом привычной рукой возьметесь за бразды правления! Ведь уж сколько времени продолжается все это!… А за границей болтают, что английский двор оскудел… А почему? Этого я уж не знаю..
— Нет, это не смеют говорить! — с раздражением воскликнула Елизавета. — Нет, только не это! Дай мне зеркало!
Леди Анна поспешила исполнить приказание.
Конечно, Елизавета не раз смотрелась в зеркало, но в ее голове не было тех мыслей, которые сейчас вызвали в ней разговоры с Лейстером и обер-гофмейстериной. Теперь же, бросив взгляд в зеркало, она невольно отшатнулась и пробормотала:
— Да, я сильно изменилась!
— Соизволите приказать подать вам одеться? — поспешила спросить леди Анна.
— Да, сделай это.
Обер-гофмейстерина радостно поспешила позвать фрейлин; против всякого ожидания она добилась очень многого, и, может быть, только потому, что первый гнев королевы обрушился на Лейстера.
Леди Анна позвала фрейлин, заведовавших гардеробом королевы, и камер-фрейлин. Все поспешили к исполнению своих обязанностей. Леди Анна выбрала любимое платье Елизаветы. Через пять минут королева уже была занята большим туалетом, но для кого собственно — этого она не знала и сама. Но если бы эта всемогущая государыня догадалась сейчас, что служит просто марионеткой в ловких руках своего первого министра, ему пришлось бы плохо..
Через некоторое время Бэрлей снова подошел к леди Анне с немым вопросом. Та сразу поняла его.
— Ее величество занята туалетом, — ответила она.
Ласковая улыбка и новый поцелуй ее руки были наградой министра послушанию обер-гофмейстерины.
— Дайте мне знать, когда государыня окончит свой туалет, — сказал он.
— Слушаю-с, милорд, — ответила леди Анна.
Бэрлей вернулся обратно в кабинет, где он обыкновенно работал во время своих занятий во дворце. Вскоре ему дали знать, что туалет окончен, и он отправился к королеве.
Слезы облегчают горе женщины, но в еще большей степени заботы о собственной наружности могут облегчить ее страдания. Теперь в Елизавете проснулось прежнее кокетство, и казалось, что она забыла обо всем на свете, кроме наряда и украшений.
Королева сидела посреди своей гардеробной в кресле. Перед ней, по бокам и сзади стояли венецианские зеркала выше человеческого роста, и около нее хлопотали парикмахерши да камер-фрейлина, старавшаяся половчее укрепить какое-то бриллиантовое украшение.
Бэрлей так и застыл, словно окаменев, у порога. Елизавета поняла своего министра и улыбнулась. Она выслала из комнаты своих дам и, улыбаясь, спросила Бэрлея:
— С чем вы явились, милорд?
— Ваше величество, я даже забыл, зачем явился к вам, — ответил Бэрлей, весь погруженный в восхищенное созерцание. — Я благословляю небо, что мои глаза удостоились видеть вас в присущем вам блеске, красоте и величественности, что весь ваш вид говорит о лживости уверений ваших врагов!
— В чем дело? — Елизавета поспешно встала и скользнула в находившийся по соседству рабочий кабинет. Бэрлей последовал за ней. — Говорите!
— Злобная зависть и подлое недоброжелательство врагов Англии заставляют их распространять за границей слухи, будто над лондонским двором веет призрак смерти…
— Ого! — в гневе воскликнула королева.
— Врага государства и религии, — продолжал Бэрлей, — уже торжествуют, что в Англии естественным путем произойдет перемена царствования…
— Довольно! — крикнула Елизавета, и ее щеки покраснели даже под слоем белил и румян. — Все остальное я уже поняла! Лорд Дэдлей прав, в известном отношении он обладает огромным тактом…
Бэрлей насмешливо улыбнулся.
— Но хорошо же, — продолжала Елизавета. — Теперь я снова покажу себя! Мы устроим несколько праздников. Я докажу всему свету, что никакие государственные заботы не могут слишком тяжело придавить мне плечи! Что вы посоветуете?
— Погода очень хороша, ваше величество. Прикажите устроить большую охоту. При этом мы не только докажем, что наш двор полон жизни, но и ваша особа явится во всем своем лучезарном величии. Сплетни в народе будут опровергнуты, издевательства и злобные надежды заграничных недругов исчезнут сами собой и все их оскорбительные расчеты разлетятся прахом!
— Вы правы! Завтра же пусть будет устроена большая охота. У вас есть что-нибудь для меня?
Бэрлей сделал ряд незначительных докладов, с которыми было скоро покончено, и ушел от королевы, довольный успехом своего плана.
Елизавета подозвала дежурную камер-фрейлину и приказала:
— Если лорд Лейстер еще в Гринвиче, то позовите его сюда!
Камер-фрейлина ушла.
Лейстер, сейчас же явившийся по переданному ему приказанию, был очень поражен переменой во внешнем виде королевы, но затаил в себе это изумление и стоял у порога с низким поклоном, ожидая приказаний Елизаветы.
— Милорд Дэдлей, — сказала королева, — мы желаем устроить завтра большую охоту, позаботьтесь о всех необходимых приготовлениях, вы будете нашим кавалером.
Счастливый Дэдлей! Как ему было владеть собой!
Он поклонился так низко, что чуть не коснулся лбом пола, и, пятясь, пятясь, вышел из кабинета королевы, ободряемый ее ласковыми улыбками. Сверкая счастьем и гордостью, он прошел через приемную, куда уже проникло известие об устраиваемой большой охоте, что вызвало всеобщую радость и оживление.


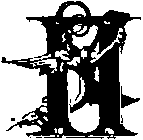 Приговор Марии Стюарт вызвал в Англии народную радость, а в Шотландии — страшное раздражение. Негодовали и правители всей Европы. В глазах протестантов этот приговор подрывал уважение к Елизавете и увеличивал ненависть католиков. А на всех заграничных приверженцев Марии Стюарт, на всех английских и шотландских лордов, бежавших за границу, он произвел впечатление удара грома среди ясного неба, так как они смотрели на нее как на политическую и религиозную мученицу. К таким приверженцам принадлежал и шотландский лорд Мак-Лин, который давно уже жил не в Шотландии, а в Италии, у озера Комо.
Мак-Лин был скорее приверженцем католической религии, чем королевы Стюарт. Его меньше всего интересовали счеты Елизаветы с Марией, гораздо больше — восстания против протестантского господства в Шотландии. Тем не менее он считал Марию Стюарт законной государыней, а себя — ее подданным.
Когда партия Марии Стюарт была рассеяна, враги Мак-Лина воспользовались удобным случаем свести с ним личные счеты. Поэтому Мак-Лин был вынужден бежать и скрыться во Франции с частью преданных ему людей.
В изгнании скончалась супруга лорда, оставив ему сына Эдуарда в возрасте пяти лет. После смерти любимой жены Франция опротивела лорду. Поэтому в сопровождении тех слуг, которые по-прежнему не желали расставаться с ним, Мак-Лин переехал в северную Италию. Купив там имение, он основал небольшую шотландскую колонию. С того времени прошло пятнадцать лет, лорд состарился и познал равнодушие к мирской суете.
Но за это время вырос его сын Эдуард, которому исполнилось уже двадцать лет, вместе с ним выросло и новое поколение шотландских эмигрантов.
В раннем детстве воспитанием Эдуарда руководила старая кормилица, ярая католичка и фанатическая поклонница королевы Марии Стюарт. Позднее воспитанием юноши занялся суровый шотландский ученый по имени Буртон, который бежал вместе с лордом из Шотландии и о котором можно было сказать то же самое, что и о кормилице. Одновременно с сыном лорда старик занимался также и с остальными детьми колонии.
К одному из этих юношей Киприану Аррану лорд Эдуард питал особенно крепкую и дружескую привязанность. Позднее Киприан стал кузнецом. Но это обстоятельство не мешало совместному обучению, которое продолжалось теперь по воскресным и праздничным дням. Старый лорд и сам время от времени читал молодой аудитории нечто вроде лекций, состоящих из описаний различных местностей и красот родины, из рассказов по истории ее государей. Благодаря этому молодые люди росли религиозно и патриотически настроенными, что сделало их фанатичными сторонниками несчастной Марии Стюарт.
С особенной силой все эти чувства проявлялись у Эдуарда, который вырос в сильного, красивого и энергичного молодого человека. Он стал самым отъявленным приверженцем Марии Стюарт и увлек этим и своего друга Киприана.
Сначала эти симпатии не преследовали какой-нибудь определенной цели, да и воспитание молодежи велось без предвзятого намерения. Лорд спешил женить сына, и тот уже успел обручиться с одной из своих соотечественниц.
Но вдруг в их краях появился незнакомый шотландец, оказавшийся агентом, который был послан из Парижа в Рим по делам Марии Стюарт и возвращался теперь обратно. Этого человека звали Петром. Он-то и принес своим соотечественникам весть об осуждении Марии на смерть, при этом заметил, что с приведением приговора в исполнение английское правительство не торопится.
Эта весть изменила обстановку в доме Мак-Лина. Все перепугались и переживали за королеву. Но вскоре пришло и утешение: Эдуард решил освободить Марию Стюарт, и отец одобрил этот план.
Шотландец Петр отправился в один из соседних городков, и Эдуард поспешил к нему, чтобы сообщить о своем решении. Петр был очень удивлен, что и в чужой земле зреют такие надежды и намерения, одобрил план Эдуарда и обещал ему помощь кардинала Лотарингского, кроме того, он предложил юноше отправиться вместе с ним в Париж.
Эдуарду понадобились помощники, и первым делом он подумал о своем лучшем друге. Киприан Арран немедленно согласился и постарался уговорить своих товарищей. Двенадцать соотечественников выразили согласие помочь Эдуарду и Киприану в их деле.
Эдуард простился с невестой и ее родителями, придумав правдоподобный предлог для отъезда. Его снабдили рекомендательными письмами и достаточными средствами. И вот Эдуард в сопровождении Петра и дюжины смелых, отважных, хорошо вооруженных людей на великолепных лошадях поспешил к намеченной цели.
От озера Комо направились через Савою, перебрались через Мон-Цени и без всяких препятствий добрались до французской границы. Но по ту сторону границы натолкнулись на такое приключение, которое можно было счесть за счастливое предзнаменование.
Через несколько дней пути по Франции они прибыли в округ Бон, местность, где вообще никогда не бывало недостатка в бандитах. Путники хотели добраться до города до наступления вечера, им предстояло проехать неспокойным лесом, о чем их предостерегали еще на последней остановке. Лес состоял из старых каштанов и дубов, густые вершины которых не пропускали света даже днем, вечером же там постоянно царила полная тьма. Почва была очень холмистая, а дорога так извивалась, что даже и при полном свете было бы невозможно видеть что-нибудь впереди. Путники были начеку, держали оружие наготове не только для защиты, но и для немедленного нападения при первой угрозе. Не прошло и получаса, когда вдруг из лесного мрака до них донеслись звуки выстрелов и крики о помощи.
— Там на кого-то напали! — сказал Петр.
— Не поспешить ли нам на помощь! — спросил Эдуард.
— Ну разумеется! — отозвался Киприан.
— Тогда вперед! — скомандовал Петр, и вся кавалькада галопом понеслась в сторону разбойничьего нападения.
Домчавшись до места нападения, наши путешественники застали только опрокинутую карету, под которой лежал человек, видимо, тяжело раненный. Вырвавшаяся из упряжки четверка лошадей пугливо храпела. В кромешной тьме трудно было что-нибудь разглядеть.
Петр и Эдуард заговорили по-французски с человеком, лежавшим на земле. Но тот сообщил, что он — кучер некоего лорда, которого только что утащили разбойники вместе с супругой, детьми и слугами.
— Так значит, это — англичане? — тихо сказал Петр. — Попытаемся освободить их!
— Но где их найдешь в этой темной гуще леса? — возразил Эдуард.
— Вы только скажите своим людям, чтобы они слушали мои распоряжения! — произнес Петр.
Эдуард так и сделал.
Тогда Петр велел десятерым всадникам спешиться, сам тоже слез с лошади и повел их за собой.
Призывы о помощи служили им хорошим ориентиром. Бандиты, которых задерживало сопротивление пленников и детей, не могли двигаться так быстро, как их преследователи. К тому же они надеялись, что наткнулись на марэшоссэ (особый род конной стражи, оберегавшей проезжие дороги и шоссе) или полицию, которые обыкновенно довольствовались тем, что спугивали разбойников и благоразумно не пускались преследовать их. И бандиты немало удивились, когда заметили, что преследователи почти уже догнали их. От испуга они бросили пленников и добычу, чтобы поскорее скрыться от погони. Таким образом, пленники были освобождены и окружены спасителями.
— Посмотрите, — крикнул Петр по-английски, — все вы здесь, потому что еще есть время продолжать погоню.
Среди спасенных началась страшная суматоха и крики; им пришлось на ощупь убеждаться, здесь ли все.
— Не хватает еще кучера! — сказал наконец кто-то из них.
— Он там, на дороге, — ответил Петр. — Теперь идите за нами к карете.
— Помогите дамам и детям, — приказал Эдуард своим людям.
Все торопливо направились к дороге.
— Кому я обязан за спасение? — спросил один из англичан. — Я — лорд Стаффорд, посланник ее величества английской королевы при французском дворе.
Петр, шедший рядом с Эдуардом, сжал руку молодого человека и шепнул:
— Не выдавайте меня! Говорите с ними вы.
— О, прошу вас, не утруждайте себя выражениями благодарности за такую ничтожную услугу, милорд! — произнес Эдуард. — Меня зовут Мак-Лин, я — шотландец и направляюсь в Париж, Я бесконечно рад, что имел случай оказать вам эту небольшую услугу.
— Вы меня смущаете, сэр! — воскликнул лорд. — Но мы, разумеется, еще увидимся с вами?
— Мне будет очень приятно поближе познакомиться с вами, — ответил Эдуард.
Тем временем все дошли до дороги. Оставшиеся на месте люди Эдуарда оказали раненому кучеру первую помощь и поставили карету на колеса. Киприан, который, как и все кузнецы того времени, понимал кое-что в медицине, исследовал раны кучера и наложил повязки. Люди лорда пристроили поклажу обратно на место, и все семейство могло уже продолжить свой путь. Вместо кучера, которого устроили поудобнее, на козлы влез один из слуг.
Лорд Стаффорд направлялся в Бон после короткого отдыха на юге Франции. Но если принять во внимание те чувства, которые питали в то время французы к англичанам, то станет понятным, что посланник уезжал из Парижа просто для того, чтобы уклониться от ненависти парижан к английскому послу при вести о смертном приговоре Марии Стюарт.
Петр распорядился, чтобы часть всадников ехала перед каретой, а часть — позади нее вместе с ним и Эдуардом.
— Сэр Эдуард, — шепнул Петр, — это — такая встреча, которая может очень пригодиться вам.
— В каком смысле? — спросил Мак-Лин.
— В самом простом. Вы никого не знаете в Англии, так попросите у этого лорда Стаффорда рекомендаций ко двору. Он охотно даст, Вы избавитесь от массы хлопот и вам не нужно будет прятаться. К тому же он принял вас за знатного человека, оставьте его при этой иллюзии.
— Но не могу же я выдавать себя за того, кем на самом деле не являюсь?
— Не нужно быть таким щепетильным, когда речь идет о важном деле. Во мраке ваша свита производит солидное впечатление, а днем лорд не должен видеть ее. Мы устроимся в другой гостинице, а вы отправьтесь к лорду с визитом. Утром мы уедем раньше лорда.
— Я подумаю об этом, — ответил Эдуард.
В Боне шотландцам пришлось остановиться в одной гостинице с англичанами, но шум и суета, вызванные свитой Эдуарда, в темноте и при смутном свете ламп могли создать впечатление знатности молодого человека.
Лорд Стаффорд подошел к Эдуарду и, попросив у него извинения, что в данном случае он нарушает обычные правила вежливости, пригласил его отужинать вместе с ним и его семейством. Эдуард согласился и отравился к себе в комнату, чтобы переодеться.
В данных обстоятельствах необходимость присутствовать на ужине была скорее тяжелым бременем, нежели удовольствием, но его необходимо было перенести; кроме того, Эдуард был обязан справиться, как себя чувствует семья лорда после ночного потрясения. В кругу семьи лорда он был принят очень радушно. Жена и дети лорда поблагодарили его, и все отправились к столу, чтобы поужинать. Когда перед сном дети и жена лорда прощались с гостем, они выразили надежду увидеть его на следующий день. На это Эдуард не сказал ни «да», ни «нет», а только выразил надежду, что неприятное приключение в лесу обойдется без всяких дурных последствий. Мужчины остались одни.
Лорд Стаффорд, снова выразив Эдуарду свою признательность, сказал, что надеется поехать с ним в Париж вместе.
— Я очень сожалею, милорд, что не могу воспользоваться вашим предложением, — ответил Эдуард. — Я очень тороплюсь, в Париже меня ждет важное дело, которое требует, чтобы я вовремя попал туда.
Стаффорд пытливо уставился на говорившего. Ему хотелось узнать, какого рода это дело, так как в его глазах человек, путешествующий с такой большой свитой, должен был обязательно быть особой, преследующей какие-то дипломатические цели. Но лорд счел себя обязанным подавить в себе на этот раз любопытство и лишь высказать сожаление, что вместе с Эдуардом поехать ему не удастся.
— Тем не менее, — продолжал он, — я надеюсь еще встретиться с вами, сэр. Если могу быть полезен вам чем- либо, то очень прошу вас, скажите, чем — и я готов к вашим услугам. Правда, я чужой в этой стране, но у меня имеются громадные связи, которыми я рад буду воспользоваться для того, чтобы быть полезным вам.
Эдуард помолчал некоторое время. Ему было очень неудобно пользоваться рекомендациями посланника, чтобы проникнуть в те круги, которые для него мало доступны. Но поставленная цель заставила его последовать совету Петра.
— Я боюсь, что покажусь слишком нескромным, — сказал он наконец.
— Ни в коем случае, сэр! — возразил лорд. — Вы не можете себе представить, как я был бы рад, если бы и в самом деле мог хоть чем-нибудь услужить вам!
— Во Франции мне не нужны никакие рекомендации, — продолжал Эдуард, — так как я рассчитываю отправиться в Лондон. Мне очень хотелось бы иметь возможность появиться при дворе, но, к сожалению, я не знаю там никого из влиятельных лиц…
— О, если дело только в этом… — начал лорд.
Вдруг он запнулся и снова пытливо уставился на молодого человека. Но молодость Эдуарда быстро рассеяла смутные подозрения, да и врожденная вежливость помешала высказать их. В свою очередь, Эдуард постарался сохранить самый непринужденный вид, и это удалось ему в достаточной мере.
— Простите, милорд, — сказал он, — я слишком мало знаком вам, чтобы иметь право на ваше доверие.
— Вы меня поняли вовсе не так, — смутился лорд. — Я просто задумался о том, каким именно лицам я мог бы вас рекомендовать. Но скажите, мы еще увидимся с вами в Париже ранее того, как вы отправитесь в Лондон?
— Это неизвестно.
— В таком случае я сейчас же напишу письма.
— Помилуйте… такое затруднение…
— Никаких затруднений, наоборот, это — просто приятная работа для меня. Я поручу вас моей матери, она лучше всякого другого сумеет оценить оказанную вами мне услугу. В качестве статс-дамы королевы Елизаветы она может в значительной мере удовлетворить ваши желания.
Эдуард ответил поклоном, он с беспокойством подумал о том, что может сделать несчастной целую семью, а удастся или нет его предприятие, это — еще вопрос.
— Кроме того, — продолжал Стаффорд, — я дам вам рекомендательные письма к лорду Бэрлею и Лейстеру; больше вам никого не нужно.
— Очень благодарен вам, милорд! — ответил Эдуард.
Не должно казаться странным, что оба они ни разу не упомянули в разговоре о шотландской королеве. Самому Стаффорду было очень неприятно касаться этой темы, а Эдуард боялся выдать себя, если разговор зайдет о Марии Стюарт.
Во время написания писем лорд Стаффорд назвал еще несколько лиц, которым Эдуард мог передать привет от него.
Наконец с письмами было покончено. Эдуард взял их, поблагодарил и простился с лордом. Он чувствовал себя сильно утомленным, поэтому сейчас же ушел к себе в комнату, чтобы лечь спать.
На следующий день отряд шотландцев двинулся в путь с первыми проблесками зари. Лорд Стаффорд и его семья еще спали.
Когда всадники выехали из города, Мак-Лин рассказал Петру о разговоре, происшедшем вчера между ним и лордом Стаффордом.
— Хорошо, очень хорошо! — заметил Петр. — Я считаю, эта встреча и рекомендательные письма лорда очень помогут нам.
— Я тоже очень рад этому происшествию, — сказал Эдуард. — Но ночью мне пришла в голову идея попросить аудиенции у королевы Елизаветы.
— Вы хотите представления ко двору?
— Нет, настоящей и тайной аудиенции.
— Для чего?
— Чтобы убедить королеву Елизавету отпустить на волю Марию Стюарт.
— Молодой человек, это пытались сделать уже многие!
— Но, быть может, делали это не так, как следует.
— Эго делалось всевозможными способами. Если вы хотите знать мое мнение, то от этой мысли надо отказаться.
— Хорошо, я подумаю.
— Передача рекомендательных писем, знакомство с знатными господами, представление ко двору, — продолжал Петр, — все это — очень хорошие ширмы, за которыми вы можете скрыть ваши истинные намерения. Между прочим, вы должны рассчитывать и на то, что лорд Стаффорд поможет вам и в других отношениях. Епископ Росс кий даст вам дальнейшие указания, поэтому оставим пока все так, как есть.
Наступила зима, когда Эдуард со своим отрядом прибыл в Париж. Он поместился в рекомендованной ему Петром гостинице и на следующий день отправился к епископу Росскому. Тот принял его очень любезно, так как уже был оповещен Петром. В беседах епископ дал юному искателю приключений необходимые указания и наставления и одобрил мысль поговорить еще с кардиналом Лотарингским.
В начале декабря Эдуард со своей свитой въехал в Реймс — город, где издревле короновались французские государи, и получил несколько аудиенций у кардинала. Этот кардинал вызвал к себе и Киприана Аррана, с которым поговорил наедине. И Мак-Лин заметил, что с этих пор в друге произошла значительная перемена. Арран стал серьезен, мрачен и скуп на слова, большую часть времени предавался своим раздумьям. Вероятно, кардинал отдал предпочтение Аррану.
В скором времени путники выехали из Реймса, чтобы отправиться в Кале, откуда надеялись переправиться в Англию и Лондон. Эдуард мог безбоязненно решиться на это, так как его имя было почти неизвестно в Англии, и едва ли кто-нибудь знал, что его отец покинул Шотландию.
Для переезда в Дувр Эдуард воспользовался собственным, специально для этой цели зафрахтованным судном, на котором все и добрались вполне благополучно до английского берега.
И тут Киприан стал проявлять такое беспокойство, что Эдуард решился его спросить:
— Что с тобой? Уж не раскаиваешься ли ты? Или боишься?
— Я ни в чем не раскаиваюсь, — ответил кузнец, — и ничего не боюсь, наоборот, сгораю от желания скорее покончить наше дело.
— И все-таки тебе придется сдерживаться! Наша задача сводится к лозунгу: «Терпение!» Да и вообще нам придется изменить свой план.
— В каком отношении? — удивился Киприан.
— Мы не последуем указаниям кардинала, а, как решили сначала, воспользуемся рекомендательными письмами Стаффорда.
— Но ведь, если я верно понял желания его преосвященства, то он хотел, чтобы мы не пользовались рекомендательными письмами лорда Стаффорда!
— Да, он так считает, но я держусь совершенно другого взгляда на вещи, и мой взгляд, надеюсь, правильнее его.
— Смею я спросить, что ты имеешь в виду?
— Разумеется. Но сначала я укажу тебе на те неблагоприятные для нас моменты, которые возникнут, если мы решим воспользоваться указаниями кардинала.
— Значит, мы напрасно посещали кардинала?
— Почти, Киприан, хотя, нужно признать, благодаря ему мы достаточно ориентированы. Кардинал рекомендовал нам завязать отношения с тем самым кружком, от которого исходили все неудавшиеся предприятия и в котором постоянно обретались предатели.
— Я и сам подумал об этом!
— Мы совершенно чужие в Лондоне, чтобы быстро разобраться в людях, они же все, наверное, отлично известны английской полиции, и если мы будем водиться с ними, то нас выследят.
— С твоими выводами нельзя не согласиться. Значит, мы бросимся в объятия противной партии?
— Да, и никто не догадается о наших намерениях. Кроме того, таким образом нам будет легче узнать все, что нам необходимо узнать.
— Что же, у меня нет оснований держаться иного взгляда.
— Это мне приятно. И вот еще что: я с остальными людьми поселюсь в большом доме, ты же поселишься отдельно и будешь для нас как совершенно посторонний.
— Да?
— Твоей задачей будет наблюдение за теми людьми, которых нам рекомендовал кардинал; ты должен держать наготове экипаж, словом, подготовить все для внезапного и быстрого отъезда.
Киприан ничего не ответил и только в мрачной задумчивости опустил голову.
— Ты что молчишь? — спросил Эдуард. — Недоволен этим поручением?
— Абсолютно доволен, — ответил Киприан, словно просыпаясь от глубокого сна.
Добравшись до Лондона, они отыскали себе желаемое помещение. Как было решено, Киприан не поселился вместе с другими своими товарищами, а нашел себе другое место.
Приговор Марии Стюарт вызвал в Англии народную радость, а в Шотландии — страшное раздражение. Негодовали и правители всей Европы. В глазах протестантов этот приговор подрывал уважение к Елизавете и увеличивал ненависть католиков. А на всех заграничных приверженцев Марии Стюарт, на всех английских и шотландских лордов, бежавших за границу, он произвел впечатление удара грома среди ясного неба, так как они смотрели на нее как на политическую и религиозную мученицу. К таким приверженцам принадлежал и шотландский лорд Мак-Лин, который давно уже жил не в Шотландии, а в Италии, у озера Комо.
Мак-Лин был скорее приверженцем католической религии, чем королевы Стюарт. Его меньше всего интересовали счеты Елизаветы с Марией, гораздо больше — восстания против протестантского господства в Шотландии. Тем не менее он считал Марию Стюарт законной государыней, а себя — ее подданным.
Когда партия Марии Стюарт была рассеяна, враги Мак-Лина воспользовались удобным случаем свести с ним личные счеты. Поэтому Мак-Лин был вынужден бежать и скрыться во Франции с частью преданных ему людей.
В изгнании скончалась супруга лорда, оставив ему сына Эдуарда в возрасте пяти лет. После смерти любимой жены Франция опротивела лорду. Поэтому в сопровождении тех слуг, которые по-прежнему не желали расставаться с ним, Мак-Лин переехал в северную Италию. Купив там имение, он основал небольшую шотландскую колонию. С того времени прошло пятнадцать лет, лорд состарился и познал равнодушие к мирской суете.
Но за это время вырос его сын Эдуард, которому исполнилось уже двадцать лет, вместе с ним выросло и новое поколение шотландских эмигрантов.
В раннем детстве воспитанием Эдуарда руководила старая кормилица, ярая католичка и фанатическая поклонница королевы Марии Стюарт. Позднее воспитанием юноши занялся суровый шотландский ученый по имени Буртон, который бежал вместе с лордом из Шотландии и о котором можно было сказать то же самое, что и о кормилице. Одновременно с сыном лорда старик занимался также и с остальными детьми колонии.
К одному из этих юношей Киприану Аррану лорд Эдуард питал особенно крепкую и дружескую привязанность. Позднее Киприан стал кузнецом. Но это обстоятельство не мешало совместному обучению, которое продолжалось теперь по воскресным и праздничным дням. Старый лорд и сам время от времени читал молодой аудитории нечто вроде лекций, состоящих из описаний различных местностей и красот родины, из рассказов по истории ее государей. Благодаря этому молодые люди росли религиозно и патриотически настроенными, что сделало их фанатичными сторонниками несчастной Марии Стюарт.
С особенной силой все эти чувства проявлялись у Эдуарда, который вырос в сильного, красивого и энергичного молодого человека. Он стал самым отъявленным приверженцем Марии Стюарт и увлек этим и своего друга Киприана.
Сначала эти симпатии не преследовали какой-нибудь определенной цели, да и воспитание молодежи велось без предвзятого намерения. Лорд спешил женить сына, и тот уже успел обручиться с одной из своих соотечественниц.
Но вдруг в их краях появился незнакомый шотландец, оказавшийся агентом, который был послан из Парижа в Рим по делам Марии Стюарт и возвращался теперь обратно. Этого человека звали Петром. Он-то и принес своим соотечественникам весть об осуждении Марии на смерть, при этом заметил, что с приведением приговора в исполнение английское правительство не торопится.
Эта весть изменила обстановку в доме Мак-Лина. Все перепугались и переживали за королеву. Но вскоре пришло и утешение: Эдуард решил освободить Марию Стюарт, и отец одобрил этот план.
Шотландец Петр отправился в один из соседних городков, и Эдуард поспешил к нему, чтобы сообщить о своем решении. Петр был очень удивлен, что и в чужой земле зреют такие надежды и намерения, одобрил план Эдуарда и обещал ему помощь кардинала Лотарингского, кроме того, он предложил юноше отправиться вместе с ним в Париж.
Эдуарду понадобились помощники, и первым делом он подумал о своем лучшем друге. Киприан Арран немедленно согласился и постарался уговорить своих товарищей. Двенадцать соотечественников выразили согласие помочь Эдуарду и Киприану в их деле.
Эдуард простился с невестой и ее родителями, придумав правдоподобный предлог для отъезда. Его снабдили рекомендательными письмами и достаточными средствами. И вот Эдуард в сопровождении Петра и дюжины смелых, отважных, хорошо вооруженных людей на великолепных лошадях поспешил к намеченной цели.
От озера Комо направились через Савою, перебрались через Мон-Цени и без всяких препятствий добрались до французской границы. Но по ту сторону границы натолкнулись на такое приключение, которое можно было счесть за счастливое предзнаменование.
Через несколько дней пути по Франции они прибыли в округ Бон, местность, где вообще никогда не бывало недостатка в бандитах. Путники хотели добраться до города до наступления вечера, им предстояло проехать неспокойным лесом, о чем их предостерегали еще на последней остановке. Лес состоял из старых каштанов и дубов, густые вершины которых не пропускали света даже днем, вечером же там постоянно царила полная тьма. Почва была очень холмистая, а дорога так извивалась, что даже и при полном свете было бы невозможно видеть что-нибудь впереди. Путники были начеку, держали оружие наготове не только для защиты, но и для немедленного нападения при первой угрозе. Не прошло и получаса, когда вдруг из лесного мрака до них донеслись звуки выстрелов и крики о помощи.
— Там на кого-то напали! — сказал Петр.
— Не поспешить ли нам на помощь! — спросил Эдуард.
— Ну разумеется! — отозвался Киприан.
— Тогда вперед! — скомандовал Петр, и вся кавалькада галопом понеслась в сторону разбойничьего нападения.
Домчавшись до места нападения, наши путешественники застали только опрокинутую карету, под которой лежал человек, видимо, тяжело раненный. Вырвавшаяся из упряжки четверка лошадей пугливо храпела. В кромешной тьме трудно было что-нибудь разглядеть.
Петр и Эдуард заговорили по-французски с человеком, лежавшим на земле. Но тот сообщил, что он — кучер некоего лорда, которого только что утащили разбойники вместе с супругой, детьми и слугами.
— Так значит, это — англичане? — тихо сказал Петр. — Попытаемся освободить их!
— Но где их найдешь в этой темной гуще леса? — возразил Эдуард.
— Вы только скажите своим людям, чтобы они слушали мои распоряжения! — произнес Петр.
Эдуард так и сделал.
Тогда Петр велел десятерым всадникам спешиться, сам тоже слез с лошади и повел их за собой.
Призывы о помощи служили им хорошим ориентиром. Бандиты, которых задерживало сопротивление пленников и детей, не могли двигаться так быстро, как их преследователи. К тому же они надеялись, что наткнулись на марэшоссэ (особый род конной стражи, оберегавшей проезжие дороги и шоссе) или полицию, которые обыкновенно довольствовались тем, что спугивали разбойников и благоразумно не пускались преследовать их. И бандиты немало удивились, когда заметили, что преследователи почти уже догнали их. От испуга они бросили пленников и добычу, чтобы поскорее скрыться от погони. Таким образом, пленники были освобождены и окружены спасителями.
— Посмотрите, — крикнул Петр по-английски, — все вы здесь, потому что еще есть время продолжать погоню.
Среди спасенных началась страшная суматоха и крики; им пришлось на ощупь убеждаться, здесь ли все.
— Не хватает еще кучера! — сказал наконец кто-то из них.
— Он там, на дороге, — ответил Петр. — Теперь идите за нами к карете.
— Помогите дамам и детям, — приказал Эдуард своим людям.
Все торопливо направились к дороге.
— Кому я обязан за спасение? — спросил один из англичан. — Я — лорд Стаффорд, посланник ее величества английской королевы при французском дворе.
Петр, шедший рядом с Эдуардом, сжал руку молодого человека и шепнул:
— Не выдавайте меня! Говорите с ними вы.
— О, прошу вас, не утруждайте себя выражениями благодарности за такую ничтожную услугу, милорд! — произнес Эдуард. — Меня зовут Мак-Лин, я — шотландец и направляюсь в Париж, Я бесконечно рад, что имел случай оказать вам эту небольшую услугу.
— Вы меня смущаете, сэр! — воскликнул лорд. — Но мы, разумеется, еще увидимся с вами?
— Мне будет очень приятно поближе познакомиться с вами, — ответил Эдуард.
Тем временем все дошли до дороги. Оставшиеся на месте люди Эдуарда оказали раненому кучеру первую помощь и поставили карету на колеса. Киприан, который, как и все кузнецы того времени, понимал кое-что в медицине, исследовал раны кучера и наложил повязки. Люди лорда пристроили поклажу обратно на место, и все семейство могло уже продолжить свой путь. Вместо кучера, которого устроили поудобнее, на козлы влез один из слуг.
Лорд Стаффорд направлялся в Бон после короткого отдыха на юге Франции. Но если принять во внимание те чувства, которые питали в то время французы к англичанам, то станет понятным, что посланник уезжал из Парижа просто для того, чтобы уклониться от ненависти парижан к английскому послу при вести о смертном приговоре Марии Стюарт.
Петр распорядился, чтобы часть всадников ехала перед каретой, а часть — позади нее вместе с ним и Эдуардом.
— Сэр Эдуард, — шепнул Петр, — это — такая встреча, которая может очень пригодиться вам.
— В каком смысле? — спросил Мак-Лин.
— В самом простом. Вы никого не знаете в Англии, так попросите у этого лорда Стаффорда рекомендаций ко двору. Он охотно даст, Вы избавитесь от массы хлопот и вам не нужно будет прятаться. К тому же он принял вас за знатного человека, оставьте его при этой иллюзии.
— Но не могу же я выдавать себя за того, кем на самом деле не являюсь?
— Не нужно быть таким щепетильным, когда речь идет о важном деле. Во мраке ваша свита производит солидное впечатление, а днем лорд не должен видеть ее. Мы устроимся в другой гостинице, а вы отправьтесь к лорду с визитом. Утром мы уедем раньше лорда.
— Я подумаю об этом, — ответил Эдуард.
В Боне шотландцам пришлось остановиться в одной гостинице с англичанами, но шум и суета, вызванные свитой Эдуарда, в темноте и при смутном свете ламп могли создать впечатление знатности молодого человека.
Лорд Стаффорд подошел к Эдуарду и, попросив у него извинения, что в данном случае он нарушает обычные правила вежливости, пригласил его отужинать вместе с ним и его семейством. Эдуард согласился и отравился к себе в комнату, чтобы переодеться.
В данных обстоятельствах необходимость присутствовать на ужине была скорее тяжелым бременем, нежели удовольствием, но его необходимо было перенести; кроме того, Эдуард был обязан справиться, как себя чувствует семья лорда после ночного потрясения. В кругу семьи лорда он был принят очень радушно. Жена и дети лорда поблагодарили его, и все отправились к столу, чтобы поужинать. Когда перед сном дети и жена лорда прощались с гостем, они выразили надежду увидеть его на следующий день. На это Эдуард не сказал ни «да», ни «нет», а только выразил надежду, что неприятное приключение в лесу обойдется без всяких дурных последствий. Мужчины остались одни.
Лорд Стаффорд, снова выразив Эдуарду свою признательность, сказал, что надеется поехать с ним в Париж вместе.
— Я очень сожалею, милорд, что не могу воспользоваться вашим предложением, — ответил Эдуард. — Я очень тороплюсь, в Париже меня ждет важное дело, которое требует, чтобы я вовремя попал туда.
Стаффорд пытливо уставился на говорившего. Ему хотелось узнать, какого рода это дело, так как в его глазах человек, путешествующий с такой большой свитой, должен был обязательно быть особой, преследующей какие-то дипломатические цели. Но лорд счел себя обязанным подавить в себе на этот раз любопытство и лишь высказать сожаление, что вместе с Эдуардом поехать ему не удастся.
— Тем не менее, — продолжал он, — я надеюсь еще встретиться с вами, сэр. Если могу быть полезен вам чем- либо, то очень прошу вас, скажите, чем — и я готов к вашим услугам. Правда, я чужой в этой стране, но у меня имеются громадные связи, которыми я рад буду воспользоваться для того, чтобы быть полезным вам.
Эдуард помолчал некоторое время. Ему было очень неудобно пользоваться рекомендациями посланника, чтобы проникнуть в те круги, которые для него мало доступны. Но поставленная цель заставила его последовать совету Петра.
— Я боюсь, что покажусь слишком нескромным, — сказал он наконец.
— Ни в коем случае, сэр! — возразил лорд. — Вы не можете себе представить, как я был бы рад, если бы и в самом деле мог хоть чем-нибудь услужить вам!
— Во Франции мне не нужны никакие рекомендации, — продолжал Эдуард, — так как я рассчитываю отправиться в Лондон. Мне очень хотелось бы иметь возможность появиться при дворе, но, к сожалению, я не знаю там никого из влиятельных лиц…
— О, если дело только в этом… — начал лорд.
Вдруг он запнулся и снова пытливо уставился на молодого человека. Но молодость Эдуарда быстро рассеяла смутные подозрения, да и врожденная вежливость помешала высказать их. В свою очередь, Эдуард постарался сохранить самый непринужденный вид, и это удалось ему в достаточной мере.
— Простите, милорд, — сказал он, — я слишком мало знаком вам, чтобы иметь право на ваше доверие.
— Вы меня поняли вовсе не так, — смутился лорд. — Я просто задумался о том, каким именно лицам я мог бы вас рекомендовать. Но скажите, мы еще увидимся с вами в Париже ранее того, как вы отправитесь в Лондон?
— Это неизвестно.
— В таком случае я сейчас же напишу письма.
— Помилуйте… такое затруднение…
— Никаких затруднений, наоборот, это — просто приятная работа для меня. Я поручу вас моей матери, она лучше всякого другого сумеет оценить оказанную вами мне услугу. В качестве статс-дамы королевы Елизаветы она может в значительной мере удовлетворить ваши желания.
Эдуард ответил поклоном, он с беспокойством подумал о том, что может сделать несчастной целую семью, а удастся или нет его предприятие, это — еще вопрос.
— Кроме того, — продолжал Стаффорд, — я дам вам рекомендательные письма к лорду Бэрлею и Лейстеру; больше вам никого не нужно.
— Очень благодарен вам, милорд! — ответил Эдуард.
Не должно казаться странным, что оба они ни разу не упомянули в разговоре о шотландской королеве. Самому Стаффорду было очень неприятно касаться этой темы, а Эдуард боялся выдать себя, если разговор зайдет о Марии Стюарт.
Во время написания писем лорд Стаффорд назвал еще несколько лиц, которым Эдуард мог передать привет от него.
Наконец с письмами было покончено. Эдуард взял их, поблагодарил и простился с лордом. Он чувствовал себя сильно утомленным, поэтому сейчас же ушел к себе в комнату, чтобы лечь спать.
На следующий день отряд шотландцев двинулся в путь с первыми проблесками зари. Лорд Стаффорд и его семья еще спали.
Когда всадники выехали из города, Мак-Лин рассказал Петру о разговоре, происшедшем вчера между ним и лордом Стаффордом.
— Хорошо, очень хорошо! — заметил Петр. — Я считаю, эта встреча и рекомендательные письма лорда очень помогут нам.
— Я тоже очень рад этому происшествию, — сказал Эдуард. — Но ночью мне пришла в голову идея попросить аудиенции у королевы Елизаветы.
— Вы хотите представления ко двору?
— Нет, настоящей и тайной аудиенции.
— Для чего?
— Чтобы убедить королеву Елизавету отпустить на волю Марию Стюарт.
— Молодой человек, это пытались сделать уже многие!
— Но, быть может, делали это не так, как следует.
— Эго делалось всевозможными способами. Если вы хотите знать мое мнение, то от этой мысли надо отказаться.
— Хорошо, я подумаю.
— Передача рекомендательных писем, знакомство с знатными господами, представление ко двору, — продолжал Петр, — все это — очень хорошие ширмы, за которыми вы можете скрыть ваши истинные намерения. Между прочим, вы должны рассчитывать и на то, что лорд Стаффорд поможет вам и в других отношениях. Епископ Росс кий даст вам дальнейшие указания, поэтому оставим пока все так, как есть.
Наступила зима, когда Эдуард со своим отрядом прибыл в Париж. Он поместился в рекомендованной ему Петром гостинице и на следующий день отправился к епископу Росскому. Тот принял его очень любезно, так как уже был оповещен Петром. В беседах епископ дал юному искателю приключений необходимые указания и наставления и одобрил мысль поговорить еще с кардиналом Лотарингским.
В начале декабря Эдуард со своей свитой въехал в Реймс — город, где издревле короновались французские государи, и получил несколько аудиенций у кардинала. Этот кардинал вызвал к себе и Киприана Аррана, с которым поговорил наедине. И Мак-Лин заметил, что с этих пор в друге произошла значительная перемена. Арран стал серьезен, мрачен и скуп на слова, большую часть времени предавался своим раздумьям. Вероятно, кардинал отдал предпочтение Аррану.
В скором времени путники выехали из Реймса, чтобы отправиться в Кале, откуда надеялись переправиться в Англию и Лондон. Эдуард мог безбоязненно решиться на это, так как его имя было почти неизвестно в Англии, и едва ли кто-нибудь знал, что его отец покинул Шотландию.
Для переезда в Дувр Эдуард воспользовался собственным, специально для этой цели зафрахтованным судном, на котором все и добрались вполне благополучно до английского берега.
И тут Киприан стал проявлять такое беспокойство, что Эдуард решился его спросить:
— Что с тобой? Уж не раскаиваешься ли ты? Или боишься?
— Я ни в чем не раскаиваюсь, — ответил кузнец, — и ничего не боюсь, наоборот, сгораю от желания скорее покончить наше дело.
— И все-таки тебе придется сдерживаться! Наша задача сводится к лозунгу: «Терпение!» Да и вообще нам придется изменить свой план.
— В каком отношении? — удивился Киприан.
— Мы не последуем указаниям кардинала, а, как решили сначала, воспользуемся рекомендательными письмами Стаффорда.
— Но ведь, если я верно понял желания его преосвященства, то он хотел, чтобы мы не пользовались рекомендательными письмами лорда Стаффорда!
— Да, он так считает, но я держусь совершенно другого взгляда на вещи, и мой взгляд, надеюсь, правильнее его.
— Смею я спросить, что ты имеешь в виду?
— Разумеется. Но сначала я укажу тебе на те неблагоприятные для нас моменты, которые возникнут, если мы решим воспользоваться указаниями кардинала.
— Значит, мы напрасно посещали кардинала?
— Почти, Киприан, хотя, нужно признать, благодаря ему мы достаточно ориентированы. Кардинал рекомендовал нам завязать отношения с тем самым кружком, от которого исходили все неудавшиеся предприятия и в котором постоянно обретались предатели.
— Я и сам подумал об этом!
— Мы совершенно чужие в Лондоне, чтобы быстро разобраться в людях, они же все, наверное, отлично известны английской полиции, и если мы будем водиться с ними, то нас выследят.
— С твоими выводами нельзя не согласиться. Значит, мы бросимся в объятия противной партии?
— Да, и никто не догадается о наших намерениях. Кроме того, таким образом нам будет легче узнать все, что нам необходимо узнать.
— Что же, у меня нет оснований держаться иного взгляда.
— Это мне приятно. И вот еще что: я с остальными людьми поселюсь в большом доме, ты же поселишься отдельно и будешь для нас как совершенно посторонний.
— Да?
— Твоей задачей будет наблюдение за теми людьми, которых нам рекомендовал кардинал; ты должен держать наготове экипаж, словом, подготовить все для внезапного и быстрого отъезда.
Киприан ничего не ответил и только в мрачной задумчивости опустил голову.
— Ты что молчишь? — спросил Эдуард. — Недоволен этим поручением?
— Абсолютно доволен, — ответил Киприан, словно просыпаясь от глубокого сна.
Добравшись до Лондона, они отыскали себе желаемое помещение. Как было решено, Киприан не поселился вместе с другими своими товарищами, а нашел себе другое место.


 На следующий день по приезде в Лондон Эдуард Мак-Лин оделся в приличествующий данному случаю наряд и отправился засвидетельствовать свое почтение леди Стаффорд. Леди уже была предупреждена о его визите, поэтому юный шотландец был принят очень любезно, и его пригласили бывать и впредь. От леди Стаффорд Эдуард отправился к лорду Бэрлею, который тоже уже знал о его прибытии. Он приветствовал молодого человека с появлением на английской земле и объявил, что его дом всегда открыт для него.
Более осторожным оказался Лейстер. Скорее инстинкт, чем разум, заставил его принять молодого иностранца довольно холодно.
Но за исключением графа Лейстера все, к кому обратился Эдуард, оказались в высшей степени предупредительными, так что он мог быть очень доволен первым приемом в Лондоне.
Мак-Лин не остался незамеченным, уже на другой день между Бэрлеем и Валингэмом состоялся разговор о нем.
Оба они только что покончили с делами, когда лорд Бэрлей вдруг поднял голову и, пытливо уставившись на зятя, спросил:
— Ну-с? Что новенького?
— Сегодня ничего, — ответил Валингэм, — то есть по крайней мере ничего такого, что могло бы интересовать вас.
— А все-таки кое-что есть, зятюшка! — улыбаясь, возразил Бэрлей. — Вчера мне был сделан визит…
— Ах, да, да, этот молодой шотландец! — воскликнул статс-секретарь. — Что же, он засвидетельствовал свое почтение по крайней мере дюжине влиятельных лиц, и все приняли его очень хорошо, за исключением лорда Лейстера.
— Графу везде чудится угроза, — сказал Бэрлей, — но мне кажется, что Мак-Лин совершенно не опасен.
— Это — мальчишка!
Ну а его свита?
— Это все — почти такие же юнцы, как и он.
— Обращаю ваше внимание на этого молодого человека, — закончил Бэрлей, — если у молодежи создается хорошее впечатление, она охотно повсюду трубит об этом, а для нас это очень важно.
Валингэм, вернувшись домой, послал приглашение молодому иностранцу.
Эдуард знал значение Валингэма, который встретил его с предупредительной любезностью. Но знай он всю полноту обязанностей статс-секретаря, он так беззаботно не переступил бы порог его дворца.
Министр полиции захотел только познакомиться с молодым Мак-Лином и предложить ему свои услуги. Он представил ему также Пельдрама в качестве человека, который постоянно будет готов к его услугам и которому можно вполне доверять.
Эдуард прибыл в Лондон перед Рождеством и пробыл в городе целых шесть недель, причем отлучался только на короткое время.
А за это время пронесся целый вихрь событий: переговоры Бельевра с Елизаветой, переговоры с шотландцами, открытие заговора Морд-Стаффорда. Двор переселился в Гринвич на продолжительное время.
Но тем не менее Мак-Лин имел всюду доступ и был принят даже при дворе, хотя поставленная им задача быть замеченным Елизаветой казалось несбыточной мечтой. Лорд Лейстер постепенно тоже довольно тесно сошелся с Мак-Лином и даже выказал полную готовность доставить ему частную аудиенцию у королевы Елизаветы. Однако это оказалось невозможным в силу затянувшегося убийственного настроения государыни.
По временам Эдуард думал, что судьба Марии Стюарт может еще повернуться в лучшую сторону и без всяких насильственных действий, этим и объяснялось его промедление. Когда же он понял наконец, что эта надежда совершенно тщетна, то решил сделать вид, будто покидает Лондон и Англию.
Мак-Лин очень умно избегал знакомства с людьми, которые могли показаться властям хоть немного подозрительными. Поэтому, когда он прощался с приобретенными в Англии друзьями, все они были твердо убеждены в его лояльности.
А что поделывал Киприан со времени своей разлуки с Эдуардом в Лондоне?
Его первой задачей было, разумеется, подыскать себе постоянную квартиру, после того как он прожил два или три дня в гостинице самого низшего ранга. В конце концов он нашел себе помещение у оружейного мастера. Был ли это просто случай, или же его тянуло к родному ремеслу, к привычному перезвону молотов? Возможно, что и так.
Его хозяин, Яков Оллан, был тоже родом из Шотландии. Маленького роста, с лицом, испещренным морщинами, он был немногоречив, и казалось, что постоянно о чем-то думает. Говорил он короткими, отрывистыми фразами.
У Оллана были собственный дом, большой магазин и мастерская с массой подмастерьев. Так что он казался состоятельным. Несмотря на это, постоянно сам работал в мастерской, руководил всем делом. С рабочими был краток, но не груб, строг, но не жесток. За ошибки и небрежность в работе наказывал увольнением, за глупости и баловство вне дома сначала делал выговор, а не помогало — увольнял.
У Оллана был так называемый управляющий, но это звание давало право только наблюдать за порядком в мастерской во время отсутствия хозяина, что случалось очень редко, когда было нужно отнести оружие к знатному заказчику, или же когда его вызывали в лавку для переговоров с покупателем.
Обыкновенно в лавке продажей занимались жена и дочь Оллана. Жена — почтенная матрона, молчаливая, как и ее муж, а дочь, которую звали Вилли, — хорошенькая девушка девятнадцати-двадцати лет. Весьма возможно, что много кавалеров являлось в лавку под видом покупки оружия только ради Вилли, но девушка никогда не оставалась одна, и все попытки поближе познакомиться с ней разбивались о бдительность матери. Впрочем, вести торговлю в лавке было очень легко. У каждого предмета существовала определенная цена, торговаться было немыслимо, а о кредите не могло быть и речи. Если же и случалось, что кто-нибудь начинал торговаться или требовал кредита, то сейчас же звали самого Оллана, а в его отсутствие — управляющего Дика Маттерна.
Этот Дик Маттерн был истинным продуктом Лондона и, как все юные обитатели столиц, немного фатом, немного мотом, а в общем — чересчур много о себе воображающим дурнем. Впрочем, это был довольно ловкий, вкрадчивый парень, о котором его товарищи говорили, что он прилежен только тогда, когда за ним следят, но в сущности не упускает случая полентяйничать. Женщины благоволили к Дику за ту внимательность, с которой он относился к ним. Сам хозяин, быть может, смотрел на него иначе, чем жена и дочь, но никогда не высказывался об этом.
У Оллана четверо детей умерло еще в детском возрасте, а взрослый сын исчез самым таинственным образом, что по тогдашним временам случалось довольно часто. Посторонние держались того мнения, что когда-нибудь он вернется, и тогда окажется, что молодой Оллан добился очень высокого положения. Но сам мастер Оллан не разделял этой надежды, он слишком хорошо знал, что сын действительно занял довольно высокое положение… на виселице, так как где-то в провинции был изобличен в изготовлении оружия для приверженцев Марии Стюарт.
Такова была семья, у которой Киприан снял квартиру, сказав, что приехал в Лондон для того, чтобы совершенствоваться в своем ремесле. Поэтому он очень быстро сошелся с мастером и с наслаждением снова взялся за инструменты.
В то время итальянцы считались специалистами в шлифовке стальных изделий. Искусство Бенвенуто Челлини стало общим достоянием, и Киприан оказался настолько посвященным в его тайны, что сразу выказал свое превосходство над всеми остальными рабочими мастерской. Поэтому Оллан предложил ему поступить к нему на службу. Киприан условно принял это предложение, но работал лишь тогда, когда сам хотел.
Оллан был очень доволен Киприаном, но Дик Маттерн невзлюбил иностранца в мастерской и в особенности — за семейным столом. Дик таил надежду стать зятем Оллана, а впоследствии — хозяином всего дела. И Киприану пришлось расплачиваться за свою опрометчивость.
Молодому кузнецу еще не приходилось испытать на себе власть любви. Увидев Вилли, он возгорелся пламенной страстью к ней. Но, отлично владея собой, затаил глубоко в груди свое чувство, потому что хотел сначала как следует ознакомиться с бытом семьи. Что касалось первоначальной задачи, то в главных чертах деятельность Киприана ограничивалась заботой о подготовке всего необходимого на случай поспешного бегства, и для этого ему нужно было прежде всего разузнать, как можно добыть эти средства легче и секретнее.
Молодой человек мог похвастаться своей красотой, внешний же лоск и некоторое образование он получил благодаря общению с Эдуардом. Поэтому немудрено, что и Вилли с удовольствием поглядывала на Киприана, и у нее пробудилась любовь к нему, которую она тоже затаила в своем сердце.
Ее мать и отец ничего не замечали, но у ревности зоркие глаза. А Дик Маттерн ревновал, так как Вилли до сих пор оставляла без внимания все его намеки и заигрывания.
Прошло две недели, и Дик счел своей обязанностью предупредить Оллана. Однако тот двумя-тремя словами указал управляющему на его настоящее место у наковальни.
Теперь к ненависти против Киприана у управляющего прибавилось еще раздражение против хозяина. Дик хорошо знал, что во второй раз к хозяину не обратишься с нашептыванием. Поэтому он решил пойти другим путем. Он втайне предпринял меры, последствия которых не замедлили сказаться.
Дело свелось к тому, что однажды в лавку Оллана внезапно вошел Пельдрам, который, вежливо поздоровавшись с женой и дочерью мастера, попросил показать ему какое-то оружие. По-видимому; он знал особенность постановки дела в магазине, так как принялся торговаться, вследствие этого, как и всегда, жена Оллана послала за самим мастером. Впрочем, ни мать ни дочь не знали полицейского.
Когда Оллан появился в лавке, то он бросил пытливый взгляд на полицейского, поклонился ему, выслушал, что он хочет, а затем выслал из лавки Вилли и жену, так что остался наедине с покупателем.
— Черт возьми, мастер, — сказал Пельдрам, — у вас здесь, в лавке, много прекрасных вещей, но среди них лучше всего эта девушка. Вероятно, это — ваша дочь?
— Да, дочь, только она не продается! — холодно ответил старый шотландец.
— Ого, земляк! — смеясь, воскликнул Пельдрам. — Она не продается — это так, но выдается замуж, ведь каждая девушка должна выйти замуж, если это окажется для нее возможным; но не корчите гримасы от шутки, которой я не хотел вас обидеть, но которая тем не менее могла бы окончиться серьезным делом!
Надо сказать, что Пельдрам все еще оставался холостым.
— Вы хотели выбрать оружие, сэр? — произнес Оллан, прерывая разговор о дочери.
— Да, ваше оружие мне нравится.
— Хорошо! Выберите себе три предмета из моей лавки — какие угодно. Денег с вас я не возьму. Оружие в ваших руках — порука моей безопасности.
— Вы щедры, земляк! — обидчиво сказал Пельдрам.
— А вы начинаете издалека, как истый шотландец!
— Ого, мастер Оллан!
— Да, да, сэр! Вам не нужно оружия, не нужно моей дочери, а нужно что-то другое. Что именно?
Пельдрам рассердился еще более.
— Вы, кажется, собираетесь поменяться со мной ролями! Спрашивать — мое дело.
— Так спрашивайте!
— У вас живет иностранец?
— Да.
— Шотландец?
— Да, наш с вами земляк.
— Что это за человек?
— Тихий, порядочный, прилежный юноша, кузнец по профессии, желающий усовершенствоваться в ремесле. Ну он и совершенствуется — ручаюсь вам!
— Я верю вам. Но мне выставили этого субъекта в подозрительном свете.
— И я тоже верю вам в этом, потому что знаю причину. Дику Маттерну, моему управляющему, приглянулись Вилли и мое хозяйство, он как будто боится приезжего юноши, уже предостерегал меня от него и хотел бы, чтобы его убрали. Вот он-то и обратился к вам. Разве не так, сэр? Мы, шотландцы, умеем видеть насквозь.
Старик улыбнулся. Пельдрам покраснел и пробормотал:
— Так-то оно так, но я обещал не выдавать доносчика.
— Этого и не нужно! Я и без того знаю, где зарыта собака. Но дальше что?
— Я хотел бы поговорить с этим человеком.
— Хорошо.
Старик крикнул Вилли и, когда она пришла, приказал ей попросить Киприана пожаловать в лавку.
— Так значит, ее зовут Вилли? — пробормотал Пельдрам, бросая вслед девушке многозначительный взгляд.
Появился Киприан; мастер познакомил его с полицейским.
Надо полагать, что при этой неожиданной встрече сердце молодого человека забилось несколько быстрее обычного, но он овладел собой, с холодной вежливостью поздоровался с полицейским.
Пельдрам задал ему несколько вопросов, на которые немедленно последовали вполне удовлетворительные ответы.
— В общих чертах мастер уже ответил за вас, — сказал наконец Пельдрам. — Извините, что я задерживаю вас, но мне пришло в голову, что как раз теперь в Лондоне находится шотландский лорд, который удостаивает меня своей дружбой. Это — сэр Эдуард Мак-Лин. Вы знаете его?
— Я слышал о нем, — ответил Киприан. — Это имя известно мне издавна и пользуется большим почетом у нас на родине.
— Хотите познакомиться с этим господином?
— Мне было бы очень приятно, но, конечно, если бы он пожелал видеть меня.
— Он — очень добрый господин и совсем не гордый; я спрошу его, — предложил Пельдрам.
— Очень благодарен вам, сэр, быть может, я мог бы в его свите отправиться на родину?
— И там на родине быть его придворным кузнецом? — заметил Пельдрам с улыбкой. — Зайдите ко мне на этих днях!
— Хорошо, сэр.
Наконец Пельдрам понял, что пора уходить.
— И вас, мастер, я также представлю лорду, — сказал он Оллану на прощание. — Кланяйтесь от меня жене и дочери! Прощайте, сэр, не забывайте меня!
Пельдрам ушел.
Оллан посоветовал Киприану не упускать случая познакомиться с таким влиятельным господином, а затем отправился в мастерскую.
Дик Маттерн поглядел на входящего мастера искоса, очевидно, он знал или догадывался, зачем того позвали в лавку. Но Оллан, казалось, не обратил на него внимания и молча принялся за свою работу. Лишь спустя почти час старый шотландец подошел к Дику и спросил, указывая на лежавшую перед ним деталь:
— Готово, Дик?
— Скоро будет готово, мастер! — ответил Маттерн.
— Поспешите!
Дик окончил свою работу и отнес деталь мастеру.
— Хорошо! — сказал тот.
Когда настал час обеда, по обыкновению собралась вся семья; старик казался молчаливее обыкновенного. Когда же встали из-за стола и Дик вышел из комнаты, мастер пошел за ним.
Увидев на дворе двух рабочих с вещами управляющего, Оллан удивленно спросил:
— Эй, куда вы?
— Мастер, я не знаю… разве… почему же… — забормотал Дик.
— Ну и отправляйте ваши вещи, куда хотите, — произнес Оллан строгим тоном. — И сами отправляйтесь куда знаете!
Мастер вернулся в дом, а управляющий, постояв некоторое время в раздумье, распорядился, куда отправить вещи, и сам последовал за рабочими, бросив негодующий взгляд на дом, так неожиданно закрывшийся перед ним.
После ухода Дика Оллан имел продолжительный разговор с женой и дочерью, по окончании которого Вилли вышла с заплаканными глазами. Тотчас после этого старый шотландец побеседовал один на один с Киприаном, в результате чего сделал его заместителем ушедшего Дика, но с условием — не входить в жилые комнаты и лавку Оллана, не пользоваться у него столом.
После этого разговора Киприан впал в раздумье и беспокойство. Быть может, мастер открыл ему перспективу развития его склонностей? Но в таком случае, он должен был бы проклинать истинную цель своего появления в Лондоне. А может, мастер разуверил его в возможности освободить Марию Стюарт? Не зря же Оллан был чрезвычайно прозорливым человеком.
Киприан поспешил сообщить Эдуарду о намерениях Пельдрама. Друзья увидели в этом большую выгоду и решили, что Киприан должен отправиться к Пельдраму.
Директор полиции Валингэм принял молодого человека чрезвычайно любезно и сообщил ему, что лорд выразил согласие познакомиться с ним. Но, раньше чем повести Киприана к Мак-Лину, Пельдрам решил объяснить, почему заинтересовался им.
— Мастер Оллан прогнал Дика, — начал он, смеясь, — это хорошо! Он, по-видимому, шпионил за вами и доносил мне обо всем, что вы делали. Вы, оказывается, уже были в доме лорда?
— Да, сэр, вчера и позавчера, — ответил Киприан. — После вашего любезного предложения я хотел собрать некоторые сведения о лорде.
— А раньше вы не бывали там?
— Однажды я встретил своего земляка и проводил его до дому,когда вчера я отправился разыскивать дом лорда, оказалось, что это — тот самый дом, где я уже бывал.
— Вы — любитель лошадей?
— Да, конечно. Ведь это входит в круг моих занятий.
— А экипажи также интересуют вас?
— Конечно!
— А корабли?
— В этом деле требуется слишком много кузнечной работы, — смеясь, заметил Киприан.
— Впрочем, это не касается меня. А все же остерегайтесь Дика!
— У меня нет основания бояться его, — спокойно заметил Киприан.
— Тем лучше. Послушайте, я обратил внимание на Вилли Оллан.
— На Вилли? — переспросил Киприан.
— Да! А Дик, который также интересуется ею, полагает, что и вы страдаете из-за нее.
— Вилли — красивая девушка.
— Но вы уклоняетесь от ответа.
— Нисколько! Вилли нравится мне, но…
— В чем же состоит это «но»?
— Я — чужестранец, спешу вернуться на родину, принадлежу к другому вероисповеданию, — словом, как бы ни была мила мне Вилли, но слишком много препятствий для того, чтобы я мог мечтать о браке с ней. Вот я и думаю выкинуть ее из головы.
— Это вы хорошо делаете! Вы — рассудительный человек, как я вижу. Я буду часто навещать вас и прошу, не препятствуйте этому.
— Конечно, нет! — ответил Киприан.
— Говорил ли молодой человек искренне — неизвестно. Но его соперничество с Пельдрамом, считал он, могло свободно обойтись без личной ненависти.
Пельдрам и Киприан отправились к лорду Мак-Лину.
Эдуард принял обоих, как подобало благородному господину. После краткого приема Киприан удалился, а Пельдрам остался. Это знакомство доставило Киприану возможность являться к лорду во всякое время совершенно свободно, а лорд и Пельдрам стали часто появляться в доме старика Оллана.
Эдуард делал заказы оружейному мастеру, Пельдрам же посещал Киприана, а попутно, конечно, и старого шотландца, главным же образом его жену и дочь, и снискал их расположение, так как умел быть очень любезным, когда хотел.
При таких обстоятельствах протекло время до конца января.
Однажды Эдуард зашел к Оллану, купил у него какое-то оружие и попросил прислать ему на дом с мастеровым. Послан был Киприан.
Когда тот появился у приятеля, Эдуард сказал ему:
— Ну, Киприан, мы уже близки к цели. Надежды на благополучное окончание дела Марии Стюарт больше нет, мы должны приступить к своему плану.
Киприан молчал.
— Я завтра уезжаю! — продолжал Эдуард. — Все ли готово у тебя?
— Да, остается только выполнить!
— Мне было бы приятнее иметь тебя при себе, но ты здесь нужнее. Обеспечь корабль, два экипажа, лошадей и, конечно, какое-либо хорошее убежище; дня через три-четыре будь наготове. Моя квартира остается в твоем распоряжении под тем предлогом, что ты займешься укладкой и отправкой моих вещей.
— Хорошо, — кивнул кузнец, и Эдуард не обратил внимания на сумрачный вид Киприана.
Мак-Лин действительно уехал, но прошло три, четыре, даже пять дней, а Киприан не получал от друга никаких известий. Он, по-прежнему, исполнял свою работу, а Оллан, хотя и замечал перемену в его настроении, но не выказывал этого.
В лавку Оллана нередко заглядывали знатные господа, но особенная честь была ему оказана в тот день, когда настроение королевы Елизаветы резко изменилось к лучшему под впечатлением разговора с Бэрлеем. К Оллану явился не кто иной как сам лорд Лейстер, и заказал себе великолепный охотничий нож с украшением из драгоценных камней.
Вот тогда в доме Оллана узнали о предстоящей большой охоте. И когда мастер поручил Киприану отделку заказанного ножа, у того молнией блеснула новая мысль. Отсутствие известий от Эдуарда начинало беспокоить кузнеца. На собственные его замыслы надежд было мало. А теперь вдруг представился благоприятный случай для намеченного дела. Если планы Эдуарда уже рухнули, то Киприан еще может произвести свой удар. И пока он работал над ножом, все обдумывал, как привести свой план в действие, причем не раз останавливался мыслью на своем новом приятеле Пельдраме.
Работа была закончена, и Оллан велел Киприану отнести ее во дворец лорда Лейстера. Это как нельзя более соответствовало планам молодого кузнеца. Кроме заказанного охотничьего ножа он захватил с собой еще пару богато отделанных пистолетов и, раньше чем отправиться по назначению, зашел к Пельдраму.
Тот был уже извещен о предстоящей королевской охоте и готовился к ней. Приход Киприана был некстати, и он встретил его несколько рассеянно.
— Милости просим, сэр, — сказал Пельдрам, — я, как всегда, рад видеть вас, но не могу вам уделить много времени: я очень занят служебными делами.
— Не стану задерживать вас, — ответил Киприан. — Хочу только показать вам охотничий нож, изготовленный для его светлости графа Лейстера!
Пельдрам стал любоваться изящной работой, которую ему показал Киприан. При этом последний как бы вскользь заметил:
— Я видал много интересного в этой стране, но мне хотелось бы еще повидать королевскую охоту, чтобы потом, на родине, было что рассказать!
— Зрителям дозволено присутствовать, — сказал Пельдрам.
— Да, но только издали, а я хотел бы быть среди охотников; тому, кто оказал бы мне содействие в этом деле, я подарил бы вот эти штучки. Как вы думаете, дворецкий лорда Лейстера мог бы предоставить мне место в свите?
— Возможно! А эти вещицы прелестны!
— Как бы мне обратиться с моим желанием?
— Но когда и где? Ах да, вот кстати! Я провожу вас туда, мне все равно нужно во дворец лорда.
Они отправились. Киприан ликовал в душе, что его планы, кажется, удаются.
Дворецкий лорда Лейстера был еще молодым человеком, надменным, как избалованный холоп, и тщеславным, как павлин. Приди Киприан один, тот не удостоил бы его даже вниманием, но в сопровождении Пельдрама дело пошло совсем по-иному.
— Рекомендую вам моего друга и соотечественника, оружейного мастера Аррана, — сказал Пельдрам дворецкому, — у него есть просьба к вам, а я, в свою очередь, прошу за него.
— Будет исполнено! — ответил дворецкий.
— Ну, прощайте, господа! Завтра увидимся, а пока кланяйтесь старику Оллану и его семейству, не забудьте только! — произнес Пельдрам.
— Не беспокойтесь! — ответил кузнец, улыбаясь ему вслед.
— Вы принесли охотничий нож для милорда? — спросил дворецкий.
— Да, сэр, а для вас вот эти два пистолета, — сказал Киприан.
Дворецкий принял оружие. Нож он быстро отложил в сторону и занялся рассматриванием пистолетов.
Носить пистолеты в Англии разрешалось лицам дворянского происхождения, но отнюдь не мещанам и слугам. Но известно, насколько сладок запретный плод, поэтому дворецкий с живостью сказал Киприану:
— Я с благодарностью принимаю этот ценный подарок. А что же вы хотите от меня?
— Немногого! Я очень любопытен…
— В каком отношении?
— Мне хотелось бы присутствовать на королевской охоте!
— И вы хотите, чтобы я помог вам в этом?
— Да. Помогите мне поступить в свиту вашего графа.
— Это не представит затруднений. Только есть ли у вас лошадь?
— Я достану.
— А верхом вы прилично ездите?
— Как настоящий араб!
— Ну и отлично!… Ливрею я вам достану, а пока идите к милорду!
Дворецкий велел доложить лорду о приходе оружейного мастера. Киприан имел честь лично представить свою работу Лейстеру и получить одобрение вместе с денежной наградой.
Тем временем дворецкий достал ливрею, и, после примерки, Киприан ушел домой со своей добычей.
На следующий день он попросил себе отпуск у мастера Оллана и отправился в известное место, где для него стояли кони наготове. Домой он вернулся довольно поздно, но, несмотря на поздний час, поговорил с мастером, после чего тотчас же отправил все свои вещи, сам же остался переночевать в доме Оллана.
Еще задолго до наступления следующего дня Киприан покинул дом, где так долго пользовался приютом. Он ни с кем не простился, но, когда ушел, старый мастер вышел за ворота и долгое время смотрел ему вслед. Когда Киприан скрылся, старик вернулся в дом с тяжелым вздохом.
На следующий день по приезде в Лондон Эдуард Мак-Лин оделся в приличествующий данному случаю наряд и отправился засвидетельствовать свое почтение леди Стаффорд. Леди уже была предупреждена о его визите, поэтому юный шотландец был принят очень любезно, и его пригласили бывать и впредь. От леди Стаффорд Эдуард отправился к лорду Бэрлею, который тоже уже знал о его прибытии. Он приветствовал молодого человека с появлением на английской земле и объявил, что его дом всегда открыт для него.
Более осторожным оказался Лейстер. Скорее инстинкт, чем разум, заставил его принять молодого иностранца довольно холодно.
Но за исключением графа Лейстера все, к кому обратился Эдуард, оказались в высшей степени предупредительными, так что он мог быть очень доволен первым приемом в Лондоне.
Мак-Лин не остался незамеченным, уже на другой день между Бэрлеем и Валингэмом состоялся разговор о нем.
Оба они только что покончили с делами, когда лорд Бэрлей вдруг поднял голову и, пытливо уставившись на зятя, спросил:
— Ну-с? Что новенького?
— Сегодня ничего, — ответил Валингэм, — то есть по крайней мере ничего такого, что могло бы интересовать вас.
— А все-таки кое-что есть, зятюшка! — улыбаясь, возразил Бэрлей. — Вчера мне был сделан визит…
— Ах, да, да, этот молодой шотландец! — воскликнул статс-секретарь. — Что же, он засвидетельствовал свое почтение по крайней мере дюжине влиятельных лиц, и все приняли его очень хорошо, за исключением лорда Лейстера.
— Графу везде чудится угроза, — сказал Бэрлей, — но мне кажется, что Мак-Лин совершенно не опасен.
— Это — мальчишка!
Ну а его свита?
— Это все — почти такие же юнцы, как и он.
— Обращаю ваше внимание на этого молодого человека, — закончил Бэрлей, — если у молодежи создается хорошее впечатление, она охотно повсюду трубит об этом, а для нас это очень важно.
Валингэм, вернувшись домой, послал приглашение молодому иностранцу.
Эдуард знал значение Валингэма, который встретил его с предупредительной любезностью. Но знай он всю полноту обязанностей статс-секретаря, он так беззаботно не переступил бы порог его дворца.
Министр полиции захотел только познакомиться с молодым Мак-Лином и предложить ему свои услуги. Он представил ему также Пельдрама в качестве человека, который постоянно будет готов к его услугам и которому можно вполне доверять.
Эдуард прибыл в Лондон перед Рождеством и пробыл в городе целых шесть недель, причем отлучался только на короткое время.
А за это время пронесся целый вихрь событий: переговоры Бельевра с Елизаветой, переговоры с шотландцами, открытие заговора Морд-Стаффорда. Двор переселился в Гринвич на продолжительное время.
Но тем не менее Мак-Лин имел всюду доступ и был принят даже при дворе, хотя поставленная им задача быть замеченным Елизаветой казалось несбыточной мечтой. Лорд Лейстер постепенно тоже довольно тесно сошелся с Мак-Лином и даже выказал полную готовность доставить ему частную аудиенцию у королевы Елизаветы. Однако это оказалось невозможным в силу затянувшегося убийственного настроения государыни.
По временам Эдуард думал, что судьба Марии Стюарт может еще повернуться в лучшую сторону и без всяких насильственных действий, этим и объяснялось его промедление. Когда же он понял наконец, что эта надежда совершенно тщетна, то решил сделать вид, будто покидает Лондон и Англию.
Мак-Лин очень умно избегал знакомства с людьми, которые могли показаться властям хоть немного подозрительными. Поэтому, когда он прощался с приобретенными в Англии друзьями, все они были твердо убеждены в его лояльности.
А что поделывал Киприан со времени своей разлуки с Эдуардом в Лондоне?
Его первой задачей было, разумеется, подыскать себе постоянную квартиру, после того как он прожил два или три дня в гостинице самого низшего ранга. В конце концов он нашел себе помещение у оружейного мастера. Был ли это просто случай, или же его тянуло к родному ремеслу, к привычному перезвону молотов? Возможно, что и так.
Его хозяин, Яков Оллан, был тоже родом из Шотландии. Маленького роста, с лицом, испещренным морщинами, он был немногоречив, и казалось, что постоянно о чем-то думает. Говорил он короткими, отрывистыми фразами.
У Оллана были собственный дом, большой магазин и мастерская с массой подмастерьев. Так что он казался состоятельным. Несмотря на это, постоянно сам работал в мастерской, руководил всем делом. С рабочими был краток, но не груб, строг, но не жесток. За ошибки и небрежность в работе наказывал увольнением, за глупости и баловство вне дома сначала делал выговор, а не помогало — увольнял.
У Оллана был так называемый управляющий, но это звание давало право только наблюдать за порядком в мастерской во время отсутствия хозяина, что случалось очень редко, когда было нужно отнести оружие к знатному заказчику, или же когда его вызывали в лавку для переговоров с покупателем.
Обыкновенно в лавке продажей занимались жена и дочь Оллана. Жена — почтенная матрона, молчаливая, как и ее муж, а дочь, которую звали Вилли, — хорошенькая девушка девятнадцати-двадцати лет. Весьма возможно, что много кавалеров являлось в лавку под видом покупки оружия только ради Вилли, но девушка никогда не оставалась одна, и все попытки поближе познакомиться с ней разбивались о бдительность матери. Впрочем, вести торговлю в лавке было очень легко. У каждого предмета существовала определенная цена, торговаться было немыслимо, а о кредите не могло быть и речи. Если же и случалось, что кто-нибудь начинал торговаться или требовал кредита, то сейчас же звали самого Оллана, а в его отсутствие — управляющего Дика Маттерна.
Этот Дик Маттерн был истинным продуктом Лондона и, как все юные обитатели столиц, немного фатом, немного мотом, а в общем — чересчур много о себе воображающим дурнем. Впрочем, это был довольно ловкий, вкрадчивый парень, о котором его товарищи говорили, что он прилежен только тогда, когда за ним следят, но в сущности не упускает случая полентяйничать. Женщины благоволили к Дику за ту внимательность, с которой он относился к ним. Сам хозяин, быть может, смотрел на него иначе, чем жена и дочь, но никогда не высказывался об этом.
У Оллана четверо детей умерло еще в детском возрасте, а взрослый сын исчез самым таинственным образом, что по тогдашним временам случалось довольно часто. Посторонние держались того мнения, что когда-нибудь он вернется, и тогда окажется, что молодой Оллан добился очень высокого положения. Но сам мастер Оллан не разделял этой надежды, он слишком хорошо знал, что сын действительно занял довольно высокое положение… на виселице, так как где-то в провинции был изобличен в изготовлении оружия для приверженцев Марии Стюарт.
Такова была семья, у которой Киприан снял квартиру, сказав, что приехал в Лондон для того, чтобы совершенствоваться в своем ремесле. Поэтому он очень быстро сошелся с мастером и с наслаждением снова взялся за инструменты.
В то время итальянцы считались специалистами в шлифовке стальных изделий. Искусство Бенвенуто Челлини стало общим достоянием, и Киприан оказался настолько посвященным в его тайны, что сразу выказал свое превосходство над всеми остальными рабочими мастерской. Поэтому Оллан предложил ему поступить к нему на службу. Киприан условно принял это предложение, но работал лишь тогда, когда сам хотел.
Оллан был очень доволен Киприаном, но Дик Маттерн невзлюбил иностранца в мастерской и в особенности — за семейным столом. Дик таил надежду стать зятем Оллана, а впоследствии — хозяином всего дела. И Киприану пришлось расплачиваться за свою опрометчивость.
Молодому кузнецу еще не приходилось испытать на себе власть любви. Увидев Вилли, он возгорелся пламенной страстью к ней. Но, отлично владея собой, затаил глубоко в груди свое чувство, потому что хотел сначала как следует ознакомиться с бытом семьи. Что касалось первоначальной задачи, то в главных чертах деятельность Киприана ограничивалась заботой о подготовке всего необходимого на случай поспешного бегства, и для этого ему нужно было прежде всего разузнать, как можно добыть эти средства легче и секретнее.
Молодой человек мог похвастаться своей красотой, внешний же лоск и некоторое образование он получил благодаря общению с Эдуардом. Поэтому немудрено, что и Вилли с удовольствием поглядывала на Киприана, и у нее пробудилась любовь к нему, которую она тоже затаила в своем сердце.
Ее мать и отец ничего не замечали, но у ревности зоркие глаза. А Дик Маттерн ревновал, так как Вилли до сих пор оставляла без внимания все его намеки и заигрывания.
Прошло две недели, и Дик счел своей обязанностью предупредить Оллана. Однако тот двумя-тремя словами указал управляющему на его настоящее место у наковальни.
Теперь к ненависти против Киприана у управляющего прибавилось еще раздражение против хозяина. Дик хорошо знал, что во второй раз к хозяину не обратишься с нашептыванием. Поэтому он решил пойти другим путем. Он втайне предпринял меры, последствия которых не замедлили сказаться.
Дело свелось к тому, что однажды в лавку Оллана внезапно вошел Пельдрам, который, вежливо поздоровавшись с женой и дочерью мастера, попросил показать ему какое-то оружие. По-видимому; он знал особенность постановки дела в магазине, так как принялся торговаться, вследствие этого, как и всегда, жена Оллана послала за самим мастером. Впрочем, ни мать ни дочь не знали полицейского.
Когда Оллан появился в лавке, то он бросил пытливый взгляд на полицейского, поклонился ему, выслушал, что он хочет, а затем выслал из лавки Вилли и жену, так что остался наедине с покупателем.
— Черт возьми, мастер, — сказал Пельдрам, — у вас здесь, в лавке, много прекрасных вещей, но среди них лучше всего эта девушка. Вероятно, это — ваша дочь?
— Да, дочь, только она не продается! — холодно ответил старый шотландец.
— Ого, земляк! — смеясь, воскликнул Пельдрам. — Она не продается — это так, но выдается замуж, ведь каждая девушка должна выйти замуж, если это окажется для нее возможным; но не корчите гримасы от шутки, которой я не хотел вас обидеть, но которая тем не менее могла бы окончиться серьезным делом!
Надо сказать, что Пельдрам все еще оставался холостым.
— Вы хотели выбрать оружие, сэр? — произнес Оллан, прерывая разговор о дочери.
— Да, ваше оружие мне нравится.
— Хорошо! Выберите себе три предмета из моей лавки — какие угодно. Денег с вас я не возьму. Оружие в ваших руках — порука моей безопасности.
— Вы щедры, земляк! — обидчиво сказал Пельдрам.
— А вы начинаете издалека, как истый шотландец!
— Ого, мастер Оллан!
— Да, да, сэр! Вам не нужно оружия, не нужно моей дочери, а нужно что-то другое. Что именно?
Пельдрам рассердился еще более.
— Вы, кажется, собираетесь поменяться со мной ролями! Спрашивать — мое дело.
— Так спрашивайте!
— У вас живет иностранец?
— Да.
— Шотландец?
— Да, наш с вами земляк.
— Что это за человек?
— Тихий, порядочный, прилежный юноша, кузнец по профессии, желающий усовершенствоваться в ремесле. Ну он и совершенствуется — ручаюсь вам!
— Я верю вам. Но мне выставили этого субъекта в подозрительном свете.
— И я тоже верю вам в этом, потому что знаю причину. Дику Маттерну, моему управляющему, приглянулись Вилли и мое хозяйство, он как будто боится приезжего юноши, уже предостерегал меня от него и хотел бы, чтобы его убрали. Вот он-то и обратился к вам. Разве не так, сэр? Мы, шотландцы, умеем видеть насквозь.
Старик улыбнулся. Пельдрам покраснел и пробормотал:
— Так-то оно так, но я обещал не выдавать доносчика.
— Этого и не нужно! Я и без того знаю, где зарыта собака. Но дальше что?
— Я хотел бы поговорить с этим человеком.
— Хорошо.
Старик крикнул Вилли и, когда она пришла, приказал ей попросить Киприана пожаловать в лавку.
— Так значит, ее зовут Вилли? — пробормотал Пельдрам, бросая вслед девушке многозначительный взгляд.
Появился Киприан; мастер познакомил его с полицейским.
Надо полагать, что при этой неожиданной встрече сердце молодого человека забилось несколько быстрее обычного, но он овладел собой, с холодной вежливостью поздоровался с полицейским.
Пельдрам задал ему несколько вопросов, на которые немедленно последовали вполне удовлетворительные ответы.
— В общих чертах мастер уже ответил за вас, — сказал наконец Пельдрам. — Извините, что я задерживаю вас, но мне пришло в голову, что как раз теперь в Лондоне находится шотландский лорд, который удостаивает меня своей дружбой. Это — сэр Эдуард Мак-Лин. Вы знаете его?
— Я слышал о нем, — ответил Киприан. — Это имя известно мне издавна и пользуется большим почетом у нас на родине.
— Хотите познакомиться с этим господином?
— Мне было бы очень приятно, но, конечно, если бы он пожелал видеть меня.
— Он — очень добрый господин и совсем не гордый; я спрошу его, — предложил Пельдрам.
— Очень благодарен вам, сэр, быть может, я мог бы в его свите отправиться на родину?
— И там на родине быть его придворным кузнецом? — заметил Пельдрам с улыбкой. — Зайдите ко мне на этих днях!
— Хорошо, сэр.
Наконец Пельдрам понял, что пора уходить.
— И вас, мастер, я также представлю лорду, — сказал он Оллану на прощание. — Кланяйтесь от меня жене и дочери! Прощайте, сэр, не забывайте меня!
Пельдрам ушел.
Оллан посоветовал Киприану не упускать случая познакомиться с таким влиятельным господином, а затем отправился в мастерскую.
Дик Маттерн поглядел на входящего мастера искоса, очевидно, он знал или догадывался, зачем того позвали в лавку. Но Оллан, казалось, не обратил на него внимания и молча принялся за свою работу. Лишь спустя почти час старый шотландец подошел к Дику и спросил, указывая на лежавшую перед ним деталь:
— Готово, Дик?
— Скоро будет готово, мастер! — ответил Маттерн.
— Поспешите!
Дик окончил свою работу и отнес деталь мастеру.
— Хорошо! — сказал тот.
Когда настал час обеда, по обыкновению собралась вся семья; старик казался молчаливее обыкновенного. Когда же встали из-за стола и Дик вышел из комнаты, мастер пошел за ним.
Увидев на дворе двух рабочих с вещами управляющего, Оллан удивленно спросил:
— Эй, куда вы?
— Мастер, я не знаю… разве… почему же… — забормотал Дик.
— Ну и отправляйте ваши вещи, куда хотите, — произнес Оллан строгим тоном. — И сами отправляйтесь куда знаете!
Мастер вернулся в дом, а управляющий, постояв некоторое время в раздумье, распорядился, куда отправить вещи, и сам последовал за рабочими, бросив негодующий взгляд на дом, так неожиданно закрывшийся перед ним.
После ухода Дика Оллан имел продолжительный разговор с женой и дочерью, по окончании которого Вилли вышла с заплаканными глазами. Тотчас после этого старый шотландец побеседовал один на один с Киприаном, в результате чего сделал его заместителем ушедшего Дика, но с условием — не входить в жилые комнаты и лавку Оллана, не пользоваться у него столом.
После этого разговора Киприан впал в раздумье и беспокойство. Быть может, мастер открыл ему перспективу развития его склонностей? Но в таком случае, он должен был бы проклинать истинную цель своего появления в Лондоне. А может, мастер разуверил его в возможности освободить Марию Стюарт? Не зря же Оллан был чрезвычайно прозорливым человеком.
Киприан поспешил сообщить Эдуарду о намерениях Пельдрама. Друзья увидели в этом большую выгоду и решили, что Киприан должен отправиться к Пельдраму.
Директор полиции Валингэм принял молодого человека чрезвычайно любезно и сообщил ему, что лорд выразил согласие познакомиться с ним. Но, раньше чем повести Киприана к Мак-Лину, Пельдрам решил объяснить, почему заинтересовался им.
— Мастер Оллан прогнал Дика, — начал он, смеясь, — это хорошо! Он, по-видимому, шпионил за вами и доносил мне обо всем, что вы делали. Вы, оказывается, уже были в доме лорда?
— Да, сэр, вчера и позавчера, — ответил Киприан. — После вашего любезного предложения я хотел собрать некоторые сведения о лорде.
— А раньше вы не бывали там?
— Однажды я встретил своего земляка и проводил его до дому,когда вчера я отправился разыскивать дом лорда, оказалось, что это — тот самый дом, где я уже бывал.
— Вы — любитель лошадей?
— Да, конечно. Ведь это входит в круг моих занятий.
— А экипажи также интересуют вас?
— Конечно!
— А корабли?
— В этом деле требуется слишком много кузнечной работы, — смеясь, заметил Киприан.
— Впрочем, это не касается меня. А все же остерегайтесь Дика!
— У меня нет основания бояться его, — спокойно заметил Киприан.
— Тем лучше. Послушайте, я обратил внимание на Вилли Оллан.
— На Вилли? — переспросил Киприан.
— Да! А Дик, который также интересуется ею, полагает, что и вы страдаете из-за нее.
— Вилли — красивая девушка.
— Но вы уклоняетесь от ответа.
— Нисколько! Вилли нравится мне, но…
— В чем же состоит это «но»?
— Я — чужестранец, спешу вернуться на родину, принадлежу к другому вероисповеданию, — словом, как бы ни была мила мне Вилли, но слишком много препятствий для того, чтобы я мог мечтать о браке с ней. Вот я и думаю выкинуть ее из головы.
— Это вы хорошо делаете! Вы — рассудительный человек, как я вижу. Я буду часто навещать вас и прошу, не препятствуйте этому.
— Конечно, нет! — ответил Киприан.
— Говорил ли молодой человек искренне — неизвестно. Но его соперничество с Пельдрамом, считал он, могло свободно обойтись без личной ненависти.
Пельдрам и Киприан отправились к лорду Мак-Лину.
Эдуард принял обоих, как подобало благородному господину. После краткого приема Киприан удалился, а Пельдрам остался. Это знакомство доставило Киприану возможность являться к лорду во всякое время совершенно свободно, а лорд и Пельдрам стали часто появляться в доме старика Оллана.
Эдуард делал заказы оружейному мастеру, Пельдрам же посещал Киприана, а попутно, конечно, и старого шотландца, главным же образом его жену и дочь, и снискал их расположение, так как умел быть очень любезным, когда хотел.
При таких обстоятельствах протекло время до конца января.
Однажды Эдуард зашел к Оллану, купил у него какое-то оружие и попросил прислать ему на дом с мастеровым. Послан был Киприан.
Когда тот появился у приятеля, Эдуард сказал ему:
— Ну, Киприан, мы уже близки к цели. Надежды на благополучное окончание дела Марии Стюарт больше нет, мы должны приступить к своему плану.
Киприан молчал.
— Я завтра уезжаю! — продолжал Эдуард. — Все ли готово у тебя?
— Да, остается только выполнить!
— Мне было бы приятнее иметь тебя при себе, но ты здесь нужнее. Обеспечь корабль, два экипажа, лошадей и, конечно, какое-либо хорошее убежище; дня через три-четыре будь наготове. Моя квартира остается в твоем распоряжении под тем предлогом, что ты займешься укладкой и отправкой моих вещей.
— Хорошо, — кивнул кузнец, и Эдуард не обратил внимания на сумрачный вид Киприана.
Мак-Лин действительно уехал, но прошло три, четыре, даже пять дней, а Киприан не получал от друга никаких известий. Он, по-прежнему, исполнял свою работу, а Оллан, хотя и замечал перемену в его настроении, но не выказывал этого.
В лавку Оллана нередко заглядывали знатные господа, но особенная честь была ему оказана в тот день, когда настроение королевы Елизаветы резко изменилось к лучшему под впечатлением разговора с Бэрлеем. К Оллану явился не кто иной как сам лорд Лейстер, и заказал себе великолепный охотничий нож с украшением из драгоценных камней.
Вот тогда в доме Оллана узнали о предстоящей большой охоте. И когда мастер поручил Киприану отделку заказанного ножа, у того молнией блеснула новая мысль. Отсутствие известий от Эдуарда начинало беспокоить кузнеца. На собственные его замыслы надежд было мало. А теперь вдруг представился благоприятный случай для намеченного дела. Если планы Эдуарда уже рухнули, то Киприан еще может произвести свой удар. И пока он работал над ножом, все обдумывал, как привести свой план в действие, причем не раз останавливался мыслью на своем новом приятеле Пельдраме.
Работа была закончена, и Оллан велел Киприану отнести ее во дворец лорда Лейстера. Это как нельзя более соответствовало планам молодого кузнеца. Кроме заказанного охотничьего ножа он захватил с собой еще пару богато отделанных пистолетов и, раньше чем отправиться по назначению, зашел к Пельдраму.
Тот был уже извещен о предстоящей королевской охоте и готовился к ней. Приход Киприана был некстати, и он встретил его несколько рассеянно.
— Милости просим, сэр, — сказал Пельдрам, — я, как всегда, рад видеть вас, но не могу вам уделить много времени: я очень занят служебными делами.
— Не стану задерживать вас, — ответил Киприан. — Хочу только показать вам охотничий нож, изготовленный для его светлости графа Лейстера!
Пельдрам стал любоваться изящной работой, которую ему показал Киприан. При этом последний как бы вскользь заметил:
— Я видал много интересного в этой стране, но мне хотелось бы еще повидать королевскую охоту, чтобы потом, на родине, было что рассказать!
— Зрителям дозволено присутствовать, — сказал Пельдрам.
— Да, но только издали, а я хотел бы быть среди охотников; тому, кто оказал бы мне содействие в этом деле, я подарил бы вот эти штучки. Как вы думаете, дворецкий лорда Лейстера мог бы предоставить мне место в свите?
— Возможно! А эти вещицы прелестны!
— Как бы мне обратиться с моим желанием?
— Но когда и где? Ах да, вот кстати! Я провожу вас туда, мне все равно нужно во дворец лорда.
Они отправились. Киприан ликовал в душе, что его планы, кажется, удаются.
Дворецкий лорда Лейстера был еще молодым человеком, надменным, как избалованный холоп, и тщеславным, как павлин. Приди Киприан один, тот не удостоил бы его даже вниманием, но в сопровождении Пельдрама дело пошло совсем по-иному.
— Рекомендую вам моего друга и соотечественника, оружейного мастера Аррана, — сказал Пельдрам дворецкому, — у него есть просьба к вам, а я, в свою очередь, прошу за него.
— Будет исполнено! — ответил дворецкий.
— Ну, прощайте, господа! Завтра увидимся, а пока кланяйтесь старику Оллану и его семейству, не забудьте только! — произнес Пельдрам.
— Не беспокойтесь! — ответил кузнец, улыбаясь ему вслед.
— Вы принесли охотничий нож для милорда? — спросил дворецкий.
— Да, сэр, а для вас вот эти два пистолета, — сказал Киприан.
Дворецкий принял оружие. Нож он быстро отложил в сторону и занялся рассматриванием пистолетов.
Носить пистолеты в Англии разрешалось лицам дворянского происхождения, но отнюдь не мещанам и слугам. Но известно, насколько сладок запретный плод, поэтому дворецкий с живостью сказал Киприану:
— Я с благодарностью принимаю этот ценный подарок. А что же вы хотите от меня?
— Немногого! Я очень любопытен…
— В каком отношении?
— Мне хотелось бы присутствовать на королевской охоте!
— И вы хотите, чтобы я помог вам в этом?
— Да. Помогите мне поступить в свиту вашего графа.
— Это не представит затруднений. Только есть ли у вас лошадь?
— Я достану.
— А верхом вы прилично ездите?
— Как настоящий араб!
— Ну и отлично!… Ливрею я вам достану, а пока идите к милорду!
Дворецкий велел доложить лорду о приходе оружейного мастера. Киприан имел честь лично представить свою работу Лейстеру и получить одобрение вместе с денежной наградой.
Тем временем дворецкий достал ливрею, и, после примерки, Киприан ушел домой со своей добычей.
На следующий день он попросил себе отпуск у мастера Оллана и отправился в известное место, где для него стояли кони наготове. Домой он вернулся довольно поздно, но, несмотря на поздний час, поговорил с мастером, после чего тотчас же отправил все свои вещи, сам же остался переночевать в доме Оллана.
Еще задолго до наступления следующего дня Киприан покинул дом, где так долго пользовался приютом. Он ни с кем не простился, но, когда ушел, старый мастер вышел за ворота и долгое время смотрел ему вслед. Когда Киприан скрылся, старик вернулся в дом с тяжелым вздохом.


 Неподалеку от замка Фосрингай лежит одна из пустошей, которыми в те времена особенно изобиловала Англия. Для путешественников такие пустоши были страшнее леса и представляли одинаковую опасность, как и путешествие по морю. Путник, медленно пробиравшийся по глубоким пескам, завидев черную точку на горизонте, заранее ожидал беды.
За редким исключением такая точка на горизонте была не что иное как хорошо вооруженный всадник, который более или менее вежливо требовал с путника контрибуцию. Люди этой профессии чувствовали себя в пустоши более вольготно, чем в лесу. Намечая свою жертву на далеком расстоянии, они таким образом могли понять, нападать или скрыться.
Близ самого Лондона была пустошь Гренсло, которая долгие годы являлась истинным бичом столицы и путешественников. Так как ночью никто не решался проезжать по пустоши, то и властители большой дороги не давали себе труда выезжать ночью, а занимались своим ремеслом свободно среди бела дня, ночью же спали, как и все порядочные люди.
Пустошь близ замка Фосрингай пользовалась громкой славой в смысле грабежей и разбоя. Но с появлением в замке шотландской королевы обстоятельства несколько изменились. Амиас Полэт считал своим долгом усиленно охранять дороги как ночью, так и днем, вследствие чего шайке грабителей приходилось бездействовать и наконец, за отсутствием заработка, совершенно покинуть местность.
Приблизительно в пяти английских милях от замка был один из постоялых дворов, владелец которого злобно смотрел на замок и проклинал свою королеву, сэра Полэта и заключенную. Этого человека по имени Нед Бейерс нередко посещал Эдуард Мак-Лин во время рекогносцировки окрестностей Фосрингая. Нед не знал, за кого принять ему этого редкого одинокого гостя, но так как тот бесстрашно ездил один и был хорошо вооружен, то Нед решил в конце концов, что это — один из рыцарей с большой дороги, пустившийся на разведку, стоит ли вновь приняться здесь за свое дело. Впрочем, Эдуард не оставался на ночлег, а проводил на постоялом дворе лишь недолгое время, чтобы дать отдохнуть коню.
Однажды, как раз перед намеченным отъездом в Лондон, ненастная погода заставила его остаться дольше обыкновенного. Он велел подать себе ужин, после чего хозяин предложил ему приготовить постель. Но Эдуард отказался от постели, предпочтя отдохнуть на скамье. Хозяин увидел в этом лишь подтверждение своего предположения, так как предпочесть твердую скамью удобной, мягкой постели мог только человек, опасавшийся за свою безопасность.
— Мой дом вполне надежен! — сказал он, подмигнув. — У меня имеются маленькие, уединенные комнатки, которых не найдет тот, кто не должен их находить, сэр!
Эдуард заинтересовался.
— Разве? В таком случае они могли бы пригодиться нам. А сколько человек могли бы вы приютить? — спросил он.
— Около двенадцати, сэр!
— И столько же коней?
— И это можно, — ответил Нед с плутоватой усмешкой.
— Ну, быть может, я воспользуюсь этим и даже на несколько дней!
— Милости просим! А как обстоят дела там, с той старухой? Скоро с ней покончат?
Эдуард сразу не понял слов хозяина, когда же он догадался, то лишь вздохнул в ответ.
— Да, да, — продолжал Нед, — она много зла принесла нам всем. Честному человеку нет возможности зарабатывать свой хлеб.
— Как это понять? — спросил Эдуард.
Ведь с тех пор, как она здесь, наступил полный застой в делах как в наших, так и в ваших. На этот раз Эдуард лучше понял своего собеседника, так как был достаточно осведомлен о делах и нравах обитателей пустоши.
— Вы правы! Но этому делу можно было бы помочь.
— Каким образом? — удивился Нед.
— Если бы удалить эту женщину отсюда.
— Ну, это трудновато!
— Или, быть может, заставить охранителей удалить ее отсюда?
— Черт возьми! Но как взяться за это дело?
— Устроить нападение на замок!
— Гм… об этом нужно подумать! — задумчиво произнес Нед, почесав в затылке.
Эдуард сообразил, что, подвигая на это дело подобного сорта людей, можно было воспользоваться ими, не открывая своих истинных намерений.
— Одним словом, — продолжал он, — я хочу попытаться избавить местных жителей от этих затянувшихся неприятностей.
— Гм… гм… — пробормотал Нед. — Это — трудная штука!
— Менее трудная, чем вы полагаете, тем более что в замке запуганы многими заговорами.
В конце концов Нед предложил свое содействие и показал помещения для значительного количества людей. Мало того, обещал к известному дню собрать людей и со своей стороны.
Затем Эдуард распростился со своим новым столь неожиданным сообщником и уехал.
Несколько дней спустя, вечером, трущоба Неда необычайно оживилась. Приезжали друг за другом всадники, и все оставались на ночлег. Кроме одиннадцати человек приближенных Эдуарда явилось еще по крайней мере двадцать, которые были наняты для неизвестного им дела.
Около полуночи Эдуард объявил им свое намерение произвести переполох в замке, а потом рассеяться.
Все совершилось неожиданно как для охраны замка, так и для самой заключенной Марии Стюарт.
План Эдуарда был таков: часть отряда из людей, не посвященных в истинную цель нападения, была в запасе, другая часть должна была совершить нападение на замок и произвести там шум. Одна часть друзей Мак-Лина должна была стараться проникнуть в покои Марии со стороны сада, а другая, во главе с самим Эдуардом, — проникнуть в комнаты Марии через камин.
Когда Эдуард решился привести в исполнение свое отважное предприятие, была холодная, суровая ночь.
Ко всем невзгодам тюремной жизни Марии Стюарт нужно прибавить еще жестокие страдания от ревматизма, которые почти не оставляли ее ни на минуту. Тем же недугом был одержим и ее неумолимый страж, старый, ворчливый Амиас Полэт. Он не мог спать уже несколько ночей подряд и не решался выходить на воздух при такой холодной, сырой погоде. Друри исполнял за него все обязанности по охране замка, которые осложнялись тем, что старый, подозрительный Амиас беспрестанно гонял его то туда, то сюда, не давая отдыха ни на минуту. Вечером, когда боли стали нестерпимы, Полэт хотел забыться в молитве. Он уткнулся в молитвенник и действительно вскоре его стало клонить ко сну. Проспав около трех часов, он встал, поужинал с Друри, после чего они принялись играть в шахматы. Но при этом каждый час Друри должен был отрываться от игры и делать обход замка и двора, что, конечно, доставляло ему мало удовольствия.
Был третий час ночи, когда Друри возвратился из последнего обхода.
— Все в порядке? — спросил Полэт.
— Все, — ответил Друри, — стража бодрствует, и все в замке спокойно!
— А она спит?
— Нет! Она страдает от боли и просила почитать ей вслух!
На лице Амиаса промелькнуло выражение злорадства. Вероятно, он чувствовал известное удовлетворение в том, что несчастная узница испытывает такие же страдания, как и он.
— Читает, наверное, какой-нибудь папистский вздор! — проворчал он. — Следовало бы запретить ей подобные занятия!
— Недолго уж осталось, — заметил Друри, — было бы слишком жестоко.
— У вас вечная склонность к состраданию, — досадливо возразил Амиас. — Друри, когда вы наконец научитесь подчинять свои чувства долгу?
В том смысле, как вы это понимаете, никогда, — ответил Друри, — я не создан для этого!
— Плохо, очень плохо! — пробормотал Полэт, однако вернулся снова к начатой игре, и оба замолчали.
Амиас проигрывал, и, быть может, это было причиной того, что он потерял интерес к игре.
— Послушайте, Друри, — сказал он, — как бы при таком ночном бодрствовании нашей узницы опять не затеялось что-нибудь недоброе у нее?
— Едва ли, — ответил Друри, — она действительно страдает!
— Да, да! Однако я чувствую себя несколько лучше и пойду проверю.
Друри поморщился, но все же последовал за стариком, который, накинув шубу, поплелся по коридорам в комнаты Марии.
Полэт подозрительным оком осмотрел все уголки передней, а затем без доклада вошел в комнату заключенной.
Мария лежала на постели, скрестив руки на груди и уставившись в потолок. Близ нее находились ее старая нянька Кеннэди и другие женщины, занятые каким-то рукоделием, а также Кэрлей. У камина сидели Буркэн, ее духовник, Мелвил и Жэрвэ, ее врач. Священник читал книгу. При появлении Амиаса он умолк, и все присутствующие, кроме Марии, повернулись к дверям.
— Кто там? — спросила Мария слабым голосом.
— Тот, кто заботится о вас, — ответил Амиас с хриплым смехом, не считая нужным поклониться. — Здесь так уютно, что хочется присоединиться к вашему кружку.
Мария ничего не ответила, остальные также, конечно, молчали.
Очевидно раздосадованный таким нелюбезным приемом, Полэт стал оглядывать комнату, выискивая, к чему бы придраться, наконец его взор упал на огонь в камине.
— Какая жара в комнате! — воскликнул Амиас. — Какая нелепость задыхаться в такой жаре, не говоря уже о том, что может произойти пожар. Друри, позови кого- нибудь из слуг! Мы не можем допустить этого.
Друри вышел, но вскоре возвратился и доложил, что все люди, которые могли бы погасить камин, спят.
Амиас произнес какое-то проклятие, потоптался по комнате и затем ушел без поклона, без приветствия.
— Боже мой! — вздохнула королева. — Я почти засыпала, неужели этот злой человек лишит меня даже ночного покоя?
Все окружающие молчали в подавленном настроении, прислушиваясь к завывающим звукам ветра на дворе.
Но вдруг послышался глухой зловещий звук, проникший в комнату как бы через камин.
Мужчины вскочили со своих мест у камина, женщины испугались и готовы были громко крикнуть, если бы не присутствие королевы. Мария приподнялась.
Звук повторился громче, отчетливее, но менее зловеще и можно было расслышать слова:
— Погасите огонь!
Замечено, что все отважные и к тому же тайные предприятия зависят более или менее от простой случайности. В данном случае явилось такое случайное совпадение обстоятельств, что неизвестный голос требовал именно того, что и Полэт, грубо нарушивший ночной покой заключенной.
— Погасите огонь! — повторил голос еще явственнее.
— Это превосходит всякое терпение! — воскликнул Мелвил.
— Старик, должно быть, помешался, — заметил священник.
— Погасите огонь! Хотят спасти ее величество! — послышалось снова.
Все замерли и вопросительно смотрели друг на друга.
— Это только насмешка и издевательство! — сказала Мария.
Она, по-видимому, утратила уже всякую надежду на освобождение.
Но голос все настойчивее повторял, просил, угрожал.
— А может, и вправду? — заметил врач.
— Невозможно! — не поверил Мелвил.
— Будем молчать! — решительно сказала Мария. — Если мы не будем обращать внимания, то эти чудеса прекратятся сами собой.
Вдруг на дворе раздался выстрел. Оконные стекла зазвенели, послышались крики. Одновременно какой-то тяжелый предмет с глухим шумом упал в огонь, разметав уголья и головни. Присутствующие громко вскрикнули, увидев, как из камина выскочил человек в загоревшейся одежде. Закоптелый до неузнаваемости, он сбивал огонь с платья.
— Вставайте, господа! — обратился он. — Все сложилось хорошо, и можно надеяться на успех. Ваше величество, возможность бегства устроена, помощь ждет на дворе. Спешите! Нужно воспользоваться временем, пока стража приготовится к отпору.
Все стояли молча, как прикованные, никто не шевелился. Кто этот человек? Не сумасшедший ли какой-нибудь?
А время шло, на дворе шум все усиливался, слышалась борьба.
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показались Амиас Полэт, Друри и несколько солдат.
— А, я так и думал! — крикнул Полэт, увидев незнакомца. Кто вы?
— Слишком поздно! — послышался душераздирающий вопль Марии. — Ах, этот огонь, ах, это недоверие!
Снаружи кто-то разбил окно — и незнакомец одним прыжком выпрыгнул в него.
— О. эта низкая женщина снова затеяла козни! — прорычал Полэт. — Друри, оставайтесь здесь и стерегите ее, а я велю поймать негодяя.
С этими словами Амиас поспешно вышел.
Со двора слышались суета, выстрелы, крики, конский топот. Весь гарнизон замка был поднят на ноги и громко топал по коридорам. Шум борьбы продолжался с четверть часа, затем все стихло. Солдаты разошлись опять по местам, только долго еще бушевал Амиас. Он снова явился в комнату королевы, обыскал все уголки и подверг строгому допросу всех присутствующих. Но ничего не добился, да и не мог ничего открыть.
Хотя нападение было отражено, все же, по распоряжению Амиаса, Друри и несколько солдат остались на страже в комнате у королевы.
На другой день выяснилось, что несколько солдат было ранено, а на дворе нашли двух убитых молодых, никому не известных людей. Вот и все, чем закончилось нападение на замок.
Наутро Амиас Полэт позвал своего помощника и продиктовал донесение первому министру страны. Как всегда, он был чрезвычайно точен в изложении подробностей происшествия. Так как не имелось доказательств участия Марии в этой попытке к освобождению, то Полэт высказывал лишь свои предположения. По его мнению, оба убитых налетчика были шотландцами.
Лорд Мак-Лин напрасно ждал своего сына Эдуарда, а невеста — своего нареченного жениха.
Неподалеку от замка Фосрингай лежит одна из пустошей, которыми в те времена особенно изобиловала Англия. Для путешественников такие пустоши были страшнее леса и представляли одинаковую опасность, как и путешествие по морю. Путник, медленно пробиравшийся по глубоким пескам, завидев черную точку на горизонте, заранее ожидал беды.
За редким исключением такая точка на горизонте была не что иное как хорошо вооруженный всадник, который более или менее вежливо требовал с путника контрибуцию. Люди этой профессии чувствовали себя в пустоши более вольготно, чем в лесу. Намечая свою жертву на далеком расстоянии, они таким образом могли понять, нападать или скрыться.
Близ самого Лондона была пустошь Гренсло, которая долгие годы являлась истинным бичом столицы и путешественников. Так как ночью никто не решался проезжать по пустоши, то и властители большой дороги не давали себе труда выезжать ночью, а занимались своим ремеслом свободно среди бела дня, ночью же спали, как и все порядочные люди.
Пустошь близ замка Фосрингай пользовалась громкой славой в смысле грабежей и разбоя. Но с появлением в замке шотландской королевы обстоятельства несколько изменились. Амиас Полэт считал своим долгом усиленно охранять дороги как ночью, так и днем, вследствие чего шайке грабителей приходилось бездействовать и наконец, за отсутствием заработка, совершенно покинуть местность.
Приблизительно в пяти английских милях от замка был один из постоялых дворов, владелец которого злобно смотрел на замок и проклинал свою королеву, сэра Полэта и заключенную. Этого человека по имени Нед Бейерс нередко посещал Эдуард Мак-Лин во время рекогносцировки окрестностей Фосрингая. Нед не знал, за кого принять ему этого редкого одинокого гостя, но так как тот бесстрашно ездил один и был хорошо вооружен, то Нед решил в конце концов, что это — один из рыцарей с большой дороги, пустившийся на разведку, стоит ли вновь приняться здесь за свое дело. Впрочем, Эдуард не оставался на ночлег, а проводил на постоялом дворе лишь недолгое время, чтобы дать отдохнуть коню.
Однажды, как раз перед намеченным отъездом в Лондон, ненастная погода заставила его остаться дольше обыкновенного. Он велел подать себе ужин, после чего хозяин предложил ему приготовить постель. Но Эдуард отказался от постели, предпочтя отдохнуть на скамье. Хозяин увидел в этом лишь подтверждение своего предположения, так как предпочесть твердую скамью удобной, мягкой постели мог только человек, опасавшийся за свою безопасность.
— Мой дом вполне надежен! — сказал он, подмигнув. — У меня имеются маленькие, уединенные комнатки, которых не найдет тот, кто не должен их находить, сэр!
Эдуард заинтересовался.
— Разве? В таком случае они могли бы пригодиться нам. А сколько человек могли бы вы приютить? — спросил он.
— Около двенадцати, сэр!
— И столько же коней?
— И это можно, — ответил Нед с плутоватой усмешкой.
— Ну, быть может, я воспользуюсь этим и даже на несколько дней!
— Милости просим! А как обстоят дела там, с той старухой? Скоро с ней покончат?
Эдуард сразу не понял слов хозяина, когда же он догадался, то лишь вздохнул в ответ.
— Да, да, — продолжал Нед, — она много зла принесла нам всем. Честному человеку нет возможности зарабатывать свой хлеб.
— Как это понять? — спросил Эдуард.
Ведь с тех пор, как она здесь, наступил полный застой в делах как в наших, так и в ваших. На этот раз Эдуард лучше понял своего собеседника, так как был достаточно осведомлен о делах и нравах обитателей пустоши.
— Вы правы! Но этому делу можно было бы помочь.
— Каким образом? — удивился Нед.
— Если бы удалить эту женщину отсюда.
— Ну, это трудновато!
— Или, быть может, заставить охранителей удалить ее отсюда?
— Черт возьми! Но как взяться за это дело?
— Устроить нападение на замок!
— Гм… об этом нужно подумать! — задумчиво произнес Нед, почесав в затылке.
Эдуард сообразил, что, подвигая на это дело подобного сорта людей, можно было воспользоваться ими, не открывая своих истинных намерений.
— Одним словом, — продолжал он, — я хочу попытаться избавить местных жителей от этих затянувшихся неприятностей.
— Гм… гм… — пробормотал Нед. — Это — трудная штука!
— Менее трудная, чем вы полагаете, тем более что в замке запуганы многими заговорами.
В конце концов Нед предложил свое содействие и показал помещения для значительного количества людей. Мало того, обещал к известному дню собрать людей и со своей стороны.
Затем Эдуард распростился со своим новым столь неожиданным сообщником и уехал.
Несколько дней спустя, вечером, трущоба Неда необычайно оживилась. Приезжали друг за другом всадники, и все оставались на ночлег. Кроме одиннадцати человек приближенных Эдуарда явилось еще по крайней мере двадцать, которые были наняты для неизвестного им дела.
Около полуночи Эдуард объявил им свое намерение произвести переполох в замке, а потом рассеяться.
Все совершилось неожиданно как для охраны замка, так и для самой заключенной Марии Стюарт.
План Эдуарда был таков: часть отряда из людей, не посвященных в истинную цель нападения, была в запасе, другая часть должна была совершить нападение на замок и произвести там шум. Одна часть друзей Мак-Лина должна была стараться проникнуть в покои Марии со стороны сада, а другая, во главе с самим Эдуардом, — проникнуть в комнаты Марии через камин.
Когда Эдуард решился привести в исполнение свое отважное предприятие, была холодная, суровая ночь.
Ко всем невзгодам тюремной жизни Марии Стюарт нужно прибавить еще жестокие страдания от ревматизма, которые почти не оставляли ее ни на минуту. Тем же недугом был одержим и ее неумолимый страж, старый, ворчливый Амиас Полэт. Он не мог спать уже несколько ночей подряд и не решался выходить на воздух при такой холодной, сырой погоде. Друри исполнял за него все обязанности по охране замка, которые осложнялись тем, что старый, подозрительный Амиас беспрестанно гонял его то туда, то сюда, не давая отдыха ни на минуту. Вечером, когда боли стали нестерпимы, Полэт хотел забыться в молитве. Он уткнулся в молитвенник и действительно вскоре его стало клонить ко сну. Проспав около трех часов, он встал, поужинал с Друри, после чего они принялись играть в шахматы. Но при этом каждый час Друри должен был отрываться от игры и делать обход замка и двора, что, конечно, доставляло ему мало удовольствия.
Был третий час ночи, когда Друри возвратился из последнего обхода.
— Все в порядке? — спросил Полэт.
— Все, — ответил Друри, — стража бодрствует, и все в замке спокойно!
— А она спит?
— Нет! Она страдает от боли и просила почитать ей вслух!
На лице Амиаса промелькнуло выражение злорадства. Вероятно, он чувствовал известное удовлетворение в том, что несчастная узница испытывает такие же страдания, как и он.
— Читает, наверное, какой-нибудь папистский вздор! — проворчал он. — Следовало бы запретить ей подобные занятия!
— Недолго уж осталось, — заметил Друри, — было бы слишком жестоко.
— У вас вечная склонность к состраданию, — досадливо возразил Амиас. — Друри, когда вы наконец научитесь подчинять свои чувства долгу?
В том смысле, как вы это понимаете, никогда, — ответил Друри, — я не создан для этого!
— Плохо, очень плохо! — пробормотал Полэт, однако вернулся снова к начатой игре, и оба замолчали.
Амиас проигрывал, и, быть может, это было причиной того, что он потерял интерес к игре.
— Послушайте, Друри, — сказал он, — как бы при таком ночном бодрствовании нашей узницы опять не затеялось что-нибудь недоброе у нее?
— Едва ли, — ответил Друри, — она действительно страдает!
— Да, да! Однако я чувствую себя несколько лучше и пойду проверю.
Друри поморщился, но все же последовал за стариком, который, накинув шубу, поплелся по коридорам в комнаты Марии.
Полэт подозрительным оком осмотрел все уголки передней, а затем без доклада вошел в комнату заключенной.
Мария лежала на постели, скрестив руки на груди и уставившись в потолок. Близ нее находились ее старая нянька Кеннэди и другие женщины, занятые каким-то рукоделием, а также Кэрлей. У камина сидели Буркэн, ее духовник, Мелвил и Жэрвэ, ее врач. Священник читал книгу. При появлении Амиаса он умолк, и все присутствующие, кроме Марии, повернулись к дверям.
— Кто там? — спросила Мария слабым голосом.
— Тот, кто заботится о вас, — ответил Амиас с хриплым смехом, не считая нужным поклониться. — Здесь так уютно, что хочется присоединиться к вашему кружку.
Мария ничего не ответила, остальные также, конечно, молчали.
Очевидно раздосадованный таким нелюбезным приемом, Полэт стал оглядывать комнату, выискивая, к чему бы придраться, наконец его взор упал на огонь в камине.
— Какая жара в комнате! — воскликнул Амиас. — Какая нелепость задыхаться в такой жаре, не говоря уже о том, что может произойти пожар. Друри, позови кого- нибудь из слуг! Мы не можем допустить этого.
Друри вышел, но вскоре возвратился и доложил, что все люди, которые могли бы погасить камин, спят.
Амиас произнес какое-то проклятие, потоптался по комнате и затем ушел без поклона, без приветствия.
— Боже мой! — вздохнула королева. — Я почти засыпала, неужели этот злой человек лишит меня даже ночного покоя?
Все окружающие молчали в подавленном настроении, прислушиваясь к завывающим звукам ветра на дворе.
Но вдруг послышался глухой зловещий звук, проникший в комнату как бы через камин.
Мужчины вскочили со своих мест у камина, женщины испугались и готовы были громко крикнуть, если бы не присутствие королевы. Мария приподнялась.
Звук повторился громче, отчетливее, но менее зловеще и можно было расслышать слова:
— Погасите огонь!
Замечено, что все отважные и к тому же тайные предприятия зависят более или менее от простой случайности. В данном случае явилось такое случайное совпадение обстоятельств, что неизвестный голос требовал именно того, что и Полэт, грубо нарушивший ночной покой заключенной.
— Погасите огонь! — повторил голос еще явственнее.
— Это превосходит всякое терпение! — воскликнул Мелвил.
— Старик, должно быть, помешался, — заметил священник.
— Погасите огонь! Хотят спасти ее величество! — послышалось снова.
Все замерли и вопросительно смотрели друг на друга.
— Это только насмешка и издевательство! — сказала Мария.
Она, по-видимому, утратила уже всякую надежду на освобождение.
Но голос все настойчивее повторял, просил, угрожал.
— А может, и вправду? — заметил врач.
— Невозможно! — не поверил Мелвил.
— Будем молчать! — решительно сказала Мария. — Если мы не будем обращать внимания, то эти чудеса прекратятся сами собой.
Вдруг на дворе раздался выстрел. Оконные стекла зазвенели, послышались крики. Одновременно какой-то тяжелый предмет с глухим шумом упал в огонь, разметав уголья и головни. Присутствующие громко вскрикнули, увидев, как из камина выскочил человек в загоревшейся одежде. Закоптелый до неузнаваемости, он сбивал огонь с платья.
— Вставайте, господа! — обратился он. — Все сложилось хорошо, и можно надеяться на успех. Ваше величество, возможность бегства устроена, помощь ждет на дворе. Спешите! Нужно воспользоваться временем, пока стража приготовится к отпору.
Все стояли молча, как прикованные, никто не шевелился. Кто этот человек? Не сумасшедший ли какой-нибудь?
А время шло, на дворе шум все усиливался, слышалась борьба.
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показались Амиас Полэт, Друри и несколько солдат.
— А, я так и думал! — крикнул Полэт, увидев незнакомца. Кто вы?
— Слишком поздно! — послышался душераздирающий вопль Марии. — Ах, этот огонь, ах, это недоверие!
Снаружи кто-то разбил окно — и незнакомец одним прыжком выпрыгнул в него.
— О. эта низкая женщина снова затеяла козни! — прорычал Полэт. — Друри, оставайтесь здесь и стерегите ее, а я велю поймать негодяя.
С этими словами Амиас поспешно вышел.
Со двора слышались суета, выстрелы, крики, конский топот. Весь гарнизон замка был поднят на ноги и громко топал по коридорам. Шум борьбы продолжался с четверть часа, затем все стихло. Солдаты разошлись опять по местам, только долго еще бушевал Амиас. Он снова явился в комнату королевы, обыскал все уголки и подверг строгому допросу всех присутствующих. Но ничего не добился, да и не мог ничего открыть.
Хотя нападение было отражено, все же, по распоряжению Амиаса, Друри и несколько солдат остались на страже в комнате у королевы.
На другой день выяснилось, что несколько солдат было ранено, а на дворе нашли двух убитых молодых, никому не известных людей. Вот и все, чем закончилось нападение на замок.
Наутро Амиас Полэт позвал своего помощника и продиктовал донесение первому министру страны. Как всегда, он был чрезвычайно точен в изложении подробностей происшествия. Так как не имелось доказательств участия Марии в этой попытке к освобождению, то Полэт высказывал лишь свои предположения. По его мнению, оба убитых налетчика были шотландцами.
Лорд Мак-Лин напрасно ждал своего сына Эдуарда, а невеста — своего нареченного жениха.


 Королева Елизавета в 1587 году пользовалась огромным почетом у своего народа. Как только стало известно, что состояние ее здоровья улучшилось, Лондон сильно воодушевился. Если бы охота была назначена поблизости от столицы, то, наверное, все ее население высыпало бы глазеть на это зрелище. Предвидя это, Лейстер решил совместно с обер-егермейстером королевы перенести охоту подальше от Лондона. Вместе с тем народу было объявлено, что королева будет проезжать по улицам столицы. Был назначен час проезда, и к тому времени все улицы были обложены войсками и полицией.
Население Лондона поднялось рано, а еще раньше того — знатные господа со своей свитой, которые должны были сопровождать Елизавету из Гринвича. Со всех сторон стекались отряды, щеголявшие друг перед другом убранством и выправкой.
Гринвический парк, дворец и его ближайшие окрестности были наполнены наездниками и наездницами. Те, кто имел право доступа к королеве, спешили засвидетельствовать ей свое почтение, когда она появилась в приемном зале.
Королева почти никогда не заставляла себя ждать. Так и на этот раз она явилась с точностью до минуты и была встречена восторженными овациями.
В этот день Елизавета имела сияющий вид; благодаря богатому наряду ее статная фигура приобрела прежнюю величавость, а милостивая улыбка королевы доказывала, что она довольна собой.
Поблагодарив за приветствие, она села на лошадь и, предшествуемая герольдами и своим личным войском, открыла шествие. Рядом с ней ехал Дэдлей. Поезд был такой большой, что, когда его начало достигло уже Гайдпарка, конец был еще в Гринвиче, а это составляет значительное расстояние. Путь был дальний, но в то время привыкли делать большие путешествия на лошадях.
В Виндзоре королева завтракала. Тем временем меняли коней и заведующие охотой распределяли общество по месту назначения, так как не все имели право охотиться за дичью и некоторые являлись лишь зрителями.
После получасового отдыха Елизавета отправилась в дальнейший путь, сопровождаемая личной свитой. Все отдельные части потянулись к северу.
В северо-восточном направлении от Ридинга тянется цепь холмов, в те времена еще покрытых лесом. На склонах этих холмов и намечалась охота. Лес был огражден, чтобы дичь не разбежалась, устроили облаву на оленя. Красивый, стройный старик-олень был спущен, собак направили по его следам, и охота началась.
Елизавета любила такого рода охоту. Она оживилась, была весела, впереди всех направлялась по следам оленя и собак. Охота шла все время в северо-восточном направлении и продолжалась целых четыре часа.
Наконец собаки загнали оленя; обер-егермейстер сразил его по всем правилам охотничьего искусства и на серебряном подносе преподнес королеве его рога.
В знак своей признательности всему охотничьему персоналу Елизавета положила на тот же поднос туго набитый кошелек и выразила желание устроить привал на открытом воздухе.
Но это не входило в намерения Лейстера. По его мнению, королева уже доказала всем, что она здорова, бодра и что настроение ее духа далеко не соответствует ходившим слухам. И желая доказать, что он, по-прежнему пользуется благосклонностью своей повелительницы, Лейстер решился возразить:
— Ваше величество, вы разгорячены, а между тем солнце садится и вечера еще довольны прохладны. Соблаговолите назначить привал не под открытым небом. Я уже позаботился, чтобы все было приготовлено в доме поблизости. Теперь полнолуние, и обратное путешествие в карете будет очень приятно.
— Разве моя карета здесь?
— Да, ваше величество.
Королева любезно улыбнулась.
— Вы так заботитесь обо мне, что было бы неблагодарностью с моей стороны отклонить ваше предложение.
Лейстер поклонился так низко, что его голова почти коснулась шеи лошади.
Было отдано распоряжение о том, что участники и участницы охоты могут располагаться по собственному желанию; только министры и еще несколько лиц получили приглашение последовать за королевой и принять участие в ее трапезе в небольшом охотничьем доме. Этот дом очень понравился королеве своей идиллической обстановкой.
После ужина Елизавета почувствовала вдруг такую сильную усталость, что решила отдохнуть несколько часов. Поэтому леди Брауфорд должна была съездить в Виндзор и привезти королеве другое платье. Шел разговор даже о том, что королева останется в охотничьем доме до утра. Так как имелся только один экипаж королевы, то леди и воспользовалась им для поездки в Виндзор. Дело было уже к вечеру, смеркалось.
Кузнец Киприан выехал из Лондона вместе с графом Лейстером и, встретившись на границе города с Пельдрамом, обменялся с ним любезностями. В дальнейшем они еще не раз встречались, последний раз — в Виндзоре, так как Лейстер оставался с королевой.
— Ну, что, как вам нравится охота, — спросил Пельдрам, — весь этот блеск, почет, ликующие крики?
— Ах да, все это великолепно!
— Я очень рад, что мог быть полезен вам; вы — славный малый, — произнес Пельдрам.
— Очень признателен вам, — с улыбкой поклонился Киприан.
Разговор прервался, так как Пельдрама отозвали по делам службы.
Вдруг среди общей суеты и оживления вокруг охотничьего дома появился гонец от Амиаса Полэта с донесением к лорду Бэрлею. Передав донесение, он отошел в сторону, и его сейчас же окружила толпа, и, узнав по ливрее, откуда он, все стали расспрашивать, с каким известием он явился.
— Пытались выкрасть Марию Стюарт!
— Неудачно?
— Людей разогнали, несколько человек убиты.
Эти слова долетели до слуха Киприана.
Бэрлея это известие поразило и сильно взволновало, но он счел необходимым скрыть его от королевы.
Тем временем подали экипаж королевы, и леди Брауфорд с камеристкой сели в него. Киприан был так взволнован страшным известием, что не заметил, кто именно сел в экипаж; в голове билась одна мысль: попытка освобождения Марии Стюарт не удалась, есть убитые, все дело погибло. Значит, необходимо как можно скорее привести в исполнение задуманное убийство королевы. Ему показалось вполне естественным, что Елизавета, получив неприятное известие, поспешила вернуться во дворец.
Киприан вскочил на коня и последовал за экипажем. Никому из незначительного конвоя, сопровождавшего экипаж, это не показалось подозрительно, так как Киприана приняли за слугу графа Лейстера, спешащего к леди Брауфорд с каким-нибудь поручением.
Киприан заглянул в карету; так как сумерки еще более сгустились в лесу, то внутри кареты нельзя было различить лица. Люди конвоя видели, как Киприан что-то сказал дамам, затем вынул из платья какой-то предмет и сделал рукой несколько сильных движений.
Послышался крик о помощи, конвой окружил карету, тут же появился и Пельдрам. В руках у Киприана был окровавленный кинжал.
— Несчастный, что вы наделали? — крикнул Пельдрам. — Вы арестованы!… Помогите леди Брауфорд!
Киприан ничего не ответил, обвел всех блуждающим взором, затем всадил кинжал себе в грудь и тотчас же молча свалился с лошади.
Пельдрам очень быстро нашелся придать делу такой оборот, будто убийца ошибся, думая, что преследовал свою возлюбленную. А так как Киприан был мертв, то дело прекратилось само собой.
Что касается леди Брауфорд, то она отделалась только испугом, а у камеристки были легко поранены руки, которыми она в испуге защищалась от убийцы. Раны перевязали, и леди продолжили свой путь к Виндзору.
Сам факт разбоя нельзя было скрыть от королевы, но виновников не стали доискиваться. Леди Стаффорд не хотела, чтобы ее, а также ее сына, втянули в процесс; Бэрлей молчал, потому что когда-то протежировал этому руководителю заговора, Лейстер не выступал, потому что ливрея его слуги оказалась на этом подозрительном самоубийце. Валингэм и Пельдрам молчали, чтобы не выдать своего глупого промаха обманутых блюстителей безопасности.
Минутное веселое настроение Елизаветы сменилось из-за этих событий более угрожающим гневным состоянием. Более чем когда-либо она убедилась, что для ее безопасности необходима смерть Марии. Но выступить решительно боялась по-прежнему. Ей хотелось, чтобы смерть Марии произошла помимо нее, чтобы никто не мог обвинить ее и назвать убийцей.
Королева Елизавета в 1587 году пользовалась огромным почетом у своего народа. Как только стало известно, что состояние ее здоровья улучшилось, Лондон сильно воодушевился. Если бы охота была назначена поблизости от столицы, то, наверное, все ее население высыпало бы глазеть на это зрелище. Предвидя это, Лейстер решил совместно с обер-егермейстером королевы перенести охоту подальше от Лондона. Вместе с тем народу было объявлено, что королева будет проезжать по улицам столицы. Был назначен час проезда, и к тому времени все улицы были обложены войсками и полицией.
Население Лондона поднялось рано, а еще раньше того — знатные господа со своей свитой, которые должны были сопровождать Елизавету из Гринвича. Со всех сторон стекались отряды, щеголявшие друг перед другом убранством и выправкой.
Гринвический парк, дворец и его ближайшие окрестности были наполнены наездниками и наездницами. Те, кто имел право доступа к королеве, спешили засвидетельствовать ей свое почтение, когда она появилась в приемном зале.
Королева почти никогда не заставляла себя ждать. Так и на этот раз она явилась с точностью до минуты и была встречена восторженными овациями.
В этот день Елизавета имела сияющий вид; благодаря богатому наряду ее статная фигура приобрела прежнюю величавость, а милостивая улыбка королевы доказывала, что она довольна собой.
Поблагодарив за приветствие, она села на лошадь и, предшествуемая герольдами и своим личным войском, открыла шествие. Рядом с ней ехал Дэдлей. Поезд был такой большой, что, когда его начало достигло уже Гайдпарка, конец был еще в Гринвиче, а это составляет значительное расстояние. Путь был дальний, но в то время привыкли делать большие путешествия на лошадях.
В Виндзоре королева завтракала. Тем временем меняли коней и заведующие охотой распределяли общество по месту назначения, так как не все имели право охотиться за дичью и некоторые являлись лишь зрителями.
После получасового отдыха Елизавета отправилась в дальнейший путь, сопровождаемая личной свитой. Все отдельные части потянулись к северу.
В северо-восточном направлении от Ридинга тянется цепь холмов, в те времена еще покрытых лесом. На склонах этих холмов и намечалась охота. Лес был огражден, чтобы дичь не разбежалась, устроили облаву на оленя. Красивый, стройный старик-олень был спущен, собак направили по его следам, и охота началась.
Елизавета любила такого рода охоту. Она оживилась, была весела, впереди всех направлялась по следам оленя и собак. Охота шла все время в северо-восточном направлении и продолжалась целых четыре часа.
Наконец собаки загнали оленя; обер-егермейстер сразил его по всем правилам охотничьего искусства и на серебряном подносе преподнес королеве его рога.
В знак своей признательности всему охотничьему персоналу Елизавета положила на тот же поднос туго набитый кошелек и выразила желание устроить привал на открытом воздухе.
Но это не входило в намерения Лейстера. По его мнению, королева уже доказала всем, что она здорова, бодра и что настроение ее духа далеко не соответствует ходившим слухам. И желая доказать, что он, по-прежнему пользуется благосклонностью своей повелительницы, Лейстер решился возразить:
— Ваше величество, вы разгорячены, а между тем солнце садится и вечера еще довольны прохладны. Соблаговолите назначить привал не под открытым небом. Я уже позаботился, чтобы все было приготовлено в доме поблизости. Теперь полнолуние, и обратное путешествие в карете будет очень приятно.
— Разве моя карета здесь?
— Да, ваше величество.
Королева любезно улыбнулась.
— Вы так заботитесь обо мне, что было бы неблагодарностью с моей стороны отклонить ваше предложение.
Лейстер поклонился так низко, что его голова почти коснулась шеи лошади.
Было отдано распоряжение о том, что участники и участницы охоты могут располагаться по собственному желанию; только министры и еще несколько лиц получили приглашение последовать за королевой и принять участие в ее трапезе в небольшом охотничьем доме. Этот дом очень понравился королеве своей идиллической обстановкой.
После ужина Елизавета почувствовала вдруг такую сильную усталость, что решила отдохнуть несколько часов. Поэтому леди Брауфорд должна была съездить в Виндзор и привезти королеве другое платье. Шел разговор даже о том, что королева останется в охотничьем доме до утра. Так как имелся только один экипаж королевы, то леди и воспользовалась им для поездки в Виндзор. Дело было уже к вечеру, смеркалось.
Кузнец Киприан выехал из Лондона вместе с графом Лейстером и, встретившись на границе города с Пельдрамом, обменялся с ним любезностями. В дальнейшем они еще не раз встречались, последний раз — в Виндзоре, так как Лейстер оставался с королевой.
— Ну, что, как вам нравится охота, — спросил Пельдрам, — весь этот блеск, почет, ликующие крики?
— Ах да, все это великолепно!
— Я очень рад, что мог быть полезен вам; вы — славный малый, — произнес Пельдрам.
— Очень признателен вам, — с улыбкой поклонился Киприан.
Разговор прервался, так как Пельдрама отозвали по делам службы.
Вдруг среди общей суеты и оживления вокруг охотничьего дома появился гонец от Амиаса Полэта с донесением к лорду Бэрлею. Передав донесение, он отошел в сторону, и его сейчас же окружила толпа, и, узнав по ливрее, откуда он, все стали расспрашивать, с каким известием он явился.
— Пытались выкрасть Марию Стюарт!
— Неудачно?
— Людей разогнали, несколько человек убиты.
Эти слова долетели до слуха Киприана.
Бэрлея это известие поразило и сильно взволновало, но он счел необходимым скрыть его от королевы.
Тем временем подали экипаж королевы, и леди Брауфорд с камеристкой сели в него. Киприан был так взволнован страшным известием, что не заметил, кто именно сел в экипаж; в голове билась одна мысль: попытка освобождения Марии Стюарт не удалась, есть убитые, все дело погибло. Значит, необходимо как можно скорее привести в исполнение задуманное убийство королевы. Ему показалось вполне естественным, что Елизавета, получив неприятное известие, поспешила вернуться во дворец.
Киприан вскочил на коня и последовал за экипажем. Никому из незначительного конвоя, сопровождавшего экипаж, это не показалось подозрительно, так как Киприана приняли за слугу графа Лейстера, спешащего к леди Брауфорд с каким-нибудь поручением.
Киприан заглянул в карету; так как сумерки еще более сгустились в лесу, то внутри кареты нельзя было различить лица. Люди конвоя видели, как Киприан что-то сказал дамам, затем вынул из платья какой-то предмет и сделал рукой несколько сильных движений.
Послышался крик о помощи, конвой окружил карету, тут же появился и Пельдрам. В руках у Киприана был окровавленный кинжал.
— Несчастный, что вы наделали? — крикнул Пельдрам. — Вы арестованы!… Помогите леди Брауфорд!
Киприан ничего не ответил, обвел всех блуждающим взором, затем всадил кинжал себе в грудь и тотчас же молча свалился с лошади.
Пельдрам очень быстро нашелся придать делу такой оборот, будто убийца ошибся, думая, что преследовал свою возлюбленную. А так как Киприан был мертв, то дело прекратилось само собой.
Что касается леди Брауфорд, то она отделалась только испугом, а у камеристки были легко поранены руки, которыми она в испуге защищалась от убийцы. Раны перевязали, и леди продолжили свой путь к Виндзору.
Сам факт разбоя нельзя было скрыть от королевы, но виновников не стали доискиваться. Леди Стаффорд не хотела, чтобы ее, а также ее сына, втянули в процесс; Бэрлей молчал, потому что когда-то протежировал этому руководителю заговора, Лейстер не выступал, потому что ливрея его слуги оказалась на этом подозрительном самоубийце. Валингэм и Пельдрам молчали, чтобы не выдать своего глупого промаха обманутых блюстителей безопасности.
Минутное веселое настроение Елизаветы сменилось из-за этих событий более угрожающим гневным состоянием. Более чем когда-либо она убедилась, что для ее безопасности необходима смерть Марии. Но выступить решительно боялась по-прежнему. Ей хотелось, чтобы смерть Марии произошла помимо нее, чтобы никто не мог обвинить ее и назвать убийцей.


 На следующий день Пельдрам очутился в лавке мастера Оллана и нашел здесь, по обыкновению, жену и дочь хозяина. Пельдрам был в веселом и шутливом настроении, располагавшем к балагурству. Желая занять своим разговором обеих женщин, он повел речь о том, что ему пора жениться и у него достаточно средств, чтобы содержать семью. Жена оружейника согласилась с ним.
Пельдрам продолжал, что ему надо жениться на своей землячке и с этой целью предстоит ехать в Шотландию. Жена оружейника возразила, что до Шотландии не рукой подать, а шотландские девушки-невесты не так доступны, как зрелые груши.
Пельдрам наконец высказал, что и в Лондоне найдутся шотландские девушки и, пожалуй, более подходящие для него, чем в самой Шотландии. Почтенная хозяйка не могла отрицать это. И гость сказал, что у него даже есть на примете одна вполне подходящая молодая девица, а после этого вступления заявил, что он берет на себя смелость посвататься. Мать поспешила выслать Вилли из лавки.
В доме Оллана уже давно догадывались о намерениях Пельдрама, и потому удаление Вилли могло считаться ответом на его сватовство. Пельдрам засмеялся. Впрочем, его игривое настроение не находило отклика в душе матери и дочери. До них уже дошла весть о злополучном покушении Киприана, и они по своей женской впечатлительности были огорчены и напуганы этим. Сверх того Вилли, по-видимому, была огорчена смертью молодого человека, к которому она была, по меньшей мере, неравнодушна.
Вы могли бы оставить здесь вашу дочь, миссис Оллан! — сказал Пельдрам. — Ведь в моих словах о том, что я хочу остепениться, нет ничего щекотливого. Или, может быть, вы полагаете, что я заглядываюсь на вашу Вилли?
— Мало ли на кого вы заглядываетесь! — уклончиво ответила хозяйка. — Но в вашем обращении с моей дочерью я не заметила ничего особенного.
— В этом вы совершенно правы. Но что сказали бы вы, если бы я в самом деле стал не шутя заглядываться на Вилли?
— Ничего не могу сказать на этот счет. Нельзя же вам запретить смотреть на девушку.
— Вот как?… Вы так полагаете? Ну а если бы за этим последовало предложение?
— Его нужно еще дождаться.
— Но допустим, что оно уже сделано, что сказали бы вы тогда?
— Ступайте к моему мужу и спросите его. Только он может дать вам определенный ответ.
— Я так и думал… Ну а вы-то сами не прочь породниться со мной?
— Я не буду перечить тому, чего захочет муж.
— Так, так… вы — послушная жена. Но, быть может, в глубине сердца вы таите иное желание?
— Вовсе нет. Согласится старик, соглашусь и я. Вот и все!
— А Вилли?
— Не могу знать, что она скажет или чего ей хочется.
— Ну, чтобы не распространяться много, скажу напрямик, что мои намерения серьезны, и потому я переговорю с Олланом, но только наедине. Пошлите его ко мне, всего лучше в гостиную.
Отца позвали. Он, как всегда, поздоровался с Пельдрамом холодно и спокойно, после чего пригласил его в гостиную, где они уселись вдвоем.
Гость улыбался. Может быть, непривычная роль жениха отчасти смущала его.
— Где ваш мастер? — спросил он наконец хозяина.
— Уволен! — отрезал тот.
— Так… А когда последовало его увольнение?
— Третьего дня вечером.
Вы поссорились с ним? Из-за чего вы отказали ему?
— Из-за того, что он увлекался удовольствиями, неподходящими нашему званию и нашему ремеслу.
— Так, так!… А известно ли вам, где он теперь?
— Я за ним не следил.
— Отлично! Вы поступили умно, отказав ему.
— Я и сам так полагаю.
— Значит, мы все были согласны между собой на этот счет. Посмотрим, не упрочится ли наше взаимное согласие. Ведь вы шотландец, как и я! — продолжал гость.
— Шотландец, да, — подтвердил оружейник, — только не чета вам — полицейскому!
— Ну, это — пустяки! Мы — соотечественники, и я, ваш соотечественник, желаю жениться.
— Это — ваше дело.
— Совершенно верно, но я желаю жениться на вашей дочери, а это — уже отчасти и ваше дело.
— Моя дочь вам не пара.
— Однако я иного мнения.
— Ну, значит мы с вами несогласны.
— По-видимому, так… Только мне кажется, что мы все-таки поладим между собой. Я опять возвращаюсь к Киприану. Его уже нет в живых.
— Весьма сожалею.
— И я также. Он был славный малый и сам лишил себя жизни. Собственно говоря, он поступил умно, потому что перед самоубийством совершил деяние, за которое ему предстояло поплатиться жизнью, он напал на одну придворную даму и ранил ее…
— Это нехорошо!
— Да… как относительно того, что подразумеваете вы, так и с моей точки зрения.
— Что подразумеваю я?…
— Мы потолкуем об этом после. Накануне вечером была сделана попытка освободить фосрингайскую пленницу. Однако заговорщики бежали, и двое из них были убиты. Одним из убитых оказался лорд Мак-Лин, которого вы также видели и к которому я сам привел Киприана.
— Странно!
— Да, да!… Что касается Киприана, то я сам нарочно пустил такую молву, будто у него была знакомая дама при дворе, которую он приревновал и хотел убить.
— В сущности, мне это безразлично.
— Не думаю! Лорд Мак-Лин и Киприан, по-моему, были знакомы между собой и раньше.
— Может быть!
До настоящей минуты оружейник отвечал Пельдраму спокойно, холодно и слегка насмешливо. Но теперь он как будто стал обнаруживать больше интереса и внимания к разговору.
— Они состояли в заговоре, — продолжал Пельдрам, — с целью освободить Марию Стюарт и убить нашу королеву.
— Ну, вот еще выдумали! — проворчал Оллан.
— У них были сообщники, которых надо искать среди людей их окружения.
— Киприан был вашим другом!
— Да, я держал его на привязи, как и подобало, а теперь у меня в руках весь заговор, и от меня зависит открыть его и засадить в тюрьму заговорщиков.
— Пожалуй, это — ваша обязанность.
— Как смотреть на вещи!… Вот, например, я могу быть убежден, что некоторые люди невиновны, несмотря на улики против них…
— Такое убеждение было бы приятно!
— Я сам так думаю, и если я прошу руки вашей дочери, то это служит верным доказательством того, что у меня нет никакого предубеждения против вас, и я совсем не считаю вас виновным.
— По-видимому, так!
— Но если вы отвергаете мое искательство, то я, пожалуй, буду думать иначе.
— Нисколько в том не сомневаюсь!
— Дело обстоит приблизительно так: Вилли — о вас я не буду распространяться более, так как вы сами можете оценить свою пользу — Вилли сделается миссис Пельдрам, настоящей леди, заживет в достатке и всяком довольстве. Или же она окажется дочерью государственного преступника, обреченной на нищету, горе, презрение, преследование — одним словом, на всякие бедствия, Ясно ли это?
— Вполне!
— А что вы скажете на мои слова?
— Я скажу: если вы нравитесь Вилли, то я не имею ничего против вашего сватовства.
— Хорошо сказано! Итак, спросите Вилли, нравлюсь ли я ей.
— Сейчас?
— Конечно!
— Хорошо… тогда обождите немножко.
Оллан оставался таким же холодным и спокойным, как и в начале разговора, несмотря на грозную перспективу, развернутую Пельдрамом перед ним. Соучастие оружейника в покушении Киприана было для полицейского вне всякого сомнения, но вместе с тем Пельдрам отлично сознавал, что старик готов на все и не согласился бы отдать ему руку Вилли, если бы угроза Пельдрама не напугала его. Впрочем, оба они были шотландцы и обделывали дело по-шотландски сухо, обдуманно, согласно здравому смыслу.
Итак, результат сватовства зависел теперь от Вилли.
Переговоры отца с дочерью носили тот же характер, как и предшествующая беседа между Олланом и Пельдрамом. Старый оружейник увел дочь из лавки в другую комнату и сказал ей:
— Вилли, пришел Пельдрам и просит твоей руки.
— Я не могу выйти за него, он противен мне! — вспыхнула девушка.
— Знаю и потому не стал бы передавать тебе его предложение, а сам отказал бы ему наотрез, да дело в том, что Киприан умер.
Вилли заплакала.
— Он не мог, — продолжал отец, — выполнить свою задачу. Однако главное — Пельдрам все-таки может покарать или помиловать нас…
— Пусть так! — заявила Вили. — Я не имею никакого отношения к делам, которые дают ему на это право.
— Но я замешан в них… И потом, совершенно безразлично, виновны ли мы, или невиновны, этот человек имеет власть погубить нас, если захочет, Дело идет теперь о том, чтобы из двух зол выбрать меньшее.
Вилли осушила слезы и, посмотрев на отца, решительно сказала:
— Тогда я пожертвую собой ради вас!
— Нет, мне этой жертвы не надо. Я знаю, что мне нужно. А ты должна думать только о своей пользе. Конечно, своим согласием ты сохранишь себе отца… Ну, что же, как ты решишь?
— Я согласна! — твердо сказала Вилли.
— Хорошо, — буркнул старик, — пойдем со мной к матери.
Отец и дочь пошли в лавку.
— Вилли — невеста сэра Пельдрама, — сказал Оллан жене. — Ты ничего не имеешь против этого?
— Нет! — холодно ответила жена.
— Тогда следуйте за мной.
Семейство отправилось в гостиную, где ожидал Пельдрам.
— Вот, сэр, моя дочь, — сказал старик, — она соглашается. Я привел к вам невесту.
Пельдрам поднялся с места, взял руку молодой девушки и сказал ей какую-то любезность. Он был мастер по этой части!… Наконец он поцеловал Вилли, которая не уклонилась от его поцелуя, и обменялся рукопожатием с ее родителями.
— Я не стану торопить со свадьбой, — заметил Пельдрам, — мне нужно только, чтобы она состоялась в нынешнем году!
— Хорошо, — ответил Оллан, — мы еще успеем потолковать обо всем.
Пельдрам простился с женщинами, и Оллан пошел провожать его. Когда они вышли из комнаты, Вилли, рыдая, упала на стул, мать же не проронила ни слова. Остановившись у порога, Оллан следил за своим будущим зятем. В его глазах таилось что-то зловещее. Старик заметил еще, что полицейский заговорил с кем-то в отдалении, после чего оружейник вернулся к себе в дом.
— И этот бредет сюда же!… Только уж опоздал, голубчик! — ворчливо процедил он сквозь зубы.
Человек, заговоривший с Пельдрамом, был Дик Маттерн. Заносчивый, непроходимый болван, воображавший о себе очень много, он считал себя вправе бесцеремонно заговаривать с директором полиции.
— Хорошо, что я встретил вас, — сказал он, поздоровавшись с Пельдрамом. — Вы разрешите мне обратиться к вам с несколькими словами?
Пельдрам, весело настроенный и раньше, окончательно расцвел душой после удачи своего сватовства к прекрасной Вилли. Вероятно, дорогой он соображал про себя, что его должность, принесшая ему и без того много выгод, способствовала теперь устройству его судьбы.
— Разрешаю, — с улыбкой ответил он, — если только вы по своей мудрости не наговорите опять какой-нибудь нелепости.
— Нелепости? — переспросил озадаченный Дик. — Я полагал, что вы признали теперь справедливость моей догадки.
— Относительно чего? — спросил Пельдрам.
— Да насчет Киприана, Ведь он оказался заговорщиком. Хотя ранил только служанку, но покушался-то убить нашу всемилостивейшую королеву.
— Черт побери! Так это вам известно?.. Тогда я должен немедленно схватить вас за шиворот.
— Меня?.. Я ровно ничего не знаю, а только предполагаю.
— Так я и думал, дружище Дик. Держите-ка лучше про себя свои предположения; не надо возбуждать напрасное любопытство, иначе вам могут учинить весьма подробный допрос. Если я услышу от вас еще что-нибудь подобное, то буду вынужден распорядиться на этот счет. Впрочем, вы — осел, вот вам и весь сказ!
С этими словами Пельдрам отправился своей дорогой.
Дик Маттерн остался на месте, как пораженный громом. У него хватило рассудка опомниться и внезапно прозреть. Наконец он хлопнул себя по губам и подумал:
«А ведь этот малый прав!… Мне следовало сообразить, что власти хотят на этот раз замять дело, а если понадобится, то станут хватать тех, кто болтает зря. О, как глупо с моей стороны! Что же, я ошибся и насчет старика? Нет, его будет нетрудно запугать. По крайней мере попытаюсь».
И Дик зашагал к дому оружейника. Он прошел прямо в мастерскую, где встретил хозяина и поздоровался с ним. Оллан спокойно ответил на его приветствие.
— Ну, что, — сказал Маттерн, — не прав ли я был относительно тогочужеземца?
— Совершенно прав! — подтвердил мастер.
— Мне пришло в голову, что теперь вы, пожалуй, возьмете меня к себе обратно.
— Отчего же нет? Если вы исполните одно условие.
— Все, какие вам угодно, мастер! — поспешно подхватил Дик. — Но у меня к вам еще одна просьба. Если уж мы с вами разговорились по душам, то я хотел бы попросить у вас руки вашей дочери Вилли!
— Хорошо, мы потолкуем об этом после, я не отказываю вам пока, тем более, что наши намерения отчасти сходятся между собой. Пельдрам только что был здесь. У него точно такие же виды на Вилли, как и у вас…
— У этого?…
Дик запнулся.
— Значит, он — ваш соперник.
— Черт бы его побрал!…
— Но в этом человеке есть то, из-за чего его нельзя спровадить со двора!
— О, я понимаю!
— Тем лучше! Значит, ваше дело избавиться от соперника, и, если это случится, я опять возьму вас к себе мастером и тогда мы поговорим насчет Вилли.
— Прекрасно… но…
— Вы хотите сказать: как вам разделаться с ним?
— Вот именно!
— Это уж ваша забота, Дик. Может статься, меня вынудят заявить, что вы были заодно с Киприаном.
— Что вы? Что вы?..
— Так что, избавляйся от соперника, или попадай ему в когти.
— Я подумаю, — проворчал Дик и ушел.
Самонадеянно заговорил он сегодня с Пельдрамом и победоносно явился к Оллану, но Пельдрам сбил с него спесь, а Оллан повернул все дело в другую сторону.
На обратном пути Маттерн обдумывал случившееся. Вероятно, он не принял еще никакого решения, когда невольно оказался около жилища Пельдрама, но, поколебавшись, собрался с духом и вошел в дом.
На следующий день Пельдрам очутился в лавке мастера Оллана и нашел здесь, по обыкновению, жену и дочь хозяина. Пельдрам был в веселом и шутливом настроении, располагавшем к балагурству. Желая занять своим разговором обеих женщин, он повел речь о том, что ему пора жениться и у него достаточно средств, чтобы содержать семью. Жена оружейника согласилась с ним.
Пельдрам продолжал, что ему надо жениться на своей землячке и с этой целью предстоит ехать в Шотландию. Жена оружейника возразила, что до Шотландии не рукой подать, а шотландские девушки-невесты не так доступны, как зрелые груши.
Пельдрам наконец высказал, что и в Лондоне найдутся шотландские девушки и, пожалуй, более подходящие для него, чем в самой Шотландии. Почтенная хозяйка не могла отрицать это. И гость сказал, что у него даже есть на примете одна вполне подходящая молодая девица, а после этого вступления заявил, что он берет на себя смелость посвататься. Мать поспешила выслать Вилли из лавки.
В доме Оллана уже давно догадывались о намерениях Пельдрама, и потому удаление Вилли могло считаться ответом на его сватовство. Пельдрам засмеялся. Впрочем, его игривое настроение не находило отклика в душе матери и дочери. До них уже дошла весть о злополучном покушении Киприана, и они по своей женской впечатлительности были огорчены и напуганы этим. Сверх того Вилли, по-видимому, была огорчена смертью молодого человека, к которому она была, по меньшей мере, неравнодушна.
Вы могли бы оставить здесь вашу дочь, миссис Оллан! — сказал Пельдрам. — Ведь в моих словах о том, что я хочу остепениться, нет ничего щекотливого. Или, может быть, вы полагаете, что я заглядываюсь на вашу Вилли?
— Мало ли на кого вы заглядываетесь! — уклончиво ответила хозяйка. — Но в вашем обращении с моей дочерью я не заметила ничего особенного.
— В этом вы совершенно правы. Но что сказали бы вы, если бы я в самом деле стал не шутя заглядываться на Вилли?
— Ничего не могу сказать на этот счет. Нельзя же вам запретить смотреть на девушку.
— Вот как?… Вы так полагаете? Ну а если бы за этим последовало предложение?
— Его нужно еще дождаться.
— Но допустим, что оно уже сделано, что сказали бы вы тогда?
— Ступайте к моему мужу и спросите его. Только он может дать вам определенный ответ.
— Я так и думал… Ну а вы-то сами не прочь породниться со мной?
— Я не буду перечить тому, чего захочет муж.
— Так, так… вы — послушная жена. Но, быть может, в глубине сердца вы таите иное желание?
— Вовсе нет. Согласится старик, соглашусь и я. Вот и все!
— А Вилли?
— Не могу знать, что она скажет или чего ей хочется.
— Ну, чтобы не распространяться много, скажу напрямик, что мои намерения серьезны, и потому я переговорю с Олланом, но только наедине. Пошлите его ко мне, всего лучше в гостиную.
Отца позвали. Он, как всегда, поздоровался с Пельдрамом холодно и спокойно, после чего пригласил его в гостиную, где они уселись вдвоем.
Гость улыбался. Может быть, непривычная роль жениха отчасти смущала его.
— Где ваш мастер? — спросил он наконец хозяина.
— Уволен! — отрезал тот.
— Так… А когда последовало его увольнение?
— Третьего дня вечером.
Вы поссорились с ним? Из-за чего вы отказали ему?
— Из-за того, что он увлекался удовольствиями, неподходящими нашему званию и нашему ремеслу.
— Так, так!… А известно ли вам, где он теперь?
— Я за ним не следил.
— Отлично! Вы поступили умно, отказав ему.
— Я и сам так полагаю.
— Значит, мы все были согласны между собой на этот счет. Посмотрим, не упрочится ли наше взаимное согласие. Ведь вы шотландец, как и я! — продолжал гость.
— Шотландец, да, — подтвердил оружейник, — только не чета вам — полицейскому!
— Ну, это — пустяки! Мы — соотечественники, и я, ваш соотечественник, желаю жениться.
— Это — ваше дело.
— Совершенно верно, но я желаю жениться на вашей дочери, а это — уже отчасти и ваше дело.
— Моя дочь вам не пара.
— Однако я иного мнения.
— Ну, значит мы с вами несогласны.
— По-видимому, так… Только мне кажется, что мы все-таки поладим между собой. Я опять возвращаюсь к Киприану. Его уже нет в живых.
— Весьма сожалею.
— И я также. Он был славный малый и сам лишил себя жизни. Собственно говоря, он поступил умно, потому что перед самоубийством совершил деяние, за которое ему предстояло поплатиться жизнью, он напал на одну придворную даму и ранил ее…
— Это нехорошо!
— Да… как относительно того, что подразумеваете вы, так и с моей точки зрения.
— Что подразумеваю я?…
— Мы потолкуем об этом после. Накануне вечером была сделана попытка освободить фосрингайскую пленницу. Однако заговорщики бежали, и двое из них были убиты. Одним из убитых оказался лорд Мак-Лин, которого вы также видели и к которому я сам привел Киприана.
— Странно!
— Да, да!… Что касается Киприана, то я сам нарочно пустил такую молву, будто у него была знакомая дама при дворе, которую он приревновал и хотел убить.
— В сущности, мне это безразлично.
— Не думаю! Лорд Мак-Лин и Киприан, по-моему, были знакомы между собой и раньше.
— Может быть!
До настоящей минуты оружейник отвечал Пельдраму спокойно, холодно и слегка насмешливо. Но теперь он как будто стал обнаруживать больше интереса и внимания к разговору.
— Они состояли в заговоре, — продолжал Пельдрам, — с целью освободить Марию Стюарт и убить нашу королеву.
— Ну, вот еще выдумали! — проворчал Оллан.
— У них были сообщники, которых надо искать среди людей их окружения.
— Киприан был вашим другом!
— Да, я держал его на привязи, как и подобало, а теперь у меня в руках весь заговор, и от меня зависит открыть его и засадить в тюрьму заговорщиков.
— Пожалуй, это — ваша обязанность.
— Как смотреть на вещи!… Вот, например, я могу быть убежден, что некоторые люди невиновны, несмотря на улики против них…
— Такое убеждение было бы приятно!
— Я сам так думаю, и если я прошу руки вашей дочери, то это служит верным доказательством того, что у меня нет никакого предубеждения против вас, и я совсем не считаю вас виновным.
— По-видимому, так!
— Но если вы отвергаете мое искательство, то я, пожалуй, буду думать иначе.
— Нисколько в том не сомневаюсь!
— Дело обстоит приблизительно так: Вилли — о вас я не буду распространяться более, так как вы сами можете оценить свою пользу — Вилли сделается миссис Пельдрам, настоящей леди, заживет в достатке и всяком довольстве. Или же она окажется дочерью государственного преступника, обреченной на нищету, горе, презрение, преследование — одним словом, на всякие бедствия, Ясно ли это?
— Вполне!
— А что вы скажете на мои слова?
— Я скажу: если вы нравитесь Вилли, то я не имею ничего против вашего сватовства.
— Хорошо сказано! Итак, спросите Вилли, нравлюсь ли я ей.
— Сейчас?
— Конечно!
— Хорошо… тогда обождите немножко.
Оллан оставался таким же холодным и спокойным, как и в начале разговора, несмотря на грозную перспективу, развернутую Пельдрамом перед ним. Соучастие оружейника в покушении Киприана было для полицейского вне всякого сомнения, но вместе с тем Пельдрам отлично сознавал, что старик готов на все и не согласился бы отдать ему руку Вилли, если бы угроза Пельдрама не напугала его. Впрочем, оба они были шотландцы и обделывали дело по-шотландски сухо, обдуманно, согласно здравому смыслу.
Итак, результат сватовства зависел теперь от Вилли.
Переговоры отца с дочерью носили тот же характер, как и предшествующая беседа между Олланом и Пельдрамом. Старый оружейник увел дочь из лавки в другую комнату и сказал ей:
— Вилли, пришел Пельдрам и просит твоей руки.
— Я не могу выйти за него, он противен мне! — вспыхнула девушка.
— Знаю и потому не стал бы передавать тебе его предложение, а сам отказал бы ему наотрез, да дело в том, что Киприан умер.
Вилли заплакала.
— Он не мог, — продолжал отец, — выполнить свою задачу. Однако главное — Пельдрам все-таки может покарать или помиловать нас…
— Пусть так! — заявила Вили. — Я не имею никакого отношения к делам, которые дают ему на это право.
— Но я замешан в них… И потом, совершенно безразлично, виновны ли мы, или невиновны, этот человек имеет власть погубить нас, если захочет, Дело идет теперь о том, чтобы из двух зол выбрать меньшее.
Вилли осушила слезы и, посмотрев на отца, решительно сказала:
— Тогда я пожертвую собой ради вас!
— Нет, мне этой жертвы не надо. Я знаю, что мне нужно. А ты должна думать только о своей пользе. Конечно, своим согласием ты сохранишь себе отца… Ну, что же, как ты решишь?
— Я согласна! — твердо сказала Вилли.
— Хорошо, — буркнул старик, — пойдем со мной к матери.
Отец и дочь пошли в лавку.
— Вилли — невеста сэра Пельдрама, — сказал Оллан жене. — Ты ничего не имеешь против этого?
— Нет! — холодно ответила жена.
— Тогда следуйте за мной.
Семейство отправилось в гостиную, где ожидал Пельдрам.
— Вот, сэр, моя дочь, — сказал старик, — она соглашается. Я привел к вам невесту.
Пельдрам поднялся с места, взял руку молодой девушки и сказал ей какую-то любезность. Он был мастер по этой части!… Наконец он поцеловал Вилли, которая не уклонилась от его поцелуя, и обменялся рукопожатием с ее родителями.
— Я не стану торопить со свадьбой, — заметил Пельдрам, — мне нужно только, чтобы она состоялась в нынешнем году!
— Хорошо, — ответил Оллан, — мы еще успеем потолковать обо всем.
Пельдрам простился с женщинами, и Оллан пошел провожать его. Когда они вышли из комнаты, Вилли, рыдая, упала на стул, мать же не проронила ни слова. Остановившись у порога, Оллан следил за своим будущим зятем. В его глазах таилось что-то зловещее. Старик заметил еще, что полицейский заговорил с кем-то в отдалении, после чего оружейник вернулся к себе в дом.
— И этот бредет сюда же!… Только уж опоздал, голубчик! — ворчливо процедил он сквозь зубы.
Человек, заговоривший с Пельдрамом, был Дик Маттерн. Заносчивый, непроходимый болван, воображавший о себе очень много, он считал себя вправе бесцеремонно заговаривать с директором полиции.
— Хорошо, что я встретил вас, — сказал он, поздоровавшись с Пельдрамом. — Вы разрешите мне обратиться к вам с несколькими словами?
Пельдрам, весело настроенный и раньше, окончательно расцвел душой после удачи своего сватовства к прекрасной Вилли. Вероятно, дорогой он соображал про себя, что его должность, принесшая ему и без того много выгод, способствовала теперь устройству его судьбы.
— Разрешаю, — с улыбкой ответил он, — если только вы по своей мудрости не наговорите опять какой-нибудь нелепости.
— Нелепости? — переспросил озадаченный Дик. — Я полагал, что вы признали теперь справедливость моей догадки.
— Относительно чего? — спросил Пельдрам.
— Да насчет Киприана, Ведь он оказался заговорщиком. Хотя ранил только служанку, но покушался-то убить нашу всемилостивейшую королеву.
— Черт побери! Так это вам известно?.. Тогда я должен немедленно схватить вас за шиворот.
— Меня?.. Я ровно ничего не знаю, а только предполагаю.
— Так я и думал, дружище Дик. Держите-ка лучше про себя свои предположения; не надо возбуждать напрасное любопытство, иначе вам могут учинить весьма подробный допрос. Если я услышу от вас еще что-нибудь подобное, то буду вынужден распорядиться на этот счет. Впрочем, вы — осел, вот вам и весь сказ!
С этими словами Пельдрам отправился своей дорогой.
Дик Маттерн остался на месте, как пораженный громом. У него хватило рассудка опомниться и внезапно прозреть. Наконец он хлопнул себя по губам и подумал:
«А ведь этот малый прав!… Мне следовало сообразить, что власти хотят на этот раз замять дело, а если понадобится, то станут хватать тех, кто болтает зря. О, как глупо с моей стороны! Что же, я ошибся и насчет старика? Нет, его будет нетрудно запугать. По крайней мере попытаюсь».
И Дик зашагал к дому оружейника. Он прошел прямо в мастерскую, где встретил хозяина и поздоровался с ним. Оллан спокойно ответил на его приветствие.
— Ну, что, — сказал Маттерн, — не прав ли я был относительно тогочужеземца?
— Совершенно прав! — подтвердил мастер.
— Мне пришло в голову, что теперь вы, пожалуй, возьмете меня к себе обратно.
— Отчего же нет? Если вы исполните одно условие.
— Все, какие вам угодно, мастер! — поспешно подхватил Дик. — Но у меня к вам еще одна просьба. Если уж мы с вами разговорились по душам, то я хотел бы попросить у вас руки вашей дочери Вилли!
— Хорошо, мы потолкуем об этом после, я не отказываю вам пока, тем более, что наши намерения отчасти сходятся между собой. Пельдрам только что был здесь. У него точно такие же виды на Вилли, как и у вас…
— У этого?…
Дик запнулся.
— Значит, он — ваш соперник.
— Черт бы его побрал!…
— Но в этом человеке есть то, из-за чего его нельзя спровадить со двора!
— О, я понимаю!
— Тем лучше! Значит, ваше дело избавиться от соперника, и, если это случится, я опять возьму вас к себе мастером и тогда мы поговорим насчет Вилли.
— Прекрасно… но…
— Вы хотите сказать: как вам разделаться с ним?
— Вот именно!
— Это уж ваша забота, Дик. Может статься, меня вынудят заявить, что вы были заодно с Киприаном.
— Что вы? Что вы?..
— Так что, избавляйся от соперника, или попадай ему в когти.
— Я подумаю, — проворчал Дик и ушел.
Самонадеянно заговорил он сегодня с Пельдрамом и победоносно явился к Оллану, но Пельдрам сбил с него спесь, а Оллан повернул все дело в другую сторону.
На обратном пути Маттерн обдумывал случившееся. Вероятно, он не принял еще никакого решения, когда невольно оказался около жилища Пельдрама, но, поколебавшись, собрался с духом и вошел в дом.


 Валингэм все не хотел понять намерения Елизаветы относительно Марии Стюарт, и она решила обратиться к другим придворным, выбрав для этого секретаря Девисона. Его обязанность состояла преимущественно в том, чтобы излагать королеве содержание бумаг, подаваемых ей на подпись. Поэтому они во время его доклада часто оставались вдвоем, это и послужило Елизавете поводом намекнуть ему о своих желаниях.
Однажды, по окончании занятий с бумагами, Девисон только что собирался удалиться из королевскою кабинета, как государыня сказала ему:
— Погодите немного! Вы не захватили сегодня с собой приказ о казни?
— Не захватил, ваше величество, — ответил Дэвисон. — Прикажете принести?
— Нет, не надо, — приветливо ответила королева, — это не к спеху; кроме того, Валингэм перепугался бы до смерти, если бы вы принесли ему этот документ с моей подписью.
И Елизавета засмеялась своей шутке.
Дэвисон, в высшей степени честный человек, сохранял полнейшую серьезность. Он невольно удивился тому, что Елизавета сама завела сегодня речь о кровавом приказе, о котором уже столько времени ей никто не смел заикнуться.
Не дождавшись ответа, королева вздохнула, признавшись:
— Я достойна сожаления! У меня нет верных слуг.
Дэвисон поклонился, не зная, что сказать, а затем нерешительно произнес:
— Ваше величество, я полагаю…
— О, мой упрек не относится к вам! — поспешно перебила королева. — Я знаю вас. Но Валингэм, рыцарь Полэт и многие другие энергичны только на словах и медлительны в деле.
— Я, право, не понимаю, ваше величество…
— Тем не менее это — истинная правда. Несчастная женщина, доставляющая мне столько хлопот, должна умереть… Между тем никто не хочет снять с меня бремя, почти непосильное для моих плеч. Эти господа присягали мне, но, кажется, у них нет охоты действовать согласно принятой присяге.
Тут Дэвисон понял, куда клонит королева, однако промолчал.
Елизавета пристально всматривалась в него.
— Если бы кто-нибудь, — продолжала она, — сообщил о моих желаниях Амиасу, то, может быть, он согласился бы тогда положить конец всем тревогам.
— Вы приказываете, ваше величество, чтобы я взялся за это? — спросил Дэвисон.
— Разумеется! — с живостью ответила Елизавета. — О, я вижу, вы действуете чистосердечно и сразу угадываете, как нужно поступить! Вы и всякий другой, кто доставил бы мне известие о смерти Марии Стюарт, может вполне рассчитывать на мою благодарность.
Дэвисон поклонился и вышел. Однако он не счел удобным написать Полэту прямо от себя, но отправился к Валингэму, чтобы сообщить ему о своем важном разговоре с королевой.
Валингэм сначала разозлился, но скоро одумался и приказал секретарю сочинить письмо главному тюремщику Марии Стюарт. И Дэвисон написал от себя и от Валингэма следующее:
«Прежде всего, шлем наш задушевный привет. Из некоторых, недавно сказанных ее величеством слов, мы усматриваем, что государыня замечает в Вас недостаток усердия и заботливости, так как Вы сами по себе, без постороннего побуждения не нашли еще средства лишить жизни заключенную королеву, несмотря на страшную опасность, которой ежечасно подвергается ее величество, пока упомянутая королева остается в живых. Помимо недостатка в Вас любви к ней, государыня видит еще, что Вы не только пренебрегаете собственной безопасностью, но не думаете и об охране религии, общественного блага и благосостояния всей страны, как того требуют разум и политика. Перед Богом Ваша совесть была бы спокойна, а перед светом Ваше доброе имя осталось бы незапятнанным, потому что все обвинения против заключенной королевы подтвердились в достаточной степени. Ее величество крайне недовольна тем, что люди, которые поклялись в своей преданности к ней, как сделали и Вы, столь плохо исполняют свои обязанности и стараются взвалить настоящее тягостное дело на ее величество, хотя им хорошо известно, как неохотно государыня проливает кровь, тем более кровь особы женского пола, высокого сана и вдобавок ее близкой родственницы. Мы удостоверились, что эти побуждения причиняют большое беспокойство ее величеству, и она сама — в чем мы ручаемся Вам — не однажды подтверждала, что если Вы будете по-прежнему пренебрегать опасностями, которые угрожают ее верноподданным, как пренебрегать и собственным благополучием, то она никогда не согласится на смерть той королевы. Мы считаем весьма нужным передать Вам эти недавние речи ее величества, советуем продумать их и поручаем Вас охране Всемогущего. Ваши добрые друзья».
Валингэм с Дэвисоном подписали письмо и отправили с нарочным.
Амиас Полэт гордился тем, что содействовал изобличению ненавистной ему женщины. После того как Марии Стюарт был вынесен смертный приговор, он выказывал величайшую жестокость в обращении с ней, может быть, с целью вознаградить себя за труды и заботы, которых требовал последний надзор за царственной узницей, когда находилось еще довольно отчаянных голов, готовых освободить Марию перед самой казнью.
Однако Амиас был чем угодно, только не наемным убийцей, и, пожалуй, обладал достаточным здравым смыслом для того чтобы добровольно стать козлом отпущения в чужих кознях. В его глазах Мария была тяжкой преступницей перед людьми и великой грешницей перед Богом; фанатизм побуждал Полэта передать ее в руки палача, но не более того. И, получив письмо от «друзей», он в бешенстве крикнул своему помощнику;
— Друри, сломай свою шпагу и герб, нас унизили до звания подкупленных убийц! На вот, читай, и скажи свое мнение!
Друри прочел. Хотя он был моложе главного тюремщика Марии, но превосходил своего начальника хладнокровием и рассудительностью.
— Что ж тут дурного? — спокойно заметил он. — Мы просто не сделаем того, что требуется в этом письме, вот и весь сказ!
— Вот именно! — подхватил старый ханжа. — И я тотчас напишу тем господам.
Не давая остыть своему гневу, Амиас действительно тут же настрочил ответ такого содержания:
«Ваше вчерашнее письмо получено мною сегодня в пять часов вечера; я сожгу его, согласно Вашему желанию, выраженному в приписке к нему, а теперь спешу безотлагательно ответить Вам. Моя душа преисполнена горем. Как я несчастлив, что дожил до того дня, когда, по приказанию моей всемилостивейшей королевы, меня побуждают к поступку, запрещенному Богом и законом! Мои поместья, моя должность и моя жизнь находятся в распоряжении ее величества, если они нужны ей, я готов завтра же пожертвовать ими, так как владею всем этим и желаю владеть лишь с милостивого соизволения ее величества. Но сохрани меня Бог дожить до крайне жалкого крушения моей совести или оставить моему потомству память о запятнанной жизни, как это случилось бы непременно, если бы я пролил кровь без полномочия со стороны закона и без всякого публичного одобрения. Надеюсь, что ее величество по своей обычной милости примет мой подобающий ответ».
Это письмо было помечено 2 февраля 1587 года, оно пришло в Лондон ночью и, по приказанию Валингэма, на следующий день было передано королеве Дэвисоном.
Королева прочла и возмутилась.
— Мне противен этот трусливый болтун, — воскликнула она, — противны эти лукавые и чопорные люди, которые обещают все, но не исполняют ничего!… Принесите мне приказ о совершении казни.
Дэвисон удалился, чтобы исполнить волю государыни; вернувшись назад с роковым документом, он нашел Елизавету значительно спокойнее прежнего.
— Положите бумагу туда, — сказала она, указывая на стол, — и пришлите мне человека, занявшего теперь место Кингтона.
Дэвисон ушел и послал за Пельдрамом.
Когда тот явился, то был, введен секретарем к Елизавете, которому она велела явиться через час.
Согласно придворному обычаю, вошедший Пельдрам остановился у дверей кабинета в согбенной позе, у него, должно быть, скребли на сердце кошки. Хотя на его совести не лежало ничего особенного, кроме убийства Кингтона, но кто не привык к близости венценосцев, тому редко бывает по себе в их присутствии.
Пельдрам полагал, что его станут допрашивать о недавних событиях на охоте, и приготовился отвечать так, как считал нужным и как было согласовано с Валингэмом.
Елизавета быстро ходила по комнате, как делал всегда в расстроенных чувствах, и время от времени бросала испытующие взгляды на полицейского.
— Сэр!… — начала она резким тоном, но не прибавила больше ни слова.
— Что прикажете, ваше величество? — отозвался Пельдрам, слегка приподняв голову.
— Сэр, — повторила Елизавета, — вы состоите уже довольно времени на службе, привыкли к ней и доказали свою пригодность. Вы — храбрец, я знаю, и не боитесь даже необычайного. На таких людей, как вы, можно положиться.
Королева замолкла.
Пельдрам поднял голову еще немного повыше, но явно недоумевал, что следует ему ответить на эту похвалу.
— Есть много людей, — продолжала Елизавета, — много слуг короны, которые хвалятся своей преданностью, но когда от них что-нибудь понадобится, то они отступают, прикрывая свою трусость пустыми рассуждениями. Но короне, стране, государству нужен смельчак, и я уверена, что нашла его в вашем лице.
— Распоряжайтесь мною, ваше величество, — сказал Пельдрам, — я готов повиноваться.
— Я не могу приказывать, сэр. Вы должны понять меня без приказания.
— Но… ваше величество… всемилостивейший намек…
— Да, разумеется, без этого нельзя, в этом вы правы. Существует замок Фосрингай, а в нем — женщина, которая приговорена к смерти. Закон осудил ее, приговор ей произнесен и может быть приведен в исполнение, но мне противно назначить его к исполнению.
— Ваше величество, вы вправе еще и теперь всемилостивейше отменить приговор!
— Конечно… Но мне одинаково неприятно и помиловать виновную.
Пельдрам выпучил глаза.
— Я думаю, — продолжила Елизавета, улыбнувшись при виде его изумления, — что вы поняли теперь, в чем дело. Народ хочет смерти Стюарт. Страна нуждается в этой развязке, Заключенная — слабая, больная старуха, изнывающая в долгом заточении. Если бы она умерла естественной смертью, у меня камень скатился бы с души.
— Ах, ваше величество!… — промолвил Пельдрам, тяжело вздыхая.
— Если бы комендант замка в один прекрасный день, в очень скором времени, доложил мне о смерти Стюарт, я была бы весьма признательна ему. Вы еще не получили, собственно, никакой награды за ваши значительные услуги. Что сказали бы вы, если бы я назначила вас комендантом Фосрингая?
— Ваше величество, такая высочайшая милость…
— Так вы признательны за нее? — оживилась Елизавета.
— Превосходно!… Вы понимаете меня? Значит, вы — комендант Фосрингая… Однако держите это пока в тайне.
Пельдрам низко поклонился.
— Я сейчас выдам вам полномочие.
Королева подсела к письменному столу и принялась писать.
Пельдрам сильно волновался. Раз он угадал желание королевы, для него уже было невозможно отклонить оказанную ему честь. Всякое уклонение грозило теперь гибелью. Пельдрам должен был согласиться, охотно ли он это сделал — вопрос другой. Обуревавшие его чувства довольно ясно отражались на его лице. На его лоб набежала туча, глаза потуплены в землю.
Елизавета очень скоро написала полномочие и приложила к нему печать, она приблизилась к Пельдраму и, подав ему это назначение вместе с туго набитым кошельком, сказала:
— Поезжайте сейчас! Доложите мне поскорее, как чувствует себя больная Стюарт; докладывайте мне об этом чаще. Ступайте.
Елизавета гордо отвернулась, сопроводив свои слова легким жестом руки.
Пельдрам на коленях принял от нее бумагу и деньги и поднялся, как в чаду. Не зная, следует ли ему поцеловать руку государыни, он не сделал этого.
Бывший конюх вышел из дворца комендантом Фосрингая.
После его ухода Елизавета села к столу и взяла принесенный ей Дэвисоном приговор. Она пробежала его глазами в опять положила на стол, потом снова взялась за него и перечитала вторично, долго раздумывала и наконец подписала роковой документ.
Дэвисон ожидал уже некоторое время ее приказания и вошел, когда ему подали знак. Он тотчас понял, что королева осталась довольна.
— Сэр, — почти весело начала она, — рыцарь Полэт не только несговорчив, но просто стар. Последний случай доказывает, что он уже не в состоянии как следует исправлять свою должность. Изготовьте приказ об его увольнении и отошлите ему сейчас же с примечанием, что его преемник вскоре прибудет в Фосрингай.
Дэвисон поклонился.
— Вот тут еще другой приказ, — небрежно продолжала Елизавета, — вы должны знать, как с ним поступить. Я не хочу больше ничего слышать об этом деле, запомните хорошенько!
Девисон взял приказ, взглянул на подпись и вздохнул.
С этим королева его и отпустила.
В течение дня Елизавета обнаруживала такую веселость, которой не замечали в ней уже много лет.
Дэвисон поспешно изготовил приказ Полэту и отправился с ним к Валингэму, захватив с собой и утвержденный приговор. Статс-секретарь улыбнулся.
— Следовательно, Полэт попал в немилость! — заметил он. — Хорошо, Дэвисон, но это ничего не значит. Должность все равно будет упразднена, когда все совершится. Поспешите же к моему зятю, я хочу осчастливить сэра Полэта. Старый мальчик еще очень может угодить королеве.
Валингэм, очевидно, не подозревал намерений Елизаветы.
Дэвисон явился к Бэрлею и представил ему утвержденный королевой приговор.
— Наконец-то! — воскликнул государственный казначей. — Это стоило немалого труда. Ну, а теперь мы свалим с плеч долой надоевшее дело!
— Государыня сказала, — заметил Дэвисон, — что я пойму сам, как поступить с этим документом. У меня, право, как-то неспокойно на душе!
— Глупости! Ваша обязанность передать мне документ, чем и кончается вся ваша причастность к делу! — возразил Бэрлей.
Дэвисон сообщил еще лорду об увольнении Полэта от должности и о назначении Пельдрама на его место.
Бэрлей не придал этому особой важности. Он снабдил приговор большой государственной печатью и отправил в Тайный совет.
Тот немедленно приступил к его обсуждению и наложил резолюцию: привести приговор в исполнение без дальнейшего доклада об этом королеве.
Бумага за подписью Бэрлея, Лейстера, Гэнедона, Ноллиса, Валингэма, Дэрби, Говарда, Кобгэма, Гэстона и Дэвисона уполномочивала графов Шрисбери и Кэнта распорядиться об исполнении смертного приговора над Марией Стюарт.
Валингэм все не хотел понять намерения Елизаветы относительно Марии Стюарт, и она решила обратиться к другим придворным, выбрав для этого секретаря Девисона. Его обязанность состояла преимущественно в том, чтобы излагать королеве содержание бумаг, подаваемых ей на подпись. Поэтому они во время его доклада часто оставались вдвоем, это и послужило Елизавете поводом намекнуть ему о своих желаниях.
Однажды, по окончании занятий с бумагами, Девисон только что собирался удалиться из королевскою кабинета, как государыня сказала ему:
— Погодите немного! Вы не захватили сегодня с собой приказ о казни?
— Не захватил, ваше величество, — ответил Дэвисон. — Прикажете принести?
— Нет, не надо, — приветливо ответила королева, — это не к спеху; кроме того, Валингэм перепугался бы до смерти, если бы вы принесли ему этот документ с моей подписью.
И Елизавета засмеялась своей шутке.
Дэвисон, в высшей степени честный человек, сохранял полнейшую серьезность. Он невольно удивился тому, что Елизавета сама завела сегодня речь о кровавом приказе, о котором уже столько времени ей никто не смел заикнуться.
Не дождавшись ответа, королева вздохнула, признавшись:
— Я достойна сожаления! У меня нет верных слуг.
Дэвисон поклонился, не зная, что сказать, а затем нерешительно произнес:
— Ваше величество, я полагаю…
— О, мой упрек не относится к вам! — поспешно перебила королева. — Я знаю вас. Но Валингэм, рыцарь Полэт и многие другие энергичны только на словах и медлительны в деле.
— Я, право, не понимаю, ваше величество…
— Тем не менее это — истинная правда. Несчастная женщина, доставляющая мне столько хлопот, должна умереть… Между тем никто не хочет снять с меня бремя, почти непосильное для моих плеч. Эти господа присягали мне, но, кажется, у них нет охоты действовать согласно принятой присяге.
Тут Дэвисон понял, куда клонит королева, однако промолчал.
Елизавета пристально всматривалась в него.
— Если бы кто-нибудь, — продолжала она, — сообщил о моих желаниях Амиасу, то, может быть, он согласился бы тогда положить конец всем тревогам.
— Вы приказываете, ваше величество, чтобы я взялся за это? — спросил Дэвисон.
— Разумеется! — с живостью ответила Елизавета. — О, я вижу, вы действуете чистосердечно и сразу угадываете, как нужно поступить! Вы и всякий другой, кто доставил бы мне известие о смерти Марии Стюарт, может вполне рассчитывать на мою благодарность.
Дэвисон поклонился и вышел. Однако он не счел удобным написать Полэту прямо от себя, но отправился к Валингэму, чтобы сообщить ему о своем важном разговоре с королевой.
Валингэм сначала разозлился, но скоро одумался и приказал секретарю сочинить письмо главному тюремщику Марии Стюарт. И Дэвисон написал от себя и от Валингэма следующее:
«Прежде всего, шлем наш задушевный привет. Из некоторых, недавно сказанных ее величеством слов, мы усматриваем, что государыня замечает в Вас недостаток усердия и заботливости, так как Вы сами по себе, без постороннего побуждения не нашли еще средства лишить жизни заключенную королеву, несмотря на страшную опасность, которой ежечасно подвергается ее величество, пока упомянутая королева остается в живых. Помимо недостатка в Вас любви к ней, государыня видит еще, что Вы не только пренебрегаете собственной безопасностью, но не думаете и об охране религии, общественного блага и благосостояния всей страны, как того требуют разум и политика. Перед Богом Ваша совесть была бы спокойна, а перед светом Ваше доброе имя осталось бы незапятнанным, потому что все обвинения против заключенной королевы подтвердились в достаточной степени. Ее величество крайне недовольна тем, что люди, которые поклялись в своей преданности к ней, как сделали и Вы, столь плохо исполняют свои обязанности и стараются взвалить настоящее тягостное дело на ее величество, хотя им хорошо известно, как неохотно государыня проливает кровь, тем более кровь особы женского пола, высокого сана и вдобавок ее близкой родственницы. Мы удостоверились, что эти побуждения причиняют большое беспокойство ее величеству, и она сама — в чем мы ручаемся Вам — не однажды подтверждала, что если Вы будете по-прежнему пренебрегать опасностями, которые угрожают ее верноподданным, как пренебрегать и собственным благополучием, то она никогда не согласится на смерть той королевы. Мы считаем весьма нужным передать Вам эти недавние речи ее величества, советуем продумать их и поручаем Вас охране Всемогущего. Ваши добрые друзья».
Валингэм с Дэвисоном подписали письмо и отправили с нарочным.
Амиас Полэт гордился тем, что содействовал изобличению ненавистной ему женщины. После того как Марии Стюарт был вынесен смертный приговор, он выказывал величайшую жестокость в обращении с ней, может быть, с целью вознаградить себя за труды и заботы, которых требовал последний надзор за царственной узницей, когда находилось еще довольно отчаянных голов, готовых освободить Марию перед самой казнью.
Однако Амиас был чем угодно, только не наемным убийцей, и, пожалуй, обладал достаточным здравым смыслом для того чтобы добровольно стать козлом отпущения в чужих кознях. В его глазах Мария была тяжкой преступницей перед людьми и великой грешницей перед Богом; фанатизм побуждал Полэта передать ее в руки палача, но не более того. И, получив письмо от «друзей», он в бешенстве крикнул своему помощнику;
— Друри, сломай свою шпагу и герб, нас унизили до звания подкупленных убийц! На вот, читай, и скажи свое мнение!
Друри прочел. Хотя он был моложе главного тюремщика Марии, но превосходил своего начальника хладнокровием и рассудительностью.
— Что ж тут дурного? — спокойно заметил он. — Мы просто не сделаем того, что требуется в этом письме, вот и весь сказ!
— Вот именно! — подхватил старый ханжа. — И я тотчас напишу тем господам.
Не давая остыть своему гневу, Амиас действительно тут же настрочил ответ такого содержания:
«Ваше вчерашнее письмо получено мною сегодня в пять часов вечера; я сожгу его, согласно Вашему желанию, выраженному в приписке к нему, а теперь спешу безотлагательно ответить Вам. Моя душа преисполнена горем. Как я несчастлив, что дожил до того дня, когда, по приказанию моей всемилостивейшей королевы, меня побуждают к поступку, запрещенному Богом и законом! Мои поместья, моя должность и моя жизнь находятся в распоряжении ее величества, если они нужны ей, я готов завтра же пожертвовать ими, так как владею всем этим и желаю владеть лишь с милостивого соизволения ее величества. Но сохрани меня Бог дожить до крайне жалкого крушения моей совести или оставить моему потомству память о запятнанной жизни, как это случилось бы непременно, если бы я пролил кровь без полномочия со стороны закона и без всякого публичного одобрения. Надеюсь, что ее величество по своей обычной милости примет мой подобающий ответ».
Это письмо было помечено 2 февраля 1587 года, оно пришло в Лондон ночью и, по приказанию Валингэма, на следующий день было передано королеве Дэвисоном.
Королева прочла и возмутилась.
— Мне противен этот трусливый болтун, — воскликнула она, — противны эти лукавые и чопорные люди, которые обещают все, но не исполняют ничего!… Принесите мне приказ о совершении казни.
Дэвисон удалился, чтобы исполнить волю государыни; вернувшись назад с роковым документом, он нашел Елизавету значительно спокойнее прежнего.
— Положите бумагу туда, — сказала она, указывая на стол, — и пришлите мне человека, занявшего теперь место Кингтона.
Дэвисон ушел и послал за Пельдрамом.
Когда тот явился, то был, введен секретарем к Елизавете, которому она велела явиться через час.
Согласно придворному обычаю, вошедший Пельдрам остановился у дверей кабинета в согбенной позе, у него, должно быть, скребли на сердце кошки. Хотя на его совести не лежало ничего особенного, кроме убийства Кингтона, но кто не привык к близости венценосцев, тому редко бывает по себе в их присутствии.
Пельдрам полагал, что его станут допрашивать о недавних событиях на охоте, и приготовился отвечать так, как считал нужным и как было согласовано с Валингэмом.
Елизавета быстро ходила по комнате, как делал всегда в расстроенных чувствах, и время от времени бросала испытующие взгляды на полицейского.
— Сэр!… — начала она резким тоном, но не прибавила больше ни слова.
— Что прикажете, ваше величество? — отозвался Пельдрам, слегка приподняв голову.
— Сэр, — повторила Елизавета, — вы состоите уже довольно времени на службе, привыкли к ней и доказали свою пригодность. Вы — храбрец, я знаю, и не боитесь даже необычайного. На таких людей, как вы, можно положиться.
Королева замолкла.
Пельдрам поднял голову еще немного повыше, но явно недоумевал, что следует ему ответить на эту похвалу.
— Есть много людей, — продолжала Елизавета, — много слуг короны, которые хвалятся своей преданностью, но когда от них что-нибудь понадобится, то они отступают, прикрывая свою трусость пустыми рассуждениями. Но короне, стране, государству нужен смельчак, и я уверена, что нашла его в вашем лице.
— Распоряжайтесь мною, ваше величество, — сказал Пельдрам, — я готов повиноваться.
— Я не могу приказывать, сэр. Вы должны понять меня без приказания.
— Но… ваше величество… всемилостивейший намек…
— Да, разумеется, без этого нельзя, в этом вы правы. Существует замок Фосрингай, а в нем — женщина, которая приговорена к смерти. Закон осудил ее, приговор ей произнесен и может быть приведен в исполнение, но мне противно назначить его к исполнению.
— Ваше величество, вы вправе еще и теперь всемилостивейше отменить приговор!
— Конечно… Но мне одинаково неприятно и помиловать виновную.
Пельдрам выпучил глаза.
— Я думаю, — продолжила Елизавета, улыбнувшись при виде его изумления, — что вы поняли теперь, в чем дело. Народ хочет смерти Стюарт. Страна нуждается в этой развязке, Заключенная — слабая, больная старуха, изнывающая в долгом заточении. Если бы она умерла естественной смертью, у меня камень скатился бы с души.
— Ах, ваше величество!… — промолвил Пельдрам, тяжело вздыхая.
— Если бы комендант замка в один прекрасный день, в очень скором времени, доложил мне о смерти Стюарт, я была бы весьма признательна ему. Вы еще не получили, собственно, никакой награды за ваши значительные услуги. Что сказали бы вы, если бы я назначила вас комендантом Фосрингая?
— Ваше величество, такая высочайшая милость…
— Так вы признательны за нее? — оживилась Елизавета.
— Превосходно!… Вы понимаете меня? Значит, вы — комендант Фосрингая… Однако держите это пока в тайне.
Пельдрам низко поклонился.
— Я сейчас выдам вам полномочие.
Королева подсела к письменному столу и принялась писать.
Пельдрам сильно волновался. Раз он угадал желание королевы, для него уже было невозможно отклонить оказанную ему честь. Всякое уклонение грозило теперь гибелью. Пельдрам должен был согласиться, охотно ли он это сделал — вопрос другой. Обуревавшие его чувства довольно ясно отражались на его лице. На его лоб набежала туча, глаза потуплены в землю.
Елизавета очень скоро написала полномочие и приложила к нему печать, она приблизилась к Пельдраму и, подав ему это назначение вместе с туго набитым кошельком, сказала:
— Поезжайте сейчас! Доложите мне поскорее, как чувствует себя больная Стюарт; докладывайте мне об этом чаще. Ступайте.
Елизавета гордо отвернулась, сопроводив свои слова легким жестом руки.
Пельдрам на коленях принял от нее бумагу и деньги и поднялся, как в чаду. Не зная, следует ли ему поцеловать руку государыни, он не сделал этого.
Бывший конюх вышел из дворца комендантом Фосрингая.
После его ухода Елизавета села к столу и взяла принесенный ей Дэвисоном приговор. Она пробежала его глазами в опять положила на стол, потом снова взялась за него и перечитала вторично, долго раздумывала и наконец подписала роковой документ.
Дэвисон ожидал уже некоторое время ее приказания и вошел, когда ему подали знак. Он тотчас понял, что королева осталась довольна.
— Сэр, — почти весело начала она, — рыцарь Полэт не только несговорчив, но просто стар. Последний случай доказывает, что он уже не в состоянии как следует исправлять свою должность. Изготовьте приказ об его увольнении и отошлите ему сейчас же с примечанием, что его преемник вскоре прибудет в Фосрингай.
Дэвисон поклонился.
— Вот тут еще другой приказ, — небрежно продолжала Елизавета, — вы должны знать, как с ним поступить. Я не хочу больше ничего слышать об этом деле, запомните хорошенько!
Девисон взял приказ, взглянул на подпись и вздохнул.
С этим королева его и отпустила.
В течение дня Елизавета обнаруживала такую веселость, которой не замечали в ней уже много лет.
Дэвисон поспешно изготовил приказ Полэту и отправился с ним к Валингэму, захватив с собой и утвержденный приговор. Статс-секретарь улыбнулся.
— Следовательно, Полэт попал в немилость! — заметил он. — Хорошо, Дэвисон, но это ничего не значит. Должность все равно будет упразднена, когда все совершится. Поспешите же к моему зятю, я хочу осчастливить сэра Полэта. Старый мальчик еще очень может угодить королеве.
Валингэм, очевидно, не подозревал намерений Елизаветы.
Дэвисон явился к Бэрлею и представил ему утвержденный королевой приговор.
— Наконец-то! — воскликнул государственный казначей. — Это стоило немалого труда. Ну, а теперь мы свалим с плеч долой надоевшее дело!
— Государыня сказала, — заметил Дэвисон, — что я пойму сам, как поступить с этим документом. У меня, право, как-то неспокойно на душе!
— Глупости! Ваша обязанность передать мне документ, чем и кончается вся ваша причастность к делу! — возразил Бэрлей.
Дэвисон сообщил еще лорду об увольнении Полэта от должности и о назначении Пельдрама на его место.
Бэрлей не придал этому особой важности. Он снабдил приговор большой государственной печатью и отправил в Тайный совет.
Тот немедленно приступил к его обсуждению и наложил резолюцию: привести приговор в исполнение без дальнейшего доклада об этом королеве.
Бумага за подписью Бэрлея, Лейстера, Гэнедона, Ноллиса, Валингэма, Дэрби, Говарда, Кобгэма, Гэстона и Дэвисона уполномочивала графов Шрисбери и Кэнта распорядиться об исполнении смертного приговора над Марией Стюарт.


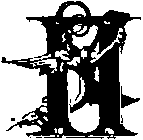 Посетить льва в его логовище было бы менее отчаянным риском для Дика Маттерна. Ему вздумалось собрать сведения о ненавистном сопернике и, основываясь на них, принять свои меры. Дик решил, что грозный полицейский, как и всякий обыкновенный смертный, проживет не два века и может потерять только однажды свою жизнь. Однако Дик для рискованного дела хотел воспользоваться чужими услугами.
Благодаря своему ремеслу оружейника он имел знакомства с людьми, занимающимися темным ремеслом.
Маттерн весьма скоро успел разведать в доме Пельдрама обо всем, что ему хотелось знать. Мало того, он нашел человека, который согласился за плату шпионить за директором полиции, с одним из слуг которого он был знаком.
После этого Дик отправился к людям, которые охотно брались за хорошее вознаграждение исполнить любую рискованную работу, и посвятил их в свой план.
Но у этих молодцов невольно вытянулись лица, когда они услышали, как зовут человека, которого им предлагали убить. Однако если бандиты и считали этого человека опасным, то, с другой стороны, они имели на него давнюю злобу. Поэтому согласились спровадить директора полиции на тот свет за сотню золотых.
Дик Маттерн не был бедняком. Оружейное ремесло приносило в те времена хорошие барыши, а он с самого начала откладывал свои заработки. Сто золотых были для него сущим пустяком и он согласился выплатить их.
Пельдрам, вернувшись домой с новым назначением в кармане, в сердцах разбранил своих слуг и стал собираться в дорогу. Во время переодевания он делал дальнейшие необходимые распоряжения. Только один слуга должен был сопровождать его, и этому человеку Пельдрам сообщил, куда и в какое время предстоит им отправиться. Этот лакей случайно оказался приятелем шпиона, нанятого Диком Маттерном.
Пельдраму было необходимо сделать прощальные визиты перед отъездом, и с этой целью он вышел из дома.
Бэрлей не принял его, узнав, что ему угодно. Лейстер был озадачен неожиданным распоряжением королевы. Впрочем, быстро успокоился, пользуясь случаем, изъявил Пельдраму свою благодарность за его умное поведение на охоте. Если бы он знал, что именно Пельдрам помог приезжему воровским манером облачиться в его ливрею, то, конечно, не подумал бы благодарить его.
Валингэм пожалел об удалении Пельдрама из столицы.
— Впрочем, — прибавил он, — эта история протянется недолго, и вскоре мы будем опять действовать вместе. Желаю вам здравствовать!
В семье Оллана Пельдрама приняли очень холодно, а потому он не засиделся долго.
Непродолжительного отсутствия Пельдрама было достаточно, чтобы его слуга успел уведомить шпиона, и тот поспешил с важной новостью к Дику.
Такой неожиданный поворот дела пришелся как нельзя кстати молодому оружейнику. Он тотчас побежал к своим бандитам, и они, не теряя времени, вскочили в седла и поспешили опередить указанную им жертву.
Когда Пельдрам выезжал из дома, Дик ждал в некотором отдалении, желая убедиться в его отъезде.
— Так тебе и надо! — пробормотал он и пошел прямо к Оллану сообщить ему, что с помощью черта уже на следующий день у Вилли не будет больше жениха, если она согласится отдать свою руку ему, Дику Паттерну.
— Тогда и посмотрим! — кивнул ему Оллан, и Дик ушел обнадеженный этим ответом.
Пельдрам, раздосадованный полученным поручением, тронулся в путь из Лондона на Кингсбери. В связи с поздним временем он не мог совершить целый дневной перегон, но ему все-таки хотелось подвинуться поближе к цели, и он усердно погонял свою лошадь.
В то время по дорогам Англии попадалось очень много одиноких постоялых дворов и гостиниц, некоторые из них служили как бы станциями, и путешественники охотно останавливались в них, чтобы расположиться на ночлег. Пельдрам знал, что только в этих домах можно достать все нужное для удобства и отдыха человека и лошади, начиная с корма и кончая уютным помещением.
Было уже поздно, когда Пельдрам достиг одного из этих постоялых дворов. В тот вечер на этом постоялом дворе не оказалось других приезжих. Только приблизительно за час до прибытия Пельдрама туда завернуло двое всадников на взмыленных конях, которые искали себе ночного приюта.
Усталые лошади были отведены в конюшню, а для путешественников стали готовить ужин. В ожидании его они обшарили весь дом, после чего пригласили хозяина посидеть с ними за столом.
Хозяин согласился исполнить желание приезжих.
— Знаете ли вы нас? — спросил один из них, как только они сели.
— Не имею чести, господа! — возразил хозяин.
— Ну, это легко сделать, — продолжал гость, — раз мы приехали сюда ночью, значит называйте нас людьми ночной поры или ночного тумана… Теперь понятно, кто мы?
— Так точно, почтенные господа, — торопливо ответил испугавшийся хозяин гостиницы.
— Тем лучше, — сказал гость. — Не будете ли вы однако любезны сделать нам некоторое одолжение?
— Распоряжайтесь мною, господа. Я весь к вашим услугам.
— Скоро сюда пожалует новый гость или — точнее — двое: господин и слуга!
— Ваши знакомые, наверно!
— И да, и нет… Впрочем, это — не ваше дело… Всыпьте вот этот порошок им в вино или в кушанье, поняли? Он дает только крепкий сон.
— Будет исполнено, сэр!
— Затем вы сами крепко заснете в эту ночь и не услышите ничего до тех пор, пока вас не позовут.
— За этим дело не станет, — с готовностью согласился хозяин, — я всегда сплю как убитый, наработавшись за день.
— Об остальном мы потолкуем завтра, — заключил приезжий, — теперь ступайте; так как вы нас узнали, то угрозы, думаю, уже излишни. Мы с товарищем ляжем спать.
Содержатель гостиницы поклонился и молча вышел из комнаты. Его бледное лицо, стеклянные глаза и дрожащие руки красноречиво объясняли его состояние после такого разговора.
Приезжие довольно быстро отужинали и удалились к себе в комнату.
Вскоре явился Пельдрам в сопровождении своего слуги и был принят хозяином. На нем была форма, тотчас узнанная содержателем гостиницы. Может быть, совесть хозяина успокоилась, когда он понял, что замыслы его первых гостей направлены против полицейского агента. Впрочем, он уже внушил своим домашним, как они должны держать себя ночью.
Лошади Пельдрама и его слуги были отведены в конюшню, после чего приезжим подали ужин. Только Пельдрам не приглашал хозяина разделить компанию.
После ужина он опять вынул из кармана полученную от королевы бумагу, чтобы прочесть ее чуть ли не в двадцатый раз. Его слугою овладела чудовищная зевота, которая передалась и Пельдраму; оба почувствовали непреодолимую усталость.
— Черт возьми, — пробормотал Пельдрам, — никак старость одолевает!… Или это от весеннего воздуха меня так клонит ко сну? — Он еще раз наполнил до краев стакан и осушил его залпом, оставшееся же в бутылке вино отдал своему слуге, после чего сказал: — Ну, теперь спать! Завтра мы должны ранехонько тронуться в путь. Проведай-ка еще напоследок наших лошадей!
Слуга, пошатываясь, вышел во двор. Пельдрам позвал хозяина и, спросив, где спальня, велел разбудить себя пораньше. У себя в комнате он проворно разделся и бросился в постель, и через минуту им уже овладел глубокий сон.
Слуга расположился в конюшне на соломе и заснул, вероятно, еще раньше своего господина. Обитатели дома также улеглись спать, и глубокая тишина водворилась как в доме, так и за его стенами. Стояла тихая ночь.
Между тем двое незнакомцев, прибывших ранее, не спали, хотя и потушили у себя огонь. Спокойно и почти неподвижно сидели они на стульях в ожидании. Когда все стихло, они зажгли свечу, осмотрели свое оружие и потихоньку отправились в комнату, занятую Пельдрамом.
Тот лежал, не шевелясь, погруженный в крепкий сон; его шпага и пистолеты были рядом.
Вошедшие злодеи осмотрели мельком комнату, поставили свечу на стол, приблизились к постели спящего и наклонились над ним. Их руки потянулись к его шее и сдавили ее. Пельдрам застонал и стал сопротивляться во сне, однако его сопротивление скоро ослабело, наконец он судорожно вытянулся и перестал хрипеть. Когда бандиты отпустили руки, задушенный лежал неподвижно с остановившимися выпученными глазами. Ужасное дело совершилось почти без всякого шума.
Убийцы положили платье и оружие Пельдрама возле него, взяли себе его кошелек и драгоценности, бывшие при нем, остальное же вместе с трупом своей жертвы завернули в простыню. С помощью веревок они упаковали все в плотный тюк, после чего налегке спустились на нижний этаж дома и осторожно постучались в дверь хозяйской спальни.
— Вы можете проснуться — прошептал один из бандитов. — Выйдите к нам, любезный, мы должны потолковать с вами.
— Сию минуту! — засуетился хозяин и вышел, закутанный в теплую шубу, к своим гостям.
— Фонарь! — было первое слово, с которым обратились к нему в сенях.
Хозяин отыскал фонарь, и один из убийц, взяв его, отправился во двор, а другой тем временем стал расплачиваться с содержателем гостиницы за угощенье, поданное накануне ему с товарищем и Пельдраму с его слугой. Разумеется, расплата производилась деньгами убитого. Кроме того, постоялец заплатил и за простыню, понадобившуюся им. Хозяин взял деньги с почтением, скрывая им свой страх.
— Теперь слушайте! — сказал бандит. — Ложитесь сейчас в постель, не подсматривая за нами!… Завтра, когда проснется слуга, вы сообщите этому болвану, что его господин уехал один, а ему приказал возвратиться в Лондон.
— Будет исполнено, сэр!
— Больше ничего не нужно…
Хозяин беспрекословно убрался к себе в спальню, оттуда было слышно, как лошадей выводили со двора и подали к крыльцу. Заслышав стук их копыт, один из бандитов, оставшийся в доме, поднялся в верхний этаж и, вскоре вернувшись назад с упакованным трупом, вынес его на крыльцо. Тут стоял другой со своими лошадьми и с лошадью Пельдрама. На нее навьючили труп, после чего, предусмотрительно погасив фонарь, убийцы прыгнули в седла и поскакали во всю прыть.
На другой день слуга Пельдрама проснулся довольно поздно, и хотя приказ и решение его господина показались ему странными он не мог усомниться в их подлинности, тем более, что хозяину было уплачено сполна за постой и угощение. Он снарядился в дорогу и поехал обратно в Лондон.
Так исчез Пельдрам, грозный директор полиции, исчез почти бесследно. Когда стали производить розыск, многие решили, что он скрылся добровольно.
Что касается Дика Маттерна, то он снова поступил мастером к Оллану, стал женихом прекрасной Вилли и готовился стать ее мужем, но как раз накануне свадьбы имел несчастье утонуть в волнах Темзы. Был ли причастен к этому делу Оллан, как будущий тесть, — трудно сказать. Вилли впоследствии вышла замуж также за оружейника, который сделался компаньоном ее отца и продолжал добросовестно вести его дело. Но все эти события произошли намного позже.
Елизавета долго была уверена, что ее уполномоченный Пельдрам находится в Фосрингае. Так как она не хотела ничего больше слышать о деле Марии Стюарт, то, естественно, не слышала также и о тюремщике шотландской королевы.
Чтобы предупредить возможную перемену в намерениях королевы, члены Тайного совета спешили выполнить приказ королевы.
Посетить льва в его логовище было бы менее отчаянным риском для Дика Маттерна. Ему вздумалось собрать сведения о ненавистном сопернике и, основываясь на них, принять свои меры. Дик решил, что грозный полицейский, как и всякий обыкновенный смертный, проживет не два века и может потерять только однажды свою жизнь. Однако Дик для рискованного дела хотел воспользоваться чужими услугами.
Благодаря своему ремеслу оружейника он имел знакомства с людьми, занимающимися темным ремеслом.
Маттерн весьма скоро успел разведать в доме Пельдрама обо всем, что ему хотелось знать. Мало того, он нашел человека, который согласился за плату шпионить за директором полиции, с одним из слуг которого он был знаком.
После этого Дик отправился к людям, которые охотно брались за хорошее вознаграждение исполнить любую рискованную работу, и посвятил их в свой план.
Но у этих молодцов невольно вытянулись лица, когда они услышали, как зовут человека, которого им предлагали убить. Однако если бандиты и считали этого человека опасным, то, с другой стороны, они имели на него давнюю злобу. Поэтому согласились спровадить директора полиции на тот свет за сотню золотых.
Дик Маттерн не был бедняком. Оружейное ремесло приносило в те времена хорошие барыши, а он с самого начала откладывал свои заработки. Сто золотых были для него сущим пустяком и он согласился выплатить их.
Пельдрам, вернувшись домой с новым назначением в кармане, в сердцах разбранил своих слуг и стал собираться в дорогу. Во время переодевания он делал дальнейшие необходимые распоряжения. Только один слуга должен был сопровождать его, и этому человеку Пельдрам сообщил, куда и в какое время предстоит им отправиться. Этот лакей случайно оказался приятелем шпиона, нанятого Диком Маттерном.
Пельдраму было необходимо сделать прощальные визиты перед отъездом, и с этой целью он вышел из дома.
Бэрлей не принял его, узнав, что ему угодно. Лейстер был озадачен неожиданным распоряжением королевы. Впрочем, быстро успокоился, пользуясь случаем, изъявил Пельдраму свою благодарность за его умное поведение на охоте. Если бы он знал, что именно Пельдрам помог приезжему воровским манером облачиться в его ливрею, то, конечно, не подумал бы благодарить его.
Валингэм пожалел об удалении Пельдрама из столицы.
— Впрочем, — прибавил он, — эта история протянется недолго, и вскоре мы будем опять действовать вместе. Желаю вам здравствовать!
В семье Оллана Пельдрама приняли очень холодно, а потому он не засиделся долго.
Непродолжительного отсутствия Пельдрама было достаточно, чтобы его слуга успел уведомить шпиона, и тот поспешил с важной новостью к Дику.
Такой неожиданный поворот дела пришелся как нельзя кстати молодому оружейнику. Он тотчас побежал к своим бандитам, и они, не теряя времени, вскочили в седла и поспешили опередить указанную им жертву.
Когда Пельдрам выезжал из дома, Дик ждал в некотором отдалении, желая убедиться в его отъезде.
— Так тебе и надо! — пробормотал он и пошел прямо к Оллану сообщить ему, что с помощью черта уже на следующий день у Вилли не будет больше жениха, если она согласится отдать свою руку ему, Дику Паттерну.
— Тогда и посмотрим! — кивнул ему Оллан, и Дик ушел обнадеженный этим ответом.
Пельдрам, раздосадованный полученным поручением, тронулся в путь из Лондона на Кингсбери. В связи с поздним временем он не мог совершить целый дневной перегон, но ему все-таки хотелось подвинуться поближе к цели, и он усердно погонял свою лошадь.
В то время по дорогам Англии попадалось очень много одиноких постоялых дворов и гостиниц, некоторые из них служили как бы станциями, и путешественники охотно останавливались в них, чтобы расположиться на ночлег. Пельдрам знал, что только в этих домах можно достать все нужное для удобства и отдыха человека и лошади, начиная с корма и кончая уютным помещением.
Было уже поздно, когда Пельдрам достиг одного из этих постоялых дворов. В тот вечер на этом постоялом дворе не оказалось других приезжих. Только приблизительно за час до прибытия Пельдрама туда завернуло двое всадников на взмыленных конях, которые искали себе ночного приюта.
Усталые лошади были отведены в конюшню, а для путешественников стали готовить ужин. В ожидании его они обшарили весь дом, после чего пригласили хозяина посидеть с ними за столом.
Хозяин согласился исполнить желание приезжих.
— Знаете ли вы нас? — спросил один из них, как только они сели.
— Не имею чести, господа! — возразил хозяин.
— Ну, это легко сделать, — продолжал гость, — раз мы приехали сюда ночью, значит называйте нас людьми ночной поры или ночного тумана… Теперь понятно, кто мы?
— Так точно, почтенные господа, — торопливо ответил испугавшийся хозяин гостиницы.
— Тем лучше, — сказал гость. — Не будете ли вы однако любезны сделать нам некоторое одолжение?
— Распоряжайтесь мною, господа. Я весь к вашим услугам.
— Скоро сюда пожалует новый гость или — точнее — двое: господин и слуга!
— Ваши знакомые, наверно!
— И да, и нет… Впрочем, это — не ваше дело… Всыпьте вот этот порошок им в вино или в кушанье, поняли? Он дает только крепкий сон.
— Будет исполнено, сэр!
— Затем вы сами крепко заснете в эту ночь и не услышите ничего до тех пор, пока вас не позовут.
— За этим дело не станет, — с готовностью согласился хозяин, — я всегда сплю как убитый, наработавшись за день.
— Об остальном мы потолкуем завтра, — заключил приезжий, — теперь ступайте; так как вы нас узнали, то угрозы, думаю, уже излишни. Мы с товарищем ляжем спать.
Содержатель гостиницы поклонился и молча вышел из комнаты. Его бледное лицо, стеклянные глаза и дрожащие руки красноречиво объясняли его состояние после такого разговора.
Приезжие довольно быстро отужинали и удалились к себе в комнату.
Вскоре явился Пельдрам в сопровождении своего слуги и был принят хозяином. На нем была форма, тотчас узнанная содержателем гостиницы. Может быть, совесть хозяина успокоилась, когда он понял, что замыслы его первых гостей направлены против полицейского агента. Впрочем, он уже внушил своим домашним, как они должны держать себя ночью.
Лошади Пельдрама и его слуги были отведены в конюшню, после чего приезжим подали ужин. Только Пельдрам не приглашал хозяина разделить компанию.
После ужина он опять вынул из кармана полученную от королевы бумагу, чтобы прочесть ее чуть ли не в двадцатый раз. Его слугою овладела чудовищная зевота, которая передалась и Пельдраму; оба почувствовали непреодолимую усталость.
— Черт возьми, — пробормотал Пельдрам, — никак старость одолевает!… Или это от весеннего воздуха меня так клонит ко сну? — Он еще раз наполнил до краев стакан и осушил его залпом, оставшееся же в бутылке вино отдал своему слуге, после чего сказал: — Ну, теперь спать! Завтра мы должны ранехонько тронуться в путь. Проведай-ка еще напоследок наших лошадей!
Слуга, пошатываясь, вышел во двор. Пельдрам позвал хозяина и, спросив, где спальня, велел разбудить себя пораньше. У себя в комнате он проворно разделся и бросился в постель, и через минуту им уже овладел глубокий сон.
Слуга расположился в конюшне на соломе и заснул, вероятно, еще раньше своего господина. Обитатели дома также улеглись спать, и глубокая тишина водворилась как в доме, так и за его стенами. Стояла тихая ночь.
Между тем двое незнакомцев, прибывших ранее, не спали, хотя и потушили у себя огонь. Спокойно и почти неподвижно сидели они на стульях в ожидании. Когда все стихло, они зажгли свечу, осмотрели свое оружие и потихоньку отправились в комнату, занятую Пельдрамом.
Тот лежал, не шевелясь, погруженный в крепкий сон; его шпага и пистолеты были рядом.
Вошедшие злодеи осмотрели мельком комнату, поставили свечу на стол, приблизились к постели спящего и наклонились над ним. Их руки потянулись к его шее и сдавили ее. Пельдрам застонал и стал сопротивляться во сне, однако его сопротивление скоро ослабело, наконец он судорожно вытянулся и перестал хрипеть. Когда бандиты отпустили руки, задушенный лежал неподвижно с остановившимися выпученными глазами. Ужасное дело совершилось почти без всякого шума.
Убийцы положили платье и оружие Пельдрама возле него, взяли себе его кошелек и драгоценности, бывшие при нем, остальное же вместе с трупом своей жертвы завернули в простыню. С помощью веревок они упаковали все в плотный тюк, после чего налегке спустились на нижний этаж дома и осторожно постучались в дверь хозяйской спальни.
— Вы можете проснуться — прошептал один из бандитов. — Выйдите к нам, любезный, мы должны потолковать с вами.
— Сию минуту! — засуетился хозяин и вышел, закутанный в теплую шубу, к своим гостям.
— Фонарь! — было первое слово, с которым обратились к нему в сенях.
Хозяин отыскал фонарь, и один из убийц, взяв его, отправился во двор, а другой тем временем стал расплачиваться с содержателем гостиницы за угощенье, поданное накануне ему с товарищем и Пельдраму с его слугой. Разумеется, расплата производилась деньгами убитого. Кроме того, постоялец заплатил и за простыню, понадобившуюся им. Хозяин взял деньги с почтением, скрывая им свой страх.
— Теперь слушайте! — сказал бандит. — Ложитесь сейчас в постель, не подсматривая за нами!… Завтра, когда проснется слуга, вы сообщите этому болвану, что его господин уехал один, а ему приказал возвратиться в Лондон.
— Будет исполнено, сэр!
— Больше ничего не нужно…
Хозяин беспрекословно убрался к себе в спальню, оттуда было слышно, как лошадей выводили со двора и подали к крыльцу. Заслышав стук их копыт, один из бандитов, оставшийся в доме, поднялся в верхний этаж и, вскоре вернувшись назад с упакованным трупом, вынес его на крыльцо. Тут стоял другой со своими лошадьми и с лошадью Пельдрама. На нее навьючили труп, после чего, предусмотрительно погасив фонарь, убийцы прыгнули в седла и поскакали во всю прыть.
На другой день слуга Пельдрама проснулся довольно поздно, и хотя приказ и решение его господина показались ему странными он не мог усомниться в их подлинности, тем более, что хозяину было уплачено сполна за постой и угощение. Он снарядился в дорогу и поехал обратно в Лондон.
Так исчез Пельдрам, грозный директор полиции, исчез почти бесследно. Когда стали производить розыск, многие решили, что он скрылся добровольно.
Что касается Дика Маттерна, то он снова поступил мастером к Оллану, стал женихом прекрасной Вилли и готовился стать ее мужем, но как раз накануне свадьбы имел несчастье утонуть в волнах Темзы. Был ли причастен к этому делу Оллан, как будущий тесть, — трудно сказать. Вилли впоследствии вышла замуж также за оружейника, который сделался компаньоном ее отца и продолжал добросовестно вести его дело. Но все эти события произошли намного позже.
Елизавета долго была уверена, что ее уполномоченный Пельдрам находится в Фосрингае. Так как она не хотела ничего больше слышать о деле Марии Стюарт, то, естественно, не слышала также и о тюремщике шотландской королевы.
Чтобы предупредить возможную перемену в намерениях королевы, члены Тайного совета спешили выполнить приказ королевы.


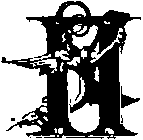 Поздно вечером 7 февраля 1587 года оба графа, на которых было возложено исполнение смертного приговора, двое лиц судебного ведомства и слуги при замке вышли от Марии Стюарт, объявив ей:
— Завтра, около восьми часов утра!
А в это время уже гулко гремели топоры плотников, которые сколачивали эшафот в парадном зале замка.
Слуги Марии бросились к ней с громким плачем, хотя они не могли слышать все, что происходило между королевой и уполномоченными правительства, однако поняли, что произошло.
— Не плачьте, друзья мои, — сказала Мария, — не отравляйте мне последние часы жизни. Ступайте, позаботьтесь лучше о моем ужине.
Вскоре скудный ужин королевы был готов. Сели за стол.
— Бургоэн, — сказала Мария своему врачу, — вы можете прислуживать мне, остальные пусть остаются здесь.
Королева поела очень немного.
— Слышали ли вы, — спросила она Бургоэна, — что граф Кент вздумал поучать меня, чтобы обратить в свою веру?
— К сожалению, мне пришлось слышать это, ваше величество!
— Успокойтесь, мой друг, для моего обращения нужен человек науки, а не этот неуч.
— Однако с вами обошлись возмутительно грубо, ваше величество!
Мария улыбнулась.
— Неужели это удивило вас? — спокойно возразила она.
— Эти прихвостни сделали бы то же самое с моей неприятельницей, если бы наши роли поменялись. Налейте мне немного вина в бокал!
Бургоэн исполнил это приказание.
— Подойдите ближе! — обратилась Мария к своим слугам. — Я пью за ваше благополучие. Может быть, этот тост умирающей будет услышан небом.
Люди бросились на колени, многие плакали навзрыд.
— Пожалуй, иногда я была к вам несправедлива, — продолжала королева, — тогда простите меня. Я же довольна всеми вами. Не отступайте и после моей смерти от католической религии, как единственно истинной, а теперь дайте мне немного отдохнуть, чтобы я могла сделать свои последние распоряжения.
Слуги неслышно удалились, Мария осталась одна.
Несколько лет назад она уже составила обширное завещание, теперь же написала краткое добавление к нему. В этом предсмертном завещании заключались только распоряжения, касавшиеся ее личного имущества, и были назначены суммы для выдачи ее слугам. После этого королева написала письмо королю Франции Генриху, поручая ему уплату денежных сумм, бывших в ее распоряжении. Кроме того, ею было написано еще несколько писем. За этой работой Мария Стюарт просидела до двух часов ночи.
Позвав опять слуг, она объявила им, что не хочет больше заниматься земными делами и хочет устремить все свои помыслы к Богу. Она послала записку своему духовнику, находившемуся также в замке, но разлученному с ней, прося его молиться за нее. Затем она убрала в шкатулку свое завещание и письма к королю Генриху и другим лицам, разделила между прислугой принадлежавшие ей драгоценности и деньги и попросила почитать ей вслух из «Жития святых».
Старая нянька Марии выбрала историю несчастного разбойника.
— Постой, добрая Кеннэди! — воскликнула Мария Стюарт на одном месте, где описывались страдания разбойника.
— Он был великий грешник, но все-таки меньше моего, и я молю Господа, в память Его страданий, помиловать меня, как Он помиловал разбойника в последний час его жизни.
Чувствуя себя утомленной и боясь совершенно обессилеть веред своим последним тяжким путем, королева легла наконец в постель. Однако ей не спалось, служанки видели, что несчастная королева шевелила губами, молясь про себя. При наступлении утра она поспешила встать.
— Еще два недолгих часа, — с улыбкой сказала обреченная, — и земная плачевная юдоль останется позади меня. Помогите мне, мои верные слуги, нарядиться для моего последнего пути.
Она велела подать ей драгоценное платье и все принадлежности дамского туалета, служившие для большого парада, а для повязки на глаза выбрала носовой платок с золотой бахромой.
Когда ее одели, Мария опять оделила свою прислугу мелкими подарками, ничто в ее внешности не указывало в ту минуту на близость рокового удара, от которого ей предстояло погибнуть. После этого она прошла в свою молельню, опустилась на колени перед поставленным здесь маленьким алтарем и стала читать себе отходные молитвы.
Не успела она еще окончить их, как в дверь комнаты постучали, давая ей знать, что последний час настал.
— Скажите этим господам, — ответила Мария, — что я сейчас выйду.
Ответ был передан стучавшимся, но через несколько минут повторился, и дверь наконец была отперта.
В нее вошел местный шериф с маленьким белым жезлом в руке, он приблизился вплотную к Марии, которая, впрочем, как будто не замечала его, и сказал ей:
— Миледи, лорды ожидают вас, они послали меня за вами.
— Хорошо, — ответила королева, поднимаясь с колен, — пойдемте!
Когда она собиралась выйти из комнаты, к ней подошел Бургоэн с маленьким Распятием из слоновой кости. Осужденная благоговейно приложилась к нему и велела нести его перед собой.
Мария могла сделать лишь несколько шагов без посторонней помощи из-за болезни ног, поэтому двое слуг поддерживали ее с обеих сторон.
Они довели королеву до последней комнаты, примыкавшей к залу, и стали просить, чтобы их отпустили, так как они не хотели вести свою государыню на смерть. Мария улыбнулась с довольным видом и промолвила:
— Благодарю вас, друзья мои! Будьте уверены, что на это найдутся другие желающие.
Двое слуг Полэта подошли им на смену, и печальное шествие направилось в зал.
У лестницы, которая вела к нему, осужденная столкнулась с Шрисбери и Кентом.
— Эй, вы, назад! — грубо крикнул граф Шрисбери слугам королевы. — Не смейте ходить дальше!
Люди подняли крик и плач. Но так как это не помогало и граф настаивал на том, что никто не смеет входить в зал, кроме заранее назначенных лиц, то несчастные слуги Марии Стюарт бросились на колени и стали целовать руки и платье Марии.
После этой тяжелой сцены она вступила в зал казни, взяв в одну руку Распятие, а в другую молитвенник.
В зале перед ней предстал Мелвил, которому позволили проститься с ней здесь. Он опустился на колени и дал полную волю своей сердечной скорби.
Мария, обняв его, сказала:
— Ты всегда оставался верен мне, и я благодарю тебя за это! Вот тебе мое последнее поручение: сообщи подробно моему сыну о моей смерти; я знаю, ты сделаешь это!
— Какая печальная обязанность для меня! — промолвил Мелвил. — Бог знает, хватит ли у меня сил исполнить ее!
Мария ответила ему довольно длинной речью, которая не прерывалась шерифом. Потом она, обратившись к Кенту, сказала:
— Милорд, я желаю, чтобы мой секретарь Кэрлей был помилован. Его смерть не может принести пользу никому. Далее я прошу, чтобы служившие при мне женщины были допущены сюда и могли присутствовать при моей смерти.
— Это противно обычаю, — возразил граф Кент. — Женщины легко могут поднять крик при столь важном деле.
— Не думаю, — ответила Мария, — бедные создания будут рады, если им позволят видеть меня в последнюю минуту.
Она говорила еще долго, желая достичь своей цели, и графы посовещавшись, разрешили четверым слугам и двум служанкам Марии войти в зал.
Тогда королева выбрала из своего штата ее врача Бургоэна, аптекаря Горвина, хирурга Жервэ и еще одного человека по имени Дидье, а из женщин — Кеннэди, а также секретарь Кэрлей. Их впустили в зал, и осужденная попросила их смотреть молча на то, что будет здесь происходить.
Затем Мария поднялась на эшафот. Мелвил нес шлейф ее платья. Оно было из алого бархата с черным атласным корсажем. Плечи покрывала атласная накидка, опушенная соболем. На шее был высокий воротник, к волосам приколота вуаль.
Воздвигнутый в зале эшафот был в два с половиной фута высоты и представлял собой квадрат, стороны которого имели двенадцать футов длины. Он был обтянут черным фризом, как и сиденье на нем, плаха и подушка перед ней.
Мария, нимало не изменившись в лице, вступила на роковой помост и заняла место на приготовленном для нее сиденье. Справа от него помещались графы Шрисбери и Кент, слева — шериф, напротив — два палача в черной бархатной одежде. Поодаль от эшафота, у стены, было указано место служителям Марии; перила отделяли эшафот от остального пространства зала, которое занимали двести дворян и местных жителей. Кроме них тут же выстроилась военная команда Полэта.
Когда все было готово, Биэль стал читать вслух приговор. Мария слушала молча, не обнаруживая волнения и не шевелясь. Лишь когда Биэль умолк, она перекрестилась.
— Милорд, — начала тогда осужденная, — я — королева по праву рождения, владетельная особа, неподвластная законам; я прихожусь близкой родственницей английской королеве и состою ее законной наследницей. Долгое время, наперекор всякой справедливости, держали меня в этой стране в заточении, где я подвергалась всевозможным бедствиям и страданиям, хотя никто не имел права лишать меня свободы. Теперь, когда человеческой властью и произволом приближается конец моей жизни, я благодарю Бога за то, что Он сподобил меня умереть за мою веру. Я умру перед собранием, которое будет свидетелем того, как я, даже перед лицом смерти, защищала себя — что делала постоянно, частным образом и публично — от несправедливого нарекания в том, будто я придумывала способы погубить королеву Елизавету или одобряла покушение на ее особу. Ненависть к ней никогда не руководила моими поступками, и, домогаясь своей свободы, я всегда предлагала самые действенные средства для умиротворения Англии и защиты ее от политических бурь.
Чиновники оставили речь Марии без ответа, и она начала молиться. При этом зрелище приведенный обоими графами протестантский пастор, декан Питерборо, доктор богословия Флетчер подошел к Марии.
— Миледи, — сказал он, — королева, моя высокая повелительница, прислала меня к вам.
— Я не колеблюсь в католической вере, — ответила Мария, — и приготовилась пролить за нее кровь.
Однако фанатик-пастор пытался обратить осужденную на путь своей истины, склонить ее к чистосердечному раскаянию и сокрушению о грехах. Мария была наконец вынуждена заставить его замолчать.
Между тем в их пререкания вступили оба графа, что едва не повело к ожесточенному богословскому спору. Но он был прекращен самим деканом, который принялся громко читать отходную. Мария читала вслух латинские покаянные псалмы.
Шрисбери сделал презрительное замечание, на что королева ответила коротко, но решительно и продолжала молиться, чтобы в заключение передать свою душу Христу. Наконец она поднялась с колен, и палачи приблизились к ней.
Однако Мария велела им отступить и подозвала своих служанок, чтобы с их помощью раздеться. Когда ее голова, шея и плечи были обнажены, она еще нашла в себе силы утешить плачущих женщин и, отпустив их села на табурет. Палач на коленях просил у нее прощения за то, что должен совершить, и Мария простила ему, как и всем, наносившим ей обиды. Затем она опустилась на колени перед сиденьем. Палачи придали правильное положение ее голове, склоненной на плаху, и, пока Мария молилась, последовал первый удар топора, пришедшийся вместо шеи по затылку. Лишь при втором ударе голова Марии Стюарт скатилась с ее царственных плеч.
Шериф поднял ее кверху и торжественно возгласил, озираясь кругом:
— Боже, храни королеву Елизавету!
— Пусть все ее враги погибнут таким же образом! — подхватил пастор Флетчер.
— Аминь! — прибавил Кент.
Итак, Мария Стюарт, королева Шотландии, злая тень Елизаветы, пятно на ее величии, перестала существовать.
Обезглавленный труп казненной был завернут в черное сукно. Ее драгоценности и платья сожгли, а следы ее пролитой крови уничтожили.
Любимую собачку Марии, незаметно проскользнувшую на место казни, никак не могли отогнать от ее бренных останков.
Замок Фосрингай оставался запертым, пока не было написано сообщение о совершении казни. Отправленный с ним гонец прибыл 8 февраля 1587 года в Гринвич. После полудня того же числа слух о казни шотландской королевы распространился в Лондоне, где снова ударили во все колокола, зажгли иллюминацию и стали пускать фейерверки.
Так кончилась жизнь многострадальной некогда дивно прекрасной королевы Шотландии. Судьба жестоко насмеялась над этим дивным цветком красоты, который, казалось, создан был лишь для наслаждения, но память о нем останется вечной в мире.
Поздно вечером 7 февраля 1587 года оба графа, на которых было возложено исполнение смертного приговора, двое лиц судебного ведомства и слуги при замке вышли от Марии Стюарт, объявив ей:
— Завтра, около восьми часов утра!
А в это время уже гулко гремели топоры плотников, которые сколачивали эшафот в парадном зале замка.
Слуги Марии бросились к ней с громким плачем, хотя они не могли слышать все, что происходило между королевой и уполномоченными правительства, однако поняли, что произошло.
— Не плачьте, друзья мои, — сказала Мария, — не отравляйте мне последние часы жизни. Ступайте, позаботьтесь лучше о моем ужине.
Вскоре скудный ужин королевы был готов. Сели за стол.
— Бургоэн, — сказала Мария своему врачу, — вы можете прислуживать мне, остальные пусть остаются здесь.
Королева поела очень немного.
— Слышали ли вы, — спросила она Бургоэна, — что граф Кент вздумал поучать меня, чтобы обратить в свою веру?
— К сожалению, мне пришлось слышать это, ваше величество!
— Успокойтесь, мой друг, для моего обращения нужен человек науки, а не этот неуч.
— Однако с вами обошлись возмутительно грубо, ваше величество!
Мария улыбнулась.
— Неужели это удивило вас? — спокойно возразила она.
— Эти прихвостни сделали бы то же самое с моей неприятельницей, если бы наши роли поменялись. Налейте мне немного вина в бокал!
Бургоэн исполнил это приказание.
— Подойдите ближе! — обратилась Мария к своим слугам. — Я пью за ваше благополучие. Может быть, этот тост умирающей будет услышан небом.
Люди бросились на колени, многие плакали навзрыд.
— Пожалуй, иногда я была к вам несправедлива, — продолжала королева, — тогда простите меня. Я же довольна всеми вами. Не отступайте и после моей смерти от католической религии, как единственно истинной, а теперь дайте мне немного отдохнуть, чтобы я могла сделать свои последние распоряжения.
Слуги неслышно удалились, Мария осталась одна.
Несколько лет назад она уже составила обширное завещание, теперь же написала краткое добавление к нему. В этом предсмертном завещании заключались только распоряжения, касавшиеся ее личного имущества, и были назначены суммы для выдачи ее слугам. После этого королева написала письмо королю Франции Генриху, поручая ему уплату денежных сумм, бывших в ее распоряжении. Кроме того, ею было написано еще несколько писем. За этой работой Мария Стюарт просидела до двух часов ночи.
Позвав опять слуг, она объявила им, что не хочет больше заниматься земными делами и хочет устремить все свои помыслы к Богу. Она послала записку своему духовнику, находившемуся также в замке, но разлученному с ней, прося его молиться за нее. Затем она убрала в шкатулку свое завещание и письма к королю Генриху и другим лицам, разделила между прислугой принадлежавшие ей драгоценности и деньги и попросила почитать ей вслух из «Жития святых».
Старая нянька Марии выбрала историю несчастного разбойника.
— Постой, добрая Кеннэди! — воскликнула Мария Стюарт на одном месте, где описывались страдания разбойника.
— Он был великий грешник, но все-таки меньше моего, и я молю Господа, в память Его страданий, помиловать меня, как Он помиловал разбойника в последний час его жизни.
Чувствуя себя утомленной и боясь совершенно обессилеть веред своим последним тяжким путем, королева легла наконец в постель. Однако ей не спалось, служанки видели, что несчастная королева шевелила губами, молясь про себя. При наступлении утра она поспешила встать.
— Еще два недолгих часа, — с улыбкой сказала обреченная, — и земная плачевная юдоль останется позади меня. Помогите мне, мои верные слуги, нарядиться для моего последнего пути.
Она велела подать ей драгоценное платье и все принадлежности дамского туалета, служившие для большого парада, а для повязки на глаза выбрала носовой платок с золотой бахромой.
Когда ее одели, Мария опять оделила свою прислугу мелкими подарками, ничто в ее внешности не указывало в ту минуту на близость рокового удара, от которого ей предстояло погибнуть. После этого она прошла в свою молельню, опустилась на колени перед поставленным здесь маленьким алтарем и стала читать себе отходные молитвы.
Не успела она еще окончить их, как в дверь комнаты постучали, давая ей знать, что последний час настал.
— Скажите этим господам, — ответила Мария, — что я сейчас выйду.
Ответ был передан стучавшимся, но через несколько минут повторился, и дверь наконец была отперта.
В нее вошел местный шериф с маленьким белым жезлом в руке, он приблизился вплотную к Марии, которая, впрочем, как будто не замечала его, и сказал ей:
— Миледи, лорды ожидают вас, они послали меня за вами.
— Хорошо, — ответила королева, поднимаясь с колен, — пойдемте!
Когда она собиралась выйти из комнаты, к ней подошел Бургоэн с маленьким Распятием из слоновой кости. Осужденная благоговейно приложилась к нему и велела нести его перед собой.
Мария могла сделать лишь несколько шагов без посторонней помощи из-за болезни ног, поэтому двое слуг поддерживали ее с обеих сторон.
Они довели королеву до последней комнаты, примыкавшей к залу, и стали просить, чтобы их отпустили, так как они не хотели вести свою государыню на смерть. Мария улыбнулась с довольным видом и промолвила:
— Благодарю вас, друзья мои! Будьте уверены, что на это найдутся другие желающие.
Двое слуг Полэта подошли им на смену, и печальное шествие направилось в зал.
У лестницы, которая вела к нему, осужденная столкнулась с Шрисбери и Кентом.
— Эй, вы, назад! — грубо крикнул граф Шрисбери слугам королевы. — Не смейте ходить дальше!
Люди подняли крик и плач. Но так как это не помогало и граф настаивал на том, что никто не смеет входить в зал, кроме заранее назначенных лиц, то несчастные слуги Марии Стюарт бросились на колени и стали целовать руки и платье Марии.
После этой тяжелой сцены она вступила в зал казни, взяв в одну руку Распятие, а в другую молитвенник.
В зале перед ней предстал Мелвил, которому позволили проститься с ней здесь. Он опустился на колени и дал полную волю своей сердечной скорби.
Мария, обняв его, сказала:
— Ты всегда оставался верен мне, и я благодарю тебя за это! Вот тебе мое последнее поручение: сообщи подробно моему сыну о моей смерти; я знаю, ты сделаешь это!
— Какая печальная обязанность для меня! — промолвил Мелвил. — Бог знает, хватит ли у меня сил исполнить ее!
Мария ответила ему довольно длинной речью, которая не прерывалась шерифом. Потом она, обратившись к Кенту, сказала:
— Милорд, я желаю, чтобы мой секретарь Кэрлей был помилован. Его смерть не может принести пользу никому. Далее я прошу, чтобы служившие при мне женщины были допущены сюда и могли присутствовать при моей смерти.
— Это противно обычаю, — возразил граф Кент. — Женщины легко могут поднять крик при столь важном деле.
— Не думаю, — ответила Мария, — бедные создания будут рады, если им позволят видеть меня в последнюю минуту.
Она говорила еще долго, желая достичь своей цели, и графы посовещавшись, разрешили четверым слугам и двум служанкам Марии войти в зал.
Тогда королева выбрала из своего штата ее врача Бургоэна, аптекаря Горвина, хирурга Жервэ и еще одного человека по имени Дидье, а из женщин — Кеннэди, а также секретарь Кэрлей. Их впустили в зал, и осужденная попросила их смотреть молча на то, что будет здесь происходить.
Затем Мария поднялась на эшафот. Мелвил нес шлейф ее платья. Оно было из алого бархата с черным атласным корсажем. Плечи покрывала атласная накидка, опушенная соболем. На шее был высокий воротник, к волосам приколота вуаль.
Воздвигнутый в зале эшафот был в два с половиной фута высоты и представлял собой квадрат, стороны которого имели двенадцать футов длины. Он был обтянут черным фризом, как и сиденье на нем, плаха и подушка перед ней.
Мария, нимало не изменившись в лице, вступила на роковой помост и заняла место на приготовленном для нее сиденье. Справа от него помещались графы Шрисбери и Кент, слева — шериф, напротив — два палача в черной бархатной одежде. Поодаль от эшафота, у стены, было указано место служителям Марии; перила отделяли эшафот от остального пространства зала, которое занимали двести дворян и местных жителей. Кроме них тут же выстроилась военная команда Полэта.
Когда все было готово, Биэль стал читать вслух приговор. Мария слушала молча, не обнаруживая волнения и не шевелясь. Лишь когда Биэль умолк, она перекрестилась.
— Милорд, — начала тогда осужденная, — я — королева по праву рождения, владетельная особа, неподвластная законам; я прихожусь близкой родственницей английской королеве и состою ее законной наследницей. Долгое время, наперекор всякой справедливости, держали меня в этой стране в заточении, где я подвергалась всевозможным бедствиям и страданиям, хотя никто не имел права лишать меня свободы. Теперь, когда человеческой властью и произволом приближается конец моей жизни, я благодарю Бога за то, что Он сподобил меня умереть за мою веру. Я умру перед собранием, которое будет свидетелем того, как я, даже перед лицом смерти, защищала себя — что делала постоянно, частным образом и публично — от несправедливого нарекания в том, будто я придумывала способы погубить королеву Елизавету или одобряла покушение на ее особу. Ненависть к ней никогда не руководила моими поступками, и, домогаясь своей свободы, я всегда предлагала самые действенные средства для умиротворения Англии и защиты ее от политических бурь.
Чиновники оставили речь Марии без ответа, и она начала молиться. При этом зрелище приведенный обоими графами протестантский пастор, декан Питерборо, доктор богословия Флетчер подошел к Марии.
— Миледи, — сказал он, — королева, моя высокая повелительница, прислала меня к вам.
— Я не колеблюсь в католической вере, — ответила Мария, — и приготовилась пролить за нее кровь.
Однако фанатик-пастор пытался обратить осужденную на путь своей истины, склонить ее к чистосердечному раскаянию и сокрушению о грехах. Мария была наконец вынуждена заставить его замолчать.
Между тем в их пререкания вступили оба графа, что едва не повело к ожесточенному богословскому спору. Но он был прекращен самим деканом, который принялся громко читать отходную. Мария читала вслух латинские покаянные псалмы.
Шрисбери сделал презрительное замечание, на что королева ответила коротко, но решительно и продолжала молиться, чтобы в заключение передать свою душу Христу. Наконец она поднялась с колен, и палачи приблизились к ней.
Однако Мария велела им отступить и подозвала своих служанок, чтобы с их помощью раздеться. Когда ее голова, шея и плечи были обнажены, она еще нашла в себе силы утешить плачущих женщин и, отпустив их села на табурет. Палач на коленях просил у нее прощения за то, что должен совершить, и Мария простила ему, как и всем, наносившим ей обиды. Затем она опустилась на колени перед сиденьем. Палачи придали правильное положение ее голове, склоненной на плаху, и, пока Мария молилась, последовал первый удар топора, пришедшийся вместо шеи по затылку. Лишь при втором ударе голова Марии Стюарт скатилась с ее царственных плеч.
Шериф поднял ее кверху и торжественно возгласил, озираясь кругом:
— Боже, храни королеву Елизавету!
— Пусть все ее враги погибнут таким же образом! — подхватил пастор Флетчер.
— Аминь! — прибавил Кент.
Итак, Мария Стюарт, королева Шотландии, злая тень Елизаветы, пятно на ее величии, перестала существовать.
Обезглавленный труп казненной был завернут в черное сукно. Ее драгоценности и платья сожгли, а следы ее пролитой крови уничтожили.
Любимую собачку Марии, незаметно проскользнувшую на место казни, никак не могли отогнать от ее бренных останков.
Замок Фосрингай оставался запертым, пока не было написано сообщение о совершении казни. Отправленный с ним гонец прибыл 8 февраля 1587 года в Гринвич. После полудня того же числа слух о казни шотландской королевы распространился в Лондоне, где снова ударили во все колокола, зажгли иллюминацию и стали пускать фейерверки.
Так кончилась жизнь многострадальной некогда дивно прекрасной королевы Шотландии. Судьба жестоко насмеялась над этим дивным цветком красоты, который, казалось, создан был лишь для наслаждения, но память о нем останется вечной в мире.


